Михаил Попов Проклятие тамплиеров
Знак информационной продукции 12+
© Попов М. М., 2012
© ООО «Издательство «Вече», 2014
Об авторе
Михаил Михайлович Попов родился в 1957 году в Харькове. Учился в школе, сельскохозяйственном техникуме и литературном институте. Между техникумом и институтом два года прослужил в Советской армии, где и начал свою литературную жизнь, опубликовав романтическую поэму в газете Прибалтийского ВО. Сочинял и публиковал стихи. Выпустил три сборника. Но одновременно писал и прозу. Дебют на этом поприще состоялся в 1983 году, в журнале «Литературная учеба» была опубликована повесть М. Попова «Баловень судьбы».
В 1988 году вышел роман М. Попова «Пир», и, несмотря на то что речь в нем шла о жизни психиатрической больницы им. Кащенко, роман был награжден Союзом писателей СССР премией им. А. М. Горького «За лучшую книгу молодого автора».
Круг профессиональных литературных интересов Михаила Попова всегда был широк, и с самого начала одним из самых заметных направлений в его работе была историческая романистика. В 1994 году он выпустил роман «Белая рабыня», об архангельской девчонке, ставшей во второй половине XVII века приемной дочерью губернатора Ямайки и устроившей большой переполох в Карибском море. Морская тема была продолжена романами «Паруса смерти», «Барбаросса», «Завещание капитана Кидда». Но и на суше у исторического романиста Михаила Попова есть свои интересы. Большим успехом пользуется у читателей и постоянно переиздается его роман «Тамерлан», в котором описываются годы становления знаменитого полководца, его трудный и извилистый пусть к трону повелителя Азии. Вслед за образом диктатора восточного писатель обратился к образу диктатора западного образца, первого единоличного римского правителя Суллы (роман «Темные воды Тибра»). Объемистый роман посвящен и истории Древнего Египта («Тьма египетская»), где речь идет, наоборот, не о властителе, а о ребенке, мальчике Мериптахе, ставшем невольной причиной крушения в стране фараонов власти «царей-пастухов» – гиксосов.
Особое место среди исторических романов занимают книги, посвященные исследованию такого загадочного и весьма неоднозначного феномена, до сих пор волнующего воображение миллионов людей в разных странах, как орден тамплиеров. Несмотря на то что с момента его официальной ликвидации в 1314 году прошло сравнительно немного времени, осталось чрезвычайно мало документов, на которые можно было бы надежно опереться при создании книги о тамплиерах. Деятельность храмовников в Палестине – вообще сплошная загадка. Михаил Попов дает свою версию событий, происходивших в XII–XIII веках на Святой земле, и свой взгляд на то, какую роль в этих событиях сыграли рыцари Храма. Романы писателя «Цитадель тамплиеров» и «Проклятие» вызвали большой интерес у читателей, имели место даже массовые ролевые игры на основе сюжета этих книг в Белоруссии и Тверской области.
Помимо исторических романов в традиционном понимании, Михаил Попов написал несколько произведений как бы межжанрового характера, и исторических и фантастических одновременно. Таких как «Огненная обезьяна», «Вавилонская машина», «Плерома».
Когда М. Попов пишет о современности, он не ограничивается темой сумасшедших домов, как в романе «Пир», он интересно и внимательно исследует психологию современного горожанина, что и отразилось в его романах «Москаль», «Нехороший дедушка», «Капитанская дочь».
Но все же, как нам кажется, М. Попова следует считать по преимуществу романистом историческим. Более того, есть сведения – несмотря на уже написанные им две книги о тамплиерах, что автор не считает разговор о рыцарях Храма законченным.
Избранная библиография М. М. Попова:
«Пир» (1988)
«Белая рабыня» (1994)
«Паруса смерти» (1995)
«Тамерлан» (1995)
«Темные воды Тибра» (1996)
«Барбаросса» (1997)
«Цитадель тамплиеров» («Цитадель», 1997)
«Проклятие» (1998)
«Огненная обезьяна» (2002)
«Вавилонская машина» (2005)
«Плерома» (2006)
«Москаль» (2008)
«Нехороший дедушка» (2010)
«Капитанская дочь» (2010)
«Кассандр» (2012)
Проклятие тамплиеров
Глава первая. Лувр
Гнев на меня, мой друг, отринь! И ты, Христос, прости! Аминь. Смешав романский и латынь, В моленье не встаю с колен. Я Радость знал, любил я Бой, Но – с ними разлучен судьбой — Взыскуя мира, пред Тобой, Как грешник, я стою согбен. Я весельчак был и не трус, Но с Богом заключив союз, Хочу тяжелый сбросить груз В преддверье близких перемен. Граф ПуатевинскийВнук Людовика Святого, король Франции Филипп IV, прозванный Красивым, был действительно очень хорош собой. Это признавали все. И мужчины, и женщины; и придворные, и простолюдины; и дети, и старики. Был на свете только один человек, недовольный его внешностью – это он сам. Вряд ли кто-либо из окружающих его мог догадаться об этом. Скорее наоборот. Окружающие были убеждены, что Его Величество без ума от себя. В пользу такого умозаключения говорило хотя бы то, что в своих покоях он «содержал» целую коллекцию зеркал. Их там были десятки. От самых древних и примитивных, представляющих собой простые полированные, бронзовые диски, добытые первокрестоносцами из захоронений Набатейских царей, до последних достижений в зеркальном деле, закупленных по баснословным ценам в мастерской венецианского мастера Гвидо Нуччи.
Да, Филипп Красивый любил смотреться в зеркала. И те, кому удавалось застать его за этим занятием, ошибались, думая, что в этот момент, он наслаждается зрелищем своих белокурых, слегка отливающих золотом, локонов, благородными очертаниями носа, линией бровей, застывших в непреднамеренно изящном изгибе. И особенно затаенным, гипнотизирующим сиянием ярко-голубых глаз. Глубокую и тайную муку испытывал французский монарх во время этих сеансов. При всем желании он бы не смог подобрать слова для того, чтобы изъяснить это непонятное чувство. Ощущение своего бессилия перед этой загадкой заставляло мучиться еще сильнее. Говоря грубо, Филипп не был похож ни на одного из своих предков. Речь тут идет не о примитивном портретном сходстве. В королевском роду хватало белокурых и голубоглазых. На взгляд постороннего оснований для этих невнятных мучений не было, и тем не менее иногда Филипп Красивый очень остро ощущал, что он как бы не вполне Капетинг. Что ему было до мнения окружающих, до чьей-то хулы или одобрения, если душа его незаметно корчилась на медленном огне неутомимого сомнения. У него появилось подозрение, что на каком-то повороте родовой судьбы потомков Гуго Капета, к кровному дереву подмешалась некая неведомая струя. Может быть, небесная, может быть, инфернальная. Никто бы не смог разубедить его в этом. Даже если бы он хотел с кем-то поделиться своими сомнениями.
– Не-е-е-т, – шептал он, приближая прекрасное лицо к зеркальной поверхности, – я все-таки Капетинг.
Когда он отдалялся от холодного стекла, на нем оставалось бледное пятно дыхания, оно таяло с быстротою обретенной уверенности. И возле следующего зеркала он вновь начинал мучиться от подозрения, что он не равен самому себе.
Так он проводил целые часы, переходя от одного зеркала к другому. Раздражаясь, отчаиваясь, воспаряя, тоскуя, но так и не находя способа объяснить, хотя бы себе самому, что же такое он видит – не видит там, в глубине зеркального мира.
Разумеется, во всем этом скрытом безумии не было ничего, что могло бы происходить от пошлых подозрений, что его мать или какая-то из более древних родительниц совершила некое прелюбодеяние и тем самым пустила в крону родового древа обезьяну измены. Тут могла идти речь о вещах, неизмеримо более тонких, абсолютно даже не житейских.
Надобно заметить, что это направление чувствований было особенно удивительно именно в этом Капетинге. Ибо не было в начале неблагословенного для сияющей Франции четырнадцатого века человека, более прагматического и земного, большего стяжателя и скупца. Его жадность была общеизвестна, она была многочисленна и изобретательна; она была неутомима, неусыпна и беспощадна. Эту сторону своей натуры прекрасный обликом король Филипп не считал нужным скрывать. Он даже бравировал ею. И, только в своей зеркальной галерее преображался. Не внешне, конечно. Те, кто считал, что хорошо знает своего короля, видит его насквозь, улыбались про себя, а иногда и открыто сообщая, что «Его Величество опять поднялся к своим зеркалам». Конечно, они были уверены, что эти отражательные устройства он завел тоже из жадности, дабы с их помощью бесплатно и бесконечно умножать свою драгоценную красоту.
Дольше всего король задержался у большого, вертикально вытянутого зеркала с ажурным бронзовым бордюром, на котором была изображена знаменитая античная сцена: псы Артемиды разрывают неосторожного Актеона[1]. Сюжет этот свидетельствовал о том, что зеркало это является позднейшим произведением, еще каких-нибудь сто лет назад любой мастер, рискнувший использовать его, живо оказался бы в подвалах инквизиции, если не на костре.
Почему-то именно этому зеркалу Его Величество доверял больше всего. И присматривался к его намекам особенно внимательно и долго. И вот когда его разговор с глубинами Зазеркалья дошел до самого интересного места, за спиной Филиппа раздался неопределенный, но деликатно изданный звук. Венценосный красавец обернулся и выражение его лица было таково, что тот, кто его побеспокоил (а это был первый королевский камергер Юг де Бувиль), содрогнулся. Он более, чем кто-либо другой, знал, что не стоит беспокоить короля, когда он предается своему оригинальному безумию. Но уж больно важным было известие, которое он принес.
– В чем дело, де Бувиль?! – ледяным тоном спросил Филипп Красивый.
– Париж… – начал говорить первый камергер, но у него перехватило горло.
На лице короля появилось ехидно-выжидающее выражение. Надо признать, что он был не только красив, не только жаден, но и мелочно тщеславен. Ему нравилось, когда он мог одним своим видом произвести на человека сильное впечатление.
– Так что же Париж, мой милый де Бувиль?
Господин первый камергер, коротконогий, краснощекий толстячок, почувствовал, что не сможет справиться с поднятой темой, и решил передоверить ее человеку более собранному. Он повел пухлой ладонью вправо и произнес привычным, церемониальным тоном:
– Рыцарь Гийом де Ногаре.
И мгновенно из-за тяжелой темно-зеленой портьеры, расшитой серебряными шнурами, появился сухощавый, невысокий, лет сорока человек, в простом черном кафтане. Он едва заметно прихрамывал, но было ощущение, что он каким-то непонятным образом черпает самоуверенность в этом физическом недостатке. Он сразу же объявил:
– Париж продолжает бунтовать, Ваше Величество.
Об облике господина де Ногаре имеет смысл сказать еще несколько слов, тем более что король погружен в недовольное молчание. Итак, удлиненное, худое лицо, запавшие и как бы слетка слезящиеся глаза. Слегка, но неприятным образом искривленный нос. Особенно подвижные, жаждущие деятельности пальцы рук. Одна из них, вероятно, правая, была знаменита тем, что дала публичную и болезненную пощечину Папе Бонифацию VIII. Одним словом, Гийом де Ногаре производил впечатление хитрого, уклончивого, абсолютно беспринципного и совершенно безжалостного человека. И, что характерно, таким он и был на самом деле.
– Бунтует? – наконец удивленно поднялась королевская бровь. – Но господин коадъютор обещал мне, что в течение сегодняшнего дня он рассеет шайки этой черни.
Де Ногаре развел руками, подчеркивая этим, что не он давал это обещание.
– Судя по всему, Ваше Величество, дело обстоит даже хуже, чем вчера. Улицы Блан-Манто и Бретони полностью во власти мятежной толпы. Высланные туда господином де Мариньи балеарские лучники смяты, прижаты к ограде монастыря Сент-Мэрри и, надо полагать, перерезаны.
– А что де Брэ?
– Он был еще на рассвете послан с двумя сотнями конных латников в предместье, откуда все и началось. Там, на пустыре между деревнями Куртиль, Клиянкур и Монмартр, он, по слухам, наткнулся на огромную толпу… Ваши подданные изобретательны, Ваше Величество. Они придумали насаживать косы торчком на древко и у них в руках оказывается очень опасное, хотя и неказистое на вид оружие.
– Так что же капитан? – прервал эти ненужные рассуждения король.
Хранитель печати снова развел руками.
– Судя по тому, что от него до сих пор нет никаких сведений, то…
Филипп Красивый засунул ладони за широкий кожаный пояс и слегка прищурил глаза, глядя в пространство между рыцарем и камергером. Он размышлял.
Де Ногаре между тем продолжал говорить:
– Замечены два довольно больших пожара в торговых кварталах Ситэ. Горят шорные и башмачные ряды, огонь подбирается к Набережной Ювелиров. Клубы дыма видны и в районе Сен-Жермен д'Оксеруа. По Сене час назад проплыл плот. На нем было четыре виселицы.
Король, резко вернувшись из области своих размышлений, впился взглядом в рыцаря.
– Виселицы?
– Да, – неохотно ответил тот, и его искривленный нос искривился еще больше. – Они поймали четырех ваших сержантов, Ваше Величество…
Можно было ожидать взрыва королевского негодования, так казалось и де Ногаре, и первому камергеру, но Его Величество остался внешне спокоен. Он даже сменил тему разговора:
– А что это за непрерывный звон? – спросил он, и присутствующие прислушались. В наступившей тишине, лишь слегка нарушаемой потрескиванием свечного пламени, обнаружился едва различимый звенящий фон. Звук шел из-за стен дворца.
– Это звонят колокола, – осмелился заметить де Бувиль.
– Да, – подтвердил канцлер, – все колокольни города, и Сен-Мартен, и Сент-Мэрри, и Сен-Жермен д'Оксеруа, и Сент-Эсташ и даже колокола собора Парижской Богоматери гремят с самого утра.
Его Величество криво усмехнулся.
– Но ведь это весь Париж.
Сглотнув слюну и поглубже вдохнув воздух, канцлер выговорил страшную правду:
– Да, Ваше Величество, весь Париж восстал против вас.
И снова, против ожиданий, Филипп не выказал явного неудовольствия. Медленно подошел к резному деревянному креслу с высокой спинкой и спокойно уселся в него.
Приближенные переглянулись. Честно говоря, им казалось, что ситуация требует несколько иного поведения.
– И что же вы мне посоветуете, господа? – спокойно спросил король, краем глаза кося в небольшое круглое зеркало в дальнем углу галереи. В нем отражался его медальный профиль и изящно изогнутый золотой локон.
Де Ногаре опять протяжно втянул воздух, его шумное передвижение в недрах искривленного носа наводило на размышление о некоем лабиринте.
– Мы считаем, Ваше Величество, вам совершенно необходимо покинуть Лувр.
– Вы думаете, они могут добраться и сюда?
– Боюсь, Ваше Величество, это неизбежно. Боюсь, что именно Ваша персона является их заветной целью, – де Ногаре говорил сущую правду. Это было для него столь непривычным делом, что он искренне страдал.
– Так что же им, в конце концов, нужно, Ногаре?!
– Они голодают. И считают, как это не дико, что голодают по Вашей вине. Эта мысль втемяшилась им в голову и разубедить их нет никакой возможности.
– Да, Ваше Величество, – тихо подтвердил первый камергер.
– И я, и господин коадъютор, и архиепископ, мы предпринимали все возможные меры… мы даже угрожали, что применим войска. Но дело в том, что, Ваше Величество, человек, которому угрожает смерть от голода, перестает бояться смерти от железа.
Во время этой сбивчивой речи де Ногаре Его Величество продолжал незаметно заигрывать со своим отражением. Наконец он добился от него того, чего, видимо, хотел и, не удержавшись, произнес вслух очень решительно и громко:
– Нет, я все-таки Капетинг!
Ни рыцарь, ни первый камергер не уловили никакой связи между этим заявлением и всем, что говорилось до этого, но сочли своим долгом бурно и хором поддержать своего короля:
– Да, Ваше Величество, да!
Филипп резко встал из своего кресла и спросил:
– Что принцессы?
– Как и было велено вами еще вчера, отправлены в Понтуаз. Они сейчас в полнейшей безопасности, – заверил канцлер.
Король огляделся.
– Обиднее всего, господа, что эти скоты все здесь разгромят.
Де Ногаре в третий раз за время своего визита развел руками. Потом счел нужным добавить, памятуя об особенностях характера своего монарха.
– Все деньги и драгоценности также отправлены в Понтуаз. И в Тампль.
Его Величество невольно покосился в сторону своего приближенного, и во взгляде его была рассеянность, смешанная с неодобрением. Де Ногаре подумал, что рано ему считать, будто он постиг, хотя бы в малой степени, душу своего господина.
– Все ли у вас готово, Ногаре для того, чтобы я мог оставить Лувр?
– Да, Ваше Величество. Нам нужно спуститься к Сене. Мною укрыта в зарослях ивняка хорошая, устойчивая барка. На ней шестеро рыцарей в тамплиерских плащах. По реке сейчас плавает много лодок с этими… с чернью. Они не посмеют приблизиться, увидев белые плащи.
Филипп саркастически усмехнулся.
– Так значит, Тампль, в отличие от Лувра, неприкосновенен?
И рыцарь и первый камергер решили счесть этот вопрос риторическим.
Продолжая хранить на своем прекрасном лице глубокомысленную ухмылку, король подошел к самому большому зеркалу, встроенному в стену, тому самому, что было обрамлено античным сюжетом, и сказал, взяв за пасть самого яростного пса из тех, что преследовали несчастного Актеона.
– Помогите мне, господа. Сейчас я вам открою одну из дворцовых тайн.
И де Ногаре, и де Бувиль, разумеется, отлично знали, что за этим зеркалом скрывается потайной ход, но не подали виду. Они подошли ближе и надавили на те части бронзового бордюра, что были указаны им королем. Филипп тоже догадывался, что его придворные знают об устройстве дворца чуть больше, чем ему хотелось бы, но как человек умный понимал – с этим ничего нельзя поделать и был удовлетворен тем, что они хотя бы старательно поддерживают его игру в таинственность. Впрочем, не в этих психологических деталях было сейчас дело. Нужно было уносить ноги.
С тяжелым металлическим скрипом зеркало сделало поворот вдоль своей вертикальной оси, давая возможность беглецам вдохнуть запахи, скопившиеся за его спиной. Пахнуло хорошо настоянной сыростью, выдержанной плесенью, благородной гнилью.
– За мной, господа, – почти весело оказал Филипп, подталкивая в зазеркалье первого камергера и де Ногаре.
Глава вторая. Тампль
Как те, кто горем сражен, К жестокой боли хранят Бесчувствие, рот их сжат, Исторгнуть не в силах стон. — Так я безгласен стою, Хоть слезы мне сердце жгут, И скорби этих минут Еще не осознаю. Рассудок ли поврежден, Чары ли сердце томят, Но только найду наряд Равный ему, ибо он Втягивал в сферу свою Честь, спрятанную под спуд, Словно магнит – сталь из груд Хлама: и вот вопию! Фолькет МарсельскийБыло уже совсем темно, когда Филипп Красивый вместе со своими спутниками выбрался на поверхность. Выбрался и замер. Виною королевскому оцепенению было открывшееся его глазам зрелище. В первый момент ему показалось, что это горит Сена. По ее поверхности сновали в хаотическом беспорядке десятки лодок, плотов, барок. Все они были до краев забиты беснующимися, орущими людьми, в руках у большинства были полыхающие факелы или просто горящие ветки. И на все это медленно сыпались хлопья крупного снега. Король помотал головой и только тогда догадался, что это скорей всего пух из распоротых перин.
Зеркало воды исправно отражало сполохи огней, ночь сохраняла в своем черном бархате жемчужины площадной брани, повисшей в воздухе в совокупности с пьяными, разудалыми песнями и угрозами в адрес короля, которыми взбадривал себя опьяневший от безнаказанности, взбунтовавшийся люд.
Огненному гулянию на реке вторил большой пожар налево от Лувра.
Полыхали дома на том берегу.
– Сюда, Ваше Величество, сюда, – деловито шептал де Ногаре, никогда не терявший присутствия духа.
Филипп последовал за ним, скользя по довольно крутому склону. Зацепился за какой-то корень, довольно сильно ушиб колено, отчего приглушенно застонал.
– Тише, Ваше Величество. Теперь спускайтесь.
– Куда, разрази вас… – Филипп не успел докончить ругательство, потому что увидел – куда. Между глинистым берегом и бортом барки хлюпала черная вода. Посудина выглядела достаточно устойчивой. На ней можно было в случае чего организовать хорошую круговую оборону. На таких барках углежоги доставляли в Париж свою продукцию.
В темноте рисовалось несколько смутных белых теней. Тени были подчеркнуто молчаливы. Филипп завернулся в плащ и сел на мешок с соломой, услужливо пододвинутый ему де Бувилем.
– Благодарю вас, мой дорогой де Бувиль, вы очень любезны, – с горькой иронией в голосе сказал Капетинг. Эта ирония должна была означать – посмотрите, господин первый камергер, в каких условиях приходится путешествовать вашему королю.
Де Ногаре отдал команду, невидимые шесты решительно оттолкнули опасный берег.
Путешествие было коротким, но насыщенным. Несколько раз вплотную к барке, охраняемой белыми плащами, выкатывали из темноты какие-то неуправляемые плоты, мелькали пьяные, хохочущие рожи в факельных разрывах мрака, кто-то бешено сквернословя требовал, чтобы «господа тамплиеры» присоединились к народному гневу и «помогли поджарить пятки этому ростовщику, сидящему на троне». Самые пьяные при этом падали в холодную, полыхающую огненными отражениями воду.
После очередного такого столкновения Филипп сказал, наклонившись к господину первому камергеру:
– Надобно сказать, де Бувиль, что простой народ, даже в умиротворенном и покорном состоянии, никогда не внушал мне никакой любви. Можете себе представить, как я отношусь к нему сейчас.
– О, да, Ваше Величество, – благонамеренно, но невразумительно отвечал первый камергер.
Прибытие в спасительные объятия тамплиерской пристани прошло не слишком гладко. Король, сходя с барки, куда-то не туда ступил, оказался по пояс в воде. Его шоссы и кафтан совершенно промокли, что никоим образом не способствовало улучшению королевского самочувствия и наложило отпечаток на план его первой беседы с Великим магистром Ордена. Воистину, трудно быть величественным и независимо выглядящим, когда у тебя не только взбунтовавшаяся столица за спиной, но к тому же течет грязная вода с платья.
Но Жак де Молэ, несмотря на то, что не мог похвастаться особой родовитостью (он происходил из обедневшего нормандского рода), был человеком истинно деликатным, узнав о падении короля в воду, он отложил разговор, давая Его Величеству время привести себя в порядок.
Встреча состоялась в личных покоях Великого магистра, причем с глазу на глаз. В огромном камине горело несколько небольших бревен. Убранство помещения совмещало в себе примерно в равных долях приметы военного и церковного обихода, что точно отражало и дух Ордена и характер самого Великого магистра.
Жак де Молэ был уже стариком. Седая грива волос, седая же борода, глубокие морщины на лбу и целая вертикальная расщелина меж седых бровей. Несмотря на эти признаки старости чувствовалась в фигуре и осанке Великого магистра и крепость, и сила. В глазах его светился ясный житейский ум. Впрочем, выражение этих глаз Его Величество скорее припоминал, чем видел. В помещении было полутемно.
На столике, придвинутом к камину, возвышались два высоких бокала из темного наваррского стекла. Но не настолько темного, чтобы не разглядеть, что беседующие к вину не прикасались. Магистр пил весьма и весьма мало, своим примером опровергая злонамеренную поговорку «пьет, как тамплиер», пущенную завистливыми обывателями еще в позапрошлом веке. Король же не пил, потому что боялся, что его могут отравить в этом внешне очень гостеприимном доме. Зачем же было рыцарям Храма его спасать в таком случае от взбунтовавшейся черни, можно было бы его спросить. Король не имел ответа на этот вопрос, но тем не менее пить не спешил. Жак де Молэ прекрасно понимал мотивы королевского воздержания, но не считал возможным их комментировать. Он теребил мощными пальцами большой медальон с изображением орденской эмблемы – два всадника на одном коне – покоившийся на его рыцарской груди и любовался огнем. При этом он еще отвечал на вопрос Его Величества. Король спросил, что он, Великий магистр Ордена тамплиеров будет делать, если озверевший парижский сброд, узнает, где находится ненавистный им монарх, и пойдет на штурм Тампля.
– Во-первых, Ваше Величество, он, я разумею парижский сброд, никогда этого не узнает. Если, конечно, вы сами не пожелаете его известить. Во-вторых, если даже и узнает, то никогда не посмеет напасть на наше обиталище. Помимо стен каменных охраняют его стены непреоборимого почтения, которое испытывает любой парижанин к Тамплю. Но, представим невозможное, стая этих бешеных собак появляется под стенами нашего замка… клянусь всевидящими бровями Иоанна Крестителя, как говаривал мой достопочтенный дядя, у нас есть свои меры, и они вполне достаточны, чтобы обратить в паническое бегство толпу любых размеров.
Медальон на груди Великого магистра осторожно звякнул.
– Не похваляясь, скажу, Ваше Величество, что нет в христианском мире военной силы, способной навязать нам противную нашему духу волю.
Жак де Молэ прекрасно понимал, что последнее высказывание носит не вполне деликатный и дипломатический характер. Нехорошо напоминать государю, что его власть, даже в собственной столице, не абсолютна. Но Великий магистр не смог удержаться от этого напоминания, более того, сделал его намеренно. Отношения между Лувром и Тамплем в течение нескольких лет дрейфовали от полного взаимопонимания, в сторону взаимной настороженности. Чем больше становился долг Филиппа Орденскому казначейству, – тем с большим раздражением посматривал Его Величество на трупные стены, тамплиерского замка.
Великий магистр воспользовался предлогом для недвусмысленного заявления в адрес зарвавшегося в своей алчности Капетинга. Выбрана была для этого округлая, почти мягкая форма. Но выпад могучего старика не стал для короля менее горьким. И он проглотил пилюлю. Ничего другого ему не оставалось делать. Чтобы подавить и скрыть раздражение, он встал и прошелся по залу, преднамеренно сильно шаркая кожаными подошвами по каменным плитам пола, остановился у окна, всмотрелся в темноту, вмещавшую так много ненавидящих его людей.
– А пожар в Ситэ, кажется, пошел на убыль.
– Богу слава и тому, что рядом река. Да, потом даже мятежник понимает, что ему где-то надо жить после победы. Не стоит спешить с истреблением своего жилища, ведь королевский дворец может достаться не ему.
По лицу Филиппа пробежала судорога и он порадовался тому, что стоит спиной к де Молэ. Его раздражал бодрый тон старика, тому, как будто нравилось то, что происходит в Париже. Человек, находящийся в безопасности, наблюдающий за историческим событием со стороны, смакует его, подобно хорошему вину. «Да, – подумал король, – ему показалось, что он нашел правильную формулировку. Важно то, что они (тамплиеры) смотрят на все со стороны. Они менее французы, чем все прочие жители этого города. Чем даже те, что этот город сейчас жгут и громят».
Король вернулся к камину. Де Молэ поднес свой бокал к губам и сделал несколько глотков. Филипп проследил за движением его кадыка, удостоверился, что вино действительно выпито, но к своему бокалу решил все же не прикасаться. Ввиду этого, – в ритме разговора образовался неожиданный провал. Чувствуя, что еще мгновение – и он будет выглядеть смешным со своей утомительной подозрительностью, Филипп, ткнул пальцем в первую попавшуюся на глаза вещь.
– А что это? Я с первого момента, как здесь появился, хотел у вас спросить, что это за сундук.
В углу зала действительно стоял огромный, монументального вида ящик, обитый толстым железом. В нем не было никакой красоты, кроме особой, банковской ее разновидности. Чувствовалось, что взломать это вместилище человеку не под силу.
– Собственно говоря, – пожевал губами де Молэ, – это просто ящик, только очень крепкий. Он был заказан специально для того, чтобы хранить в нем английскую корону.
– Английскую корону?!
– Да. В году, если мне не изменяет память, 1261-м, английский монарх, опасаясь, что бароны собираются его этой короны лишить, доверил ее хранение нашему банку.
– Она и сейчас в этом ящике?
– Нет, – улыбнулся Великий магистр, – но ящик не пуст. В нем находится один из четырех эталонных ливров. Остальные в нашем банке в Кагоре… Вы ведь слышали об этой монете, Ваше Величество?
– Да, – сухо ответил король. Он почувствовал, как в его истерзанное сердце вонзилось острие еще одного болезненного намека. По королевству уже давно ходили слухи, что на королевском монетном дворе чеканят неполновесную монету. Как одно из средств обуздания Филипповой жадности, кагорсины, ломбардские банкиры – несомненно, вступив в сговор с тамплиерами – придумали этот эталонный ливр.
Едва слышно скрипнула сводчатая деревянная дверь и в покоях Великого магистра появился полусогбенный служка, он бесшумно приблизился к креслу своего господина и наклонился к его уху, что-то шепча.
Его Величество старался не смотреть в их сторону, дабы продемонстрировать благородное безразличие к чужим тайнам, но против его воли все чувства бедствующего короля устремились по следам почти неслышного шепота в отчаянной надежде приобщиться к этому, может быть, важному сообщению.
Служка говорил долго, новость была пространной. Лицо Великого магистра оставалось невозмутимым. Это было неудивительно, человек, занимающий его пост, обязан владеть собой в любой ситуации. Де Молэ лишь раз отчасти выдал свое волнение. Его рука потянулась к столу и, осторожно нащупав бокал, поднесла его к губам. Интересно, что рука Великого магистра взяла бокал короля. Отпив глоток, старик поставил бокал обратно, но Филипп не поверил в старческую рассеянность тамплиера. Он решил, что это был еще один акт сознательного унижения. Смотрите, мол, Ваше Величество, насколько глупа и убога ваша подозрительность.
Когда служка ретировался в полумрак за спинками кресел, Филипп Красивый не удержавшись (а, все равно!) спросил:
– Ну что, эти твари уже подожгли Лувр?
– Нет, Ваше Величество, но они устроили там изрядный разгром.
– Охлос, – прошипел Филипп, мягко барабаня пальцами по подлокотникам и впериваясь взглядом в пламя, полыхавшее в камине.
– Они не обнаружили там никаких особенных ценностей и поэтому…
Король живо повернулся к собеседнику.
– Да, – подтвердил тот, – они разгромили и вашу зеркальную галерею.
Филипп несколько раз глубоко вздохнул и осушил свой бокал вина.
– Точны ли ваши сведения?
– К сожалению, абсолютно.
– Вы говорите так уверенно, как будто ваш человек был среди погромщиков.
– Чего бы мы стоили, когда бы это было не так.
Наступило продолжительное и неприятное молчание, заполненное лишь треском сучьев в камине. Де Молэ почувствовал, что сейчас его высокородный гость заговорит о чем-то важном. Он напрягся. По складу характера он не любил сюрпризов и неожиданных поворотов в жизни. Кроме того, Великий магистр давно понял, что в сидящем рядом с ним красавце скрывается источник самой главной опасности и для него самого, и для Храма в целом. Может быть, имело бы смысл в самом деле подсыпать ему яду или удавить в бездонных подвалах Тампля, горько усмехнулся про себя де Молэ. Любой из представителей Ордена тех героических палестинских времен не раздумывая сделал бы это. Капетинг не зря так долго не прикасался к вину. Коварный опасается коварства. Де Молэ спросил себя, а почему он, собственно, не может поступить так, как следовало бы из простой житейской логики поступить во благо Ордена. Ослабла старческая воля? Настали другие времена? Исчезла вера в великое предназначение духовного подвига, совершаемого тамплиерами? Нет, ответил он на первый вопрос, нет, на второй, и на третий тоже с негодованием ответил – нет! Но Великий магистр почувствовал некое душевное смятение оттого, что не может найти слов в объяснение своего собственного вопрошания. А ведь сказано – горе тому, у кого дух сомнения нащупывает трещину в сердце.
Жак де Молэ не успел слишком углубиться в свои размышления, ибо король Франции Филипп IV, прозванный Красивым, отверз свои прекрасные уста и соизволил произнести следующее:
– Я бы хотел напомнить вам, де Молэ, о нашем разговоре годичной давности.
– Каком разговоре, Ваше Величество? – сделал вид, что не понял о чём идет речь, Великий магистр.
– Я спросил вас тогда, как бы вы отнеслись к моему намерению вступить в ваш Орден.
Де Моле медленно кивнул, припоминая.
– Да. Мы говорили на эту тему.
– Значит, вы припомните, чем вы ответили на мою просьбу.
– Да. Отказом.
– Вы сослались тогда на некие особенности вашего Устава.
– Да. Наш Устав написан был еще самим Бернаром Клервоским. И тринадцатый пункт его повелел мне ответить непреложным отказом на ваше предложение. Особы королевской крови не могут стать членами Ордена во избежание последствий, кои могут проистечь от подобного членства.
– Да, да, тринадцатый пункт, вы и тогда упомянули о нем.
– Что свидетельствует как о моей искренности, так и о моей последовательности, – заметил де Молэ.
– Вы боитесь, что какой-нибудь монарх, надев белый плащ с красным крестом, захочет властвовать в Ордене и рано или поздно этой власти добьется.
– Именно так, Ваше Величество.
– Плюс к тому вы, наверное, имели в виду, что, став членом Ордена, такой монарх перестанет быть его должником, ибо не сможет же он требовать деньги у себя самого.
Де Молэ пожал плечами.
– Заметьте, Ваше Величество, вы сами упомянули об этой стороне дела.
– Это оттого, что не люблю двусмысленных положений, умолчаний и предпочитаю открытую, честную игру.
Великий магистр снова пожал плечами и подумал, что все наоборот. Филипп Красивый никогда не вел честной игры, был скрытен до невозможности и обожал ввергать всех вокруг в двусмысленные положения. Но вслух всего этого Великий магистр произносить не стал.
– Так вот, де Молэ, я хочу повторить свое предложение.
Старик медленно повернул огромную седую голову и мрачно посмотрел на короля.
– Какое предложение, Ваше Величество?
– Я снова прошу вас принять меня в орден тамплиеров. Сегодняшними парижскими событиями все препятствия к этому устранены. И ни один пункт вашего драгоценного Устава нарушен не будет. Я отныне не монарх, страной правит дикая и пьяная толпа. Я теперь не более, чем граф Валуа, моему брату придется довольствоваться титулом графа Романского. А в погашение своего долга Ордену и в качестве вступительного взноса я предлагаю наши родовые владения в Иль де Франс. Согласитесь, это выгодная для вас сделка.
Жак де Молэ молчал, на такое предложение трудно было ответить сразу, хотя только сумасшедшему оно могло показаться действительно привлекательным. Но помимо его деловой стороны, которая ни за что не могла бы быть реализована, ибо слишком большие силы выступили бы против… Так вот, помимо деловой стороны, было ощущение угрюмой угрозы исходящей от этого замысла Филиппа Красивого. Де Молэ подумал, что легче и выгоднее силами Ордена утихомирить восстание в Париже и вернуть трон лукавому красавцу, чем принять то, что он ласково навязывает. Великий магистр решил оттянуть время.
– Если вы хотя бы немного знакомы с устройством Ордена, в который вы вознамерились вступить, Ваше Величество…
– Не зовите меня так больше, отныне я просто граф Валуа.
– Так вот, вы должны знать, что вопросы подобной важности не решаются у нас одним человеком, хотя бы он и носил титул Великого магистра. Только верховный капитул может дать ответственный вердикт в данном случае.
– И сколько же нужно ждать? – спросил король и щека его слегка задергалась.
– Я сегодня отдам соответствующие распоряжения по сбору его членов.
Глава третья. Руан
Амор есть дух, влюбленный в красоту, Из ока в око скачет, а засим Бросается одним прыжком большим Из ока в душу, из души в пяту. Он силой властною непобедим, Ей предпочтя надежду и мечту. Эн Юк Брюнет, провансалец.В замок командора Нормандии Жоффруа де Шарне Великий магистр прибыл на рассвете. Жак де Молэ не любил пышных встреч, был врагом всяческой церемониальности и поэтому почти тайно пересек в пасмурном утреннем полумраке широкий двор замка. Шаркая кожаными подошвами, прошел по сводчатой внутренней галерее и скрылся в покоях, которые занимал всегда, посещая Руанскую обитель Ордена. Его молча сопровождали капеллан ордена Николя де Аньезьеко и генеральный прокурор Пьер де Бонна.
Когда инспектирующее трио, состоящее из высших иерархов тамплиерского ордена, пересекало двор, капеллан прошептал на ухо генеральному прокурору:
– Кажется, наши опасения преувеличены. Сия обитель отнюдь не напоминает гнездилище мерзкого порока.
Он был прав строгим, даже угрюмым благолепием дышало здесь все. Во всех четырех церквах шла положенная по сему часу служба, нигде не было видно праздношатающихся служек или похмельных братьев. Именно подозрение, что подобное, возможно, и заставило высокую комиссию спуститься вниз по извилистому течению Сены до стен Руана. Причем в полной тайне. В последнее время Великого магистра все сильнее тревожила возможность злоупотреблений и кощунственных отступлений от Устава в орденских стенах. И когда из Нормандии пришло известие, что пойман и изобличен некий извращенец, занимающий должность комтура в одной из капелл на севере нормандского края, Жак де Молэ, не дожидаясь, когда его привезут для расследования дела в Париж, в верховный капитул, сам ринулся на север, предполагая помимо изъяснения обстоятельств этого конкретного дела разобраться вообще с положением дел в этой орденской провинции.
Результаты этой внезапной инспекционной поездки должны были бы удовлетворить его полностью и даже сверх того. Обычно провинциальные начальники загодя знают о готовящейся инспекции, и, когда из метрополии выезжает высокая комиссия, на местах все уже приведено в относительный порядок. Мосты подправлены, ворота подкрашены, дисциплина утверждена, благонравие готово к изъявлению. Жак де Молэ был неграмотен книжно, но весьма разумен природно и прекрасно представлял себе, какие результаты ему может дать запланированная загодя инспекция. Поэтому, желая знать истинное положение дел, выехал внезапно, захватив с собой лишь тех, кто был под рукой. Несмотря на то, что командор Нормандии Жоффруа де Шарне был его близким другом, Великий магистр поклялся, что если обнаружит в подчиненных ему владениях непорядок, разврат и поругание святынь, то накажет командора примернейшим образом. Тем сильнее, чем полнее ему доверял.
Три небольших тамплиерских капеллы располагались на пути следования Великого магистра и ни в одной из них Жак де Молэ не сумел сыскать ничего, что хоть отчасти могло быть сочтено предосудительным. Устав орденский повсюду исполнялся тщательнейше. Рыцари и служки видом своим и поведением удовлетворили бы самого придирчивого критика. И капеллан, и генеральный прокурор говорили это в один голос. Жак де Молэ молчал, ибо возразить ему было нечего. Но терзавшие душу подозрения не оставляли его.
После утренней молитвы и омовения в покои парижских гостей был доставлен завтрак: три чашки кипятка и три небольших овсяных лепешки. Плюс к этому небольшое блюдце с липовым медом.
Николя де Аньезьеко большой, квадратный, добродушного вида человек, оглядев внимательно поднос с трапезой, наклонился к уху генерального прокурора и прошептал:
– Если бы брат Жоффруа допустил сейчас небольшое отступление от постного устава, я, клянусь страстями Господними, извинил бы его.
Пьер де Бонна улыбнулся левой частью лица, то есть той, которую не мог видеть Великий магистр.
– Видите, мессир, – продолжал толстяк, отведав руанского кипятка, – здешний командор исчерпывающе привержен монастырскому распорядку. Даже приезд столь высокочтимых гостей не побудил его проявить чувство гостеприимства.
Жак де Молэ отхлебнул постного напитка и поморщился. Но явно не от его вкуса, а от слов капеллана.
– Просто господин командор хорошо меня знает. Я бы не оценил движение души, идущее в обход устава. Так что этот кипяток ничего не доказывает. Не забывайте о том, кто сидит в подвале этого замка. Я думаю, и господин командор не забывает.
Присутствующие мысленно пожали плечами. Все же они до конца не верили в бескомпромиссную, свирепую суровость старика. Они знали о старой его дружбе с де Шарне и столь непреклонная требовательность, даже придирчивость, обращенная на старинного приятеля, к тому же в высшей степени уважаемого и достойного человека, казалась им наигранной. Но и игра и притворство были до такой степени не в характере старика, что капеллан с генеральным прокурором пребывали в растерянности и некотором смятении. Так всегда бывает с подчиненными, когда они перестают понимать своего начальника.
Ну, что, в самом деле, особенного, – отыскался в отдаленной заброшенной капелле один не вполне добропорядочный комтур! Для чего же устраивать свистопляску с инспекцией, нагнетать угрюмую подозрительность. Этого извращающего человеческую природу негодяя надобно, конечно, наказать, может быть даже, изгнать из ордена, но для чего бросать тень на все благородное сообщество?!
– Мессир, – не удержался де Аньезьеко, хотя знал, что Великий магистр не любит, когда ему возражают.
– Мессир, мы три капеллы досконально обследовали на пути сюда и, согласитесь, не обнаружили ничего, что…
– Не обнаружили, – подтвердил Великий магистр, внимательно глядя на говорящего.
– Но даже не это главное.
– А что же, брат Николя?
– А то, что саму эту проверку мы затеяли, получив известие от самого брата Жоффруа. Он не стал скрывать от верховного капитула нелицеприятный факт, а ведь у него достало бы возможностей скрыть его. Он сам бы мог покарать провинившегося комтура. Устав Ордена позволяет ему сделать это. Это ли не проявление лояльности, искренности и добронравия?
Капеллану его речь казалась столь убедительной, что он почти победоносно поглядел на Великого магистра.
Жак де Молэ кивнул.
– Да, вы правы, брат Николя, посылая нам это известие, он продемонстрировал свое чистосердечие. Но подумайте и о том, что Жоффруа де Шарне не мальчик, он мог догадываться, что сразу вслед за таким известием может последовать инспекция, а стало быть, имел возможность загодя подготовиться к ней.
Де Аньезьеко развел руками. Де Бонна поперхнулся кипятком. Они не могли поверить, что их благородный Магистр способен на такую изощренную подозрительность. Жака де Молэ все любили и ценили за другое, за рыцарскую открытость, благородство.
Он предпочитал быть преданным, чем подозревать кого бы то ни было заранее. Что с ним произошло?! Этот вопрос задавали себе спутники Жака де Молэ и, не находя ответа, приходили в отчаяние.
Замешательство в комнате продлилось бы, когда бы вошедший служка не объявил, что командор Нормандии Жоффруа де Шарне просит у Великого магистра ордена Храма Соломонова позволения войти.
Командор Нормандии был невысок ростом и непримечателен ликом. Разве что трагически опущенные края бровей привлекали к себе внимание. Казалось, что этот старик в простом черном облачении непрерывно находится в состоянии скорби. Между тем это был уравновешенный и даже добродушный человек. Он сдержанно, но душевно поприветствовал высокопоставленных братьев, поинтересовался, как они трапезничали, как путешествовали, нет ли у них каких-либо пожеланий.
– Не будем тратить краткое время наше на разговоры, хотя и добропорядочные, но пустые, – довольно резко прервал словоизлияния командора Великий магистр, – вы отлично знаете, брат, какое дело привело нас под крышу этого обиталища.
Командор грустно кивнул. Было видно, что тон друга его весьма озадачил. Внутренние края бровей поднялись, отчего выражение лица сделалось весьма сложным: скорбь смешалась в нем с недоумением.
– Мы можем приступить хоть сейчас, мессир.
– Вот и приступим с Божьей помощью.
Командор поклонился.
– Кого бы вы предпочли увидеть прежде самого ли грешника или свидетелей его прегрешений?
Жак де Молэ в легкой задумчивости погладил бороду.
– Приведите… как его зовут?
– Арман Ги.
Командор повторил эту команду в темноту коридора и она была тут же выполнена.
За время своего сидения в подвале комтур Байе не успел обтрепаться и обовшиветь, и даже сохранил приличествующую чину осанку. Только глаза провалились. И горели как у сумасшедшего. Это было заметно в полумраке комнаты.
Де Аньезьеко и де Бонна, сидевшие за длинным столом по обе стороны от Великого магистра, невольно отпрянули и вжались в спинки своих кресел, таково было воздействие этого горящего взгляда.
Руки Армана Ги были связаны за спиной. Два дюжих рыцаря держали его за локти.
– Ты Арман Ги, бывший комтур Байе? – спросил Великий магистр негромким, но твердым голосом.
– Да, именно так меня зовут, – густым, слегка рычащим басом ответил комтур.
– Откуда ты родом?
– Из Нарбонна.
Капеллан и генеральный прокурор многозначительно переглянулись.
– Проклятый дольчинианин, – прошептал де Аньезьеко.
– Когда ты стал комтуром Байе? – продолжал допрос Великий магистр.
– Год назад.
– Чьим попущением?
– Вашим, мессир.
Де Молэ посмотрел в сторону командора, занявшего скамью в стороне от стола под высоким стрельчатым окном.
– Да, мессир, – подтвердил тот, – на патентном листе оттиснута ваша печать. Но справедливости ради должен заметить, что господина Ги представлял я.
Великий магистр помолчал немного. Допрашиваемый сменил опорную ногу и поза его сделалась еще более горделивой. Чувствовалось, что он весьма уверен в себе.
– Признаешь ли ты себя в тех прегрешениях, в коих тебя обвиняют?
– Сначала я бы хотел узнать, в чем именно меня обвиняют.
– Признаешь ли ты, что пил вино как в дни скоромные, так и в дни постные? Признаешь ли ты, что соединялся со вдовами и отроковицами как естественным, так и противоестественным образом? Признаешь ли ты, что всяческими угрозами и хитростями склонял к содомскому греху молодых служек и рыцарей?
Арман Ги выпятил нижнюю губу и шумно втянул воздух тонким, неприятно заостренным носом.
– Что ж, я не буду отпираться, тем более что у вас сколько угодно желающих подтвердить эти факты. Я делал то, о чем ты говоришь!
– Итак, ты признаешь, что согрешил?! – грозно возвысил голос Жак де Молэ.
– Я признаю только то, что это было, но отказываюсь признать все, мною содеянное, грехом и преступлением.
– Объяснись, – предложил Великий магистр.
– Может быть, я и нарушал букву нашего писаного Устава, но при этом ничуть не грешил против духа орденского. Я вел себя в границах древних традиций. Ибо не можете же вы, верховные управители и капитуляры, не знать, что винопитие было весьма и весьма распространено и даже поощряемо среди рыцарей Храма в те славные времена, когда белый флаг с красным крестом наводил ужас на неверных в Святой Земле. Возможно, винопитием слегка скрашивались трудности службы в тех местах. Что же касается женщин… да, здесь есть преступление перед высшей нашей хранительницей и единственной дамой, достойной нашего поклонения, – Девой Марией. Но, если вы не предубеждены против меня, то признаете, что соединение с женщиной в те, уже упоминавшиеся мною, героические времена не считалось смертельным, неотмолимым грехом. Хранительница наша знает, на что я готов во имя ее славы, ей известно, что поселянки эти, о коих идет речь, сходились со мною по доброй воле и даже с превеликой охотой.
Присутствующие молчали, подавленные напором этой зверской демагогии. Можно спорить с человеком, заблуждающимся отчасти, но как говорить с тем, кто…
– Что там еще? Содомирование служек и рыцарей юных… Опять, тут я вынужден обратиться к памяти вашей и указать на древние орденские традиции. Может быть, неписаные, от непосвященных скрытые, но, безусловно, имевшие место и даже лежавшие в самой основе и сердцевине орденской жизни. Было заведено побуждать братьев к сожительству, дабы они не стремились соединиться с женщинами вне храмины и не подвергали себя риску выдать, по слабости душевной, страшные орденские тайны. Я знаю, что у Бернара Клервоского содержится осуждение содомии, но ведь устав этот, не будем притворяться, есть лишь внешняя ширма, скрывающая тайну внутреннего, то есть истинного посвящения. А при нем, при посвящении истинном, позволительны некоторые вещи, по сравнению с которыми желание поласкать соблазнительного юнца может быть признано делом невинным, если даже не богоугодным.
Когда Арман Ги закончил говорить, установилась гробоподобная, неестественная тишина. Великий магистр молчал, молчали и приехавшие с ним капитуляры. Тогда командор Нормандии, не умея или не решаясь возразить развратному болтуну по существу, придрался к внешнему несоответствию в его речи.
– Если ты говоришь, что соединение с братьями есть способ уберечь некую тайну тамплиерства, почему ты тогда с женщинами соединялся тоже?
Арман Ги высокомерно поклонился.
– Я признал это своим грехом и готов отмаливать и отмаливать его.
Жоффруа де Шарне замолчал и выглядело это так, будто он ответом вполне удовлетворен.
– Уведите его, – сухо приказал Великий магистр.
Когда уволакиваемый из комнаты бывший комтур Байе обернулся, выворачивая шею, в глазах его читалось искреннее изумление. Он был убежден, что его речь урезонила орденских иерархов, и молчат они потому, что потрясены ее глубиной и силой. И вот, вместо того чтобы отпустить его и даже возвысить, они…
– Ханжи! Несчастные ханжи и трусы! – заорал он, – не притворяйтесь святошами!
Его истошные вопли еще долго были слышны, пока не погасли в глубинах замка.
– Он просто сумасшедший, – пробормотал генеральный прокурор, вытирая платком пот с переносицы.
– Проклятый дольчинианин, – вслух повторил свою мысль капеллан, – лангедокские свиньи – не меньшие пособники дьявола, чем провансальские псы. Я словно слышал речения безумного Дольчина, когда он отверзал свою богомерзкую пасть.
Печальный командор Нормандии теребил массивную серебряную цепь, висевшую у него на груди.
– А год назад он показался мне благоразумным и добронравным человеком. И просвещенным. Когда я ходатайствовал о нем перед вами, мессир, я был уверен, что приношу Ордену пользу, и немалую.
– Да уж, – перекрестился де Аньезьеко.
– Он сумасшедший, – повторил свою мысль генеральный прокурор, но уже менее уверенным голосом.
– И с каким вызовом держится! – всплеснул руками капеллан, – горделив и самонадеян, как все еретики.
– Отчасти меня извиняет то, что при первом же поступившем ко мне известии о приемах и методах Армана Ги в его новой должности я тут же велел его арестовать, – начал оправдательную речь Жоффруа де Шарне, – так что растлить он успел немногих.
– О каких это он говорил старинных традициях ордена? – спросил вдруг молчавший Жак де Молэ, – впрочем, о том, что в народе принято приписывать нам, храмовникам, необыкновенное пьянство и стяжательство, я и сам знаю. Но первое, мне казалось, проистекает оттого, что у нас лучшие в королевстве виноградники и винные подвалы. А второе оттого, что мы лучше и разумнее всех в мире устроили банковское дело.
Присутствующие закивали.
– Но узаконение содомского греха, внутренний круг посвящения… что он имел в виду? Ведь ничего подобного за стенами наших замков не скрывается. Или я сошел с ума и не вижу того, что видят все?!
Никто не решался выступить с ответом. Не было ясно, до какой степени Великий магистр искренен в своем вопросе и в своем негодовании. Решился командор, по праву старшего по возрасту и по праву старинной дружбы.
– Такие слухи не прекращались никогда. Нечто вроде орденского предания. Правда, этот ублюдок изложил его скомканно и путанно. Упорно и среди светских резонеров и критиков, и среди рыцарей, склонных к героическому фантазированию и тайнам, блуждают рассказы об имевших якобы место в те героические времена подобных делах. Но кто может теперь ручаться за истинность этих басен? Письменные свидетельства так скудны, что…
– Я не о том! До меня тоже доходили эти сказки, и я считал их именно сказками, зарождающимися от праздности и склонности к суесловью. Меня интересует, в какой степени все, о чем бормотал здесь этот Арман Ги, присутствует в устройстве Ордена нынешнего. Не бойтесь меня огорчить, и если вам есть что сказать, говорите.
Командор пожал плечами.
– Лично мне сказать нечего. Я все сказал тем, что представил на ваш суд этого вредного безумца. Он наслушался старинных преданий, они легли на благодатную почву его растленной души. Всходы мы только что видели.
Могучая седая голова повернулась к капеллану, тот быстро сказал:
– Наши ряды чисты, мессир. Я готов прозакладывать свою голову – это так. Другое дело, имели ли место те вещи, о которых шла здесь речь, в те времена, затрудняюсь что-либо утверждать. Седая древность. Третий крестовый поход. Падение Иерусалима. Некоторые до сих пор пытаются свалить всю вину за его потерю на нас. Якобы это тамплиеры во имя каких-то своих таинственных целей сделали так, чтобы христиане утратили свои позиции в Святой земле. Видите, мессир, до чего договариваются некоторые… А тут еще рядом гора Ребелло.
Великий магистр повернулся к генеральному прокурору, тот уже был готов к ответу.
– Знаете, мессир, я вот что думаю. Если что-то и было в Святой земле из того, о чем повествовал здесь этот безумец, то оно там и осталось. Или во время исхода крестоносного воинства сначала на Кипр, а потом и во Францию, было утрачено. В Палестине христианское рыцарство стояло грудь в грудь с сарацинским Востоком и всеми его мерзопакостными таинствами. Преподобный Бонжорвиль, например, считает, и сквозь все свои труды проводит мысль, что все еретические моменты в деяниях и тайных установлениях Ордена были происхождения восточного. Будучи вынуждены очистить Восток, мы невольно очистились от всех восточных скверн.
– Не от всех, – вмешался капеллан, – ересь катарская тоже из дебрей восточных к нам вползла. Считаю это доказанным.
– Лишь пределы ордена Храма Соломонова имел я в виду, – возразил с достоинством генеральный прокурор, – лишь ряды рыцарей этого Ордена.
– Жаль, что не могу прочитать труды преподобного Бонжорвиля, – вступил в разговор де Молэ, – посему применим мы другой способ удостовериться в правоте ваших слов.
Иерархи ордена заинтересованно поглядели на своего вождя. Несмотря на то, что он был неграмотен и задавал порой наивные вопросы, как давеча, они никогда не переставали ощущать его превосходство над собой и были готовы беспрекословно повиноваться любым его приказам.
– Нам надлежит самым внимательным образом осмотреть одеяние нашего Ордена. Для этого мало одной нашей инспекции, пусть их будет столько, сколько пальцев у меня на руках и ногах, и еще раз столько. Найдите людей самых надежных и одновременно умных. Эти вещи не всегда совпадают. Дайте им полномочия самые обширные. Я скреплю их своей печатью. Начать надобно это дело немедленно. У меня есть основания думать, что подобная инспекция будет для нас спасением. Очень скоро вы поймете, что я имею в виду.
Жоффруа де Шарне понял, что вышел из состояния персонально обвиняемого. Он потянулся, как человек, сваливший с плеч своих тяжелую и неприятную ношу. Встал, прошелся вдоль окон.
– Ну что, свидетелей нет смысла вызывать.
– Отчего же нет? – сказал де Молэ сухо, – вызвать. И всех до единого.
В течение следующего часа господам инспекторам пришлось тяжело. Благородные дамы и отроковицы, которых беззаконный развратник Арман Ги сделал объектом своего отвратительного внимания, представ перед столь высокопоставленными лицами, решили, что смогут облегчить свою судьбу только чистосердечным раскаянием. Чистосердечное же раскаяние зиждется на полной откровенности. Поэтому и дамы, и в особенности отроковицы, изложили все, и в мельчайших подробностях, чему подвергались во время любовных игр с бывшим комтуром. И капеллан, и генеральный прокурор, и даже командор Нормандии были не только людьми, высоко стоящими в иерархии Ордена, но прежде всего монахами. И несмотря на житейскую осмотрительность и опытность, свойственные возрасту, они сохранили почти в полной неприкосновенности свою чистоту, и, стало быть, все говорившееся дамами оскорбляло их стыдливость. И не просто оскорбляло обжигало. Возможно, они были бы рады прекратить следствие уже после того, как первая прыщавая девчонка задрала подол юбки и указала им то место, за которое господин комтур любил ее укусить, но Великий магистр сидел спокойно и невозмутимо, как скала. О его спокойствие волны развращенной бабьей болтовни разбивались, как морские валы о прибрежный утес. Жак де Молэ входил во все мельчайшие особенности того бесчинства, в коем купался еще недавно Арман Ги. И допрашиваемые дамы, думая, что угождают дотошному старику, не жалели красок в описании своего падения.
Отроки и мужи, послужившие к удовлетворению содомских наклонностей комтура, были сдержаннее в словах. Во-первых, они были наслышаны о характере Жака де Молэ и знали, что подобные разговоры вряд ли могут ему понравиться, а во-вторых, мужчины вообще от природы много стыдливее женщин.
Любимым местом, где преступник подвергал своим атакам уступчивых монахов, был скрипторий, где переписывались священные книги.
– И ты обнажал свой срам пред ликом Библии? – потрясенно спросил капеллан одного переписчика.
Тот рухнул на колени и разрыдался. Но это был еще не предел. Огромный, рыжебородый помощник келаря повинился в том, что уступил домогательствам Армана Ги прямо в алтаре, что комтур налетел на него, как ястреб, и совершил свое дело, «даже не затворив алтарных врат».
Следователи были на грани обморока или, по крайней мере, умело изображали такую степень потрясения.
Помощник келаря в качестве сексуального объекта был не привлекательнее кочерги, мысль эту, бывшую, кажется, общей, выразил генеральный прокурор, повернувшись к командору:
– В вашем докладе речь шла о соблазнительных юнцах, брат Жоффруа.
– Да-а, – протянул де Бонна.
– Разврат вообще проистекает не по законам гармонии, – ответил командор Нормандии и вызвал очередного поднасильного.
Явился молодой коренастый парнишка деревенского вида. В Байе он ходил за лошадьми и за больными, если таковые появлялись. В сравнении с ним рыжебородый, соблазненный в алтаре громила, мог быть сочтен ближайшим родственником Аполлона. Парнишку звали Лако. Смотрел он зверем. Сплюснутый нос, дырки волосатых ноздрей, низкий лоб, дикие черные волосы, во рту угольки черных неровных зубов. Ноги кривые, с толстенными икрами. И разило от него то ли чесноком, то ли мочой. То ли мочой с чесноком.
Сказано, что уродство притягивает к себе зло. Оправдывая эту мысль, Арман Ги особенно изуверски обходился именно с этим крестьянским увальнем.
– «…Во время противоестественного совокупления был иссекаем плеткою по плечам и спине, – читал капеллан из предоставленной командором записи, – после чего мошонка оного Лако приколачивалась бронзовым гвоздем к доске. Когда…»
– Хватит, – сказал де Молэ и обратился к парню, – что ты сам нам скажешь?
Парень угрюмо молчал, не было даже понятно, дошел до него вопрос или нет.
– Он не мастер говорить, – вступил командор.
– Ну, ладно, – Великий магистр первый раз за все сегодняшнее утро позволил себе откинуться в кресле, и так все ясно. Иди Лако.
Наступившее после этого тягостное молчание нарушил Жоффруа де Шарне.
– Так как мы поступим с почитателем старых тамплиерских традиций, мессир?
– По уставу мы должны изгнать его из Ордена, – сказал генеральный прокурор.
Де Молэ встал, разминая затекшие члены, и подошел к высокому окну. Вымощенный камнем двор замка был залит солнечным светом, при этом накрапывал легкий дождик, – в природе тоже иногда случаются противоестественные комбинации.
– Мы нарушим Устав, – сказал Великий магистр, – не думаю, что мы имеем право выпустить такого человека в мир внешний. С тем адом, что горит у него в душе, он опасен для мира, пусть подвалы нашего Ордена станут для него тюрьмой. А может быть, и могилой.
Глава четвертая. Понтуаз
О мой Господь, известно, что Смиренье Главу клоня, лишь боле возрастает, А Гордость в пропасть с высоты падет, Я радуюсь, что мне грозит мученье. Вы предо мной гордились столь нескромно, Что песнь смирения не тронет Вас. Но гордость рушится. Я зрел не раз, Как ясный день сменялся ночью темной. Фолькет МарсельскийФилипп Красивый опустил забрало и сделался ужасен. Не лучше выглядели и его спутники. И брат Карл, и сын Людовик, и Гийом де Ногаре. И те два десятка рыцарей, что составляли королевскую свиту. Все они нацепили на себя допотопные варварские доспехи, отчего стали похожи на шайку разбойников, которых в те времена хватало на дорогах Франции. Впрочем, Его Величество добивался именно этого эффекта. Он любил развлекаться подобным образом. Сейчас его целью была корчма на дороге в пяти милях от Понтуаза. После известных прошлогодних событий Филипп решил обосноваться в этом городке, подальше от непредсказуемых и ненавидимых им парижан. Лувр он никогда не любил, а теперь еще и не доверял ему.
Поднялась вверх королевская рука, шайка костюмированных разбойников стала шагом спускаться по некрутому склону, поросшему молодыми дубами, к длинному деревянному строению, дымящему сразу двумя трубами. Это была корчма «Пьяный толстяк».
Филипп предполагал развлечь себя ролью лесного налетчика. Забавно, что это у его брата Карла была в королевстве устойчивая репутация человека беспутного и загульного, в то время как именно старший брат был автором идей всех необычных и кровопролитных приключений. И даже их деятельным участником. Не хотела приставать к нему легкомысленная слава, и все.
С тяжелым лошадиным храпом, усиленно гремя ржавым железом и грязно сквернословя, «разбойники» влетели во двор, огороженный жердевым забором. Шуму было много. Кудахтали куры, визжали свиньи, с предсмертными воплями причитали женщины. Хозяин корчмы, голый по пояс гигант в кожаном фартуке, выбежал на крыльцо с тесаком, собираясь защищать свое добро и тут же получил пятифунтовую арбалетную стрелу в волосатую грудь. После того как сопротивление было подавлено, налетчики со смаком разгромили корчму. Разворотили все, что поддавалось с первого налета. Само здание пострадало мало, из таких толстых бревен оно было сложено. При желании, забаррикадировавшись внутри, можно было выдержать нешуточную осаду.
После веселой работы высокородным негодяям хотелось есть и пить. Изловили на заднем дворе двух каких-то теток, имевших отношение к местной кухне, и велели подавать на стол.
И вот, когда внутри уже полыхал очаг и в нем что-то аппетитно запекалось, когда король и его рыцари весело потягивали темное бордосское вино из глиняных черепков, прибежал с улицы один из королевских пажей и сообщил, что они окружены.
– Окружены? – весело удивился Его Величество и решительно вышел на крыльцо. И тут же рядом с его головой с грохотом разбился о дубовый косяк небольшой камень. Он был явно брошен не рукой, а пущен из пращи. Филипп счел уместным ретироваться. Оказывается, кто-то из сыновей хозяина корчмы сбегал в деревню и сообщил о нападении. До полусотни мужиков с топорами, косами и, как выяснилось, пращами прибежали, чтобы дать отпор ночным гулякам. Не было сомнений, что живыми они никого не выпустят. Французский крестьянин в этом смысле мало чем отличался от любого другого – он люто ненавидел всякого грабителя. И сановного, и с большой дороги. Но если против первого бунтовать решался лишь изредка, то второго, дорвавшись, рвал на куски.
– Их много, – сообщил Карл, поглядывая в окно и ковыряясь щепкой в зубах, – десятков пять-шесть. Минимум четверо на одного. Конечно, мы их разгоним. Наверное…
– Ваше Величество, – у Ногаре слегка перехватывало горло от волнения, – может быть, имеет смысл вам открыться?
– Вы что, думаете я боюсь? – брезгливо поднял правую бровь Филипп.
– Ну что вы, Ваше Величество, я знаю, и все знают, что вы ничего не боитесь. Но глупо, извините, сложить «вою голову в схватке с собственными мужиками. Другое дело, – благородная война, рыцарский поединок.
– Они, кажется, не собираются откладывать расправу надолго, – стараясь говорить равнодушным тоном, сообщил Карл, – кольцо их стягивается.
Словно в подтверждение его слов на стену обрушился град камней.
– У меня такое впечатление, что мы не во Франции, а на Балеарских островах, – усмехнувшись, сказал Филипп, – зарядите все арбалеты!
– Может быть, вы, Ваше Высочество? – обратился де Ногаре к Карлу.
– Что я? – Карл, разумеется, понимая прекрасно, что имеет в виду Ногаре, счел нужным изобразить высокомерное непонимание. Подражая брату.
– Вы откроетесь этим… мужикам этим. Его Величеству, я понимаю, нельзя этого делать. Это было бы слишком. А на вас это похоже…
– Что «похоже»? – разозлился Карл, – грабить корчмы собственных подданных?
Филипп, с интересом прислушивавшийся к этому разговору, громко захохотал.
– Не обижайся, брат, но инквизитор наш прав.
Негоже мне сознаваться в подобной дикости. И стыдно немного, да и, главное, не поверит никто. Это о тебе ходит слава беспутного безобразника.
– Они уже перелезают через ограду, – взволнованно сообщил Людовик.
– Вот так всегда, ты что-то затеваешь, ты что-то придумываешь, и если выходит худо, расплачиваюсь я! – в сердцах крикнул Карл.
Король захохотал еще громче.
– Ногаре, скажите этим скотам, что сейчас с ними будет говорить сам граф Валуа.
Сердито косясь в сторону веселящегося красавца, граф снял изодранный маскарадный плащ и пригладил волосы.
– Они бегут обратно! – крикнул в это время Людовик. В голосе его звенела неподдельная радость. В свои восемнадцать лет юноша не был, как ни странно, любителем рискованных приключений.
– Что там случилось? – почти недовольно спросил король.
Ногаре припал ко второму окну и вскоре сообщил:
– Все понятно, Ваше Величество! Прибывает сам управитель королевства! – в его голосе было смешано облегчение и ехидство. Все-таки он недолюбливал Мариньи, завидуя его фантастической карьере: из простолюдинов – в высшие чиновники государства.
Мужики, завидев орифламму и колонну рыцарей с воздетыми копьями, быстренько рассеялись по кустам, разбрасывая косы и копья. Вполне можно было с этим «оружием» в руках нарваться на обвинение в мятеже.
Деревенский староста посмел приблизиться к угрюмо восседавшей на белом жеребце башне, укутанной в синий бархат и увешанной серебряными цепями. Усиленно кланяясь, он сообщил, что корчма захвачена бандой лесных разбойников.
Де Мариньи уже и сам понял в чем дело, на крыльце корчмы он заметил Людовика, призывно размахивавшего своим шлемом. Он сказал старосте:
– Я разберусь и накажу. Иди с миром.
Когда башнеподобный управитесь вошел в корчму, там уже кипело возобновившееся веселье. Внезапно избавленные от необходимости участвовать в кровавой драке, господа рыцари с удвоенной силой налегли на поросятину и бордосское. Де Мариньи как спасителю была устроена овация. Он лишь криво усмехнулся в ответ, внимательно поглядывая умными серыми глазами из-под седых бровей.
Его Величество поманил де Мариньи к своему столу, расположившемуся в глубине прокопченной залы у затянутого рыбьим пузырем овального окошка.
– Садитесь де Мариньи, садитесь и выпейте вина. Что вас занесло сюда и как вы меня разыскали? И почему оставили Париж?
Управитель приблизился к столу, ему услужливо пододвинули табурет. Он тяжело сел.
– Париж я оставил в полной исправности, а нашел вас в полном здравии.
Королю понравился незамысловатый каламбур старика и еще больше понравилось то, что он не стал задавать никаких вопросов по поводу приключения, имевшего место в этой корчме.
– А-а, – разглядел Его Величество еще кого-то в полумраке помещения, – мой славный Дюбуа. Клянусь стрелами святого Себастьяна, это вы дали господину управителю совет, где надлежит меня искать.
Невысокий, худощавый человечек в партикулярном платье церемонно поклонился.
– Да, Ваше Величество, я. Но мне кажется, что это вы нам сейчас дадите совет.
– Смотри, Карл, из каких остроумных людей состоит королевский капитул, – тут Филипп внезапно посерьезнел, – подайте стул господину Дюбуа. Карл, оставь эту кость, потом. Людовик, а ты вместе с людьми Мариньи прочеши окрестности. А вы, – король обратился к псевдоразбойникам, – выйдите на крыльцо и следите за тем, чтобы нас тут никто не обеспокоил.
За столом у окна, затянутого рыбьим пузырем, осталось пять человек. Король, его брат, граф Валуа, инквизитор Парижа де Ногаре, управитель королевства Ангерран де Мариньи и главный легист короля Шарль Дюбуа.
Последний выложил на широкий дощатый стол большой кожаный футляр с четырьмя металлическими застежками и сказал:
– Я выполнил ваше приказание, Ваше Величество.
Только позавчера вечером я прибыл из Майнца и, даже не навестив семейство, помчался сюда.
– Это вам зачтется, Дюбуа, – слегка поморщился Филипп, – излагайте суть.
– Не для того, чтобы обратить внимание на свои заслуги, упомянул я о своей спешке. Я хотел подчеркнуть сложность обстоятельств. И принимать решения, и действовать теперь следует быстро.
Филипп молча посмотрел на своего главного легиста и в его молчании было больше побудительной энергии, чем в самом нетерпеливом возгласе или жесте. И Дюбуа начал излагать:
– Благодарение Господу, мне удалось встретиться со всеми господами электорами. Первоначально миссия моя складывалась в высшей степени удачно. Владетели Майнца, Трира и Кельна сразу и без обиняков согласились поддержать кандидатуру, которую соблаговолит выставить Ваше Величество. Сговорчивость архиепископов не удивила меня, ибо мне было заранее известно об их чрезвычайных тратах и долгах.
Дюбуа порылся в своих записях.
– Да, а вот пфальцграф Рейнский и маркграф Саксонский сделали вначале вид, что оскорблены вашим предложением. Но узнав о суммах, которые предполагается им передать, изменили своему благородному тону и обещали подумать. Мне кажется, что мы можем рассчитывать на них, как на наших сторонников, при условии, конечно, своевременной и полной расплаты. Может статься, они ждут денег и с другой стороны, но рассуждая трезво, у кого сейчас в Европе есть свободные полмиллиона ливров? Ведь титул императора Священной Римской империи не обладает ничем, кроме внешнего блеска, до тех пор пока не попадет в умелые и сильные руки. Кто станет выкладывать реальное золото за подразумевающееся величие.
– У нас еще будет время порассуждать, Дюбуа. Дальше, – сказал Филипп.
Легист поспешно и угодливо кивнул.
– Герцог Саксонский и король Богемии мне отказали. Но по-разному. Первый явно нервничал и отверг ваше предложение, как бы не совсем по своей воле. Так мне, по крайней мере, показалось. Я проверил свои наблюдения. Финансы герцогства в расстроенном состоянии, но долги не слишком велики и есть надежда взыскать с должников. Тем более что у герцога есть свои ломбардцы-кагорсины и к вытряхиванию их кошельков он еще не прибегал.
Дюбуа намекал на прошлогоднюю операцию Филиппа Красивого по разгрому ростовщических итальянских лавок в Париже, вскоре после знаменитого бунта. Ломбардцам был должен не только король, но и множество обывателей, и поэтому действия Его Величества были полностью поддержаны народом. Благодаря этому, отношения между парижанами и королем восстановились. В известной степени.
По лицу Филиппа было непонятно, понравился ему намек легиста или нет. Мариньи отвел взгляд в сторону, Ногаре опустил голову. Оба считали, что этот финансовый червь допустил непозволительную вольность.
– А вот король Богемии дал отказ мне прямой и определенный. Он сейчас богат, и всячески изображает полную свою независимость. Кроме всего, его войска участвуют в войне с нынешним обладателем высокого титула, и, насколько мне известно, Альбрехт I терпит одно поражение за другим. Времена Гельхейма миновали, но такое впечатление, что снова восстал из земли Адольф Нассауский в лице Иоганна Австрийского, князя Швабии. Недавно к нему присоединились не только князья Тюрингии и Богемии, но и швейцарские кантоны.
– Таким образом, – подытожил Ногаре, – выборы нового императора Священной Римской империи стали к нам еще ближе.
– И следует подсчитать, в какую сумму нам обойдутся они, – вступил в разговор де Мариньи.
Дюбуа повертел в пальцах стило.
– Тут подсчет легкий. Каждый из архиепископов просит по двести пятьдесят тысяч ливров. Пфальцграф и маркграф нам обойдутся немного дороже. Кладем еще тысяч по триста пятьдесят два раза. В Саксонии еще одна сложность – представители обоих ветвей царствующего дома и Сакс-Лауенбург и Сакс-Виттенберг претендуют на то, чтобы быть выборщиками. Пожалуй, лишь полумиллионом, и то только в том случае, если мы умело распределим его между претендентами, мы сможем здесь обойтись. В общем итоге, миллион шестьсот тысяч ливров.
– Насколько я понял, – решился подать голос Карл, – поддержка Климента нам не будет стоить ни сантима. Надеюсь, он помнит, что мы для него сделали.
Филипп усмехнулся.
– Когда я два года назад встречался с кардиналом Бертраном де Готовом, он был крайне покладист и, казалось, услужливость его не будет иметь пределов и тогда, когда он завладеет папским престолом. На деле все вышло много сложнее. Не сказал бы, что сейчас я вижу в Клименте V своего самого надежного союзника. И тебе, братец, я не советовал бы обольщаться. Это Бонифаций сделал тебя королем Арагона, графом Мэнским и Першским, графом Романьи и даже императором Константинополя.
– Но это формальный титул, там же сидит этот… – смущенно пробормотал Карл.
– Да не об этом я сейчас, – поморщился король, – а о том, что не надо думать, будто если тебе споспешествовал предшественник, то ты сделаешься любимцем преемника.
Мариньи мрачно кивнул.
– Боюсь только, что не к одному лишь Его Высочеству относится сие. Нам всем надобно быть настороже по отношению к этому «союзнику». Но согласие на разгром Тампля он ведь дал, – попытался возразить Ногаре.
Мариньи помрачнел еще больше.
– Дал. У меня нет пока простого объяснения этому. Но не заливает мою душу чистая радость в связи с этим фактом. Есть второе дно у этого согласия.
Филипп хрустнул суставами.
– Одно верно, без большой охоты он согласился на это. Я не удивлюсь даже, что он упредил Великого магистра и мы натолкнемся на сопротивление.
Карл вскинулся.
– Жак де Молэ будет сопротивляться?! У нас хватит дыму, чтобы выкурить его из каменной щели.
– Есть много способов сопротивления, и тот, что с оружием в руках, не всегда самый лучший, – загадочно сказал король. – Но если придется воевать… У них тринадцать тысяч рыцарей.
– Но другого способа добыть нужные нам деньги, кроме как вскрыть сокровищницу Тампля, у нас нет, – вступил в разговор Дюбуа. У него в руках был большой кусок пергамента, мелко испещренный цифрами.
Король кивнул – читайте, мол.
– Я не знаю, к глубочайшему моему прискорбию, золотых тайн ордена рыцарей Храма Соломонова. И не знаю того, кто их может знать, помимо Жака де Молэ. Но собрав кое-какие косвенные сведения, я могу обрисовать присутствующим финансовую картину предстоящего предприятия. Я имею в виду разгром Ордена.
Дюбуа посмотрел на короля и, получив еще одно молчаливое подтверждение, что читать можно, начал:
– Первое – распродажа запасов зерна, движимого имущества и сельскохозяйственного инвентаря, принадлежащего Ордену по всем командорствам Ордена, должна дать двести восемьдесят пять тысяч ливров. Но надо учитывать то, что такая распродажа может потребовать до полугода.
Второе – деньги от продажи драгоценной утвари тамплиеров, изделий из золота и серебра, украшенных камнями, могут составить и несколько миллионов ливров. Но я почему-то уверен, что большая часть их или уже припрятана, или будет припрятана при первых наших движениях.
Третье – доходы от недвижимого имущества тамплиеров, находящегося на территории Франции, включая арендную плату и ренту, – это все вместе, что-то около ста тридцати пяти тысяч ливров.
Четвертое – двести тысяч ливров, принадлежащих ордену госпитальеров и находящихся сейчас в башне Тампля. По мнению госпитальеров, если мы их найдем, то имеет смысл выплатить их иоаннитам в качестве долгосрочных векселей. Пятое – Ваше Величество будет избавлен от необходимости выплачивать храмовникам те пятьсот тысяч франков, что были одолжены ими на свадьбу вашей сестрицы Бланки. Равно как и те двести тысяч флоринов, что мягкосердечный господин казначей Ордена одолжил вам без ведома Великого магистра. Это уже был шестой пункт.
– Казначей весьма поплатился за свою доброту, – сказал Филипп.
– Седьмое – две тысячи пятьсот ливров, полученные Вашим величеством на организацию крестового похода, также не подлежат возврату. Так же как и те суммы, что я свел в пункте восьмом. Тут выплаты по мелким векселям, что-то около тридцати семи тысяч ливров.
Девятое – не следует забывать, что и ваша супруга, и ваши сыновья Людовик и Филипп также должны Ордену значительные суммы.
Король недовольно осклабился, об этом факте он ничего не знал.
– Десятое, – Дюбуа виновато улыбнулся присутствующему графу Валуа, – и Ваше Высочество получили из кассы ордена до ста тысяч ливров.
– Я получил с них то, что они были мне должны! – высокомерно, но неубедительно сказал брат короля.
Дюбуа охотно кивнул.
– Кроме того, насколько я понимаю, предстоит процесс над Орденом богопротивным и преступным. Мне кажется, было бы справедливым, когда бы мы оплатили его из кассы оного Ордена.
– После того как мы ею овладеем, деньги, там находящиеся, станут нашими и процесс, как ни крути, придется вести на собственный счет, – поморщился король.
Мариньи налил себе вина.
– Даже при самом поверхностном взгляде видно, что в этом пергаменте обозначены деньги, которых нет. Приятно получить право не отдавать долг, когда деньги у тебя лежат в кармане, но что значит это право, когда карман все равно пуст?
Легист и сам это понимал, поэтому после слов коадъютора заметно сник.
– Остается надеяться, что пресловутая касса Ордена окажется достаточно наполненной к тому моменту, когда мы получим возможность сорвать печать с двумя всадниками на крупе одного коня, – сказал Карл.
– Надежда, не самый прочный материал, из нее трудно построить надежное будущее, – король тоже отхлебнул вина, – поэтому, мне кажется, нам следует принять некоторые меры.
Филипп резко повернулся к Ногаре, в лице рыцаря, как всегда, светилась готовность выполнить любое приказание короля.
– Надо немедленно взять под наблюдение все тамплиерские капеллы на территории Франции. Особенно те, что находятся вблизи портовых городов. Разумеется, Тампль должен был быть окружен тройным вниманием. Передвижение между капеллами – любой груженой повозки, любого навьюченного мула – должно браться на заметку. Тамплиерские миллионы – не песчинки, чтобы бесследно кануть в людском море. Пошлите сведущих людей, пусть Дюбуа подберет, в Кагор. За тамошними тамплиерскими банками тоже пусть следят наши глаза. Конечно, они не решатся отразить все свое золото в денежных документах, но его присутствие не может не сказаться. Пусть наши банкиры навострят уши.
– Понятно, Ваше Величество. Смею заметить, что часть этих мер уже предпринята. Все портовые города под наблюдением. И не первый месяц. В добавление к сказанному предлагаю заслать наших наблюдателей и к римскому первосвященнику. Если мы подозреваем Его Святейшество в двойной игре, то и следить надо за ним также вдвойне.
Король кивнул.
– Действуйте, Ногаре. На проведение всех этих мер у вас чуть больше месяца.
Эти слова заставили встрепенуться Ангеррана де Мариньи.
– Значит ли это «чуть больше», что вы уже определили дату, когда мы начнем…
– Представьте, да, Мариньи. И я утвердился в этой дате окончательно во время нашего разговора.
– После слов Дюбуа о том…
– Нет, после своих собственных слов. Помнится, я сказал, что у Ордена до тринадцати тысяч рыцарей в одной только Франции.
– Да, Ваше Величество, довольно много.
Лицо короля сделалось задумчивым.
– Важно не то, что много, а то, что именно тринадцать. С самой встречи с Климентом я размышляю о дне, когда было бы наиболее правильно нанести давным-давно замысленный мною удар. И недавно я решил, что это будет 13 октября 1307 года. В пятницу, ибо мне было нужно, чтобы тринадцатое число совпадало с пятницей. Пятница – это день распятия Христа. Тринадцатое число считалось несчастливым еще у древних. Об этом идет речь у Гомера в пятой песне Илиады и у Цицерона в Pro Cecilia. В Каббале у древних евреев, как известно, было тринадцать духов зла. Тринадцатым в Святом Писании упомянут Иуда, предавший Спасителя. На Тайной вечере тот же Иуда был тринадцатым сотрапезником. День Страстей Господних пришелся на тринадцатое число по лунному календарю. Тринадцатая глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а тринадцатая глава Евангелия от Иоанна – о предательстве Иуды. Теперь вы понимаете, почему я так воспринял свое открытие, что войско тамплиеров состоит из тринадцати тысяч рыцарей.
Присутствующие потрясенно молчали. Они всегда чувствовали превосходство Филиппа Красивого над собой. Он считал полезным время от времени устраивать подобные демонстрации. Конечно, не всегда это было в форме парада познаний. Король мог внезапно затеять состязание в винопитии или в охотничьем умении. И, что характерно, это всегда было неожиданно и всегда он выходил победителем.
В данном случае все особенно оценили интеллектуальную искушенность монарха еще и потому, что были осведомлены о полной неграмотности его главного соперника, Великого магистра ордена рыцарей Храма Соломонова Жака де Молэ.
Глава пятая. Тампль
Отныне не вижу, что Могло помешать бы нам Приди с мольбой в Божий храм, Прося нам помочь того, Кто ныне поруган сам: Враг Его Гроба Святого лишил, Франция стала долом могил — Время пустых отговорок прошло, Здесь никого еще шквал не топил. Чем еще может Он нас упрекнуть? Разве что снова свершит крестный путь. Фолькет Марсельский– Так ты говоришь, что тебя пригласил сам Великий магистр? – еще раз спросил мажордом Тампля, разглядывая маленького коренастого уродца. Особенно обращали на себя внимание ноздри его высоко задранного носа. Они невольно притягивали взгляд. Господин де Стопир поймал себя на том, что слишком уж долго в них вглядывается, как бы не обидеть этого странного паренька столь пристальным присматриванием к его уродству. Но посмотрев ему в глаза, господин де Стопир понял, что обидеть его трудно. Парень был крайне туп, по крайней мере на такую мысль наводили его невыразительные, затянутые пленкой бессмысленного спокойствия, зрачки.
– Мессир дал мне это кольцо, – сказал Лако. Эту фразу он произносил уже пятый или шестой раз за этот день. Сначала он сказал ее стражнику внешней охраны, потом рыцарю из внутренней, потом младшему помощнику мажордома, после него старшему. И самому господину де Стопиру он сказал ее уже во второй раз.
Жак де Молэ после разбирательства в Руанской обители, желая хотя бы отчасти возместить те нравственные потери, что понес этот несчастный объект извращенных нападок Армана Ги, дал ему специальное кольцо. Предъявитель сего отличительного знака мог рассчитывать на самое уважительное отношение со стороны средних орденских чинов. Вплоть до провинциального комтура. Господин мажордом был великолепно осведомлен о системе отличий, принятых в Ордене и знал, как он должен отнестись к кривоногому парню с дырявым носом, но никак не мог представить себе, каким образом он мог получить такое поощрение от Великого магистра. Да, весьма странным образом реализуется представление Жака де Молэ о справедливости. Первое, что пришло в голову господину де Стопиру, что угрюмый увалень зарезал на большой дороге законного обладателя этого кольца. Впрочем, как этот тупица мог догадаться, что оно представляет какую-то ценность?
Не зная, что предпринять, господин мажордом продолжил свои вопросы:
– А когда ты получил его?
– В мае, господин.
– И где же ты был до сих пор? – искренне удивился мажордом.
Лако пожал плечами.
– Я шел.
Ответ не слишком удовлетворил управителя Тампля.
– А на что ты рассчитываешь здесь?
– Жить.
– Тут, в замке?
– Да.
– Ты хочешь встретиться с Великим магистром? – всем своим тоном господин мажордом показал, что счел бы такое желание более чем вздорным.
– Нет, – ответил парень, и не потому, что хотел подыграть собеседнику. Он действительно не нуждался во встрече с Жаком де Молэ.
Господин де Стопир прокашлялся. Он все еще не мог сообразить, как ему вести себя с этим диким визитером. Не будь у него на пальце этого куска металла, он давно бы уже висел на дыбе в пыточном подвале.
– Жить, говоришь… Но у нас тут не принято, как-то… что ты можешь делать?
– В Байе я служил при тюрьме.
– Так ты служил в капелле? – обрадовался де Стопир, оказывается, этот дуралей не совсем с улицы.
– Да. При тюрьме.
– А здесь, стало быть… отправлю я тебя в тюрьму, – вздохнул с облегчением управитель замка.
Через час он уже забыл о странном человечке – слишком много у него было дел. В последние дни чинная, спокойная жизнь Тампля нарушилась. Из провинции по несколько раз на дню прибывали господа уважаемые рыцари, комтуры со свитами. Конюшни не могли вместить лошадей, не успевали подвозить овес из пригородных владений Ордена. По коридорам слонялось много незнакомых и раздраженных людей, навести порядок в этом хаосе не представлялось возможным, никому нельзя было предъявить претензий, даже самых разумных и минимальных. Ибо любой из господ в сером походном плаще и, одетой для маскировки, обычной обывательской одежде, мог оказаться очень высокопоставленным рыцарем, а то и самим членом верховного капитула. И не сносить тогда головы требовательному мажордому.
Господин де Стопир не был человеком очень тонким и слишком тщеславным. Его вполне удовлетворяло нынешнее его положение, в политику он не совался, инстинктивно догадываясь, что это опасно для его здоровья. Но даже он почувствовал – что-то неладно. В самом воздухе Тампля поселилось беспокойство и какая-то смутная тоска. Огромное строение, как древнее животное, вдруг почувствовало приближение смертного часа.
В замке собрались люди, которые весьма редко собирались все вместе. Жоффруа де Шарне, командор Нормандии, Антонен де Блез, командор Франш-Конте, Николя де Аньезьеко, капеллан Ордена, Астольф де Фукерас, командор Каталонии, Пьер де Бонна, генеральный прокурор Ордена, Гуго де Пайрандо, генеральный визитатор Ордена во Франции, Жоффруа де Гонвиль, прецептор Пуатту и Аквитании. Этих господ де Стопир знал в лицо и неоднократно принимал их на вверенных ему территориях. Но никогда всех вместе. Общество этих сановных лиц льстило ему, но он прекрасно знал, насколько требователен каждый из них. Но и помимо них под крышей замка оказалось множество людей и горделивых, и требовательных. Нечто подобное наблюдалось в прошлый раз, во время выборов Великого магистра. Но сегодняшнее собрание не имело ничего общего с выборами и не могло иметь. Во-первых, потому что Жак де Молэ не только жив, но и находится в добром здравии. Во-вторых, господа рыцари и иерархи были не в предпраздничном состоянии, а скорее в озабоченном. Кроме того, эти гонцы. Они часто лишь меняли коней, перебрасывались парой слов с кем-нибудь из капитуляров и требовали отпереть ворота, чтобы снова унестись по своим неотложным делам.
Круглая зала в центральной башне, именуемая парижанами башней Черного Петуха, содержала последние двое суток почти непрерывное заседание вышеперечисленных лиц с добавлением нескольких людей в строгой черной одежде. Это были представители той тайной службы Ордена, что по большей части и поставляла сведения, пользуясь которыми высшие иерархи Ордена и делали свои верховные выводы.
Главный шпион Ордена, де Мессьер, длинный костлявый человек с абсолютно голым черепом и пронзительно колючим взглядом, редко появлялся среди высших руководителей Ордена. Он предпочитал напрямую общаться с Великим магистром Ордена. Или, вернее сказать, это предпочитал Великий магистр. Де Мессьер был фанатически предан Жаку де Молэ, считал его человеком почти святым, непонятно, правда, насколько шпион и фискал может нуждаться в своей жизни в таком понятии, как святость. Скорей всего он должен был рассматривать ее как слабость. Но тем не менее все в Ордене знали (все, кто вообще подозревал о существовании де Мессьера и о его службе), что человек с лысым черепом неподкупен и неамбициозен. То есть не стремится стать самостоятельной политической фигурой. Исходя из этого его бесполезно пытаться вовлечь в какой-нибудь союз, пусть бы он был даже направлен на благо Великого магистра.
Жак де Молэ очень ценил своего сыщика и втайне гордился этой дружбой, как укротитель гордится своей властью над громадным хищником.
Стопир подошел к дверям круглой залы и позвонил во внешний колокольчик. Дверь приоткрылась, появился Жан, камердинер и телохранитель Великого магистра. Он увидел мажордома и огненное озеро у него за спиной. Шестеро служек держали на шести подносах двести сорок зажженных свечей. Де Стопир показал Жану песочные часы, верхний сосуд терял последние песчинки. Пришло время сменить свечи в округлой зале.
Двери распахнулись. Предшествуя огню, мажордом вступил в святая святых ордена рыцарей Храма Соломонова.
После того как были удалены подносы и подсвечники с огарками и зала, убранная в традиционных красно-белых тонах, озарилась свежим светом, Стопир покинул залу без всякого сожаления о том, что не причастен к обсуждению высших секретов Ордена, а наоборот, с чувством выполненного долга.
– Продолжим, – сказал Жак де Молэ.
Де Мессьер сверился со своими записями, они были сделаны особым способом, на языке, известном только ему и его подчиненным.
Взгляды всех присутствующих были обращены на него.
– В течение двух последних часов прибыли мои люди из Родеза, Вервена, Реймса, Арраса и Секта. Везде все то же. Местные королевские сержанты получили секретные предписания с требованием вскрыть их сегодня, в ночь с 13 на 14 октября. Я думаю, в тех местах, откуда мы еще не получили сведений, положение такое же. Таким образом, мы можем говорить, господа, об операции, которая охватывает всю территорию Франции.
– Остается, правда, неизвестным, какого рода эта операция, – сказал Жоффруа де Шарне.
– Лично я не жду ничего хорошего от замыслов короля французов, – заметил де Гонвиль.
– Хотелось бы знать, – вступил генеральный прокурор, – распространятся ли эти действия на нашу центральную резиденцию.
– Что я слышу, господа! – воскликнул Антонен де Блез, командор Франш-Конте, человек огромного роста и легендарной физической силы, – неужели у вас есть хоть тень сомнения в том, что задумал этот красавчик.
Сегодня ночью орден тамплиеров будет подвергнут разгрому. Петля уже наброшена и с каждым мгновением стягивается все туже. А мы сидим, как каплуны, предназначенные на заклание.
Все прочие иерархи в той или иной степени разделяли мысли командора Франш-Конте, но не решались высказываться вслух.
Неожиданно поддержал шумливого воина тихий де Мессьер.
– У меня тоже сложилось впечатление, что королем Филиппом сплетена некая сеть. Мои агенты, а они люди в высшей степени опытные и трезвые, говорят, что при всех передвижениях за ними пытаются вести слежку, а в городах, где расположены наши капеллы, все судебные приставы и прокурорские чиновники получили запрет на выезд по собственным надобностям из пределов своих округов. Воля ваша, господа, но, на мой взгляд, сопоставление этих обстоятельств наводит на мысль о подготовке какого-то грандиозного процесса. Командор де Блез шумно прошелся вокруг стола, во главе которого в монументальном молчании сидел Жак де Молэ.
– У нас здесь в Тампле около двухсот рыцарей, если вооружить служек и оруженосцев, то составится целое войско. Я знаю, какими силами располагает в Париже Ангерран де Мариньи. Это сброд, а не войска. Горожане не поддержат короля, мы могли наблюдать в прошлом году, как они к нему относятся. Мы пройдем сквозь их строй, даже если они сумеют блокировать Тампль, как стрела сквозь сыр.
Командора поддержал капеллан.
– Правильно, правильно. Он грабит горожан, а мы построили шесть больниц для бедных и огромный дом призрения. Парижане и уважают нас и боятся. Проклятие Великого магистра для них пострашнее, чем королевская месть.
– Пока все части парижского гарнизона находятся в казармах. Тампль окружен несколькими десятками наблюдателей. Так что можно считать, положение Тампля ничем не отличается от положения любой нашей капеллы в провинции. При желании я берусь переловить людей Ангеррана и Ногаре вполчаса. И я согласен с командором де Блезом, у нас не будет проблем с тем, чтобы покинуть Тампль и Париж, – сказал де Мессьер.
Все знали, что начальник тайной стражи есть глаза и уши Великого магистра; может быть, он сейчас выступил в качестве его языка. Иерархи напряглись, ожидая, что вот-вот последует решительная команда и орден тамплиеров превратится из обороняющегося в атакующий.
Было уже совсем темно, когда Лако выбрался наружу, на скользкую, мощенную булыжником улицу. Соседние дома тонули в темноте. Их хозяева уже почувствовали, что находятся поблизости от центра опасных, чреватых разного рода неприятностями событий, и поспешили закрыться на все засовы, задраили ставнями окна и не зажигали огней, дабы не привлекает внимания.
Кварталы, не прилегающие к Тамплю, дышали свободнее. В узких улочках вблизи Нотрдам де Пари вышли на промысел многочисленные проститутки, в Ситэ работали кабаки, слышались пьяные песни.
Ночь с 13 на 14 октября должна была стать ночью решительных действий. Мало кто знал, каких именно. Флюиды опасливого ожидания уже появились в прохладном воздухе.
Лако шел, не особенно скрываясь. И его, кажется, не слишком пугали мелькающие тут и там подозрительные тени. Несколько раз на пути ему попадались отряды пеших стражников. Они, шумно топча булыжник, отрыгивая скверным пивом и плохо переваренной капустой, тащились из одной темноты в другую, ругая про себя слишком исполнительного сержанта.
Париж во все времена был привольным местом для всякого сброда и ворья, поэтому для ночного патрулирования еще во времена Людовика Святого, была создана специальная команда и каждый новый монарх охотно подтверждал ее полномочия.
Перебравшись на Ситэ, Лако застал в этом квартале почти полное подобие нормальной ночной жизни. Никакие, даже самые ужасные, предчувствия неспособны до конца подавить человеческую природу, и даже в городе, осажденном коварным и беспощадным врагом, люди продолжают торговать и играть.
Перед трактирами горели костры, вокруг них толпилась ободранная, вонючая парижская голытьба. На кострах жарилось ворованное мясо, нищие сквернословили и дрались, правда, и то, и другое делали вяло. Внутри трактиров продолжалась своя жизнь. С подавальщиков градом лил пот, с грохотом сдвигались глиняные кружки, полные ячменного пива, посреди стола водружалось блюдо с разварными поросячьими ножками. Из окон валил пар.
Миновав три или четыре подобных заведения, Лако нашел то, что ему требовалось. У костра и на ступенях трактира «Амьенский гусь» стояли вооруженные люди в длинных темных кафтанах с большой золоченой вышивкой на левом отвороте. Такие же занимали и основную залу. Они старались пить и есть без лишнего шума, как люди, находящиеся на работе и не желающие привлекать к себе особого внимания. Лако знал, что это солдаты из недавно созданного Мариньи пехотного полка. Он состоял в основном из иностранцев, женевских швейцарцев.
Рассмотрев наемников как следует, Лако двинулся дальше. Ему требовалось еще что-то этой ночью. Или кто-то. И очень скоро ему повезло. Возле переправы, что почти напротив Лувра, находилось место, облюбованное дешевыми шлюхами. В эту пору года у них было мало клиентов и они сидели вокруг костра, как нахохлившиеся куры. Завидев Лако, они закричали ему хриплыми голосами:
– Эй, как тебя зовут, иди сюда!
– Посмотри, какой он ноздреватый, наверное, его зовут Сырок, да?
– Эй, Сырок, пошли со мной, если не боишься отморозить задницу.
Молодой тюремщик довольно долго слонялся среди полуголых и агрессивных жриц любви, пока не выбрал одну.
– Иди за мной.
– А у тебя есть деньги, красавчик? – спросила его избранница, довольно привлекательная девица, слегка замызганная, правда.
Лако молча достал из кармана монету в четверть ливра и показал ей. Это зрелище моментально прекратило оскорбительный хохот и вызвало завистливый свист. Белокурая красотка быстро выбралась из толпы товарок.
– Пойдем, красавчик, – проговорила она, – я научу тебя всему, что умею.
Лако молча взял ее за кисть руки и сжал так, что у нее перехватило дыхание.
– Получишь втрое против этого, если будешь молчать. Поняла?
Она поняла. И молчала, когда юноша повел ее к плескавшейся неподалеку Сене. Молчала, когда он смочил в холодной воде тряпку и стал протирать ее чумазую физиономию. После этого он снял с нее лохмотья, служившие ей выходным платьем, и на холодную, покрытую гусиной кожей фигурку натянул простое, но чисто выстиранное платье.
Она не решилась спросить, зачем все это. Стучала зубами то ли от холода, то ли от страха.
– Теперь ты пойдешь вон к тому трактиру и понравишься одному из господ в черном кафтане с золотым вензелем. – И приведешь его сюда, поняла?
– Да.
Девушка была очень миловидна. Лако достал из кармана фляжку с вином и протянул дрожащей красотке.
– Выпей. Сделай несколько глотков.
Она повиновалась.
Лако показал ей золотую монету.
– Она будет твоей, если все сделаешь правильно. Если нет…
Он не договорил, потому что и так все было ясно.
– Как тебя зовут?
– Жанна.
– Иди, Жанна.
Она попыталась улыбнуться, отхлебнула еще раз из фляжки. Лицо у нее слегка раскраснелось. И она отправилась в указанном направлении.
Через четверть часа она уже лежала на спине, на куче сухих листьев в тени невысокой, полуразрушенной стены. Неровный, верхний край был облизан лунным сиянием. Над ней, напряженно урча, трудился крупный кудлатый воин. Правая рука его предусмотрительно сжимала рукоятку вонзенного в землю кинжала. Как иностранец он не вполне доверял местным шлюхам.
Жанна испуганно разглядывала лунный диск и прислушивалась к звукам за границами сладострастного швейцарского сопения.
То, что произошло, произошло мгновенно. Когда доблестный любовник взобрался на вершину своего оргазма и временно ослеп и оглох, в спину ему вонзился длинный тонкий нож.
Настолько длинный, что смог навечно скрепить двух случайных любовников.
И тогда слово взял Жак де Молэ.
– По всей видимости, господа, к воротам всех наших крепостей на территории французского королевства явятся судебные приставы с предписаниями, подписанными Филиппом, и потребуют, чтобы их допустили внутрь для осмотра и обыска.
– Ни о чем подобном наши хроники даже не упоминают. Мы живем в страшное время! – воскликнул де Блез.
Великий магистр спокойно возразил:
– Все возможное когда-нибудь случается. И сейчас суть дела заключается не в вопросе – открывать или не открывать двери перед королевскими ищейками, а в том, насколько наши крепости готовы к проверке.
Жак де Молэ повернулся к генеральному прокурору, это он контролировал инспекцию всех тамплиерских поселений.
– Насколько я могу судить по отзывам посланных мною людей, все крепости находятся в исправности. Во всех смыслах. Конечно, я не дух и не мог облететь каждую лично, но у меня нет оснований не доверять моим людям. Они ни разу меня не обманывали. Комтурства наши, все без исключения, готовы пережить обыск, самый пристрастный, самый свирепый. Следуя вашему совету, я велел подготовить полную финансовую отчетность, дабы людям короля не пришлось ждать. Они не только не найдут того, что им нужно, они вообще ничего не найдут. Арман Ги был – это можно теперь утверждать смело, чудовищным исключением, не более.
Жак де Молэ кивнул.
Среди присутствующих чувствовалось брожение токов недовольства.
Многие желали объяснения таких уступок, такого пресмыкательства перед Капетингом.
– Да, – заговорил Великий магистр, – Филипп получит доступ ко всем нашим бумагам, вскроет все наши запоры и проникнет во все тайники. Его люди смогут допросить каждого рыцаря, каждого служку, каждого оруженосца. Цель венценосного красавца мне ясна, он хочет состряпать огромный процесс против Ордена. Подобно простым обывателям, он верит в суеверные россказни о наших таинственных богатствах, политых кровью и слезами ограбленных нами народов. Он убежден, что наши церкви и крепости осквернены черными мессами и противоестественными отношениями. Он убежден, что те, кто не предается содомскому греху, по крайней мере, пьянствуют и обжорствуют. Он надеется найти подтверждение этим темным слухам и сплетням, ворвавшись в наши крепости.
Великий магистр отпил немного родниковой воды из стоявшего перед ним сосуда.
– Представьте его разочарование, когда он после самых кропотливых усилий бесчисленной своры своих судейских крыс, прокурорских кротов увидит, что орден Храма Соломонова – суть огромный прозрачный сосуд, пронизанный солнцем истинной христианской веры. В нем нет ни одного темного нечистого угла, нет ни одной оскверненной песчинки. Его замысел рухнет в самом первом шаге своего осуществления. Он мечтает о сопротивлении. И самым ужасным для него будет то, что он его не получит.
Антонен де Блез относился к числу тех, кого оригинальный и даже, надо признать, не без изящества задуманный план защиты ничуть не удовлетворил. Командор Франш-Конте не доверял словесным построениям, умозрительным фигурам, он верил в грубую силу и мир виделся ему соотношением борющихся, причем бескомпромиссно, начал. Не уважай он безмерно Жака де Молэ, он бы ответил на его говорение площадной бранью, в данной ситуации его критика приняла более спокойные формы.
– Извините, мессир, но мне кажется, что во всей этой истории вы не учитываете одого момента. Вы переоценили человеческие и рыцарские качества этого мерзавца Филиппа. Вы считаете, он хочет ворваться в наши крепости в поисках истины и, увидев, что она не на его стороне, он с позором отступит. А мне кажется, истина его интересует меньше, чем то, что он будет есть на ужин. Ему важно разгромить Орден, посадить всех нас на цепь, а потом его судейские псы подберут нужные доказательства того, что мы должны сидеть на этой цепи вечно. Они сотворят эти доказательства из воздуха своих канцелярий.
Жак де Молэ кивнул в знак того, что он понимает смысл возражения.
– Я ничуть не обольщаюсь насчет душевной чистоты французского монарха. Я никогда ему не доверял, даже в тот момент, когда он летом позвал меня окрестить своего ребенка. Я согласился бы с твоими речами, командор, когда бы речь шла об учреждении, хотя бы отчасти уступающем нашему Ордену по силе и авторитету. Тут Филипп позволил бы развязать себе руки полностью. Вспомните о ломбардцах, вспомните о евреях. Не сомневаясь ни мгновения, он вышвырнул их из страны и отобрал у них деньги. С орденом рыцарей Храма Соломонова дело обстоит сложнее. Мы находимся под прямым покровительством папы и подчиняемся только ему.
– Но кому подчиняется сам папа? Не является ли он лакеем Филиппа?!
– Как всякий ставленник, он мечтает освободиться от влияния того, кто его поставил. По сведениям наших тайных служб (кивок в сторону де Мессьера), давая согласие на преследование тамплиеров в мае этого года, он, во-первых, сделал это без всякой охоты, а во-вторых, и в-главных, потребовал, чтобы все документы по этому делу были в конце концов направлены для утверждения в папский капитул. И если материалы эти не будут баснословно убедительны, он их не утвердит. Мы выйдем из передряги, значительно возвеличив наш авторитет в глазах всех царств. Но скорей всего, так мне кажется, Филипп сам отступится, почувствовав, что ему не добыть убедительных доказательств нашей виновности. Уже через неделю после начала расследования он сообразит, что затеял нечто нездравое.
– Но он может наплевать на решение Авиньона, – осторожно возразил генеральный прокурор.
Жак де Молэ покачал головой.
– Навряд ли. Король Альбрехт, кажется, проигрывает войну. Скоро трон императора Священной Римской империи освободится. Филипп пробовал протолкнуть на это место брата Карла и понял, что в деле обработки господ электоров без помощи папы не обойтись. При новой попытке он постарается застраховаться от каких бы то ни было случайностей.
Великий магистр еще отпил ключевой водицы.
– Я все еще вас не убедил?
Де Блез недовольно повел плечами. Вид у него был несмирившийся.
– Прошу прощения, мессир, но вся эта интрига кажется мне слишком изящной, чтобы быть удачной. Я солдат и всему моему существу противен план, при котором я должен злейшего врага впускать в крепость, имея все силы для обороны.
Несколько раз тяжело вздохнув, Великий магистр спросил, обводя взглядом сидящих за столом.
– Многие еще так думают, как господин командор?
Так думали многие, но возразить не решился никто. В головах одних эти мысли боролись с твердой уверенностью, что Жак де Молэ не может ошибаться и эта борьба лишала их возможности говорить что-то определенное. Другие считали, что возражать бессмысленно, хотя бы уже потому, что ничего уже не исправишь. Огромный механизм добропорядочного заговора запущен, и чтобы его остановить, нужно, как минимум, несколько недель. Так чего же копья ломать!
В подземельях Тампля имелось четыре тюрьмы. Отличались они друг от друга крепостью запоров и составом заключенных. В первой сидели злостные должники Ордена, условия их содержания были вполне пристойными, пищу туда можно было заказать из дому и разрешались родственные посещения. Орден, даже выжимая проценты по своим долгам, заботился о своей доброй славе. Во второй и третьей тюрьмах сидели члены Ордена. В одной – оруженосцы и служки, в другой – рыцари. Они отбывали здесь срок наказания за прегрешения перед уставом обители или светским законом.
Тюрьмы эти были в последние годы заполнены едва на треть. Последнее поколение рыцарей было весьма уравновешенным, если не сказать смирным.
В самой темной и сырой части подземелья устроена была четвертая тюрьма. О том, кто содержится там, мало что было известно, даже тем, кто эти тюрьмы обслуживал. В подвалах ее царил тяжелый полумрак, пропитанный вековой вонью. Выйти отсюда пленник мог только по распоряжению Великого магистра, ключи от местных замков также имелись только у него.
Именно в этом подземелье содержался бывший комтур Байе, Арман Ги. Он провел в сыром полумраке всего четыре месяца, но уже полностью потерял счет дням и ему казалось, что он находится здесь вечно. Сказать, что он впал в отчаяние, значит, ничего не сказать. Причем, как выяснилось, состояние постоянного отчаяния зверски отупляет. Вместо хитрого, самоуверенного и свободомыслящего рыцаря по каменному мешку ползало тихое, обезумевшее животное.
Лако, вернувшись из города, занял позицию возле кухни. За те несколько дней, которые юноша провел в тюремной команде, он хорошо разобрался в том, как происходит обслуживание заключенных, кем и в какие часы. В обычной обстановке втиснуться в этот распорядок было немыслимо, но он верно рассчитал, что внешние сотрясения вызовут смятение и тут, внутри, и у него появится шанс. Сидя за бочками, набитыми квашеной редькой и оливковым маслом, он не спускал глаз с двери, что вела в чадную пещеру, где кипело смрадное варево для заключенных четвертой тюрьмы.
И вот появился разносчик. Одноглазый монах по имени Перто. Подождав, когда он скроется за набухшей от вечной сырости кухонной дверью, Лако побежал наверх, на крепостную стену замка.
Рассвет был уже близок, восточный край неба заметно побледнел, как будто от нехороших предчувствий. Воздух был промозгл, но неподвижен. Прилегающие к Тамплю кварталы поражали своей пустынностью. Лако простоял возле бойницы довольно долго и абсолютно неподвижно. Тяжелый, нерешительный октябрьский рассвет неохотно вступал в свои права. Лако сделал движение, как если бы он собирался уходить, но что-то заставило его остановиться. И вскоре стало понятно, что именно. Цокот копыт. Нарастающий, множащийся цокот хорошо подкованных копыт. Уверенный, непреклонный, приближающийся.
Когда из-за угла большого трехэтажного дома в конце улицы Пелиньер, ведущей к парадным воротам Тампля, показалась кавалькада всадников, Лако сорвался со своего места и стремительно побежал вниз на свое старое место у кухонных дверей. Просидеть ему там пришлось недолго. Дверь растворилась и одноглазый разносчик вышел с ведром и черпаком в заставленный бочками подвал. Вышел и растеряно задрал голову. И было отчего! В замке царила суета, совершенно непривычная в этот час.
Пока одноглазый прислушивался, перед ним возник Лако.
– Чего тебе? – недоверчиво спросил монах.
– Поставь, пожалуйста, ведро.
Просьба была странной, но Перто, поколебавшись, ее выполнил. И зря, поскольку тут же получил удар ножом в левую шлею кожаного фартука. И рухнул. Лако направил падающее тело таким образом, чтобы оно, падая, не перевернуло ведро с варевом. Варево это представляло сейчас определенную цену для молодого человека.
Удостоверившись, что разносчик мертв, Лако не торопясь снял с него фартук и повязку, закрывавшую глаз. Через минуту он спускался по каменным ступеням в направлении четвертой тюрьмы, держа в одной руке черпак, в другой – ведро с горячей похлебкой.
Грохот каблуков покрывал уже все лестницы замка.
Когда господин де Стопир во главе очередной свечной процессии вступил в красно-белую залу, его оттолкнул кто-то налетевший сзади. Оттолкнул и ринулся к столу, за которым продолжалось невеселое бодрствование орденского капитула.
– Они пришли!
На лице Жака де Молэ ничем не выразились переживаемые им чувства. Он был готов к поединку, хотел его.
– Изъяснитесь понятнее, де Фар. Кто пришел, сколько их и зачем они явились?
– Парижский прокурор Анри Невер, помощник парижского инквизитора де Сент-Эврюс, десять судебных приставов с секретарями. Канцеляристы и стражники.
– Что им нужно?
– Они утверждают, что у них есть указ короля, разрешающий им въезд на территорию Тампля.
Орденские иерархи встали, обратив взгляды на своего вождя.
– Мессир, – в который уж раз за последние сутки возвысил голос командор Франш-Конте, – я понимаю, происходящее вроде бы вписывается в ваш хитроумный план, но умоляю вас, заклинаю именем покровителя нашего на небесах Крестителя Иоанна, подумайте еще раз – в нашу ли пользу то, чему уже почти суждено случиться? Ведь сейчас эти шакалы ворвутся сюда, они станут арестовывать и допрашивать, сквернословить и унижать. И не только нас самих, как людей и рыцарей Христовых, но нашу веру, о чистоте которой вы осведомлены лучше всех нас. Мы открываем ворота дьяволу, не наивно ли надеяться, что мы сможем переиграть его, когда не мы будем устанавливать правила? Когда нам даже не сообщат правил. Заклинаю вас, мессир!
Жак де Молэ медленно и величественно поднялся.
– Время сомнений прошло. Не одну сотню бессонных ночей я провел, пытаясь отыскать путь спасения, и нашел только этот. Все остальные хуже, они нам не оставляют никаких надежд.
Де Блез, сотрясаемый все возрастающим возмущением, грохнул кулаком по столу, так что из подсвечников вывалились несколько тлеющих огарков.
– Ладно, пусть, вы так решили, никто вам не противоречит, хотя многие думают так же, как я. Разрешите мне хотя бы с рыцарями моего командорства покинуть Тампль. Они не посмеют нам противодействовать. Уже через десять дней мы будем в Памплоне или Периньяке, где продолжим наше дело. Орден не должен погибнуть, не человеческое это право – принимать решение о его жизни или смерти.
Великий магистр отрицательно покачал головой.
– Вы говорите глупости, командор. Если я разрешу вам удалиться вместе с вашими рыцарями, это будет расценено как бунт, и тогда все наши колоссальные усилия пропадут даром. На нашу кристальную репутацию будет брошена несмываемая тень. Предлагать то, что предлагаете вы, может только пособник короля, де Блез.
Командор Франш-Конте вскочил, хватаясь за меч.
– Вот как?!
– Арестуйте его, – негромко приказал Великий магистр.
Четверо монахов, мгновенно появившихся за спиной рыцаря, повисли на его руках и плечах.
– Уведите его.
Бешено сопротивляющегося и взывающего к Иоанну Крестителю де Блеза уволокли.
– Брат казначей, – обратился Жак де Молэ к худому носатому старику, сидевшему в сторонке у стены, – готов ли ваш отчет?
Старик поднялся.
– Да, мессир, час назад мы посыпали песком последнюю запись. Все до последнего денье, до последнего аметиста на вашей парадной перевязи там перечислено.
– Несите сюда ваши свитки.
Казначей вышел.
– А теперь, брат мажордом, – де Стопир вытянулся в струнку.
– Да, мессир.
– А теперь открывайте ворота.
– Ты тоже одноглазый? – спросил стражник, невнимательно оглядев Лако и прислушиваясь к звукам, доносившимся сверху. Он был удивлен, обычно здешних каменных глубин не достигали никакие внешние шумы.
– Нет, я не одноглазый.
Стражник снова вгляделся в паренька с ведром и черпаком.
– А чего ж ты нацепил ее? – угрожающе спросил он и поудобнее перехватил алебарду.
– Чтобы не промахнуться.
– Чего, чего?!
Лако зачерпнул раскаленной жижи из своего ведра и плеснул в лицо стражнику.
Когда тот стал с ревом метаться по коридору, ударяясь железными боками о каменные стены, уродливый юноша, улучив момент, воткнул ему свой кинжал между листами лат. После этого он снял фартук и повязку, они нужны были только для того, чтобы свободно приблизиться к громиле страднику, в общих чертах знающему разносчика, чтобы он не вздумал применить арбалет, висящий у него на стене за спиной. В узком коридоре спасения от арбалетной стрелы нет. Теперь надобности в маскировке не было.
Сняв с пояса бездыханного охранника связку ключей, Лако отпер дверь, за которой открывалась территория четвертой тюрьмы, вытащил из железного гнезда чадящий факел и вошел в сводчатый коридор.
Большинство камер пустовало, оказывается, не так уж много имелось у тамплиеров заклятых и опасных врагов. Пару раз из запечатанной толстенной решеткой вонючей темноты появлялись привлеченные светом жуткие распухшие хари. Они что-то бессвязно блеяли и бессильно плевались. Просидев в здешнем узилище два, три года, человек безвозвратно терял человеческий облик.
– Господин! – громко прошептал Лако, подойдя к одной из решеток. Он принюхивался, как животное, и волосы в ноздрях его носа нервно трепетали.
И господин выполз, услышав человеческий голос, это было как глас Господень. Ведь с ним здесь никто никогда не разговаривал. Все эти месяцы.
Долго, очень долго всматривался Арман Ги в лицо, которое невозможно было забыть.
– Ты?
– Да, я, господин.
– Ты пришел…
– Да, я пришел.
– Ты пришел меня убить?
– Нет, я принес вот это.
Лако достал из-за пазухи сверток с одеждой и просунул его сквозь прутья решетки.
– Что это?
– Это одежда королевского стражника.
– Зачем?
– Наденьте ее.
– Зачем? – тупо повторял ополоумевший от наплыва чувств комтур.
– Наденьте и поваляйтесь в ней по полу. Сегодня сюда придут люди короля, если на вас будет эта одежда, они вас выпустят. Остальных увезут в Шинон и будут пытать.
В глазах Армана Ги мелькнула искра понимания.
– Да, Лако, я понял.
– Извозитесь как следует и притворяйтесь сумасшедшим, чтобы вам поменьше задавали вопросов.
– Я понял Лако, я понял.
– Все, мне пора идти. Еще нужно успеть спрятать два трупа.
Глава шестая. Лувр
Жаль нет коня, а будь я на коне, Король бы почивать мог в сладком сне, На Балагэр спустился бы покой; Я б усмирил Прованс и Монпелье, И те, что еле держатся в седле, В Кро не посмели б учинить разбой. Губители людей достойных, те Кто в ревности погряз и клевете, Кто радость принижает волей злой, Узнают, что за мощь в моем копье, Я ж их удары, шпаг их острие Приму, как на павлиньих перьях бой. Пейре де ВидальФилипп Красивый был в отвратительном расположении духа. Все утро он провел в своей зеркальной галерее. Она ныне мало напоминала прошлогоднюю – следствие варварского погрома, устроенного в прошлом году парижским охлосом. Но король не спешил ее пополнять, как будто смирился с потерями. Общение с немногими пережившими покушение толпы полотнами отражающего стекла стало более интимным и даже болезненным. Странные и тайные сомнения короля относительно своего метафизического происхождения не утихали. Напластования повседневных забот лишь на время сглаживали их остроту. Но стоило ему остаться наедине со своими мыслями…
Король подошел к большому овальному зеркалу, это было старинное флорентийское произведение, король не любил его за упрощенную и примитивную трактовку собственного отражения. Не было в этом простоватом итальянском стекле настоящей таинственной глубины, оно словно не впускало взгляд внутрь, выталкивало на свою поверхность предмет отображения, предоставляя при этом скучный, обыденный фон.
В другой раз Филипп фыркнул бы и ушел от глупого овала, но он знал, что внизу в каминной зале его ждет инквизитор Парижа с новыми сведениями о допросах тамплиеров. Королю не хотелось спускаться к нему. Это чувство усиливалось пониманием того, что спускаться все равно придется.
Н-да, за две недели, что шло следствие в Шиноне и девяти других замках на севере и западе страны, общая картина дела более-менее обрисовалась. И картина эта слишком уж не устраивала короля.
Ладно, идти все равно надо.
Филипп бросил последний взгляд на свое дурацкое отражение и отправился вниз.
При его появлении Гийом Парижский, глава доминиканской инквизиции столицы, поспешно встал. Он уже несколько дней чувствовал, что король не вполне доволен его работой и это лишало его сна. Он старался изо всех сил, но никак не мог угодить королю.
Филипп уселся на мягкий табурет и жестом предложил доминиканцу устраиваться напротив.
– Ну, что там у вас сегодня?
В голосе короля не было и тени заинтересованности. Заскрипели разворачиваемые пергаменты. Гийом Парижский прокашлялся.
– Сегодня мною лично допрошен рыцарь Ордена Ренье де Л'Аршан. Он показал, что при вступлении в орден отрекся от Христа, но утверждает, что сделал это лишь на словах, в сердце своем остался ему всецело верен.
Рыцарь Ордена Пьер де Арблейо признался сначала перед следователем, а потом и перед большой следственной комиссией, что произносил слова отречения и даже плевал на крест. Но утверждает и не отступается от утверждения своего, что отречение его было мнимым, а плевок сухим.
Рыцарь ордена Жан де Элемозина сознался только в том, что во время известной процедуры плевал на землю рядом с крестом, а высказанные вслух сомнения относительно божественной сущности Христа назвал притворными.
Мой заместитель, Гийом де Сент-Эврюс, допрашивал брата Стефана де Дамона, который также сознался в притворном, неискреннем отречении и утверждал, что вынужденный плевать публично на крест, постарался сделать это наименее уничижающим, для святого изображения, способом. В душе же остался чист и верен.
Генеральный прокурор Ордена Пьер де Бонна, допрошенный мною в присутствии следственной комиссии, заявил, что во время обряда посвящения приор отвел его в сторону, поднес ему деревянное распятие и приказал отречься от божественной сущности Христа. Пьер де Бонна настаивал, что произнес в ответ на это предложение слова, которые можно было истолковать двояко, не обязательно как отречение. Приора они удовлетворили вполне. У генерального прокурора создалось впечатление, что обряду внешнего отречения не придавалось в Ордене особого значения. А плевание на распятие считалось и вообще наивным чем-то…
Интендант ордена в Шампани Рудольф де Жизи…
– Хватит, – вяло сказал король.
Инквизитор замолк, виноватая улыбка бродила по его пухлым губам.
– Скажите, в какой обстановке добывались эти признания и живы ли еще те, кого вы допросили.
Доминиканец поднял брови.
– Ваше Величество… разумеется, допрос – это не дружеская беседа за стаканом вина… но мы не допускали никакого членовредительства. А то, что участников столь отвратной организации уместно подвергнуть самому жесткому заключению и вопрошанию, признает всякий, кто думает о государственной пользе.
– Значит, пытали, – расшифровал король речь доминиканца.
Гийом Парижский испуганно замер. Из королевского напутствия в начале дела он понял, что Его Величество не будет слишком против, если ради добычи нужных и неопровержимых доказательств преступной сущности Ордена будут применены сильные меры. Сейчас же Филипп как будто склонен осуждать подобные методы. Что же делать? Остается только теряться в догадках.
– Сегодня я получил известие, что из Авиньона на днях прибывают кардиналы Беранже, Ландольф де Сент-Анжели и Этьен де Лита. Они горят желанием помочь вам в работе. Что вы молчите?
Инквизитор сглотнул слюну.
– Право, Ваше Величество, я пребываю в известном сомнении.
Филипп поморщился.
– Покиньте почву сомнений. Все мои указания остаются в силе. Я не для того объявил вне закона орден тамплиеров и арестовал его членов, чтобы в результате следствия выяснить, что все они были невинными овечками и богобоязненными примерными христианами. А создается именно такое впечатление. Представьте себе, если люди даже после вашего «жестокого заключения и вопрошания» сознаются в том только, что слегка покривили душой, совершили один, да и то сухой плевок в направлении креста, виноваты ли они на самом деле? Это не я задаю вам этот вопрос, мне было ясно все еще задолго до того, как я отдал соответствующий приказ. Я представляю себе, как будут течь мысли наших дорогих авиньонских гостей. Запомните, так или иначе приговор, какой бы он ни был, будет утверждаться в папском капитуле. Так постарайтесь, чтобы этим бездельникам в рясах было что утверждать. Идите и думайте. Надо меньше работать руками, особенно руками палачей, а больше головой.
Гийом Парижский вскочил. Он был красен, на кончике большого потного носа висела испуганная капля. Он не смел к ней прикоснуться, боясь, что движение выйдет не слишком благопристойным.
– Идите, – еще раз энергично повторил король. Он действительно был в ярости. Он был готов к десяти самым разным вариантам развития событий и, как водится, не предусмотрел единственно реальный.
Что может означать это однообразие тамплиерских показаний?
Они могли бы упорствовать в утверждении своей полной невиновности. Хотя, наверное, и упорствовали бы, ведись следствие обычным, законным, неэкстренным порядком. Откровенность признаний, пропорциональна «жесткости вопрошания». И если, например, начать вытаскивать им жилы и наматывать на древко копья, они признают не только то, что целовали друг друга в задницу, но и в том, что содомировали Христа.
Филипп инстинктивно перекрестился вслед последней, омерзительной, мысли и сам удивился проявлению своей набожности. Если бы у него было время и соответствующее расположение духа, он охотно поразмышлял бы о том, в каком соотношении с идеей божественной сущности Христа находится он сам. Но, слава богу, суетой, сопутствующей высшей власти, он был избавлен от самокопаний.
Доложили, что прибыл Гийом де Ногаре.
Канцлер, как всегда, был одет предельно скромно, и даже его природная бледность выглядела частью должностного облачения. На его фоне раздраженный, изъеденный неприятными мыслями, Филипп выглядел беззаботным жизнелюбом.
– Садитесь Ногаре, садитесь. Место, кажется еще не остыло.
– То есть, Ваше Величество?
– Здесь только что сидел ваш друг, инквизитор, – усмехнулся король. Он отлично знал, до какой степени эти господа не любят друг друга.
Ногаре сел и было видно, сквозь какое неудовольствие он сделал это.
– Я рад, Ваше Величество, что вас не оставляет способность шутить.
– Ошибаетесь, господин канцлер, у меня отвратительное настроение. Просто вид человека, у которого настроение еще хуже, радует мое сердце.
Ногаре изысканно поклонился.
– Говорите поскорей. Одно дело, если бы оттягивали удовольствие хорошей новости, а тянуть с неприятными известиями – жестоко!
– Вы угадали, известия мои безрадостны. С одной стороны, мои крючкотворы полностью разобрались с тамплиерской финансовой отчетностью и не нашли там ничего для нас интересного. С другой стороны, шесть сотен моих людей рыщут по стране и ни одно судно, ни одна вереница экипажей не могут миновать обыска – но ничего! Их казна провалилась как сквозь землю.
– Тем не менее нужно продолжать поиски.
– Разумеется, Ваше Величество. В противном случае нам пришлось бы признать, что все свои доходы эти негодяи вкладывали в больницы и дома призрения.
– И много они растранжирили на эти цели?
Ногаре прищурился, как бы складывая в уме некие денежные суммы.
– На самом деле немало. Только в вашем королевстве тридцать девять домов призрения, семьдесят шесть больниц и школ. Не считая Наварры, Каталонии… В общем, тут речь, конечно, может идти о миллионах, но все равно – по нашим подсчетам, в подвалах Тампля должно было содержаться не менее ста пятидесяти миллионов.
– Надеюсь, вы догадались обыскать не только подвалы замка?
– Мы простучали все стены. Тут ведь речь идет не о кубышке с золотыми цехинами. Казна, даже если она состоит из чистого золота, должна занимать место с эту комнату, наверное. На одном корабле ее не увезти.
Филипп утомленным движением приложил ладонь к глазам и помассировал веки.
– А Кагор? Там ведь у них имеется не меньше четырех своих банков.
– Я выяснял специально и подробно, Ваше Величество. Система несколько сложнее, чем я думал. Некоторое время назад, Жак де Молэ допустил к контролю над ними Ломбардскую лигу, или то, что от нее осталось. И не думаю, что это было проявлением слабости. Зачем-то это было ему нужно. При сем кагорсины не отказались пооткровенничать в разговоре с моими людьми.
– Несмотря на прошлогодние события? – удивился Филипп, ограбивший ломбардских купцов.
– Да, Ваше Величество.
– Странно.
– Возможно, но насколько я понимаю, деловые люди не могут позволить себе злопамятность.
– Пожалуй.
– Так вот, разыскиваемых нами миллионов там нет. Следы присутствия таких денег не удалось бы скрыть, даже если бы все тамошние банкиры сговорились на сей счет.
Филипп ничего не сказал в ответ на эти слова. Он встал, подошел к столу, на котором был накрыт так и не востребованный сегодня обед, налил себе вина из высокогорлого кувшина, отпил несколько задумчивых глотков. Явно без особого удовольствия выломал ногу каплуна, застывшего в шафранном соусе, поднес к своему безупречному носу и безразлично понюхал. Запах кушанья так и не соблазнил его.
– Если мне позволено будет сказать, – начал снова Ногаре, – у нас есть только два пути.
– Что вы имеете в виду?
– Вы ведь, насколько мне известно, не приступали к допросу самых первых лиц Ордена. И великий визитатор, и командор Нормандии и прецептор Пуатту, и сам Великий магистр сидят на цепи в Шиноне.
– Это я велел их пока не допрашивать. Мне хотелось бы начать разговор с ними, уже имея на руках кое-какие сведения и открытия, которые сделали бы этих господ более покладистыми. Они должны понять, что сопротивление бесполезно не потому, что у меня отличные пыточных дел мастера, а ввиду того, что я и без всяких пыток знаю, как добраться до всех тамплиерских тайн.
Канцлер понимающе кивал.
– Да, Ваше Величество, мне тоже казалось, что лобовая атака ничего не даст, пытками такого человека, как де Молэ, не запугаешь, он скорее лишит себя жизни, чем откроет тайну орденских богатств.
– Что значит «лишит себя жизни»? Он сидит на цепи, в руках у него нет ни одного металлического предмета. Стражу невозможно подкупить, так что яда он не дождется.
– Ну-у, – помялся Ногаре, – существует поверье, что в свое время орден тамплиеров вынес с Востока ряд особенных умений, они переняли их у тамошних магов и черных жрецов. В число таких умений входит, в частности, способность останавливать сердце по своему желанию.
Король покосился через плечо на своего бледного помощника.
– Чушь.
– Прошу прощения, Ваше Величество, кажется, не совсем чушь. Но даже не опасение, что Жак де Молэ скомандует своему сердцу – стой! – заставляет относиться к нему пока сдержанно.
Филипп повернулся к говорившему полностью, понимая, что сейчас услышит что-то важное.
– Я хотел бы поговорить о втором пути из двух упомянутых мною. Очень может быть – многие мелкие и странные факты указывают на это – что Великий магистр и ближайшие его помощники и сами не знают тайны своего золота.
– Слишком хитро и заумно, Ногаре. Я вас всегда ценил за трезвый и практический взгляд на вещи, а не за умение рассказывать сказки.
Канцлер поклонился.
– И тем не менее, сопоставив все слухи и фактические приметы, я пришел к выводу, что в ордене тамплиеров помимо внешнего, всем видного тела, главою которого является Жак де Молэ, имелось тело внутреннее, тайный круг посвящения.
– Об этом я слышал. Следователи нашего инквизитора как раз и добиваются от арестованных признания в том, что они были в этот круг приняты, для чего плевали на распятие и отвергали божественную сущность Христа.
– Вот именно, – голос канцлера стал много тверже и увереннее, – они тоже только «слышали» об этом внутреннем круге и, когда палачи-доминиканцы вздергивали их на дыбу, они начинали лопотать свои бессмысленные признания. И даже если среди испытуемых оказывался кто-то из по-настоящему посвященных, он рассказывал общепринятую легенду, признавался в невинных шалостях, чтобы скрыть свою темную тайну.
Король брезгливо отхлебнул вина.
– Что-то я не пойму, Великий магистр Ордена мог быть не посвящен в его истинные тайны?
– Не забывайте, с чем мы имеем дело. Это не здешнее, не французское изобретение – орден рыцарей Храма Соломонова. Это чудовищный выползень из магических восточных дебрей, стран коварства, предательства и сатанинской магии. Может статься, чтобы приспособиться к нашей жизни, он специально выработал привычную нашему глазу форму. Он строит больницы и тому подобное, дает в долг королю и членам его фамилии, подчиняется всем монаршим приказам. А по сути, он, этот Орден, остался противоестественным восточным порождением. И мы ничего не знаем ни о его заповедях, ни о его золоте, ни, главное, о его целях.
Дослушав взволнованную, даже слишком, речь государственного канцлера, король допил вино.
– Я с неудовольствием отмечаю, Ногаре, что это расследование ударило вам в голову. Вы словно заразились какой-то болезнью. Скорей всего вы напускаете туман там, где все более менее ясно. Вместо того чтобы еще раз взнуздать своих шпионов и заставить их постарательнее выполнять свои обязанности, вы твердите о магии и сверхъестественных вещах. Ваши построения не выдерживают никакой критики. Достаточно спросить, почему этот восточный монстр, если он так могуч и изворотлив, позволил себя пленить, причем безропотно?
Физиономия Ногаре пошла пятнами.
– Я согласен, разумеется, с вами, Ваше Величество. Что касается того, чтобы взнуздать моих людей, это будет сделано. Я к тому же удвою их число в ближайшие недели. Я пошлю еще десяток толковых помощников Дюбуа в Кагор. Умоляю вас только об одном.
– О чем это?
– Выслушать некоего человека.
Король досадливо вздохнул.
– Это он забил вам голову этим «внутренним кругом»?
– Он был последней каплей.
– Ну ладно, дьявол вас разрази, ведите сюда своего восточного сказочника.
Через минуту Арман Ги предстал перед королем.
За те две недели, что он провел на воле, внешность его пришла в норму, малая толика подвального мрака задержалась в глазах, это придавало ему некоего, инфернального весу. Королю он не то чтобы понравился, просто убедил, что к его словам имеет смысл прислушаться.
– Кто вы такой?
– Зовут меня Арман Ги, я был комтуром тамплиерской капеллы в Байе в Нормандии.
– Почему же вас не арестовали мои люди?
– Потому что они меня освободили.
– Объяснитесь и больше не говорите загадками. Такая манера вести беседу меня раздражает.
– Прошу прощения, Ваше Величество. В тот момент, когда ваши люди входили в Тампль, я сидел на самом дне мрачнейшей из его тюрем.
– Вы согрешили против Ордена?
– Нет, я согрешил против Жака де Молэ, против его представлений о том, каким должен быть орден рыцарей Храма Соломонова.
Король прищурил глаза, ноздри его слегка вздрогнули.
– Еще раз прошу вас говорить проще. Что именно вменил вам в вину ваш господин Жак де Молэ?
– То, что я практиковал повседневное винопитие не исключая дней постных и даже дней Страстной недели, то, что я соблазнял прихожанок местной обители, не оставляя без внимания ни девиц, ни вдов, ни замужних женщин. То, что я склонял к содомскому сожительству служек и молодых рыцарей своей капеллы.
– Грехи немалые, – усмехнулся Филипп.
– Но тем не менее не они послужили главной причиной того, что я оказался в каменном мешке.
Его Величество искренне удивился.
– Что же вы сделали еще – ели человечину?
– Отнюдь, мой главный грех перед Жаком де Молэ был в том, что я отказался раскаяться. Я сказал ему, что считаю свой образ жизни истинно тамплиерским, основанным на древней, исконной традиции, что их игра в примитивную святость мне отвратительна. Она извращает суть тамплиерства. Под внешней благостностью скрывается пресное тесто духовного тлена.
Король потянулся к кубку, он был пуст. Он поискал глазами кувшин, он был далеко.
– И много вас таких? Таких истинных тамплиеров в Ордене сейчас?
– Мне известен один, – гордо сказал Арман Ги.
– Ну, из одного такого жирной судебной похлебки не сваришь.
– Я понимаю ход вашей мысли, и если понадобится выступить на любом процессе главным свидетелем против Жака де Молэ, я согласен. Но вы правы, это мало что даст. Французская часть тамплиерского ордена хоть и громоздкая и внушительная на вид конструкция, но она уже начисто лишена содержания. Не Тампль и не Жак де Молэ руководят земным существованием Ордена. Импозантность и размеры – это еще не все. Уйдя с Востока, рыцари Храма ушли от своей истинной природы.
Филипп все-таки встал и налил себе вина. Красного, хиосского. Он не жаловал вина своей родины.
– Это все слова. Проще простого сказать, что сердце ордена тамплиеров осталось на Востоке, и его истинный властитель сидит там же. Сказать это – все равно, что ничего не сказать. Это так же мало стоит, как и ссылка на мифические древние традиции.
Арман Ги выслушал речь короля с самым невозмутимым видом.
– Простите, Ваше Величество, можно мне задать вам один вопрос?
– Н-ну.
– После того как вы объявили Орден вне закона на территории вашего королевства, вы получили то, что ожидали? Вы вырвали его сердце, говоря вашим языком?
Филипп Красивый отставил кубок и выжидательно откинулся в кресле.
– Продолжайте.
– Я не знаю, что вы понимаете под обозначением «сердце Ордена», может быть, золото, может быть, эликсир бессмертия, может быть, какую-нибудь магическую систему. Не знаю, но с уверенностью заключаю, что ничего подобного вы не отыскали ни в Тампле, ни в одном другом тамплиерском прибежище. Все они здесь, во Франции, были устроены по одному типу. И если никаких тайн не было у комтура Байе, откуда они могли взяться у любого другого. Могу спорить, что вам достались чистенькие и невинные, как девственницы, капеллы, наполненные богобоязненными монахами. Что же это, разрази меня дьявол, за мировое пугало, если самым страшным зубом является какой-то Арман Ги, человек, может быть, и неприятный, но никак не ужасающий, не отмеченный исконной каиновой печатью.
– Значит, – неторопливо сказал король, – вы предполагаете искать на Востоке?
– Да, Ваше Величество. И в этом деле мы с вами естественные и искренние союзники. Я хочу отправиться на поиски истинного Ордена, попутно я разыщу и то, что нужно вам. Вам остается сказать, что именно.
Филипп Красивый захохотал.
– А вы еще не догадались?
– Нет, – спокойно и совершенно искренне ответил бывший комтур Байе.
– Мне нужны деньги ордена тамплиеров, – резко посерьезнел король.
Арман Ги, казалось, был несколько разочарован, как будто всерьез рассчитывал на другой ответ.
– Я найду их вам, Ваше Величество.
Глава седьмая. Шинон
Я ненавижу лживость и обман, Путь к истине единственно мне гож, И, ясно впереди или туман, Я нахожу, что он равно хорош; Пусть сплошь и рядом праведник бедней Возвышенных неверьем богачей, Я знаю: тех, кто ложью вознесен, Стремительнее тянет под уклон. Пейре КарденальЖак де Молэ не мог понять, что происходит. Не так он представлял себе развитие событий. То, что его схватили и довольно грубым образом препроводили в узилище, то что его заковали в цепи и держали на хлебе и воде, Великого магистра не удивляло и не возмущало. Таким образом сказывалась ненависть короля. О том, как к нему относится Его Величество Филипп Красивый, Жак де Молэ давно не строил никаких иллюзий и не изменил своего мнения даже тогда, когда был приглашен в крестные отцы к последнему королевскому отпрыску.
Итак, Великий магистр сидел на гнилой соломе в угрюмом полумраке и ждал, когда на него обрушится со всеми своими силами огромная и подлая машина королевского следствия. Но ожидаемого не случалось. Никто не спешил с допросом седого старика, его как бы забыли на дне каменной ямы. Только однажды, дней через десять после ареста, к нему явился один из помощников парижского инквизитора и сообщил, в чем его, собственно, обвиняют. В том, что он отрекся от креста и плевал на святое распятие. Разумеется, Жак де Молэ отказался признать, что когда-либо проделывал подобное. Следователь не стал упорствовать, всем видом он показал, что примерно на такой ответ и рассчитывал, зевнул и удалился. Это было хуже, чем ничего.
Неделя проходила за неделей, никто больше не тревожил безрадостное уединение главы ордена тамплиеров.
Легко себе представить, в какой ад постепенно превращалась внутренняя жизнь старика. Он готовился к непримиримым словесным дуэлям, к потоку обвинений, которые будет убедительно и насмешливо опровергать, высмеивая в присутствии представителей папского капитула королевских и доминиканских следователей. Он был готов, что обвинители пустятся на всяческие уловки, подвохи и подтасовки, он знал, что суд будет изначально необъективен и предубежден против него, знал, как перебить его предубеждение. Пусть сражение будет трудным, тем полновеснее будет окончательная победа. В тылу у него стояла самая неодолимая сила – истина. На одеянии Ордена нет пятен, и потому даже подкупленный судья не посмеет сказать – вижу!
Поэтому Великий магистр мечтал только об одном, чтобы процесс начался как можно быстрее. Но королевские следователи медлили и Жак де Молэ сходил с ума, не умея найти объяснения их медлительности. Сначала он думал, что они откладывают допросы, собираясь сначала разобраться в делах провинциальных комтурств, а уж потом обрушиться на высших руководителей Ордена. В этом была какая-то логика. И если все развивается по такой схеме, ему вроде бы незачем нервничать. Может быть, до него даже не дойдет очередь. Выяснив, в каком состоянии находятся орденские дела в провинции, люди Филиппа откажутся от своих безумных обвинений ввиду их полной недоказуемости.
Да, так хотелось бы думать. Но что-то мешало де Молэ остановиться на этой обнадеживающей мысли. И постепенно он стал склоняться к другому объяснению медлительности королевских следователей, значительно менее приятному. Скорей всего никакого следствия вообще не ведется или ведется оно самым вялым образом для отвода глаз. Филиппа не интересует истинное положение дел, ему все равно, каков он по сути, орден рыцарей Храма Соломонова. Преступен он или прекрасен. Он считает нужным уничтожить его, и все. И избиение окажется тем сильнее, чем выше и прекраснее окажется орден тамплиеров.
Но если так – Жак де Молэ даже замычал от страшной душевной боли – тогда он, Великий магистр, не хитроумный и мудрейший правитель, великолепно придумавший, как спасти от навета и нападок одну из святынь христианства, а безумный старик, сам полезший в пасть хищнику и потащивший за собою всех доверившихся ему. А король Филипп – это не просто капризный, двоедушный деспот, задумавший поправить свои финансовые дела путем обыкновенного грабежа, как это делают бандиты с большой дороги, а посланец самого дьявола, пришедший в мир для совершения дел ужаснейших. И начинает кружиться душа, когда представляешь себе бездны, что извергли его.
Изнемогая под бременем этих тягчайших размышлений, Жак де Молэ обреченно гремел своими кандалами и какая-то погребальная нота с каждым днем все сильнее звучала в их звоне.
Глава восьмая. Арль
Как тот, кого все множество друзей Бросают сразу же в годину бед, И для него мрачнеет белый свет, Так я оставлен дамою моей. И гибну от любви я, как в огне, Коль верный друг мой изменяет мне. Но во сто крат еще бесславней тот, Кто в бездну побежденного толкнет. Понс де Капдюэйль.Арман Ги не все рассказал своему новому союзнику. Скрыл он, правда, только одно. Что несколько лет назад, будучи еще только рядовым рыцарем, он обнаружил в своей келье тамплиерской капеллы под Аврашем, некое письмо. Скрыл он и то, что именно с него, с этого странного послания, подписанного именем Ронселен де Фо, и началось его внутреннее перерождение, в результате которого из обычного, среднесообразительного, провинциального дворянина на свет появился законченный негодяй и убежденный апологет истинного, исконного тамплиерства.
В послании этом не только излагались в общих чертах те идеи, которые комтур Байе попытался, встав на должность, воплотить в жизнь, но и содержалось приглашение посетить владение Пелисье, находившееся неподалеку от Арля. То есть на другом конце королевства. Указывалось, правда, что посещение это желательно совершить уже после того, как новообращенный почувствует уверенность в том, что созрел для такого визита.
После того, что с ним произошло, после тамплиерского суда, после заключения в подземелье Тампля и беседы с Его Величеством Филиппом Красивым, Арман Ги решил, что наконец созрел и его появление в Пелисье не будет сочтено этим таинственным автором, Ронселеном де Фо, слишком преждевременным.
Выбравшись из подземелья с помощью верного Лако, комтур отправился в Байе. Там, в специальном тайнике хранилось вышеуказанное послание. Арман Ги не решался держать его при себе или в своих покоях, справедливо опасаясь, что оно может кому-нибудь попасться на глаза.
Прибыв на место, он обнаружил, что дровяной сарай, где был устроен тайник, сгорел, пожар был ужасный, так что высокие церковные чины, прибывшие в капеллу для инспекции, вынуждены были спасаться бегством.
Ну что ж, решил Арман Ги, послание Ронселена сделало свое дело и нечего жалеть об его исчезновении. Не исключено, что оно само воспламенилось и «обставило» свое исчезновение страшным пожаром. Это лишний раз доказывает, что происхождения оно мистического и таинственного.
Едва переночевав, комтур отправился в обратный путь. Как он докажет в Пелисье, что он именно тот Арман Ги, которого они ждут? Но ведь докажет же как-нибудь!
Самым главным приключением на этом пути была встреча с королем. Мысль о том, что ему необходимо заручиться поддержкой Филиппа, зрела в нем давно и созрела в тот момент, когда он проезжал через Париж. Чтобы попасть к королю, нужно было сначала попасть к Ногаре. Не будем здесь излагать все обстоятельства этого дела. Бывшему комтуру Байе удалось встретиться с канцлером и произвести на него нужное впечатление.
Арман Ги был готов к путешествию на Восток и до встречи с Его Величеством и до посещения Пелисье. Направляясь к Ронселену де Фо, он рассчитывал получить от него какие-нибудь конкретные советы и указания относительно поведения в будущем. Ибо его собственные представления и о Востоке, и о том, что ему придется там делать, были слишком туманны.
Через Рону комтур и его слуга переправились в Авиньоне. До Арля оставалось не более десяти лье. Арман Ги начал осторожно наводить справки о владении под названием Пелисье. И, к своему немалому удивлению, обнаружил, что никто в Авиньоне и его окрестностях ничего о таком месте не слыхивал. Ни торговцы, ни дворяне, ни церковники, ни крестьяне. Удивление проистекало большей частью из уверенности комтура в том, что имя Пелисье принадлежит какому-нибудь громадному и грозному замку, наводящему трепет на всю округу, и слава о нем распространилась по всему Лангедоку и Провансу.
На деле все было не так.
Несколько смущенный этим обстоятельством рыцарь выехал из Авиньона на юг, рассчитывая в окрестностях Арля найти сведения об интересующем его поместье. По дороге он продолжал осторожные расспросы, но они давали те же результаты, что, предпринятые в папской столице.
Пастухи, трактирщики, крестьяне только пожимали плечами, когда их спрашивали, как попасть в Пелисье.
И вот уже окраины Арля и все то же – не знаем, господин, не слыхали.
В этом краю виноградарей народ особенно нетороплив и беззаботен.
Повозки на высоченных деревянных колесах прокатывали мимо. Пекло солнце. Раздражение в сердце комтура начало сменяться отчаянием. Он вдруг осознал, что без посещения Пелисье, его путешествие на Восток лишается всякого смысла, это будут поиски макового зернышка в куче песка.
И вот, когда уже он был готов впасть в отчаяние беспросветное, какой-то мужик, нарезавший камыш, стоя в озере по колено, переспросил:
– Пелисье?
– Да, да, – затеплилась надежда у Армана Ги.
– Пелисье, говоришь?
– Пелисье, Пелисье.
Крестьянин медленно почесал в затылке кривым своим ножом и прищурил глаз.
– Не-ет, господин, не слышал.
Рыцарь занес плеть, чтобы стегнуть в раздражении коня, но тут камышерез добавил:
– Но есть тут один домишко.
– Что-что?!
– Если вы изволите, господин, поскакать мимо тех вязов, а потом мимо старых виноградников, то еще до полудня доберетесь до большого каменного дома. При нем еще двор такой огромный, каких теперь не строят.
– Это будет Пелисье?
– Только учтите, ваша милость, очень пыльная там дорога.
– Ты не ответил мне, негодяй, это поместье называется Пелисье?
– А я почем знаю?
Трудно себе представить сведения более конкретные и указания более точные. Последовать им Арман Ги решил от полного отсутствия выбора.
Поскакали они сначала с Лако мимо указанных вязов, а далее мимо, действительно, очень старых виноградников. Дорога оказалась еще пыльнее, чем обещал истребитель камыша. И вскоре предстал пред их глазами большой дом, грубо сложенный из валунов, с почерневшей от времени тесовой крышей и узкими неприветливыми окнами. При доме этом имелся огромный двор, огороженный каменным же забором. Деревянные ворота были распахнуты, но что здесь слишком уж рады гостям, не чувствовалось.
Рыцарь и его слуга осторожно въехали внутрь. Когда-то двор был хорошо вымощен, но теперь это было почти незаметно. Кучи песка, лужи мочи, мулы на привязи и раскрепощенные куры повсюду. Копна прошлогоднего сена. Перевернутая телега, масличный жом со сломанным воротом.
Привкус очень домашней, очень провинциальной жизни. Вон две женщины, подобрав подолы, месят глину в мелкой яме у стены, сейчас пойдут заделывать какую-то дыру. Вон парень с пером в волосах, он только что догнал курицу, но еще не решил, свернуть ли ей голову и отправить в суп или оставить ей жизнь и свободу.
– Эй, – крикнул Арман Ги сомневающемуся, – поди сюда!
Курица выпорхнула из лап парня, он приблизился, ковыряясь одновременно и в носу, и во рту обеими руками, отчего не выглядел симпатягой.
– Как зовут это место?
Парень огляделся, словно не понимая, чего от него хотят.
– Он не знает французского, – тихо предположил слуга.
Арман Ги повторил вопрос по-провансальски. Парень вынул перо из своих кудрей и объявил название этого места.
– Палиса.
– Пелисье, – перевел сам себе рыцарь и обежал взглядом открывавшуюся перед ним картину, и во взгляде этом не было восторга.
Летающий в воздухе пух, лужи, мухи. Хлопнула дверь – из кухни вылетел вопль, клуб пара и поваренок, потирающий затылок.
– Кто здесь хозяин? – спросил рыцарь и в голосе его отчетливо звучало сомнение, что хозяином этого места может быть человек, посвященный в самые страшные мистические тайны ордена тамплиеров.
Юный житель этих мест не успел собраться с силами для ответа, как отворилась еще одна дверь и во двор выбежала молодая женщина, одетая как горничная или камеристка.
– Скорее господин, скорее! – крикнула она по-французски!
Арман Ги оглянулся на своего слугу, мол, что это? Тот пожал плечами.
– Скорее же, господи, скорее. Иначе будет поздно!
Комтур не стал более размышлять, спрыгнул с коня и последовал за женщиной, делавшей ему энергичные знаки одной рукой, другой она прижимала к губам платок, полный отчаяния.
По скрипучей деревянной лестнице рыцарь поднялся на второй этаж и оказался в комнате с голыми каменными стенами и одним узким окном. На стенах не было даже распятия. Посреди комнаты стояла широкая деревянная кровать с высокой резной спинкой, на ней в ворохе пропотевшего серого белья дотлевал горбоносый старик. Рядом с кроватью имелась лавка, заляпанная воском сгоревших свечей и заставленная склянками из-под лекарств. Картина умирания.
Увидев вошедшего, старик попытался поднять руку, у него это слишком уж не получилось.
– Подойдите, подойдите, – почти яростно зашептала камеристка, – подойдите и возьмите его за руку.
Сделав над собою некоторое усилие, Арман Ги подошел и сел на край кровати. Рука умирающего подползла к его руке по влажной простыне. Состоялась странная встреча. Руки, как два зверя, обнюхали друг друга.
– Он приветствует вас, – перевела камеристка.
– Я, – рыцарь прокашлялся, – я тоже приветствую господина.
– Он рад, что вы все-таки успели.
– Вас довольно трудно найти.
– Он говорит, что теперь может умереть спокойно.
– Я должен представиться, меня зовут Арман Ги. Бывший комтур капеллы в Байе.
– Теперь вы должны слушать особенно внимательно, – голос женщины стал вдруг выше и истеричнее.
– Мне, к сожалению, не удалось сохранить то письмо…
– То, что вы услышите, вы должны запомнить как следует и не отступать ни на шаг.
– Утерянное письмо было подписано именем Ронселена де Фо, могу я узнать с автором ли сего восхитительного и невероятного послания имею я честь вести…
– Слушайте!!!
Лежащий вдруг напрягся, рука его сделалась сухой и жесткой, голова оторвалась от подушки и медленно повернулась в сторону Армана Ги. Медленно, как створки протухшей раковины, раздвинулись губы. Тихий, по-змеиному присвистывающий голос произнес:
– Кипр, Рас Альхаг, Сках.
После этого умирающий рухнул на постель и выражение лица его стало бессмысленным.
– Кипр, Рас Альхаг, Сках, – повторил рыцарь.
Лежащему уже, судя по всему, было все равно, что он говорит.
– Теперь вам лучше уйти.
– Но… – Арман Ги огляделся в растерянности.
– Он все равно вас не видит и не слышит.
– Но скажите, по крайней мере, с кем я разговаривал?
– Это не должно иметь для вас никакого значения.
– То есть?! Я получил письмо, подписанное именем Ронселен де Фо. Это письмо… Это было удивительное письмо. Я хочу знать, я говорил только что с его автором.
На лице женщины появилось досадливое выражение, она словно никак не могла понять, чего от нее, собственно, хотят.
– Ронселен де Фо умер пятнадцать лет назад, – сказала она наконец, как говорят вещь обычную, давным-давно всем известную.
Глава девятая. Кипр
Гостил я в раю на днях И до сих пор восхищен Приемом того, чей трон Встал на горах и морях. Кто свет отделил от теми; И он мне сказал: «Монах, Ну как там Монтаудон, Где больше душ, чем в Эдеме?» «Господь, звучащий в строках Песенный суетный тон — Грех, а гласит Ваш закон, Что мертв погрязший в грехах!» Монах Монтаудонский– В чем дело, Лако? – зевнув, потянулся Арман Ги.
Слуга молча пожал плечами. С палубы доносился беспорядочный топот ног.
– Похоже на панику, – встревоженно сказал бывший комтур, нащупывая перевязь с мечом.
Выбравшись из-под навеса, Арман Ги задал свой давешний вопрос «в чем дело?» нескольким носившимся по палубе корабля людям. Но они, во-первых, были итальянцами и не знали французской речи, во-вторых, им было некогда. Так что бывший комтур ничего не узнал. Впрочем, он скоро понял, что ни в каких вопросах нет нужды. Слева по борту отчетливо рисовалась на поверхности утренней ряби громадная галера.
Генуэзец, капитан корабля, на котором Арман Ги предпринял рискованное восточное путешествие, метался между рядами своих гребцов и что-то кричал им, плюясь и размахивая плетью. Гребцы вроде бы старались, но было видно, что от преследователя генуэзскому торгашу ни за что не уйти. Арман Ги вспомнил свои сомнения двухнедельной давности, стоит ли ему связывать свои планы на будущее с Оливио Кардуччи и подумал, что сомнения были в высшей степени не безосновательными.
– Это сарацины, – сказал полуутвердительно, полувопросительно комтур.
Лако, внимательно всматривавшийся (и внюхивавшийся) в подползающий корабль, ничего не ответил, он еще не составил мнения на этот счет.
– Ну кто еще, кроме сарацинских собак, может так нагло гнаться за христианским кораблем? – раздраженно сказал комтур. Большая часть этого раздражения относилась к тому, что две недели назад он поддался на уговоры этого жадины-генуэзца. Ведь можно было подождать. Ведь уже составлялся в марсельском порту большой караван судов, к которому эта галера не посмела бы приблизиться. Что за страшная сила – нетерпение, какие только глупости ни заставляет нас творить она.
– Черт побери! – громко сказал Арман Ги, – бог весть, что нас теперь ждет, не будем ли мы уже завтра стоять на невольничьем рынке.
До выяснения этого вопроса оставалось ждать совсем немного.
Дрожащие от ужаса при мысли о столкновении с бешеными азиатами в абордажной драке матросы строились на верхней палубе, прилаживая латы, сжимая в руках короткие романские мечи и арбалеты.
Махина атакующей галеры наплывала все быстрее. Большая слепящая искра горела на ее начищенном до блеска таране, над бортом торчало десятка полтора абордажных крючьев.
– Никак не могу понять, кто это такие? – раздраженно проговорил бывший комтур. В мачту рядом с его головой с тугим звуком вонзилась стрела. Другая просвистела над головой.
Захрустели сокрушаемые тяжелым туловищем атакующей галеры весла генуэзского корабля. Лако негромко объявил:
– Это не сарацины.
Вскоре Арман Ги и его слуга были ограблены, избиты и связаны этими несарацинами. Никакие попытки объясниться с кем-нибудь из нападавших никакого успеха не имели. Когда бывший комтур понял, что надоедать этим господам небезопасно, он решил подождать дальнейшего развития событий. Вдруг картина прояснится. Лако держался того же мнения.
Победители взяли плененную галеру на буксир и уже утром следующего дня неудачливым путешественникам открылась картина какого-то побережья.
Корабли еще не пристали к берегу, а Оливио Кардуччи – его скрутили одною веревкою с Арманом Ги – сказал, напряженно всматриваясь в очертания портовых сооружений:
– Это Кипр.
– Кипр?! – изумился, и вполне искренне, комтур.
В голосе его помимо изумления сверкнула и радость, ведь именно этот остров был целью его путешествия.
Первой целью. Судьба, кажется, начинала возвращать только что отобранные милости. Арман Ги неосторожно приподнялся, стремясь собственными глазами увидеть легендарный остров. Зря он это сделал. Стоявший на мостках, посреди толпы лежащих на полу пленников, полуголый надсмотрщик без всякого предупреждения шевельнул длинным бичом. По плечу тамплиера потянулась багровая полоса и он потерял сознание.
Лако ринулся было к своему господину, но помочь ничем не смог, ибо связан был спиной к спине с пузатым византийцем, тихо постанывавшим от боли и безысходности.
Надсмотрщик обернулся на звук человеческого шевеления, но Лако успел притвориться потерявшим сознание.
Все нападавшие носили на лице черные повязки и не сняли их и сейчас, после полной своей победы. Неужели они боялись, что их узнают? Что там может скрываться под этой черной тканью?
Во всяком случае, одно имело смысл усвоить – шутить эти господа не намерены.
По некоторым мелким деталям их поведения можно было заключить, что принадлежат они, вероятнее всего, к христианскому племени, можно было счесть удивительным, что они проявляли столь чрезмерную жестокость к своим единоверцам.
Еще более удивительным было то, что, являясь шайкой, несомненно, самого разбойничьего толка, они так свободно, не скрываясь, вплывают в гавань острова, где, судя по сведениям, полученным в Марселе, верховной властью над большей частью земель и портов обладает маркиз де Берни, капитуляр ордена тамплиеров. Трудно было представить, что он допустил существование под своим крылом пиратского лежбища.
На все эти недоумения ответа не было.
После того как суда пришвартовались, пленников немедленно выгнали на берег, попытались построить в колонну, но получилась какая-то отара. Старший что-то прокричал на смутно знакомом Арману Ги языке и толпу несчастных погнали по белой от пыли дороге в сторону от городских укреплений.
– Я теряюсь в догадках, кто это такие? – бормотал Оливио Кардуччи, – когда знаешь, с кем имеешь дело, то можно предварительно прикинуть сумму, в которую обойдется выкуп. Хуже всего, если это какие-нибудь еретики, которым их ересиархи велят презирать деньги.
Арман Ги ничего ему не ответил из опасений, как бы его снова за это не ударили. Плечо еще болело. Он обернулся и поискал глазами Лако. Тот, слава богу, был неподалеку, хотя ему и приходилось волочь на себе (почти буквально) тушу византийского менялы.
К счастью, путешествие оказалось не слишком продолжительным. В сухих зарослях ежевики, в полулье от моря, скрывались развалины большого загона для скота. Впрочем, даже и не развалины. Стены, сложенные из известняка, были достаточно высокими, все дыры в них тщательно заделаны, так что при минимальной охране здесь можно было оставить до сотни пленников, не опасаясь, что у них найдутся шансы для успешного побега.
Очевидно, это был постоянный лагерь для человеческой добычи, судя по количеству кострищ, кучам костей и человеческих испражнений. Кострища? Арман Ги поморщился и вздохнул. Зимние ночи на Кипре, конечно, отличаются от нормандских, но коротать их под открытым небом все же не хотелось.
Тем не менее кое-как устроились. Вечером того же дня, люди в черных повязках начали сортировать свою добычу. Уводили по очереди парами куда-то, где, видимо, и решалась судьба пленников.
Оливио Кардуччи с нескрываемым нетерпением ждал своей очереди. Он был уверен – достаточно ему перемолвиться одним словом с кем-нибудь из высокопоставленных разбойников – и судьба его переменится. Арман Ги смотрел на вещи более мрачно. Радость от того, что он на Кипре, уже прошла. У него не было денежных запасов, как у генуэзца. Не обращаться же к королю Франции, чтобы тот его выкупил! Филипп, даже если бы до него дошла такая просьба, решил бы забыть о неудачливом комтуре. Если он влип в такую историю на первых же шагах своей миссии, то ценность его невелика. Его Величество предпочитает не платить даже за ценные вещи. Он предпочитает брать их даром.
Наконец и к ним с Кардуччи подошли двое молчаливых надсмотрщиков. Что-то в их ухватках и жестах показалось Арману Ги новым, отличающимся от уже сложившегося образа. Им словно было труднее молчать, чем прежде. «Да они навеселе! – вдруг понял он. – Решили господа ублажить себя после трудов праведных. Не-ет, на секту угрюмых еретиков эта банда, пожалуй, не похожа. Остается решить, лучше это для меня или хуже».
Идти пришлось недалеко. Оказалось, что рядом с загоном стоит дом загонщика, там и располагалась «следственная комиссия».
Внутри горел огонь, и, судя по запахам, доносившимся до чутких носов проголодавшихся пленников, жарилось на нем не что иное, как мясо, несмотря на постный день. Арман Ги знал, что еретики (не все, правда) часто превосходят благонамеренных христиан в истовости и постничестве. Жарящаяся на костре туша также свидетельствовала в пользу того, что беседовать придется с более-менее нормальными людьми, а не с тупоумными религиозными фанатиками.
Оливио Кардуччи громко зачмокал губами, не в силах подавить бурное слюноотделение. Капитан умел покушать и знал толк в пище.
– Тише, капитан, тише, – усмехнулся Арман Ги, – по-моему, вы спешите.
– За этого каплуна и кувшин вина я готов сейчас отдать любой из оставшихся у меня кораблей.
– Опять вам повторю – тише! А то одного корабля может и не хватить.
Пленников втолкнули внутрь и заставили встать на колени. Картина им открылась обыкновенная. Костер, вертел, жир, капающий на угли. Несколько человек, деловито возящихся с тушей. Отблески на грубых каменных стенах. Главный, видимо, вон тот, на толстом бревне, судя по громадной фигуре, сапогам с отворотами, усыпанными стершимся серебром и поясу, также щедро украшенному этим благородным металлом. И, самое главное, он был без этой дурацкой черной маски. Видимо, черное – это цвет низших служак, господа предпочитают другие цвета.
– Приветствую вас! – заговорил кто-то негромким голосом и это был не гигант в роскошном поясе. Маленький худой человечек с постным лицом в сером кафтане школярского вида. Так мог одеться и мелкий чиновник провинциальной нормандской канцелярии.
Он появился из темноты совершенно незаметно.
Пленники вразнобой и на разных языках поприветствовали хозяев костра.
– Меня зовут Андре Пикто.
– Оливио Кардуччи, – торопливо сказал капитан.
Он спешил рассказать о себе все, чтобы поскорее стала очевидна его ценность и стало невозможным убить его.
– Я купец, генуэзский купец. Я богат. То есть достаточно богат, чтобы заплатить за то… чтобы вы, господа, отпустили меня. За плату.
И чиновник, и посеребренный гигант не выразили ни удивления, ни чрезмерной радости. Наверное, им уже не раз приходилось сталкиваться со столь бурным выражением готовности сотрудничать в деле организаций выкупа.
– Тот корабль, который мы захватили вчера, твой?
– Да, мой. Но у меня есть еще. Там в Генуе.
– Но если ты так богат, то почему сам плаваешь в качестве капитана?
– Заболел, – дыхание Кардуччи сбивалось, – заболел капитан этого корабля Фонола, а в конце сезона найти надежного человека трудно. А тут выгодный рейс. Я сам решил, я…
Чиновник еще некоторое время с пристальным вниманием рассматривал итальянца, словно определяя на глазок, насколько ему можно верить. Наконец сказал, ни к кому не обращаясь:
– Уведите.
– Уведите! – громко повторил гигант. Сразу же из трепещущей темноты материализовалось двое вооруженных людей. Они взяли капитана за локти. Третий неуловимым движением разрубил путы, связывающие платежеспособного генуэзца с французом.
Кардуччи увели. Явно в сторону, противоположную той, где находился загон с остальными пленниками.
– А теперь ты, – сказал худощавый.
Арман Ги поклонился, предлагая тем самым говорившему уточнить значение сказанных слов.
– Как тебя зовут?
– Кретьен Ардан.
– Ты дворянин?
– Да.
– По одежде не скажешь.
– Я небогатый дворянин.
– И не слишком гордый, ибо даже небогатый дворянин лезет из кожи вон, чтобы выглядеть богатым.
Раздражение, прозвучавшее в реплике, явно имело своей причиной признание Кретьеном Арданом, что он беден. Арман Ги отдавал себе отчет в том, что такое поведение может не пойти ему на пользу, но возможности вести себя по другому у него не было.
– Я понимаю, что не представляю для вас большой ценности, – начал было он.
– И какой толк, что ты это понимаешь! – грубо прервал его худощавый, но закончить это рассуждение он не успел. К костру кто-то приблизился из темноты. Видимо, кто-то по-настоящему важный, судя по поведению присутствующих – все вскочили. Как следует рассмотреть явившегося Арману Ги не удалось, он не покинул мрака, только смутная фигура рисовалась в углу. Но зато голос этой смутной фигуры показался бывшему комтуру чрезвычайно знакомым. Он мог бы поклясться, что где-то его слышал.
Закончить свои размышления на эту тему ему не дали. Худощавый велел увести нищего пленника. Получив чувствительный толчок в спину, Арман Ги свалился на колени, был поднят с них мощными руками и направлен в сторону выхода.
«Опять в загон», – догадался он.
И оказался прав.
Следующие несколько дней были проведены в жилище для скота. Ночи стояли прохладные, но, слава богу, сухие. Стражники разрешали жечь костры. Но делали это не из заботы о здоровье охраняемых или их комфорте, а для того, чтобы было легче за ними следить.
Арман Ги постоянно мерз и неуклонно скатывался в состояние беспробудной прострации. Хуже всего – неопределенность. Легче переносить тяготы, зная их предел.
Единственной удачей к исходу третьего дня стало то, что его перевязали в одну пару с Лако. Умер толстый византиец. Смерть эта удивила многих. Все были убеждены, что он освободится легче и раньше всех, ибо он был богат, много богаче самого Оливио Кардуччи. Но, на свою беду, жирный грек оказался фаталистом. Он решил, что если ему суждено спастись, он спасется и так, а если ему суждено погибнуть, какой смысл помимо жизни расставаться еще и с цехинами?
Лако, не имевший до этого возможности даже словом перемолвиться с хозяином, ибо византийская туша наотрез отказывалась перемещаться по загону, оказавшись с ним в одной связке, тут же заявил, что им надо поговорить.
– О чем? – без всякого интереса в голосе спросил бывший комтур.
Лако огляделся, не присматривается ли к ним кто-нибудь:
– Я внимательно наблюдал за всем, что здесь происходит, господин.
Арман Ги зевнул.
– И что же ты высмотрел?
– Я с самого начала догадался, что это не просто разбойники.
Бывший комтур кряхтя повернулся так, чтобы лучше видеть слугу.
– Ну, и кто это?
– Мне кажется, эти люди имеют какое-то отношение к маркизу де Верни.
Арман Ги сердито сплюнул.
– И долго ты размышлял, чтобы додуматься до этой мысли?
– Много разных примет, – продолжал шептать Лако, – однажды ночью я видел сквозь решетку, что закрывает вон тот пролом, человека в белом плаще… Кажется, и крест я тоже видел.
– Чушь, – опять сплюнул Арман Ги и хотел было обругать как следует своего «наблюдательного» слугу, но неожиданно вспомнил, кому принадлежал голос человека, которого он смутно видел во время своего допроса – Этьену де Бланшару, одному из свитских рыцарей прецептора Аквитании. Безусловно – это был он! И, безусловно, он был тамплиером. И, что характерно, разбойники выказывали ему несомненное почтение. Стало быть, старинная байка о том, что орден в свое время держал под неусыпным своим контролем всю грабительскую деятельность в Святой земле, близка к истине. Святой орден не только не брезгует этим источником дохода, но напротив, источник этот всячески обхаживает и лелеет.
Лицо бывшего комтура просветлело.
– Я думаю, дела наши не так уж плохи, Лако.
– Вы что-то придумали, хозяин?
– Пожалуй, да. Вставай, подойдем вон к тому негодяю в черном платке.
Неловко, перешагивая через товарищей по несчастью, господин и его слуга приблизились к стене. Охранник, заметив их перемещение, поправил черную повязку и удобнее перехватил ложе арбалета.
– Эй, любезнейший.
Заскрипела натягиваемая тетива.
– Мне нужно поговорить с твоим начальником. Или хотя бы передай ему, пусть он скажет господину Этьену де Бланшару, что его хочет видеть Арман де Ги. Передай эти слова, я вознагражу тебя.
Бывший комтур обернулся к Лако.
– Как ты думаешь, он понял меня?
– Скоро узнаем.
До глубокой ночи степень понятливости охранника оставалась неизвестной. Лако уговорил господина не повторять опыта, другой охранник мог оказаться менее терпеливым и вместо свидания с другом прецептора Аквитании можно было схлопотать арбалетную стрелу в брюхо.
Наконец свершилось.
От залитой лунным светом стены отделились две угрюмые фигуры и, бесшумно подойдя к лежащему на куче сухих листьев Арману Ги, стали отвязывать его от Лако.
– Нет-нет, – шумно зашептал господин, – это мой слуга.
Вывели обоих. Было светло от лунного света и очень скоро Арман Ги понял, что путь их лежит не в сторону дома, где давеча горел костер, а совсем в другом направлении. Это не могло не обрадовать пленников. Конечно же, освободили их по распоряжению Этьена де Бланшара и ведут к нему домой. Он не может жить поблизости от скотского загона.
Бывший комтур был так окрылен, что не мог не поделиться своими переживаниями и что-то шепнул на ухо Лако. Тот не ответил, то ли толком не расслышал, то ли относился к происходящему иначе, чем господин, а возражать считал неприличным.
Помещение, в котором Арману Ги предстояла вторая встреча с его пленителями, очень сильно отличалось от того, где произошла первая. Добираться до жилища господина де Бланшара пришлось часа полтора. Этим можно было отчасти объяснить, почему с задержкой последовала реакция на переговоры бывшего комтура с охранником. Сопровождаемые молчаливыми стражами, господин и слуга пересекли небольшой молчаливый и пустынный городок. Поселение это не выглядело заброшенным, но очень трудно было представить облик его обитателей.
Лаяли собаки на окраине.
Перекликались портовые стражники.
Наконец, показалась цель путешествия, круглое здание башенного типа с мощными, окованными железом, дверьми. Несколько сводчатых окон в его верхней части призрачно светилось.
Дальше все развивалось так, как и предполагал бывший комтур.
Условный стук в дверь. Скрип железных петель. Плохо различимые в полумраке ступени витой лестницы и вот наконец она, убранная белыми полотнищами в красных крестах, зала. Но не убранство поразило бывшего комтура, а хозяин. Перед ним стоял сам командор Кипра, маркиз де Берни. Высокий, статный мужчина с длинной каштановой бородой и широко посаженными глазами.
Арман Ги не рассчитывал, что его взлет от загаженных развалин скотного двора до вершин местной власти будет столь стремительным. Он растерялся. Этому способствовал и сам маркиз, представший в полном церемониальном облачении. Могло показаться, что он прямо сейчас отправляется на турнир и лишь ждет, когда ему подадут коня.
Рядом с ним стояли виконт де Бланшар и толстяк в простом монашеском облачении.
– Итак, шевалье, вас зовут Арман Ги? – заговорил маркиз, положив руку на рукоять меча. Это была не угроза, просто так командору Кипра было удобнее.
– Да.
– Мы довольно давно потеряли связь с метрополией, но насколько нам известно, вы являетесь комтуром в Нормандии, не так ли?
– Не совсем так, маркиз.
– Что именно не так?
– Я был комтуром капеллы в Байе, но известные события повлияли на мое благополучие.
– Вы имеете в виду действия, предпринятые королем Франции? – вмешался в разговор де Бланшар.
– Боюсь, что причина моей отставки в другом.
– В чем же?
– Я не нашел общего языка с Великим магистром Ордена по некоторым, существенным, на мой взгляд, вопросам.
Арману Ги, разумеется, было известно о разногласиях «восточного рыцарства» с Парижским капитулом и он считал, что выставляет себя в выгодном свете, объявившись жертвой Жака де Молэ. По лицам присутствующих господ нельзя было прочесть, оказался ли бывший комтур прав в своих расчетах.
– Вас изгнали из ордена? – спросил толстяк-монах неожиданно писклявым голосом.
Бывший комтур позволил себе усмехнуться.
– Если бы. Меня засадили в Тампль. Насколько я понимаю, с целью уморить там.
– Надо ли понимать, что вас освободил король? – опять заговорил де Бланшар.
Арман Ги задумчиво пожал плечами.
– В известном смысле так оно и есть. Правда, я убежден, что правильнее мне было бы считать своим освободителем моего слугу.
Бывший комтур полуобернулся, как бы указывая на Лако, но вовремя вспомнил, что того нет за спиной, таким, как его ноздреватый спаситель, вход в храмовые святилища запрещен.
– Как же это ему удалось, вашему слуге? – удивился маркиз де Берни. Он имел право на удивление. В свое время он провел несколько месяцев в тюрьме Тампля и не вынес мнения о ней как о месте, из которого можно выйти без согласия тюремщика.
– Во время вступления королевских следователей на территорию замка была большая суматоха… но я вижу, господа, первоначальное предубеждение против моей персоны не рассеивается. Чем я кажусь вам подозрительным?
– Пока всем, – сказал монах.
– Но я… – растерянно развел руками пленник.
Де Бланшар поморщился.
– Не надо. Нужды в эмоциональных доказательствах нет, ведь мы изъясняем факты.
– Извольте, какие кажутся вам сомнительными?
– Вы оказались на свободе не потому, что были противником Ордена и пострадали от его предстоятелей, а по чистой случайности.
– Пожалуй да, виконт.
– И вы не присоединились к сонму гонителей, хотя имели к тому основания?
– Не присоединился, ваше преподобие.
– Почему?
– На этот вопрос трудно ответить, маркиз. Да, я не любил Жака де Молэ и установленный им в ордене режим тоже. Верно и то, что пострадал от него. Но все же я не мог поднять оружие против Ордена. Я бы не смог объяснить даже себе, во имя чего именно я воюю. Каждый мой удар приходился бы не в Жака де Мола, а в весь Орден тамплиеров. Вам понятна моя мысль, маркиз?
– Несколько путанно и совершенно неубедительно. Сказали бы лучше, что вам как дворянину противны судейские дрязги.
– Да, вы правы, мне как дворянину противны судейские дрязги.
– Ну хорошо, – маркиз де Берни подошел к светильнику в форме блюда на подставке высотой в половину человеческого роста и погрел руки над пламенем.
В церемониальной зале было довольно прохладно. Что-то от склепа было в здешней атмосфере.
– Ну, хорошо, господин комтур. Скажите тогда мне, что вас заставило оставить Париж в тот момент, когда там происходят такие сложные события? Когда есть возможность урвать свой кусок с разворовываемого стола. Что заставило вас направиться в наши отдаленные и не вполне благополучные края?
Арман Ги пожевал губами.
– Боюсь, маркиз, что мое объяснение опять покажется вам неубедительным.
– Отчего же?
– Оно, как и предыдущее, будет неэлементарным. В нем, может быть, проскользнут кое-какие эмоции, вами отвергаемые.
– Оставьте ироничный парижский тон, – фыркнул де Берни, – вы на Кипре, здесь шутят по-другому.
Арман Ги кивнул.
– Чтобы моя мысль выглядела яснее, надобно для начала осветить причину моих разногласий с Жаком де Молэ. Разногласия, из-за которых я и попал в тюрьму Тампля.
Маркиз оторвался от светильника и повернулся к пленнику.
– Мы внимательно слушаем.
Бывший комтур глубоко вздохнул, как это делает ныряльщик перед погружением в пучину.
– Дело в том, что вступил я в орден не так давно. Проделал замечательный путь восхождения от низов к верхам. И в этом мне преизрядно помогал Жоффруа де Шарне, командор Нормандии, лучший друг Жака де Молэ. Стало быть, в каком-то смысле мне помогал и сам Жак де Молэ. И вот, когда я подошел к весьма заметной должности, то вдруг понял, что от всей души ненавижу своих благодетелей. И очного – командора Нормандии, и заочного – Великого магистра Ордена.
– Что так? – усмехнулся одним усом маркиз де Берни.
– Чем они вам так не угодили? – хмыкнул де Бланшар.
– Да, очень, очень странная реакция, – пискнул толстяк-монах.
Арман Ги обвел присутствующих соболезнующим взглядом.
– Своей непритворной, истинной добродетельностью.
– Объясните сей словесный фокус, – потребовал маркиз.
– Охотно. Я считаю, что сия добродетельность, добронравие, усердие в молитвах и забота о бездомных и нищих скорее подошли бы какому-нибудь францисканскому знамени, чем Босеану.
– Как же опровергали своих противников, словом или делом? – возобновился писк монаха.
– Я знал, что не могу быть допущен к публичному диспуту с Великим магистром. Да и не в традиции у нас были словесные дуэли. Капитул Ордена сильно отличается от папского капитула.
– И вы решили пойти путем сопротивления делом, – закончил мысль де Бланшар.
– В общем, да.
– Судя по тому, что ваши взгляды на тамплиерскую традицию были прямо противоположны взглядам Жака де Молэ, вы в своей капелле проповедовали самый разнузданный образ жизни. Винопитие, разврат, содомия.
В лице бывшего комтура мелькнула растерянность. Виконт слишком быстро и хорошо понимал, о чем идет речь, но в голосе его не слышалось восхищения тем, что он понимает.
– Отвечайте же!
– Да, – мертвым голосом сказал Арман Ги, – я попустительствовал подобным поползновениям и сам принимал во многих участие. Я пребывал и пребываю до сих пор в уверенности, что все происходившее в моем комтурстве не есть просто продолжение дурных наклонностей человека по имени Арман Ги, но исповедание древних исконных тамплиерских традиций. Их оставили нам наши великие предшественники, основавшие орден рыцарей Храма Соломонова в Святой земле.
Монах всплеснул руками и отвратительно захихикал.
– Так вы считаете, что только благодаря неумеренному потреблению вина и противоестественным совокуплениям наши великие предшественники добились того величия, отблески которого еще держатся в нашей сегодняшней репутации!
– Не упрощайте сверх меры, ваше преподобие, ибо не заметите ускользания истины из ваших рассуждений. Конечно, перечисленные мною особенности повседневной жизни тех первотамплиеров были лишь составной частью жизни высокого рыцарского сообщества. Впереди стояла воинская доблесть и непримиримость к врагам веры христианской.
– Ну, теперь что-то начинает проясняться, – сказал маркиз, снова подходя к огню.
– Н-да, – протянул виконт.
Де Верни обратился к бывшему комтуру.
– Итак, вы решили возглавить новое орденское движение, сплотить на основе старых традиций французское рыцарство и возглавить новый крестовый поход?
Арман Ги пожал плечами.
– Мои мысли не шли так далеко. В глубине души, скрыто от моего взора, но открытой Божьему, возможно, напитывался силами подобный помысел.
– Вам делает честь столь откровенный ответ. Может быть, вы столь же честно ответите и на второй мой вопрос?
– Я весь внимание, маркиз.
– С какой целью вы прибыли на Кипр?
Бывший комтур помолчал, взвешивая слова для ответа.
– Ну же!
Нетерпение маркиза показалось Арману Ги добрым знаком, лучше иметь дело с раздраженным человеком, чем с холодной непроницаемой маской.
– Мне казалось, что из уже сказанных мною слов легко сделать правильный и исчерпывающий вывод относительно моих намерений. Когда я говорил о пресной, неестественной святости подавившей живую, пронзительную жизнь Ордена, я не имел в виду Орден целиком, без изъятия. Я плыл на Кипр в надежде обрести здесь единомышленников. Ибо широко было известно, что так называемые «восточные» тамплиеры не подчинились в свое время влиянию Парижского капитула. Они сохранили дух прежнего, а значит, вечного Ордена. Я спешил к вам, как жаждущий, дабы припасть к истоку истины. Провидение, посчитав нужным нанести удар по ордену тамплиеров, выбрало именно ту его часть, что совместима лишь с примитивными представлениями о святости. Провидение явилось в виде садовника, знающего, что сухие, омертвевшие ветви следует обрубать, чтобы древо пышнее зеленело.
Речь эта обессилила Армана Ги. Он чувствовал себя неуютно под взглядом трех пар внимательных глаз.
– Понятно, – сказал маркиз, – вы были откровенны с нами. Мы ответим вам открытостью на открытость. Мы позволим вам участвовать в нашем тайном богослужении. Ибо, рассуждая о традициях истинных тамплиеров, вы коснулись лишь низменных, повседневных проявлений. А есть еще нечто сверх этого, или, вернее, за этим.
Арман Ги напрягся.
– Вы имеете в виду тайный круг посвящения?
Де Верни мимолетно улыбнулся.
– Что-то в этом роде.
– Да-да, я знаю, требуется отречься от божественной сущности Христа и плюнуть на распятие.
Маркиз поправил медальон на груди и неохотно проговорил:
– Не будем спешить. В этих делах все должно идти своим чередом.
Почувствовав, что аудиенция завершена, бывший комтур церемонно поклонился.
– Идите, – сказал маркиз.
Надо ли говорить, в каком состоянии вышел бывший комтур из бело-красной залы? Хотя то, что было ему обещано, не вполне совпадало с его исконными планами, он был и польщен, и возбужден. Что ж, посвящение, так посвящение.
На улице все еще стояла глубокая ночь.
Заслуживает внимания тот факт, что уже ранним утром бывший комтур Байе стоял вместе со своим слугой на набережной, руки у них были связаны за спиной. Голову жгло солнце. Мимо бродили какие-то люди, в основном в восточных нарядах. Орали ослы, заглушая гомон человеческой толпы. Все вместе это называлось невольничий рынок.
Исполнителя королевской воли вместе с его слугой продавали в рабство.
Из башни, где он всего несколько часов назад беседовал на высокоумные темы с высокопоставленными тамплиерами, за ним внимательно следили три пары глаз. Легко догадаться, что они принадлежали недавним собеседникам бывшего комтура.
– Так вы, де Бланшар, не склонны считать этого Ги сумасшедшим, как наш брат Альм? – спросил маркиз, потягивая какое-то питье из высокого стеклянного бокала.
– Отнюдь, мессир. Почти наверняка это шпион. Причем хитрый шпион. Жак де Молэ уже несколько месяцев находится в темнице – не думаю, что у него есть возможность посылать каких-то шпионов. Остается предположить, что этот человек прибыл от короля.
– Боюсь, вы правы, де Бланшар. Более того, скажу, мессир, прибыл он сюда не для того, чтобы разведать обстановку, то есть не с неопределенной целью, у него вполне конкретное задание. Маркиз снова отхлебнул.
– Да, де Бланшар, вы снова правы. Он ищет казну Ордена. То, ради чего Филипп и затеял все это безобразие с процессом. Он хотел втереться к нам в доверие и узнать, не переправил ли добродетельный и предусмотрительный предстоятель Ордена свое золото к нам.
– Насколько я понимаю, он этого никогда не узнает, – раздался писк брата Альма.
– Надеюсь, – ответил де Бланшар.
– А не проще ли было его убить? – спросил монах.
– Ну что вы, брат, – пожурил его маркиз, – это довольно скоро стало бы известно королю. И он решил бы, что деньги именно у нас, раз мы так беспощадно расправляемся с его соглядатаями. В данной ситуации Филипп узнает только то, что его человек попал в дурацкую историю. Его продали в рабство. Согласитесь, мало, что может вызвать большее презрение к человеку. Его не убили, то есть не догадались о его секретной миссии. Таким образом мы одним ударом избавимся и от королевского шпиона, и от королевских подозрений.
– Вы, как всегда, правы, мессир, – улыбнулся монах.
В это время Арман Ги налитыми кровью глазами тупо смотрел перед собой на странных людей, о чем-то шумно друг с другом спорящих, на клубы удушливой пыли, поднятой подошвами и копытами. Он ничего не видел, ему казалось, что он сходит с ума.
Бывший комтур хотя бы отчасти пришел в себя, когда к нему приблизился первый покупатель. Толстый, холеный грек в густых черных усах. Усы были сверхъестественные. Собственно, сквозь пелену, застилавшую сознание несчастного тамплиера, проступили именно усы, их вид заставил будущего раба вздрогнуть, а зрение его напрячься. К волосяному украшению достроилось и лицо, а потом уже и весь облик. И раздался голос. Отвратительно коверкающий французские слова. Арман Ги меньше бы внутренне морщился, если бы знал, что грек говорит на так называемом лингва-франка, то есть том языке, который использовали боготворимые им первотамплиеры.
Грека сопровождал горбатый торговец. Их несколько шныряло в этот час по набережной, где ко вкопанным столбам были привязаны куски живого товара. В их обязанности входило открывать перед возможным клиентом те качества продаваемых людей, которые скрыла природа. Если будущий раб выглядел как изможденная кляча, то утверждалось, что он невероятно силен во врачевательском деле, если бросался в глаза маленький рост, это компенсировалось рассказом о его невероятной выносливости, когда же напрочь отсутствовали зубы, то нахваливалось орлиное зрение. Естественно, опытные покупатели знали все уловки продавцов. Уловки эти совершенствовались, покупатели со временем проникали в их тайну. Продавцы принуждены были вновь совершенствоваться и так, казалось, до бесконечности. Правда, только казалось, рано или поздно продавцы, замыкая круг, возвращались к приемам первого набора. И так было всегда. Способы торговли рабами в начале четырнадцатого века мало чем отличались от тех способов, что использовались в древности, две тысячи лет назад.
Что-то подобное происходит и с приемами, применяемыми в любви.
– Очень сильный мужчина, – авторитетно сказал горбун, проводя тростью по животу Армана Ги, чтобы вызвать показательное сокращение мышц. Бывший комтур был весьма крупен и мясист, но мускулатура его не отличалась рельефностью.
– А-а, – неопределенно поморщился грек, собираясь уходить к другому столбу.
– Постойте, господин, вы напрасно спешите, – затараторил продавец, – он ведь еще нестарый. Грамоту знает.
– Я сам грамоту знаю. Мне нужен раб, а не мудрец.
– Он еще нестарый, он выдержит у вас на галере еще не один год. Может, полтора года. И цена-то, цена!
– Цену я видел.
Стоимость каждого раба была нацарапана куском мела на доске, прибитой к столбу.
Грек наклонился и своей палкой постучал по икрам Армана Ги.
– Посмотри! – сказал он продавцу.
– Да, ноги.
– Посмотри, какие у него вены!
– Зато у него все зубы, это редко бывает у франков.
– Зачем мне его зубы? Все, что нужно съесть, я съем сам, мне нужен человек, который мог бы ходить с караваном. Носильщик мне нужен, а не живая развалина.
И усач удалился.
Бывший комтур был слеп от бессильного гнева. Его, посланца короля Франции и дворянина, ощупывали и рассматривали, как какого-нибудь мула! Да даже и к мулу хороший конюх проявляет больше уважения.
На этом греке история с продажей, конечно, не закончилась. Еще десять или двенадцать человек подходили к нему вместе с говорливым горбуном. Лупили палкой по животу и по икрам. Заставляли приседать, лезли в рот. Арман Ги изо всех сил старался сохранить хотя бы остатки достоинства, напускал на лицо надменное выражение, принимал позы понезависимее. Но как уже соблазненной женщине трудно выглядеть неприступной, так же голому человеку, выставленному на продажу, трудно казаться рыцарем.
Сказать честно, лет сто двадцать назад подобное было бы невозможным. Тамплиер, которому предназначено было бы стоять у столба на невольничьем рынке, нашел бы способ умереть. Даже со связанными руками. По крайней мере, так думал сам Арман Ги и дополнительно мучился от того, что сам на гордую смерть не способен. Он люто мечтал о мести. Ведь его оскорбитель был известен – маркиз де Верни. Но как до него добраться, как?!
Солнце прошло зенит. Стало жарко стоять на солнцепеке несмотря на декабрьский ветер. Торжище подходило к своему концу. Так никому и не приглянулся белокожий, крупный мужчина с курчавой черной бородой и раздутыми венами на ногах.
Кажется, унижению не дано было завершиться последней, самой сильной оплеухой – продажей. Все-таки, успокаивал себя бывший комтур, быть рабом Ордена – меньшее несчастье, чем принадлежать усатому заносчивому греку.
Зря он так подумал, ибо грек этот, всуе помянутый, тут же оказался перед ним, вместе со своими мясистыми усами.
– Ну ладно, – сказал он, и сердце рыцаря упало.
Горбун радостно засуетился.
– Пятнадцать франков, – объявил грек.
И тут заныл горбун, ибо на табличке над головой Армана Ги значилось, что франков он стоит всех двадцати пяти. Пришлось вынести рыцарю Храма Соломонова и несусветную тошнотворность торга на невольничьем восточном базаре. Торг этот занял не менее часа. Стороны после серии воплей, вознесения двадцати призывов к Господу и сорока проклятий неуступчивости партнера продвигались друг к другу на каких-нибудь четверть су. Когда наконец ударили по рукам и деньги перешли из одного кошеля в другой, Арман Ги, набравшись неожиданной смелости, заявил купцу:
– Купите еще и вот этого парня, – он мотнул головой в сторону Лако, – это мой слуга.
Усач потерял дар своей исковерканной речи. На его практике впервые невольник смел вмешиваться в разговор господ. Горбун-продавец сориентировался первым. Он закричал на Армана Ги, уже не принадлежащего ему.
– Забудь об этом. Теперь ты сам слуга!
Но грек уже очухался. Чем-то ему такой поворот даже понравился.
– А что? – усмехнулся он. – Я первый буду иметь раба, у которого будет слуга.
Продавец мгновенно понял свою пользу и бурно поддержал остроумную мысль клиента. Взоры повернулись в сторону уродца Лако. Конечно, ликом он краше не стал за время морского путешествия, но все остальное… Грек с интересом оглядел квадратную мускулистую фигуру, поднял глаза на дощечку с ценой, и увидев, что там написано всего шесть франков, крикнул:
– Беру!
Отсчитывая деньги растерянному горбуну, он поинтересовался:
– Откуда взялся этот парень? Вы только что его сюда привели? Я с самого утра здесь на набережной и не видел его.
Горбун ничего не мог ему ответить.
Кстати, с вопроса на эту тему и начался разговор между господином, рабом и его слугой в трюме греческого корабля, направлявшегося бог весть в какие края.
– Почему, Лако, тебя так никто и не купил до самого конца торгов?
Слуга ответил лаконично и немного загадочно:
– Я умею так стоять, что меня никто не купит.
Впрочем, у Армана Ги голова была больше занята размышлениями о своем будущем, поэтому он пропустил мимо ушей эту не вполне ясную фразу, сочтя ее просто косноязычной. Может быть, так оно и было.
Кроме размышлений о будущем, которые, как показывает тысячелетняя практика, особого смысла не имеют, глодало душу и то, что он не может понять смысла действий маркиза де Верни.
Почему он не убил неожиданного визитера, если счел опасным для себя? Почему не убил, если он является тайным сподвижником и поклонником Жака де Молэ? Может быть, он пронюхал об истинных намерениях королевского посланца? Но как он мог догадаться, что бывший комтур Байе – королевский посланец? Не Филипп же уведомил его об этом.
Какая-то тайна скрывается за странностями в поведении кипрского командора. Но какая? Тайна тамплиерского золота? Нет, Арман Ги энергично помогал головой. Чушь! Жак де Молэ никогда бы не доверил свою казну человеку, которого некогда сажал в подземелье.
Нет, тайну, именно тайну скрывал маркиз, избавляясь от присутствия бывшего комтура. Но все-таки почему он не убил?! Могила, как известно, – лучшее хранилище для тайн.
На этот вопрос ответа не было.
Господин попробовал поделиться своими интеллектуальными мучениями со своим рабом, но тот стал зевать уже на третьем повороте мыслительного сюжета.
– Ладно, спи! – усмехнулся рыцарь.
Глава десятая. Авиньон
Короток день и ночь длинна, Воздух час от часу темней; Будь же, мысль моя, зелена, И плодами отяжелей. Прозрачны дубы, в ветвях ни листа, Холод и снег, не огласится дол Пением соловья, сойки, клеста. Но надежда мне все ж видна, В дальней и злой любви моей; Вставать одному с ложа сна Горько тому, кто верен ей. Радость должна быть в любви разлита, Друг она тем, кто тоску поборол, И тех бежит, в чьих сердцах темнота. Пейре ОвернскийНа папском престоле за несколько веков его существования перебывало много всяких людей. Были папы, философы и папы-кретины; папы-сластолюбцы и папы-святые; папы-лгуны и папы-воплощения благородства; папы-консерваторы и, соответственно, реформаторы; папы-итальянцы и папы – не итальянцы; папы – молодые люди и папы-старики, папы здоровые и папы больные. Наконец, были папы римские и папы авиньонские. Одним из которых являлся Папа Климент V.
Горбоносый, чернобровый беарнец с пронизывающим взглядом и горделивой осанкой. Внешность его, надо сказать, была обманчива. Ни сластолюбцем, о чем якобы свидетельствовала форма носа, ни умником, о чем свидетельствовал взгляд, он не являлся. Да и горделивая осанка… На католический престол Бертран де Готон вполз на брюхе, перецеловав предварительно множество властных дланей. Одной из них, может быть, самой властной, а значит, и самой зацелованной, была рука Филиппа Красивого. Как это часто случается, хуже всего человек относится к тем, кто некогда оказал ему самую большую услугу. И уж просто ненавидит того, кто постоянно ему об этой услуге напоминает, а Филипп напоминал. Когда надо и когда не надо. И не потому, что не понимал, как относится к этим напоминаниям Его Святейшество, а просто потому, что любил его подразнить. Он знал, что Климент V терпеть его не может, но был уверен, что никогда, ни при каких обстоятельствах не выступит против него.
В общем-то, эта вера имела под собой некоторые основания. Авиньонскому первосвященнику очень трудно было решиться не то что на открытое неповиновение, но даже на тайные происки против короля Франции. Тому имелись и субъективные, и объективные причины. К первым можно было отнести несомненный магнетизм личности Капетинга. Его не отрицал никто, а на некоторых он действовал особенно сильно. Бывший кардинал как раз и относился к таким особенно внушаемым людям. Он совершенно не мог при беседе с Его Величеством, с глазу на глаз, отстоять свою точку зрения, почти всегда и почти полностью соглашался с мнением Филиппа, сколь бы диким оно ни казалось ему в начале разговора. К причинам объективным следовало причислить то обстоятельство, что Священная Римская империя, являясь как бы материальным основанием католической церкви, представляла собой сложнейшее переплетение разного рода династических интересов. Положение французского короля в этой ситуации было особым. Он был объективно наголову сильнее всех монархов Европы, не исключая и самого императора. И становился все сильнее год от года. Поэтому игнорировать его претензии было невозможно без того, чтобы не поставить самого себя в ложное, если не опасное, положение.
Удалившись от глаза короля, Климент V постепенно обретал силы для какой-то борьбы с его влиянием. Борьбы, разумеется, тайной, посредством тех тонких нитей власти, которые держал в своих сухих желтоватых пальцах. Он не обладал никакими вооруженными силами, но мог определенным образом воздействовать на любое событие в католическом мире. И делал это, стараясь, чтобы до определенного времени его вмешательство оставалось незамеченным.
– Итак, – сказал Климент V, прикасаясь лепестком водяной лилии к горбинке своего носа, – судя по вашему виду, у вас есть что мне сообщить.
– Да, Ваше Святейшество, – ответил кардинал де Прато, невысокий, сухой человечек с землистым лицом. Его так и называли за глаза в папском окружении – сухарь. Но при этом уважали, зная его неподкупный и непреклонный характер. Сочетавшийся, кстати, с невероятной изворотливостью ума – сочетание редкостное. Почти для всех важных, особенно щепетильных дел, то есть требующих твердости и фантазии, папа использовал именно кардинала де Прато. И еще не было случая, чтобы ему пришлось об этом жалеть.
– Да, Ваше Святейшество, у меня есть что сообщить вам, – повторил кардинал таким тоном, что Клименту V стало немного стыдно за свою наготу. Дело в том, что страшную своею жарой середину июля папа проводил в загородной резиденции на небольшом островке посередине Роны. Его Святейшество только что выбрался из благодатных вод этой реки и сидел на деревянной скамье под тенистой ивой, завернувшись (довольно небрежно) в простыню. Он и сам себе, и суровому кардиналу слегка напоминал развращенного древнего римлянина.
Любовь к купаниям – отголосок бытового стиля старой Италии, времен упадка империи, вошла в моду при папском дворе в ту пору. Климент V исповедовал его не так страстно, как это делали некоторые из его предшественников, что не уберегало его от недовольства консерваторов, таких, например, как кардинал де Прато.
– Судя по выражению вашего лица, ничего приятного мне услышать не придется.
– Именно так, Ваше Святейшество.
Климент V сменил позу, запахнул простыню и отбросил лилию.
– Весь внимание.
– У меня одно известие и один документ.
– Ну-ну.
– Император Альбрехт мертв. Стало быть, трон свободен.
– Этого следовало ожидать.
– А вот и документ.
Де Прато достал из складок своей сутаны свиток пергамента. Климент быстро пробежал написанное.
– Н-да, они начали, сразу же…
– Да, Ваше Святейшество. Сто пять тысяч турских ливров выделено для немедленного подкупа электоров. О чем свидетельствует подпись.
Желтый ноготь кардинала указал нужную строчку.
– Карл, граф Валуа, Алансон, Шартр и Анжу. Он привлек к делам и сына. Теперь это семейное дело.
Папа опять потянулся к горбинке своего носа и рука как бы пожалела, что лишилась лилий.
– Но сто пять тысяч – это ведь не такие уж большие деньги.
– Думаю, это всего лишь первая выплата.
– Кто отправится с этими деньгами?
– По моим сведениям, легисты – Жерар де Лендри, Пьер Барьер и Гуго де ла Сель.
– Я плохо знаю их.
– Уверяю вас – законченные негодяи.
На лице Климента поселилась задумчивость. Легкая перебегающая тень, создаваемая ивовой кроной, способствовала усилению этого впечатления.
– Не кажется ли вам, де Прато… впрочем – пустое. Что там у нас с Шинонскими узниками?
– Не думаю, что Филипп добился каких-либо заметных результатов. Это бы ощущалось в его действиях. Он тратит деньги не как бездонно богатый человек. Даже на достижение целей, которых жаждет страстно.
Его Святейшество опять поправил простыню.
– А вы тоже считаете, что пресловутое тамплиерское золото существует?
Кардинал пожал плечами.
– Я предпочитаю не иметь мнения о предметах, о коих не известно ничего определенного.
– Некоторое время назад вы, по-моему, придерживались несколько иного взгляда на эту проблему?
Щека кардинала едва заметно дернулась.
– Хорошо, хорошо, – улыбнулся папа.
– Да, Ваше Святейшество, я советовал вам поддержать короля в его атаке на Орден, и поэтому несу свою меру ответственности за все, что происходит в Шиноне и в целом во Франции.
– Да успокойтесь же, де Прато, умоляю вас.
– Уверяю вас, что спокоен абсолютно.
И внешний вид, и голос кардинала давали некоторые основания, чтобы усомниться в справедливости его слов. Его Святейшество испытывал острое наслаждение от того, что ему удалось «зацепить» этого непробиваемого умника и святошу. В известной степени отношения папы с его довереннейшим помощником напоминали общение самого Климента V с королем Филиппом. Его Святейшество дергал, задевал сурового старца, пребывая в необъяснимой уверенности, что тот полностью в его руках.
– Вы соблаговолите дать мне какие-то указания по поводу ведения наших дел в связи с открывшимися новостями?
– Соблаговолю. Но сначала попрошу ответить на один вопрос. Даже на два. Кого Филипп намерен при помощи своих денег взгромоздить на имперский трон и кого мы должны противопоставить королевскому выдвиженцу, конечно, если мы решим, что это следует сделать?
Де Прато едва заметно улыбнулся. Он знал этот тон Его Святейшества, означавший, что решение свое он уже принял, но как опытный придворный кардинал не брезговал играть в эту игру.
– Что касается второго вашего вопроса, то я бы продолжал настаивать на кандидатуре Генриха Люксембургского.
– Понятно.
– А по поводу первого… что-то мне подсказывает, что на этот раз кандидатом Филиппа будет сам Филипп.
Климент V медленно и вдумчиво поскреб пальцами колено, как будто именно там скрывался ответ на замечание кардинала.
– Я слышал такую версию, и, надо признаться, что чем дальше, тем больше она представляется мне вероятной. И что из этого следует?
– Что, Ваше Святейшество?
– Что мы должны сопротивляться кандидатуре короля еще яростнее, чем это было в прошлый раз, когда он искал трона для своего брата.
– Трудно спорить.
– Еще бы. Будучи императором, он не станет думать о том, имеет ли он право «округлить» владения французской короны за счет соседей.
Де Прато утвердительно покивал.
– Бороться с таким колоссом, как император Филипп, нам будет не по силам.
– Вот-вот, – пальцы Его Святейшества занялись вторым коленом, – а вот конечная цель… скажите, де Прато, как вам мыслится конечная цель этого человека? Он не может хотеть короны ради самой короны? Императорская корона ему нужна не сама по себе. Для чего?
– Возможно, Ваше Святейшество, он постарается сделать титул наследственным.
– Ну этого вы могли бы и не говорить, это знает даже мой камердинер. Мне представляется, что его планы, распространяются дальше. Куда именно? И я не нахожу пока ответа. Может быть, он хочет отвоевать Святую землю, возглавить новый крестовый поход, сделать одного из своих сыновей королем Иерусалимским? Хотя… – Его Святейшество вздохнул так, как будто он недоволен ходом своих мыслей.
– Отвоевание Святой земли – это великая задача всего христианского мира. Почему бы и Филиппу не попробовать, ведь он сын Людовика Святого и правнук Бланки Кастильской?
Климент V вдруг неприятно засмеялся, в голосе его послышалось ехидство.
– В ваших словах, де Прато, мне послышалось истинное восхищение этим замыслом. Но прошу вас помнить – он, этот благородный замысел, пришел в голову мне, а нашему жадному красавцу всего лишь приписан.
Де Прато коротко поклонился и плетеный стул под ним соответственно скрипнул.
– И больше не будем сегодня об этом. – Его Святейшество немотивированно помрачнел. Может быть, просто кончилось освежающее действие купания.
– Ваша кандидатура (де Прато прекрасно знал, что Генрих Люксембургский является также и кандидатурой самого Климента V), так вот, ваша кандидатура заслуживает того, чтобы рассмотреть ее поподробнее. Очень скоро мы этим займемся. Когда можно ожидать выборов?
– Когда вы их назначите, Ваше Святейшество.
– Я имею в виду, сколько времени я смогу их оттягивать, де Прато?
– Не уверен, что с этим следует тянуть, – тут кардинал перехватил внимательный и неприязненный взгляд папы, – но если вы сочтете нужным это сделать, то можно таким образом выстроить выполнение всех предвыборных формальностей, что дело затянется до осени.
– Глубокой осени?
– Может быть.
Его Святейшество вставил ноги в удобные, растоптанные туфли, кряхтя встал и направился к невысокому уютному павильону, на веранде которого был накрыт завтрак.
Де Прато безмолвно направился за ним, сбивая полами своей сутаны головы одуванчиков.
Когда Клименту V налили питье из высокого кувшина в большой граненый кубок из итальянского стекла (де Прато предпочитал не знать, что именно это за питье), он спросил кардинала, разминавшего серебряной двузубой вилкой горку лангедокского творога с зеленью:
– Кому именно предназначены эти сто пятьдесят тысяч?
– По моим сведениям, архиепископам Майнца и Трира. Полагаю, как наиболее нуждающимся.
Его Святейшество вдруг очень развеселился, даже изволил расхохотаться.
– А вы отбываете во Франкфурт завтра?
– Сегодня, – кардинал попробовал творог с таким видом, что стало понятно – еда не является его страстью.
Папа оторвался от бокала и сочувственно сказал:
– Ваша сутана в пыли, вы ведь прибыли только что. Я не хочу, чтобы мой умнейший и ценнейший друг умер на большой дороге от усталости.
– Я понимаю иронию, которая скрыта в ваших словах, но не только желание произвести на вас благоприятное впечатление своим усердием движет мною. Течение дел, как я понимаю, дает мне указание и составляет календари.
Папа понимающе прикусил верхнюю губу, вздохнул, посмотрел на солнце сквозь стекло своего бокала.
– За ваши успехи.
– Благодарю вас, – просто сказал де Прато. Он доел творог, запил его ключевой водой. И попросил разрешение уйти.
– Куда же вы?! – искренне изумился Климент V, – сейчас будет баранья нога.
Кардинал поклонился со всей возможной церемонностью.
– Ведь сегодня не постный день, де Прато!
– Когда постна вся жизнь, что значит скоромность одного дня?
Хотя каламбур показался папе несколько невразумительным, он не стал задерживать хлопотливого гостя. Подумал даже, что в одиночестве позавтракает с большим аппетитом.
– Ну что ж, – сделался вполне серьезным Климент V, – идите. А напоследок вот еще что: вы тут несколько раз говорили «по моим сведениям, по моим сведениям». У вас хорошие помощники. Конечно, я слыву почти таким же скупым, как Филипп, но для поощрения ваших людей я готов выделить известную сумму… – Не думаю, что в этом есть нужда, Ваше Святейшество. Люди эти есть род продажных тварей. Они предают своих господ и друзей только потому, что мы нащупали их тайные и скверные слабости. Они, право, удивятся, если я им дам деньги, возомнят о себе, что представляют для меня ценность, и станут работать хуже. В интересах дела – не надо тратиться на них.
Клименту V это предложение понравилось, потому что на самом деле он в своей скупости намного превосходил короля Франции.
Глава одиннадцатая. Шинон
Когда я вижу, как плывут Пестрея средь листвы знамена, И слышу ржанье из загона И звук виол, когда поют Жонглеры, заходя в палатки — Труба и рог меня зовут Запеть – пусть ричардов редут В сирвенте ищет недостатки. Надеюсь, мой порыв поймут: Мной почитаема корона Того, кто с войском Арагона Пришел сюда на ратный труд. Бертран де БорнЗа полтора года, проведенных в каменном узилище, и без того внушительная шевелюра Жака де Молэ сделалась совсем ветхозаветной на вид. Борода достигала пояса. Если присовокупить к этому угрюмо горящие глаза – следствие полумрака, в котором ему приходилось постоянно находиться – то портрет можно считать законченным.
Условия заключения были весьма жестки, спать приходилось на голой деревянной лавке, еда представляла собой однообразную жидкую похлебку с куском черного хлеба. Ко всему этому можно было притерпеться, единственное, что составляло предмет постоянных, неизбывных мучений Великого магистра – это одиночество. Тюремщика, приносившего два раза в день еду, человеком считать было нельзя, он давно слился с окружающей обстановкой, как какая-нибудь колонна или дверь. А ведь известно, что человек ищет в человеке прежде всего собеседника.
Следующей по порядку и значению после лютого одиночества была неизвестность.
И Париже и в остальном мире что-то происходило, Великий магистр оставался в жестоком неведении. Он не то, что не знал деталей процесса над некогда подвластным ему Орденом, он не знал даже, а идет ли этот процесс. Являлась и такая мысль, и ему было трудно гнать ее несмотря на очевидную безумность. А может быть, его просто забыли, кормят по инерции и даже уже не ждут, когда он умрет? А может быть, спрашивал себя Великий магистр, все затеяно лишь для того, чтобы убрать меня из кресла предстоятеля Ордена? После того как Жака де Молэ привезли в этот подвал, заковали в железо, жизнь орденской общины вернулась в свое обычное, повседневное русло. Король, если он не безумен, не мог не оценить, в каком великолепном состоянии находится Орден, не мог не понять, что открытый процесс против него опасен. Что разумнее всего прийти к полюбовному соглашению о сохранении статус-кво. Непримиримый Жак де Молэ отстранен, найдется кто-нибудь попокладистей. Кто это может быть? Все это маловероятно? Да. Но вероятно. Все дело за малым – найти такого человека, которого согласился бы признать папа и который бы устраивал короля. Но перебрав всех иерархов Ордена, всех командоров и влиятельных рыцарей, Жак де Молэ не находил среди них такого, кто бы мог пойти на такой чудовищный сговор, на такое подлое предательство.
Но почему предательство? Ведь рассуждение можно выстроить совсем от другой точки. Такой сговор может быть назван единственным способом спасти Орден от уничтожения. Разве не стоит такая грандиозная выгода жизни одного стареющего, неграмотного человека по имени Жак де Молэ? Король Филипп не любит его, жаждет его гибели, так совершим подобный обмен во имя священной цели.
Мысль Жака де Молэ развивалась так, как разливается желчь в организме злобного человека. Но так было не всегда. Усилием воли Великий магистр стряхивал с себя одурь подозрительности и, пристыдив себя, отдавался молитве. Молился он очень много, и тогда его душу посещало относительное успокоение. Он вспоминал христианских мучеников, которым выпадали испытания пострашнее тех, что выпали на его долю.
Но еще чаще, чем молитва, настигало старика ощущение спокойного опустошения. Он мог неделями существовать, не поднимаясь сознанием ни до одной сколько-нибудь сложной мысли. Он жил автоматически, жил, как животное, как та лошадь на соляном прииске, что вечно крутит ворот жерновов, измельчающих соляные глыбы.
Вероятно, это была просто защитная реакция организма. Невозможно все время пребывать в состоянии острого отчаяния, равно как и непрерывной эйфории.
Окно его узилища выходило на темный двор, поэтому ему было трудно следить за сменой дня и ночи, кроме того, незнание грамоты лишало возможности вести учет дней. Поэтому, когда в его камеру вошли два стражника и начали расклепывать цепь, которая держала его прикованным к стене, он не смог бы ответить – даже если бы его спросили – что сейчас на дворе, утро или вечер, осень или зима.
Наконец цепь рухнула, к его ногам и тюремщики велели ему встать и идти. Куда? Вон в ту дверь, она здесь одна.
Медленно выходил Жак де Молэ из состояния душевного безразличия. Встал со своего жесткого ложа, хотел было что-то спросить у черных ангелов, так неожиданно влетевших к нему, но раздумал.
«Что-то происходит, что-то важное», – сообразил он. Произошли какие-то изменения. К лучшему они или к худшему, выяснится очень скоро.
В коридоре было еще темнее, чем в камере, и сырее. На стенах разводы вечной крепостной плесени. Шаги по влажному камню не производили ожидаемой гулкости. Идти было трудно, ноги слушались неохотно, слишком долгая неподвижность сказалась на их гибкости. Старик передвигал ноги замедленно, но твердо. Тюремщики не проявляли нетерпения.
Жак де Молэ жадно прислушивался, для него попасть после многомесячного сидения на одном месте на эту прогулку было все равно, что оказаться в квартале Ситэ в базарный день. Кажется, до него донеслись какие-то голоса, а может быть, это просто кружным путем до него доползло эхо его собственных шагов.
Путешествие оказалось коротким. Два поворота, шесть ступенек вниз. С тяжелым, недовольным рыданием железных петель открылась сводчатая дверь.
Несмотря на всю свою опытность Жак де Молэ не сразу догадался, где находится. Помещение было заставлено какими-то сложными приспособлениями. Они были подсвечены двумя разными способами. Во-первых, закатным, трагически иссякающим огнем заката, он падал из двух высоких узких окон, во-вторых, живым отсветом пламени полыхавшего в грязном горле камина в глубине этой неприютной залы.
Тюремщики молча стояли за спиной. И вдруг Великий магистр все понял. Это пыточная! В углу полыхает не камин, а горн, где накаляются докрасна приспособления палача. А то кресло с решетчатой спинкой, это – так называемый испанский сапог, а под потолком висит не вешалка, а прекрасно устроенная дыба. И не ткацкий станок пристроился у одного из окон, а устройство для растягивания человеческого тела. При определенном навыке здесь можно произвести четвертование. Сосуд рядом с дыбой предназначен не для умывания, с его помощью наливают холодной водой утробу испытуемого, до тех пор пока не лопнет брюхо.
И сейчас сюда, видимо, явится хозяин всего этого изуверского богатства. Большой, бородатый, по пояс голый, в кожаном фартуке, который легко отмывать от крови.
Жаку де Молэ остро захотелось обратно на свою деревянную кровать. Стукнула дверь в дальнем углу пыточной. Явился. Хозяин явился. Великий магистр почувствовал, как загрохотала кровь в висках. Вот он появляется из-за испанского кресла. Большой, бородатый… кафтан расшит жемчужными нитями, на поясе короткий меч.
Но это король!
Словно почувствовав, какая именно мысль мелькнула в буйно заросшей голове старика, Филипп Красивый сказал:
– Да, это я.
Его величество уселся на грубый квадратный табурет возле пылающего горна и жестом указал Жаку де Молэ место напротив себя. Там стоял другой табурет, только трехногий.
Великий магистр не мог сдвинуться с места, протестовали ноги, не желая принять приглашение короля. Он обернулся к тюремщикам, как бы собираясь попросить их о помощи, но тех не оказалось у него за спиной.
– Ну что же вы? – нетерпеливо и немного удивленно сказал Филипп.
Жак де Молэ с удивлением обнаружил, что язык его не слушается. Старик усилием воли принудил его оторваться от пересохшего неба. Неожиданно выговорилась неуместно вопросительная фраза:
– Вы спешите, Ваше Величество?
– Что вы имеете в виду?
– Нетерпение в вашем голосе. И это странно.
– В чем же здесь странность? Я довольно занятой человек.
– Я нахожусь здесь уже не один месяц и в каждый из дней был готов побеседовать с вами.
Король внимательно, даже изучающе смотрел на своего пленника.
– Отставим это. Садитесь же.
Жак де Молэ, шумно шаркая подошвами по каменному полу, подошел к указанному табурету.
– У вас озабоченный вид, Ваше Величество, могу я вам чем-нибудь помочь?
– Даже не представляете до какой степени, – без всякой иронии сказал король.
Великий магистр спокойно, с достоинством поправил огромную копну волос у себя на голове, движение было такое, будто он снял шлем.
– Надеюсь быть к вашим услугам, если вы только объясните, что вы имеете в виду.
Филипп расстегнул одну из застежек на своем жемчужном одеянии. В пыточной было жарко от раскаленного горна.
– Я не буду притворяться ангелом, да мне бы это и не удалось, я не буду стараться вам понравиться, эта задача была недостижима, даже когда я был у вас в руках, а не вы у меня. Не стану я вам открывать своих планов на будущее, сколь бы ни были они добродетельны и даже богоугодны, вы мне все равно не поверите. Я просто предлагаю вам сделку.
– Сделку?! – удивление старика было искренним. – Какую сделку?
– Сейчас я подойду к этому. Для того чтобы вы как можно отчетливее поняли, в чем она состоит, я обрисую вам состояние дел на сегодняшний день. Это ведь не может вас не интересовать, правда?
– Правда.
– Так вот – процесс в основном закончен. Орден рыцарей Храма Соломонова – изобличен!
Жак де Молэ слегка пошатнулся на своем табурете. И всего лишь.
– Изобличен?
– Да, но не полностью.
– Что это значит, Ваше Величество?
– Это значит, что мои следователи и доминиканцы-инквизиторы поработали хорошо. Сотни и сотни рыцарей тамплиеров из всех командорств и приорств Ордена на территории французского королевства были допрошены и показали, что помимо общеизвестного обряда посвящения существовал и некий тайный обряд, и, стало быть, тайный круг посвящения.
Великий магистр восседал, как глыба, молча и неподвижно противостоя потоку слов.
Король достал из-за пояса свиток и стал зачитывать одно имя за другим с указанием того, в чем признавался каждый обвиняемый. Список был длинным. Филипп читал его методично и даже заунывно, ожидая, что вот-вот Великий магистр, сокрушенный потоком доказательств и свидетельств, попросит прекратить чтение. Но тот терпеливо слушал. Один свиток закончился, пошел второй. Закончился второй и настало время третьего. И только когда король понял, что Великий магистр никогда не скажет «хватит!», он сам остановился отпустил нижний край раскатанного пергамента. Свиток свернулся с шумным шорохом.
– Думаю, довольно. Таких признаний имеются, я повторюсь, еще сотни и сотни. Вы понимаете меня? Здесь достаточно доказательств для того, чтобы начинать публичный суд. Здесь достаточно доказательств для того, чтобы Папа Климент V, ваш официальный сюзерен, утвердил приговор такого суда, сколь бы суров он ни был. Папа, как вы знаете, очень многим мне обязан.
Жак де Молэ продолжал молчать, это наконец вывело из себя Его Величество.
– Может быть, вы соблаговолите высказать свое отношение к тому, что я вам изложил?
– Ваша речь имела законченный характер, она не нуждается ни в моем одобрении, ни в моих возражениях.
– Вот как? – усмехнулся король.
– Но при этом я знаю точно, что все прочитанное – ложь, от первого до последнего слова. Ничто подобное не имело места во французских командорствах Ордена.
Король умело сворачивал листы пергамента и укладывал в специальные кожаные футляры.
– Вы хотите сказать, что все эти люди, а их, повторяю, сотни, лгали на допросах?
– Я не знаю, в каких условиях они допрашивались.
– Скажу вам честно, пытки почти не применялись.
И не потому, что я мягкосердечен, просто в этом не было нужды. Да и потом, говоря философски, какое имеет значение то, что было на самом деле. Важно записанное чернилами. Именно записанное, а не существовавшее в действительности будет предметом разбирательства в суде.
Жак де Молэ вздохнул.
– Вы оказались еще коварнее, чем я думал, Но поверьте мне, есть слишком большая опасность в том, чтобы до такой степени пренебрегать фактами реальности.
– Сакраментальные речения не слишком идут к вам. Наверное, пускаясь в это предприятие, я изучил заранее карты ада. Так что испугать меня нельзя.
На лице Филиппа появилась издевательская улыбка. В сочетании с полыханием пламени в пыточном горне у него за спиной она производила зловещий эффект. Но слишком уж не мальчиком был Жак де Молэ. Его давно уже не впечатляли подобные вещи.
– Вы что-то говорили о сделке, Ваше Величество. Можно вас попросить прямо перейти к ее условиям?
– Вы так спешите обратно в камеру? Да и потом, почему вы думаете, что в случае неудачи в наших переговорах вы не останетесь здесь, среди этих жестоких механизмов.
– Ваши последние слова выглядят как банальная угроза. И это жаль.
– Что ж, – король потрогал себя за мочку уха, – условия сделки таковы. Я с сегодняшнего дня прекращаю следствие. Выпускаю из темниц всех рыцарей и служек. Возвращаю все крепости, которые были собственностью Ордена до осени позапрошлого года. Ну, разве что кроме тех, что заняты уже иоаннитами, тут не получится немедленно. Наконец, я выпускаю вас. Причем будет объявлено публично и очень широко, что следствие в отношении ордена тамплиеров не выявило ничего предосудительного.
– Что же вы потребуете взамен?
– Лукавить не буду – потребую я у вас много. Вы должны будете рассказать мне, где находится тайная орденская сокровищница. – После некоторого взаимного молчания король добавил: – Мне нужны деньги, много и быстро.
Жак де Молэ продолжал молчать.
– Дело в том, что его, это ваше золото, мы все равно найдем. Этими поисками занимаются тысячи людей по всему королевству и далеко за его пределами. И я бы не обратился к вам с этим предложением, когда бы не было срочной необходимости.
– Но…
– Что «но»?!
– Но как вы обойдетесь со всеми этими документами? – Жак де Молэ показал на кожаные футляры с пергаментами.
– Да хотя бы сожгу.
– В следствии участвовало множество людей, поползут странные слухи. Кроме того, часть следователей подчиняется исключительно Авиньону, кстати, я думаю, копии этих пыточных записей давно уже имеются у Климента V. Как быть с этим? Перевесит ли одно ваше устное слово такое количество чернил?
– Я понимаю ваши опасения, – Филипп разволновался. Ему показалось, что старик стронулся с мертвой точки, что он уже почти дал принципиальное согласие и сейчас уже идет обсуждение деталей.
– Не стоит прежде всего преуменьшать значение моего слова. Я уже грворил вам, что Климент V мне очень обязан. Потом, если вы внимательно следили за моим чтением, то обратили внимание, что подавляющее количество признаний носит неполный, неокончательный характер. Подозреваю, что многие допрашиваемые из страха перед пытками просто оговаривали себя. Если кто-то и выражал сомнение в божественной сущности Христа, то держал пальцы крестом, плевал не на распятие, а в сторону и так далее. Получив определенные указания, судьи легко найдут здесь почву для оправдательного приговора. Эти признания будут признаны данными под пыткой. Придется, может быть, казнить парочку слишком ретивых палачей. Только и всего.
Жак де Молэ опустил голову на грудь. Это не понравилось Его Величеству. Возникла неуместная, можно даже сказать, опасная пауза.
– Я жду ответа, – пока еще миролюбивым тоном сказал Филипп Красивый.
Седая копна поднялась, Филипп увидел лицо Жака де Молэ, и его собственное лицо исказила гримаса ярости. Дело в том, что Великий магистр улыбался.
– Чему вы смеетесь?! – прогремел стальной рык короля Франции.
– Я смеюсь над вами, над собой. Над жизнью вообще, если угодно.
– Не время философствовать, что вы мне можете сказать по существу?
– По существу, – улыбка улетучилась с лица Жака де Молэ. – Ваше предложение мне нравится, но я не могу его принять.
– Почему, черт возьми?!
– Мне очень хотелось бы, чтобы вы отпустили всех моих рыцарей и вернули им замки. Чтобы восстановилась честь Ордена. Но мне нечем вам заплатить. Единственное, что у меня есть, это моя жизнь.
– То есть вы хотите, чтобы я поверил вам, что у ордена тамплиеров нет тайных богатств?
– Вот именно.
– Но я вам не верю.
– Да я и не очень надеялся.
Глава двенадцатая. Алеппо
Упал крестоносец средь копий и дыма, Упал, не увидев Иерусалима, И сердце сжимает стальная перчатка, И на ухо шепчет ему лихорадка: «Зароют, зароют в глубокую яму, Забудешь, забудешь Прекрасную Даму, Забудешь все Божье и человечье». И львиное сердце дрожит, как овечье. Г. ИвановХозяина Армана Ги звали Нарзес, он был выходцем из Никеи, последние двадцать лет жил в греческом квартале Халеба, или, как он назывался среди европейцев, Алеппо. Нарзес был одним из не слишком многих немусульман в городе, но дела его при этом шли совсем неплохо. Даже более того, он считался одним из самых больших богатеев не в только в городе, но и во всей Северной Сирии. И что самое главное, никто ничего не мог сказать о происхождении этого богатства. Ибо двадцать лет назад Нарзес явился в Халеб в одном драном халате и без единой медной монеты в кармане.
Медленно течет время на Востоке. Медленно и незаметно.
На третий год своего пребывания в плену, а вернее сказать, в греческом рабстве, Арман Ги все еще продолжал строить догадки относительно того, для чего его купили, что за человек его хозяин и почему он так богат. И ни одна из его догадок не казалась ему самому достаточно убедительной. Одно лишь можно было утверждать с уверенностью, что ни кожевенные мастерские, ни торговля персидской хной, ни шелковые караваны, в организации которых участвовал Нарзес, не могли дать такой прибыли, какой располагал вальяжный усач. Да и уважительное, если не сказать почтительное, отношение сарацинских властей к иноземцу и иноверцу тоже требовало объяснения.
Арман Ги искал его и не находил.
И больше всего занимало его то, для чего он был куплен Нарзесом на кипрском невольничьем рынке. Ибо купец не использовал его никак. Или почти никак. Поселил вместе с ноздреватым слугой в небогато обставленном, но уютном домике в глубине огромного сада, который окружал основной дом купца, и был в свою очередь огорожен высоким забором, более похожим на крепостную стену. Стена эта к тому же неусыпно охранялась. Это Арман Ги выяснил в первую же ночь и повторить попытки к бегству с тех пор был не склонен.
– Для чего же он меня здесь держит? Чем дальше, тем чаще задавал себе этот вопрос бывший комтур. Однажды он так осмелел, не в силах долее выносить тягостное безделье, в которое был погружен уже бессчетное число месяцев, что напрямую спросил об этом сирого владельца. Тот искренне удивился. Они играли в шахматы, в тени старого орехового дерева. За спиной пленника журчал небольшой фонтан, в клетках возились попугаи. Один или два раза в месяц грек удостаивал своего раба чести собственного посещения.
– Ты не знаешь, зачем куплен? – Купец поднял с доски белую башню.
– И это меня мучает.
Нарзес медленно и с нескрываемым недоумением оглядел раба-партнера.
– Собственно говоря, я не давал тебе обещания, что стану ограждать тебя от мучений. Кроме того – ты мой раб, и если бы я даже дал тебе какое-то обещание, то мог бы спокойно взять его обратно. И потом, подумай вот о чем – человек не знает главного, для чего он появился на свет, так имеешь ли ты право роптать на судьбу, скрывающую от тебя такую мелочь: для чего тебя купили?
Нарзес любил говорить витиевато и обтекаемо, эту манеру он приобрел на Востоке, и манера эта была ненавистна бывшему комтуру. Он обратился к шахматной доске и сделал импульсивный ход своим королем, и его шахматное положение тут же сделалось безнадежным, примерно настолько же, насколько была безнадежна реальная его жизнь. Купец поспешил в самых издевательских выражениях прокомментировать высокое искусство противника в наилучшей из игр и начал крушить то, что осталось от его оборонительных порядков.
– Вот видите, я даже как шахматный игрок не представляю для вас никакой ценности.
Нарзес усмехнулся.
– Ну, почему же? Как раз наоборот. Посуди, для чего мне раб, который бы меня обыгрывал все время.
Партия закончилась.
Видя, что хозяин собирается уходить, Арман Ги встал. Тот на прощание прочитал ему краткую нотацию.
– Не ропщи на судьбу, это бесполезно и, стало быть, глупо. Ты сыт, одет, не надрываешься на непосильной работе, имеешь возможность развлечься за шахматной доской игрой с таким блестящим противником, как я… Чего же тебе еще нужно?
Купец взял под мышку кожаную сумку с фигурами.
– И не гордись, вот что я тебе скажу. Не положено рабу хотеть того, чего не может его хозяин.
С этой загадочной фразы и начались некоторые изменения в жизни плененного тамплиера. Они накапливались медленно и в начале были неразличимы и неощутимы. Источником новых сведений, которые расширяли загороженный цветочными стенами горизонт, стал Лако.
Нарзес до такой степени уверовал в его преданность бывшему комтуру с одной стороны, и в его беспредельную тупость с другой, что разрешил покидать расположение усадьбы и бродить по городу. Таким образом слуге раба жилось много веселее, чем господину слуги.
Лако начал с того, что как следует осмотрел ближайшие окрестности райского застенка. Выяснилось, что усадьба Нарзеса даже больше, чем это могло показаться вначале. Имелась в ней довольно просторная женская половина. После нескольких дней наблюдения за нею, Лако пришел к выводу, что там находится гарем.
– Гарем?!
– Да, мессир.
– Какой тут может быть гарем? Ведь Нарзес – христианин!
– Но он очень давно живет на Востоке.
– Да, пожалуй, – задумчиво сказал Арман Ги, – и привычки страны стали ему близки. Причем для любвеобильного человека привычки эти весьма удобны.
Лако ничего не ответил.
– Но постой, тогда наш Симон…
Лако молча кивнул.
– Что, евнух?
– Да, мессир.
Симоном звали высокого грациозного персиянина, одного из тех жителей усадьбы, кому разрешалось навещать тамплиерского пленника. Крещеный иранец был весьма мягок в обхождении и красноречив. Начитан в творчестве своих соплеменных поэтов. Впрочем, разговоры на литературные темы не расцвели пышным цветом под сенью укромного павильона. Ибо Арман Ги не разбирался ни в персидской поэзии, ни в какой другой.
Говорили о разных прочих предметах. Поведение персиянина всегда казалось Арману Ги немного странным. Он считал его шпионом, а оно, вон оно что – евнух! Впрочем, одно не исключает другого.
– Ну, ладно, а как это меняет наше положение в этом парадизе?
Лако пожал плечами.
– Пока неясно.
Бывший комтур завалился на свое ложе и уставился в расписной, немыслимо опостылевший ему потолок. Да, время движется, и ничего с этим не поделаешь. Что там происходит во Франции? В живых ли еще король Филипп и в силе ли его поручение?
В последнее время бывший контур все реже вспоминал о своем монархе, хотя никогда не переставал в глубине души считать себя его посланцем.
Итак, ожидание продолжается.
Ожидание чего?
Лако стал подолгу пропадать в городе, на базарах и караван-сараях, выведывать и высматривать все, что можно выведать и высмотреть, не привлекая к себе особого внимания. Он свел дружбу с несколькими погонщиками верблюдов и подробно выспросил у них все, что попадалось им на пути во время путешествия на Восток. О колодцах и самумах, о разбойниках и чудовищах. Караванщики любят поговорить и самая для них сложная проблема – найти слушателя. Лако с удовольствием подставлял свои уши потокам их бесконечных и живописных историй. Он обладал способностью легко усваивать чужие языки и уже на второй год жизни в Алеппо довольно сносно болтал и по-арабски, и по-курдски.
Ему приходилось в основном довольствоваться общением с сарацинскими караванщиками. Не только франкские, но даже византийские купцы появлялись в городе довольно редко, а если и появлялись, то были плохо осведомлены о положении дел в христианском мире.
И вот однажды ему повезло.
Кривоногий коротышка влетел в павильон своего хозяина, когда тот беседовал с евнухом Симоном. Перо сразу понял – что-то произошло. Рабу с его слугой есть о чем поговорить. Выдержав приличествующую подобному случаю паузу, перс церемонно, раскланялся и удалился.
– Итак? – сказал Арман Ги, сверля глазами своего уродца.
– Жак де Молэ жив.
Ломбардский купец, встреченный утром на базаре пронырливым Лако, сообщил эту новость.
– А следствие до сих пор продолжается?
– Да.
– Муж упорный в своих намерениях, – сказал Арман Ги, имея в виду короля.
– Пока он не получит деньги, не отступится.
– Молодец, Лако, благодарю за службу. Надеюсь, у меня будет случай и способ тебя наградить.
Слуга поклонился.
– Но это еще не все, мессир.
– Что же еще?
– Случайно у погонщика верблюдов из каравана одного шемаханского купца я узнал, что где-то неподалеку в горах, всего в нескольких переходах находится та самая древняя крепость Рас Альхаг.
Арман Ги вскочил с места. По правде сказать, ему давно уже казалось, что это наименование носит совершенно легендарный характер. Разве можно серьезную миссию основывать на предсмертном шепоте полусумасшедшего старика, имя которого так и осталось неизвестным? Может быть, он и не имел никакого отношения к Ронселену де Фо, а просто бредил.
– Рас Альхаг?
– Я убежден, мессир… – Лако вдруг вздрогнул, обернулся и по-звериному прислушался.
– Они произносят это имя на свой манер – Раш-Ульха, но я догадался, что имеется в виду. И по описаннию сходится. У местных крестьян считается местом нечистым. Говорят, что там живут рыцари-великаны. Или раньше жили.
Лако еще раз обернулся.
– Что с тобой?
– Мне надо идти, мессир.
– Почему и куда?
– Я не успею объяснить. Они что-то почувствовали.
Усатый господин очень хитер.
– Как я тебя увижу?
– Я дам о себе знать. Может быть, скоро.
Лако вскочил на ноги и почти мгновенно исчез.
Арман Ги остался сидеть на ковре в прежней растерянной позе. В голове кишели самые разнообразные, тревожные, радостные и взаимоисключающие мысли.
Но ему не суждено было разобраться в них. На порог павильона легла продолговатая тень. Это был Симон, на его лице застыла та самая вежливая улыбка с которой он несколько минут назад покинул своего собеседника.
Не подслушивал ли?
Арман Ги огляделся – нет, тут, кажется, негде скрыться.
– Чем могу служить, любезный друг мой? – стараясь говорить в принятом здесь стиле, спросил тамплиер.
– Служба требуется самая невеликая.
– А именно?
– Позовите сюда слугу вашего… не могу толком выговорить его варварское имя.
Как проблескивает острие кинжала из-под распахнувшихся одежд, так проблеснула угроза сквозь вежливо произносимые персиянином слова. Это было так неожиданно, что смятение в голове и душе Армана Ги усилилось. Но одно он понял глубоким внутренним чутьем – надобно потянуть время. Пусть пока этот негодяй считает, что Лако здесь.
– Совершенно не понимаю, зачем такому изысканному ценителю словесного искусства мог понадобиться мой уродец-слуга.
По губам Симона зазмеилась ядовитая улыбка.
– Еще раз обращаюсь к вам с нижайшей просьбой немедленно прислать ко мне вашего Лако.
– О, вы зашли в своем блистательном нетерпении так далеко, что без труда выговариваете столь варварские имена, что…
– Где он?! – взревел, а вернее, вспищал евнух.
Арман Ги изобразил испуг всем своим видом.
– Нужно посмотреть там, – он указал в сторону задних комнат.
Симон, не говоря ни слова, шагнул в указанном направлении, сбив по дороге золоченый кумган с красным вином и растоптав крашеным каблуком персик.
– Здесь никого нет!
– Наверное, пошел куда-то, – нахмурил лоб бывший комтур, как бы всерьез стараясь понять, где его слуга.
Симон не стал задавать больше вопросов, он бегом выскочил из павильона.
Лако в этот момент тоже бежал и находился уже на приличном расстоянии от усадьбы Нарзеса. Он не бросился к базару, где неопытный человек мог рассчитывать затеряться в многоцветной, многотысячной толпе.
Он слишком хорошо изучил здешний базар и все прилегающие к нему улочки. Рыночную площадь очень легко было оцепить таким образом, что выскользнуть с нее не удалось бы даже мыши. Через час-другой это будет сделано. И человек с такой запоминающейся внешностью, как у него, обратит на себя внимание даже самого глупого и ленивого стражника.
Лако бежал к окраине города, туда, где начинались всхолмия, поросшие кустарником, где стояли одичавшие сады, где обычно останавливались цыганские таборы и куда городские стражники предпочитали без особой надобности не соваться.
Очень скоро он добрался до небольшой, покосившейся хижины, стоящей на берегу мелкого, тихого ручья. Пахнуло дымом и запахом овечьей кошары. Здесь жила сорокалетняя подслеповатая вдова, с нею-то и свел ноздреватый франк близкое знакомство. Его устраивало в их сожительстве и то, что Арша была немолода, и то, что подслеповата. Что насчет этой связи думала хозяйка одинокой хижины, осталось неизвестным, да никого и не интересовало.
Отдышавшись в тени старой чинары, Лако вошел на засыпанный овечьим пометом двор. Хозяйка хлопотала у летней плиты, устроенной посреди двора. Над вонючим кизячным пламенем висел черный, как помыслы дьявола, котелок. В нем что-то булькало.
Хозяйка, заметив появление своего сожителя, ничем не выразила отношения к этому факту. Они вообще разговаривали мало, и это только скрепляло их отношения.
Лако миновал кухню, уловил своей волшебной ноздрей, что варево еще далеко не готово, и направился к хлеву, где тут же принялся за работу. Взял деревянную лопату и как следует вычистил самый темный угол. Потом разобрал ту часть забора, что нависала над вялотекущем ручьем. Полученными материалами он превратил угол хлева в клетку, такое было впечатление, что он собирается запустить туда какое-то сильное и дикое животное.
Засим последовал ужин, прошедший, опять-таки, в полнейшем молчании. Отставив котелок и заложив угли в плите дерном, Арша совершила ряд приготовлений, которые недвусмысленно свидетельствовали о том, чего она ждет от своего мужчины сразу вслед за ужином. Мужчина повел себя не так, как обычно. Не ответил на ожидания женщины. Он посмотрел на неуклонно истлевающую полоску заката, вздохнул и отправился вон со двора. Обернулся, правда, у самых ворот и сказал озадаченной подруге:
– Я сегодня навещаю гарем, – сказал он это по-французски. И хотя Арша не поняла ни слова, ей польстило, что с нею разговаривают и она успокоилась.
Примерно в это самое время в гости к Арману Ги пожаловал Нарзес. Без шахмат. В лице ни капли благодушия. Бывший комтур ждал чего-то подобного и поэтому не удивился и не растерялся.
Нарзес сел, провел рукой по лицу сверху вниз, но не снял этим движением ни усталости, ни угрюмости с него.
Арман Ги почтительно присел напротив, понимая, что сейчас ему разумнее всего помалкивать, ведь достаточно секундного каприза – и слуги черноусого богатея сломают позвоночник говорливому рабу.
– Скажи мне, – заговорил Нарзес, – зачем ты здесь?
Всего, чего угодно, ждал тамплиер, но не такого начала.
– Я… я ваш раб.
Купец долгим взглядом впился в лицо франка.
– Да, ты мой раб, я даже знаю, почему тебя купил. Но вот зачем ты здесь, я не могу понять вот уже целых два года.
– Воля ваша, хозяин, но мой бедный разум не в состоянии постигнуть извив вашей благородной мысли.
Нарзес мрачно усмехнулся.
– Льсти, льсти. Это ты правильно делаешь. Я капризный, мне может вдруг надоесть вся эта путаница и я прикажу разрезать тебе брюхо и набить красным перцем. У меня как раз залежалось сто фунтов пенджабского…
Арман Ги счел, что он не вправе комментировать эти слова хозяина. Тот продолжал.
– Да, я капризный. Но я и любопытный. И когда маркиз де Верни настоятельно посоветовал мне купить тебя, я купил. Он утверждал, что от тебя мне будет какой-то особенный прибыток. Он не говорил прямо, хитрый франк, но сумел меня заинтриговать. Он советовал держать ухо востро и не упустить момент… Вот я и следил. И знаешь, что я тебе должен сказать?
– Я слушаю, хозяин.
– Так вот – одно из двух.
– Одно из двух, – механически повторил бывший комтур.
– Н-да, или маркиз меня просто-напросто обманул, всучив негодный товар, пользуясь моей доверчивостью, умело сыграв на струнах моего богатого воображения. Репутация моя в этом смысле широко известна в здешних местах. Либо…
– Либо, – опять покорно прошептали губы тамплиера.
Купец отпил вина из забытой у ложа чаши.
– Я тебе скажу, но сначала мы разберемся с первым «либо». Я поселил тебя как дорогого гостя, отчасти потому, что помнил слова маркиза о твоем благородном происхождении, отчасти потому, что решил получше тебя оградить от мира внешнего. Я мог бы бросить тебя в общий загон для рабов, но тогда как бы я уследил, с кем ты беседуешь, кто подползает к тебе ночью, кто отползает. Мои рабы путешествуют на кораблях и с караванами по всему белому свету, это предоставило бы тебе огромные возможности. Тем более, если учесть, как тебя рекомендовал маркиз де Верни. Он говорил о тебе особые слова. Он был почти испуган.
Нарзес снова отхлебнул вина.
– Но меня все таинственное притягивает. И, принимая вызов высокопоставленного храмовника, а ведь именно таким является маркиз, я как бы поднимался над ним. Впрочем, в этом мало славы. Все, чем управляет де Верни – это шайка разбойников в окрестностях Пафа. Это давно уже не прибежище остатков орденской славы и силы, как считают некоторые. Остались одни черные тряпки на головах. Они давно уже никому не молятся, даже своему черному козлу. Мне теперь кажется, что, отделываясь от тебя, он всего лишь избавлялся от свидетеля своей бездарности и омерзительного падения. Он счел тебя чем-то вроде шпиона. Почему он тебя не убил, мне неизвестно. И вот я слежу третий год за каждым твоим шагом, за каждым глотком выпитой воды, за каждым куском лепешки, съеденным тобой, – и ничего!
– Я не мог быть тамплиерским шпионом. С таким поручением меня мог послать только Великий магистр, а он к тому времени уже сидел на цепи в Шиноне.
Купец снисходительно улыбнулся.
– Это-то мне известно, но известно также и то, что Орден ваш… одним словом, тот факт, что Великий магистр находится в застенке, а командор Кипра маркиз де Берни превратился в обыкновенного разбойника, не обязательно свидетельствует о том, что орден храмовников разрушен. Как бы не наоборот. Поэтому очень может быть, что ты приехал от скрытого Магистра, от истинного Магистра.
Арман Ги покачал головой.
– Не слишком ли это даже для вашего богатого воображения?
– Не дерзи. Ты еще не почувствовал, что твое положение в этом доме резко изменилось?
– Почувствовал.
– Особенно после сегодняшнего бегства твоего мальчишки. Он хорошо притворялся простаком эти два года. Я даже решил попробовать, я рискнул по совету этого негодяя и болвана Симона и разрешил выходить ему в город. И он вел там себя очень умело. Настолько умело, что мои люди, назначенные следить за ним, так и не смогли определить, является он просто глазеющим болваном или просто притворяется таковым. Но сегодняшнее бегство все поставило на свои места.
– Его бегство было для меня полнейшей неожиданностью, клянусь.
Нарзес громко расхохотался.
– Такое впечатление, что после того как твой слуга удалился, весь его напускной идиотизм, перешел на тебя. – Ты хочешь сказать, он скрылся не по твоему приказу?
– Нет, хозяин, клянусь стрелами святого Себастьяна.
– Неудачная шутка. Ты не знаешь, что у нас, на Востоке, стрелами святого Себастьяна называются иголки, которые загоняются под ногти слишком скрытным людям? О чем он сообщил тебе?! О чем вы говорили?!
– Он просто передал мне рассказ ломбардского купца, который прибыл сегодня в Алеппо.
– Что за новость?
– Жак де Молэ все еще сидит в Шиноне, а следствие все еще продолжается.
– Ну, об этом ты мог бы спросить и у меня, я бы не стал скрывать, – снова хохотнул Нарзес, а потом вновь сделался серьезен.
– О том, что было сверх этого сказано, ты пооткровенничаешь с моим палачом. Если, конечно, благоразумие не снизойдет на тебя и ты не выложишь все свои секреты без особого принуждения.
Арман Ги молчал.
– Итак, ты отказываешься говорить, франк, тем хуже. И для тебя, и для истины. Ибо она выходит из рук палача искаженной.
Гарем князя Хасара, повелителя Алеппо, представлял собой целый город. Он занимал четыре квартала, заключая в своих стенах шесть садов, пересекаем был двумя десятками ручьев и арыков.
Любимые жены князя, числом одиннадцать, жили отдельно от прочих жен и наложниц, за специальной красной стеной с большими коваными воротами. Ворота эти никогда не открывались, насколько могла вспомнить самая старая из наложниц. Ветви кустов, вплетшиеся в чугунную вязь решетки, скрывали от посторонних и любопытных глаз жизнь высокой половины гарема. О ней (о жизни за стеной), естественно, складывались бесчисленные и, конечно же, фантастические истории. Известны были лишь имена этих одиннадцати счастливиц. Им страстно завидовали все остальные женщины князя. Хотя их собственная жизнь тоже не была похожа на беспросветное бедствование.
Каждая из жен и наложниц имела небольшой домик и служанку. Кормились все сто семь жен и шестьдесят наложниц с княжеской кухни и к празднику князь присылал им подарки. Правда, такой подарок, как возможность пообщаться с самим князем Хасаром, выпадала далеко не всем и очень уж нечасто. Все знали, что он очень стар и сильно болен и потому для соответствующих услуг ему вполне хватало и одиннадцати женщин.
Время от времени одну из жен или наложниц изымали из нижнего гарема, и тогда считалось, что она переправлена за красную стену. Долго судачившие на эту тему женщины пришли к выводу, что, видимо, кто-то из избранниц там, за красной стеной, впадает в немилость и в такой возраст, когда уже не может согревать старого князя. Для этого больше подходят юные и горячие создания.
Но как он определяет своих новых избранниц, если никогда их не видит, заволновались рассудившие таким образом. Видимо, иногда все-таки старый князь показывается на основной части гарема и тайком заглядывает в шатры и павильоны. И та, которая ему понравится, оказывается в раю для одиннадцати гурий. Это открытие наполняло души претенденток на высокую ласку особым трепетом, они стали к ночи особенно изысканно наряжаться и просиживали иногда до рассвета в ожидании тайного визита.
Надо сказать, что, как это часто случается, женский ум, даже, если так можно выразиться, собранный в большом количестве, проявил себя своеобразно, но все же не с лучшей стороны. Никто не обратил внимания, по какому принципу отбираются кандидатки для перепархивания через красную стену. А чаще всего это случалось с теми красавицами, которые при живом, хотя и невидимом, муже допускали определенные вольности в своем поведении.
Евнухи и обслуживающие красавиц старухи за немалую, правда, мзду, оказывали девам помощь в поиске возможности согрешить. Не один и не два раза через ограду гарема перебирались ослепленные страстью молодые люди, чтобы, хотя бы даже рискуя жизнью, заключить в объятия одну из княжеских жен. Чаще всего это были женихи, так и не успевшие назвать жительниц гарема своими женами там, в прошлой жизни, на воле. Кроме разлученных влюбленных появлялись и просто охотники до всякого рода приключений, особенно рискованных.
Ведь князь был очень, очень стар, он иногда месяцами не показывался перед народом. Он являл свой лик только тогда, когда слухи о его смерти перерастали в настоящие волнения. И эти появления, по словам тех, кто его видел, не шли на пользу, его славе – плохо выглядел князь Хасар несмотря на все усилия врачей.
Год проходил за годом, и ограда гарема начала ветшать. И в прямом, и в переносном смысле. Ограда – это прежде всего люди. Ведь даже Великая Китайская стена, когда была оставлена стражей, перестала быть сколько-нибудь серьезным препятствием. Так вот стражники гарема постепенно утратили бдительность. Более того, многие из них сами стали промышлять на ниве сводничества. Образовалось несколько укромных, надежных лазов через которые почти каждую ночь проникали охваченные страстью молодые люди и попадали в объятия томящихся гурий. И тогда под благоухающими растениями роскошных садов, под прозрачным покрывалом соловьиных трелей совершалось божеское дело любви, хотя бы и беззаконной.
Возвращаясь к замечанию, сделанному чуть выше, надобно заметить, что именно те из княжеских женщин, что переходили в своем пренебрежении матримониальными обязанностями всякую разумную грань, оказывались, в конце концов, за красной стеной. И повторяясь, отметим, что это не только не отпугивало от дьявольского соблазна прелюбодеяния всех остальных, но даже не подталкивало к правильным выводам.
Интересно, что исчезали из пределов райского сада и слишком неосторожные и деятельные старухи и евнухи. Правда, на их счет никто не заблуждался, не считал, что они потребовались в верхнем гареме.
Лако решительно и спокойно приблизился к стене, окружавшей гарем в той части, где она скрывалась от любопытствующих глаз купой развесистых карагачей. Он отлично знал все условные сигналы, принятые здесь.
Ответ прозвучал так же по всей установленной форме. Сверху со стены спустилась веревочная лестница. Нормандский крепыш стремительно по ней вскарабкался. Бросил монету в протянутую руку молчаливого стражника, торгующего честью своего господина. Гостю указали ступеньки, по которым он мог спуститься вниз. Тут его поджидала старуха, она знала, где расположены шалаши, готовые принять ночного гостя. На ладонь старухи легла вторая монета.
Далее последовало короткое путешествие по изящному мостику через залитый серебром ручей. За ним стояло звенящее от соловьиных усилий сиреневое облако. Мерцали фонарики во тьме.
– Туда, – прошептала старуха, – ее зовут Айгуль. Я буду ждать тебя здесь и отведу обратно.
Лако кивнул и, мягко ступая войлочными подошвами, пошел в указанном направлении. Но недолго он вел себя так. Стоило тени основательно проглотить его, как он свернул вправо, миновал несколько кустов (розовых, судя по тому, как они кололись) и вышел совсем к другому павильону. Сквозь заросли, почти вплотную подступившие к его стенам, было хорошо видно, что внутри горит огонь. Двигаясь так, чтобы не создавать никакого шума, Лако приблизился к окну и осторожно заглянул внутрь.
У медного очага с несколькими вяло горящими поленьями ароматического дерева спиной к наблюдающему сидел человек в белой чалме. Оплывшие плечи обтянуты богатой тканью, с пальцев правой руки свисают гранатовые четки. В левой – чаша.
Лако быстро обогнул угол и через секунду возник перед скрытно кайфующим евнухом. Он не просто стоял, а поводил медленно и угрожающе коротким клинком дейлемитской сабли перед бледной от ужаса физиономией хозяина павильона.
Левой рукой Лако достал что-то из своего пояса и спросил:
– Ты Наваз?
Не в силах говорить, евнух кивнул.
В чашу его упала белая горошина и растворилась с нехорошим шипением.
– Пей.
– Что?
– Пей.
– А что это?
Последовал абсолютно незаметный глазу взмах, и на кончике евнухова носа появился небольшой вертикальный надрез.
– Пей.
Капелька крови упала в вино. Это так подействовало на евнуха Наваза, что он в два задыхающихся глотка выпил содержимое.
– Теперь пошли со мной.
– Ты хочешь меня убить?
– Если бы я хотел тебя убить… – Лако сделал вид, что собирается снова взмахнуть клинком.
Наваз прищурился и указал дрожащей рукой на чашу.
– А что я выпил?
– Яд.
Наваз шумно икнул и схватился обеими руками за горло. Глаза его превратились в слитки ужаса.
– Противоядие я дам тебе за стеной гарема.
– Противоя…
– Да. Советую тебе двигаться побыстрее. Иначе противоядие тебе может не понадобиться.
Евнух вскочил, но ноги его держали худо.
– Дай мне противоядие сейчас. Я пойду сам с тобой.
– У меня его с собой нет. Поспеши и учти, если я погибну, то это будет и твоя гибель.
Наконец похищаемый проникся тем, что произошло, и сделал все возможное, чтобы как можно сильнее сократить путь к противоядию. Правда, на веревочной лестнице пришлось пережить ему несколько неприятных мгновений. Ослабевшие от сидяче-лежачей жизни руки плохо держали широченный зад.
Наконец вот она – земля.
– Давай противоядие.
– Я же сказал, его нет у меня с собой.
– А где оно?! – срываясь на истерический шепот, закричал евнух.
– Пойдем, покажу.
Этой ночью можно было видеть на улицах города весьма странную пару. Маленький, страшно коренастый парень, одетый так, как одеваются христианские рабы, а рядом с ним рослый толстяк, очень похожий своими формами на кумган, – весь внизу. Причем парочка эта передвигалась бегом. Из груди кумгана то и дело вырывалось.
– Долго еще?
Направляли стопы свои они на окраину Алеппо.
Два раза их останавливали ночные патрули, но дело в том, что княжеского евнуха Наваза все стражники знали отлично и пропускали беспрепятственно.
Назавтра, когда евнуха хватились, начальник городской стражи, которому ночные патрульные доложили о своей необычной встрече, счел возможным утверждать, что вышеупомянутый евнух покинул территорию княжеского гарема не просто по своей воле, но и с охотой.
Сколь бы ужасными ни казались Арману Ги новые условия его содержания, большую часть своего времени он посвящал не сетованиям, а недоуменным вопросам. Сидя спиной к спине с потным, трясущимся в лихорадке землекопом, он прижимал к груди руки, стянутые суровой веревкой, и размышлял над прихотливым движением своей судьбы. И постепенно в его сознании выстраивалась некая схема. Все было не случайно. Каждое из его приключений было результатом какого-то умысла. Оставалось лишь понять – чьего. И то, как отыскало его послание Ронселена Фо, и то, что ему до такой степени поверил король, который никогда никому не верил на слово, все это не чудо, хотя весьма на него похоже. И уж совсем никаких сомнений не остается в участии какой-то высшей силы в происходящем после кипрского эпизода. Ведь маркиз де Берни чуть ли не силой вынудил Нарзеса купить беглого французского тамплиера. Теперь все стало понятно. Все дело в том, что дом усатого грека максимально близко расположен к развалинам легендарного Рас Альхага, куда, судя по слухам, скрылись после потери Иерусалима и Аккры те, кто воистину стоял во главе Ордена. И эта легенда могла быть сочтена лишь обомшелым преданием, не имеющим ничего общего с реальной жизнью, когда бы в самой этой жизни не было места тем чудесным совпадениям, о коих шла речь выше.
Поэтому, сидя на дне глубокой глиняной ямы, со связанными руками и ногами, в толпе вонючих, терзаемых лихорадкой и вшами рабов, Арман Ги, бывший комтур Байе, пребывал в великолепнейшем расположении духа.
Обещанные ему на завтра пытки не страшили его. Не может он попасть в руки ничтожного провинциального членовредителя. Это против правил.
Но может быть, он неправильно понял правила? Мелькнула змейка подло отсвечивающей мысли. Но бывший комтур изловил ее железной рукой самоуверенности и не без удовольствия задушил.
Ночь перевалила свою вершину.
Дрожали, сопели, стонали, воняли соседи по узилищу. Перекликались колотушки ночных обходчиков. Храпел, взъерошивая выдыхаемым запахом гашиша свои усищи, Нарзес.
И где-то в глубине роскошной и опасной восточной ночи ковался золотой крючок, который вытащит провиденциального храмовника со дна глиняной ямы.
И ждать долго Арману Ги не пришлось. Ждать ему пришлось меньше, чем он отмерил себе в самых самоуверенных мечтаниях.
На краю зиндана на фоне яркого звездного неба появилась фигура в чалме. Фигура эта молча спустила вниз лестницу – бревно с укрепленными на ней перекладинами. Человек в чалме опустился вниз и был сразу узнан бывшим комтуром – это был Симон.
Отыскав нужного ему человека, Симон сказал:
– Пойдешь со мной.
Арман Ги улыбнулся в темноте.
– Куда это?
– К палачу, – сухо ответил евнух, перерезая рабу веревки на ногах.
Спина араба, прижимавшаяся сзади к Арману Ги, перестала дрожать.
Сам тамплиер ни на секунду не поверил, что Симон говорит правду и сейчас предстоит путешествие на пыточный стол. Уверенность бывшего комтура в великолепном исходе дела граничила с безумием, но при этом все более укреплялась. Выбраться со связанными руками из дыры глубиной в двадцать локтей было непросто, но подгоняемый своими радостными ожиданиями пленник сумел преодолеть это препятствие. Потом помог Симону вытащить лестницу. Только после этого были освобождены от пут его руки.
– Почему же ты не разрезал веревки внизу? – с самоуверенным недоумением в голосе спросил Арман Ги.
– Чтобы эти шакалы там внизу поверили, будто я веду тебя именно к палачу.
– А зачем это надо?
– Чтобы они не подняли шума и не разбудили ненароком тех, кому лучше сейчас спать.
– А теперь что?
Симон огляделся.
– А теперь мы покинем кров этого гостеприимного дома.
Евнух был единственным человеком, кому Нарзес доверял ключи от внешних калиток. Наутро у купца были основания пожалеть об этом.
Выбравшись за ограду, Арман Ги пришел уже в почти эйфорическое состояние. То, с какой услужливостью и торопливостью судьба подыгрывала ему, наполняло его легкомысленной радостью. Он чуть не застонал от восторга, когда из дружественной темноты вынырнула фигура Лако.
Приблизившись, слуга приложил палец к губам. И был прав. Невдалеке прошествовал отряд городских стражников. Когда их шаги стихли, Симон сказал Лако:
– Вот твой господин.
– Я вижу.
– Где мой брат?
– В последний момент я решил не приводить его сюда. Это слишком опасно.
– Ты обманул меня. И я с самого начала знал, что обманешь, проклятый франк!
– Говори тише, иначе судьба обманет нас всех.
Переведя взгляд с одного спорщика на другого, Арман Ги быстро уловил суть дела и сказал:
– В любом случае нам лучше уйти подальше от этого места. И побыстрее.
Симон с трудом сдерживал ярость.
– Где мой брат?
– Пойдем, я тебе покажу, – Лако развернулся и пошел в темноту.
Остальным ничего не оставалось как последовать за самоуверенным слугой.
Спустя некоторое время все четверо, двое братьев и господин вместе со своим преданным слугой, сидели у очага в доме Арши и беседовали. Беседа была недружественной. Достаточно сказать, что оба евнуха были связаны, примерно так же, как несколько часов до этого был связан Арман Ги.
Братья вели себя по-разному. На лице Наваза выражалась полная покорность судьбе. Старший брат ярился и шипел от злости. Он никак не хотел смириться с тем, что его так бесстыдно обманули. И кто? Какой-то уродливый гаденыш с тупой мордой! Впрочем, и братец хорош! Зачем было писать это паническое письмо?!
– Зачем ты мне написал, что мы должны бежать, брат?!
– Он сказал мне, что убьет меня, если я так не напишу.
– Он бы не убил тебя, твоя смерть ему не нужна.
– Откуда я мог это знать?
Эта перебранка происходила звенящим персидским шепотом. Арман Ги не понимал, о чем идет речь, но то, что братья ссорятся, ему нравилось.
– Что вы собираетесь делать дальше? – переходя на арабский, спросил Симон.
– Мы отправимся вместе с вами в Рас Альхаг.
Лицо евнуха исказила мгновенная судорога, но он взял себя в руки. Он понял, что история, в которую они попали с братом, серьезнее, чем он предполагал вначале. Когда к нему впервые явилась эта ноздреватая тварь и сказала, что нанята его братом Навазом, чтобы передать важное известие, Симон сразу почувствовал, что тут что-то не совсем так. Но перед ним было письмо, написанное собственной рукой горячо любимого младшего брата. Приходилось верить. Наваз писал, что случайно слышал из уст князя Хасара, мол, теперь настала их очередь. В глубине души Симон подозревал, что рано или поздно такой день настанет. Нельзя всю жизнь балансировать на краю пропасти. Семь лет, исполняя секретные поручения своего таинственного хозяина, он догадывался, что рано или поздно сам станет предметом такого поручения. И вот, кажется, его время пришло. Нарзес решил его приравнять к тем десяткам евнухов, которых он, Симон, в течение этих семи лет препровождал в бездонное жерло Рас Альхага. Персиянин никогда не задавался вопросом, зачем тамошнему властителю такое количество скопцов. Считал это столь же бесполезным, как задумываться о природе дьявола. И вот…
– Почему, – Симон сглотнул слюну, – почему в Рас Альхаг?
– Потому, – улыбнулся Арман Ги, – что ты знаешь туда дорогу.
– И потому, что тебя там знают, – добавил Лако, – ты будешь нашим условным сигналом.
Симон закрыл глаза и прошептал несколько персидских проклятий.
– Ну, ладно, пусть я, но зачем вам мой брат?
– Двое евнухов больше, чем один евнух, – ответил бывший комтур.
Глаза Симона с надеждой приоткрылись.
– Так вы рассчитываете заработать на нас?
– Считай, что так, – пожал плечами Арман Ги.
– Тогда я предлагаю вам сделку получше.
– Интересно будет послушать.
– За нас с Навазом вам много не заплатят. Я занимался этой торговлей не один год и знаю цены.
– Ну и что? – зевнул Арман Ги.
– К тому же – риск. Почти наверняка вы не сможете воспользоваться полученными там деньгами. Поверьте мне, это такое место… Это страшное место. Там совсем другие законы, и еще никто оттуда не возвращался. Я давно понял, не торговлей они там занимаются.
Бывший комтур не торопясь отхлебнул маслянистого варева из глиняной плошки.
– Если хочешь что-то предложить, то уже пора предлагать.
– У меня… на всякий случай… я давно понял, что вечно так продолжаться не может… и вот я припас в очень надежном месте деньги и кое-какие ценности.
– Вот оно как!
– Я дам вам цену десяти евнухов из Рас Альхага. Нет, двадцати, десятикратно за каждого из нас. Мы с братом до смерти будем возносить за вас молитвы. Хоть Аллаху, хоть Зороастру, хоть Христу вашему тоже возносить станем.
– Да-да, – истово закивал Наваз, поняв, что разговор идет нешуточный.
– Молчи, раздвоенный нос! – сердито прошептал ему Лако.
Арман Ги размышляюще поскреб бороду.
– Выходим на рассвете.
– Куда, куда выходим? – заныли персидские братья.
– В Рас Альхаг.
Глава тринадцатая. Понтуаз
Гну я слово, строгаю Ради звучности и лада, Вдоль скоблю и поперек Прежде, чем ему стать песней, Позолоченной Амором, Вдохновленной тою, в ком Честь – мерило поведенья. Царством я пренебрегаю, И тиары мне не надо, Ведь она, мой свет, мой рок, Как ни было б чудно с ней, Смерть поселит в сердце хвором Если поцелуй тайком Не подарит до Крещенья. Арнаут ДаниэльДаже псарня перестала радовать короля. Раньше в минуты дурного расположения духа он отправлялся к своим собакам, рассказывал о своих неудачах и ему казалось, что они понимают его, по-своему, но именно так, как надо. К тому же, как всем известно, собаки не предают. Королевские охотничьи звери по праву считались самыми красивыми в этой части суши. То есть помимо душевного отдохновения они даровали Его Величеству и эстетическое наслаждение. Филипп Красивый любил красивое. Во всем. И в отличие, скажем, от своего буйнопомешанного на дорогом цветастом платье брата Карла, одевался одновременно и строго, и дорого. То есть по-королевски.
Именно поэтому хранитель королевской печати, увидев в урочный час Его Величество не на псарне, а в оранжерее, к тому же облаченным в какое-то немыслимое рубище, пришел в легкое смятение.
Сопутствовал королю в этой странной прогулке Анри Контский, высокоученый монах, с некоторых пор приглашенный ко двору. Он считался прекрасным врачевателем, знал секреты многих корней, трав и минералов. Новое увлечение Его Величества многим казалось странным, но никому не приходило в голову высказать свое мнение по этому поводу вслух. Даже детям. Впрочем, никого из них давно уже не было в Понтуазе. Всем, кто пожелал удалиться подальше от отцовского крова, Филипп не стал чинить препятствий.
Когда хранитель печати приблизился, Анри Контский, держа в руках продолговатый, весь в волосатых шишках корень, объяснял королю его многочисленные полезные свойства и откровенно любовался этим замысловатым произведением природы. Монах был еще человеком нестарым и потому во владении своими чувствами не достиг полного совершенства. Глаза его сверкали, речь сверкала тоже, он был искренне увлечен предметом своего рассказа. Ногаре поймал взгляд короля и успокоился. Все как прежде, слава богу. Глаза Его Величества были бездонны и безжизненны. Блистательная речь вдохновенного ученого мужа ничуть не воспламенила Филиппа. Но прерывать ее течение он почему-то не считал нужным. Хранитель печати остановился в сторонке, ожидая окончания естественнонаучного урока.
Наконец увлеченный монах заметил канцлера и, будучи человеком умным, тут же сообразил, что мешает своим панегириком в честь редкого корня какому-то важному разговору.
– Дела научные не должны мешать течению дел государственных, – так он выразился, откланиваясь.
Филипп кивнул. Он оценил деликатность монаха, но, по большому счету, ему было все равно.
Ногаре приблизился и поклонился. Нужно было с чего-то начать разговор. Поскольку никакого приятного или хотя бы нового известия у него не было, он решил начать с комплимента.
– Признаться, Ваше Величество, странно видеть вас в обществе человека, посвятившего себя поиску эликсира здоровья.
– Отчего же, Ногаре?
– Зачем это человеку, который сам по себе является символом всяческого здоровья?
Король даже не досмотрел в сторону хранителя печати и тому показалось, что комплимент его не достиг цели.
– Должен вам заметить, господин канцлер, что жизнь природы организована сложнее, чем мы можем себе представить. И то, что мы считаем лекарством, при определенных условиях легко может превратиться в яд.
– А-а, – протянул хранитель печати, словно действительно впервые слышал эту мудрость. В голове мелькнула мысль, а не решено ли отравить Жака де Молэ? Или, может быть, король ищет вместе с Анри Контским какие-то одурманивающие корни, что развязывают даже языки, на которые наложено заклятие железной воли?
– Но пока не об этом, Ногаре.
Хранитель печати подобрался:
– Я весь внимание, Ваше Величество.
– Сегодня у нас праздник.
– Праздник?
– Вот именно. Сегодня тринадцатое октября.
Ногаре зажмурился от ужаса, как же он сам не подумал об этом!
– Сегодня ровно четыре года как орден тамплиеров находится под следствием, четыре года как Великий магистр этого Ордена сидит в крепости.
– Точно так, Ваше Величество.
– Ровно четыре года как вы и ваши люди ищете золото Храма.
Тут ответить было нечего.
Король медленно прошелся вдоль тщательно обработанной грядки.
– Кроме того, господин канцлер, через месяц с небольшим будет три года как Генрих Люксембургский, это косое ничтожество, победил меня в споре за корону империи.
– Это прискорбно, Ваше Величество, но я докладывал еще тогда, что тут не обошлось без происков этой авиньонской лисы, я хотел…
– Что теперь говорить, – король заложил руки за спину и покачался с носка на пятку.
– Говорят, он достиг немалых успехов.
– Кто, Ваше Величество, Генрих?
– Вот именно. Он ведь присоединил к владениям империи Богемию, там теперь правит его выкормыш.
– Не хочу показаться навязчивым льстецом, но мне кажется, таким образом он просто расширил пределы того наследства, которое вы неизбежно…
Король фыркнул.
– Что вы мелете, Генриху едва за сорок. Единственная его хворь – косота.
– Косил-то он всегда в одну сторону, в направлении папского престола, а что касается здоровья, то, как мне стало известно, оно пошатнулось. Какие-то колики донимают его последние месяцы.
Филипп Красивый, ничего не отвечая, пошел к выходу из оранжереи. Ногаре, оступаясь, затрусил вслед за ним по междурядью.
– А может быть, может быть, вот что, Ваше Величество – не отправить ли нам в Сиенн опытного человека? Врача.
– Чтобы что?
– Чтобы молодость лет римского императора не вставала больше непреодолимой стеной на пути планов одного весьма достойного человека. Ведь это может быть очень хороший лекарь, известный, он выкажет искреннее желание побороть колики Люксембурга.
Филипп остановился так резко, что Ногаре чуть было не налетел на него.
– Вы знаете, я вас удивлю, господин канцлер. Может быть, вы даже не поверите мне. Но с некоторых пор меня совершенно не интересует, кто будет следующим императором Священной Римской империи.
Глава четырнадцатая. Рас Альхаг
Если б собрать нам все множество бед, Слез и несчастий, и тяжких докук, Слышал о коих сей горестный свет, Легок сейчас показался б их вююк. Ибо наш юный английский король Умер: проиграна доблестью брань В мрачную мир превращен глухомань, Чуждую радости, полную скорби. Смерть беспощадная, скопище бед, Можешь хвалиться, что вырвала вдруг Рыцаря, коему равного нет! Сам совершен, добродетелей друг. Лучшим был юный английский король. Слышима Богу мольба моя стань, Он был бы жив, а не всякая дрянь, Из-за которой достойные в скорби. Бертран де БорнПутешествие по горам для человека, привыкшего к оседлой, более того, комфортной жизни, является тяжелым испытанием. Особенно если путешествующий знает, что конечной целью пути является пасть дьявола. Уже к концу первого дня оба евнуха сбили ноги, ободрали руки о ветки колючих кустарников. Оба обливались потом. Но если Симон при этом молчал, то Наваз непрерывно ныл. Причем нытье младшего брата доставляло старшему значительно большие мучения, чем все камни и колючки.
Наваз не только жаловался на боль и неудобства, но и требовал непрерывно, чтобы брат рассказал ему, что там их ожидает в крепости этой, куда кануло столько людей с теми же увечьями, какие выпали на долю и им самим.
И Арман Ги, и Лако делали вид, будто не обращают внимания на эти братские беседы, но на самом деле прислушивались внимательно. Так уж случилось, что нормального мужчину зачем-то занимает жизнь оскопленного. Непонятно почему. То ли это накопление опыта на тот случай, если, не приведи господи, самому придется оказаться в подобной ситуации, то ли еще что-то. Но так или иначе, большинство мужчин боится таинственной операции по превращению в бесполое существо больше, чем даже самой смерти.
Бывшему комтуру тоже нелегко давался переход. Все-таки три года сидячей жизни давали себя знать. Но рыцарская закалка оставалась тем стержнем, на котором крепилось терпение тамплиера.
– Ну, брат, ты должен меня пожалеть, что нас ждет там, скажи! Что-то ужасное, да?!
Симон молчал, сцепив зубы, и топтал изодранными сафьяновыми чувяками пыльную узкую тропу.
– Ты не можешь не знать, брат. Не можешь! Ты стольких свел в эти горы! Ты не можешь не знать. Что там с ними происходит?!
Молчал Симон, по-прежнему молчал.
Арман Ги в другой ситуации, может быть, и сам бы подумал, а стоит ли лезть в пасть неизвестному и непонятному здешнему дьяволу, но теперь, побуждаемый новой идеей своей избранности, упорно перебарывал приступы усталости и мистического страха, которым веяло от персидского диалога. Перебарывал и решительно двигался вперед.
Переночевали у небольшого костра. Перекусили черствыми лепешками. Под покровом ночи нытье и причитания стали менее отчетливыми, а после и вообще заменились всхлипами.
Хозяин и слуга по очереди сторожили своих ценных пленников.
Перед рассветом Лако, сменяя бывшего комтура, сказал, что окружающие горы не кажутся ему необитаемыми.
– Да, я тоже обратил внимание на следы овечьей отары.
– И еще верблюды. Несколько тряпок, потерянная бусина. Время от времени здесь проходят небольшие караваны.
– Ну, это мы и так знаем, ведь он, – указательный палец метнулся в сторону Симона, – не раз путешествовал сюда. Уж, наверное, не пешком.
– Да, господин.
Утром двинулись дальше. Горы по-прежнему не казались гостеприимными, серые обнаженные камни, редкая, осторожная на вид растительность. Вьющийся над головой стервятник. Внимательный взгляд то и дело наталкивался на следы, обычно оставляемые караванами. Небольшими и состоящими скорее из мулов, чем из верблюдов. Если последний является кораблем пустыни, то мул – лучшее средство транспортировки поклажи в бесшумно бушующем море каменных волн.
Все указывало на то, что скрытая в горах южной Каппадокии таинственная крепость под названием Рас Альхаг, соединена с миром довольно оживленной тропою и путешествующие по ней не считают нужным очень уж скрываться.
– Все, – заявил вдруг Симон у подножья высокой скалы, возле которой делал резкий поворот небольшой прохладный ручей.
– Что «все»? – удивился Арман Ги.
– Дальше дорога мне неизвестна.
– Почему?
– Потому что я доставлял свой «товар» до этой скалы, и здесь меня ожидали слуги Черного магистра.
– Черного магистра?
– Да, так зовут хозяина Рас Альхага.
Арман Ги огляделся, стараясь определить путь дальнейшего путешествия.
– Так ты сам не видел никогда этого Черного магистра?
– Нет.
– Кто же тебе платил деньги?
– Никто, никогда мне никаких денег не платил.
– Не понимаю, зачем ты тогда занимался тем, чем ты занимался.
– Я слуга моего господина. Видимо, кто-то рассчитывался с Нарзесом прямо в Халебе.
– Но с кем-то ты здесь все же встречался?
– Да, с людьми Черного магистра. Но я никого не видел в лицо.
– Почему это?
– Они прятали свои лица под покрывалами.
Арман Ги сплюнул.
– На этом Востоке все считают своим долгом прятать лицо. Я сначала думал, что это только кипрская мода.
Симон пожал плечами и не стал комментировать это замечание бывшего комтура.
– А откуда ты узнавал, в какой день и в какой час ты должен оказаться здесь с грузом, или, как ты говоришь, с «товаром»?
– Об этом мне говорил Нарзес.
– А ему кто сообщал?
Симон развел руками.
– Нарзес был знаком с Черным магистром?
– Не знаю. Навряд ли.
– Что за неуверенность в твоем голосе?
– Хозяин делился со мною далеко не всеми своими тайнами. Я не знаю, был ли он знаком с властителем Рас Альхага.
– Говоря по совести, это неважно. Был Нарзес приятелем этого Черного магистра или не был, мы все равно отправимся дальше.
Евнух криво ухмыльнулся.
– Но я действительно не знаю дороги.
– Ты не мог не видеть, в какую сторону угоняют тех, кого ты сюда доставил.
– Мог. Люди под покрывалами требовали, чтобы я уходил первым. И не оборачиваясь.
Арман Ги пожевал губами.
– Сколько лет, говоришь, ты занимался своим подлым ремеслом?
– Почти семь.
– За это время должна была протоптаться тропа, хотя бы и в камнях.
Лако, во время этого разговора рыскавший с изучающим видом вокруг места встречи, остановился, наклонился, как бы принюхиваясь, потом выпрямился и призывно свистнул.
– Вот видишь, – удовлетворенно сказал Арман Ги Симону, – пошли.
– Я не понимаю, чему ты так радуешься, – сквозь зубы сказал евнух, – не знаю уж, что там в крепости творят с нами, скопцами, но ведь так может случиться, что с вас там, например, сдерут шкуру.
– Если на барабан Господу, то я согласен, – захохотал бывший комтур, произнеся старую альбигойскую поговорку.
– Мы можем не дойти, – проныл Наваз, пытаясь встать.
– Почему-то мне кажется, что крепость где-то неподалеку и ночевать мы будем не под открытым небом.
Арман Ги оказался прав. Едва начало смеркаться, шедший впереди Лако обернулся и подал знак – приготовиться.
– Вон там, – сказал он, указывая в просвет между двумя большими валунами.
– Да, это башня! – воскликнул бывший комтур и сам зажал себе рот.
– Мы совсем рядом, – сказал слуга, – но они нас не заметили.
– Или вы не в состоянии определить, следят за вами или нет, – ядовито прошипел Симон.
Арман Ги несколько раз крутнулся на месте, пытаясь высмотреть предполагаемых наблюдателей. На Востоке, он знал, такие разбойничьи гнезда имеют охранительные щупальца, иногда выдвинутые на много миль от стен. Достаточно вспомнить Старца Горы и его замок.
Лако небрежно заметил.
– Там никого нет. Подходы к крепости никем не охраняются.
Это сообщение произвело на спутников Лако отрицательное действие. Сформулировал замелькавшие в голове мысли Симон:
– Надо полагать, что Черный магистр настолько грозен, что может позволить себе беспечность.
Арман Ги нахмурился и ничего не ответил.
– Мы идем дальше, – таково было его решение.
Крепость Рас Альхаг по мере приближения к ней все больше поражала воображение. Общая сумрачность постройки усугублялась громадными размерами отдельных камней, из которых крепость была сложена и темно-серым их цветом. Создавалось впечатление, что сооружение это возводилось некогда для существ, превышающих среднего человека раза в три. Невольно всплывало воспоминание о легендарных гигантах, коим молва приписывала основание Рас Альхага. Молва повествовала об этих существах скупо и как бы испуганно.
Постройка была, несомненно, старинной, это было ясно хотя бы из того, что несмотря на особую устойчивость кладки в некоторых своих местах она имела честь обрушиться. Отчего? От действия всепроникающего времени? Или это следы грозовых разрядов высшей воли, выместившей на крепости местных гигантов свое загадочное неудовольствие?
Вряд ли представлялось возможным найти ответы на эти вопросы.
Единственное, что портило картину древней, грозной, непроницаемой величественности – это странные белые и цветные точки и полосы в углах бойниц и в провалах между зубцами башен. Крепость по мере приближения к ней, начинала напоминать кусок заплесневелого черного хлеба.
И только оказавшись совсем рядом, путники поняли, в чем тут дело.
Белье!
– Это сушатся чьи-то рубахи, – растерянно сказал бывший комтур.
В принципе, ничего особенно странного в том, что стражи Черного магистра чистоплотны, не было, и даже в том, что стираные подштанники предложены на обозрение всей округе… но как-то это не вязалось с образом обиталища сумрачных, непостижимых изуверов.
Растерянность и недоумение гостей усугубились, когда из-за каменного выступа появилось широкое лицо и, увидев четверку путников, взвизгнуло по-бабьи и скрылось. Чуть позже из-за стен донеслись ширящиеся звуки дикого переполоха.
– Это бордель! – с чувством сказал Арман Ги.
– Или гарем, – таинственно улыбнулся Наваз.
– Надо войти, – неуверенно сказал Арман Ги, указывая на открытые ворота.
– В любой бордель можно войти без всякого опасения, – заметил Симон, – но не во всякий гарем.
Арман Ги окинул раздраженным взглядом гаремного специалиста. Но основные претензии сейчас были не к нему, а к провидению, которое вырвало его, бывшего комтура Байе, из лап палача, чтобы что? Чтобы бросить в толпу визжащих баб? Неужели в ней может скрываться главная тамплиерская тайна?
Трудно сказать, сколько бы длилось это недоуменное состояние, если бы в распахнутые ворота крепости не начали выбегать какие-то люди в разноцветных покрывалах с прорезями для глаз и в руках у них не обнаружились бы мечи обнаженные и копья изготовленные.
– Слава богу, – сказал бывший комтур. И его можно было понять. Зашатавшаяся было перед его глазами картина мира вновь обрела устойчивость.
Лако, следуя примеру своего господина, отбросил на камни меч и кинжал. И вся четверка была немедленно и сердито пленена.
Спустя некоторое время бывший комтур и его слуга сидели в маленькой каменной комнатенке, на куче прелой соломы. В высоко под потолком расположенном окне посверкивали звезды. Плененные молчали. Слишком странным показалось им увиденное для того, чтобы обмениваться торопливыми мнениями.
По поведению людей в покрывалах было понятно – вот-вот нежданных гостей отведут к местному хозяину. Арман Ги продолжал надеяться на лучшее, но его томила неизвестность.
Молчаливые покрывала приняли без особого азарта двух доставленных ими евнухов, они явно не рассматривали их как подарок или ценный товар. Бывший комтур стал сомневаться, являются ли эти сверхобрезанные настолько звонкой монетой, как об этом думалось.
Не понравилась бывшему комтуру и внутренность легендарной крепости. Она была своеобразно обжита, но жизнь, протекавшая в ней, слишком уж не соответствовала ни размерам сооружения, ни его репутации. Она даже компрометировала гордое название Рас Альхаг.
Оставалось ждать, может быть, встреча с местным начальством что-то разъяснит.
Тяжело, мучительно заскрипела дверь, такое впечатление, что ей было противно служить на этом месте и подчиняться недоумкам под покрывалами.
Пленники встали и направились к темному проему. Но Лако неожиданно наткнулся на острие копья, появившееся из темноты. Так ему было велено остаться на гнилой соломе. Господин желал беседовать только с господином. Лако не слишком возражал – слуга, он и есть слуга.
После довольно долгого блуждания по темным, сырым коридорам и лестницам, тускло освещенным светом смоляных факелов, Армана Ги ввели туда, где по замыслу и должна была, видимо, состояться беседа.
Довольно большая зала, перегороженная широченной золотой занавесью. Слева углубленный в пол каменный бассейн с горячей, парящей, приятно пахнущей водой. На противоположной стене три трехфакельных светильника, почти не издающих дыма. И все. И ни живой души.
Впрочем, за расшитой золотом занавесью что-то чувствовалось. Чье-то присутствие. И не просто присутствие. Слышались шлепки, тупые удары, тяжелые вздохи, могучие взревывания. Если бы нормандскому комтуру приходилось когда-нибудь видеть гиппопотама, он бы подумал, что именно его массируют за золотой занавесью.
Невидимая и шумная процедура продолжалась довольно долго, но, судя по характеру звуков, все же приближалась к концу. Это обнадеживало, ибо бывший комтур устал стоять, особенно если учесть предшествовавшее путешествие.
И вот золотая преграда заколебалась, торопливые руки подхватили ее за низ с той стороны и начали осторожно приподнимать. Раздался удар невидимого гонга и гость Рас Альхага увидел большую круглую кадку с четырьмя приделанными к ней ручками, наподобие галерных весел. За каждую из них держалось по два белых покрывала. В кадке же помещался, наполняя ее как квашня, огромный человек с пятнистым, как у спрута, лицом, со струпьями на почти лысом черепе и с глубоко запавшими глазами. Облачено это «тесто» было в парчу, усыпанную неимоверным количеством драгоценностей.
Покрывала, поставив своего господина перед будущим собеседником, молча и торопливо удалились.
Установилось молчание. Нетягостное, ненапряженное. Молчание-предвкушение.
Рассматривая Черного магистра – Арман Ги был уверен, что это он – нельзя было не подумать, что это первое существо, скроенное по мерке тех исконных владельцев и строителей Рас Альхага. Бывший комтур подумал это и, отступив на шаг, поклонился. Но поклон у тамплиера получился неловким, ибо за спиной у него оказалась маленькая скамейка. Он мог бы поклясться, что, когда входил в залу, ее не было.
– Кто вы? – раздался вдруг голос, полно соответствующий размерам и важности того, кто был вынесен из-за занавеси.
Бывший комтур положил себе сначала скрыться за выдуманным именем и за выдуманной историей, чтобы иметь возможность присмотреться к обстоятельствам и выбрать правильную линию поведения. Но звук этого голоса оказал на него странное действие, безропотно осыпался панцирь защитного замысла и бывший комтур сказал:
– Я франк. Дворянин. Имя мое Арман Ги. Некогда принадлежал к ордену рыцарей Храма Соломонова.
Богато украшенное тесто медленно и страшно втянуло в себя воздух так, что даже пар над бассейном немного склонился в его сторону.
– Это хорошо, что вы говорите правду. Ибо меня обманывать не просто бесполезно, но и небезопасно.
Арман Ги не сразу понял, что его больше всего потрясло в словах Черного магистра. Ах, да! Он говорил не на лингва-франка, а на чистейшем французском языке. В этих-то восточных дебрях!
– И вот что я вам советую, шевалье Ги – раз уж вы начали говорить правду, то и продолжайте это делать.
Бывший комтур склонил согласно голову.
– Какое положение вы занимали в Ордене?
– Карьера моя прервалась в должности комтура Байе, что в Северной Нормандии.
– Имели ли вы конфликт с нынешним Великим магистром Ордена?
– Мой конфликт с ним кончился подземельем Тампля.
Гигант опять вздохнул, между его вздохами можно было не торопясь сосчитать до тридцати.
– Я задам вам еще вопрос, и в ответе на него будьте особенно откровенны. Это в ваших интересах.
– Я готов.
– Зачем вы пожаловали в Рас Альхаг?
Арман Ги ответил не сразу, и не потому что раздумывал, что именно скрыть. Скорее наоборот – он прикидывал, как составить такой ответ, чтобы он полнее удовлетворил этого разряженного гиппопотама.
– Понимаю, что трудно говорить, слишком широкая картина открывается вашему мысленному взору, мешают подробности.
– Пожалуй.
– Меня не интересует ваша история целиком. Я спрошу вас о нескольких отдельных моментах, но тут уж вы будьте точны и не скрытны сверх меры.
– Обещаю вам… мессир.
«Тесто» колыхнулось.
– Если вы теряетесь в поисках титула, которым было бы удобнее меня именовать, остановитесь на «сир».
Позже я разъясню вам, почему именно на нем.
– Понимаю.
– Итак, начнем задавать вопросы. Не были ли вы в вашей французской жизни знакомы с идеями некоего человека по имени Ронселен Фо?
Бывший комтур одновременно обрадовался и испугался, как быстро нащупана здешним хозяином его суть!
– О, да!
– Хорошо. Не они ли, эти идеи, толкнули вас в это путешествие?
– Опять-таки, да.
– Вы побывали в гостях у маркиза де Берни?
Арман Ги лишь поклонился в ответ.
– В какой степени это ваше странствование связано с интересами короля Филиппа?
– В огромнейшей.
– Король думает, что послал вас на поиски тайной казны ордена тамплиеров?
Арман Ги замялся.
– В известной мере… то, что думает король Филипп…
Человек в кадке вздохнул.
– Ясно. Не трудитесь. Нельзя ответить искренне, если ответа нет. Теперь можете сесть.
Бывший комтур уселся, испытывая огромное облегчение. Ему казалось, что он был на волосок от гибели.
– Теперь, далекий гость, можете, если хотите, и мне задать несколько вопросов. Даже не несколько – сколько угодно. Я, в свою очередь, обещаю, что мои ответы будут совершенно правдивы.
Арман Ги недоверчиво улыбнулся.
– Мне понятна ваша нерешительность. Позволю себе дать вам совет.
– Охотно ему последую.
– Спросите, как зовут вашего необычного собеседника, и заодно извините мою неделикатность. В начале беседы я не был уверен, стоит ли мне представляться. Спрашивайте.
– Как вас зовут, сир?
– Граф д'Олорон к вашим услугам.
Нижняя челюсть бывшего комтура подвигалась, словно пережевывая только что услышанную новость.
Человек в кадке кажется был удовлетворен тем, какое впечатление произвел звук его имени.
– Тот самый граф д'Олорон?
– Вы так удивлены… вы, вероятно, слышали о моей смерти, да?
– Вот именно. Считается, что вы руководили отступлением… Потом удерживали какой-то рубеж вместе с сотней рыцарей. Но это было…
– Это было давно. Очень. Но согласитесь, я ведь не выгляжу юношей.
Бывший комтур деликатно промолчал.
– Все это было – и героическое отступление и героическая оборона. Кстати, закончившаяся успехом. Мы отстояли Рас Альхаг. Сарацины Идрис Хана отошли, а сам он умер. Вернее, наоборот, сначала он умер, затем произошел панический отход. На наше счастье мусульмане решили, что смерть их вождя была делом моих рук. Или чар. Со временем вера в невероятную способность бородатого франка в красно-белом плаще стала абсолютной. Этому способствовала целая цепь невероятных и очень впечатляющих совпадений. Но это отдельная повесть, не время ее сейчас излагать.
– Как вам будет угодно, сир.
– Скажу честно, никакими сверхъестественными способностями я не обладаю и не обладал, но у меня хватило ума не опровергать славу, приписываемую мне здешней молвой. Мои люди тоже быстро поняли выгоду подобного положения.
Граф захохотал, вдруг вспомнив, видимо, забавный случай из той поры. Хохот его был, конечно же, монументален. Казалось, что слуги, сидящие за занавесом, собирают его раскаты и делают из них плиты для ремонта башен Рас Альхага.
– Вы ведь были у маркиза де Берни?
– Да, сир.
– Это, кстати, сын моего верного соратника. Так вот, этот несчастный стал заурядным морским разбойником без чести, без ритуала, без идеи. Другое дело – я.
Мне не пришлось выезжать на караванные тропы и кого-то грабить. Местные жители сами взялись доставлять мне богатые подношения в обмен за невмешательство в их обычную жизнь. Я и мои рыцари стали вести жизнь сытую и праздную. Постепенно мы даже перестали охотиться. Но настало время, когда на Рас Альхаг обратил свой взор князь Алеппо. Какой властитель может допустить существование еще одного центра власти в пределах своих владений!
Бывший комтур кивнул.
– Он собрал войско, этот князь Хасар. И думаю, нам, начавшим жиреть и научившимся лениться, пришлось бы худо. Но тут опять случай. Заболевает любимая жена князя. Как раз накануне выступления. Хасар пребывает в полной уверенности, что виновно в этом мое черное волшебство. Он присылает гонца с требованием снять чары, иначе… Что оставалось делать? Я объяснил, что чары снимаю, умрет так все равно умрет, неправда ли? Не умерла. Даже расцвела после болезни. А с князем мы сделались ближайшими друзьями после этого.
Граф внезапно прервал течение рассказа.
– Как вы думаете, зачем я вам все это выкладываю, а, господин рыцарь?
Арман Ги чистосердечно признался:
– Не знаю.
– Да вот и я не знаю. Давно я никому не рассказывал своей истории. Никому. Но раз уж начал. Дружба наша с князем шла своим чередом. Положение мое, стало быть, еще более упрочилось. Жизнь в крепости потекла совсем уж не по монашеским правилам. Вино, женщины. Ну, о нашей внутренней орденской жизни много судачат всякие завистливые пустомели и ханжи-святоши, но обычно она уравновешивалась внешними воинскими подвигами. За отменой оных открывалось два пути для сохранения какой-нибудь формы. Или суровая святость, или окончательная степень распутства. Что вы думаете выбрали мы? Да, разврат. Можно сказать, разврат на философском уровне. Предел падения, мерзейшие из видов грязи. Презрение к плоти через изнурение ее непрерывными удовольствиями. Надо признать, не все приняли новое направление в жизни-обители, но все же большинство. Огромное большинство.
Граф д'Олорон снова испустил серию голосовых раскатов.
– Трудно даже вообразить, что тут творилось, какие надругательства над человеческой плотью, какие бесподобные половые ужасы и гекатомбы обжорства и пьянства. Кажется, мы перебрали и перепробовали все. Мы добрались до тех страниц книги разврата, откуда нам забрезжил свет некоей святости.
Арман Ги слушал внимательнейше, он даже не заметил, как стала отвисать его нижняя челюсть.
– Тем временем умирает князь Хасар. Тоже наконец ставший истинным тамплиером и одним из самых углубленных в новой вере. Чтобы не заполучить на престоле княжества человека, не готового окунуться в свет нашей неординарной истины, пришлось заплести интригу, подделать кое-какие бумаги. Не буду вдаваться в детали. Новым князем Алеппо стал я. Боюсь, что вы несколько удивлены.
Бывший комтур с трудом сглотнул слюну.
– Я потрясен.
– Не так уж трудно, честно говоря, эта было сделать. И именно потому я велел называть меня сир.
– А как же мусульманство?
– Что «мусульманство»?
– Вам же приходилось участвовать в обрядах и прочее всякое.
Граф фыркнул, как четверка боевых коней.
– Неплохо бы вам, ученику Ронселена, вспомнить такую очевиднейшую истину, что в определенной плоскости понимания все религии мира едины. И для знающего, для посвященного переход из одной в другую не сложнее смены облачения. Вы хотите со мной поспорить?
– Не смею.
– И правильно. Наши предшественники хорошо это знали, поверьте мне.
Рассказчик похлопал пухлопалой ладонью по краю кадки:
– Собственно, почти все интересное я вам уже рассказал.
– Я понимаю.
– Что вы понимаете?
– Почему так беспечно охраняется крепость. Бояться некого, если Черный магистр и князь Алеппо – это один человек.
Рука графа сделала небрежный жест.
– Чтобы понять это, не надо сильно напрягаться. Но вы, кажется, еще что-то хотите спросить?
Арман Ги деликатно покашлял.
– Говорите же!
– Я о евнухах. Откуда взялись эти дикие слухи, что Рас Альхагу потребны скопцы в больших количествах?
– Это не дикие слухи, а чистая правда.
– Да-а?
– Именно так, и виною всему знаете что?
– Нет.
– Годы. Да, да. Человек, как это ни странно, старится. Если плоть год из года разрушать, она разрушается. Посмотрите на меня.
Арман Ги опустил глаза.
– Нет, вы посмотрите на меня. Я обладал циклопическим, неестественной крепости здоровьем. На кого я похож сейчас, на кого?
– Я не…
– Я похож на кусок прокисшего теста. В печени у меня живет какое-то чудище с сотней клыкастых голов. Мои ноги распухли и отказываются мне служить. У меня двойная кила и громадная грудная жаба. Моя кожа покрыта струпьями. Вы хотите сказать, что это наказание мне за мою прежнюю жизнь?
– Я не знаю, – одними губами прошептал гость.
– Именно так. Наказание. Я это понял несколько лет назад. Я давно проник в свою ошибку. Философскую нашел неправильность в своих первоначальных рассуждениях. Надо не умертвлять плоть насильственным утолением желаний, надо вырвать корень желания из тела человека, чтобы он не имел возможности желать. Лишить его даже выбора между желанием и отказом от него. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Боюсь, что нет.
– Боитесь? Бойтесь. А пока я вам объясню, о чем идет речь. Я думал очень долго и пришел к выводу, что вся пирамида вожделений стоит на одной плите. Даже не так, пирамида эта перевернутая и острием своим она упирается в одну точку. Вот так правильнее.
Арман Ги вяло улыбнулся, он совершенно не знал, как ему себя вести.
– А точка эта – половое влечение. Лишенный его человек постепенно избавляется от всех прочих увлечений. Недаром первое, что заметил Адам, вкусив от змеиного плода, что он мужчина, и захотел женщину. Стал плодиться и размножаться с наслаждением. Увеличивать горы греха и моря горя в этом мире. Недаром же считается, что спасшиеся на том свете станут бесполы, даже обладая при этом телами своими. Как же это можно телесно воскреснуть и пол свой не утратить при этом?! Долго, долго и мучительно думал я об этом.
Голос Черного магистра гремел под сводами залы и, казалось, сотрясал всю крепость.
– И нашел выход! Нашел!
– Оскопление? – прошептал Арман Ги.
– Правильно! Наконец-то правильно. Лишившись уда своего, этого гадчайшего из органов, человек начинает преображаться. И полностью очиститься ему мешает знаете что?
– Что?
– То, что он продолжает жить среди людей. Скопцов – единицы, они втянуты в дела ослепленных страстями человеческих масс, невольно сами начинают интриговать. Иногда даже правят империями. Но хотят – другого.
– Чего же, сир?
– Это очень просто, – голос графа вошел в привычные пределы, они должны жить среди себе подобных и, вдали от обычных людей.
– Но, простите, как же они… род их вскоре пресечется.
– А не такова ли идея всего Священного Писания? Род людской не может пребывать вечно. Будет поколение, которое назовется последним. Ведь не расточение семени, а завоевание вечного блаженства – цель жизни земной. А иначе бы и не было объявлено о грядущем Страшном суде. Вы потрясены?
– Да, я потрясен, – искренне сознался Арман Ги.
Граф удовлетворенно облизнулся.
– И вот я организовал соответствующую обитель.
– И вам удалось все, что вы ждали от этого начинания?
Человек в кадке мощно поморщился.
– В любом, даже святом, деле нельзя избежать сложностей. В идеале, конечно, членами моей общины должны становиться оскопившиеся добровольно и даже радостно. Но не всегда этого можно добиться, и более того – весьма редко. Не все догадываются о своей пользе. Но это легко объяснимо. Чтобы открыть духовные очи человека и заставить их узреть истины, приходится прикладывать определенные усилия. И мы их прикладывали не покладая рук.
Арман Ги напряженно молчал в ожидании новых невиданных откровений.
– Н-да. Мы скупаем наших несчастных братьев, томящихся по гаремам всего магометанского мира, здесь они находят умиротворение и понимание. Братское участие и отеческую заботу. С моей стороны.
– Но, сир, простите за, может быть, дерзкий вопрос.
Граф шумно кашлянул.
– Ну?
– А не пытаются ли они бежать, я имею в виду самых неразумных из новообращенных.
– Не знаю. Наверное, нет. Охранники у меня хороши. Потому и кажется, что крепость плохо охраняется, что копья их обращены вовнутрь, а не вовне. И потому братия моя спокойна и довольна. Всем.
– А сами охранники?
– Что «охранники»?
– Им здесь нравится?
– Да какое это имеет значение?!
– Ну, в общем…
– Они никуда не могут бежать. Сейчас покажу почему. Эй, иди сюда кто-нибудь.
Из-за занавеси мгновенно появился человек в покрывале и поклонился.
– Сними.
Покрывало шурша взлетело и Арман Ги отшатнулся – на него глядело жуткое, безносое лицо. Рядом с этим человеком Лако, например, даже при всех своих ноздрях, мог сойти за родственника Филиппа Красивого.
– Так ильханы поступают с осквернителями могил, – сообщил граф д'Олорон. – А правоверные мусульмане отлавливают тех, кто вышел из-под ножа монгольского палача, и убивают, как бешеных собак. Открыться безносому человеку совершенно негде, теперь понятно?
– Так все стражники осквернители?
– Зачем, я сам им режу носы. Тем, кто покрепче, и годится носить копье.
– А они… они не серчают на вас, сир?
– Ну и пусть. Ну убьют они меня – куда денутся? Лучше уж со мной и без носа, чем без меня и без жизни.
Граф зевнул, отворив зловонную пещеру. Разговор явно приближался к концу.
– Ну вот, нормандец и тамплиер, ты узнал все, что хотел, правильно?
– Да, сир.
– И я хочу тебя поздравить с прибытием. Надеюсь, ты с открытыми глазами примешь истинную веру.
Ужасающая догадка вспыхнула в мозгу рыцаря.
– Какую веру? Вы сказали…
– Да, – с гордостью заявил Черный магистр, князь Алеппо и граф д'Олорон, – уже завтра тебе и твоему слуге будет оказана высокая и неизбежная честь, и вы сможете разделить вместе со всеми нами жизнь в истине.
– А я не могу! А если я не хочу?!
– Ты можешь отказаться, но тогда тебе придется лишиться носа. И надеть покрывало. Как и твоему слуге.
Тем более ему, как мне сказали, не так уж много и отрезать-то придется.
Когда Армана Ги вывели из залы, за его спиной еще долго стоял каменный смех.
Глава пятнадцатая. Понтуаз
Нерушимость привычек полезна для всякого Человека. Ведь немногие стойки в принятых ими решениях, если им не придает силы страх, как бы они не покрыли себя позором, отступившись от них.
Раймон АнжуйскийКогда король охладевает к исполнению своих обязанностей, жизнь в государстве не замирает и некоторое время продолжает течь так же как и текла прежде. Как обманутый муж последним узнает о преступлениях жены, так и государь (порой) последним осознает, что правит не совсем той страной, которой некогда правил.
Замок Мобюиссон под Понтуазом был невелик и не слишком роскошен. Он стал королевской резиденцией во времена Бланки Кастильской, бабки Филиппа. Его Величеству он нравился своей уютностью и непретенциозностью. Замок находился всего в десяти лье от Парижа, но казалось, был отделен от него на сто дней пути.
Конечно, до Филиппа доходили известия о том, что господин коадъютор Ангерран де Мариньи полностью взял в свои руки управление государством. Он не просто ведает сбором налогов, а замыслил вещь, ранее невиданную и непостижимую. Он решил унифицировать денежную систему государства, дабы повсюду ходила одна монета. Сверх того, он замыслил войну с Фландрией, более других противящейся введению единообразного для всех налогообложения. Забегая вперед, скажем, что война такая была развязана и с блеском в самые краткие сроки выиграна. Права верховной власти были подтверждены Маркетским миром.
Ангерран де Мариньи не останавливался в своих планах переустройства королевства на урегулировании финансовой стороны дела. Он в глубине души, разумеется, считал истоком всякого зла на Земле всевластие царствующей особы. И в стране, где монархическая идея даже еще не полностью восторжествовала, где не до конца была упразднена власть провинциальных владык, он уже придумывал узду для окорачивания абсолютизма. Он думал о народном самоуправлении. Создаваемые в крупных городах ассамблеи граждан по его инициативе получили возможность обсуждения королевских ордонансов. Пока еще только обсуждения, но в перспективе Ангеррану де Мариньи виделась уже французская палата общин.
Король понимал направление мыслей главного своего администратора, от него не укрывалась исконная враждебность его планов всему тому, что олицетворял он, Филипп Капетинг. Но странный паралич воли и отсутствие вкуса к политической жизни оставляли короля в необъяснимой для окружающих неподвижности.
И на других фронтах жизни он терпел урон, хотя до поры до времени не знал о нем. Его невестки Бланка, Маргарита и Жанна в недрах Нельской башни устроили настоящий вертеп. Король относился к ним с симпатией, даже, может быть, большей, чем к своим сыновьям – Людовику, Филиппу и Карлу. Он рассчитывал, что именно бургундские красавицы родят тех принцев, которым можно будет доверить кормило управления королевством, не слишком опасаясь за его будущее. Когда появились первые намеки, первые неуверенные наветы, он отринул их. То ли счел их происками тех, кто мечтает расколоть королевскую семью, то ли у него не было внутренних сил для нанесения удара. Разумеется, если бы ему были представлены неопровержимые доказательства прелюбодеяния, он был бы вынужден действовать. Но он счел их плодами грязного воображения придворной черни, всегда завидовавшей удачливости короля в житейских делах.
И, наконец, самой большой непрерывной неприятностью оставалось тамплиерское следствие. Все предпринятые меры (а они были громадны по своим масштабам) не дали ничего. Гора не родила даже мыши.
Оставалось только поверить в то, что орден обладал только теми деньгами, что числились в его расходных книгах. Но сознание отказывалось в это верить и с этим смиряться. По всем бумагам выходило, что внутренняя жизнь тамплиерских общин мало чем отличалась от жизни обычного ордена, бенедиктинского или доминиканского, например. Тамплиеры не стремились даже к исполнению тех инквизиционных функций, что возложили на себя те же доминиканцы. Ведение таких дел сулило немалые прибыли. Признания в отречении от Христа столь отчетливо попахивало дымом пыточных горнов, что король морщил свой благородный нос, читая допросные листы.
Великий магистр Ордена и командор Нормандии, покрытые тюремными паразитами, обросшие наподобие диких зверей, медленно сходили с ума в Шинонских подвалах. Они при ближайшем рассмотрении скорее походили не на людей с несгибаемой волей, решивших во что бы то ни стало скрыть какую-то тайну, а на примитивных, ни во что не посвященных дедков, случайно попавших в жернова государственной интриги. Они молчат, потому что им просто нечего сказать.
Дело выглядело настолько безнадежным, что даже Ногаре проявил тенденцию к отдалению от него. Одна лишь церковная комиссия занималась им вплотную. Для вящего контроля над ним, архиепископом Парижским, был назначен брат коадъютора, Жак де Мариньи. Его работа сводилась в основном и препирательствам с иоаннитами по поводу тех тамплиерских ценностей, что должны были по решению короля и папы перейти в их владение, но никак переходить не желали. Архиепископ не обладал умом и дальновидностью своего брата, все эти качества ему заменяла жадность, и он торговался из-за каждого серебряного крестика и раки из красного дерева, не понимая, что роет тем самым могилу и Ангеррану, и себе.
Филипп делил свое время между охотой в лесу Пон-сент-Максанс и беседами с братом, Анри Контским, который проживал в бенедиктинской обители рядом с Мобюиссоном. Было бы преувеличением сказать, что они проводили вместе очень много времени. Может быть, они и встречались всего шесть или семь раз, но дело в том, что с другими людьми, не входившими в непосредственное окружение, Его Величество встречался и беседовал и того меньше. К тому же ни с кем, кроме этого церковного естествоиспытателя, король не говорил на отвлеченные темы.
– Скажите, святой отец, вы что-нибудь слышали о Раббане Комасе? – спросил как-то монарх, наблюдая, как монах пересаживает чахлый росток из одной грядки на другую.
Анри Контский встал, удивленно глядя на короля. Руки его были испачканы в земле, это странным образом усиливало впечатление его обескураженности.
– Да, Ваше Величество, слышал.
– И что же именно?
– Я тогда был еще совсем молодым человеком, Ваше Величество. Раббан Комас – это несторианский архиепископ из Ирана.
Король покачал головой.
– Из Китая…
– Да, да, именно. Его послал иранский ильхан. Это было очень странное событие. Сейчас, когда вы напомнили о нем, оно все отчетливее проступает у меня в памяти.
Филипп усмехнулся.
– Да, это был словно визит райской птицы. Посольство из сна. Но, что интересно, иранский владыка предлагал мне конкретное дело. И благородное к тому же.
– Любопытно было бы узнать, Ваше Величество.
– Союз. Против турок. Пять тысяч войска. Освобождение Гроба Господня. Я почти дословно помню те переговоры. В предложениях потомка их… я забыл как его имя, монголы зовут его Потрясателем Вселенной; так вот, в предложениях его не было ничего фантастического. И я почему-то уверен, что ильхан меня бы не обманул, возьмись я за это предприятие. Кажется, тогда во мне зародилась эта тяга на Восток.
– И что же помешало свершению этого богоугодного дела, Ваше Величество?
Филипп присел на корточки и потрепал пальцем только что посаженый росток.
– Мечта моя была похожа на это растение. И Ангерран де Мариньи, впрочем, тогда еще не обладавший в своем имени дворянской приставкой, отсоветовал мне.
– Понятно.
– Вы знаете, святой отец, какие советы действеннее всего?
– Не думал об этом, Ваше Величество.
– Те, которых вы не просите. Мариньи как-то в разговоре в моем присутствии, но не обращенном ко мне, сказал, что для своего времени уже походы Ричарда Львиное Сердце были явлением устаревшим. Он разорил страну, дабы прославиться лично. Это не дело государей.
– Возможно, он был прав, – осторожно сказал монах.
– Возможно. Но времена меняются. Никогда нельзя сказать заранее, время ли сейчас идти на Восток или не время. Есть ли страшнее прегрешение, чем упущенная возможность? Я имею в виду королевские прегрешения. А Ангерран… – король слегка искривил в улыбке губы, – когда-нибудь о нем скажут, что он опередил свое время. Не обо мне, заметьте, о нем. И мне его жаль. Что-то есть невыразимо жалкое в этом стремлении опередить время, подтолкнуть его. Насколько величественнее выглядят те, кто от времени отставал. Тот же Ричард.
Анри Контский молчал, понимая, что король не нуждается в его комментариях к своим речам.
– Но со временем понимаешь, что не во времени суть. Простите мне этот каламбур, святой отец. Отставание от него и опережение одинаково неважно. Как вам кажется, вы понимаете, о чем я говорю?
– Мне кажется, да.
Филипп встал с корточек и помассировал затекшие ноги.
– Тогда вместе с китайским несторианином прибыл к нам и какой-то монах, учитель их веры. Не несторианский проповедник, а китаец с бритой головой. Он неплохо говорил по-французски. Мне довелось побеседовать с ним. Юношеское любопытство.
– Как же он смог выучить наш язык в тех краях?
– Этого я не знаю, но помню, что он рассказывал поразительные вещи. Не только о своей вере, но и о Востоке вообще. Поразительные по своей глупости. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.
– Вы не могли бы что-нибудь вспомнить из его речений, Ваше Величество.
– Очень много лет прошло, но главная мысль довольно проста. Аргументы забылись, а она сама вот – душа человеческая не умирает.
– То же глаголет и Святая Церковь.
Король поморщился.
– Не спешите, святой отец. То, да не то. Причем, что интересно, китаец этот рассказывал сие не о своей, желтой, как он сказал, вере, она сама меня нисколько не заинтересовала, а о вере какого-то большого соседнего народа. И мысль эта вот в чем. Души не просто бессмертны. Они переселяются из одного тела в другое и так множество раз. Моя душа может влететь после моей смерти в тело какого-нибудь вора или шлюхи. А ваша – вселиться в собаку или в константинопольского патриарха. Разве не чушь?
– Чушь, Ваше Величество, – убежденно сказал монах.
– Более того, он утверждал, что моя душа где-то блуждала, в ком-то жила до вселения в мое тело. И мне не дано постигнуть, где именно она шлялась. Какая дикая идей!
Анри Контский истово перекрестился, чем побудил Его Величество к такому же действию.
– Еретическая, безбожная и нелепая мысль. Она известна церковным мыслителям издавна, приписывается она одному старинному греку по имени Пифагор и даже его современниками была высмеиваема. Так что ваш монах не сказал вам ничего нового, а просто повторил старинную глупость.
– Пифагор, – задумчиво произнес король.
– Наши математики и геометры используют его некоторые практические мысли при возведении зданий и мостов, но в целом Святая Церковь отвергает и осуждает его нелепое учение.
– Ну и отлично! – сказал резко король и не попрощавшись пошел вон из оранжереи.
Главы шестнадцатая. Рас Альхаг
Я видел, вижу, словно и сейчас, Как тело безголовое шагало В толпе, кружащей неисчетный раз, И срезанную голову держало За космы, как фонарь, и голова Взирала к нам и скорбно восклицала. Он сам себе светил, и было два В одном, единый в образе двойного, Как – знает Тот, чья власть во всем права Остановясь у свода мостового, Он кверху руку с головой простер, Чтобы ко мне свое приблизить слово. Бертран де БорнАрман Ги в бешенстве носился по келье, сотрясая воздух самыми непристойными ругательствами, на которые только был способен его язык. Его можно было понять, вряд ли бы отыскался на всем белом свете мужчина, способный воодушевиться тем, что только что было ему обещано Черным магистром.
Лако сидел в углу и тоже, кажется, не блаженствовал. Он выглядел оцепеневшим. Глаза его были закрыты, в то время как ноздри особенно как-то отверсты.
– Лако, а Лако, разрази тебя дьявол, ты что – спишь?!
– Нет, мессир.
– Надо бежать отсюда, Лако. Немедленно!
– Посмотрите в окно, мессир.
Арман Ги взобрался на каменный выступ и заглянул в оконный проем.
– Да, дьявол мне в глотку и печень, высоко. Слишком высоко!
– А теперь попробуйте дверь, мессир, – сказал слуга, все так же не открывая глаз.
Дверь была обита железом и выглядела настолько внушительно, что бывший комтур не стал приставать к ней с испытаниями, а обратил бессильный свой гнев против слуги.
– И это все, что ты мне можешь предложить?!
Лако, не открывая глаз, развел руками.
Арман Ги зарычал от злости и снова стал кружить по келье, пиная время от времени стоптанными сапогами каменные стены.
– Ты напрасно надеешься, что тебя эта чаша минует, напрасно, Лако.
– Отчего вы решили, мессир, что оскопление производится чашей?
– Ты еще смеешь шутить?!
– Что же мне еще остается?
Этот впечатляющий обмен репликами был прерван скрипом открывающейся двери. Из темноты коридора в узилище бывшего комтура и его слуги были впихнуты их старые друзья, Симон и Наваз. Проскрипев в обратном направлении, дверь закрылась. Персияне, причитая что-то по-своему и отряхивая изрядно обтрепавшиеся халаты, поднялись с пола.
Увидев своих недавних спутников по горной прогулке, они повели себя по-разному. Наваз закручинился, предвкушая, видимо, новые издевательства. Симон, наоборот, почти обрадовался. По крайней мере, за издевательскую ухмылку на его устах можно было ручаться.
– Что ты смеешься, негодяй?! – подступил к нему Арман Ги с занесенными кулаками.
– Я и не думал смеяться, господин! – быстренько совершил крестное знамение зороастрийский выкрест.
– Ты радуешься тому, что оказался прав? Ты слишком торопишься. Прежде чем над нами произведут то, что… прежде чем… короче говоря, у меня еще будет время вытрясти из тебя душу.
Симон прижался спиной к стене и опять истово перекрестился.
– Я это знаю, господин. Кроме того, у меня нет особого повода для радости.
– Не лги! – крикнул бывший комтур и его кулак снова угрожающе замаячил над головой евнуха. – Чего вам быть в печали, вы тут среди своих, хуже вам уже не будет. Эта безногая туша мне рассказала, что еды и прочего здесь вдоволь. Будете сыты и пьяны. Только подштанники свои будете сами стирать и вывешивать на стенах, – сказав это, Арман Ги вдруг бешено захохотал, колотя себя кулаками в грудь, как бабуин. Необъяснимая уверенность в благоприятном исходе дела, оставившая его сразу после разговора с Черным магистром, никак не желала возвращаться.
– Успокойтесь, мессир, – негромко предложил Лако.
– Что? – взревел рыцарь. – Что?! Ты смеешь давать мне такие советы! Ты, кусок навоза из-под паршивой коровы!
И Арман Ги с размаху пнул сапогом своего слугу в бедро. Тот сильно качнулся, но не открыл глаз. Это еще больше разозлило бывшего комтура, он отошел на два шага и решил нанести следующий удар с разбега. Но тут его ждала неудача. В последний перед ударом миг слуга, все так же продолжая притворяться дремлющим, качнулся в сторону, и сапог Армана Ги пришелся в стену. Рыцарь громко застонал от боли и повалился на солому.
Евнухи забились в дальний угол. Они опасались самого худшего.
Лако встал и, наклонившись над хозяином, негромко произнес:
– Мессир, очнитесь, вспомните о своем великом предназначении.
Валяясь туда-сюда по усыпанному соломой полу и скрипя зубами, бывший комтур прорычал:
– Я начинаю сомневаться, Лако, что тайна тамплиерства стоит той цены, которую я должен буду за нее заплатить.
– Тише, мессир, тише.
Бывший комтур уже стал приходить в себя, рыцарская истерика заканчивалась.
Лако посмотрел в сторону соседей по заключению. Они демонстративно взирали в другую сторону, будто бы их заинтересовали разводы сырости на стене.
Наконец Арман Ги полностью овладел собой, лицо его сделалось хмурым и сосредоточенным. Он встал с пола и принялся снова расхаживать по каменной пещере от окна к двери и обратно, заметно припадая на правую ногу.
В келье сохранялось напряженно-обреченное молчание. Нарушил его Симон.
– Господин, – мягко и осторожно обратился он к рыцарю, прижимая руки к груди.
Бывший комтур остановился над своим бывшим пленником.
– Чего тебе?
– Позвольте мне сказать несколько слов. Надеюсь, разумных.
– Говори свои слова.
– Я знаю, каким образом мы все могли бы выбраться отсюда. Вы могли бы не подвергаться ужасной операции. Ужасной, я знаю что говорю.
– Это и без твоих заверений понятно. Излагай, что у тебя за план. И почему ты говоришь «мы все». Вам зачем бежать отсюда?
– Извините, господин, я потом это объясню. Но сначала я хотел бы поговорить о другим, о вашем предназначении.
– Что-о?! – Арман Ги выпучил глаза, а Лако даже открыл.
– Нет-нет, не думайте, я не подслушивал, но слышал то, о чем вы говорили с вашим благородным слугой. Но не в этом дело. Главное, о вас мне рассказывал еще мой хозяин, Нарзес.
Арман Ги неуверенно потрогал свой ус.
– Что именно он тебе рассказал?
– Немного, но достаточно для того, чтобы сделать вам сейчас хорошее предложение.
Бывший комтур, молча разъедая взглядом перса, продолжал теребить растительность на верхней губе.
– Нарзес сказал мне, что вы странствующий рыцарь-тамплиер. Странствуете вы не в поисках денег или славы. Это было бы заметно сразу.
– В поисках чего же странствую?
Симон неуверенно улыбнулся.
– Хозяин мой, Нарзес, говорил мне, что некогда, и не очень давно, в этих местах или поблизости от них были большие христианские царства и орден тамплиеров имел в их величии свою блестящую долю.
– Рассказывай, рассказывай.
– Более того, есть поверье, говорил Нарзес, где-то в здешних замках остались их главнейшие святыни. Наподобие Гроба Господня, только в состоянии скрытом, неявном. Мыслю себе, что крепость эта, служащая нам горестным приютом, одно из таких святилищ, ибо почему бы вам с таким необъяснимым упорством было стремиться сюда, отказываясь от денег и рискуя жизнью и не только ею одной.
– Положим, это так. Но пока я не вижу никакого разумного предложения в твоих словах.
Перс сделал суетливое движение рукой, мол, сейчас все будет.
– Сейчас оно прозвучит, господин.
– Опять ты начнешь о своем тайнике с цехинами. Но даже если бы я согласился – как мы выберемся отсюда?
– Выбраться отсюда очень трудно. Очень, очень, – захлюпал носом Наваз. Симон положил ему руку на голову и тот стих, как попугай, на клетку которого набросили покрывало.
– Некоторое время назад я беседовал с Черным магистром.
– Мы тоже, – фыркнул бывший комтур.
– Я евнух, господин.
– Не может быть! – не удержался от банального ехидства рыцарь.
– Каждый евнух – немного врач, а я, более того, в юности учился этому искусству.
– Ну так и что, какое ты хочешь найти здесь применение своим знаниям? Нога моя почти не болит.
– По моему мнению, Черный магистр не проживет более суток. Я вообще удивляюсь, как жизнь ухитряется теплиться в этой насквозь прогнившей туше.
– Поня-ятно, – протянул тамплиер, в глазах его появились маленькие огоньки.
Симон между тем продолжал:
– Можете себе представить, что начнется в крепости.
Это был не вопрос, но бывший комтур счел нужным на него ответить.
– Представляю.
– Паника, развал, разброд. Здесь все держится железной волей Черного магистра. Когда она исчезнет…
– Так, так, чем же это выгодно нам? Мы ведь, так или иначе, под замком. Мне лично все равно, по чьему приказу меня оскопят. Самого Черного магистра или его преемника.
– Мы можем выбраться наружу.
– Как?
– Мы можем подкупить того, кто стоит за дверью и сторожит нас.
– Чем?
Симон замялся.
– Извините, господин, за дерзость, а ваш крест, если, конечно, он золотой.
– Я свой крест, понимаешь ли…
– Прошу вас еще раз извинить меня, но другого выхода у нас нет. Ваш Бог простил бы вам это прегрешение.
– А ваши кресты?
– Мой брат – мусульманин, а я хотя и крещен, но ношу простой кипарисовый крест.
Бывший комтур потер глаза, потом сказал проникновенно:
– Я тамплиер.
Это прозвучало почти так же странно, как недавнее заявление Симона «я евнух».
– Я знаю, господин.
– Я настоящий тамплиер.
Персиянин промолчал, не зная что ответить.
– У меня нет креста, – пояснил бывший комтур. С этими словами Арман Ги развязал ворот своей рубахи, на волосатой груди имелась только кожаная ладанка, и это было все.
Симон тяжело вздохнул, помолчал, потом поднял полу своего халата и начал рвать зубами угол.
– Что ты делаешь? – в ужасе спросил Наваз.
– Что надо! – прорычал Симон, плюясь нитками.
Наконец была извлечена на свет небольшая золотая монетка, лишенная изображения.
– Почему ты сразу ее не достал, негодяй, зачем завел речь о крестах?
– Это не деньги, как вы, наверное, подумали.
– Что же это? – Арман Ги повертел в руках монету, – да, на деньги не слишком похоже. Отвечай же, что это?
– Это горсть родной земли, как сказал бы христианский паладин.
– Не понимаю.
Симон снова вздохнул, еще тяжелее прежнего.
– Я такой же христианин, как и вы. Крестился лишь для виду, потому что попал на службу к купцу-греку. Местные власти гонят и ненавидят последователей Зороастра.
Бывший комтур усмехнулся.
– Забавно. Доминиканцы, стало быть, правы. Надобно проверять истинность крещения.
Рыцарь подбросил на ладони монету.
– Хорошо выглядит твоя родная земля.
– Истинной родиной почитателя Зороастра является огонь. Золото лишь олицетворяет его.
– Ценю твою жертву, хотя и не понимаю, зачем ты ее принес. Ведь после смерти Черного магистра вы бы с братом могли спокойно покинуть крепость и вернуться по своим гаремам, а то и отправиться на все четыре стороны.
Симон отрицательно и угрюмо помотал головой.
– После смерти Черного магистра власть здесь захватит безносые. Они никого не выпустят, чтобы никто не смог рассказать правду о Рас Альхаге. Безносых истребляют безжалостно в здешних местах, считая осквернителями могил.
– Да, я слышал об этом.
– Если по округе пойдет слух, что в крепости полно безносых, сюда рано или поздно явится армия. Безносые это понимают и, чтобы скрыть истину, пойдут на все.
– Пожалуй, ты прав.
– В лучшем случае нам отрежут носы.
Бывший комтур задумчиво поскреб щеку мощными ногтями.
– Так ты хочешь, чтобы мы с Лако помогли вам выбраться отсюда?
– Да, господин.
– Но это опасно. Безносых, насколько я понимаю, здесь достаточно, а нас всего двое. И без оружия.
– Трое. Я тоже кое-что понимаю в военном деле.
– Ну, это мало что меняет.
– Но ведь вам все равно придется выбираться отсюда, хотя бы ради себя.
– Вдвоем проще. Без такой обузы, как вы с братом, у нас больше надежды на успех.
Симон встал и потянулся, сладко хрустнув суставами.
– Я не предлагаю вам заниматься нашим спасением безвозмездно. И поскольку я понял, что деньги не стоят для вас на первом месте, назначаю другую форму оплаты. Уверен, она вам подойдет.
Арман Ги сел на пол спиной к стене и положил ладони на колени.
– Любопытно будет узнать, что имеется в виду.
– Вы что-нибудь слышали о горе Сках?
Глаза Армана Ги сузились, он бросил короткий взгляд в сторону Лако, тот был невозмутим.
– Гора Сках? – нарочито рассеянно переспросил бывший комтур.
– Мы попали в Тир. Там и были мы оскоплены и проданы в разные гаремы.
– Так вы никогда не знали женщин?
– Нет, – с некоторой даже гордостью заявил Симон. – В книге великого поэта Абу-эль-кассем Мансура, прозванного Фирдоуси, есть рассказ, который многим кажется таинственным, если не бессмысленным. И все это потому, что он исполнен великого смысла. Речь в нем идет об одном арабском принце по имени Заххак. Он возжелал власти и славы и для скорейшего осуществления своих желаний заключил договор с Иблисом, говоря вашими франкскими понятиями, с дьяволом. Дьявол убил отца Заххака, помог принцу победить великую персидскую империю и ее великолепного, громоблистающего царя Диамщида. В обмен на это он попросил принца только об одном – поцеловать его между лопатками. Тот не смог отказать. Тут же после поцелуя из лопаток Заххака выросли две черные змеи и потребовали еды себе. А еда их, как выяснилось, – мозг молодых юношей. За эту плату змеи стали неусыпными стражами принца и он правил Исфаганом в течение веков. От него и произошло племя езидов.
– Интересная история, – сказал Арман Ги без особого уважения в голосе, – однако для чего ты ее нам рассказываешь?
– Около восьми лет назад нас с братом похитили охотники за рабами, это было неподалеку от упоминавшегося мною Исфагана. Отец наш был мерабом, смотрителем арыков местного князя, очень уважаемым человеком. Наверное, он уже умер от горя. Но не в этом дело. После похищения нас повезли на верблюдах на Запад. Целый караван с рабами и пряностями. То, что на Запад, легко было определить по Солнцу, и, насколько я разумею, мы были в числе тех, кто должен был послужить пищей для этих черных змей.
– Почему ты так уверенно об этом говоришь?
– Потому что мы очень близко подъехали к горе Сках. Название это я слышал от погонщиков наших верблюдов. Мы стояли вплотную у крепостной стены и видели многое.
– Что вы там такое видели и почему вас все-таки не сожрали змеи, раз вы все равно были для этого предназначены?
Симон пожал плечами.
– На этот вопрос мне трудно ответить. Может быть, хозяин каравана не сошелся в цене с управителем крепости. Может быть, мы были слишком молоды. Нам ведь и десяти лет не было тогда. Так или иначе, с частью каравана мы отправились дальше на запад, пока не отдалились от крепости.
– Никогда, – подтвердил его слова Наваз.
– Ладно, – махнул рукой Арман Ги, – вернемся к Заххак. Что вы видели там такого, что сохранилось в вашей памяти до сих пор?
– Мы видели там тамплиеров, – просто сказал Симон.
– Тамплиеров? – воскликнул бывший комтур.
– Да, всадников в белых плащах с красными крестами. При встрече они обнимали друг друга и целовали в плечо. Таков же обычай езидов, что проживают на горе Сках в пещерной крепости. Езиды гонимы всеми и мусульманами, и христианами, и зороастрийцами, но неистребимы при этом.
– Ты сам видел это? Ну, то, что плащи, кресты, и то, что целовали в плечо?
– Да, господин. Я сидел в ивовой корзине на верблюжьем боку, в просвет между прутьями мне хорошо было все видно.
Арман Ги подошел к стене и уперся в нее ладонями, словно пытаясь повалить. Потом вдруг резко обернулся и подбежал к персу.
– Где эта гора?
– Там, – сказал тот, махнув рукой в ту сторону света, где восходит солнце.
– Не шути со мной!
– И не думаю, господин. Я был ребенком тогда и по пути от горы Сках на запад запоминал не названия городов и рек, а то, как они выглядят. Я могу довести вас туда, но не могу рассказать, как туда дойти.
Тамплиер вернулся к стене и снова вцепился в свой ус так, словно подергивание его помогало ему размышлять. Внутри у него опять появилась и стала наливаться жизнью уверенность, что судьба споспешествует ему. Ну, разумеется, это именно так! Связываться с этими уродами неохота, хватит одного своего, но, кажется, ничего не поделаешь, придется.
– Хорошо, я помогу вам с братом, но ты…
– Клянусь вечным Зерваном, я приведу вас к горе Сках.
И как бы знаменуя заключение этой договоренности, по крепости поползли смутные, тупые удары гонга. Они доносились с той стороны, где должна была находиться зала с золотым занавесом.
– Умер, – прошептал Симон.
– Умер, – просвистел Наваз.
– Умер! – прорычал Арман Ги.
Лако вскочил со своего места и одним броском вцепился в горло Навазу. Тот дико заверещал. Симон кинулся ему на помощь, но бывший комтур схватил его за руку и что-то прошептал на ухо. Лицо евнуха просветлело и он стал топать ногами и истошно вопить. Арман Ги тоже вложил голос в общий сумасшедший хор. Надо было спешить, ибо, услышав звук, стражники могут убежать для выяснения того, что случилось, и тогда с запорами ничего нельзя будет сделать.
Расчет заключенных оказался верным, в щели под дверью затрепыхалось пламя факела и послышался недовольный окрик безносого.
Арман Ги тут же бросил в щель зороастрийское золото, и оба евнуха разразились таким визгом, в сравнении с которым поросячий мог бы показаться надменным молчанием. Стражники обменялись гундосыми мнениями и пришли к выводу, что заключенные делят золото. Глупо упускать такой случай. Громыхнули запоры, скрипнули петли. Алчно сопящие, безносые твари ввалились внутрь. Расправа была короткой и почти бесшумной. Лако умел убивать. Господин его тоже не вполне утратил воинские навыки.
Короче говоря, через несколько мгновений у двоих франков и двоих персов было три меча и одно копье. Мечи были разными. Кривой сарацинский, заржавевший длинный германский и один широкий, непривычной формы и неизвестного происхождения. Но выбирать не приходилось. Копье было с бородой, как у степной конницы, со слегка обгоревшим древком.
По состоянию захваченного вооружения можно было судить о качестве противостоящего войска.
В Армана Ги вселилась необыкновенная бодрость. Он считал, что главная часть успеха уже достигнута. Осталось только незаметно, а лучше – с легкой дракой, покинуть незапертую крепость. Построились в колонну. Роль тарана играл Лако. За ним второсортная боевая единица Симон. Третьим балласт – Наваз, ему всучили сомнительного происхождения мечище, он оттягивал безвольную руку. Арьергардом служил сам бывший комтур – Арман Ги. Германский неудобный клинок был в его руках.
Освещая дорогу факелом, его нес Лако, стали пробираться по запутанным внутренним переходам. Повезло, что никто из безносых не попался на пути. Впрочем этому было объяснение – гонг. Его гул оттягивал к себе жителей крепости. Очень было бы хорошо, если бы они погрузились хотя бы на несколько часов в пучину, пусть и притворного, горя и скорби по своему почившему предводителю. Беглецам этого времени хватило бы скрыться и замести следы.
Но случается так, что везение изменяет даже тем, кому обычно везет.
Когда вооруженная четверка выбежала на внутреннюю галерею, внизу лежал пустынный двор. До полуоткрытых в сторону свободы ворот оставалось шагов пятьдесят. Десять – вниз по ступеням и сорок – горизонтально по мощеному двору. Но тут случилось нечто страшное. Раздался тяжелый многоголосый рев и из трех широких дверей, выводивших во двор из толщи крепостного дворца, хлынуло три потока людей. Сначала могло показаться, что в этой каше. Богом является беспорядок, но очень скоро глаз признал свою ошибку. Никакого беспорядка, наоборот, шло упорядоченное и организованное избиение безносыми всех прочих. Нетрудно было догадаться, кем являются эти прочие.
Визг, рев, хрип.
Струи, ручьи, реки крови.
Сорок шагов до крепостных ворот стали непроходимы.
– Назад, – скомандовал Арман Ги.
И вовремя, некоторые из безносых, расправившись со своими евнухами, стали посматривать по сторонам в поисках работы. Не стоило ждать, когда они поднимут глаза вверх.
Последовало еще одно путешествие по скользким, противным внутренностям Рас Альхага. Если бы у беглецов было время размышлять, они могли бы подумать, что путешествуют внутри огромной жабы.
Наконец удалось отыскать местечко, удобное для незаметного бегства. Часть стены съехала по склону, внизу травянистый откос.
Первым сбросили Наваза. Он в полете потерял меч и сознание. И слава богу, что приземлялся безоружным, – обязательно зарезался бы. За ним последовал бывший комтур. Крякнул, приземлившись, и грузно покатился по траве. Симону и Лако уже пришлось доказывать свое право на прыжок. Один безносый, но глазастый стражник высмотрел их и налетел сзади. Лако, почуяв его приближение, успел развернуться и уклониться. Острие вражеского копья высекло из голого камня бессильные искры. Второй попытки себя убить Лако не предоставлял никому. Кривой сарацинский клинок блеснул на солнце, выйдя из спины нападавшего. Дав ему воинственно покрасоваться лишь долю мгновения, слуга бывшего комтура выдернул его и прыгнул вместе с Симоном вслед за остальными.
Бежали изо всех сил, но сил было не так много. Даже персидские братья не скулили. Возле поворота дороги остановились, чтобы отдышаться и оглянуться. В отличие от античного персонажа, покидавшего Аид, правильно сделали. Ибо вот что увидели.
На стене Рас Альхага стояло несколько человек, держа в руках хорошо знакомую бывшему комтуру кадку, и силились ее перевернуть. Наконец им это удалось и огромный кусок мертвого мяса бесшумно полетел на камни, несколько раз нелепо подпрыгнул и исчез в небытии. Состоялось воздушное погребение.
Но не это сильнее всего впечатлило беглецов. А зрелище того, как из ворот крепости выбегают люди, и во множестве. Трудно было различить, без носов ли они, но можно было сказать с уверенностью, что они с оружием.
– Бежим! – заорал Арман Ги.
И команду не пришлось повторять дважды. Предстояло карабкаться в гору, в то время как погоне дорога стелилась под гору. Так что расстояние очень скоро естественным образом сократилось до мизерного. А охотник тем азартнее, чем ближе добыча.
Охотников было около двадцати. Бегали они не все одинаково хорошо. Но, к сожалению, соревнование в скорости, по сути, происходило между самыми медленными среди убегающих и самыми быстрыми из догоняющих.
Уже очень скоро случилась первая стычка.
Лако, притворно отстав от остальных, схватился с самым ретивым бегуном. Его кривой меч, которому как бы понравился вкус крови безносых, сделал свое дело так же быстро, как и в первый раз.
Вид зарубленного товарища не облагоразумил его друзей. Скорее наоборот, вселил в них ярость.
Во второй раз отставать и отбиваться пришлось обоим франкам, причем сразу против троих безносых. Нападавшие оказались в общем неумехами. Но стройному и быстрому их убийству мешала одышка и неровности под ногами.
И тут еще этот крик.
Распоров пасть от уха до уха одному из преследователей, Лако обернулся и увидел, что на прячущихся в тылу братьев набегают двое безносых, обошедших место битвы справа. Кричал Наваз. Старший брат поднял копье и метнул. Он не врал, когда говорил, что умеет обращаться с оружием. Острие пробило горло негодяю. Но второй, подлетев, раскроил топором визжащую голову Наваза и крик захлебнулся в собственной крови.
Безоружный Симон бросился бежать. Безносый, дико ощерившись, кинулся в его сторону, испытывая уже не охотничьи, а палаческие чувства. Он был уверен, что жертва от него не уйдет. Хуже, что так же думал и наблюдавший с расстояния в пятьдесят шагов эту сцену Лако. Но ошиблись оба, безносому не суждено было воспользоваться возможностью убить и второго перса.
Он вдруг замер на бегу и рухнул лицом вниз. И из его спины медленно вышло острие стрелы, упершейся оперением в камни.
Безносые, во множестве выбежавшие на каменистую поляну между еловых стен, увидев фигуру всадника, стоящего в полусотне шагов в тени леса, тут же бросились бежать обратно.
Хозяин и слуга утерли пот со лба.
Брат склонился, рыдая, над братом.
Глава семнадцатая. Авиньон
И словно на вселенском троне, Воссядет папа в Авиньоне. Отсюда обозрит спокойно Все то, что зрения достойно. Благословит он без смущенья Все, что достойно восхищенья. Подаст отсюда помощь верным, Отпор врагам неимоверным, Врагам Христа и душам грешным, Любым, земным или нездешним. Для короля, народа, клира Звучат слова из центра мира. Авентин де Ламондуа– Вы?! – удивление Климента V было искренним, хотя, по размышлении, вряд ли в свете могло быть что-то способное удивить наместника Бога на Земле.
Кардинал де Прато смиренно приблизился и смиренно же поцеловал руку Его Святейшества. За протекшие годы, а их было числом пять, он изменился мало. Все так же был сух, землист цветом кожи, скуп в движениях и прост в одежде. Папа же изменился заметно, образ жизни, весьма далекий от подвижнического, сказался на его облике. Мешки под глазами, желтый отлив белков глаз, одышка. Даже в сидячем положении дыхание первосвященника было затруднено. Де Прато окинул его понимающим взглядом, в котором было мало участия.
За стенами авиньонского дворца стояла поздняя осень, в покоях Его Святейшества, несмотря на пылающую, «пасть» камина и десяток переносных жаровен, расставленных по углам, было прохладно. Климент кутался в подбитую мехом полость, с лица не сходило, недовольное выражение.
– Представляете, какие холода! Что-то будет зимой, – не удержавшись, посетовал он.
Кардинал не отреагировал на эту жалобу. На нем была простая суконная хламида без всяких украшений и утеплений, и он не испытывал никакого неудобства.
– Холод не вокруг нас, Ваше Святейшество, а внутри.
Папа брюзгливо поморщился.
– Знаю, знаю я эту вашу страсть к поучениям. А как умный человек вы должны были бы знать, что путем говорения правильных слов еще никому не удалось помочь.
Де Прато сухо поклонился.
– Лучше уж говорите о деле. Ведь не без дела же вы явились сюда.
– Разумеется, с делом, Ваше Святейшество.
– Ну, так я жду.
– У меня к вам два значительных известия.
– Я не буду за вас решать, с какого вам лучше начать, – недовольно пробормотал Климент V и, выпростав руку из-под полости, потянулся к бокалу, стоявшему рядом на изящной кипарисовой подставке.
– Умер император.
Рука папы застыла в полете. Он невольно прищурил один глаз и с надеждой спросил:
– Константинопольский?
– Нет. Умер Генрих VII, император Священной Римской империи. Это произошло неделю назад в Сиенне.
Климент V откинулся на спинку своего высокого кресла, что-то огорченно шепча про себя. Отчетливо выделить что-то в потоке этого тихого сетования можно было лишь слова «опять все сначала».
– Все сначала, да простит меня святой Франциск.
Де Прато ответствовал понимающим молчанием. Он даже не спросил, почему воскликновение отнесено именно к этому святому.
Климент, тяжело и раздраженно вздохнув, вдруг проговорил:
– А почему вы никогда не извещаете о своем приезде, почему вы всегда появляетесь неожиданно, что это за неуважительная манера?!
Де Прато наклонил голову, он понимал, что отвечать на эти вопросы не требуется. Речь папская запнулась и возобновилась в виде утробного вопля.
– Тардье!
Спустя мгновение явился секретарь Его Святейшества, одновременно куратор его тайной службы. За ним виднелся служка-камердинер с кувшином подогретого вина, на случай, если бокал на кипарисовой подставке опустеет.
– Слушаю, Ваше Святейшество, – ниже, чем обычно, кланяясь, сказал секретарь.
– Пошел вон! – крикнул ему папа. И в смущенно удаляющуюся спину добавил: – Бездельник.
Потом Климент V опять обратился к кардиналу:
– Когда умер? Неделю назад?
– Да, Ваше Святейшество.
– Это невообразимо, никто ничего не хочет делать. Они думают… Ладно, де Прато, это мы оставим. Теперь вот о чем. Надежные ли у вас источники?
– Более чем.
– Более чем что?
– Генрих Люксембург отдал Богу душу у меня на руках. И вот я здесь.
Папа заныл, как от зубной боли.
– Вы правы, Ваше Святейшество, все сначала, но вы ошибаетесь, думая, что все будет, как в прошлый раз.
Климент V поморщился.
– А теперь объясните, что вы имели в виду.
– Последний месяц я провел при императорском дворе, но отнюдь не оставлял своим вниманием двор королевский.
– И?
– И могу с уверенностью сказать, что расклад сил и интересов там совсем не таков, как пять лет назад.
Папа все же отхлебнул вина.
– А каков?
– Процесс – вы понимаете о чем идет речь – процесс, который я считал топчущимся на месте…
– Что с ним случилось, с этим процессом?
– С ним ничего, Ваше Святейшество, – улыбнулся едва заметно де Прато, – все изменения произошли вокруг него.
– Не ходите вокруг да около.
– Даже неистовый Ногаре счел нужным отстраниться от прямого ведения дела. А ведь он, как цепной пес, держал своими клыками Орден за глотку.
– Это мне известно.
– Теперь все полномочия переданы церковному суду и главным куратором стал архиепископ Парижский.
– Брат этого выскочки Ангеррана де Мариньи?
– Да, Ваше Святейшество.
– Эти Мариньи не много ли власти там себе взяли?
– Примерно так же думает и брат короля, Карл Валуа. И если еще вчера мало кто поддерживал этого крикуна и вертопраха, то теперь он находит все новых сторонников. Многие владетельные лица недовольны засильем простолюдинов. Их раздражает сама идея городских ассамблей. Я получаю подробные отчеты на сей счет. От Жерара де Лендри и Гуго де ла Селя.
Климент снова отхлебнул вина.
– А Филипп, он какую роль играет во всей этой истории? Сейчас?
– Это самая большая загадка, Ваше Святейшество.
– То есть?
– Король живет почти безвыездно – только на охоту – в замке Мобюиссон под Понтуазом.
Папа нервно рассмеялся.
– Филипп Красивый, удалившийся от дел, – скорее я поверю в горячий снег или в то, что человек может летать по воздуху.
Кардинал кивком головы показал, что он придерживается такого же мнения.
– Тем не менее, несмотря на усилия всех моих людей, а это в основном люди наблюдательные и умные, не удается выявить того направления, в котором устремлены новые интересы Его Величества. Если, правда, таковые имеются. Не видно никакого его участия в деле тамплиеров. Ему словно бы все равно. Здесь главный показатель – Ногаре. Пес лучше других чувствует настроение хозяина.
– И чем же, например, это грозит нам? – рассеянно спросил Его Святейшество.
– Очень может быть, повторяю «может быть», ибо не знаю точно, таким своим поведением Филипп просто хочет устраниться из тамплиерской истории и целиком переложить всю ответственность на церковные власти.
То, что он шесть лет назад арестовал де Мола, забудется, история запомнит тех, кто поставит свою подпись на вердикте о смертной казни Великого магистра и других генералов Ордена.
Климент V на некоторое время задумался.
– Надо ли это понимать так, что в ходе следствия выявилась полная невиновность тамплиеров?
– Не думаю, что это можно было бы уверенно утверждать. Впрочем, вы ведь сами читали бумаги.
– Целые горы бумаг.
Де Прато хмыкнул.
– Верно, в них легко запутаться, но, обобщая, следует сказать: кое в чем рыцари Храма признались, но вина вытекающая из этих признаний, не столь велика, чтобы оправдать тот лютый разгром, который был учинен над ними. Мне кажется, Филипп оценивает положение именно таким образом.
– Ну да, вы уже говорили. Его Величество хочет уйти от ответственности.
– Да. Но папский капитул так или иначе вынужден будет оценить деятельность Ордена с точки зрения религиозного идеала. Мы не сможем не признать, что она была не вполне приемлема. Таким образом, наше, даже мягкое церковное, порицание станет оправданием всех мирских погромов.
Климент V взял с подставки серебряную палочку и постучал ею по бокалу. Влетел камердинер с кувшином и наполнил бокал.
– Все, казалось бы, стройно в ваших размышлениях, де Прато. Хотя и сложно выражено, – глоток вина. – А другой причины королевского затворничества вы не допускаете?
– Чтобы допускать это, надобно иметь хоть какие-то, пусть самые мелкие, факты. Или хотя бы безумные соображения. Ни того, ни другого у меня не имеется.
Папа сделал, с видимым наслаждением, несколько глотков из своего бокала.
– Да, а тут еще Генрих умер. Не выскочит ли Филипп, как черт из болота, из своего Понтуаза, когда до него дойдет известие об этой смерти?
– Эта мысль явилась ко мне первой, Ваше Святейшество, после того как я вложил свечу в пальцы умершего императора. Но мне не кажется, что эта опасность всерьез грозит нам.
– И откуда у вас эта уверенность?
– Я не сказал, что уверен, я сказал, что мне кажется.
– И все же?
– У него нет денег. Их намного меньше сейчас у Филиппа, чем пять лет назад. А аппетиты наших уважаемых электоров за это время отнюдь не стали меньше.
– Почему?
– Потому что не стали меньше их долги.
– Но, насколько я понимаю, большие деньги Филипп получил от ломбардцев два года назад?
– Да, избегая разгрома, подобного тамплиерскому, ломбардцы предпочли откупиться и суммы собрали немалые. Но не забывайте, что это было два года назад. Что такое два миллиона ливров для королевской казны – несколько женитьб и небольшая война во Фландрии.
Климент V поднес бокал к губам, но пить не стал, вернул бокал на подставку и некоторое время сосредоточенно созерцал биение пламени в одной из жаровень. Металлическое устройство, перегреваясь, начало тихонько гудеть. Тут же появился камердинер с ведерком ароматического уксуса и плеснул его в огонь. Раздалось свирепое шипение. По залу пополз запах, который лишь с большой натяжкой можно было признать приятным.
– Ну, так значит, тамплиерского золота он все-таки не нашел, грабитель?
– Это неудача, если таковое имеется в природе, и это трагедия, если золота никогда и не было.
Климент V, выпятив губы, глядел на серенького старичка – кардинала де Прато.
– А вы-то сами какого придерживаетесь мнения?
– Я не считаю нужным иметь мнение по этому поводу, Ваше Святейшество.
– Что ж, разумно.
Что-то зачесалось вдруг у папы в районе левой лопатки, морщась, он отправил правую руку наводить порядок.
– После того как вы сообщили свои известия, у меня было впечатление, что мы должны развивать какую-то бурную, немедленную деятельность, теперь же я не вижу необходимости предпринимать что бы то ни было.
Де Прато улыбнулся.
– Все верно, Ваше Святейшество. Уподобимся Филиппу. Хотя бы внешне. Удалимся от дел. Природный порядок их протекания наиболее выгоден для нас.
– Порядок протекания этого вина по моему пищеводу, вот что меня радует больше всего в такую погоду.
– Но одно послание, Ваше Святейшество, составить все же придется.
Просветлевшее было лицо наместника Бога на Земле снова нахмурилось.
– Что еще?!
– Надо намекнуть его преосвященству, архиепископу Парижскому, что слишком активное и заинтересованное участие в разграблении тамплиерских богатств, их церковной утвари, в частности, не представляется Вашему Святейшеству делом желательным, ибо ставит его преосвященство в слишком большую зависимость от результатов следствия и последующего процесса. Другими словами, архиепископ постепенно утрачивает способность быть объективным. Он будет добиваться обвинительного приговора сильнее, чем этого будет требовать истина.
Климент V недовольно вздохнул.
– Ну что ж, составьте такое письмо.
Глава восемнадцатая. Сках
В пустыне, что мертвее смерти, Влачился рыцарь одинокий, Сиял ему в небесной тверди Лишь месяц бледный и двурогий. Вдруг услыхал, как из могилы, Слова невидимого мага: «Ну, здравствуй, прибыл ты, мой милый, Ты в самом сердце Рас-Альхага». Алазаис де Буазесон– Зачем вы убили его? – спросил Симон, когда пламя в костре разгорелось.
Лако подбросил в огонь несколько веток и поправил вертел с нанизанной на него тушкой молодой косули.
– Почему? – задумчиво переспросил Арман Ги.
– Да, зачем это было делать?
Бывший комтур протирал пучком травы лезвие своего германского меча. Потом проверил, как оно отблескивает в пламени костра. Отблескивало едва-едва.
– Я убил его потому, что он спас тебе жизнь.
Мрачный взгляд исподлобья был ему ответом. Мрачный и непонимающий.
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, Симон. Да, его появление было спасением для нас. Эти безносые решили, что натолкнулись на целый отряд или караван. И бежали, что нас устраивало. А когда я понял, что они ошиблись, что ни отряда, ни каравана нет, и что этот лучник – всего лишь одинокий охотник я… избавился от него. И мне лень объяснять тебе, почему не было другого выхода.
Бывший комтур задвинул меч в ножны.
– Не могли же мы ему рассказать, кто мы такие и куда направляемся. Почему ты молчишь?
Симон положил голову на сплетенные вокруг колен руки. С момента похорон брата он не выходил из этого состояния. Он сам похоронил Наваза. Завернул в халат и укрыл в расщелине, обложив по кругу валунами.
Франки молча наблюдали за этими странными действиями халебского евнуха. Было понятно, что с вопросами к нему лучше не приставать и тем более торопить. Он бы предпочел быть убитым, чем оставить тело брата без достойного погребения.
После того как юноша Наваз отправился в последний путь, троица беглецов из Рас-Альхага направилась к востоку. Передвигались молча и тайком. Трудно было сказать, находятся ли они все еще на землях, принадлежащих Химскому султану или уже ступили на территорию, подвластную иранскому ильхану. Эмир Тарса и князь Алеппо пользовались такой самостоятельностью, что вполне могли считаться независимыми правителями. Так что совершенно невозможно было решить, кого именно надо бояться.
Лишь на пятый день унылого путешествия Симон заговорил. Выразил недоумение тем, что Арман Ги счел необходимым зарезать великодушного спасителя, причем сразу же после того, как свершилось спасение.
Арман Ги, внутренне радовавшийся этому разговору, означавшему, что проводник не сошел с ума от горя, придумал много разных объяснений своему отвратительному поступку. Заявил, например, что тот показался ему похожим на степняка. Скуластое лицо, великолепная кавалерийская выправка, небогато украшенное оружие. Кем он мог быть? Да кем угодно, – разведчиком, отбившимся от каравана, охранником и т. п. Монголы, люди искренние, значит, и требующие искренности от других. От него не удалось бы отделаться ничего не значащими объяснениями.
– Я веду себя как лесной зверь, – заявил бывший комтур, – я убиваю всегда, когда нельзя не убить. Больше разговоров на эту тему не было.
Прошла неделя.
Земли, через которые приходилось пробираться, были заселены довольно густо. Попадались и сирийские, и армянские деревни. Хулагиды, пользовавшиеся в северном междуречье правом собирать дань, появлялись здесь нечасто. У местных мелких правителей были лишь небольшие, нанятые за плату дружины, у них не было охоты рыскать по горным тропам. Несколько большую опасность представляли шайки разбойников. Два раза Арман Ги и его спутники чуть было с ними не столкнулись. Но пронесло. Промышляли в этих местах и группы, составленные из дервишей, входящих в кровожадные, противоестественные ордена зуавитов и марабутов. С этими идейными головорезами сталкиваться также не стоило. И всевидящий Лако все сделал для того, чтобы этого не произошло. Ибо от них нельзя было откупиться, только жизнь человеческая считалась у них настоящей добычей.
Приходилось остерегаться всех и всего.
Переправились через Евфрат, весьма напоминающий в этих местах заурядную горную речку. Впрочем, никто из путников не произнес этого имени вслух и не осознал знаменательности события. Не знали они, что за водную преграду форсируют.
В очередной раз, когда Лако приволок с охоты олененка, убитого точным броском из самодельной пращи, и уже разгорелся костер, Симон вдруг заявил:
– Уже близко.
– Что «близко»? – переспросил Арман Ги, до того будничным тоном было сделано это заявление.
– Сках.
Лако на мгновение прервал разделку туши.
– Там? – спросил он, указывая окровавленным лезвием на восток.
– Там. За той грядой. Сейчас не видно. Я заметил сегодня утром. Три одинаковых горы.
– Мы сможем найти дорогу дальше сами?
Симон отрицательно покачал головой.
– Если там не был, дорогу найти не сможешь.
– Как это можно просмотреть целую крепость? – усмехнулся бывший комтур.
– Если Сках не захочет, его нельзя увидеть. Когда наш караван покидал крепость, он прошел через гору.
Арман Ги ничего не сказал. Он уже достаточно попутешествовал по здешним краям и привык, что в самых туманных и загадочных речениях восточного человека может скрываться вполне практический смысл.
– Где-то в этих местах стояли замки ассасинов, – сказал он, глядя на изломанную линию горной гряды, рисовавшуюся на фоне звездного неба.
– Будет дождь, – отметил прозаический Лако, указав на черную тушу тучи, хорошо различимую на темно-синем фоне.
– Замок Старца Горы был не здесь. Намного севернее. Почти у моря. Хулагиды разгромили его, – неожиданно вмешался в разговор Симон.
– Так хозяин горы Сках – не потомок ассасинов?
– Не знаю, господин. И не знаю, кто может знать.
– Ну что ж, для того мы сюда и прибыли, чтобы разузнать все на месте.
– Воля твоя, господин, – прошептал Симон, устало закрывая глаза.
Чуть позже хлынул ливень. Холодный и продолжительный. Укрытие из веток и листьев, сооруженное в преддверии его, весьма слабо защищало от потоков воды, рушащейся с небес. Так что, когда приступ непогоды закончился и засияло утреннее солнце, Аркан Ги, Лако и Симон встретили его в жалком состоянии. Мокрые насквозь. Огонь разжечь не представлялось возможным. Мясо олененка не успело дожариться, а что может быть омерзительнее полусырой, несоленой дичи?
– Видимо, у нас нет никакого другого выхода.
– Что вы имеете в виду, хозяин?
– Я рассчитывал осмотреться и выяснить об этой горе Сках хоть что-нибудь, прежде чем соваться туда. Но ты сам видишь, это невозможно. Мы просто погибнем на этом ледяном ветру. Никогда не думал, что в середине лета может быть так холодно.
– Горы, – лаконично ответил Лако.
Симон только стучал зубами.
– Куда нам идти, проводник?
Посиневшая от холода рука указала направление. Ливень освежил природу, как бы облил ее тонким слоем стекла, и теперь утреннее солнце ослепительно резвилось в неожиданной зеркальной галерее. Сколько отражающих поверхностей! Кварцевые слезы, мокрые валуны, лаковые листья. Трое путников, приближающихся к загадочной крепости, были не в большей безопасности, чем если бы подкрадывались к дракону по поверхности его глазного яблока.
При этом им самим не было заметно ничего такого, что указывало бы на присутствие в округе большого населенного места. В этом отношении Рас-Альхаг мог быть признан, в сравнении с крепостью Сках, стоящим посреди рыночной площади. Люди не могут жить, не оставляя никаких следов. Их полное отсутствие вызвало раздражение, если не страх.
– Долго нам еще идти? – спросил Арман Ги, невольно приглушая голос, как бы опасаясь здешнего эха, оно могло оказаться под стать местному освещению.
– Не знаю, – ответил Симон.
– Перестань морочить мне голову!
– Я говорю правду.
– Что мне в ней! Ты куда нас завел, негодяй?! Не хочешь ли ты, чтобы мы здесь сгинули в этих холодных горах?! Не надо со мной шутить! – рука комтура потянулась самым красноречивым образом к мечу.
– Я не знаю куда идти, – замедленно ответил евнух, завороженно глядя на обнажающееся лезвие.
Лако оглядывался, стараясь в скальном нагромождении обнаружить что-нибудь интересное.
– Я знаю куда войти, – сказал Симон, когда меч комтура полностью воссиял на солнце.
– Войти?!
– Вон там, за кустами можжевельника, там есть пещера. По крайней мере, раньше была. Из нее мы вышли, когда покидали Сках.
Меч с характерным звуком вернулся в железное стойло.
Лако уже карабкался наверх.
– А ты? – грозно спросил Арман Ги.
– Я сделал, что обещал, – равнодушно сказал Симон, – я привел вас сюда. И надеюсь, вы здесь погибнете.
– Что это за дыра? Там в горе.
– Я же уже сказал, через нее мы покинули крепость.
– Целый караван пролез через одну дырку в скале, и ты хочешь, чтобы я поверил в это?
Симон поморщился, как от головной боли.
– Я был маленький тогда и не могу объяснить так, чтобы ты понял, господин. Я знаю только одно, что я говорю правду, верь мне, господин!
– И теперь ты хочешь, чтобы я тебя здесь оставил?
– Я прошу об этом, господин.
– Не-ет, ты пойдешь с нами.
– Оставь меня здесь, я больше не пригожусь. Не хочешь оставить просто так, убей. Убей, я ведь не много прошу за свою помощь.
Сверху раздался легкий, призывный свист. Лако стоял на каменном выступе и делал ободряющие жесты руками.
– Вот видишь, еще не пришло время тебя отпускать или убивать. Иди.
За указанными можжевеловыми кустами и в самом деле оказался довольно широкий проход. В глубине его мерещился какой-то свет. Нельзя было сказать с уверенностью, горит там огонь или сияет день. Проход имел явно искусственный характер.
Это была пещера, которую сочли нужным привести в порядок.
Но пришедших мало интересовали эти подробности, их занимал виднеющийся в глубине свет. Его источник был несколько затуманен, так, по крайней мере, казалось.
Сколь глубока пещера, сказать было трудно. Трудно также было представить, что по ней может пройти караван верблюдов с плетеными корзинами на боках.
Но у Армана Ги не было времени размышлять над всеми этими несообразностями. Узнав главное, прояснишь все детали. Уверенность в окончательном успехе, что гнала его последние дни по горам, только усилилась, когда он вошел под каменные своды.
– Вперед! – негромко, но твердо воскликнул он.
И были сделаны первые шаги по шершавому полу пещеры.
Лако приходилось силой тащить за собою евнуха. Тот цеплялся слабыми пальцами за стены и что-то истерически причитал на своем родном наречии.
Легкое содрогание произошло в душе комтура и он, чтобы подбодрить себя, вытащил меч из ножен.
Пещера оказалась достаточно глубокой, пол ее постепенно поднимался вверх, но потолок при этом ниже не становился. Смутное сияние впереди теряло часть своей смутности с каждым шагом, но не утрачивало тайну своего происхождения.
Арман Ги, плотно ставя ноги в сбитых сапогах, продвигался вперед медленно, но неуклонно. Он выставил перед собою меч и таранил полутьму своим взглядом, стараясь на ходу определить тайну глубинного свечения.
Также плотно и уверенно шагал Лако. Одной рукой он сжимал свой сарацинский клинок, умение обращаться с которым доказал недавно, другой – тащил за собой Симона. У того подгибались ноги, закатывались глаза, текла по подбородку слюна.
– Убейте меня! – стонал он время от времени.
«Какой же глубины может быть эта каменная нора невольно закрадывалась мысль в голову бывшего комтура и с каждым шагом в нем было все больше и больше тревоги. Кроме того… Что-то учуял нос. Арман Ги обернулся, чтобы проверить свои ощущения и спросить на сей счет мнение слуги, носу которого имел основания доверять больше, чем своему собственному. Да, но нос Лако вел себя весьма оживленно и нервно, и воздух в пещере казался потерявшим свою первозданную, полумрачную чистоту. Но не это поразило воображение Армана Ги. Он увидел, что его экспедиция удалилась от входа в туннель всего на каких-нибудь двадцать шагов. Он мог бы поклясться, что прошел как минимум сто.
Что происходит? Пришло время задать этот вопрос. Что же все-таки это за пещера и чем здесь пахнет? Не может ли это быть дыханием чудища, глаз которого сверкает там в глубине?
Запах был приятным, маслянистым и волнующим. Симон рухнул на колени и стал единственной свободной рукой расцарапывать себе лицо.
Лако слегка пошатывался на своих колонноподобных ногах. Бывший комтур знал, что нужно сделать, чтобы заставить Лако пошатываться.
– Не-е-ет, – просипел прорычал Арман Ги и попытался взмахнуть мечом так, чтобы поразить лукавый запах в самое сердце или вызвать на поединок того, кто сидел там впереди, излучая непонятный, мучительный свет.
Взмах мечом был последним подвигом, совершенным в этот раз Арманом Ги, бывшим комтуром Байе.
Далее его сознание помутилось.
Но не навсегда.
Даже, может быть, и не надолго.
Очнувшись, рыцарь обнаружил себя лежащим на деревянной кровати в окружении нескольких мягких и благоухающих подушек. Стены небольшой комнаты были белы, равно как и потолок. Ни намека на украшения или отверстия. Ложе с трех сторон ограждалось легким полупрозрачным пологом.
Более всего Арман Ги доверял в этой жизни своему обонянию. В глазах еще плавали остатки легкой синеватой мути, глаза еще не полностью вернулись в этот мир и их свидетельствам пока еще не стоило доверяться. А вот нос… Комтур схватил одну из подушек, особенно близко подобравшуюся к его щеке, и жадно внюхался. Приятный и совершенно необычный запах. Но ничего общего с тем запахом. «С каким?!» – удивленно спросил себя тамплиер. Ах, да, пещера. Сознание вздрогнуло, оттаял слишком большой кусок памяти.
Где же остальные?
Пришлось довериться глазам. В комнате не обнаружилось никаких следов Лако или Симона. Арман Ги решил, что они скорей всего погибли. Что интересно, эта мысль нисколько его не взволновала. Явилась другая – «что теперь со мной будет?» Но надо сказать, и она не перевернула душу. «Что будет, то будет» – философски постановил рыцарь.
Ощупал себя и остался доволен результатами ощупывания.
Не стали бы его облачать в такие белые, тщательно выделанные одежды, прятать за столь драгоценным пологом, когда бы не имели на его счет каких-то особых планов. Эта небезупречная и поверхностная мысль на некоторое время привела Армана Ги в состояние полного блаженства.
«Не заснуть ли?» – подумал он. Но спать не хотелось. Некоторое неудобство доставляла необходимость чего-то ждать. Ждать не хотелось, даже в этих белых одеждах и за великолепным пологом.
Постепенно остатки странного похмелья рассеялись. И чем яснее становилась голова, тем беспокойнее делалась душа.
Так чего же, собственно, ему ждать? И что, в конце концов, случилось с Лако и Симоном? Теперь уж их судьба не казалась бывшему комтуру чем-то несущественным и неинтересным. Скорее наоборот. Не зря, выходит, евнух так боялся углубляться в пещеру. И кто, наконец, здесь правит?
Как всякий полностью проснувшийся человек, Арман Ги попытался встать. Не с первой попытки это у него получилось и не с третьей. Проборовшись с полчаса с духовитым ложем и со слишком гладким полом, Арман Ги сумел навязать своим ногам привычное поведение. Правой, левой, стена уже близка, опереться! Обычная, хорошо оштукатуренная стена. Окон нет. Он, впрочем, и не ждал, что они будут. Слишком большой подарок для его любопытства.
А вот дверь есть.
И она открывается.
Жуткий страх охватил вдруг рыцаря.
Куда она открывается?
Кого впустить?
Держась обеими руками за стену и вывернув шею в сторону дверного проема, Арман Ги ждал появления существа (он был готов к тому, что это будет не человек), которое…
Мелькнул край белой одежды, и на пороге появился мужчина в высоком тюрбане. Пояс серебряного цвета, руки сложены на груди. Глаза неуловимые. Он встал справа от двери. Следом явился его брат-близнец и встал от двери слева. Может, и не близнец, но похож страшно. Именно страшно!
Арман Ги догадался, что эти не заговорят. Он сам, без слов, должен понять, зачем они пришли и что ему нужно делать.
Выбор догадок был невелик. Конечно, белые тюрбаны и серебряные пояса пришли затем, чтобы его куда-то препроводить. Придется идти.
– Приветствую вас, господа, – со всем достоинством, с которым смог собраться, заявил Арман Ги, но тут же подумал, что белотюрбанные – скорей всего слуги, так что он зря старается. Испытывая сильную досаду в связи со своей несообразительностью, бывший комтур заковылял к выходу. С каждым шагом ковыляние его становилось все увереннее.
Зала («опять зала», – почему-то с тоской подумал Арман Ги, войдя) была огромной, особенно если представить, что она находится в толще горы. По периметру ее, с отступом от стены шага в два, стояли кедровые столбы, украшенные отчетливой, но абсолютно непонятной резьбой. Висели гирлянды цветов между этими столбами, между ними курились благовонными дымами большие металлические треножники. Дымы скапливались под потолком, образуя плотное, беспросветное небо, делая невидимым потолок залы.
Центральную часть занимал трон, он стоял на постаменте в три ступени.
За троном располагалось несколько молчаливых тюрбаноносцев. Выражение лиц сверхъестественно безучастны, позы до боли одинаковы. В руках у них не было никакого оружия, но чувствовалось, что они далеко не безоружны. Ну и пора кончать с этим, потому что нужно переходить к описанию главной достопримечательности залы – человека, сидящего на троне. Он был в длинном, до пола одеянии, с невероятно широкими плечами. На голове его стояла громадная корона, сильно расширяющаяся кверху. Вызывало большой интерес, каким образом она сохраняет равновесие.
Лицо подземного правителя было раскрашено таким образом, чтобы сделать его максимально похожим на статую.
Арман Ги стоял достаточно близко к сидящему и поэтому отчетливо ощущал волну психического холода, исходившую от него. Преднамеренная статуарность, странный разрез глаз, свирепо подчеркнутый специальной раскраской, усиливали это ощущение почти до болезненной степени.
Курятся бесшумно треножники.
Замерли, как зубы спящего дракона, охранники.
Пронизывающий взгляд ощупывает каждый изгиб твоей души.
Кто это такой, что это за место?!
Смутно вспомнился рассказ Симона о принце Заххаке. Страшная восточная сказка. Зачем он, Арман Ги, явился сюда? Чтобы встретиться с последним и настоящим тамплиерским вождем. Но что тут, в подземелье, напоминает о рыцарях Храма Соломонова? Ни одной знакомой детали в обстановке этого тронного святилища.
Оно напоминает языческий ад.
– Здравствуй, Арман де Пейн!
Звук нормальной, ясной французской речи так поразил бывшего комтура, что до него не сразу дошел смысл сказанного на этом языке.
Сидящий, видимо, понял состояние гостя и повторил приветствие.
– Арман де Пейн, я приветствую тебя.
– Здравствуй, – не без труда выговорил тамплиер, – только я не де Пейн, меня зовут Арман Ги.
– Посмотри на меня внимательно, человек с Запада.
Бывший комтур сделал, что было велено, и ощущение всепроникающего, всемудрого холода стало почти нестерпимым.
– Посмотри и подумай, имеет ли смысл спорить со мной?
Тамплиер опустил глаза, но от этого ему не стало легче. Даже, наоборот, страшнее. Спокойнее было смотреть прямо в лицо этому существу.
– Слушай меня внимательно. Ровно двести лет назад у рыцаря Гуго де Пейна, Великого магистра рыцарей Храма Соломонова, родился сын Андре. От него пошел род, последним представителем которого являешься ты!
Человек на троне говорил, почти не разжимая губ и абсолютно не мигая. Когда же веки его на мгновение смежились, сердце рыцаря едва не рухнуло со своего неустойчивого постамента.
– По высшим законам божества, говорящего сейчас моими устами, и перед которым все прочие боги, ведомые бренным существам, населяющим этот мир, сами суть тлен, прах и иллюзия, так вот, по этим законам ты являешься наследником жезла Великого магистра и даваемого этим жезлом права.
Смысл произнесенных слов входил в сознание Армана Ги, сотрясая все его тело. Он не умещался в сознании рыцаря.
– Ты не можешь поверить в то, что я сказал?
– Я… я верю, но это трудно. Так сразу… И почему я ничего не знал? Почему ни о чем не догадывался все эти годы?
– Неправда. Разве ты не ощущал, что твоими действиями руководит некая неназываемая сила? Разве не чувствовал поддержку там, где все тебя оставили, разве не обретал ты силы надеяться, когда, казалось, бы все надежды должны были бы рухнуть?
Рыцарь кивнул.
– Действительно, так было. Но почему все открылось только теперь? Ведь род не прерывался… И знал ли мой отец о том, кто он? Мой отец был простым рыцарем. И что мне теперь делать, когда Орден разгромлен?
– У тебя слишком много вопросов. Ответы не на все из них достойны того, чтобы я держал их в голове. Не ты один, не один твой род, не один твой Орден составляют синклит моих мыслей. Вы, тамплиеры, сами виноваты в том, что с вами произошло. Вы сделали выбор.
И не воображай сейчас, что ты хотя бы догадываешься, что он из себя представляет. Я скажу тебе больше – то, что тебе открылась тайна твоего происхождения, может статься, и не благо для тебя.
– Прости меня, великий господин. Я действительно человек с Запада, и мне не всегда понятны слова, сказанные человеком с Востока.
Сидящий на троне издал звук, похожий на смех, хотя выражение лица его ничуть не изменилось.
– Ты ошибаешься, я не человек.
– Не человек?
– Я царь Заххак.
– Понятно.
Опять послышался звук, похожий на смех.
– Навряд ли тебе что-то понятно. Я правитель города езидов и главный, кто произносит повеления Бога единого.
Рука говорившего внезапно оторвалась от колена, на котором возлежала, и протянулась к Арману Ги. Не было никакой возможности, чтобы она достигла рыцаря, но он отшатнулся.
– Вот из-под этого ногтя родился замысел вашего Ордена. Теперь ты можешь точно измерить ту роль, которую играешь в мире.
– О, да, – прошептал Арман Ги.
– Я не имею больше ни возможности, ни желания разговаривать с тобой. Сейчас я дам тебе одну вещь.
Из-за одной из кипарисовых колонн появился носитель белого тюрбана, в руках он держал небольшой, довольно обычного вида, ларец.
– Бери. Ты послан сюда за некоей тайной. Отвези этот ларец тем, кто тебя послал. И они узнают то, что хотели узнать. Только правильно определи, кому это послание предназначено. Это отныне главная твоя обязанность.
Арман Ги осторожно взял ларец в руки. Не слишком тяжелый, металлический: Никаких украшений и надписей.
– Только помни – тебе самому заглядывать в него нельзя. Никогда! Ни при каких обстоятельствах. Ты понял меня?
– Да, – с трудом проговорил рыцарь.
– Иди.
Потомку Гуго де Пейна было трудно сдвинуться с места. Члены отказывались служить. Сил хватало едва на то, чтобы удерживать в руках ларец.
– Иди же! – прогремело по залу.
Но охваченный параличом воли Великий магистр ордена тамплиеров все же остался на месте. И он до конца своей жизни так и не понял, наяву или в его воображении произошло следующее.
Где-то над потолком раздался уныло-истошный вой множества невидимых труб. Затрепетали дымы над треножниками. Откуда-то слева появилась странная процессия. Четверо стражников в белых тюрбанах вошли, неся на плечах большое золотое блюдо. На блюде стоял на четвереньках богато одетый человек. Причем и руки, и ноги его были прикреплены к блюду металлическими петлями.
Блюдо было поднесено вплотную к трону. Передние носильщики опустились на колени, так что царь Заххак и принесенный на блюде человек оказались лицом к лицу. Молчаливое противостояние, сопровождаемое взвинчивающимся воем труб, продолжалось несколько мгновений.
И вдруг в широченных плечах царя Заххака произошло необъяснимое движение, взметнулись куски ткани, и медленно над головой владыки езидов поднялись две змеиных головы с желтыми, приоткрытыми жадно пастями и осмысленно горящими глазами. Черная шкура их маслянисто отсвечивала.
Арман Ги стоял буквально в пяти шагах от трона, ему было все отлично, вернее сказать – ужасно, видно.
Змеиные тела все выше выдвигались из разрезов на плечах царственной одежды. Сам Заххак впал как бы в транс, он смотрел перед собой, ничего не видя.
Стоящий на четвереньках на золотом блюде человек тоже был как бы загипнотизирован, он силился что-то сказать, и только пена бессилия и ужаса бежала по его подбородку. Он понимал, что сейчас с ним произойдет. Две гадины приблизились к его лицу, поигрывая отвратительно раздвоенными языками, покачивая лоснящимися головами. Раздвоенные языки заинтересованно коснулись потного лба, и только тогда жертва попыталась закричать, но это уже было напрасно. Твари впились в глазные впадины, с жадным, страшным клекотом пожирали человеческий мозг.
Только в этот момент Арман Ги понял, что жертвой является Симон.
Глава девятнадцатая. Марсель
Постигшие мудрость наук Верней ничего не рекли, Чем то, что порок не внутри Себя видим мы, а вокруг: Раймон хранил упованье На радость, в своем желанье Всегда проявлял он искренний пыл; Но столь низко паденье, Что нынче примет от всех осужденье. Раймон де МиравальХранитель королевской печати прибыл в портовый город инкогнито, ибо Марсель не принадлежал в это время еще французской короне. Здесь было много шпионов императора, равно как и папских шпионов, благо Авиньон находился в каких-нибудь пятнадцати лье от Марселя. Но больше всего здесь было шпионов Ногаре. Уже не первый год они вели наблюдения за здешним портом, и ни один корабль, прибывший в него или намеревавшийся убыть, не оставался без внимания. Каждый человек, сошедший на берег или собиравшийся покинуть его, подвергался самой внимательной и доскональной слежке.
Нечто подобное имело место и во всех остальных портах Средиземноморского побережья Франции.
И вот две недели назад, сопоставив доклады, поступившие за последние месяцы, государственный канцлер пришел к выводу, что пришло время самому навестить Марсель. Именно к этому городу сходились невидимые силовые линии старинной, казалось бы, исчерпавшей себя, интриги.
Почему именно сейчас нужно было что-то предпринять? На этот вопрос Ногаре ответить бы не смог, вернее, не нашел бы нужных, понятных простому человеку слов. Как не может их найти дегустатор, точно знающий, что перед ним старинный благородный напиток, а не дешевая, хотя и привлекательная, подделка, или парфюмер, который почему-то уверен, что нужно плеснуть в представленную смесь именно полторы капли, и непременно бергамотной эссенции, а не какой-либо другой, чтобы получились новые, неповторимые духи.
Итак, просидев над кучами донесений несколько бессонных ночей, государственный канцлер почувствовал смутное беспокойство, оставил все, даже срочные дела, и помчался на юг.
Последние месяцы Его Величество ничего не говорил своему верному помощнику о тамплиерском золоте, даже намеком не обнаруживал своего неудовольствия или нетерпения, но хранитель печати прекрасно знал, что король никогда ничего не забывает. В Марселе Ногаре занял небольшой угрюмый дом на улице, ведущей к гавани. Поселился без всякого шика, более всего заботясь об анонимности своего присутствия в городе.
Чутье не обмануло канцлера. Не прошло и двух недель, как воспоследствовали некие события.
Однажды поздним вечером в двери дома, где сидел за своим столом, как всегда погруженный в отчеты и счета, господин де Пре (имя, которому было поручено скрывать блеск имени де Ногаре), уверенно постучали. Это был высокий человек в длинном плаще и надвинутом на лицо капюшоне. Он сказал, что хочет видеть хозяина дома по делу, не терпящему отлагательства.
Слуги господина хранителя королевской печати были людьми опытными, они догадались, что действовать следует без всякого промедления.
– Мы должны вас обыскать! – сказал Тримо, камергер канцлера.
Незнакомец не протестовал. Войдя в дом, он сам снял плащ и отдался на волю опытных и бдительных рук.
– Как ваше имя?
– Это не имеет значения.
Тримо повернулся, чтобы доложить хозяину о визитере, но выяснилось, что Ногаре уже стоит в дверях приемной. Чутье и тут что-то нашептало канцлерскому уху.
– Пропустите его, Тримо.
Гость вошел в кабинет и молча дождался, когда его покинули все, кроме хозяина.
– Слушаю вас.
– У меня есть для вас известие от того, кого вы ждете не первый год.
На лице Ногаре ничего не выразилось, он был прожженным царедворцем и умел владеть собой.
– Этот человек прибыл с Востока и его желал бы видеть тот, кто стоит над вами, мессир.
Ногаре потрогал свой подбородок.
– А кто я, вы знаете?
– Нет, и, честно говоря, не хотел бы знать.
– А кто вас послал?
– Этого я тоже не знаю. Меня нанял один человек в портовой таверне «Синий бык».
– Как он выглядел?
– Примерно так же как я, пока не снял капюшон. Он не хотел, чтобы я видел его лицо.
– Сколько он заплатил?
– Половину. Двадцать ливров. Вторую половину он обещал мне от вас.
Ногаре прошелся по кабинету, кусая тонкие губы.
– Давно он вас нанял?
– Перед самым закатом. Он велел вам еще сказать, что если вы поспешите как только сможете, вы не повредите делу.
– Тримо! – крикнул канцлер и, пока камердинер не появился, сказал гостю:
– Вам придется остаться здесь. До утра, а может быть, и до следующего вечера.
Гость кивнул.
– Тот, кто меня нанимал, предупредил, что вы именно так и поступите.
Вбежал Тримо.
– Немедленно, слышите, немедленно, поднимайте всех наших людей. Старших – ко мне. Я должен буду сказать им несколько слов.
В то время, когда происходил этот разговор, к марсельскому пирсу как раз швартовалось небольшое генуэзское судно. В одном из трюмных помещений, не заполненном грузом и оборудованном для жизни, стоял, заложив руки за спину, Арман Ги. Помещение было убрано роскошно: ковры, серебро, драгоценное дерево, но он ощущал себя здесь пленником, и не только потому, что голова его упиралась в низкий потолок и давило ощущение тесноты. Еще больше он изнывал от одиночества и молчания.
От самого дворца Заххака его сопровождали люди в белых тюрбанах, гулямы правителя езидов. Они не вступали в разговоры с ним и молчали, когда он сам пытался с ними заговорить. Впрочем, в самом начале своего стремительного возвращения с Востока, бывший комтур не нуждался в собеседниках. Беседа с владетелем Скаха произвела на него слишком сильное впечатление. Последний потомок Гуго де Пейна пришел в состояние тихого помешательства. Он мог двигаться, держаться в седле, он цеплялся за переданный ему ларец, но вместе с тем его душа была пропитана глубочайшим безразличием ко всему, что происходило вокруг.
Скачка от гор Северной Месопотамии к Средиземноморскому побережью проходила в бешеном темпе. На всем пути имелись лошадиные подставы. Арман Ги скакал в окружении белых тюрбанов на белом жеребце, представляя из себя некоего истукана. В Тире его погрузили на корабль. Здесь он стал понемногу приходить в себя. Мерное покачивание на волнах размягчило ледяную глыбу, стоявшую у него в груди. И тогда он почувствовал, что одинок. Лако и Симона ему так больше и не пришлось увидеть.
Кроме того, проснулось естественное желание заглянуть в ларец. Запоры на нем были отнюдь не внушительные и не заковыристые, в любой момент можно было нажать и… Нет, нельзя!
Это заклинание он твердил себе изо дня в день. Ларец этот он почти не выпускал из рук. Спал с ним в обнимку и даже брал с собой в отхожее место, что не упрощало отправления естественных надобностей.
В его ковровую пещеру заходил только прислуживавший ему человек, тоже молчаливый, как каменное изваяние.
Оставалось бывшему комтуру одно – предаваться размышлениям, и он без удержу им предавался.
«Значит, вот каково истинное положение дел, – сказал он себе. – Путешествие в поисках старого, благородного тамплиерского идеала привело в объятия невиданного чудища. Можно ли считать такое путешествие достигшим своей цели?»
Все виденное на Востоке, не укладывалось в голове Армана Ги. И если бы он не видел этого собственными глазами, продолжал бы считать то, что ему поведал Симон, обыкновенной сказкой.
Последний потомок Гуго де Пейна притронулся осторожными пальцами к своим глазным яблокам.
Какому богу служит этот Заххак? И что это за бог? Но может быть, только внушением истинного, мистического страха можно добиться настоящего поклонения и истинной веры? Кого могут поднять и заставить встрепетать пресные проповеди людей типа Жака де Молэ?
И что же это получается, великий, могущественнейший, богатейший орден рыцарей Храма Соломонова есть всего лишь одно из многочисленных ответвлений, не исключено, что самое ничтожное, этого подземного и необъяснимого культа? Даже казавшиеся чрезмерными и пугающими тайные тамплиерские богослужебные приемы бледнеют и меркнут перед жутким и отвратительным великолепием деяний, производимых царем Заххаком, верховным служителем бога неведомого.
Временами Арман Ги впадал в забытье, подобное тому, что застало его в каменной глотке на пути к крепости Сках. И он грезил, бывало, по целому дню, беседуя с духами и тенями давно погибших людей.
Но потом забытье спадало и обнажалось дно памяти, затянутое тиной воспоминаний.
Да, а кому все же предназначен сей ларец? Кто он, ждущий его? Как я узнаю его? Чем ближе корабль подплывал к французскому берегу, тем сильнее эти мысли донимали бывшего комтура.
Филипп ли это? Слишком просто было бы. Может быть, Жак де Молэ? Но он скорее всего мертв. Может быть, ларец предназначен мне, и заклятие, якобы запрещающее в него заглядывать, как раз и есть то испытание, что необходимо преодолеть на пути к истине? И такое приходило ему в голову. Но конечно же, никогда Арман Ги всерьез не собирался нарушить повеление царя Заххака.
В ту ночь, когда корабль входил в гавань Марселя, бывшему комтуру приснился сон, что у него болят лопатки, набухают неприятной тяжестью, что сейчас из них начнут прорастать они, черные, лоснящиеся, кровожадные… и с криком:
– Змеи! Змеи! Змеи! – Арман Ги рухнул с ложа на пол. Не выпуская из рук ларца.
И тут же очнулся.
Корабль покачивался на замусоренной, причальной волне. По палубе бегали матросы, топоча деревянными каблуками.
Семь лет путешествия на Восток были словно натягиванием тетивы, медленное и упорное; обратный путь напоминал полет стрелы. И вот она – Франция.
– Слава богу, – пробормотал путешественник.
В ковровую комнату вошли его охранники. Они были облачены в европейские одежды. По их виду и поведению бывший комтур понял – пора.
Сойдя на берег, молчаливые горцы вели себя так уверенно, словно только вчера покинули Марсель. У них все было наготове. У коновязи ближайшей таверны их ждали оседланные лошади. Последовало короткое путешествие по ночным улицам, потом по ночным предместьям. Охранники скакали быстро и решительно, не задумываясь, поворачивали, лабиринт улочек портового города не был для них лабиринтом.
Целью путешествия оказался большой темный дом. Глухо запертые ворота открылись по первому условному сигналу. Лестница, комната, кресло. Зажженный светильник. Арман Ги сидит, держа на коленях драгоценный ларец, с удивлением осознавая, что в доме никого нет, кроме него.
Воистину, путешествие закончилось.
Бывший комтур просидел так довольно долго. Слишком привык к ненавязчивой, но непререкаемой опеке, которой подвергали его последние недели. Не мог поверить, что она так легко, почти сама собой, исчезла.
К тому же очень трудно было решить, что же делать раньше. К такому повороту событий он не был готов.
В карманах ни одного денье. Как же он продолжит путь, если решит продолжать? Может быть проще умереть с голоду здесь, ожидая того, кому адресован ларец?
Но все же, как он узнает его?
Арман Ги был искренне удивлен тому, до какой степени он не представляет себе, кем бы мог быть человек, могущий ожидать подарка от Заххака. Хоть бы какая-нибудь подсказка!
Абсолютно исчезла та внутренняя уверенность, что вела его по морям и горам на Восток. Она издохла, не перенеся возвращения на родину.
«А может быть, все-таки это я?» – в сотый раз спросил себя комтур и погладил крышку ларца. Он знал наизусть изображенный на ней рисунок. Знали его наизусть и его пальцы. Проводя ими по шершавой, бугристой поверхности, Арман Ги понимал, что пальцы не выполнят его приказа, если он велит им открыть ларец.
И…
Шаги!
Шаги!!
Кто-то вошел в дом!
И это не вернувшиеся слуги Заххака. Они передвигались не шумнее, чем сухие листья, поднятые легким ветром, а тут просто обвал, лавина шагов.
Гостей было несколько, и они были вооружены. Как-то сразу стало понятно, что хозяевами этого дома они не являются. Только шаги вооруженного грабителя могут быть полны такой самодовольной уверенности и попирать чужие полы с такой небрежностью.
Уже близко.
Арман Ги поискал глазами, куда бы ему спрятаться или хотя бы спрятать ларец. И с отчаянием понял, что не может сдвинуться с места.
Двери бесшумно, но угрожающе растворились.
В комнату вошли пятеро. Первым шел маленький, седой человек в серой сутане. Сопровождали его четверо в латах и в шлемах с шишаками. Так экипируются для турнира или сражения. В руках у всех четверых были обнаженные мечи. Никакого сомнения, что они пустят их в ход в случае чего.
– Здравствуйте, – сказал тот, что в сутане. Голос его прозвучал приветливо, но бывший комтур еще крепче вцепился в свой ларец. Он был уверен, что эти люди пришли за ним.
– Вы, Арман Ги, когда-то вы были комтуром тамплиерской капеллы в Байе.
Человек в серой сутане говорил как человек уверенный в том, что ни за что не получит отрицательного ответа. Но вместе с тем для чего-то считал нужным эти слова все же произнести.
– Откуда вы меня знаете?
– Это длинная история.
– Мы с вами не знакомы.
– Между тем вы могли и даже должны были обо мне слышать, господин комтур. Меня зовут кардинал де Прато.
Арман Ги искренне попытался вспомнить это имя, как будто в этом могла заключаться какая-то для него польза.
– Я давно не был во Франции, и моя память… Поэтому прошу меня простить.
– Вы не были во Франции семь лет, один месяц и четыре дня. Именно столько времени назад вы отплыли из здешней гавани в направлении Кипра. А если говорить точнее, в поисках тамплиерского золота.
Бывший комтур не вздрогнул, не поморщился от такой неожиданной проницательности. Он счел нужным вдруг объявить:
– Меня зовут не Арман Ги, а Арман де Пейн.
– А меня по-прежнему, кардинал де Прато. Ближайший помощник и соратник христианнейшего нашего Папы Климента V. Исполнитель его самых щекотливых и сложных поручений. И одно из них знаете в чем заключается?
Арман де Пейн не ответил.
– Я должен был выяснить, кто был такой этот бывший комтур Байе, решивший вступить в непонятный союз с королем Филиппом и спешно убывший на Восток.
– И что же вы выяснили? – попытался брезгливо улыбнуться рыцарь с ларцом.
– То, что вы мне только что объявили. Ваше настоящее имя. И это не последняя из тайн вашего Ордена, до которой я докопался.
– Вы следили за мной?
– Я имел на это право хотя бы потому, что вы признаете или признавали папу своим сюзереном. Я имею в виду орден рыцарей Храма Соломонова.
– Да-а, – протянул Арман Ги и осталось неведомым, к чему именно относится это его заявление.
Кардинал, удовлетворенно потирая сухие руки, прошелся по комнате.
– Мне представляется, что агнцеподобный Жак де Молэ, то ли по какому-то высшему избранничеству, то ли из простой неграмотности и не подозревал, что параллельно с передачей власти по магистерской, всем открытой линии, сохраняется преемственность власти кровная. И что рано или поздно она будет обнародована. Я давно почуял нечто подобное. Ведь ваш Орден последние десятилетия все больше строился по семейственному принципу. С приемом рыцаря в тамплиеры принимался целиком и весь его род. Прямое кровное наследование высшей орденской власти, вот что должно было увенчать этот процесс.
Де Прато вдруг остановился и впился своим острым взором в глаза Армана Ги.
– А дальше что?
– Что? – неуверенно переспросил рыцарь.
– Вам угодно притворяться идиотом, ваше право. Но не думайте, что я поверю этому притворству.
После очень короткой заминки де Прато воскликнул:
– Для чего вы отправились на Восток? Я проследил ваш путь от Байе до Тампля и от Тампля обратно в Байе. Я выведал, когда и где вы встречались с королем.
Я следил за вами, когда вы выехали в Пелисье, и потерял вас лишь в Марселе. Кстати, вы оставили повсюду множество следов, сопоставив которые человек, даже менее умный, чем я, мог бы разгадать вашу тайну.
– Следов? – рыцарь пожал плечами.
– Следов, следов. Но это мелкие детали дела. Перейдем к крупным. Согласитесь, трудно поверить, чтобы истинный, единственный законный глава ордена рыцарей Храма Соломонова отправился в путешествие, полное риска, только дабы кому-то угодить. Не ваша это работа, таскать каштаны из огня для чьего бы то ни было ублажения. И Филипп, надо думать, здорово ошибся, полагаясь на вашу преданность. Мне его не жаль. Он не знал, кто вы такой на самом деле и поэтому рискнул вам довериться.
– Да, заторможенно кивнул рыцарь, прижимая ларец к груди все сильнее.
Кардинал опять потер свои руки, еще сладострастнее, чем в прошлый раз.
– И вот вы вернулись.
– Вернулся.
– И, судя по всему, с победой.
– С победой, – повторил сидящий.
– Что у вас в руках?
Руки Армана Ги мгновенно вспотели.
– Мне кажется, господин де Пейн, что у вас в руках тайна тамплиерского золота. И я мысленно хохочу, представляя, до какой степени Филипп Красивый его не дождется. Он умер бы от ярости и от отчаяния, узнав, как близко оно, вожделенное, находилось от него. Только руку протянуть. Но он ничего не узнает. Ведь вы не откроете ему этот ларец?
– Нет, – помотал головой Арман Ги.
– Вы решили воспользоваться этим золотом сами. И я понимаю вас. Его много, очень много там, в тайнике, куда ведет ключ, скрытый в ларце. Или, может быть, там не ключ, а карта захоронения клада?
– Я не знаю, что там, – сказал истинную правду рыцарь. Кардинал его понял по-своему.
– Понимаю, понимаю вас. Но в любом случае там хватит золота для того, чтобы купить всю королевскую семейку с потрохами, разорить ломбардцев, выплатить долги армии, заткнуть глотку ассамблеям Мариньи. По моим подсчетам, не менее семнадцати галер, нагруженных золотом. Одним словом, там достаточно денег для того, чтобы воцариться. О, я понимаю вас. Многие тамплиерские общины сохранили свое влияние в Каталонии и в Арагоне, в Наварре и в Шотландии. Они поддержат своего тамплиерского короля. Да и в самой Франции обожжена только вершина горы. Тысячи облатов, служек, оруженосцев, родственников тамплиерских по ночам грезят о возвращении славы Ордена. Этому будет рад и сам капризный парижский охлос, если его еще и подкормить вовремя.
Де Прато остановился, тяжело дыша. Речь заставила его взволноваться, и он повелел себе успокоиться.
– Но ничего этого не будет!
– Чего? – с искренним удивлением в голосе поинтересовался бывший комтур.
– Ничего! – громогласно воскликнул кардинал.
Арман Ги отшатнулся на спинку кресла.
– И знаете почему?
– Нет.
– Потому что я сейчас отниму у вас этот ларец.
– Я не отдам, – слабым, неуверенным голосом сообщил бывший комтур.
Кардинал неприятно засмеялся, потом отвратительно захохотал и решительно направился к сидящему собеседнику. Его по-птичьи скорченные руки торчали из рукавов сутаны. Всем своим обликом он напоминал старого ворона. Рыцарь был много крупнее святого отца, но было видно, что ларец ему, конечно же, не удастся удержать. К тому же за спиной у кардинала стояли четыре стальных истукана с обнаженными мечами.
Спасла Армана Ги неожиданность. Она явилась в форме арбалетной стрелы, вонзившейся точно в лоб хитроумному кардиналу. Удар был так силен, что серая сутана, размахивая рукавами, сделала несколько невольных шагов назад и мягко осела на пол в ногах у своего обалдевшего войска.
Смятение продолжилось недолго. Его нарушила вторая стрела, просадившая с кратким скрежетом латную грудь одного из охранников де Прато.
Когда непонятное проявляет себя с такой силой, даже очень хорошо вооруженный человек предпочитает отступить, чтобы осмотреться. Именно так поступили трое оставшихся в живых железных монстров. Они попятились к входной двери, о чем-то глухо переговариваясь.
Из-за спинки кресла Армана Ги появился Лако с двумя опустошенными арбалетами в руках.
Рыцарь смотрел на него обезумевшим взглядом. Еще бы, как можно смотреть, когда ваш хороший знакомый внезапно восстает из гроба! Сначала вы удивляетесь или пугаетесь, а уж потом настает время радости и расспросов.
Лако бросил к ногам своего хозяина арбалеты, потом одним мощным движением вырвал из его рук ларец и исчез.
В соседней комнате, куда временно ретировались люди де Прато, раздались крики. Их явно не могли издавать всего лишь трое. Там, судя по типу звуков, шла сеча. Наконец она ввалилась в комнату, где сидел бывший комтур. Руки его были бессмысленно протянуты вперед, создавалось впечатление, что это именно он всего секундой прежде бросил на пол арбалеты, предварительно застрелив двоих человек.
Именно так и подумал Ногаре, прибывший на место беседы кардинала де Прато с Арманом де Пейном в сопровождении своих людей.
То, что рассказал ему прямой потомок первого Великого магистра рыцарей ордена Храма Соломонова, хранитель печати счел самым настоящим бредом. Поначалу.
Глава двадцатая. Лувр
Народ спешит на место казни Без отвращенья и боязни. Выходит с топором палач, В ответ не слышен женский плач. А если разожгут костер, Взгляд толп особенно остер. О, Господи, родной народ, Ты ангел или ты урод?! Легаллен де ВизавионК месту казни народ начал собираться еще днем, и народу было много, хотя ночь, судя по всему, обещала быть прохладной. Лодочники трудились не покладая весел. Царило, как ни странно, всеобщее, беззаботное веселье. Оживленный говор солидных горожан и болтовня их чад и домочадцев разносились над поверхностью Сены.
Те, кто заранее побеспокоился о хорошем месте на будущем развлечении, заполнили всю поверхность Еврейского острова. Те кто поленился или не поспешил, вынуждены были остаться на речном берегу. Одним словом, процедура казни вызвала необыкновенный интерес, превосходящий все, до сих пор виденное.
Когда начало смеркаться, Филипп Красивый в сопровождении многочисленной свиты вышел в галерею дворцового сада. Узкая протока отделяла теперь Его Величество от костра. Он был сложен именно так, чтобы королю было удобно наблюдать за огненной экзекуцией.
Настроение среди окружавших Его Величество родственников и царедворцев было не таким, как в толпе народа. Братья короля переговаривались вполголоса. Все выражали осторожное удивление тем фактом, что нигде не видно де Ногаре, самого первого и давнего гонителя тамплиеров.
Филипп подал знак парижскому прево, который по должности был обязан руководить проведением казни. И прево тут же приступил к своим обязанностям. Раздалась его громкая команда и на высокий, в два человеческих роста, костер возвели Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Молэ и командора Нормандии Жоффруа де Шарне. Возвели и привязали к столбам.
Выражение лица Его Величества оставалось почти равнодушным, ни раздражения, ни удовлетворения не просматривалось на нем. Но настроение толпы начало меняться как будто только при виде осужденных на казнь, собравшиеся во множестве парижане осознали, что именно сейчас произойдет. Жителей средневековых городов трудно было испугать или поразить видом публичной казни. С детства им приходилось видеть, как сдирают кожу с живого человека, измалывают деревянными молотами суставы, разрывают на части лошадьми и колесуют. Так что мрачная туча, опустившаяся вдруг на толпу и охватившая всех от проституток, сбежавшихся из узких улочек вокруг собора Парижской Богоматери, до евреев, одежда которых была украшена желтыми кругами, – так вот, эта мрачная туча, переменившая резко настроение толпы, питалась не страхом перед тем, что предстоит увидеть, важно было то, кого сейчас будут убивать.
Жак де Молэ, даже стоя у позорного столба, как оказалось, не утратил своей старческой величественности, гигантская седая грива, патриаршая борода, пылающий осмысленной яростью взор, произвели на присутствующих очень сильное впечатление. Командор Нормандии выглядел значительно менее колоритно, но тоже достойно. Годы одиночного заключения не сломили стариков. И даже стоя на приготовленном для них костре, они не были похожи на преступников, скорее они напоминали (особенно Жак де Молэ) ветхозаветных пророков, готовых произнести сакраментальные, убийственные для их палачей, слова.
Парижский прево замер в позе человека, ожидающего команды, пожирая взглядом фигуру короля.
Палач уже поджег кусок пакли и держал ее в вытянутой руке.
Монах, назначенный для принятия исповеди казнимых, попробовал было взобраться по хрустящему хворосту, но наткнулся на обжигающий взгляд Великого магистра и ретировался.
Процедура казни замерла, кто-то должен был подтолкнуть ее вперед. Не кто-то, конечно, а король.
Де Мариньи наклонился к уху Его Величества и прошептал:
– Они отказались от исповеди.
– Что? – будто очнувшись, переспросил Филипп.
– Они отказались от исповеди, Ваше Величество.
– Король ничего не успел сказать в ответ на эти слова, кто-то прикоснулся к его правому плечу.
– Ногаре?!
– Я, Ваше Величество, – задыхаясь, слегка отвечал хранитель печати.
– Что с вами?
Этот вопрос был весьма уместен, лицо канцлера было вполне безумным.
– Есть сообщение государственной важности.
– Но, – король кивнул в сторону кострища, – вы ведь видите – идет казнь.
– Может быть, ее придется остановить.
– Ну уж нет, я не могу лишить моих милых парижан такого развлечения, – когда король произносил эту игривую фразу, глаза его были более чем серьезны.
– Но, Ваше Величество, – Ногаре задыхался, – Жак де Молэ – не Великий магистр ордена тамплиеров.
Брови короля поползли вверх.
– Ладно, идемте.
Повернувшись к распорядителю казни, Филипп махнул рукой, на которой блеснул огромный изумруд.
Парижский прево тут же повторил этот жест, и палач решительно направился к куче хвороста, увенчанной двумя связанными стариками.
Его Величество не увидел, как пламя охватывает кострище, и никто не обратил внимания на отсутствие Филиппа, слишком все были заняты зрелищем разгорающегося костра.
В одной из беседок, в полусотне шагов от садовой галереи, Филиппу был предъявлен Арман Ги, он же Арман де Пейн.
– Кто это? – спросил король.
– Он очень изменился, – начал объяснять Ногаре.
– Кем он был до того, как изменился? – нервно прервал его Филипп.
– Вы знали его как Армана Ги, тамплиерского комтура в Байе, в Нормандии.
Король слегка прищурился.
– Да, я вспомнил его.
– Его не было здесь семь лет.
– Он что, сам не в состоянии говорить, Ногаре?
– Он может говорить, сейчас он все расскажет.
Со стороны Еврейского острова донесся мощный гул, толпа сопереживала тому, что перед ней происходило.
– Так где же вы были все это время, господин комтур?
– Я искал.
– Не надо мне рассказывать, как вы искали, скажите лучше сразу, что вы нашли.
– Ваше Величество, – посмел вмешаться Ногаре, – я слышал эту историю по пути из Марселя, и не один раз. Она в высшей степени стоит того…
Донесся новый порыв взбудораженного шума от места казни. Король недовольно посмотрел в том направлении, где происходило аутодафе, но не все недовольство относилось к шуму вокруг костра.
– За эти семь лет, Ногаре, я ни разу не выразил вам своего раздражения в связи с тем, как вы исполняете свои обязанности.
Ногаре побледнел и поклонился.
– Итак, говорите, комтур. Коротко и правду.
Надо заметить, что с момента беседы с царем Заххаком в крепости Сках в поведении, в манере говорить, в выражении глаз Армана Ги появилась трудноуловимая ненормальность. Ее почувствовал и отметил про себя еще кардинал Де Прато, но известные обстоятельства помешали ему выяснить этот вопрос до конца. Ногаре, во время совместного с Арманом Ги путешествия в Париж, иногда ловил себя на том, что бывший комтур кажется ему слегка безумным. Нечасто это бывало, но и нередко. Он относил это на счет событий кровавой драмы, среди развалин которой он застал рыцаря.
– Я жду, комтур.
– Я истинный Великий магистр ордена рыцарей Храма Соломонова.
– Что?!
– Я, Арман де Пейн, прямой потомок основателя ордена Гуго де Пейна.
Сказано это было настолько серьезно и твердо, что Филипп не вспылил и не захохотал, как должен был бы сделать по здравому рассуждению. К тому же рядом с этим безумцем стоял совершенно преображенный де Ногаре. Человек – цинизм, человек – недоверие, цепной пес своего хозяина-короля. Он не посмел бы оторвать его от величайшего государственного дела ради беседы со свихнувшимся в восточных странах тамплиером.
– Как вы выяснили это? Насколько я помню, семь лет назад вы не претендовали на сие звание.
– Мне сказал об этом царь езидов по имени Заххак. Его дворец находится в горе. Царь этот – верховный служитель Бога истинного и орден тамплиеров – лишь малая часть его тайной империи. Удалившись на Запад, Орден утратил живое содержание, оторвался от истинных своих корней. Захватив Тампль, Ваше Величество, вы лишь раздавили пустую скорлупу.
Ночь стояла над Парижем, и только пламя костра на Еврейском острове силилось разорвать мрак. И оттуда накатывали новые волны народного шума. И вдруг шум стих. И вот почему. Жак де Молэ, повернув лицо в ту сторону, где, по его мнению, должны были находиться король и его свита, произнес громовым голосом:
– Папа Климент, рыцарь Гийом де Ногаре, король Филипп… – вой пламени пытался перекрыть слова, но не мог, – не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара. Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена.
Его Величество слышал в этот момент другие слова, может быть, не менее поразительные. Арман де Пейн торопливо, но вполне связно излагал свою историю. В антураже кромешной ночи, сотрясаемой сполохами гигантского костра, фантастические подробности его рассказа не казались столь уж фантастическими. По крайней мере, канцлер государства, только что проклятый Гийом де Ногаре, почему-то не мог избавиться от ощущения, что полубезумный прямой наследник первого Великого магистра говорит сущую правду.
– И там, судя по всему, Ваше Величество… по крайней мере, кардинал де Прато был уверен, что в ларце были указания на то, где искать тамплиерское золото. Семнадцать галер, семнадцать галер.
Арман де Пейн остановился, судорожно сглатывая слюну и шумно дыша.
Король медленно облизнул верхнюю губу.
– Ну так где же он, этот ларец?
– Я, – прижал к груди руки бывший комтур, – я же рассказал.
– Ногаре!
– Да, Ваше Величество?
– Вы видели этот ларец?
– Сам ларец – нет… но я видел трупы, видел мертвого кардинала де Прато.
– Ларец утащил Лако, мой слуга. Деревенского вида малый, с дырками вместо ноздрей. Я думал, что он погиб, но он, видимо, крался за мной. Я убежден, что он найдется и принесет ларец. Зачем он ему, ведь он неграмотен и дик.
Филипп еще раз внимательно оглядел прямого потомка Гуго де Пейна. Потное, расплывшееся лицо, слишком широко открытые глаза, нижняя губа блестит от непроизвольной слюны. Так, значит, маркиз де Верни, оказывается, простой морской разбойник, графа д'Олорона носят, как тесто в квашне, по гарему, набитому безносыми евнухами, а всем этим миром правит чучело по имени Заххак!!!
– Повесить!
Король развернулся и быстро пошел в сторону галереи. Ногаре на цыпочках догнал его.
– Кого повесить, Ваше Величество?
– Пока не вас.
– Но, Ваше Величество… семнадцать галер.
– И немедленно. Я хочу, чтобы этот сумасшедший самозванец испустил дух одновременно с сумасшедшим стариком там, на острове.
Глава двадцать первая. Понт-сент-Максанс
Что ж, сердце мое покорилось зиме, Хочу одного – повредиться в уме, Хочу я глядеть, озираться, внимать, Но что б совершенно не понимать Того, что твориться, того, что творят, Что б ясен был взор мой, бессмыслен мой взгляд. Что б было вокруг и светло, и бело, Как будто бы снегом нас всех замело. Джуафре РудельУтром пятого ноября выпал снег. Первым это обнаружил Юг де Бувиль, выглянув из окна королевских покоев в замке Клермон. Видение преображенной природы так поразило его заскорузлое воображение, что он бросился обратно в королевские покои с криком:
– Ваше Величество, Ваше Величество!
Король уже заканчивал свой туалет. Филипп приехал в эти места поохотиться и теперь был почти во всеоружии. До его слуха доносился лай борзых и гончих, которых уже держали на сворах во дворце замка псари. В былые времена этот звук бодрил и окрылял короля. Отступали на задний план все заботы – и государственные, и личные, жизнь приобретала простой и возвышенный смысл. Но то случалось во времена, как уже сказано, былые, а они давно изволили миновать. В глазах человека, обернувшегося на восторженный крик де Бувиля, не было ни намека на чувства прежних дней.
Взгляд короля был холоден, мрачен. Можно сказать, безжизнен.
Первый камергер замер.
– Что с вами, де Бувиль?
– Снег, Ваше Величество.
– Снег?
– Да.
– И что?
Вестник замялся.
– Вообще-то… говорят это хорошая примета. И потом – красиво.
– Красиво?
– Именно, Ваше Величество.
– У вас жар, де Бувиль?
– Не сказал бы.
– Тогда пойдем посмотрим.
Не торопясь подошел король к окну, у которого только что стоял де Бувиль. Зрелище, открывшееся ему, стоило восторгов, им вызванных. Буковые и дубовые рощи, начинавшиеся почти сразу же под стенами замка, стали загадочнее, их и без того таинственный осенний смысл еще больше затуманился. С самим воздухом произошли неуловимые для невнимательного глаза изменения. Он словно вступил в особые отношения с солнечным светом, он стал как бы драгоценнее и звонче. Он предоставил звукам большие возможности для осуществления своего эха. Вещь небесполезная на охоте.
Все эти прихотливые детали не были доступны чувствам де Бувиля, он воспринимал торжественно-таинственную красоту утра целиком, в неразложимом виде и просто, натурально восторгался ею.
Что чувствовал король, стоя перед окном, сказать было невозможно. Одно было ясно – глубинная его мрачность не была поколеблена. Он воспринял преображение природной картины как дополнительное доказательство уже состоявшихся в душе выводов. И сейчас душа его, может быть, вынеслась куда-то вперед и парила не только над заснеженным пространством предстоящей охоты, не только над Арденнским бором, начинающимся где-то на северо-востоке от замка Клермон, но и в мирах иных и неведомых.
– Вы правы, де Бувиль, красиво.
– Собаки готовы, сир.
– Я слышу.
Подбежавший камердинер с поклоном передал королю охотничий рог.
Все, экипировка была закончена.
Внизу Его Величество встретил егермейстер и поспешил доложить, что еще со вчерашнего дня его люди рыщут по окружающим лесам. Буквально только что прискакал один – есть три хорошо сослеженных оленя. Не молодняк, не перестарки. Все одиночки.
– Как вы любите, сир.
Было видно, что старик-егермейстер волнуется, он знал, что Филиппу, большому мастеру и знатоку охотничьего дела, угодить чрезвычайно трудно. Как все знатоки и мастера, он был капризен. Но, как известно, каприз есть требование высшей справедливости.
Рядом с егермейстером стоял молодой белозубый егерь, видимо, тот, что примчался только что с известием. От него валил пар, словно он не на коне прискакал, а прибежал.
– Коня, – негромко проговорил Филипп.
Через несколько минут шумная яркая толпа охотников, сопровождаемая собачьим лаем и громом охотничьих рогов, вылилась из ворот замка на нежно присыпанную мелким снегом луговину.
Собаки рвались, им передалось всеобщее возбуждение.
На опушке букового леса егермейстер спросил осторожно, наклонившись к королю:
– Рассворить, сир?
Филипп еще раз внимательно посмотрел в сторону леса и кивнул старику.
Всем известно, что иногда на охоте происходят удивительные вещи. Вот и в этот раз.
Филипп одновременно углубился в лес вместе со всеми остальными. Некоторое время впереди скакал егерь в красном кафтане, один из тех, кто со вчерашнего вечера сослеживал оленя. Он таким образом указывал направление. Потом, когда понял, что высокородный охотник движется туда, куда нужно, егерь отвернул в сторону, чтобы не мешать королевской охоте.
Король несся вперед в окружении полудюжины собак. Они не уходили вперед, видимо, еще не учуяли оленя. Филипп все пришпоривал коня. Слева и справа за стволами мелькали какие-то всадники, но уже нельзя было определить, кто именно это скачет. Так продолжалось довольно долго. Около часа. Может, меньше, а может, и не меньше. Внезапно Его Величество почувствовал какое-то изменение в ритме охоты. Что-то случилось. Что?
Он не мог ответить и решил остановиться, ибо скачка не способствовала ясности мысли.
Остановился посреди довольно большой поляны. Огляделся, прислушался. И обнаружил, к немалому своему удивлению, что находится в полнейшем одиночестве.
Еще несколько мгновений тому назад ему казалось, что вокруг его коня вьются собаки, а за деревьями мелькают яркие кафтаны егерей. Он был убежден, что слышал звуки рогов, сотрясающих голые буковые ветви. Всего несколько мгновений назад.
Король еще раз внимательно огляделся и напряженно вслушался.
Приходилось признать, что он скакал не туда. Охота унеслась дальше, сбросив его со своего крыла. Вокруг одни девственные снега, не тронутые ни одним следом – это усиливало ощущение собственного одиночества и брошенности.
Ни пажей, ни оруженосцев, ни де Бувиля. Но они не могли просто так бросить предмет своего всечасного попечения. Ведь они ехали не охотиться, не развлекаться охотою, а следить за тем, чтобы с Его Величеством, королем Франции, чего-нибудь не случилось во время этой слишком подвижной и рискованной забавы.
«Придется учредить по этому поводу разбирательство», – подумал Филипп. Подумал вяло, без азарта, не это казалось ему сейчас первостепенно важным делом.
«Но если не это, то что?»
Филипп тронул повод. Успевший отдышаться конь, медленно двинулся вперед по снежной целине.
«Конечно, и оруженосцы, и де Бувиль будут наказаны, – продолжал нехотя теребить неинтересную мысль король, – но почему же так крепка уверенность, что не в этом дело?!
И потом, куда я еду?!»
Повод натянулся.
Король снова превратился в конную статую.
Второе противостояние с тишиной подействовало на Его Величество еще сильнее, чем первое.
Втайне он надеялся, что первое было случайностью. Если немного подождать, вон из тех кустов выскочит его любимая борзая с пастью, полной пара. Или донесется удивленное гудение рога из-за тех вершин, слабо позолоченных предзимним солнцем. Короля должны уже хватиться, и вся великолепная охота гонится теперь не за оленем, а за его тенью в холодных теснинах неприветливого леса.
Ничего этого не случилось.
Филипп вдруг услышал, как колотится его сердце.
То сердце, которого, как считали некоторые, у него вообще нет.
«Глупо здесь торчать, – подумал Филипп. – Но ехать дальше – еще глупее», – возразил Его Величество сам себе.
Разумнее всего вернуться в замок. Сегодняшняя охота не предвещает ничего хорошего.
Филипп резко развернул коня и поскакал в обратном направлении по своим собственным следам, благо они хорошо были различимы на снегу.
Король почти успокоился. Он положил себе разобраться со странностями сегодняшнего дня уже по возвращении в замковые покои.
По-прежнему никто не попадался ему навстречу. Ни отставший егерь, ни случайный крестьянин. А ведь эти земли королевства были весьма густо заселены.
Конь бежал весьма резво. Филипп внимательно смотрел по сторонам и под ноги коню, стараясь определить то место, где произошло его расставание со свитой. А может быть, и с реальностью.
Хижина!
Конь, даже не получив соответствующей команды поводьев, остановился.
Хижина на опушке бора, забравшаяся под своды громадного вековечного дуба. Он напоминал воеводу, вышедшего вперед перед строем своего древесного войска.
Вид у хижины был нежилой. Ни загона для живности, ни огорода.
Окружали эту чуть покосившуюся дурнушку нетронутые белоснежные глади. Можно было с уверенностью сказать, что с нынешней ночи никто к хижине не подходил и не подъезжал.
«Плохая какая-то хижина, неприятная». Но не это больше всего смутило Его Величество, а то, что, проезжая час назад мимо этого места в обратном направлении, он ее не заметил.
«Конечно, этому ублюдочному чуду можно было найти рациональное объяснение – скачка, азарт охотничий. Все равно – очень странно. И еще…»
Король не успел додумать мысль. Конь его вдруг самопроизвольно сделал шаг вперед. Потом еще один. И вот он уже небыстро, но решительно идет в каком-то направлении. Известно, в каком.
Филипп не стал возражать своему старому боевому другу.
Пусть будет что будет.
Хижина, покачиваясь, приближалась. Покачивалась она, разумеется, только в глазах сидящего в седле.
Его Величество подъехал. Долго (можно было сосчитать до ста) простоял он перед невысоким деревянным, закопченным строением. Но так не могло продолжаться вечно. Купивший бутылку вина, обязательно откупорит ее и в конце-концов выпьет.
В конце концов Филипп Красивый, король Франции, спешился. Осторожно взошел на присыпанный снегом порожек, который, против ожидания, не скрипнул. Толкнул дверь. Она тоже легко, даже слишком легко, как бывает в сновидениях, отворилась!
И увидел перед собой Филипп…
В общем, ничего особенного он перед собой не увидел. Комната с темными от времени стенами. Из четырех небольших окошек лился скудный, скучный свет, освещая единственный предмет мебели, имевшийся в комнате – большой, грубо, можно даже сказать, свирепо сколоченный стол.
На столе стоял железный ларец. Тот самый ларец, что получил от царя Заххака несчастный потомок Гуго де Пейна, которым мечтал завладеть проницательный неудачник кардинал де Прато.
Больше ничего в комнате не было. Ничего, что могло бы угрожать гостю или всерьез отвлечь его внимание.
Филипп сразу понял, что ларец предназначается ему. Ему, именно ему! Все сегодняшние нелепости и совпадения стали Филиппу ясны – все они были лишь ступенями той лестницы, что вела к этому ларцу. Король издалека пожирал его глазами.
«Что в нем?
Что?
Может быть, гибель?»
Король не слышал собственными ушами пророчество Жака де Молэ, и никто из придворных, естественно, не посмел ему процитировать его, но сейчас, стоя посреди этой непонятной хижины, Филипп вдруг подумал, что Гийом де Ногаре и Климент V уже мертвы. Именно «уже». Умерли в течение какого-нибудь полугода. Он вспомнил о тех отголосках народной молвы, в волнах которой время от времени, как пена, закипало проклятие Великого магистра.
«Может быть, именно сейчас, может быть, именно из этого ларца явится возмездие?!
Или наоборот!»
Филипп внутренне просиял. «Это ларец Армана Ги, этого сумасшедшего комтура. Значит… Значит, во-первых, он повешен зря. Хотя что значит – зря? Виселица не ошибается. Нет, потом об этом. Ларец, прежде всего ларец. Ведь если он действительно принадлежал последнему потомку Гуго де Пейна… тогда там…»
Король не бросился к столу. Король подошел к столу медленно. Ему вдруг подумалось, что если даже в ларце находится тайна тамплиерского клада, то, прежде чем встретиться с нею, неплохо бы выяснить, от чьего имени творятся здесь все эти чудеса. Кто это так таинственен и щедр?
Филипп огляделся. Комната все так же пуста, дверь все так же открыта. В двух шагах за нею стоит на снегу, похрапывая, конь.
Широкая, крепкая ладонь с твердыми белыми пальцами протянулась к ларцу. Прочти сразу же к ней присоединилась вторая, чтобы совместными усилиями отыскать замок и справиться с ним.
Но оказалось, что ларец не закрыт.
«Даже не закрыт!» От этой, в сущности, ничтожной подробности по телу Его Величества пробежала мучительная мелкая дрожь.
– Даже не закрыт, – прошептал он беззвучно.
Но душа трепещет, пальцы ищут.
Крышка легко, покорно откинулась.
Филипп заглянул внутрь.
Там лежало зеркало.
Обыкновенное зеркало в серебряной оправе с серебряной же ручкой.
«Что оно тут делает?»
Ничего не оставалось, как достать его и приблизить к своим глазам.
И вот тут-то…
Сзади раздался тихий, неприятный голос:
– Анаэ-эль!
Глава двадцать вторая. Понт-сент-Максанс
Я так спросил: «Учитель, их мученья По грозном приговоре, как – сильней Иль меньше будут, иль без измененья?» И он: «Наукой сказано твоей, Что, чем природа совершенней в сущем, Тем слаще нега в нем и боль больней. Хотя проклятым людям, здесь живущим, К прямому совершенству не пройти, Их ждет полнее бытие в грядущем». Данте АлигьериФилипп обернулся.
Перед ним было чудовище.
Именно так следовало назвать улыбающегося Лако, застывшего в дверях на фоне снежной равнины. Ладонями он опирался на дверные косяки и, несмотря на то, что был мал ростом, в фигуре его чувствовалась огромная, просто нечеловеческая сила.
– Кто ты?
Лако засмеялся, неприятно зашевелились волосы у него в ноздрях.
– Я твой господин.
Заявление это было столь безумно, что король даже не стал возмущаться и возражать. Лако сказал:
– Ты не возражаешь, но думаю, ты не все понял. Я объясню тебе.
Слуга Армана Ги вошел внутрь комнаты. Филипп с трудом переборол желание сделать шаг назад. Он только крепче сжал ручку зеркала.
– Разговор будет не слишком долгим.
– Какой разговор? – пробормотал Филипп. Он хотел сказать какие-то другие слова, но не знал, какие именно здесь нужны.
Уродец подошел почти вплотную, давая возможность рассмотреть себя во всем своем отвратительном своеобразии.
– Я хочу поздравить тебя, Филипп Капетинг.
– Поздравить?
– Да.
– С чем?
Лако сделался вдруг предельно серьезен.
– С вступлением в орден рыцарей Храма Соломонова. Твоя просьба удовлетворена.
– Моя просьба?!
– Ты ведь дважды обращался к Жаку де Молэ, прося принять тебя в ряды рыцарей этого достославного и таинственного ордена. Правда, он дважды отказывал тебе.
Это было верно, и Филипп Красивый промолчал.
– Теперь благодаря тебе Жак де Молэ мертв. Препятствие устранено. И в благодарность за все, что ты сделал для нашего бессмертного Ордена, нынешний его капитул пошел на нарушение Устава и решил все-таки оказать тебе эту честь.
В голове короля все путалось, речь уродца казалась ему бессвязной. За что его, Филиппа, хотят принять в Орден? В благодарность за то, что он Орден разгромил?
– Впрочем, немалую роль в этом деле сыграло и мое настоятельное ходатайство.
– Кто ты такой? – прохрипел король.
– Я уже сказал, твой господин. Недавно я прошел последнее испытание и стал полноправным членом ордена тамплиеров. А в него принято вступать со своим оруженосцем.
Филипп мрачно усмехнулся.
– Не хочешь ли ты сказать…
– Да, – спокойно ответил Лако, – можешь поблагодарить меня и даже поцеловать руку. Я убедил членов капитула, что из тебя получится хороший оруженосец.
Усмешка короля из мрачной стала недоверчивой и немного безумной.
– Но орден тамплиеров уничтожен мною.
– Да, ты потрудился очень хорошо и верховный капитул бессмертного Ордена тебе воистину благодарен. То, что ты сделал, все равно пришлось бы производить. Каждое преображение Ордена – это большое, трудное, иногда противоречивое и всегда очень громоздкое дело. Мы ценим хороших помощников.
Крышка ларца, стоявшего на столе, самопроизвольно захлопнулась.
Филипп вздрогнул.
Лако продолжал говорить:
– Но вместе с тем я не хотел бы, чтобы ты подумал, будто оказал Ордену услуги чрезвычайные и чрезмерные. Мы вообще несколько недолюбливаем палачей.
– Я палач?!
– Конечно, палач. Если не сказать, топор. И моим увещеваниям вняли не в малой степени и потому, что я напомнил господам управителям о твоих усилиях на благо Ордена во времена, предшествовавшие Третьему крестовому походу.
Филипп почувствовал, что сознание его готово помутиться.
Лако удивленно поднял брови.
– Да что с тобой? Не бойся, ты не сошел с ума.
– С кем ты разговариваешь? Кто такой Анаэль?!
– Ты, – Лако бодро хлопнул себя по бокам, – ты посмотри в зеркало – и все поймешь.
Король выполнил приказание.
– Ну, узнаешь себя? Право, ты удивляешь меня своим поведением. Разве не для того ты завел свою зеркальную галерею, чтобы высмотреть то, что видишь сейчас в этом подарке Заххака?
Король шумно дышал, пот застилал ему глаза.
– Ну, скажи же – ты узнал себя?
– Я… не знаю, может быть, мало света или…
– Света достаточно. Это ты! Таким ты был сто двадцать лет назад в Палестине, в момент своего дурацкого стремления к Вратам Истины.
– Вратам Истины?
– Ну, да. Это один из синонимов высшей мудрости. Некоторым типам человеческих существ свойственно это стремление, и когда их путь пролегает вне великого пути, он тернист, кровав и приводит к одному из тупиков, самый невинный из которых – смерть. Смерть в таких случаях даруется почти как награда.
Король с трудом оторвался от зеркала.
– Ты не понравился себе. А жаль, тогда ты проявил огромную изобретательность и силу воли. Не то, что здесь и сейчас в прекрасном обличье и в королевском звании.
– Я не верю тебе.
– Ты хочешь сказать, что люди столько не живут? На что я отвечу тебе, что жизнь имеет не только телесную форму. Да ты ведь и сам смутно об этом догадывался. Об этом, опять-таки, свидетельствует твоя зеркальная галерея. Для бесед на эту тему ты приблизил к себе ученого монаха, его примитивные выводы разочаровали тебя.
Король опять приблизил к себе руку с зеркалом и слегка покачнулся.
– Из всего этого я сделал заключение, что ты готов к высшему, истинному прозрению. Ты не Филипп Капетинг, король Франции, ты Анаэль, оруженосец рыцаря Храма Соломонова. Можешь возрадоваться. Если можешь.
Филипп сделал несколько неуверенных шагов к выходу, грудь его вздымалась так, словно ему не хватало воздуха. Схватившись за косяк, он сделал несколько глубоких вздохов.
– Анаэ-эль! – раздался сзади тихий голос.
Вслед за этим Его Величество оруженосец рухнул лицом вниз.
Вскоре он был отыскан слугами.
Стоя над распростертым телом, егермейстер растерянно говорил:
– Я не понимаю, как он мог потеряться. Мы были в какой-нибудь сотне шагов и трубили во все рога.
Когда короля доставили в замок, он начал бредить. Он требовал отвезти себя в Фонтенбло – место своего рождения.
Через две недели он, не приходя в сознание, скончался.
Исторические комментарии
Людовик Святой
Людовик Святой (1226–1270) – девятый носитель этого имени. Коронован был в младенчестве. Регентом была его мать, вдовствующая королева Бланка Кастильская.
В восемнадцатилетнем возрасте Людовик опасно заболел и дал обет возложить на себя крест, то есть сделаться воином за веру, крестоносцем. Свой обет он выполнил. В 1248 году он с отрядом французских рыцарей прибыл на остров Кипр, став таким образом участником Седьмого крестового похода.
В 1249 году он высадился в Египте, и на первом этапе ему сопутствовал успех, он захватил город Даметт. Но потом обстоятельства обернулись против него, он попал в плен к сарацинам и в качестве выкупа отдал захваченый город.
После этого он отплыл в Сирию, где еще четыре года ждал подкреплений из Франции для продолжения похода. Имя его стало широко известно среди христиан Востока и среди сарацин.
Поучив известие о смерти матери, он отбыл на родину. По прибытии активно занялся государственными делами. Заслужил славу доброго и справедливого государя. Ладил с вассалами, в 1269 году принял так называемую «Прагматическую санкцию», то есть урегулировал отношения французского королевства и папского престола. Перестал выплачивать деньги римской курии.
Неудача Седьмого крестового похода не охладила его релилигиозного пыла, и в 1270 году он высаживается с войском в Тунисе, решив почему-то, что местный султан обратится в христианство. Но случилась эпидемия и Людовик IX, окончил свой жизненный путь.
Бонифаций IV
Бонифаций IV (? – 615) – римский папа с 608 по 615 годы. Происходил из италийского племени марсиев из города Валериии. При Бонифации императором Фокой был передан христианам Римский Пантеон, в нем папой была освящена церковь Святой Марии.
Бонифвций не пользовался большой популярностью, потому что при нем в стране произошло много стихийных бедствий, но все же он канонизирован католической церковью.
Бонифаций VIII
Бонифаций VIII (1235–1303) – последний из пап, пытавшихся на деле осуществить доктрину, утверждавшую, что церковь стоит выше государства. У него ничего не получилось. Этому есть объяснение. К концу XIII века Европа начала выходить из состояния тотальной раздробленности, образовалось несколько больших, достаточно централизованных государств, таких например, как Франция и Англия. В Германии, где оставалось большое количество мелких владений, Бонифаций VIII был хозяином. Но короли Франции и Англии, Филипп Красивый и Эдуард I отвергли его поползновения на верховное руководство. И даже ввели налог на католическое священство в подвластных им землях.
В 1300 году, в юбилейный год, когда в Рим стеклось до двух миллионов паломников, Бонифаций выступил с осуждением Филиппа и Эдуарда, но это не принесло ожидаемого результата.
В ответ францусзкий король созвал Генеральные штаты, в них приняли участие и католические священники французских приходов, и в свою очередь обвинил Бонифация в ереси. Гийом де Ногаре был послан с отрядом, чтобы арестовать главу католической церкви. Папа был избит, из рук королевского посланника его вырвали земляки Бонифация из города Ананьи, но он не перенес побоев, а главное, унижений, и через месяц умер.
Отношения светских правителей и римских пап вступили в новую эру. Началось так называемое Авиньонское пленение.
Авиньонское пленение
Авиньонское пленение (1309–1378) – это словосочетание выглядит довольно мрачно, но на самом деле говорить всерьез о каком-то пленении римских первосвященников было бы неправильным. В 1309 году папа Климент V, кстати, француз по происхождению, фактически по собственному желанию переехал в Авиньон по договоренности с французским королем Филиппом Красивым. До той поры практически все папы были итальянцами по рождению.
Город принадлежал графам Прованса, следующий папа, Климент VI, выкупил его для папского престола в 1348 году.
В Авиньоне папы чувствовали себя в куда большей безопасности, чем в Риме, где в те времена шла ожесточенная борьба местных аристократических кланов. Да и сама папская область в ценре Италии почти прекратила существование.
Процес над тамплиерами, могущественнейшим и богатейшим орденом того времени, стал возможен, в частности, и потому, что существовало полнейшее взаипонимание между французским королем и авиньонским папой.
Авиньонское пленение имело ряд последствий.
Значение пап как светских лидеров в Европе сильно ослабло, но зато очень усилилось их влияние в церковной жизни. Установилось абсолютное папское полновластие во всех церковно-административных вопросах.
Папы в Авиньоне не бедствовали. Франческо Петрарка, посетив Авиньонский замок, назвал увиденное «вавилонским пленением», намекая на вавилонские пиры Валтасара.
В Рим решил вернуться папа Григорий XI в 1378 году.
Жак де Молэ
Жак де Молэ (1249–1314) – 23-й, и последний, Великий магистр ордена тамплиеров.
Родился в дворянской семье в Бургундии. О молодых годах его известно мало. В 1265 году был посвящен в рыцари ордена Храма Соломонова в присутствии Эмбера де Пейро – генерального визитатора в Англии и Франции, и Амори де Ла Роша, Магистра Франции.
С 1275 года участвовал в кампаниях Ордена на Святой земле.
В 1291 году после потери тамплиерами Акры переместил свою штаб-квартиру на Кипр.
Жак де Молэ старался реформировать Орден и организовать новый крестовый поход. Проявил большую активность в этом смысле. Дважды и подолгу бывал в Европе, 1293–1296, 1306–1307 гг., пытаясь уговорить папу и христианских государей на новое богоугодное начинание.
В эти годы, может быть, в ответ на активность Жака де Молэ орден подвергся критике со стороны папы Климента V, он даже предложил в 1305 году тамплиерам объединиться с госпитальерами, их злейшими врагами, в одну духовно-военную организацию.
В 1307 году по инициативе Филиппа Красивого над орденом начался процесс. Жак де Молэ был арестован. Во время длительного, многолетнего процесса он неоднократно менял свои показания. Признавал, в частности, что рыцари-храмовники во время тайных обрядов плевали на крест. В конце 1307 года он отказался от своих слов, в 1308 году в Шиноне вновь обвинил рыцарей Ордена, а в 1314 году заявил, что они невиновны.
Сожжен на острове Ситэ в Париже 18 марта 1314 года, как повторно впавший в ересь.
До сих пор нет однозначной оценки деятельности и личности Жака де Молэ в научной среде. Одни считают его человеком прямолинейным, неумным, ходячим анахронизмом, лидером, не осознавшим смысла перемен, происходивших в мире. Другие, наоборот, полагают фигурой трагической, человеком, принявшим чуть ли не мученический венец на костре.
Существует легенда о том, что из пламени костра на острове Ситэ Жак де Молэ послал проклятия королю и папе, возвестив им, что они умрут в течение года после его казни.
Филипп Красивый умер 29 ноября 1314 года. Климент V 20 апреля 1314 года.
Остров Ситэ
Весьма примечательное место. Один из двух сохранившихся в пределах парижа островов на Сене. Собственно, это старейшая часть города. Еще в доримские времена на нем поселилось племя паризиев. Отсюда, очевидно, и название французской столицы. Римляне называли поселение Лютецией, но оно не привилось.
Бульвар дю Пале делит остров на две почти равных половины. Остров соединен с обоими берегами реки и с другим островом – Сен-Лу, при помощи девяти мостов.
В XI веке Роберт II построил там дворец, которым с успехом пользовался и Филипп Красивый, но дворец простоял не слишком долго, был сожжен в 1358 году во время Жакерии.
Кагорсины
Так называют жителей ныне небольшого городка – Кагор (20 тыс. жителей), находящегося в департаменте Ло, что в Южной Франции. В конце XII века кагорсины, наряду с жителями городов Северной Италии, той части, что называется Ломбардией, основали передовой финансовый бизнес – банковское дело. И сильно преуспели в нем.
Существует мнение, что именно в Южной Франции и Северной Италии появились первые ростки того монстра, который зовется мировой банковской системой. Кагорсины и ломбардцы придумали векселя и другие деловые бумаги, собственно ломбарды и охватили сетью своих контор значительную часть Средиземноморья. Тамплиеры активно сотрудничали с этой сетью, и финансовая система ордена была важной составной частью мирового банка тех времен.
Комтур
Брат-рыцарь, управляющий определенной областью орденского государства. На него возлагались церковные, административно-хозяйственные, военные и судебные функции.
Часто комтур руководил комтурством вместе с Конвентом, собранием рыцарей данного комтурства.
Размеры комтурств весьма разнились. Были такие, что могли выставить лишь десяток рыцарей в орденское войско, но были и обширные комтурства, дававшие и по тысяче рыцарей.
Мессир
Мессир, или мессер: по-францусзки и по-итальянски – господин.
Обращение к именитому гражданину итальянского или французского города.
Указанное обращение могло добавляться как к фамилии, так и к названию должности.
В итальянских городах мессерами именовали рыцарей, судей, докторов медицины и юриспуденции, церковных иерархов. К представителям среднего класса обращались «сэр», а к мастеру цеха ремесленников, художнику или музыканту – маэстро.
Со времнем данное обращение было вытеснено во Франции обращением – месье, а в Италии – сеньор.
Гуго Капет
Гуго Капет (ок. 939–996) – человек, давший название династии Капетингов, вступивший на французский престол в 987 году. Прозвище – Капет – происходит от названия монашеской шапочки, которую носили в те времена богослужители. И сам Гуго, и отец его были настоятелями монастыря Сен-Мартен де Тур. Родоначальником Капетингов считается Роберт Храбрый, граф Анжу, саксонский выходец, получивший от Карла Лысого герцогство Францию.
Бернар Клервосский
Бернар Клервосский (1091–1154) – французский средневековый мистик, общественный деятель, монах-цистерианец, аббат монастыря Клерво.
Происходил из знатной семьи. В 20-летнем возрасте вступил в цистерианский орден и впоследствии основал знаменитое Клервосское аббатство.
Придерживался мистического направления в теологии, был ярым сторонником папской теократии. Боролся с ересями и всяческим инакомыслием. Вдохновитель Второго крестового похода в 1147 году.
Участвовал в создании ордена тамплиеров, в частности, написал его устав.
За чрезвычайные услуги, оказанные Бернаром Клервосским ордену цистерианцев, сам орден был переименован в орден бернардинцев.
Обладал чрезвычайным влиянием, диктовал во многих случаях свою волю папам и королям.
Старец Горы
Старец Горы (Хасан ибн Сабах) – один из лидеров исмаилитской секты.
Все началось с разделения последователей Мухаммада на суннитов и шиитов. Суннитов было большинство, шииты принуждены были скрывать свои убеждения, их общины выработали специфическую культуру тайного общения между собой.
В VIII веке в среде шиитов появляется движение исмаилитов и очень скоро становится весьма влиятельным. В X веке исмаилиты даже создают свой Фатимидский халифат.
Хасан ибн Сабах в конце XI века сумел сплотить вокруг себя большое количество сторонников и даже захватить замок Аламут, что неполалеку от города Казвина. Эта территория находилась в пределах владений сельджукских султанов, но они ничего не могли поделать с укрепленным замком, который защищали тысячи фанатичных сторонников.
Однажды визирь сельджукского султана неправосудно казнил одного из лидеров исмаилитской общины в городе Сада. Последователи Сабаха решили отомстить. Нашелся смертник, который, прокравшись в сад визиря Низама Аль Мулька, нанес ему удар отравленным кинжалом.
Эта практика получила широчайшее распространение. Желающих умереть и попасть в рай после смерти за веру – а именно это гарантировал Старец Горы – было огромное количество. При дворе любого правителя близлежащих городов Шираза, Бухары, Балха, Исфахана было много исмаилитов. Никакое количество телохранителей, никакие стены не гарантировали безопасности. Старец Горы мог убить любого, его не мог убить никто.
Большую роль в формировании культуры ассасинов, так звали последователей Старца, играл гашиш. С помощью этого зелья, манипулируя сознанием юношей, Старец создавал у них ощущение, что он в силах отправить их на время в рай, где полно яств и гурий. За то, чтобы опять там оказаться, они были готовы умереть по первому его требованию.
Титул Старца Горы стал переходящим после смерти Хасана ибн Сабаха, и сам замок Аламут оставался неприступным до 1256 года, когда его разгромили монголы.
Никейская империя
Никейская империя (1204–1261) – государственное образование, возникшее после того, как латинские рыцари участники Четвертого крестового похода взяли и разграбили Константинополь.
Федор Ласкарис, знатный грек, близкий к правившей в Византии династии Ангелов, встал во главе, не без некоторых приключений, во главе провинции Вифиния, центром которой был город Никея. Ему пытались помешать. Людовик Блуа, которому после разгрома Византийской империи достаталась в управление Вифиния, пытался сместить Ласкариса, но неожиданно помогли болгары, в те же годы усилилось так называемое Второе Болгарское царство. Болгары разбили крестоносцев под Адрианополем, и Никейская империя устояла.
На развалинах старой Византии образовались еще несколкьо государств. Трапезундская империя, Иконийский султанат. Они враждовали между собой, кто-то усиливался, кто-то слабел. В конце концов в 1261 году Византийская империя вернулась в Константинополь.
Священная Римская империя
Священная Римская империя основана в 962 году восточно-франкским королем Оттоном I Великим. Рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и империи Карла Великого.
Во главе этого образования стоял император. Титу был не наследственный, выборный. Выбирала императора коллегия курфюрстов, в которую входили самые сильные и богатые владетели.
Власть императора никогда не была абсолютной и сильно ограничивалась высшей германской аристократией, а с конца XV века – рейхстагом, представлявшим все сословия имперского населения.
В ранний период империя имела феодально-теократический характер, император воспринимался как глава всех христиан Европы, отсюда и частые конфликты императоров и римских пап.
Империя кое-как пережила Реформацию, Тридцатилетнюю войну, и упразднена была лишь в 1806 году Наполеоном. Австрийский император Франц отрекся от имперского престола.
Кассандр
Потери следовали одна за другой, они расстраивали его, но не удивляли. До самого поворота дороги к Экс-ан-Провансу Мишель де Нотрдам путешествовал не только в прекрасной повозке, но и в прекрасном обществе. Помимо разговорчивого возницы Жюве и услужливого личного лакея Люка, нанятого еще на побережье, ученому мужу де Нотрдаму сопутствовала пара судейских из Тулузы и весьма начитанный аптекарь из Дофине. Что может быть приятнее ученой беседы во время утомительного путешествия! Тем более, что Мишель де Нотрдам путешествовал как бы в облаке своей научной славы, ореол которой образовался вокруг его имени после его удачной схватки с чудовищем чумной напасти в марсельском порту. Все – от возницы до аптекаря – просили его рассказать «как там все было». Он рассказывал о своих конкретных приемах, давал советы, и они тут же заносились в пергаментные свитки дрожащей от дорожной тряски рукой аптекаря. Мишель де Нотрдам заявил даже, немного увлекшись, что, по большому счету, тайна чумы разгадана. Идея итальянского гения Фанкароло о том, что в основе всех хворей чумного типа лежит специфическое заразное начало «контагия», может считаться доказанной. Осталось совсем немного, чтобы точнее определить его природу и свойства, и тогда по нему можно будет нанести окончательный удар и избавить человечество от этого ужаса навсегда.
Почему-то это последнее заявление вызвало меньший интерес у спутников, чем жуткие истории о марсельской войне с побежденной эпидемией.
– И куда же вы направляетесь в настоящий момент, мэтр? – поинтересовался аптекарь.
– Туда, где засели передовые полки моего главного врага. В Экс-ан-Прованс.
– Говорят, что там обнаружилась некая непонятная зараза. – Осторожно сказал один судейский другому.
Мишель де Нотрдам похлопал ладонью по объемистому кожаному саквояжу, лежавшему справа от него на сиденье.
– Не беспокойтесь, господа, здесь есть все средства предохранения от любого болезненного поветрия. По вашим словам, место назначения у вас Генуя, зачем вам делать большой крюк через Адье, едемте напрямую. Добравшись до Экса, я отдам вам эту замечательную, полностью оплаченную повозку вместе с певуном-возницей. Вы будете в Шартоне через двое суток, и даже быстрее.
Но ночью на развилке все трое просвещенных спутников исчезли, не простившись, не поблагодарив за приятное общество. Рассудили, видимо, что кружной путь по здоровой местности меньше навредит им, чем короткий по владениям зараженной.
Это была непоследняя потеря. Замолчал возница. До этого он охотно сыпал шутками, историями, веселыми песенками, но теперь сосредоточенно молчал, думая о чем-то своем. Впрочем, не слишком трудно было догадаться, о чем именно. Подряжаясь на эту работу, он не знал о дурных слухах из Экса и теперь мучительно взвешивал, что болезненнее: отказаться от большей части оплаты – в случае разрыва транспортного контракта – или смерть от прованской хвори.
В конце концов жажда жизни оказалась сильнее жажды наживы. Возница сбежал, и тоже ночью, в то время, когда мэтр и лакей спали в номере придорожной гостиницы.
Теперь Люк. Он тоже молчал. Мэтр поглядывал на него с исследовательским интересом. Перед ним была живая лаборатория, где ставился опыт: свет научного знания против тьмы предрассудка, питаемого животным страхом. Люк мог собственными глазами наблюдать в том самом Марселе, сколь могущественно средство, заключенное в кожаном саквояже мэтра. Стоило ему появиться со своей пробиркой и веером в какой-нибудь казарме или больнице, как заболевание отступало и никто больше не заболевал. Но юноша пасмурен и озабочен, и не потому что обливается потом под тяжестью медицинского груза. В его голове наверняка бродят сомнения, характерные для ума плебея. А вдруг чума в Марселе и чума в Экс-ан-Провансе – это две разные чумы, то, что помогало на побережье, не станет лечить в предгорьях? Наивный неуч. Мишель де Нотрдам несколько раз порывался прочесть ему лекцию, чтобы выправить работу его еще не стройного ума. Но всякий раз отказывался. По двум соображениям: не хотел унижать идеал своей науки уговариванием его принять. Во-вторых, он уважал свободу воли человека. Хочет сомневаться – пусть сомневается, хотя у него перед носом убедительнейшее средство против сомнений. Хочет сбежать – пусть сбегает. Как те судейские и аптекарь. Человек волен совершать поступки по своему усмотрению, хотя, на просвещенный взгляд, они и показались бы глупыми.
Дорога сделала крутой поворот направо. С холма, где между двух благообразных платанов торчало засохшее дерево, на суку которого, по преданию, повесился безнадежно влюбленный мельник Босси, открылся вид с дороги на типичную прованскую ферму. Такие крестьянские хозяйства широким веером окружали столицу провинции, образуя ее пищевой пояс. Живность и зелень к столу горожанина поступали с их гряд и пастбищ. Но сейчас деревенская идиллия не веселила глаз. Некрасивое длинное строение из серого камня в два этажа с узкими неодинаковыми окнами-бойницами, из одного равнодушно торчит жующая коровья голова. Жующая так уныло, будто она жует само время. Круглый зев колодца посреди двора, вознесенная к небу стрела журавля, с мятым кожаным ведром на черной веревке. Двор представлял собой слой вязкой грязи, испещренной копытами свиней и коз. Ни одной человеческой фигуры. И привкус горького несчастья в воздухе. Несчастья и безнадежности.
Ученый велел слуге опустить саквояж на землю. Открыл его, достал одну из стеклянных колб, вынул пробку, капнул пару капель на кончики пальцев и пометил зеленоватой влагой крылья горбатого, властного носа.
– Можешь оставаться здесь, если боишься.
Когда Мишель де Нотрдам вернулся под сень платана, слуги он уже не застал. Люк умчался прочь, как будто собственными глазами видел трупы с распухшими шеями и синими лицами, которые обнаружил в каменном доме его хозяин. Ученый еще раз прикоснулся лекарственными пальцами к ноздрям, закрыл саквояж и, вздохнув, взвалил его на плечо и вошел в Экс-ан-Прованс. Он был спокоен. У него были свои счеты с чумой. Восемь лет назад он потерял во время эпидемии не только жену и детей, но и веру в человеческое благородство, после того как тесть подал на него после эпидемии в суд, требуя вернуть приданое. Ученый был уверен, что эпидемия жадности вреднее для человеческого сообщества, чем эпидемия любой известной болезни. Правда, одному Господу известно, каким хворям и несчастьям суждено навалиться на род людской в будущем. Об этом Мишель де Нотрдам задумывался все чаще.
На улицах было, естественно, пусто. Через узкие улицы перебегали тихие безнадежные собаки. Только вороны вели себя по-хозяйски, разгуливали по черепичным крышам и заборам, поводя плечами. И над всем царил запах человеческих фекалий. Напавшая на Экс болезнь побуждала заболевших, помимо всего прочего, к неудержимому поносу.
Здание городского магистрата, стройное, стрельчатооконное, в общем, представительное снаружи, внутри представляло собой как бы собрание всей мировой скорби. Пыльный, несчастный воздух, расползающиеся груды пересохших пергаментов с делами, которым больше никогда уж не завершиться. Унылые, испуганные тени редких чиновников, и повсюду запах гари, отлично знакомый марсельскому гостю. Тут жгли в каменных тиглях порошок из рога единорога уже полтысячи лет самое авторитетное средство в борьбе с чумной напастью. Стоивший баснословных денег препарат этот был абсолютно бесполезен в деле борьбы с эпидемией. Пятьсот лет это средство никому не помогало, но авторитет его рос и рос, а вместе с авторитетом и цена. И все средства магистрата тратились на его закупку. Мишель де Нотрдам грустно улыбнулся. Остается только удивляться тому, сколь наивны и ничтожны усилия человека, предпринимаемые для спасения своей жизни, если они не состоят в союзе с достижениями подлинного научного знания.
Завидев нового человека, чиновники норовили скрыться в глухих, темных углах помещения, прижимая к лицу платки, пропитанные средствами, которые скорей должны были не дать защиту, а вызвать рвоту. А требование незнакомца представить его мэру и вовсе приводило их в оторопь. Наконец ученому удалось добиться от одного старика-письмоводителя, находившегося, судя по всему, по ту сторону и жизни и чумы, что мэр недоступен ибо умер.
– Но кто-нибудь из членов магистрата имеется в наличии?
– Разве что господин прево.
Ученый гость обрадовался, этого было вполне достаточно. Он был осведомлен, что если в других провинциях Франции королевские прево давно уже превратились всего лишь в городских мировых судей, то в Провансе они сохраняли традиционную власть и над сбором налогов, и над полицией, и всеми другими городскими чиновниками, врачами, ветеринарами и провизорами. Заручившись его поддержкой, можно было по-настоящему и, главное, быстро развернуться.
Мсье Жирон оказался настолько сухощавым, компактным человеком, что сразу становилось понятным, почему он не заболел – болезни просто было не найти сочного местечка в этом организме, чтобы как следует вгрызться. Небольшой мозг этого господина между тем обладал всей необходимой сообразительностью, а характер – решительностью.
Когда Мишель де Нотрдам поднес к его носу платок, смоченный раствором собственного сочинения, и пояснил смысл его действия, господин прево сразу же принял решение.
– Это победит эпидемию?
– По крайней мере, остановит. – Честно уточнил ученый.
– Приступайте, мэтр.
Были тут же собраны до полусотни женщин, которым выдали образцы трав, их следовало собрать на окружавших город холмах. В здание магистрата был доставлен главный городской парфюмер и детально проинструктирован – ему следовало немедленно разжечь огонь под всеми его перегонными кубами и дистиллировать семь видов сложных смесей, тщательно следя за дозировкой.
– Того, что я принес с собой, хватит едва ли на два дня. – Объяснил ученый.
После этого он сказал:
– А теперь в кордегардию.
Там он велел тщательно разделить больных и здоровых. Здоровых обработал своим раствором и велел их выставить у всех въездов в город.
– Никого не впускать, без того, чтобы они не умылись моим зельем. Вы видели, как я это делаю?
– Да, мэтр. – Сказал усатый сержант и отправился расставлять посты.
Одним словом, работа закипела.
Мишель де Нотрдам поселился в пустовавшей усадьбе с садом и конюшней на окраине города. Там в одной из пристроек он устроил свою лабораторию, куда свозились все нужные ему материалы, травы, семена, растворы, вязанки дров, медицинская посуда. Там он трудился вечерами, после того как все утро и весь день проводил в обходах городской территории.
Однажды вечером, когда ученый был занят работой, сопровождаемой неравномерным потрескиванием сальных свечей внутри дома, и трелями цикад в саду, в дверь дома постучали. Именно в дверь дома, а не в калитку крепкого забора, окружавшего усадьбу. Ученый ждал высоких гостей – прево и кюре – и ему было трудно представить, что эти почтенные люди смогли самостоятельно перемахнуть через забор. Мэтр хорошо помнил, что как следует запер калитку ворот, выходящих на улицу Каменщиков. Чувствуя сильное волнение, Мишель де Нотрдам отпер дверь и увидел в дверном проеме незнакомого, да еще и сильно оборванного молодого человека. Человек этот был большого роста, статного телосложения, тяжко дышал, как после длительного бега, поминутно при этом оглядывался. Такой не только через забор перескочит… Вид столь необычного незнакомца должен был бы испугать беззащитного ученого, но почему-то, наоборот, вызвал приступ жалости, таким испугом был пропитан его облик.
– Умоляю вас, помогите мне!
– Чем же я могу?..
– По крайности, укройте.
– За вами гонятся?
– О, да!
– Кто?
– Мне кажется, что все.
– Может быть, вы просто не совсем здоровы?
– О, это обязательно, но у меня не чума, не бойтесь!
Мишель де Нотрдам улыбнулся.
– Как раз чума меня не слишком пугает.
Тем более, что ученый давно уже понял, что имеет дело отнюдь не с классической чумой, а разновидностью дифтерита, отягощенного каким-то кишечным расстройством.
Гость трясся, как дерево, сотрясаемое сильным ветром.
– Так вы разрешите мне войти? И я расскажу вам свою историю.
Человек явно нуждался в помощи. «Я оказываю помощь городу, было бы логично помочь и отдельному человеку», – сказал себе ученый.
Странный гость не отказался ни от еды, ни от питья, жевал сыр с хлебом, запивая это кисловатым вином, и благодарно сверкал белками. Ученый терпеливо ждал, когда он насытится, и внимательно рассматривал его, насколько позволял свет оплывших сальных свечей в единственном подсвечнике посреди стола. Глаза голубые, как у нормандца, но сам не слишком широк в кости, как представители этого края. Нос по-генуэзски длинноват, но волосы не черные, а скорее русые, как у пиккардийца. Чистым выговором он похож на выходца из Иль-де-Франс, но… Ученый решил дальше не гадать.
– Как вас зовут?
– Кассандр.
– Странное имя. Кассандр, Александр… Вы грек?
– Я не знаю. И имя, может быть, не мое.
– Как это понять?
– Мне его недавно дал маркиз де Лувертюр. Я был найден у ворот его замка.
– Что значит, найден? – Мишель де Нотрдам недовольно поморщился. Разговор начинал приобретать какой-то неосновательный, расплывчатый характер.
Гость торопливо утер уста краем своих нечистых одежд и утвердительно кивнул.
– Да, да, найден. Я лежал в беспамятстве под ветлой на берегу ручья. И не просто в беспамятстве.
– Что значит «не просто в беспамятстве». – Ученый почувствовал, что начинает сердиться. «Зря, я его впустил!»
– Я был совершенно обнажен и сидел согнувшись, упираясь руками в землю, так мне потом рассказывали. Меня нашла девушка, что выгоняла пастись гусей к ручейной заводи. Я едва очнулся, потому что был, по словам тех, кто меня нашел, в глубоком забытьи. Не знал, кто я, как меня зовут, откуда я родом и как оказался на берегу под ветлой. Впрочем, я вижу, что мои слова вызывают у вас сомнение.
– Как вам сказать… А почему господин де Лувертюр назвал вас так странно – Кассандр?
– Очень скоро вы об этом узнаете. Я могу сказать вам об этом сам, но для вас убедительнее прозвучат слова из иных уст.
Раздался стук в калитку ворот.
– Умоляю, спрячьте меня! Они не должны меня видеть! Это смертельно опасно!
Находясь в крайней степени раздражения и недоумения, Мишель де Нотрдам указал странному гостю на дверь, ведущую в спальню.
– В стене за кроватью есть потайной шкаф. Поверните голову грифона на левой колонне в головах кровати.
– Благодарю вас, мэтр, о, как я вас благодарю, вы мой спаситель!
Гостей было не двое, как ожидалось, а трое. Помимо крохотного, сухощавого господина Жирона и длинного мрачного кюре Грималя явился еще один господин. Бравый дворянин по виду, с закрученными усами, шляпе с тремя разноцветными пышными перьями, на эфесе шпаги крепкая рука в кожаной перчатке с огромным перстнем на безымянном пальце – последняя придворная мода. Ему и представляться было не надо – маркиз де Лувертюр собственной персоной. Ученый поклонился важному господину, за это короткое мгновение досада против первого незваного гостя перешла в раздражение против незваного гостя номер два. И раздражение лишь крепло по мере того, как маркиз презентовал манеру своего поведения. Едва отрекомендовавшись, он закричал:
– Ба, да вы неплохо устроились, господин лекарь! – И двинулся без всякого приглашения внутрь дома, распахивая двери и отводя в сторону портьеры ножнами шпаги. Господин прево только вздохнул, а кюре даже и вздыхать не стал. Оба они двинулись вслед за господином маркизом, как понятые при обыске. Дольше всего маркиз задержался как раз в спальне и сделался максимально схож с охотничьей собакой, даже носом подергал, ощупывая воздух.
– У вас не было сегодня неожиданных гостей, господин лекарь?
– Нет. – Сказал ученый с тихой мстительностью в голосе.
Маркиз, весело улыбнувшись, поглядел на него и решительно направился к тайнику.
– Так говорите, никого?
Ученый молчал.
Наглый гость крутанул резную фигуру на столбике в головах кровати, тайник распахнулся.
Внутри никого не было.
Маркиз несколько секунд стоял неподвижно. Потом резко обернулся и выругался по-английски.
– Год демет!
После чего решительно вышел. И из спальни, и из дома. А возможно, убыл и из города.
Господин кюре с чувством перекрестился на деревянное распятие над кроватью.
– Прошу вас, месье. – Сказал Мишель де Нотрдам, приглашая гостей в гостиную.
Когда сели за стол, господин Жиро произнес:
– Маркиз очень хорошо знает этот дом. Он раньше принадлежал управляющему одного из его имений, и господин де Лувертюр неоднократно интриговал здесь со своими фаворитками, тайком от госпожи маркизы.
Поднося к столу поднос, уставленный тарелками с едой и откупоренными бутылками, ученый сказал:
– Непонятно, а с чего это маркиз взял, что у меня кто-то скрывается здесь?
Закончив эту фразу, он увидел, что оба гостя смотрят на край стола, усыпанный крошками хлеба и сыра и слегка забрызганный вином. Поставив поднос, он присел.
Все молчали.
Мишель де Нотрдам вдруг усмехнулся.
– Если бы господин маркиз хуже знал устройство дома и провел последовательный осмотр, он наверняка бы разоблачил меня.
Прево усмехнулся, а кюре снова перекрестился. Было понятно, что оба рады, что разоблачение не состоялось.
– Может быть, вы мне скажете, господа, кто этот человек, которого ищет маркиз, и почему он его ищет? Кстати, я то же не прочь был бы узнать, где он в данный момент.
Визитеры переглянулись. Господин Жиро сказал:
– Оставим в покое этого господина. Если захочет, покажется. Не исключено, что он вообще уже не в пределах этого дома и спасается бегством. Ибо маркиз де Лувертюр публично пообещал казнить его за одно еще не вполне совершенное прегрешение.
Ученый нахмурился. Ему не нравилось, когда с ним разговаривают загадками. Чиновник понимал его состояние, поэтому продолжил:
– Я расскажу все, что знаю об этой истории, но чуть позже, а сейчас позвольте мне закончить мою официальную миссию, ради чего мы и прибыли сюда с его преподобием.
Мишель де Нотр Дамм наклонил голову в знак согласия.
Господин прево произнес торжественную речь. Из нее следовало, что, по мнению городского магистрата, эпидемия «сиреневой» чумы, характеризующаяся воспалением горла, расстройством кишечника и сознания, остановлена. Уже более недели не зафиксировано ни одного нового заражения. Уже заболевшие все еще иной раз умирают, но в городе больше не царит уныние, открылись лавки и мастерские, воздух в городе весьма посвежел, все без исключения горожане прибегают к средству, изготовленному мэтром де Нотрдам. Местные провизоры даже дали ему полагающееся латинское название – «эссенция Нострадамуса».
Ученый усмехнулся и кивнул, видно было, что он ничего не имеет против такого названия. Он и сам подумывал о латинском имени для себя.
В речь прево вклинился кюре и сообщил интересную подробность. Оказывается, перелом в битве с болезнью произошел не где-нибудь, а в городском сумасшедшем доме. Только там удалось добиться тотального, поголовного применения эссенции Нострадамуса, и там был зафиксирован первый факт приостановления потока новых заражений. Когда сомнения в том, что это есть результат применения лекарства, отпали, граждане обратились к эссенции в массовом порядке. До этого те, кто не считал себя дураком, предпочитал лечиться кальвадосом, воскурениями и прочими ненаучными глупостями.
– Эссенция Нострадамуса и молитва – вот подлинные спасители Экса! – С чувством произнес его преподобие.
Нострадамус, а он уже принял окончательное решение, что в научных своих публикациях будет использовать это имя, вежливо поклонился.
На первый план снова выступил чиновник и объявил, что благодарный город Экс отныне считает господина де Нотрдама своим любимым сыном и первым гражданином и в качестве воздаяния за победу над эпидемией дарит ему сей дом, где они все сейчас имеют счастье находиться. И дом, и сад, и вся усадьба уже год как являются имуществом городской казны, и нет для его лучшего употребления, как в дар спасителю здоровья всех горожан.
Нострадамус рассыпался в благодарностях, хотя полагал, что помимо дома ему еще следовала бы некая сумма, хотя бы на продолжение общеполезных медицинских исследований. Денег не дали. Очевидно, все монеты были потрачены на закупку пресловутого единорожьего порошка.
Был поднят тост. Потом еще один, после этого ученый попытался вернуться к разговору о Кассандре. Сначала господин Жиро хотел было замять его, как и дело о наградных деньгах, но ученый был настойчив, как настоящий ученый. Вздохнув, господин прево рассказал следующее: несколько месяцев назад неподалеку от замка де Лувертюр, на берегу ручья был обнаружен молодой, огромный, абсолютно голый и абсолютно беспамятный юноша. Он не знал кто он, откуда он и что делает в здешней местности. Маркиз с интересом допросил его. Вообще, этот дворянин не чужд наукам, обладает библиотекой и даже чем-то вроде лаборатории. «Алхимической» – недовольно пробурчал в этом месте его преподобие. Маркиз – собиратель диковинок «натуры и природы», «соискатель философического камня». «Как и большинство проклятых альбигойских потомков», – опять вставил кюре.
– Его светлость разрешил юноше проживать у него в замке, как я понимаю, на правах некоего экспоната замечательной коллекции диковин.
– А откуда взялось странное имя – Кассандр? Ведь оно было присвоено юноше маркизом, своего настоящего имени он не помнил, как и всего остального.
– Верно. Имя возникло как обозначение неожиданных способностей найденыша. – Кивнул господин Жиро. Господин Грималь добавил:
– Заметили, что юноша умеет предсказывать всякие мелкие события, например, когда именно начнется дождь, или чем заболеет та или иная лошадь, принесет барыш шерстяная торговля маркиза на ярмарке в Бре или нет.
Ученый, и без этого внимательно следивший за рассказом, при словах священника весь подобрался, и его острые черные глаза засверкали особенным огнем.
– Вот оно что?
– Да, одно время Кассандр пользовался большим расположением маркиза, он с удовольствием демонстрировал его гостям, но с определенного момента их отношения разладились.
– С какого, ваше преподобие?
Кюре вздохнул.
– Юноша Кассандр предсказал, что на город Экс обрушится болезненное поветрие, схожее с чумным. Что погибнут многие, но город не вымрет полностью, как при подлинной черной чуме, ибо подоспеет спасение.
Нострадамус выпил сразу полбокала вина, задумчиво при этом двигая кустистыми своими бровями.
– Я понимаю. В тот момент, когда чума действительно началась, юноша из предсказателя превратился в виновника.
– Примерно так. – Кивнули уважаемые горожане.
– У маркиза потребовали выдачи Кассандра?
– Да. – Опять последовал совместный ответ.
– Жители требовали, чтобы он удалил «вонючую» чуму так же как и наслал. Но он не мог этого сделать, потому что предсказывать болезнь – не значит лечить ее. Но он пообещал вам мой приезд.
– Что-то вроде того. – Усмехнулся господин прево. – Господин маркиз защищал Кассандра от толпы, он даже не показывал его никому. И все бы сошло на нет, тем более что ваш въезд в город состоялся своевременно и принес благоприятный результат, но юноша сделал новое предсказание.
Нострадамус докончил свой кубок и налил себе еще вина.
– Какое?
– У господина маркиза есть дочь, любимая дочь Миранда, – сказал кюре, – она не так давно вышла замуж. Через несколько месяцев после свадьбы ее супруг погиб, упал в воду с одного из парижских мостов. Дочь вернулась под отцовский кров. Кассандр был удален из замка на самую захолустную ферму, но и оттуда дошли сведения…
Господин прево перехватил нить изложения:
– … что юноша «увидел», будто бы Миранда умирает при тяжких родах. Тут же маркизу проговорились, что и о падении в Сену супруга Миранды Кассандр тоже загодя поговаривал. Де Лувертюр пришел в ярость и перешел на народную точку зрения, что юноша этот – никакой не предсказатель, а злой колдун, и должен быть истреблен. Но поначалу должен снять проклятие с Миранды, им наверняка уже наложенное.
Нострадмус медленно отодвинул от себя бокал.
– Кассандр услышал о приближающейся опасности и бросился бежать. Но почему ко мне? Я ведь не могу защитить его от гнева маркиза, я всего лишь скромный ученый.
Оба гостя улыбнулись. Кюре сказал:
– Расчет юноши был верным. Он слышал, видимо, от других слуг, что как победителю эпидемии вам, несомненно, по традиции будет присвоено звание почетного горожанина, а по древнему городскому уложению носитель этого звания имеет право ограниченной милости, то есть законного изъятия из-под суда и городского, и дворянского одного любого человека. Кассандр надеялся, что вы как просвещенный человек не захотите потакать языческой дикости, которая толкает маркиза к расправе с ним. Он надеялся, что он заинтересует вас, хотя бы как интересный факт природы.
– Это мне говорите вы, ваше преподобие?! Разве церковь…
– Церковь еще не решила, одержим ли этот человек и чем именно одержим. Большей частью он ровен в своем настроении и никакими злыми силами не охвачен, но иной раз у него бывают внезапные проблески-прозрения, как у больных при падучей, только без того, чтобы он падал и извергал пену из себя. И тогда во время этих приступов ему вдруг открываются некие сведения из будущего и он произносит это вслух, и ему трудно удержаться. Он сам боится своих способностей, и искренне как мне показалось, совершенно искренне, искал в храме облегчения своей ноши. По мнению церкви, было бы и преступно, и неразумно принять решение на его счет, не изучив сей души. Может статься, перед нами некий пророк. Даже фарисей Гамалиил вступился за апостола Павла, боясь оказаться ненароком в стане богоборцев.
Нострадамус грустно поглядел на своих гостей. На душе он чувствовал тяжесть, такую, что ему даже дышать приходилось через силу.
– Я теперь понимаю, почему маркиз явился ко мне без предупреждения.
– Да, – сказал господин прево, – у него была последняя возможность взять Кассандра, до того как вам будут объявлены ваши новые права. Он примчался к вашим воротам первым, мы с его преподобием едва нагнали его у дверей вашего дома.
– Скажите, ваше преподобие, каков же ваш взгляд на природу сего странного юноши, что говорит ваш житейский и церковный опыт?
– Я уже сказал достаточно. У меня нет вывода. Я наблюдал этого человека какое-то время. Теперь ваша очередь. Рассмотрите дело со всей тщательностью. Может быть, перед нами просто казус нескольких совпадений, может быть, перед нами пока неопознанное чудо. Будем помогать друг другу своими возможностями, и да поможет нам Господь.
– Аминь! – Сказали все трое. И все трое без воодушевления.
Едва прозвучало это тройственное слово, из темноты, что густо занимала углы залы, бесшумно выступил тот, о ком шла речь. Выражение лица Кассандра было сосредоточенным, почти испуганным.
– Где ты скрывался? – Спросил господин прево.
– Почему ты убежал? – Спросил его преподобие.
Подождав немного, добавил свой вопрос и Нострадамус:
– Как ты догадался, что маркиз сразу обратится к тайнику в спальне? Вы говорили раньше о тайнике?
Кассандр ответил на вопросы по очереди. Прятался он в яме в саду, вырытой, видимо, для большого винного кувшина, а теперь засыпанной сухими листьями. Убежал, потому что знал о гневе маркиза в свой адрес. А что касается тайника…
– Ты предчувствовал, что маркиз зайдет именно туда, да?
Кассандр честно покачал головой.
– Нет, мэтр, я был в испуге. Я бросился, куда глаза глядят. Выбрал первое попавшееся убежище.
– Выйдя в сад с простым факелом, маркиз тут же бы тебя обнаружил. – Сказал господин Жиро, и в его тоне промелькнула пренебрежительная нотка.
– Вероятнее всего, мессир. – Легко согласился Кассандр.
– То есть свое ближайшее будущее ты предчувствовать не в состоянии? – Усмехнулся его преподобие.
– Ни ближайшее, не отдаленное, – вздохнул Кассандр.
– Но утверждаешь, что Миранда де Лувертюр умрет родами? – Вставил свое слово Нострадамус.
Кассандр только поклонился в подтверждение этих слов, и вид у него в этот момент был одновременно и уверенный, и жалкий, если такое вообще можно вообразить. Высокие гости ученого встали, учтиво попрощались, еще раз произнесли слова благодарности за победу над страшной эпидемией. Ученый принял слова благодарности с подобающим достоинством и смирением. Про себя он давно уже решил, что здесь в Экс-ан-Провансе они имеют дело не с самым страшным видом эпидемии, это не бубонное страшилище, сгноившее треть населения Европы каких-нибудь семьдесят лет назад. Дифтерит в смеси с чем-то кишечным. Но не дело победителя – преуменьшать значение своего подвига.
Когда гости удалились, Нострадамус внимательно и долго смотрел на своего неожиданного домочадца. Совершенно было ясно, что выставлять его на улицу нельзя, да и первым лицам города он обещал разобраться с загадкой этого человека.
– Ляжешь спать в комнате садовника. Там тяжелый железный засов изнутри. Никому не открывай, кроме меня.
Всю ночь ученый ворочался на своем ложе, вряд ли ему мешали воспоминания о постельных плясках легкомысленной хозяйки, сотрясавшей грабовый каркас кровати совместно с ученым маркизом, мешало что-то другое. Мистическое совпадение, о котором он не посмел проговориться отцам города и не проговорится никогда. Появление Кассандра в его доме, странное само по себе, становилось вдвойне, в сто раз страннее и символичнее, если принять во внимание ту деятельность, которой предавался последние годы удачливый врач Мишель де Нотрдам. Утром, когда явился его научный обоз на трех повозках, знающий человек быстро бы сообразил, чем на самом деле занимается под прикрытием своей врачебной практики этот сорокатрехлетний, начавший седеть человек, с орлиным профилем и жгучим черным взглядом.
За возницу на первой повозке устроился негодяй Люк. Едва въехав в ворота, он бросился в ноги господину, разрывая на себе ветхую рубаху и проклиная себя последними словами за трусость и предательство.
Нострадамус посмотрел на него почти снисходительно.
– Когда я только нанимал тебя Марселе, я отлично знал, кто ты таков, так что перестань придуриваться и займись разгрузкой.
Люк тут же вскочил, бодро отряхиваясь, это было не первое прощение, дарованное ему мэтром, и было понятно, что не оно будет последним.
– Знаю, знаю, манускрипты и фолианты требуют внимания и порядка. И весь порядок разгрузки нам знаком вполне. Сначала вносим вот эти тяжелые кожаные – книги Птолемея, потом книги Сивилл, следом пойдет Маймонид, Альбумазар, Алькабит…
Люк лихо и умело руководил наемными носильщиками, собственных рук почти не утруждая. Когда Нострадамус вышел из дому, чтобы проследить за процессом, он увидел во дворе Кассандра, тоже приспособленного ловким лакеем к общей работе.
– Кто разрешил тебе выйти? – Впрочем, сердился он только мгновение. Было бы нереальным – скрыть этого долговязого увальня навсегда в садовом павильоне. – Ладно, помоги им.
По окончании выгрузки книг и приборов и после убытия повозок ученый велел подать себе вина, расположился в кабинете, заставленном стопками книг, заваленном бумажными и пергаментными свитками, бутылями непонятно с чем, начищенными медными весами, склянками с неразличимым содержимым, целыми ворохами сушеных трав, панцирями черепах и черепами непонятных тварей. Кассандру он велел сесть напротив.
Отосланный Люк сердито хлопнул дверью, кажется, его привилегированное место при хозяине собирается перехватить этот чумазый корсиканец громадного роста. Судя по всему, он не просто прислуга при мэтре. И когда успел завестись в доме? Люк сбросил с себя ветхое тряпье, надетое специально, чтобы его не жалко было разорвать перед хозяином, и задумался над тем, как бы ему вернуть свое былое положение при хозяине, тем более что мэтр так возрос в своем значении, а стало быть, будет приподнят над местным простонародьем доверенный его лакей.
– Знаешь, что это такое? – Спросил Нострадамус Кассандра?
– Книги.
– Ты их читал?
– Я не умею читать.
Ответ этот не обескуражил врачевателя. Он ждал чего-то подобного. Не потому что этот юноша не походил обликом и поведением на студента парижского университета. Он был чужероден тому, что называется ученость, чем то более важным в составе своей личности. Выбор ученого перетекал между определениями «варвар» и «дикарь». «Варвар» – человек, развитый по-другому, «дикарь» просто отставший в развитии. Не исключено, что играет свою роль и невольное ожидание какого-нибудь немедленного чуда, на что этот человек способен, судя по словам прево и кюре.
– Итак, ты не умеешь читать, стало быть, и будущее ты узнаешь не так, как если бы читал в Книге будущего.
Кассандр задумался. Ему хотелось, судя по всему, ответить на этот вопрос довольно исчерпывающим образом. Вообще, он был очень озабочен тем, чтобы произвести на своего спасителя как можно лучшее впечатление.
– Сказать по правде, я довольно много знаю.
– Угу.
– Но мне трудно объяснить, каким образом я все это знаю. Я не читаю свое знание из какой-то книги, это точно, но, однако же, могу сказать уверенно, что знание это каким-то образом записано.
Нострадамус подумал, что поспешил, разводя в голове своего странного гостя и парижский университет, от рассуждений Кассандра слегка потянуло схоластической пылью, коей пропитаны сами стены этого старинного замка науки.
– Оставим эти тонкости, возьмемся с другой стороны. Что самое главное ты можешь сообщить из того, что ты знаешь неизвестно каким образом, но, как я понимаю, совершенно точно.
Юноша не обратил ни малейшего внимания на тонкую иронию, от которой не удержался собеседник.
– Самое главное? – Кассандр, кажется, растерялся.
– Вот именно. Самое. Насчет предсказания больших болезней ты свое умение показал. А как насчет появления комет в небе, извержения вулканов, когда, например, будет новый Везувий и где нам ждать землетрясения? А может, новый потоп? Или нет, нет, скажи, когда твое странное знание обещает нам конец света?
Кассандр быстро кивнул и охотно произнес.
– Конец света будет в три тысячи семьсот девяносто седьмом году от Рождества Христова.
Нострадамус попытался не улыбнуться.
– Три тысячи семьсот девяносто семь лет?
– Новый Везувий извергнется в Италии, в тысячу шестьсот шестьдесят девятом году. Это будет гора Этна.
– Извержение Этны? – На губах мэтра появилась недоверчивая гримаса.
Тут распахнулась дверь и в кабинет влетел Люк и заявил, что если срочно не заплатить возчикам за доставленный груз, они точно устроят настоящее извержение и прямо во дворе дома.
Отделавшись от назойливого мажордома несколькими монетами, Нострадамус вернулся к разговору.
– Итак, много цифр. Ты не умеешь читать, но неплохо считаешь.
Кассандр пожал плечами и покачал ими слегка, словно взвешивая эти два своих качества.
– Цифры даются мне сами, как и все остальное.
– Оставим пока это. Я знавал лет десять назад человека, которому «давались» цифры. Настолько, что ему трудно было возразить. Особенно цифры, разлагающие на части время. Все, что мы нынче считаем летоисчислением, весь порядок в этом деле заведен тем моим знакомым. Его звали Жюль Сезар Скалигер, ты не слыхал о нем?
Юноша отрицательно покачал головой.
– Я вообще ничего не слыхал о том, что было до меня. Если уж я ни в малейшей степени не представляю, кто я сам такой…
– Ладно, хватит об этом. Поговорим о чем-нибудь, более простом и понятном. Например, о конце света.
Кассандр выразил всем своим видом живейшую готовность заняться этим.
– Вот ты назвал число, три тысячи семьсот девяносто семь. Но что ты можешь сказать, кроме голого числа? Признаться, Жюль Сезар говорил о несколько других сроках, но не будем привередливы, разница между твоим предсказанием и его не так уж велика. Но он пришел к выводу путем сложного вычисления, длительного, аргументированного, сверенного со многими наблюдениями над поведением звезд и планет и соотнесенного с цифрами и построениями чисел в самых умных книгах. Каков твой метод?
– Никаков. – Быстро ответил Кассандр, несомненно, огорчая ученого.
– Это не ответ. Не достаточно – произнести несколько цифр, необходимо…
– Я могу описать! – Тихо произнес юноша.
– Что описать? Конец света? Ну, это, братец, не номер. Ты читал Откровение Иоанна Богослова или тебе кто-нибудь его читал, ты запомнил несколько фраз и теперь…
Кассандр заговорил еще тише:
– Я ничего не знаю об этих книгах, их имена только слышал несколько раз. Мое знание совсем другое. Говорить?
Ученый на секунду замялся, ему казалось, что он втягивается в немного не достойную его звания игру, но сделал разрешающий жест рукой.
– В самом конце на Землю упадут все ее девятнадцать лун.
Нострадамус ожидал услышать что угодно, но не такую откровенную, несообразную чушь. Он даже возражать не стал, Кассандр понял его молчание за предложение продолжать.
– Это будет самый конец, после чего уже ничего нельзя увидеть и цифры потеряют значение, и останется один измеритель – воля Божья. Но перед падением лун случится громадное, в немыслимом количестве падение на Землю железных гробов. Они будут слетаться много месяцев и падать будут медленно. Внутри каждого будут люди и они выйдут из своих гробов и кинутся по Земле в разные стороны, и пешком, и в повозках, в поисках самого важного, но нельзя сейчас представить и понять чего…
Нострадамус улыбнулся и спросил, включаясь в шутливый разговор:
– А до того?
– А до того будет царство.
– Царство Зверя?
– Нет, нет, зверья будет очень мало. Только в специальных местах за оградой.
– В зверинцах?
– Это будет называться по-другому, но не это важно.
Нострадамус кивнул и вздохнул.
– А что важно?
– Важно, что родится князь.
– Мира сего? – Продолжил свои подсказки ученый, с трудом сдерживая зевок.
– Я не знаю, как правильно сказать. Главное, что родится он особенным способом.
– Каким же это?
Кассандр оглянулся, проверяя, не подслушивают ли. Гневливый голос Люка слышался на улице, он снова с кем-то бранился, но, судя по всему, не побеждал в перебранке.
– Он родится от мертвой женщины.
Нострадамус слышал, по крайней мере, о трех сектах, проповедовавших подобную чепуху. Раскапывание могил и совокупление с женскими трупами. Ребенок появляется, по представлениям этих безумных святотатцев, то ли через тринадцать дней, то ли через семнадцать месяцев, уже с зубами, и неуязвимым для обычного человеческого оружия. С научной точки зрения, чепуха беспредельная, а за разрывание могил и надругательство над телами надо сжигать, хотя, в общем и целом, костры – это, конечно, пережиток. Но иной раз…
– Только никаких там разрытых могил, мэтр.
– А что же?
– Сначала случится страшное преступление – грубо и насильно будет взята женщина, взята одним неизвестным. Что для тех времен вещь небывалая. Женщина понесет в результате этого, но будет еще и убита посредством рассечения головы. Но ее оставят жить.
– Кто? Ангелы?
– Нет, простые лекари. В те годы лекарская наука возымеет способности, ни с чем не сравнимые. Деву положат в хрустальный саркофаг, к жилам подведут трубки с нужными соками, и она благополучно будет ждать разрешения от бремени. Будучи при этом мертвой, ибо мозг ее разрушится. Ребенок выкормится, благополучно явится на свет, и это будет удивительный в своем роде мальчик. Бестрепетный, лишенный сомнения и страха, посвященный мистическим тайнам мира и небытия. Ему со временем отдадут скипетр главной власти, и все народы Земли объединятся в счастливом труде, и не будет войн.
В комнату снова ворвался Люк. Он размазывал по лицу кровь, что шла из расквашеного носа.
– Вам придется выйти, мэтр. Люди маркиза де Лувертюра. Сначала они требовали, чтобы я отворил ворота к его прибытию, а теперь он явился сам…
Нострадамус встал, подумал секунду, поджав губы, и сказал Кассандру:
– Иди скройся в тайник в спальне. Теперь это будет последнее место, где он станет тебя искать. И молись, чтобы маркиз внял моим доводам. Буду с тобой честен – подвергать себя большой опасности ради твоих сказок я не собираюсь. А ты, Люк, беги в магистратуру, объясни господину Жиро…
– Я все понял, мэтр.
Маркиз явился не один. Помимо внушительной вооруженной свиты с ним был и судейский чиновник, судя по желтым нашивкам на черной мантии, королевский пристав. Кожа у него была серая, взгляд тусклый, про таких в прованских деревнях говорят – «выгнали с кладбища»! Но дело, однако, с его появлением оборачивалось самым серьезным образом.
Ученый не стал препираться у порога, а пригласил неожиданных гостей внутрь. Они вошли, но сесть отказались.
– Капитан Гравлен! – Шумно отрекомендовал своего спутника маркиз, прохаживаясь по столовой, нарочно задевая ножки стульев ножнами шпаги. – Он любезно согласился задержаться в наших краях на полторы недели, дабы лично присутствовать при событии.
Примерно дней через десять ожидалось разрешение от бремени его дочери Миранды, то самое, что заранее было объявлено роковым.
Королевский пристав играл морщинами на лбу, кивал в такт словам маркиза, но чувствовалось, что он немного смущен необычностью дела, в которое втянут влиянием могучей натуры его светлости.
Выслушав сообщение, Нострадамус развел руками и сказал, что ничего не имеет против мер, принятых маркизом.
– Таким образом, вы готовы выдать мне этого субъекта, человека, именуемого Кассандром? Тем более что и самое имя дал ему я.
Ученый вежливо поклонился. И тут же заметил, что, к сожалению, пожелание его светлости выполнено быть не может. Для начала человека, именуемого Кассандром, нет в доме, а выдать то, чего нет, затруднительно. Но важнее другое, вина этого человека не доказана формальным образом. Уважаемый королевский пристав появился чуть раньше, еще до того как прозвучало решение суда.
– Я тут суд!! – крикнул маркиз, – и выдам решение немедленно, если нужно!
– В ваших владениях, несомненно, ваша светлость, вы самоуправны всецело, но не на территории города, тут законы свои, и по этим законам я могу взять под свою защиту любого из своих домочадцев, даже в том случае, если он в чем-либо провинился против городского устава. В том случае, если бы человек, именуемый Кассандром, был объявлен виновным по решению суда, то и тогда я имел бы право выбора: защитить его или выдать властям как его городской сеньор. Имя же указанное – Кассандр – вы властны вернуть себе прямо сейчас.
Против ожиданий маркиз не обиделся на остроту. Он ревниво воззрился на привезенного с собой капитана.
– В Лангедоке и Провансе есть такой закон. – Тусклым голосом подтвердил господин Гравлен, чувствуя неудобство из-за того, что вынужден говорить нечто неприятное для слуха его светлости. – Города даруют некоторым своим жителям права, сходные…
– Дурацкий закон! – Вспылил маркиз, чувствуя, что попытка взять на испуг приезжего лекаря проваливается, и так шевельнул шпагой, что повалил стул. – Его давно пора отменить!
Нострадмус только поднял брови в ответ, мол, что тут скажешь?
Но маркиз еще не считал, что разговор окончен. Он подошел к ученому вплотную, играя желваками. Красноватую щеку пересекала медленная капелька пота, прибывшая из-под шляпы.
– Если моя дочь умрет, то это будет преступление, совершенное на территории, которая находится под моей судебной властью, и господин королевский пристав это подтвердит.
Капитан более-менее подтвердил, после того как его светлость бросил в его сторону яростный взгляд.
– Мы удаляемся! – Объявил маркиз де Лувертюр и поступил как человек слова, то есть немедленно удалился.
Прибывший спустя полчаса к месту бурного объяснения господин Жиро был уже в курсе дела. Он вытирал платком морщинистый лоб, пил поднесенную Люком сахарную воду и вздыхал.
Чем же может разрешиться эта ситуация, поинтересовался ученый. История, обычная для нашего времени, отвечал чиновник. Города ссорятся с господами. Из-за земель, из-за дорожных пошлин, теперь вот из-за вообще невесть чего, какого-то смутного предсказания.
От чего будет зависеть исход дела в данном случае, опять спросил Нострадамус.
– Если Миранда не умрет…
– Это понятно. А если умрет?
– Вы что, тоже начали в это верить, мэтр?
– Я просто хочу как можно лучше подготовиться к ситуации.
Господин прево надел шляпу.
– Многое будет зависеть от этого капитана. Его приезд сильно изменил расстановку сил. Я никогда не встану на дороге человека, имеющего доклад у королевского министра. Если он всецело встанет на сторону маркиза…
– Понятно.
– Послушайте моего совета, мэтр… впрочем, не хочу даже таким образом вмешиваться в эту историю. Этот странный субъект доверен вам, и вам виднее, как себя вести.
– Но законную помощь вы мне обещаете?
Господин прево встал.
– Мне самому неприятен этот де Луветюр, но я не люблю его меньше, чем боюсь за себя.
Нострадамус кивнул.
– Вы сказали мне много полезного.
Было понятно, что рассчитывать можно только на себя. Мысль работала быстро. Пока ученый прошел из столовой в спальню, у него уже забрезжил в голове вариант выхода из создавшегося положения.
Кассандр сидел на сундуке под зарешеченным окном, с каким-то особым покорством сложив руки на мощных коленях. Сидел в детской позе, что при его размерах смотрелось как-то неприятно. «Когда ребенок настолько велик, – это уже уродство», – подумал мэтр и сел в кресло с высокой спинкой, закинул ногу на ногу, самоуверенно расправил плечи. При всей хлопотности эта история его как-то бодрила, побуждала к борьбе с обстоятельствами, да и маркиз казался соперником, которому стыдно уступить без борьбы.
– Прикажете продолжать? – Спросил вкрадчиво Кассандр.
– Что?
– До воцарения на земном престоле сына мертвой женщины будут три продолжительные эпохи. Перед самым годом порочного зачатия в полном разливе будет пора тысячи бесцветных царств, медленная война всех со всеми и без всякой пользы для кого бы то ни было. А перед нею эпоха черной власти, она придет на смену эпохе власти желтой. Каждая эпоха длиною в несколько столетий. Если угодно, я могу объяснить, в чем причина каждого названия. Желтая власть – по цвету народов, живущих на восточных морях и на землях, о которых на нынешний день мы имеем одни лишь слухи от португальских редких моряков. Черная власть – по цвету народов, живущих южнее берберских песков Африки…
Нострадамус поднял руку.
– Обо всем этом ты мне еще успеешь рассказать. Сейчас перед нами встала другая задача. Перебросся всею своей способностью, если она все же не выдумка, не шарлатанство, из конца времен во время наше, а именно в сегодняшний день.
Кассандр несколько раз хлопнул глазами, надо полагать, таким образом проявлялось его внутреннее «перебрасывание» через тысячелетия.
– Твое положение сделалось еще хуже, чем было до того. Маркиз де Лувертюр привлек на свою сторону королевского пристава, он будет пьянствовать с его высочеством в замке Лувертюр до самых родов Миранды, и если она умрет родами… она умрет?
Кассандр кивнул.
– То, боюсь, тебя не смогу защитить не только я, но и законы Экса. Тебя обвинят в насылании какой-нибудь порчи на Миранду де Лувертюр, и кому какое дело, что такие люди, как я, например, считают, все эти разговоры о порче, ведовстве и прочем дикостью.
Глаза юноши налились страхом.
– Как нам спасать тебя, предсказатель?
Кассандр нервно пожал плечами.
– Тебе ничего не приходит в голову, я уже понял. Про сына мертвой женщины ты можешь рассказывать сколько угодно. В каком году будет извержение Этны, я что-то подзабыл?
– В-в-в… – Кассандр помотал тоскующей головой, – в тысяча шестьсот шестьдесят девятом. Вы меня проверяете, да?
– Хорошо, – сказал Нострадамус, он действительно решил мимоходом проверить, не путается ли собеседник в своих предсказаниях от раза к разу, – мне вот что пришло в голову. Если ты можешь предсказать смерть Миранды, вдруг ты сможешь что-нибудь найти у себя в голове и для Огюстена Гравлена – капитана, королевского пристава, мужчины лет сорока, с длинным лицом, огромной родинкой у правой брови. Родом он из Пасти. Какое-нибудь событие в его жизни в ближайшую неделю! Например, у него сгорит дом!
– Нет. – Покачал головой Кассандр.
– Кто-то умрет из родных?
– Нет. – Тихо произнес Кассандр.
– Наводнение, пожар в городе, разорение известного горожанина, большая драка!
Кассандр все качал головой. Потом спросил:
– Родом из Пасти?
– Да, да, да. – Азартно повторял Нострадамус.
– Через три дня там выпадет сильный град. С куриное яйцо. Уничтожит все посевы.
– Летом? Град? Ты не путаешь?
Кассандр только улыбнулся.
– Ну, что ж, такое должно запомниться. Через три дня? Хорошо!
Нострадамус встал, потирая сухие, безжалостные на вид руки. По губам дважды пробежала плотоядная, быстрая улыбка. Нет, не то что бы он окончательно проникся верой в невероятные способности этого юнца, но почему бы не попробовать воспользоваться его болтовней? В конце концов, это ведь еще и забота о нем самом.
– Хватит, Кассандр. Пока мне достаточно и этого. Иди в свою комнату. Люк принесет тебе поесть. Тебе лучше не показываться чужим. Не только на улицу не желательно показываться, и по саду не надо расхаживать без дела.
Люк был крайне раздосадован необходимостью обслуживать этого огромного оборванца с сумасшедшим взглядом и дикими манерами. Он попытался поговорить с господином.
Нострадамус писал у себя в кабинете. Пробивающийся сквозь приоткрытое окно пламень заката играл тревожными бликами на начищенной меди и бронзе измерительных приборов, подсвечников, на стеклянных боках колб и золоте книжных корешков. Стоячий поток драгоценной научной пыли шел от окна к двери. Нострадамус водил себя кончиком пера по кончику носа, согласовывая мысли в составляемом послании.
– Мэтр, я ваш лакей?
Нострадамус его не услышал.
– Но разве я так же и лакей этого найденыша? Как я могу успеть достойно услужить вам, если буду отвлекаться на то, чтобы бегать с подносом еще и в садовый сарай?
Нострадамус плеснул две струи песка на чернила для просушки написанного из драгоценной канцелярской пороховницы, подаренной на память другом Скалигером.
– Слушай меня, Люк.
– Я весь внимание.
– Я на тебя полагаюсь, но при этом и награжу, если ты все выполнишь надлежащим образом.
Лакей сделал стойку наподобие военной.
– Ты отправишься сейчас…
– Но ведь дело к ночи.
– В том-то и прелесть дела. Ты отправишься к замку де Лувертюр, найдешь способ, как вручить это послание капитану Гравлену. Познакомишься с тамошними слугами, в общем, найдешься. Передашь письмо, да еще таким образом, чтобы никто этого не заметил.
Люк выразительно вздохнул.
Мэтр достал из кармана свой кошелек, развязал его и начал выкладывать на угол стола серебряные монеты одна на другую. И делал так до тех пор, пока вершина башенки не попала в луч закатного света и не засверкала. Лакею стало неудобно ломаться далее.
– Господин капитан, я отношусь с большим уважением к чувствам его высочества, но не к его методам. Там, где я пытаюсь действовать способами новейшей науки и с благословения церкви, между прочим, вы можете справиться у его преподобия, господин маркиз прибегнет к дыбе или к бичу.
– Но его дочь…
Нострадамус и Гравлен прогуливались в свете нежного тихого рассвета в буковой роще у западной стены монастыря, излюбленном, из-за своей укромности, месте местных дуэлянтов. В данный момент так же разворачивался поединок, правда, лишь словесный.
– Господи, если будет доказано, что юноша, именуемый Кассандром, действительно виновен в предполагаемой смерти Миранды де Лувертюр… впрочем, что же я буду в пятый раз об одном и том же. Надо наконец сказать вам то, ради чего я вас сюда пригласил.
Ученый остановился, как бы давая знак военному, что предстоящее сообщение лучше выслушать, прочно и неподвижно стоя на земле.
– Я хочу пригласить вас в свидетели и эксперты. Слово такого человека, как вы, в подобном деле может стать решающим.
Нострадамус рассказал королевскому приставу историю про намечающийся град. Переждал приступ насмешливого недоверия.
– От вас потребуется совсем немногое, господин капитан. Пошлите человека в Пасти, дабы он на месте убедился в справедливости или несправедливости предсказания Кассандра.
– И что это нам даст?
– Это прояснит ситуацию. Если никакого града не будет, то мы сможем со спокойной совестью заявить, что юноша – просто тихий безумец, по ошибке принятый за опасного человека.
– А если град будет?
Нострадамус ответил не сразу.
– Тогда мы все вместе будем решать, имеем ли право подвергнуть грубому, калечащему наказанию человека, наделенного несомненным даром предвиденья. Достаточно ли нашей компетенции для принятия решения по этому делу? Может быть, мы поймем, что наша обязанность – обратиться к инстанциям, более высоким. Вы как королевский слуга понимаете это лучше меня.
Господин Гравлен задумался. Он с самого начала был не рад, что ему пришлось вмешаться в заваривающуюся тут кашу. И все потому, что он не мог отказать его светлости. Когда делаешь долги, не всегда знаешь, каким образом их могут с тебя взыскать. Хорошо еще, что о факте долга маркиз помалкивает, потому эта тайна в его пользу. История же тут у них в Эксе явно темная. Парнишка, конечно, не так прост, как может показаться. Не деревенский идиот-болтун, но и в то, что он способен насылать смерти и эпидемии на большие города как Экс-ан-Прованс, тоже не слишком верится.
– А как вы сами к этому относитесь, мэтр?
Нострадамус развел широкими рукавами своей мантии.
– Я стараюсь быть максимально объективным, не разрушить феномен слишком страстным вмешательством. И перед маркизом я всего лишь защищаю право довести свое исследование до конца. Жизнь Миранды мне так же небезразлична. Я желаю ей благополучных и легких родов. Так же, как желаю благополучия всем здешним горожанам. Прошу вас не забывать о том, что я кое-как, но все же справился с эпидемией в Эксе.
Капитан сделал серьезное уважительное лицо – разумеется, мэтр, кто же об этом не помнит, кто же этого не ценит!
– И мне кажется, что я та самая фигура, которой естественнее всего было бы передоверить научное общение с этим неясным чудом. Поверьте, дойдя до предела своей компетенции, я сам…
Капитан опять замахал руками.
– Что касается научной стороны, ради бога, это ваше. Я в данном случае хотел вашего совета относительно града.
– То есть?
– Как вы считаете, будет он в Пасти или нет? И действительно такой уж разрушительный для посевов и садов?
– Я вам не отвечу, и знаете почему? Если я скажу, что верю в град, это будет означать, что я признаюсь в том, что верю в смерть Миранды. Такую ответственность на себя я как ученый взять не могу.
Господин Люк, лакей Нострадамуса, теперь требовал, чтобы его называли только так, с видом героя и благодетеля прохаживался по рыночной площади у северных ворот города. Щелчком пальцев показывал виноторговцу, чтобы ему налили стаканчик, выбирал из кучи груш самую сочную на лотке садовода, и демонстративно угощался. Разумеется, даже не предполагая за что-нибудь платить. Служанок, выбежавших в торговые ряды ради господского завтрака, он старательно облапывал и обцеловывал, даже не из честного любвеобилия, а из принципа, потому что решил, что ему следуют некие нежные выплаты с женской части населения этого города, спасенного его высокоумным хозяином. Раз сам мэтр Нострадамус не опускается до того, чтобы выезжать за положенной данью, то его лакей охотно заменит его на этом поприще.
Одним словом, господин Люк катался как сыр в масле хозяйской славы, но, однако, счастливым себя не чувствовал. На порочно-красивом лице нагловатого марсельца лежала тень непонятной печали. Впрочем, почему же непонятной? Люк ревновал. Его неожиданно сильно задевало то, что господин ученый явно тяготеет к новичку, не то чтобы он проводил с ним дни и ночи напролет, но смешно отрицать, что их связывает некая связь, какой и в помине нет между господином Люком и мэтром Нострадамусом. Вся хозяйственная власть в доме отдана в удел господину превосходному, оборотистому, остроумному, любезному господину Люку, но слишком явно ему при этом дается понять, что это род ссылки, отвержения. Господина Люка «не берут в башню», и его не радует то, что вся окружающая земля в его распоряжении. Власть над бытовыми делами, власть низменная. Если бы господина Люка спросили, чего же он, собственно, хочет, привлечения к каким вычислениям и измерениям, к каким именно метафизическим рассуждениям, он бы ответить, конечно, не смог. Никогда сам никакими точными и высшими науками не интересовался. Вместе с тем умудрялся в данном случае чувствовать себя уязвленным. И никакого парадокса – все марсельцы таковы. Только парижане еще ненормальнее их.
– Какая милашка! – Господин Люк поймал сильными загорелыми пальцами за щечку молоденькую девушку в розовом чепце, с кувшином в руках, выскочившую из проема между лотками. – Куда же мы так спешим, красотка?
Потупленные глазки, личико, порозовевшее сильнее, чем чепец.
– Папаша послал меня…
– Эй, ты, – раздалось грозное сипение из-за горы горшков, громоздившейся на телеге, – попридержи свои поганые лапы!
Господин Люк удивленно поднял брови и поглядел в сторону небритой образины, кажется, выдававшей себя за покровителя девицы. При этом господин Люк продолжал весьма фамильярно трепать жесткой ладонью по нежной щеке замершего создания.
– А ты попридержи свой поганый язык, пока я тебе его не укоротил! – Заявил лакей горшечнику, испытывая полнейшее удовлетворение от уровня остроумия, продемонстрированного этим ответом.
– Не смей ее лапать!
– Я буду лапать все, что сочту нужным в этом городе, в любом месте и в любое время.
Господин Люк наклонился к личику девушки и смачно поцеловал ее в губы.
– Жди меня сегодня в полночь, радость моя.
Тут рядом со старой небритой образиной выросли еще две, помоложе, явно сыновья. Громилы с красными кулаками. В кулаках этих были зажаты у одного – вилы, у другого – оглобля. Господин Люк оставил щеку девы и схватился за эфес шпаги.
Братья девушки с ревом вылетели из-за телеги, потрясая своим недворянским оружием. Господин Люк встал в стойку. Но неформальной дуэли состояться было не суждено. Из-за ближайшей телеги вышел сержант городской кордегардии в сопровождении двух стражников.
– Прекратить! – Рявкнул он. Крестьяне, потеряв возможность кинуться на обидчика с дрекольем, кинулись с жалобами к представителю власти. «Жертва» преступления против нравственности стояла тут же, полыхая как поле маков. У сержанта не было никаких сомнений, кто тут зачинщик и виновник. Сержант успел уже изучить личность лакея Люка и не питал к нему никакой симпатии, его не надо было убеждать в том, что «этот хам и негодяй оскорбил и чуть не опозорил невинную девицу!»
– Не опозорил, так опозорю! – Нагло заявил господин Люк, отправляя клинок в ножны.
– Вы видите, вы слышите?! – возмущались крестьяне.
Сержант все видел. Отцу оскорбленного семейства он буркнул, что это лакей мэтра Нострадамуса, спасителя Экса.
– Так что, значит, ему теперь можно все?
Сержант страшно поморщился, свирепо сверля взглядом марсельца.
– Нет, не все. И сейчас я уведу его отсюда.
Господин Люк послал прощальный поцелуй шокированной девушке и еще раз пообещал навестить ее с наступлением темноты.
– Приходи, приходи, – рычали братья, – мы отрежем тебе не только уши – и язык.
В то время как господин Люк срывал свое смутное недовольство жизнью на торговцах и девицах города и его окрестностей, мэтр Нострадамус и найденыш сидели взаперти в подаренном муниципалитетом доме, да так укромно, что даже человек, пожелавший установить наблюдение за этим жилищем, навряд ли мог бы определить их распорядок дня. Мэтр не покидал своего кабинета, погруженный полностью в работу по расстановке своей огромной библиотеки. Кассандр находился в садовом домике, и чем он там занимается, его новый господин не представлял себе ни в малейшей степени. Книг он не просил, ибо не умел читать, свечей тоже не требовал, ибо ему все равно было – темно в помещении или светло. Еды ему хватало той, что стряпал ленивый Люк и относил к дверям его садового узилища один раз в сутки вместе с кувшином самого дешевого вина.
В общем, Люк очень преувеличивал, представляя себе, что после его ухода на городскую прогулку мэтр и подкидыш воркуют как голубки весь день напролет.
Обычно Нострадамус был счастлив в окружении своих книг. Даже в те дни, когда жуткая эпидемия пожирала его супругу и чад, он успокаивал себя перелистыванием страниц старинных фолиантов, находя в их драгоценной пыли хотя бы частичное успокоение и объяснение смысла бедствий. Теперь же мэтр был снедаем незнакомым чувством. Ему было не по себе. Душа раздваивалась под воздействием двух разных потребностей. Ему страстно хотелось распрашивать и распрашивать Кассандра, составляя карты будущего, с другой стороны, он всякий раз себя одергивал, стыдя за то, что готов пойти на поводу у ненормального парня, сочинителя банальных сказаний. Чего только стоят эти девятнадцать земных лун перед концом света!
Но, однако же, он сам взял на себя общественную обязанность разобраться с этим «чудом». Мэтр не собирался отказываться от выполнения научного расследования. Но положил себе так: приступить к делу только после того, как придет известие из Пасти относительно предсказанного Кассандром чудовищного града. Это будет опыт, поставленный им лично, его результатам можно будет доверять. А пока можно заняться сплетением теоретической сети, для улавливания рассеянных, несообразных знаний юнца Кассандра. Для чего мэтр начал с перечитывания книги, которую и так знал практически наизусть – Откровения Иоанна Богослова. А вслед за тем многочисленных ее толкований.
Прошло несколько дней.
Спешку Нострадамус считал унизительной для подлинного ученого.
Но и чрезмерное промедление иссушает научную душу.
По его расчетам, градовая гроза над Пасти должна была разразиться позавчерашним вечером. Если всадник с известьем к капитану будет послан сразу же вслед за событием, то замка де Лувертюр он достигнет где-нибудь к сегодняшней полуночи. Или, в самом худшем случае, к рассвету, это при особой нерадивости слуг в капитанском имении.
И до роковых родов останется всего два дня. Хватит ли два дня для завершения всех дел с Кассандром? Может быть, имеет смысл начать прямо сейчас? Негодные, сказочные рукописи можно будет потом сжечь, если история с градом окажется выдумкой.
Нет, несмотря на всю разумность такого взгляда, Нострадамус отверг его. Ему казалось это предательством избранного принципа. Нельзя великое дело вершить, мухлюя в мелочах.
Для связи с замком у мэтра был только один человек, все тот же гонорливый господин Люк. Он наведывался в громадную усадьбу де Лувертюр по своим тайным тропам, завел, как можно было понять, приятелей и приятельниц среди тамошней обслуги. В случае поступления известий из Пасти ему должны были дать знать об этом немедленно. Услуги его обходились все дороже, он капризничал, как примадонна, но ни к чьим другим теперь уж не прибегнешь. Так что Нострадамус приготовил уже не серебро, а золото, монету с профилем спасаемого Богом великого государя Франциска I, и засел в кресло в книжный развал посреди мрачного своего кабинета.
Но Люк не шел.
И чтение не шло.
Шла гроза! Это сообщало ожиданию дополнительное, тревожное волнение. Здесь над Эксом возникло бурное явление природы, и в этом можно было усмотреть при желании перекличку с другим природным явлением, там над Пасти.
Как бы заразившись жизнью от воображаемых молний Божьего гнева, проносившихся по страницам очередного толкования Апокалипсиса, что Нострадамус держал распахнутым на своих коричневых шерстяных коленях, ожили реальные природные огненные зигзаги меж лбами облаков на темно-синем, а потом и сине-черном небе.
Люк где-то пропадал, но навряд ли промокал и пропадал со страху, как Кассандр в своей убогой сторожке. Пусть крыша там и исправна на вид, но достаточно ли исправна эта огромная юная голова, чтобы снести эти жуткие небесные грохоты, дождевые струи толщиною в коровью веревку? Нострадамусу казалось, что он слышит его голодную дрожь там на топчане, в углу затапливаемого сада.
Люк, Люк, где ты, негодный Люк!
Мэтр встал, собрал в подол своего магистерского облаченья полкуропатки, кусок хлеба, заткнул огрызком репы початую бутылку вина и побрел с одной пугливой свечей во всемирный хаос. Казалось бы, куда проще было крикнуть из дверей Кассандру: «иди сюда», но ученому почему-то казалось противоестественным непосредственное совмещение своего книжного мира и промокшего садового подкидыша. Он позовет его сюда только после того, как получит положительный результат с этим градовым опытом. Тогда появление сказочника в мире точного знания не будет выглядеть оскорблением.
Стоило ему отворить дверь во двор, как свечу задуло. И на ученого буквально навалился, стуча зубами от холода, незнакомый человек. Можно было бы испугаться, если бы он радостно не закричал.
– Мэтр!
Это был наглый лакей. На улице дождь и второй час пополуночи. Он явился неизвестно откуда и был, кажется, сильно пьян. Неисправим! Нострадмус решил, что выгонит его завтра. Завтра, после того как сгоняет на разведку в замок.
Люк не мог стоять на ногах, повалился на пол со стоном. Оставляя на полу неимоверные лужи своими грязными брэ, он прополз к камину и улегся на железной подстилке для топлива, хрустя мелким углем.
– Умоляю, умоляю, мэтр, винного уксуса, хотя бы немного!
– Тебя уже не пьянит вино?
Люк перевернулся на другой бок, показывая изорванный рукав колета и длинные царапины на голом предплечье.
Мэтр, повинуясь долгу врача, не только промыл рану негодяя, но и перебинтовал его руку. Чем дальше, тем больше становилось очевидным, что Люк хотя и похож на пьяного, но опьянение его носит не винный характер. Так или иначе, порция строгости ему полагалась. Кроме того, ученого все сильнее жгло желание узнать, какова там погода в Пасти. Без этого он не мог ни начать работать с Кассандром, ни прогнать его. Выбрав момент между двумя ударами грома, он заговорил:
– Что бы там с тобой ни произошло…
– Мэтр! Я упал, скользко, острые ветви…
– Я не желаю знать этого. Я хочу, чтобы ты немедленно – вон там сухое платье – и можешь взять нашего единственного коня – отправлялся в замок де Лувертюр.
Глаза Люка померкли. Превосходный хмель его скис, обернувшись тоской.
– Но это смертельно опасно для меня.
– Смертельно опасно для тебя – пререкаться со мной.
– Но что вам может быть нужно в такую погоду в замке маркиза?
– Я хочу, чтобы ты передал записку капитану Гравлену. Дорожку ты, видать, уже протоптал, так что тебе не составит труда.
– Это невозможно!
– Собирайся! Иначе я передам тебя в кордегардию.
– Капитана Гравлена нет в замке.
Нострадамус поклялся себе, что мокрый лис не собьет его с толку, но тут сбился.
– Не понимаю.
– О, это целая драма до слез. Говорят, капитан прослышал, что какая-то беда угрожает его имуществу там, на родине в Пасти, вокруг городка у него обширные виноградники, и он помчался туда. Но на самом въезде в город ударил невероятный гром и обрушился библейский град. Конь капитана оступился на ледяном настиле моста, и капитан рухнул. И сломал себе шею. Два часа назад прибыл гонец из Пасти к маркизу.
Раздался особенно сильный удар грома, как будто небо давало понять, какой силы был удар капитанским туловищем о ледяной помост.
Нострадамус ощутил сильнейшее волнение. Нет, это было не волнение, не этим словом следовало называть то чувство, что терзало изнутри все существо ученого, пробираясь все глубже и глубже внутрь сознания, и производя там невиданные обрушения сомнений и вспышки ослепительных догадок.
– Так значит, град в Пасти был?
Люк сел спиной к огню и начал рассуждать о том, что таких ледяных камней с неба, судя по рассказам людей маркиза, с которыми он коротал время на малой кухне замка, еще никогда не бывало на памяти самых древних стариков.
Еще один раскат прогромыхал над крышей дома, и мэтр молитвенно сложил руки на груди и, резко запрокинув голову, начал быстро молиться, вознося хвалы Господу. Можно было начинать.
– Собери корзину с самой лучшей едой, дюжину свечей, кресало и два плаща.
Люк обернулся мгновенно. Как будто всегда был наготове для выполнения именно этой команды.
Дождь начал стихать, и из-за крутого края одного из черных облаков выглянул диск луны, так что могло показаться, что все поверхности в саду, – листва, каменные дорожки, скаты крыш – покрыты серебряной амальгамой.
Кассандр сидел в дальнем углу сторожки. И не потому, что боялся грома, просто там было суше всего. В других местах тоненькие струйки воды просверлили крышу и барабанили о мокрый пол, издавая разнообразные звуки.
– Нам нужно поговорить, Кассандр.
– Опять о конце света?
– И да, и нет.
– Вы всегда раздражались, говорили, что я изъясняюсь загадками, а теперь…
– Оставим это. Вот еда, вино, набрось плащ, тебе ведь холодно. Или тебе все равно, ты, может быть, привык?
– Мне часто бывало холодно и голодно, но я всегда был рад случаю поесть и согреться.
Мэтр взволнованно вздыхал, ему слишком хотелось начать расспросы, хотелось спросить о слишком многом, вопросы столпились, как лодки у узкой протоки.
– Может быть, вы хотите узнать свою судьбу?
– Что?
– Через два года вы посетите Лион, где укротите еще одну опасную эпидемию. Потом поселитесь в Салоне де Кро, где в первой половине ноября сочетаетесь браком с вдовой Анн Понсан Жемеллой. У вас будут…
– Постой…
– Похоронят вас…
– Я сказал – постой!!!
Кассандр безразлично поежился в тепле плаща.
– Поговорим о … политике. Долго ли продлится царствование нашего нынешнего монарха, благословенного Франциска Первого?
– Он умрет еще до того, как вы женитесь. Наследует ему сын. Он будет править под именем Генриха Второго.
– Ну, это-то предугадать нетрудно.
– Ваша слава врачевателя и предсказателя будет расти…
– Я приказываю тебе не произносить ни слова о моем будущем.
– Слушаюсь, мэтр. Но я в данном случае хотел говорить не о вас, а о государе Генрихе Втором. В 1555 году у вас состоится с ним встреча. В тайну этого визита будут посвящены считанные люди, но удивительным образом станет широко известно ваше предсказание скорой гибели Его Величества, сделанное вами.
Нострадамус обалдело помотал головой.
– Я предскажу королю гибель?! Я что, сумасшедший?! И я смогу унести ноги из дворца после такого предсказания?
– Вот именно – ввиду таких именно толкований, факт этой встречи и вашего предсказания королю будет долго оспариваться и подвергаться сомнению среди ученых мужей.
Нострадамус вырвал из рук Кассандра бутылку вина и отпил сразу чуть ли не половину.
– Но ты не сказал главного.
– Чего, мэтр?
– Сбудется ли мое предсказание?
– В общем, да. Я сейчас объясню уклончивость моего ответа. Генрих Второй умрет через четыре года в 1559 году, на летнем свадебном турнире. Правильнее сказать – погибнет. Считать ли такую смерть очень уж скорой? Но тут есть некие сопутствующие обстоятельства. В начале того же 1559 года Генрих заключит позорный мир с Испанией, фактически признав поражение Франции в войне с ней, потом он поставит гугенотов вне закона и начнет репрессии против членов Генеральных штатов. Все эти действия ввергнут Францию в пучину страшных бедствий. Если посмотреть с этой стороны, то предсказание черных времен для целого государства всего за четыре года до их начала может считаться предсказанием чрезвычайной точности.
Мэтр сидел, обхватив руками голову.
– Гражданская война, репрессии, кровь…
Кассандр продолжал ровным деловым тоном:
– А если мы примем во внимание, что в наше время можно поставить знак равенства между словами «государь» и «государство», то предсказанное для Генриха является предсказанием для Франции. И наоборот. Некоторая приблизительность предсказания, с одной стороны, и чрезвычайная точность, с другой, дают общий хороший результат, который впечатлит всех думающих людей. Видимо, в таком образном виде, не называя человеку Генриху пугающих точных цифр, вы и выразите свою мысль Его Величеству в 1555 году при личной встрече. Гнев его сдержится, а ваша слава станет расходиться широкими кругами.
Мэтр отпил еще один глоток вина. Некоторое время смотрел сквозь темноту на юношу, и ему казалось, что он различает блеск его глаз. Принесенных свечей они почему-то не стали зажигать, как будто мерцанье пламени могло как-то повредить картинам будущего, рисуемым словами.
– Скажи, Кассандр, ты знал, что капитан Гравлен погибнет, поскакав в Пасти?
– Меня спрашивали про град, мое дело было – ответить про град, я не мог рассказать про все то, что будет связано с этим градом. Я знал, что пострадают сотни людей и овец, пострадают виноградники, крыши домов… Про капитана вы меня не спросили.
Нострадамус тяжело вздохнул, перевернул бутылку вверх дном, из нее упала невидимая капля.
– Ну, и хорошо. – Сказал ученый, возможно, имея в виду, что довольно вина, ум в данном случае лучше оставить в ясной области.
– Но если бы я знал о его смерти заранее и предупредил капитана, он мог бы не погибнуть? – Спросил более тихим, чем обычно, голосом мэтр.
– Не знаю. У него там виноградники, лучшие в округе. Мне кажется, он все равно поскакал бы туда, думая, что сможет как-нибудь предостеречься.
– И погиб бы как-то по-другому?
Кассандр покачал головой, и несмотря на темноту мэтр уловил это движение, по блеску дождинок, сверкнувших на щеках в лунных иглах, пробивавшихся снаружи.
– Я не знаю. Я вижу, мэтр, вы хотите завести разговор о предначертанности и случайности, а это слишком сложные предметы, мой ум пасует.
– Не наговаривай на свой ум, Кассандр, я с трудом продолжаю верить в то, что ты не умеешь читать и писать.
– Это правда, мэтр.
– В тебе сидит другая образованность, но сейчас мы пока оставим эту тему, есть более важные дела.
– Я весь к услугам вашим, мэтр.
Нострадамус нервно поглаживал колени.
– Скажи, ты хотел спасти Миранду, когда объявил заранее возможность ее смерти при родах? Чтобы собрались врачи, самые лучшие в здешних местах, чтобы неусыпно сидели при ней, ловя роковой момент, дабы отклонить его скальпелем, ароматической солью или кровопусканием.
Кассандр ответил не сразу.
– Вот я предостерег маркиза, расположенного прежде ко мне, о смерти его дочери, а еще раньше предостерег город, что идет болезнь, и что же – меня сочли колдуном, и ничего не было сделано! Болезнь в город пришла. Так же, как смерть придет в замок де Лувертюр. И я уверен, что ни в случае с болезнью, ни в случае с родами ничего сделать нельзя. Хотя то событие уже в прошлом, а второе еще в будущем.
– Значит, все же судьба?! Непобедимая судьба! Но капитан Гравлен, ничего не узнав о граде в Пасти, остался бы цел или, по крайней мере, погиб бы совсем другой гибелью. Для него возможна была и какая-то другая судьба, кроме той, которой он подвергся. Нет, я чувствую, что и мой ум пасует, загадка не разрешима. Надеюсь, пока. Я к ней еще вернусь, у меня будет время.
Мэтр встал, шумно и невидимо расправляя в темноте полы своего одеяния.
– Пока неразрешима. Но вместе с тем нельзя же просто ждать, следует нечто предпринять. И я знаю что. Ты сейчас пойдешь со мной.
– Куда?
– Туда, куда я не хотел тебя пускать, где царит гордая мысль точного, достоверного знания. Еще совсем недавно я считал оскорбительным ввести тебя с твоими россказнями в этот храм. Теперь же требую, чтобы ты туда вошел. Вооружимся пером и пергаментом. Единственное, что мы можем и должны сделать – это записать твои слова и цифры. У нас впереди еще два дня. Ведь Миранда умрет послезавтра?
– Да, мэтр.
– Это так же верно, как и то, что вчера днем в Пасти прошел невероятный летний град?
– Да, мэтр.
– У нас слишком мало времени.
Господин Люк резко изменил свой образ жизни. Он почти не покидал пределов усадьбы Нострадамуса. С величайшей осторожностью открывал смотровое окошко в дубовой калитке, когда снаружи стучали. Даже за продуктами на рынок он, переплатив из своих денег за услуги, отправил соседского мальчишку.
Впрочем, и мэтр, и его голодраный собеседник не слишком-то беспокоились о еде. Они сидели практически безвылазно в библиотеке и по пять раз в день требовали чернил и песка для просушки написанного. Хорошо, что этого добра достаточно прибыло с марсельским багажом и за ним не надо было никуда бегать.
Мэтр был так занят, что самым строгим образом потребовал, чтобы его не беспокоили. Ни для кого никаких исключений. Явились как-то без предупреждения господа Жиро и Грималь. Люк, смущаясь, озвучил им приказ мэтра. «Даже для меня?!» – удивленно спросил его преподобие. «Неужели и мне нельзя войти? Ты посмотри, кто перед тобой, бездельник!» – возмутился господин Жиро. Уж кого-кого, а мессира прево Люку злить не хотелось, в рассуждении неких будущих событий. Он угодливо сбегал к дверям библиотеки и чуть не получил шандалом по смазливой физиономии и немыслимый в другое время выкрик мэтра «пошел вон!». Он слезливо пожаловался городскому магистрату и кюре. Те отправились восвояси, возбужденно переговариваясь. Они понимали, в чем причина невежливости господина ученого, их смущала лишь степень погруженности мэтра в эту работу. Неужели этот сомнительный Кассандр так его увлек? Отцы города были заинтригованы.
Угрюмо ходил господин Люк по саду, по дому и переднему двору, снедаемый какой-то своей горючей мыслью. Волей-неволей он, перемещаясь с места на место, оказывался у дверей библиотеки, и поскольку после последнего метания в нее раздраженного металла она неплотно вернулась на свое место, ему доводилось услышать фразу-другую из бесконечного разговора мэтра и его ненормального дружка. Вернее, даже так: говорил оборванец, а мэтр только переспрашивал, уточнял, восклицал, удивленно кашлял и скрипел, скрипел пером. Все это очень бы забавляло и развлекало господина Люка, когда бы не разъедавшая его изнутри тревога, не дававшая ни минуты усидеть спокойно на одном месте.
Сделав два бесплодных круга по саду, лакей в очередной раз пересек дом в надежде, что, может быть, в другой части усадьбы, у конюшни, его озарит счастливая мысль. Пока его ухо проплывало мимо кабинетной двери, на нем осели звуки равномерно, бесчувственно произносимых слов.
– …марте 1603 года королева английская Елизавета скончается. На престол вступит ее единственный родственник, сын казненной Марии Стюарт, король Шотландии Яков Шестой. В Англии его станут именовать Яковом Первым.
Чтобы всякий раз не останавливать внимание читателя на описании однообразных метаний лакея, будем обозначать просветом в тексте тот момент, когда он проскальзывает мимо дверей кабинета из сада на передний двор усадьбы и обратно, подгоняемый своим неусидчивым состоянием.
…В 1624 году, еще не закончив войны с Испанией, Англия вступит в войну с Францией. Через год королем Англии станет сын Якова Первого, Карл Первый…
…в два часа пополудни 30 января 1649 года король Карл Первый будет обезглавлен на открытой улице перед Уайтхоллом…
…в 1666 году, спасаясь от чумы, Исаак Ньютон удалится в свой родной Вулсторп, где…
…постой, постой Кассандр, что, и через сто с лишним лет чума не будет побеждена?
…нет, нет только в двадцатом веке, и только…
…продолжай.
…13 июля 1793 года Шарлоттой Корде будет убит Марат. Но это не остановит цепь убийств и преступлений!
…неужели?!
… 9 термидора, прямо на заседании Конвента…
…погоди, я перестал тебя понимать…
…Конвент – это революционный парламент, а термидор – название месяца. Отрекаясь от старого мира, якобинцы не захотят иметь с ним ничего общего, даже календаря. Термидор, жерминаль, фрюктидор, нивоз, вандемьер…
…Конкордат с папой Пием Седьмым будет заключен в 1801 году. Католицизм будет признан религией подавляющего большинства французской нации.
…Господи, слава богу, а я было начал уже думать…
…марте 1802 года Франция подпишет мирный договор с Англией. В том же году Наполеон будет объявлен пожизненным консулом…
…ты не ошибаешься? Из истории мы знаем, что консулов обычно бывает два.
…Я не ошибаюсь. В 1804 году консулат будет упразднен и Наполеон Бонапарт станет императором всех французов.
…2 декабря 1805 года у местечка Аустерлиц, у Пицентских высот состоится жесточайшее и одно из самых успешных сражений Наполеона. Императоры Франц и Александр убегут с поля боя при виде разгрома, получаемого их армиями…
…26 декабря в Прессбурге, который впоследствии по непонятным для меня причинам станет называться Братиславой, Австрия капитулирует перед победителем…
…весной 1807 года турецкая армия под командованием великого везира вступит в дунайские княжества…
…сила московского пожара будет такова, что дым от него будет виден за пятнадцать лье…
…Москва – гиперборейский город, как он может гореть, если он изо льда?
Люк прилег на копенке свежего сена, что было припасено для лошадиного ужина. И от нервного изможденья даже уснул. Проснулся оттого, что услышал легкий стук в калитку ворот, выводивших на улицу Кожевников. Подкрался на цыпочках, проскрипел предельно чужим голосом, кто там явился?
Оказалось, что магистратский служка, тихий хрящеухий человечек, перепачканный чернилами. Его послали сказать мэтру Нострадамусу, что «началось»!
– Что началось? – екнуло сердце лакея.
– Схватки у мадмуазель Миранды.
– О-о, – беззвучно взвыл Люк, – я доложу, доложу!
Он кинулся в дом, но перед дверью замер.
– …нет, Кассандр, нет, это уже похоже на сказки. Поверить, что бочка с нагретым паром может катиться по специальным этим рельсам, я еще могу. Но чтобы деревянная птица с сидящими в ней людьми….
…это будет, – равнодушно звучал голос юноши, – вам, мэтр, придется услышать еще много столь необычного, что даже жаль тратить удивление всего лишь на подступах к нему.
…хорошо, хорошо, я продолжаю записывать.
Господин Люк, неожиданно для себя оробел и не посмел прерывать невидимую беседу. Таким густым безумьем разило из-за двери. Пусть Миранда умрет, как обещано, тогда сразу и обрушим новость во весь ее рост. Тогда и забегают.
…население корабля будет превышать население Экса, и он будет плыть со скоростью, превышающей скорость бега любого иноходца из королевских конюшен… «Титаник» затонет за несколько часов, погибнут…
…наследник австро-венгерского престола, племянник вечного императора Франца-Иосифа, въедет на улицы Сараево практически без охраны. Будет июльский тихий день. На берегу реки Милячки его подстерегут вооруженные сербы…
…первоначальное наступление русских войск в Восточной Пруссии будет успешным…
…в битве на Сомме примет участие почти четыреста танков…
…маршал Фош примет германскую капитуляцию в вагоне правительственного поезда в Венсенском лесу…
…седьмого декабря 1941 года японское авианосное соединение генерала Ямато нанесет сокрушительный удар по американской базе на острове Перл-Харбор…
…японцы? Откуда взялись японцы, где они скрывались все это время? Я думал, что они сказка. Как Формозское королевство. Америка – это еще понятно, ее хотя бы открыл Колумб, а тут…
…японцы сделаются очень сильны. И у них особый вид благородства. Они всегда нападают исподтишка, бьют ножом в спину, это важно знать. Порт-Артур, Перл-Харбор…
…а их летающие железные ящики похожи на те, что явятся обратно на Землю в конце посчитанных времен?
…нет, нет, даже слегка не похожи, когда мы дойдем до конца времен и вы, мэтр, увидите с вершины общего смысла всю историю как какую-нибудь карту Прованса, тогда сможете немного понять, какие силы будут в руках человеков через тысячи лет. Тогда, в половине двадцатого века, они только начнут высвобождаться. Умные люди в разных странах догадаются, что самое великое скрыто в самом малом, и если раскрошить самое мелкое, можно взорвать все. Открытые Колумбом американцы сбросят с железных летающих ящиков две бомбы на японские города – и вмиг, один миг не станет двухсот тысяч человек. Сто Эксов исчезнет в мгновенном огне. В начале августа 1945 года…
…я предугадывал в своих размышлениях бедствия царств и народов, я считал себя самым мрачным из людей, потому что вижу больше всех, но чтобы один миг… это хуже чумы…
…Но оставим рассуждения и причитания, мэтр. Что-то подсказывает мне, что у нас не так много осталось времени для работы, а мне хотелось бы рассказать все, иначе я просто не выдержу…
…погоди, я окуну пальцы в вино, они немеют все время. Я непрерывно пишу уже больше суток.
Люк опять уселся на скамью у конюшни. У него уже не было сил бояться. В предрассветной тишине пискнула первая птица. Проскрипели колеса повозки с северной стороны усадьбы – молочник отправился на свою ферму к первому удою, зазвенели цепи колодезных воротов за садовой оградой – подмастерья кожевника начали выгребать воду из колодцев для промывания новой партии шкур, то-то будет вони, когда ветер дунет с их стороны!
И раздался тихий, не громче кошачьего царапанья стук в калиточное окошко. Господин Люк приблизился к нему ухом, и через неотворенную створку просочилось сообщение, сказанное неизвестными губами, – мадмуазель Миранда умерла. Господин Люк замер, как соляная статуя, там, где стоял. И ему показалось, что замерло и все вокруг. И телега, и птицы, и колодезные вороты. Сам воздух над усадьбой, над городом, над всем Провансом оцепенел.
Только в кабинете продолжалось кипение слов.
…одиннадцатого сентября 2001 года два самолета, очень больших, с сотнями людей на борту, один за другим врежутся в два самых высоких здания бывшего Нового Амстердама, который к тому времени будет называться Нью-Йорк, после войны, которую англичане давным-давно выиграют у голландцев… но не будем возвращаться.
…сейчас, сейчас, я привяжу перо к пальцам, я их совершенно не чувствую…
…Багдад в девятый раз в своей истории будет захвачен и разграблен в 2003 году солдатами, прибывшими из-за Атлантического океана…
…в декабре 2004 года гигантская волна, что зародится в середине Индийского океана, единым махом смоет с побережья Индонезии, Малайзии и Таиланда триста тысяч человек…
…в ноябре 2006 года местная монахиня Мария Симон Пьер исцелится от неизлечимой болезни Паркинсона посредством молитвы в адрес папы Иоанна-Павла Второго…
…постой, постой, что значит – местная?
…родом из этого города, из Экс-ан-Прованса.
…Господи!
…будет во второй раз в человеческой истории применено ядерное оружие. По семи пунктам, заряды в сто пятьдесят и четыреста килотонн. Первоначальный эффект покажется не таким уж катастрофическим, но постепенно нарастающие изменения в атмосфере…
…постой, постой, я не записал дату, когда это произойдет?
…это случится 17 мая…
Скрипнула дверь кабинета. Звук был настолько непривычен для слуха Нострадмуса и Кассандра, что они вздрогнули и обернулись. В дверях стоял бледный, по-идиотски улыбающийся Люк. Несколько секунд он не мог вымолвить ни слова, глядя на восковые сталактиты, выросшие в разных частях стола. Некоторые еще курились. Всюду – на столе, на стульях, на полу – громоздились горы исписанных, пересыпанных цветным канцелярским песком листов. Воздух в кабинете был не просто спертый, но как бы завязанный на узел.
– Что ты, Люк? Ты нам мешаешь. – Это сказал не мэтр, а Кассандр, и таким властным голосом, что лакей дополнительно к испытываемому ужасу еще и растерялся.
– Так говори же! – Мэтр махнул на него рукой с примотанным к ней пером. Капли чернил хлестнули по бледной щеке.
– Миранда умерла.
– Мы не успеем. – Сказал огорченно Кассандр.
Мэтр, болезненно морщась, встряхнул правой рукой.
– Ты, Люк, иди к воротам. Если кто-то явится, попытайся задержать его как можно дольше за воротами. Думаю, что-то около часа у нас еще есть. На чем мы остановились?
Кассандр пожал плечами.
…в ноябре 2008 года новым президентом Соединенных Штатов будет избран черный человек.
Выйдя из кабинета, Лакей старательно приложился к бутылке с вином. Ему стало почему-то легче. Впрочем, понятно почему. Ему показалось, что он переложил теперь ответственность за порядок развития событий со своих плеч на более титулованные плечи мэтра. И тот, кажется, собирается как-то действовать. Может быть, и совет подаст, что делать дальше ему, господину Люку.
Приказано было следить за воротами. Что там может быть в такую рань? Тишина стояла полнейшая, как бы даже более дистилированная, чем полчаса назад. Помахивая бутылкой, взятой за горлышко, Люк подошел к воротам. Приложил ухо к старинным, уже нагретым утренним солнцем доскам. Ворота ничего не сообщили, они оставались всего лишь воротами. Люк отодвинул узкую щеколду, что запирала смотровую амбразурку в калитке, и выглянул.
Улица Кожевников была полна народу. Набита, как кишка фаршем. Во всю свою плавно искривляющуюся длину насколько хватало глаз. Во главе стоячей процессии располагались его высочество маркиз де Лувертюр, господин прево и его преподобие. Люк хотел было инстинктивно спрятать свой наглый глаз, присесть, задернуть амбразурку, но понял, что вся эта толпа отлично его видит и хитрить больше не имеет смысла.
– Открывай и позови своего господина! – Громогласно приказал маркиз.
Люк выполнил оба требования, но в обратном порядке. Сначала позвал хозяина, потом, когда и мэтр, и его собеседник подошли к воротам, распахнул створки.
Скрип, издаваемый ими при распахивании, был самым сильным звуком в гнетущей тишине утра. Нострадамус стоял чуть впереди, строя своих домашних, немного разведя руки, так что широкими руками одеяния словно бы прикрывал их. Маркиз кривил щеку и презрительно дергал усом, на лице его преподобия читалась мудрая грусть, глава города решительно сдвинул брови – ему предстояло действовать, и он хотел считать себя готовым к этому.
Строй стражников за спиной сановной троицы смотрелся внушительно в своей вооруженной неподвижности.
Надо было сказать слово и сделать первый шаг, чтобы событие начало развиваться. И началось все это совсем не с той стороны, откуда ждали. Обойдя правый фланг выстроенной стражи, выбежали вперед с воплями трое молодых мужчин, отец и братья Фафье. Они накинулись не на Кассандра, над способами защиты которого от немедленной расправы судорожно размышлял Нострадамус, а на господина Люка. Здоровенные крестьянские кулаки обрушились на его голову, под деревянными башмаками хрустнула, как тростинка, шпага наглого лакея. И уже поднялись булыжники, чтобы обрушиться на красивую кудрявую башку, когда наконец вмешались стражники по приказу господина прево.
Нострадамус с удивлением смотрел на происходящее. Пока было не понятно, дает ему выгоду этот новый поворот сюжета или усугубляет общее положение.
Пока разъяренную троицу оттаскивали от распростертого на пыльной дороге господина Люка, и мэтр и все остальные, стоящие в первых рядах, услышали, что стало причиной этого бурного семейного гнева. Найдено обесчещенное тело девушки Жюли Фавье неподалеку от семейной фермы. А рядом с телом при утреннем осмотре найдены несомненные доказательства, что сие жуткое преступление совершил не кто-нибудь, а лакей мэтра Нострадамуса. И медальон, и обрывок ткани камзола, и известный всему городу венецианский кисет для благовонного порошка, которым так любил похваляться сладострастный марселец.
Шестеро стражников держали за руки мужчин дома Фавье, еще двое подняли с земли и связали руки господину Люку. Он ничего не отрицал, он только загадочно и презрительно улыбался. Вполне возможно, что так проявлялось состояние шока, в котором он пребывал. Мэтр не стал у него спрашивать, справедливы ли возведенные на него обвинения.
Господин прево объявил, что преступник будет немедленно препровожден в тюрьму, завтра на рассвете состоится суд и наказание, если судом будет решено, что этот человек заслуживает наказания.
Папаша Фавье рычал и исходил слюной, требуя расправы немедленной и кровавой.
– Уведите! – Приказал господин прево и велел остальным стражникам присоединиться к конвою, дабы возмущенные жители не устроили самосуд над подозреваемым. И опасения эти были небезосновательны. Двойное оцепление плыло неким кораблем вверх против бурного течения народного гнева, что стекал к дому мэтра по улице Кожевников от самого центра Экса. Даже находящегося за стеной сверкающих лат господина Люка умудрялись, щипать, пинать, плевать в него, закидывать мелкими камнями. Так что до тюрьмы он добрался едва-едва в живом виде.
– Но это еще не все! – Объявил господин прево, когда лакея Люка удалили.
– Не все?! – С намеренно преувеличенным недоумением в голосе спросил Нострадамус. Он все время краем глаза следил за его высочеством, и ему уже начало казаться, что маркиз оставил свои прежние намерения на счет Кассандра. Хотя бы из-за тех опасений, что должны были у него возникнуть после истории с капитаном Гравленом. К тому же надо ведь заметить, что господин королевский пристав не просто погиб, он, в частности, перестал поддерживать обвинительное намерение маркиза фактом своего присутствия. Маркиз должен будет вершить свою месть, подкрепленную лишь собственными домыслами, опираясь на свой хоть и немалый, но одинокий авторитет.
Но господин де Лувертюр, молчавший на всем протяжении душераздирающих народных сцен, решительно вышел вперед и подтвердил слова главного городского магистрата.
– Не все! Теперь мы займемся судьбой этого молодого человека. Господин прево, в вашей тюрьме найдется еще одна камера?
Глава города неохотно, но кивнул, стараясь при этом не смотреть в глаза Нострадамусу.
– И думаю, наш городской суд в состоянии за одно утро рассмотреть сразу два дела.
Господин прево снова кивнул.
– Но стражники же все уже ушли! – Схватился Нострадамус за последнюю соломинку.
Маркиз мрачно улыбнулся ему.
– Я сам окажу господину Кассандру эту честь – буду его стражником.
Лицо ученого потемнело то ли от гнева, то ли от отчаянья, этого было не понять.
– Тогда с вашего разрешения, господа, я буду своим собственным привратником.
И Нострадамус начал запирать ворота своей усадьбы, показывая, что на сегодня всякие разговоры окончены.
Суд происходил на втором этаже здания магистрата, при полном составе суда, при наличии всех членов городского правления и знатнейших горожан и дворян округи. Мэтру Нострадмусу нашлось место на задней скамье, он выглядел усталым, сидел, углубившись в самого себя, и ни с кем не хотел встречаться взглядом или обменяться словом. Он провел очень тяжелую ночь накануне. То, что не спал, это понятно, многие не спали в эту ночь и господин маркиз, и родственники убитой девушки, и, вероятно, оба заключенных. Но вряд ли кто-то из них так много в эту ночь трудился, как господин ученый. Опять полыхали свечи в кабинете до самого рассвета, в натруженных пальцах Нострадамуса по большей части работало не перо, хотя и к нему приходилось обращаться время от времени, а большая стальная игла, заряженная толстой суровой ниткой. Мэтр сводил в примитивный переплет сделанные за предыдущие два дня записи. Их оказалось даже больше, чем он ожидал, пачки исписанных листов валялись повсюду, без порядочной нумерации и оглавления. Если не обработать эту гору записей, хотя бы самым общим образом прямо сейчас, потом с нарастающей путаницей можно будет и не справиться. Ведь этот архив придется прятать от посторонних глаз, что-то может при разрозненном хранении вообще потеряться, что-то могут вульгарно похитить. Мэтр понимал, что от наплыва влиятельных гостей ему не уберечься после завтрашнего суда. Странно, что ему дали на откуп даже эту единственную ночь. Он сам на месте прево и маркиза приказал бы опечатать усадьбу как место преступления.
Уже перед рассветом Нострадамус закончил работу, засунул огромную рукопись в простой дерюжный мешок и лег отдохнуть, засунув его себе под голову. Исколотые пальцы держал во рту. Но успокоения не наступило. Он вскочил и бросился бродить по дому с мешком наперевес в поисках укромного места для надежного его захоронения. Обычные домашние тайники, естественно, не годились для этого. Этот дом прозрачен для взора слишком многих людей. Выйти же с мешком за ограду он не мог, тут же бросишься в глаза кому-нибудь.
Лучшим из худших решений показалась выгребная яма за домиком садовника, куда сгребались опавшие листья. Мэтр вырыл в них яму, уложил туда свою драгоценность и присыпал сухими листьями. Сейф не больно надежен, но пока лучше не отыскать.
И после этого не смог задремать. Новая тревога стала донимать его. Сшивая летопись будущего в единую книгу, он делал это в некотором умственном бесчувствии, в тупом спасительном автоматизме, теперь же неизбежно накопившееся впечатление стало как бы нарывать внутри его души. Потрясенный вдруг образом единой гармонической и ужасающей картины, что очнулась в нем, он со стоном сел на потном своем ложе и вперился во тьму спальни.
На скамье в судейской зале он сидел все в том же состоянии. Господин прево, его преподобие, его светлость время от времени поглядывали на него, потом обменивались непонимающими взглядами. В состоянии мэтра им виделось что-то непонятное и раздражающее. Это было особенно неприятно на фоне того человеческого гула, что стоял на площади перед магистратом. Там собрался весь город. И он не безмолвствовал таинственно, как на улице Кожевников перед воротами усадьбы Нострадамуса, он заявлял о своем праве на скорую справедливость. Это невидимое народное присутствие придавало особенную ответственность каждому слову, что должно было прозвучать в судейской зале.
Стражники во главе с сержантом ввели в залу обвиняемых. Они были очень не похожи друг на друга, хотя и пребывали сейчас в схожем гражданском качестве. Господин Люк был отвратителен, мало того, что в синяках, кровоподтеках, он как будто был переломан внутри и висел, как грязное платье на вешалке собственного скелета. Кассандр был спокоен, ясен, почти безмятежность была в его взоре, и даже слишком простая и несвежая одежда его не портила. Господин Люк был воплощенная вина, Кассандр – почти явная невинность. Кроме того, лакей как бы усох и сгорбился, в общем, стал явно мельче, в то время как юноша смотрелся даже крупнее, чем в обычной жизни. Он явно выделялся своими размерами среди массы собравшихся, его непринадлежность к их роду выглядела просто вопиющей.
Судья тяжко вздохнул. Он был стар и опытен и понимал, что от этого дела ему не будет прибытка и радости.
Первым слушали про насильника лакея. Он в насилье признался сразу, правда, норовил его выдать за простое соблазненье, мол, девица легко дала себя выманить из-под домашнего крова в лесную сень, что у замка де Лувертюр, а там началась обычная любовная игра.
– И потому у вас так изорвана одежда на рукаве и предплечье исцарапано до крови женскими ногтями? – Грустно спросил судья. – А голова ее раскроена, потому что она сама ударила себя камнем по затылку?
Родственники Жюли мучительно замычали в рядах. Так что сержанту пришлось скомандовать своим людям и они страшно ударили в пол древками копий. Это прибило волну гнева.
Люк утверждал, что уже «после всего» девушка кинулась прочь, споткнулась и сама нанесла себе смертельную рану. В общем, с отвратительным убийцей Люком покончили быстро.
Мэтр так и не посмотрел в сторону обвиняемого и судьи, он даже закрыл глаза, засунул в рот два наиболее распухших пальца и был похож на ребенка, что-то комбинирующего в уме. Господин Жиро показал его преподобию глазами на ученого и глазами же спросил, что могут означать эти обсасываемые пальцы и в целом это таинственное поведение. Кюре нахмурился, он ничего не ответил, но кажется, у него был ответ.
И тут стали допрашивать Кассандра.
Вопросы были все те же. Про чуму, про беременность Миранды, про град в Пасти.
Маркиз пересел ближе к судейскому возвышению и вперил свой взгляд прямо в лицо старому вершителю правосудия. Еще накануне у них состоялись два разговора. Маркиз довел до сведения его чести, что этот благообразный юноша, несомненно, ведьмоподобен по своей сути. Он не предсказывает, а навлекает события. И поскольку большая их часть обращена так или иначе против рода де Лувертюр – смерть мужа Миранды, смерть самой Миранды, смерть капитана Гравлена, призванного маркизом в свою поддержку, то значит, главным истцом является именно он, маркиз де Лувертюр. Тем более, что и происхожденьем данный обвиняемый связан с тем же самым домом, ибо был обнаружен в качестве громадного голого подкидыша на его, маркиза, земле.
– Всем известно мое уважение к наукам и просвещению, мои опыты и мои лаборатории достойны стен лучшего университета, и именно меня избрал враг рода человеческого для своей изощренной мести. Свое исчадье он подложил на моей дороге. Согласитесь же, ваша честь, что никто и ничто не может, кроме самого Господа Бога, так точно ведать все детали будущего. Мы не можем ни за каким обычным человеком признать такую способность. Объяснение тут одно – участие дьявольской силы, подтасовывающей события так, чтобы они выглядели предсказанными. Да, сознаю – парадокс, я – ученый и на стороне черта, но черт – в данном случае это единственное наше спасение. Я никого и ничего не боюсь, я принимаю вызов. Отдайте мальчишку мне и я очищу воздух Прованса от скверны. В противном случае нам придется постоянно жить в ожидании то града, то чумы!
Эти речи, в значительно более расширенном и страстном варианте, произносил маркиз перед судьей накануне, кстати, не забывая упомянуть, что «правильное» судейское решение будет щедро одобрено из личных имуществ дома де Лувертюр. Теперь он своей молчаливой настойчивостью подтверждал все сказанные накануне слова.
Судья вздохнул. Слова маркиза о черте его убеждали не полностью. И вообще, очень странно, почему на эту тему так много распинается известный алхимик и вольнодумец де Лувертюр, и помалкивает его преподобие? В конце концов, все решило одно привходящее обстоятельство. А именно то, что мэтр Нострадамус как спаситель города Экса в данном случае сам оказывается окончательным судьей и распорядителем судеб. Он может помиловать юношу, даже если городской суд его осудит. Хитрость извинительнее в старости, чем в других возрастах. Пойдем навстречу его светлости, решил его честь. И объявил, что суд приговаривает юношу, носящего прозвище Кассандр, к смерти, через отсечение головы.
Все знали, что это не конец процедуры. Все знали, что последнее слово должно быть произнесено мэтром Нострадамусом и, предполагалось, что это произойдет не здесь в зале, а на ступенях крыльца здания магистрата, при стечении народа. Этого требовала и традиция, хотя мало кто из горожан мог вспомнить, когда к такому виду судилища прибегали последний раз.
И родственники зверски убитой девушки, и господин маркиз в числе первых покинули зал суда. У них были готовы свои планы развития событий сразу после оглашения выбора мэтра. И папаша Фафье, и господин маркиз со своими слугами встроились в передние ряды разгоряченной толпы, чтобы быть как можно ближе к тому месту, где выставят осужденных.
Вышел господин прево, вышел его преподобие. Появился судья. И заговорил слабым голосом, который тут же превращался городским глашатаем в огромные слова, далеко разлетавшиеся над притихшим людским морем. Глашатай рассказал горожанам то, что они и так уже прекрасно знали. Люк или Кассандр? Кому предстоит выжить, а кому умереть? Люк был отвратителен всем без исключения и повседневным своим заносчивым поведением, марсельской повадкой, и уж конечно, учиненным им грязным зверством. Но и юноша-предсказатель не вызывал ни у кого особой симпатии. Люди маркиза так долго и так упорно твердили, что это от насланной им порчи произошла недавняя чума, что массовое мнение стало склоняться к этой версии. Смерть же Миранды, задолго предсказанная и своей предсказанностью всех ужаснувшая, окончательно укрепила народ в мысли, что мальчишка опасен. Не отвратителен, как Люк, но никакой симпатии не вызывает, несмотря на свой полуангельский вид. Оставить его в живых было бы неким вызовом горожанам. Но не оставлять же, в конце концов в живых кровавого лакея?!
Вывели обоих на крыльцо. Руки у них были связаны за спиной, каждого держали за предплечья по два стражника.
По толпе прокатился рев, и она пришла в движение особым способом, не сдвинувшись с места ни на шаг. Волны напряжения пробирали ее, заставляя подниматься сотни рук и открываться сотни ртов.
Вышел мэтр. Голова его была опущена, глаза было не разглядеть, но шел он так, словно они были закрыты. Он остановился на краю самой высокой ступени.
Глашатай еще раз распространил сообщение над толпой, что именно сейчас должно произойти самое главное. Только после этого Нострадамус поднял голову. Ничего особенного в его лице не было, разве что было оно немного бледнее, чем обычно.
– Итак, кого вы определяете помиловать, по праву спасителя города, мэтр Нострадамус? – проскрипел судья.
– Итак, кого вы определяете помиловать, по праву спасителя города, мэтр Нострадамус?! – прокричал глашатай.
Спаситель города не стал выдерживать терпение толпы и сказал быстро, как человек, который наконец решился и хочет забыть поскорее мучительную ситуацию выбора.
– Я определяю помиловать моего лакея Люка!
Даже глашатай, который должен был играть в этой ситуации роль всего лишь голосового механизма, запнулся и утратил дар крика. Его сообщение, что прощен должен быть Люк, едва коснулось первых рядов. Папаша Фафье и его сыновья не поверили своим ушам, и в этом была их ошибка, потому что маркиз поверил сразу и первым сообразил, что тут нужно делать.
Когда повторное, полноценное сообщение глашатая еще только раскатывалось над булыжниками человеческих голов, люди его светлости уже бросились по его приказу вперед и вцепились в Кассандра, вырывая его из рук стражников. Таким образом, они невольно перекрыли дорогу папаше Фавье и он, поклявшийся, что негодяй Люк будет зарезан при любом исходе суда, натолкнулся со своими людьми на кучу людей маркиза. Сержант, сообразивший, что сейчас может случиться, отдал команду своим людям, чтобы они немедленно втащили Люка обратно в здание магистрата. Вслед за стражей поспешили укрыться за крепкими дубовыми дверями и все представители городской верхушки. И прево, и кюре, и судья. Нострадамус тоже к ним присоединился. Не только следуя настоятельному совету судьи, мол, возбужденные горожане могут неправильно оценить его выбор, и, находясь в возбуждении… у мэтра были свои причины для того, чтобы поспешить в магистрат. Он догнал стражников. Велел им развязать руки лакея. Тот рухнул на колени и кинулся целовать пыльные края одежды своего спасителя.
– Оставьте нас. – Сказал Нострадамус, не оборачиваясь. Но это было лишним. Все и так спешили по лестнице наверх, на балкон второго этажа, дабы оттуда увидеть окончание драмы. Кому могли быть интересны нежности, объединяющие убийцу и его странного спасителя?
– Слушай меня внимательно, Люк. Тут есть задний выход.
А с балкона тоже можно было увидеть немногое. Вид беснующейся толпы, которая в одном месте была гуще, чем в прочих, там и шла расправа, начатая людьми маркиза. Над этим местом взлетали самые яростные крики, быстрые кулаки и ошметки то ли одежды, то ли прямо куски плоти. Наконец дело свершилось. Сгусток толпы вдруг распался, образуя лакуну. Посреди нее, в неестественной позе, с дико вывернутыми конечностями, лежало тело Кассандра. Голова его была невероятного размера, это впечатление рождала лужа крови, вылившейся из раздробленного черепа. Такое впечатление, что именно с головой, заключающей в себе всю опасную заразу, все вредные способности, и сражались подручные маркиза.
Стоявшие на балконе молчали.
Толпа, вдруг резко утихла и начала стремительно растворяться, и уже через несколько минут ничего, кроме растерзанного тела, нескольких тряпок, палок и камней, валявшихся то тут, то там, уже и не напоминало о событии.
Дольше всех оставались на площади мужчины семейства Фавье, но и им было ясно, что свой шанс они упустили. Стражники, расположившиеся на крыльце и подле него, всем своим видом показывали, что больше они никакого стихийного беззакония не допустят. Вход в здание магистрата на сегодня запечатан.
Внутри здания продолжали развиваться некие события.
Господин прево пригласил собравшихся господ к себе, чтобы «за стаканчиком вина» обменяться мнениями о случившемся и решить, до какой степени дело можно считать завершенным. Одним словом, всем хотелось узнать, почему господин ученый поступил так, а не иначе.
Расселись у открытого окна за большим столом, посреди которого оборотистый слуга уже поставил поднос с наполненными серебряными кубками.
Последним вошел господин маркиз и объявил, хотя у него никто и не спрашивал, что задержался он, потому что отдавал распоряжения в связи с телом «внезапно усопшего».
– Я решил, что его отнесут в деревянном ящике ко мне в замок, и оно останется там под присмотром до появления явных признаков тления.
Никто не возразил и не прокомментировал этих слов. Маркиз немного обижено дернул бровью, взяв бокал, сел к столу.
Молчание длилось недолго.
– Вы ничего не хотите нам сказать, мэтр? – Поинтересовался его преподобие.
Нострадамус посмотрел на него исподлобья. Потом приблизил к губам воспаленные пальцы левой руки и подул на них.
– Да, да, я именно об этом! – Вдруг возвысил голос его преподобие.
Маркиз обалдело вертел головой. Судья вздохнул. Господин прево насупился.
– Что вы имеете в виду? – Глухо спросил Нострадамус.
– Я сразу обратил внимание, что у вас исколоты пальцы так, словно вы всю ночь шили лошадиную сбрую.
– Я не шил лошадиную сбрую.
– Еще бы! Вы переплетали рукопись. Рукопись, составленную со слов Кассандра. Он сам замолчал, надеюсь навеки, но вы записали все его предсказания.
– Он опасный человек, – сказал господин прево, вставая, – вы это поняли и решили убить его, дабы он больше не мог пытать нас своими предсказаниями. Он куда страшнее, чем этот грязный сладострастник Люк. Вы боялись, что мы сами не решимся это сделать?
Кюре тоже встал.
– Вы прежде других поняли, какую опасность таит в себе этот человек, ведь с помощью своих слов он мог поколебать самые устои нашей жизни. Никакое правление не устойчиво, если известен его срок. Всякая жизнь превращается в ад, если становится известен день смерти.
– Он никогда сам ничего не говорил, если его не попросить. – Тихо сказал мэтр.
– Да, – подтвердил господин прево, – но нашелся один глупец из стражников, смеха ради поинтересовался, когда умрет, теперь ему не до шуток.
– Я не могу понять, в чем вы меня обвиняете?
– Пока ни в чем, – сказал кюре, – и если вы немедленно выдадите нам рукопись книги, к вам вообще не будет претензий.
Господин прево подошел к мэтру вплотную, держа сухую ручку на эфесе своего декоративного кинжала. Маркиз, наконец сообразивший, что к чему, вскочил и встал рядом. И на два дюйма вытащил свою шпагу из ножен.
– Мэтр, дружище, а вы не простак, хотели сами все заграбастать, извольте поделиться. Мы запрем эти бумажки в магистратуре, и… я уже вижу сто способов их достойного применения. Представляете, сколько сможет заработать гадалка, сидя на такой книжке! Да мы золотыми кирпичами вымостим улицы Экса.
– Прекратите, ваша светлость! – Резко оборвал его кюре. – Эта рукопись будет немедленно, под самой серьезной охраной отправлена к Святому престолу. Только там я вижу достаточно компетентных и духовно просвещенных людей, способных дать верное применение этому документу.
Маркиз поморщился.
– Да, уж, распорядиться…
– Не святотатствуйте, ваша светлость.
Маркиз отмахнулся, мол, да не святотатствую я, и отошел в сторону, кусая губы, явно уже прикидывая что-то в уме.
– Идемте немедленно, мэтр. – Сказал господин прево. – Не захотите же вы сопротивляться властям?
– Не захочу. – Сказал Нострадамус, вставая.
Уже через минуту внушительная процессия пересекла пустынную улицу, прошла по улице Риу и свернула на улицу Кожевников. Шли не слишком быстро, но явно поспешая. По большей части помалкивали. Только маркиз, видимо, не умевший этого делать, развязно разглагольствовал. Подробно рассказал мэтру, как тот поразил его своим «финтом», и о том «какой жилистой тварью» оказался этот якобы невинный юноша-предсказатель. Странно, но его, казалось, почти совсем не волновал тот факт, что вчера он потерял любимую дочь. Это можно было объяснить только одним – он поверил в то, что ее потеряет уже в тот момент, когда услышал предсказание о смертельных родах. А может, таким образом просто сказывался его вздорный нрав.
Город как будто вымер несмотря на полуденный час. Заставленные окна, запертые ворота. Впрочем, калитка усадьбы Нострадамуса была не закрыта. Мэтр только толкнул ее, и она отворилась. В нос ему и всем вслед за ним вошедшим ударил запах горелого. Самый настороженный из всех, господин кюре, кинулся в сад и обнаружил там дотлевающее кострище. Среди углей явно угадывались очертания сгоревших листов бумаги. Сожжено было старательно. Его преподобие, схвативший палку, дабы порыться в черных останках, отбросил ее – бесполезно!
– Люк! – Зычно крикнул маркиз, обернувшись к дому. – Негодяй, ты где?!
Нострадамус отрицательно помотал головой.
– Бесполезно. Он уже далеко. В конюшне нет коня.
– Что тут произошло? – Просипел чуть поотставший и припозднившийся судья.
Мэтр ответил не только на его вопрос, но и на немые вопросы всех остальных.
– Я сходил с ума всю ночь. Чем дальше, тем больше я понимал, каким кошмаром грозит нам этот человек. Я принял половинчатое решение – дать его убить, но не дать погибнуть рукописи, в которой запечатлено все важное будущее всех народов. Рукопись не болтлива, ее можно держать под спудом и использовать только для благих целей, для предотвращения бедствий, массовых болезней и тому подобное. Без вмешательства в личные судьбы. Но уже там, на суде, я понял, что это глупость. Рукопись – это ящик Пандоры. Когда-нибудь он обязательно попадет из честных рук в преступные, и тогда наступит конец света, раньше, чем его запланировал Господь.
– И вы послали Люка…
– Да, ваше преподобие, я взял с него честное слово, что он сожжет всю эту исписанную бумагу и исчезнет из города на моем коне.
– Как же он решился идти по городу у всех на виду? – не поверил маркиз. – Все готовы были его разорвать.
– Все горожане были на площади в тот момент, и он легко пробрался боковыми улицами. А из усадьбы прямой выезд в пригородные поля.
Больше вопросов никто из отцов города не задавал. Все молча разворачивались и шли к выходу. Последним шел господин прево. Он, не останавливаясь, бросил через плечо:
– Должен вас предупредить, что право городского сеньора носит одноразовый характер, мэтр.
– Я скоро уеду, – кивнул Нострадамус.
– Эй, приятель, дозволь я сяду к тебе на козлы?
– Валяй, вдвоем веселей.
Возница чуть потеснился на своей скамейке, и с ним рядом уселся веселый, чуть пьяноватый и разукрашенный самыми разнообразными синяками господин Люк.
– О, – воскликнул он, – какая удивительная встреча! Помнишь, как мы вояжировали с тобой в Экс-ан-Прованс?
Возница-весельчак узнал не без труда нового своего пассажира. Лицо его помрачнело.
– Что, опять гоняетесь за какой-нибудь чумой? Где твой ученый господин?
– Да нет, я один. Нет господина, нет коня…
Люк жизнерадостно поглядывал по сторонам.
– А куда направляешься? О том, кто тебя наградил всеми этими украшениями, я спрашивать не буду.
– Направляюсь куда? В Салон де Кро-ан-Прованс. Знаешь этот город.
– И неплохо.
– Может, расскажешь что-нибудь о даме по имени Анн Понсан Жермелла?
Жюве слегка взбодрил своих лошадок легким движением кнута, потом сказал:
– Что о ней можно сказать? Вдова. Богата. У нее одна из лучших гостиниц в городе.
– А не знаешь, не нужен ли ей лакей, а при нем очень ученый господин?
– Это уж ты сам. На твоем месте я бы подождал к ней являться, пока не очистится твоя рожа.
Спустя десять лет после вышеописанных событий в здание магистратуры Экса вошел тяжелый, обрюзгший, одышливый человек, мало напоминающий собою прежнего бравого маркиза де Лувертюр. Медленно, с остановками поднялся он на второй этаж, и направился прямо в кабинет мэра. Войдя, он нашел там не только главу города, но и кюре Грималя, который за эти годы странным образом почти не изменился, только кожа стала пергаментного цвета и глаза все время слезились. Господин прево, так же как и его честь, судья на процессе Кассандра давно уже пребывали за кладбищенской оградой. Новый мэр был человеком молодым, но из тех, кто отлично помнил события того мятежного лета 1545 года.
– Ну, что, дождались?! – Грубо обратился маркиз де Лувертюр к его преподобию и достал из кармана книжку, и громко продолжил говорить, потрясая ею в воздухе. – «Пророчества господина Мишеля Нострадамуса», каково?!
Но тут же он заметил, что на столе перед мэром и кюре лежит точно такой же том.
Маркиз сел и стал вытирать обильный пот со лба и шеи.
– Он сошел с ума!
Его преподобие тонко улыбнулся и отрицательно покачал головой.
– Нет, что вы, ваше сиятельство. Я прочитал сие творение. Весьма, весьма осторожно написано. Почти никаких имен, почти никаких цифр, причем все стихами. Это, чтобы совсем уж замутить воду.
– Он нас обманул, проклятый выкрест! – Зычно прогудел маркиз. – Он не сжег рукопись, бросил для отвода глаз в саду пару обгоревших листков, а лакей-убийца ускакал с ними неизвестно куда.
Его преподобие опять улыбнулся.
– Не думаю, что рукопись цела. Мне кажется, мэтр был искренен, когда говорил о ней с содроганием. Да и четверостишия его, эти центурии, свидетельствуют скорее о том, что писал он по памяти. Кое-что осталось в мозгу от лихорадочной диктовки Кассандра. Мэтр честно старался утаить это опасное знание, но желание им поделиться сильнее доводов рассудка и любых страхов. Представляю себе, как он мучился эти десять лет. В особые моменты, уверен, он жутко жалеет, что уничтожил эту книгу. В сущности, она – власть над миром. Он держал ее в руках и сам швырнул в огонь.
– Вы уверены? – вздохнул Маркиз.
– Практически, да.
– А кто был этот огромного роста юноша, а? – спросил мэр.
Маркиз пожал плечами.
– Кто же это теперь знает. О нем не любят вспоминать. Казалось бы, такая тьма историй, сказок, но мои крестьяне о нем помалкивают, как будто его и не было.
– Горожане тоже… – Задумчиво сказал мэр.
Примечания
1
Артемида – дочь Зевса и богини Лето, сестра-близнец Аполлона, родилась на Делосе. Согласно мифу являлась целомудренной, богиней-девой. Собственно, это обстоятельство и обьясняет ту ярость, которую в ней вызвало появление охотника Актеона у ручья, где она купалась в обнаженном виде. Богиня-охотница, повелительница всех зверей лесных и птиц. Возможно, Актеон ей был неприятен как удачливый конкурент на охотничьем поприще, наглец, посмевший вступить в заочное состязание с богиней. Это у них с братом Аполлоном было, что называется, семейное. Аполлон похожим образом обошелся с сатиром Марсием (содрал кожу), вздумавшим состязаться с богом на музыкальном поприще.
Актеон – в греческой мифологии сын Аристея и дочери Кадма, Автонои. Слыл знаменитым охотником, воспитанник знаменитого кентавра Хирона. Но с ним случилось несчастье, однажды во время профессиональной прогулки по лесу он застал богиню Артемиду и ее нимф купающимися в ручье. Артемида обиделась, превратила Актеона в оленя и его растерзали собственные собаки.
(обратно)
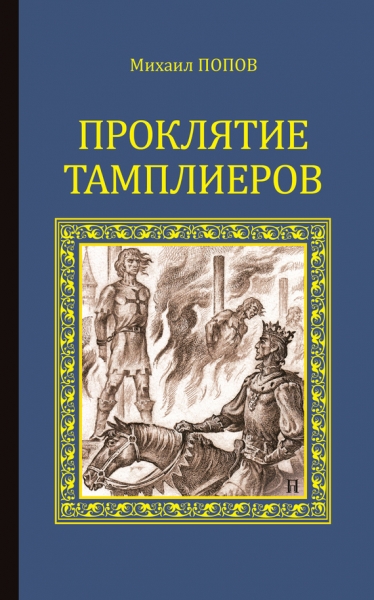



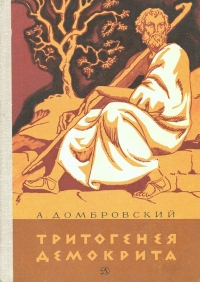

Комментарии к книге «Проклятие тамплиеров (сборник)», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев