Михаил Попов Железный Хромец
Об авторе
Михаил Михайлович Попов родился в 1957 году в Харькове. Учился в школе, сельскохозяйственном техникуме и литературном институте. Между техникумом и институтом два года прослужил в Советской армии, где и начал свою литературную жизнь, опубликовав романтическую поэму в газете Прибалтийского ВО. Сочинял и публиковал стихи. Выпустил три сборника. Но одновременно писал и прозу. Дебют на этом поприще состоялся в 1983 году, в журнале «Литературная учеба» была опубликована повесть М. Попова «Баловень судьбы».
В 1988 году вышел роман М. Попова «Пир», и, несмотря на то что речь в нем шла о жизни психиатрической больницы им. Кащенко, роман был награжден Союзом писателей СССР премией им. А.М. Горького «За лучшую книгу молодого автора».
Круг профессиональных литературных интересов Михаила Попова всегда был широк, и с самого начала одним из наиболее заметных направлений в его работе была историческая романистика. В 1994 году он выпустил роман «Белая рабыня», об архангельской девчонке, ставшей во второй половине XVII века приемной дочерью губернатора Ямайки и устроившей большой переполох в Карибском море. Морская тема была продолжена романами «Паруса смерти», «Барбаросса», «Завещание капитана Кидда». Но и на суше у исторического романиста Михаила Попова есть свои интересы. Большим успехом пользуется у читателей и постоянно переиздается его роман «Тамерлан», в котором описываются годы становления знаменитого полководца, его трудный и извилистый пусть к трону повелителя Азии. Вслед за образом диктатора восточного писатель обратился к образу диктатора западного образца, первого единоличного римского правителя Суллы (роман «Темные воды Тибра»). Объемистый роман посвящен и истории Древнего Египта («Обреченный царевич»), где речь идет, наоборот, не о властителе, а о ребенке, мальчике Мериптахе, ставшем невольной причиной крушения в стране фараонов власти «царей-пастухов» – гиксосов.
Особое место среди исторических романов занимают книги, посвященные исследованию такого загадочного и весьма неоднозначного феномена, до сих пор волнующего воображение миллионов людей в разных странах, как орден тамплиеров. Несмотря на то что с момента его официальной ликвидации в 1314 году прошло сравнительно немного времени, осталось чрезвычайно мало документов, на которые можно было бы надежно опереться при создании книги о тамплиерах. Деятельность храмовников в Палестине – вообще сплошная загадка. Михаил Попов дает свою версию событий, происходивших в XII–XIII веках на Святой земле, и свой взгляд на то, какую роль в этих событиях сыграли рыцари Храма. Романы писателя «Цитадель тамплиеров» и «Проклятие тамплиеров» вызвали большой интерес у читателей, имели место даже массовые ролевые игры на основе сюжета этих книг в Белоруссии и Тверской области.
Помимо исторических романов в традиционном понимании Михаил Попов написал несколько произведений как бы межжанрового характера, и исторических и фантастических одновременно. Таких как «Огненная обезьяна», «Вавилонская машина», «Плерома».
Когда М. Попов пишет о современности, он не ограничивается темой сумасшедших домов, как в романе «Пир», он интересно и внимательно исследует психологию современного горожанина, что и отразилось в его романах «Москаль», «Нехороший дедушка», «Капитанская дочь».
Но все же, как нам кажется, М. Попова следует считать по преимуществу романистом историческим. Более того, есть сведения – несмотря на уже написанные им две книги о тамплиерах, – что автор не считает разговор о рыцарях Храма законченным.
Избранная библиография М.М. Попова:
«Пир» (1988)
«Белая рабыня» (1994)
«Паруса смерти» (1995)
«Железный Хромец» («Тамерлан») (1995)
«Темные воды Тибра» (1996)
«Барбаросса» (1997)
«Цитадель тамплиеров» («Цитадель», 1997)
«Проклятие тамплиеров» («Проклятие», 1998)
«Огненная обезьяна» (2002)
«Вавилонская машина» (2005)
«Плерома» (2006)
«Москаль» (2008)
«Обреченный царевич» («Тьма египетская», 2008)
«Нехороший дедушка» (2010)
«Капитанская дочь» (2010)
«Кассандр» (2012)
Тимур
Часть первая
Глава 1 Возвращение в ад
Муж, уклонившийся от положенного поприща, темен перед лицом Аллаха.
Муж, прошедший положенное поприще до конца, светел перед лицом Аллаха.
Муж, прошедший сверх положенного, благословен.
Фаттах аль-Мулыс ибн-Араби, «Книга благородных предсказаний»Огонь решили не разжигать, несмотря на то что селение стояло в стороне от караванной тропы и было давным-давно заброшено. Барласский бек[1] Хаджи Барлас выбрал для ночевки единственную из сохранившихся камышовых юрт. Его нукеры разделились на три части. Первая составила внешнее охранение, вторая занялась приготовлением ужина, третья тут же улеглась спать, чтобы в положенный час сменить первую.
Хаджи Барласу, не привыкшему себя ни в чем ограничивать, пришлось в этот раз довольствоваться чашкой кумыса и куском вяленого мяса.
Все свои богатства – и гарем, и стада, и поваров – ему пришлось бросить на берегах Кашкадарьи, спасая свою жизнь. И теперь он с малым числом слуг пробирался в Хорасан, рассчитывая там отсидеться, пока Токлуг Тимур[2] вместе со своими чагатайскими собаками будет собирать дань на землях Мавераннахра[3]. Не было таких зверств, преступлений и надругательств, которые не совершались бы во время этих сборов. И сам барласский бек меньше, чем кто-нибудь другой, мог рассчитывать на снисхождение со стороны грабителей из Страны Чет[4]. Отношения между барласами и монголами, кочевавшими к северу от реки Сыр, никогда не были безоблачными и особенно обострились после того, как первые приняли мусульманство. С тех пор, воюя с правителями Чагатайского улуса, они отстаивали не только свое имущество, но и свою веру. Вообще-то и сам Чингисхан, и его сыновья отличались веротерпимостью, но в отношении других народов все стало намного сложнее, когда проблема выбора веры разделила самих степняков.
Когда с ужином было покончено, Хаджи Барлас откинулся на кошму и попытался заснуть, чтобы набраться сил для дальнейшего бегства. Он не был человеком слишком трусливым, ибо такой никогда не возвысится среди кочевников, но считал, что в данном случае есть все основания для спешки. Однако заснуть ему не удалось: страх, видимо, имеет большую власть над сердцем человека, чем усталость. Бек лежал, прислушиваясь одновременно и к окружающим звукам, и к мыслям, шевелившимся в глубине души. За стенами юрты храпели кони, шепотом переругивались нукеры, звенели сверчки. В стенах копошились бесчисленные насекомые. В душе бека расправляла свои темные крылья тоска. Да, свою жизнь он, вероятно, спасет, но что он станет делать в Хорасане? Да, его правитель сейчас считается его другом, но одно дело ехать к нему в гости в качестве всесильного бека, и совсем другое – мчаться к нему под крыло, будучи разбитым и гонимым.
Может быть, вернуться?
Нет, ответил сам себе Хаджи Барлас, возвращение – неминуемая смерть, и хватит тратить время, отпущенное для драгоценного сна, на размышления о бесполезном.
Но и второй его попытке заснуть не суждено было стать удачной. Камышовый полог, прикрывавший вход в юрту, откинулся, и на фоне звездного неба показалась фигура телохранителя.
– Я не сплю, – сказал бек.
– Вас хочет видеть Тимур.
Хаджи Барлас не сразу сообразил, о ком идет речь. Во время трехдневной скачки, во время переправы через Амударью он находился как бы в полусне и не вполне отчетливо осознавал, кто именно сопровождает его в этом путешествии. Его можно было понять – слишком резкое падение с вершин благополучия в пределы бедствия кого угодно может свести с ума.
– Тимур?
– Да, господин. Сын эмира Тарагая.
Хаджи Барлас прекрасно знал своего молодого родственника и в глубине души был польщен тем, что он оказался в его свите в этот тяжелый момент. Тимур уже давно считался самым умным, смелым и решительным среди молодых и родовитых воинов племени. На него можно будет опереться.
– Пусть войдет.
В дверном проеме произошла смена теней.
Тимур вошел внутрь и сел, опершись на камышовую стену, отчего сделался совершенно невидим. Эта физическая невидимость гармонировала с общей загадочностью молодого воина. Бек почувствовал, что разговор будет не совсем обычным.
Молчание – вещь неприятная, но вдвойне неприятно молчание в полной темноте. По правилам нарушить его должен был старший по возрасту или по положению. Несмотря на свой титул и на то, что он вдвое старше невидимого гостя, Хаджи Барлас не мог заставить себя заговорить.
Наконец он преодолел вздорную слабость.
– С чем ты пришел, Тимур, сын Тарагая?
– Я хочу оставить тебя.
Бек почувствовал приступ удушья и стал массировать грудь в вырезе потной рубахи, радуясь тому, что никто не видит его слабости.
– Ты хочешь меня оставить. Куда же ты пойдешь?
– В Кеш.
– И ты и я – оба понимаем, что это верная смерть. Что тебя заставляет делать это?
Тимур не сразу ответил на вопрос. Вернее сказать, он вообще на него не ответил, ибо спросил сам:
– Скажи, Хаджи Барлас, ты веришь, что, покинув тебя, я отправлюсь именно в Кеш, а не сбегу туда, где буду в полной безопасности?
Настало время бека помедлить с ответом. Наконец он выговорил, медленно, но твердо:
– Верю. И отпущу тебя. Но при условии, что ты объявишь мне свою цель: я не хочу быть соучастником безумного поступка.
– Аллах видит, я смел, но не безумен!
– Я знаю это, поэтому так настойчив в своих вопросах. Что тебя заставляет вернуться, может быть, семья?
– Нет. Оба моих сына вместе с отцом и старшей сестрой Кутлуг Туркан-ага находятся в надежном месте.
– Тогда я совсем ничего не понимаю. А ведь сказано: непонимание – мать раздражения и недоверия.
– Я хочу повидать своего духовного отца, шейха[5] Шемс ад-Дина Кулара. Когда-то, очень давно, я вошел к нему в дом, когда он со своими братьями-дервишами[6] предавался зикру[7]. Я всегда был очень непоседливым ребенком, но тут я не позволил себе ничего не подобающего и терпеливо выстоял до окончания обряда. Шейх и дервиши были тронуты моим благочестием и помолились за меня. Затем шейх перепоясал меня поясом, дал мне шапку и вручил коралловое кольцо с надписью: «Рости-расти», что означает: «Если будешь справедлив, то во всем встретишь удачу». Шейх еще сказал мне, что из бывшего ему откровения он узнал, что уже родился человек, который станет наибом[8] Пророка. Никто не знает, кто он. Еще шейх сказал: «Вера принадлежит пророку, вера есть город, вне которого некоторые произносят: “Нет божества, кроме Аллаха”, другие, внутри его, говорят, что, кроме Аллаха, нет божества. Имя этого города Баб-ул-Абваб, и там жилище произносящего счастливые слова: “Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Бога”».
Хаджи Барлас не был человеком слишком глубоко верующим и сверх меры богопослушным; кроме того, он переживал ныне пору не самую лучшую в своей жизни, поэтому в его сердце было место для ропота против излишне строгого к нему божества.
– Там, на севере, на нашей родине, сейчас горят селения и посевы. Пришельцы грабят дома тех, кто не успел скрыться, и убивают тех, у кого нечего взять. Простому человеку не под силу остановить то, что там происходит. Ты вообразил себя наибом Пророка и надеешься обрести высшую силу для борьбы с несправедливостью, да?
– Я не вижу твоего лица, Хаджи Барлас, но чувствую, что ты улыбаешься.
– Не сердись, я не хотел тебя оскорбить. Мне не нравится, что ты покидаешь меня в столь трудный час. И покидаешь по зову божества, которое столь несправедливо ко мне.
– Что мы знаем о справедливости или несправедливости, мы можем лишь говорить о вере и неверии.
– Ты рассуждаешь, как ученый улем. Не думал, что эта книжная премудрость так глубоко угнездилась в сердце охотника и воина.
– И снова я не отвечу на твои обидные слова. Ты думаешь, что ослабла тетива твоей судьбы, но то всего лишь ослабла струна твоей веры.
Хаджи Барлас, недовольно кряхтя, перевернулся с бока на бок, задел плечом камышовую стену, и на него градом хлынули невидимые насекомые. Бек выразил по этому поводу шумное неудовольствие. Кое-как устроившись в новом положении, он спросил:
– Ты еще здесь, Тимур, сын Тарагая?
– Я жду твоего решения, Хаджи Барлас.
Выдерживая характер, бек еще некоторое время помедлил, потом сказал:
– Мы ведь с тобой родственники, Тимур.
– Да. Отец говорил мне, что наш общий предок эмир Карачар стоял высоко при дворе Чагатая.
– Будь и ты высок, Тимур.
Глава 2 Ночной разговор
И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника».
Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим Тебе хвалу и святим Тебя».
Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»
Коран. Сура 2. Корова. 28(30)Хаджи Барлас не любил Кеш и поэтому большую часть года проводил вне городских стен. Его ставка располагалась в нескольких фарасангах[9] от города, обычно в одной из излучин Кашкадарьи. Все свое время барласский бек делил между войной и охотой. Вопросы градостроительства и торговли занимали его не очень. Так что к тем временам, о которых идет речь, Кеш, крупный торговый и ремесленный центр, пришел в запустение, арыки, снабжающие его водой, обмелели, большая часть садов зачахла. Правитель Чагатайского улуса Токлуг Тимур отлично был обо всем этом осведомлен и не слишком спешил сюда, уделяя прежде всего свое алчное внимание городам более богатым и цветущим.
Чем оборачивается внимание Токлуг Тимура, Тимур, сын Тарагая, увидел за время своего путешествия по Мавераннахру. Пепелища, кружащие вороны, страшные старухи, причитающие над трупами своих сыновей.
С молодым родственником барласского бека отправились всего четверо нукеров. Это были его товарищи по детским забавам, выросшие вместе с ним, вместе с ним научившиеся убивать и зверей и людей. Они доверяли ему безоговорочно, и он знал, что может доверять им. Мансур, Байсункар, Захир и Хандал молча скакали вслед за своим предводителем. Молча потому, что открывавшаяся их взору картина не нуждалась в долгих обсуждениях, все и так было ясно. Можно было признать, что Хаджи Барлас, описывая положение дел в Междуречье, смотрел в мистическое зеркало.
Немного светлее стало на душе у пятерки молодых батыров, когда они увидели минареты Кеша. Пламя нашествия не коснулось его домов.
К городу подъехали ранним утром, но Тимур, решив, что въезжать в Кеш без разведки опасно, отвел свой маленький отряд в алычовую рощицу, росшую вдоль небольшого ручья.
Здесь дождались темноты. Когда небеса стали темно-синими, а над миром раскинулся гигантский звездный шатер, Тимур в сопровождении Байсункара, лучше всех знавшего расположение улиц в городе, отправился на свидание к Шемс ад-Дин Кулару, моля Аллаха о том, чтобы старик встретил его живым и невредимым.
Жизнь в городах того времени затихала рано. Стоило закатиться небесному светилу, как ремесленники запирали лавки, домовладельцы ворота, и на кривоватых и темных, как ущелья, улицах можно было встретить лишь бесчисленных кудлатых собак. Только стук колотушки городского обходчика да перекличка стражников на башнях полуразрушенной городской цитадели нарушали покой душной ночи. В этот раз, невзирая на поздний час, на улицах было еще достаточно людно. На площадях горели костры, возле них стояли люди с копьями. В воздухе висело тревожное напряжение. Такое впечатление, что люди готовятся к нелюбимому празднику, к неприятному, но неизбежному событию.
– Они хотят воевать, – прошептал Байсункар на ухо Тимуру, когда они миновали один из костров, возле которого без всякого смысла толпилось несколько человек.
– Воевать должны не они, – ответил своему нукеру Тимур. Он лучше, чем кто-либо другой, представлял себе, что может натворить в таком вооруженном городе какая-нибудь сотня всадников Токлуг Тимура. Хаджи Барлас тоже не мог этого не знать.
Дом шейха располагался в восточной части города, которая считалась зажиточной, хотя сам Шемс ад-Дин Кулар вряд ли мог считаться богатым человеком. Кроме небольшого каменного павильона, где праведник предавался размышлениям и принимал гостей, имелись три скромно убранных кельи, там останавливались путники, прибывшие для того, чтобы побеседовать с учителем. Во дворе стояла печь в окружении четырех старых чинар. Вот, собственно, и все хозяйство.
Вместе с шейхом жила его двоюродная сестра, пожилая женщина, на ее плечах лежали все заботы по дому.
Байсункар, подойдя к дувалу[10], огораживавшему дом шейха, встал на четвереньки. Тимур залез ему на спину, а с нее ловко, будто усаживаясь в седло, пересел на дувал. Затем помог своему нукеру проделать то же самое.
В павильоне Шемс ад-Дин Кулара горел светильник. Обычно старик укладывался спать очень рано. Что-то чрезвычайное должно было произойти, чтобы он изменил своим правилам. Впрочем, за чрезвычайными событиями далеко ходить не надо, ими охвачен весь Мавераннахр.
Тимуру не пришлось ничего приказывать своему спутнику, он и без того прекрасно знал свои обязанности. Бесшумно соскользнул с глиняной стены и, прячась в тени чинары, приблизился к павильону.
Через несколько минут раздался условный свист, означающий, что опасности нет.
Старик не сразу узнал появившегося гостя. Тем более что гость появился бесшумно и неожиданно. С момента их последней встречи юный батыр немного изменился. Отрастил бородку, как подобает взрослому мужчине, но при этом сделался выше ростом и раздался в плечах. В его фигуре, даже когда он стоял неподвижно, чувствовалась своеобразная грация хищника, та грация, что неизбежно появляется во всяком, кто посвящает большую часть своей жизни военному и охотничьему ремеслу. Нет, не только борода. Глаза, именно они более всего изменились за несколько прошедших лет. Их яркий, обжигающий блеск как бы приугас, стал более холодным и глубоким.
Пока Шемс ад-Дин Кулар рассматривал своего одновременно старого и юного друга, тот впивался взглядом своих неподвижных блестящих глаз в мужчину, расположившегося рядом с шейхом. Он никогда не видел его раньше и поэтому не знал, как к нему отнестись. С одной стороны, он застал его в доме у человека, которому всецело доверял, с другой – в столь смутное время каждый и всякий может оказаться опасен. Облик незнакомца в простой неукрашенной чалме и столь же простом, потертом халате одновременно и отталкивал Тимура, и возбуждал в нем любопытство. Изрытое оспой лицо, реденькая, через силу выращенная бородка. Выпяченная нижняя губа говорила о надменном нраве. Тут главное в том, имеет ли право человек на свою надменность. В таком халате, в такой чалме, с простыми деревянными четками в руках! В такие годы! Ему едва ли многим больше двадцати пяти лет.
Одним словом, решил про себя Тимур, этим тревожным вечером судьба свела его с незаурядным человеком, но, судя по всему, опасаться его время еще не пришло.
В этот момент подслеповатый старик наконец узнал того, кто к нему явился, и протянул к нему руку, прося, чтобы тот помог ему встать.
– Мне сказали, что ты вместе с Хаджи Барласом ускакал в Хорасан.
– Вы считаете, учитель, что, бросив город на произвол злой судьбы, бек поступил достойно?
Старик горестно покачал головой.
– Почему же вас удивляет то, что Аллах удержал меня от недостойного поступка?
– Меня не удивляет то, что ты здесь, меня расстраивает, что таких, как ты, столь немного.
Повинуясь приглашающему жесту шейха, Тимур уселся на потертый ковер рядом с человеком в чалме.
– Это мой молодой ученик, зовут его Маулана Задэ. Он учится в Самарканде в медресе[11].
– В Самарканде? – удивленно спросил Тимур. – Что же заставило вас, уважаемый, оставить стены родного обиталища?
Маулана Задэ приложил руку к груди и слегка поклонился:
– Я согласен с вами, время сейчас не лучшее для путешествий. Но бывают дела, заставляющие пренебречь соображениями подобного рода.
Голос у книгочея оказался низкий и хрипловатый, чувствовалось, что он привык к тому, чтобы его слушали внимательно.
В разговор вмешался шейх:
– Маулана Задэ здесь не случайно, он прибыл, чтобы посоветоваться со мной. Посмотри, что творится вокруг, разве может не воспламениться сердце всякого честного человека, разве в голове у него не появится мысль о том, как спастись от черной напасти?!
Слушатель медресе положил руку шейху на рукав, как бы предостерегая его от произнесения особенно резких слов. Старик не сразу понял, чего от него хотят, а когда понял, рассерженно заметил:
– Это Тимур, сын Тарагая. До ваших мест, возможно, не дошла еще слава о нем, но у нас он известен как человек честный. Он вернулся сюда, рискуя жизнью, чтобы защитить родной город. Разве это не доказывает то, что ему можно доверять?
Маулана Задэ мягко улыбнулся:
– Даже самому себе человек не всегда может доверять, что же говорить о других.
Открылась дверь в павильон, и пламя в глиняном светильнике, стоявшем на каменных плитах пола, заколебалось.
Лицо человека в чалме словно окаменело, но тревога его была напрасной – это сестра шейха, худая согбенная старуха с почерневшим от вечного сидения у огнедышащей плиты лицом, внесла поднос. На нем стояли два чайника и лежало несколько лепешек.
Когда Арзи Биби вышла, Шемс ад-Дин Кулар сказал, взяв в руки чашку с горячим чаем:
– Ты всегда был любителем секретов и почитателем тайной стороны вещей, Маулана Задэ. А ведь на все вопросы есть прямые ответы. «Кто Господь неба и земли?» – спросят тебя. Скажи: «Аллах!» – «Тогда неужели вы взяли себе помимо Него заступников, которые не владеют для самих себя ни пользой, ни вредом?» Что ты ответишь на это, Маулана Задэ?
Книгочей отхлебнул чаю, и снова затаенная улыбка появилась у него на устах.
– Учитель, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я призову в помощники воителя Тимура.
Тимур удивленно посмотрел на говорившего, но возражать не стал.
– Ведь вы, уважаемый, только что прошли по городу и видели бессмысленное воодушевление народа, решившего с оружием в руках защищать свою жизнь и имущество?
– Видел.
– И, как человек опытный в военном деле, ответьте мне: смогут они, несмотря на все свое воодушевление и решимость, отразить нападение?
Тимур отрицательно покачал головой:
– Несколько сотен чагатайских всадников уничтожат всех мужчин в городе.
Маулана Задэ удовлетворенно кивнул, могло показаться, что его радует подобная перспектива.
– В свое время Потрясатель Вселенной, предусмотрительнейший Чингисхан, приказал срыть все крепостные стены вокруг городов Мавераннахра, и с тех пор его население сделалось совершенно беззащитным. Но человек не может жить, ничего не предпринимая для своей защиты, ведь так, воитель Тимур?
Тимур не ответил. Он был согласен с говорившим, но ему было неприятно с ним соглашаться.
– Когда явное сопротивление становится невозможным и бессмысленным, и человек, и город, и народ ищут пути сопротивления тайного.
– С одной стороны, ваши слова, уважаемый, абсолютно ясны, но с другой – совершенно туманны, – заметил Тимур, грея руки о чашку с чаем.
Маулана Задэ поставил свою чашку на поднос и приложил руки к груди, благодаря за угощение.
– Я хотел бы рассказать вам больше, но боюсь, что не имею права, ибо сказано: «Отверзший уста не вовремя подобен сосуду худому».
Гость встал, отвесил поклон хозяину дома.
– Должен я теперь идти, потому что помимо дела приятного, то есть посещения учителя, есть у меня и иные заботы. Может быть, менее радостные для сердца моего, но отложить исполнение которых я не вправе.
Когда Маулана Задэ ушел, шейх Шемс ад-Дин Кулар довольно долго находился в мрачном молчании. Тимур, чувствуя его состояние, не мешал ему. Он размышлял о только что состоявшемся разговоре и никак не мог уяснить для себя его подоплеку. И это его раздражало. Несмотря на молодость и неглубокую образованность, сын Тарагая отчетливо различал в себе умение разбираться в людях. Ему было достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы разглядеть в нем второе дно, если оно в нем было. В слушателе самаркандского медресе оно несомненно наличествовало, но какой рисунок изображен на нем, понять пока было невозможно.
Неожиданно заговорил старик:
– Он был очень смышленый мальчик. Я гордился тем, что у меня есть такой ученик.
– Я отчетливо различаю горечь в ваших словах, учитель.
– А я и не скрываю ее, горечи своей. И, размышляя о Маулана Задэ, я предполагаю самое худшее.
– Что вы считаете худшим, учитель?
Шейх некоторое время стучал гранатовыми четками – единственной драгоценностью, имевшейся у него в доме.
– Он приехал сюда не просто так.
– Я и сам об этом догадался.
– И сейчас он пошел на встречу с кем-то.
– Он и сам не делал из этого тайны.
Шейх перевел на Тимура взгляд своих слезящихся от масляного чада подслеповатых глаз.
– Он заговорщик.
Тимур, закусив верхнюю губу, откинулся на потертые подушки. Как же он сам об этом не догадался? Все же духовный взор, к коему прибег старик, более проницателен, чем…
– Он сербедар? Да, учитель?
– Я буду возносить молитвы, дабы это было не так, но, к сожалению, уверен, что никакими молитвами дела здесь уже не исправишь.
– Я много слышал о них, но живого сербедара вижу впервые.
– Я знаком со многими из них, иногда они даже бывают у меня дома. Поверь, Тимур, среди них много достойных людей, все они последователи Магомета…
Тимур хлопнул себя ладонью по сафьяновому голенищу.
– Но чего они в конце концов хотят? Все твердят, что они многочисленны, но они бездействуют. Все намекают, что они мечтают о свободе для всего Мавераннахра, но их рассуждения о свободе слишком туманны. О свободе от кого? Боюсь, учитель, что для Маулана Задэ я являюсь не меньшим врагом, чем Токлуг Тимур.
– Если не большим, – прошептал старик, склонившись над чайником, так что молодой гость не мог его слышать.
Когда чай был выпит, Тимур по просьбе учителя рассказал о том, что ему привелось увидеть по дороге в Кеш.
– Кассан и Карабаир сожжены полностью. Как мне удалось разузнать, тумен[12] Ильяс-Ходжи – это старший сын Токлуг Тимура – ушел на запад в направлении Бухары. Возможно, уже сейчас чагатайцы грабят ее.
– Они еще вернутся, – сказал шейх.
– Да. Правитель Бухары всегда был верным вассалом чагатайского престола. А Хива и Хорезм откупятся. Как всегда. Не пройдет и двух недель, как войско Токлуг Тимура появится на Кашкадарье. Сначала у стен Карши, потом в нашем городе.
– Что ждет нас тогда?
Тимур счел этот вопрос риторическим и отвечать на него не стал.
– Твой ученик Маулана Задэ прибыл сюда, чтобы организовать сопротивление. Следы его работы я видел, направляясь к твоему дому…
– Почему ты остановился? Договаривай.
– Один раз сегодня я уже сказал, что сопротивляться так, как предлагает этот ученый муж из Самарканда, бесполезно.
Шемс ад-Дин Кулар внимательно посмотрел на Тимура, стараясь поймать его взгляд.
– Ты ходишь вокруг да около. Я чувствую, ты хочешь сказать что-то важное, так говори! И если боишься огорчить своего учителя, не бойся. Я живу на земле шестой десяток, благодарение Аллаху, и многое видел на своем веку. Никакая новая горесть не сломает меня, а всего лишь пополнит копилку горестей.
Тимур погладил свою волнистую бороду, и его и без того узкие глаза сузились еще больше.
– Я знаю, как спасти Кеш.
– Спасти?
– Спасти. Не пролив ни капли крови.
Тут, в свою очередь, погладил свою длинную седую бороду Шемс ад-Дин Кулар:
– Говори.
– Но боюсь, учитель, способ, который я предложу, не понравится вам.
– Я уже сказал, что готов выслушать все, что ты мне захочешь сказать.
– Я решил подчиниться Токлуг Тимуру.
– Подчиниться?
– Да, учитель. Я отправлюсь к нему со всем своим войском, а в войске у меня четыре человека, и паду перед ним ниц.
– Падешь ниц?!
– Я попрошу его о снисхождении и скажу, что готов служить ему, как младший брат, как сын, а если понадобится, то и как раб.
– Хорошо, что тебя не слышит твой отец.
– Не вы ли учили меня, что всякий замысел следует оценивать лишь по тем результатам, которые он приносит?
Шейх довольно резво для своего возраста встал с подушек и прошелся по каменному полу павильона, бесшумно ступая растоптанными чувяками.
– Ты впадаешь в большее бесчестье, чем Хаджи Барлас, бежавший ради спасения своей ничтожной жизни.
– Возможно, но только в том случае, если я стану рабом чагатайцев навсегда, как правители Бухары и Термеза.
– И ты просишь меня о благословении?
– О благословении на борьбу с Токлуг Тимуром. Иначе, я бы не посмел сюда явиться.
Шейх продолжал прохаживаться, волоча по камням и коврам, покрывающим камень, полы своего длинного стеганого халата.
– Твой меч удачлив, твой характер упорен, твой ум изощрен, но отчетливо ли видна в небесах вечности твоя звезда?
– Об этом я пришел спросить вас, учитель. У меня есть вера в себя, но я не знаю, может быть, это лишь слепота моего духа, самонадеянность молодого барса, бросающегося на матерого буйвола.
Шейх остановился:
– Мне нужно помолиться. Ты будешь ждать меня здесь. Переверни эти часы. Когда песок в верхней чашке иссякнет, я дам тебе ответ.
Глава 3 Правитель Кеша
И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас; ведь соблазн – хуже, чем убиение! И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться там с вами.
Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных.
Коран. Сура 2. КороваСын не всегда бывает похож на отца.
В огромном шелковом шатре посреди громадного военного становища, покрытого клубами пыли, наполненного ржанием лошадей, ревом верблюдов, человеческой суетой, сидели на драгоценных иранских коврах два человека. Один был обширен, черноволос и благодушен, он с удовольствием поедал горячую жирную баранину, наваленную горой на серебряное блюдо грузинской работы. С не меньшим удовольствием прикладывался он к чаше, наполненной голубоватым пенистым кумысом. Уверенность в себе и довольство жизнью выражались во всем его облике. Глаза были сладко зажмурены, а голый подбородок лоснился, как живот багдадской танцовщицы. Второй человек, расположившийся у горы раскаленной ароматной баранины, был худ и телом и ликом, и если бы не узкий разрез глаз, можно было бы усомниться, степняк ли он. Узкая пегая стариковская бородка его неприятно подрагивала, когда он начинал жевать кусочек мяса, добытый тонкими длинными пальцами из мясной горы. Зато одет был этот второй наироскошнейше. Он напоминал золотой хорезмский кумган[13], покрытый изощренной чеканкой. Один его халат стоит больше, чем весь Кеш. Сапоги из драгоценного индийского сафьяна своим зелено-серебряным блеском возбудили бы зависть у любого из правителей Востока. К слову, плотоядный гигант одет был чрезвычайно просто, если не сказать неопрятно, рукава и грудь его халата лоснились так же, как подбородок хозяина.
Так вот, несмотря на свой сияющий туалет, худосочный участник трапезы был мрачен.
Первого звали Токлуг Тимур, вторым был его старший сын и наследник Ильяс-Ходжа.
Сколь ни был увлечен едой чагатайский хан, он не мог не обратить внимание на состояние сына. И вот, одолев первую половину барана, то есть утолив первый голод, вытерев руки о привычные ко всему полы своего трапезного одеяния, он спросил у по-козлиному жующего царевича:
– Что тебя гнетет-беспокоит, сынок? Прекрасный день, прекрасная охота, прекрасная добыча!
– Зачем ты спрашиваешь, отец, о том, что тебе известно не хуже, чем мне?
Хан поднял чашу над своим плечом, и тут же из-за спины подбежал на бесшумных цыпочках одноглазый прислужник с бурдюком кумыса. Тонкая струйка, пенясь, разбилась о золоченое дно.
– Да, – облизал толстые губы правитель чагатайцев, – ты все про этого Тимура. Он тебе не нравится?
– Да, не нравится! – Ильяс-Ходжа яростно выплюнул кусок мяса изо рта и вскочил на ноги.
Токлуг Тимур поудобнее разлегся на подушках, зевая и щурясь. Даже неприятная беседа не могла ему испортить приятную обязанность по перевариванию съеденного.
– Не могу я тебя понять, Ильяс-Ходжа. Ты вспомни, какой он охотник. Кто сегодня подстрелил первого джейрана, а? Тимур. Чей кречет, заметь, неродной, дареный кречет, набил больше всего перепелов, а? Опять я тебе отвечу: его, Тимура. Кто всегда первый в скачке, кто первый в рубке? Только в борьбе на поясах он уступил нашему Арчитару. Но этот может, по-моему, повалить и индийского слона.
Во время этой речи Ильяс-Ходжа стоял спиной к выходу из шатра, шепча змеиными губами бесшумные проклятья и терзая острыми пальцами шелковую занавесь.
Его отец между тем продолжал хвалебные речи в адрес Тимура.
– И еще, Ильяс-Ходжа, ты видел, с какой охотой ему подчиняются люди, несмотря на его молодость? Только человек, рожденный управлять, обладает такими качествами.
Царевич бросил занавесь и, бросившись к отцу, сел у его ног. Он задыхался от волнения.
– Тут я с тобой согласен, отец. Тимур, сын Тарагая, рожден не подчиняться, но властвовать.
Хан поднял пухлую руку и отрицательно помотал ею в воздухе.
– Не властвовать, но управлять. Ты должен знать разницу между этими словами. Властвовать может только прямой потомок Потрясателя Вселенной, только тот, кто происходит из рода Чингисхана.
Дыша мощно, как кузнечные мехи, Токлуг Тимур вернулся в сидячее положение. Он собирался говорить о важных вещах.
– Властвовать и царствовать можешь ты, мой сын, мой старший сын. После моей смерти так и случится. Тимур может лишь управлять частью твоих владений. Испокон веку земли на Кашкадарье принадлежат Чагатаеву улусу, и так будет впредь.
На лице царевича выразилось сильнейшее изумление.
– Ты хочешь, отец, эти земли доверить этой подлой барласской собаке?!
Хан тяжело, неудовлетворенно вздохнул:
– Я уже объяснил тебе, что сын Тарагая прекрасный воин и охотник, человек сильный и умный, а не собака.
– Но тем хуже для того, кому он будет подчиняться. Своеволие и мятеж неизбежно гнездятся в человеке, который уверен в своих силах, разве не так?!
– Мы не можем проникнуть в его душу. Может быть, Бог, которому он так истово поклоняется, умеет это, но у меня нет способа спросить его об этом.
– Вот видишь!
– Я-то вижу, а вот видишь ли ты, Ильяс-Ходжа?
– Что, отец, что?!
– Из чего состоит искусство управления и своим народом, и народами подчиненными.
– Ты рассказывал мне…
– Но, кажется, ты не усвоил моих уроков. Придется мне и на этот раз тебе все растолковывать, как говорят таджики, придется нарезать рис.
Царевич отхлебнул кумыса из отцовской чаши и сел удобнее.
– Я не хуже тебя вижу, что из Тимура, Тарагаева сына, вырастает муж незаурядный, и воитель, и управитель. С охотой отдам я под его руку и барласские кочевья, и города на Кашкадарье. Суть вот в чем. Пока мы сильны, не имеет никакого значения, кто управляет тем или иным туменом нашего улуса. Пусть он будет силен, пусть он будет ничтожен, в случае бунта его ждет один конец, ты понимаешь какой.
– Понимаю, отец.
Хан показал, чтобы ему налили еще кумыса. Напившись, он продолжил:
– Но когда мы ослабнем – не хочется об этом думать, но думать приходится, – тут и проявятся качества наших подданных. Люди слабые и ничтожные предадут всегда. Трусы и ничтожества всегда переходят на сторону сильных, люди глупые не видят последствий своих шагов. Они не понимают, что тот, кто сейчас потерял силу, завтра может ее вновь обрести. Что касается мужей такого склада, как Тимур, я скажу так: они могут предать…
– Вот видишь!
– Но могут и не предать. Благородство – способность действовать наперекор своим интересам. И может так случиться, что когда против нас ополчатся все, кто сейчас пресмыкается, Тимур может оказаться единственной нашей опорой.
Царевич отвернулся от отца, потирая тонким пальцем потную переносицу. Хан, отхлебывая из чаши, терпеливо ждал, что он скажет.
Шум военного становища окружал шатер, как приглушенный рокот моря. В нем были и приливы, и отливы, можно было расслышать и отдельные человеческие всплески.
Царевич думал.
Хан ждал. Ему хотелось, чтобы Ильяс-Ходжа согласился с его доводами, ибо помнил еще одну заповедь правления: худо то царство, где воля царя слишком расходится с мечтами наследника.
Наконец Ильяс-Ходжа заговорил:
– Я ненавижу Тимура, но я ему этого не покажу.
Токлуг Тимур кивнул. Он понимал, что добиться от своего сына большего ему не удастся.
Тимур, как всегда, ехал впереди. Мансур, Байсункар, Хандал и Захир, расположившись шеренгой, скакали следом.
– Что там за пыль впереди? – спросил Мансур, указывая плеткой в сторону горизонта.
– Может быть, караван? – с сомнением в голосе сказал Хандал, всегда и во всем сомневающийся парень. Во всем кроме своего господина.
– Откуда здесь может быть караван? – усмехнулся Захир, готовый посмеяться над кем угодно и когда угодно. Исключая своего господина, разумеется.
– Это наверняка стадо диких ослов, – уверенно заметил Мансур, второй по силе охотник в нынешних местах, уступающий в этом искусстве только тому, кто ехал сейчас перед ним во главе немногочисленной процессии.
– Это становище чагатаев, – сказал Тимур, господин всех тех, кто говорил до него.
Молчаливая скачка продолжилась.
Клубы пыли на горизонте становились все заметнее. Караван в действительности не в состоянии был поднять столько пыли. Пыль, поднятая стадом диких ослов, постепенно смещалась бы в сторону. Нукеры убедились, что их господин прав: они приближаются к логову своего врага. К логову, из которого выбрались всего два дня назад.
Почувствовав, что его спутников обуревают сомнения, Тимур остановился и, повернувшись к четверке нукеров, сказал:
– Спрашивайте.
– Что спрашивать, господин? – сказал Байсункар, опуская глаза от смущения.
– Вы ведь не понимаете, зачем я снова веду вас к Токлуг Тимуру, после того как увел вас от него два дня назад.
Немного осмелевший Мансур позволил себе высказать сомнение:
– В самом деле, господин, стоит ли второй раз лезть в пасть ко льву, если однажды удалось хитростью заставить его разжать челюсти и унести целыми ноги?
– Хитростью, говоришь? – усмехнулся Тимур.
– Конечно, господин. Когда ты сказал хану, что хотел бы навестить отшельника Зейд ад-Дин Абу Бекра из Тайабада, мы все были уверены, что это хитрость. А когда нас выпустили, мы подумали, что хитрость удалась.
– Мы ведь так и не поскакали в Тайабад, – робко подтвердил Хандал.
– Не поскакали, – подтвердил Тимур, – потому что за три дня, которые мне дал Токлуг Тимур, мы никак не смогли бы этого сделать. Хан знал это не хуже меня.
– Так зачем же он отпустил тебя, господин? – спросил проникнутый сомнением Захир.
Тимур усмехнулся и похлопал себя плеткой по отвороту сапога, извлекая из него облако пыли.
– Он испытывал меня. Увидев мое войско, он понял, что я ему не опасен. Он решил проверить, не буду ли я ему полезен. Полезнее всего для царствующего человека люди верные и умные. И он дал мне испытание, чтобы определить, обладаю ли я верностью и умом. Только дурак или негодяй мог бы навсегда исчезнуть, будучи выпущен из лагеря Токлуг Тимура. Поэтому я решил вернуться.
– Пусть так, господин, и ты прочел правильно замыслы этого царственного язычника, но что тебе даст его уверенность в том, что ты умен и благороден?
– Многое, Захир, многое, и скоро вы убедитесь в этом. Скачите за мной. Из шатра Токлуг Тимура я выйду сегодня правителем Кеша и Карши.
С этими словами Тимур хлестнул коня и поскакал в сторону пылевого облака.
Глава 4 Танцующий дервиш
Беда, если в доме бесчинствует враг, А ты в это время бессилен и наг. Стерпи это все, свое сердце скрепя, И ангелы мести поддержат тебя. Пусть враг твой силен и всеведущ, как див, Ты все ж воспаришь, за себя отомстив! Фирдоуси, «Шах-намэ»В отличие от своего предшественника Тимур любил города, но так получилось, что, став правителем Кашкадарьинского тумена, он, как и Хаджи Барлас, вынужден был жить вне пределов родного города. Остаток лета, осень и зиму он провел, кочуя со своей постепенно разрастающейся свитой по предгорным областям между Яккабагом и Гузаром.
Вынудил его к этому все тот же чагатайский хан Токлуг Тимур. Одной рукой он вручил молодому барласскому вождю ярлык на управление здешними землями, другой посадил в Кеше свой гарнизон: сотню всадников во главе с хитрым и подозрительным Баскумчой.
Тот был крив на один глаз, но зато другим внимательно следил за каждым шагом вновь назначенного правителя. Вмешивался в его распоряжения и всячески норовил показать горожанам, кто тут настоящий хозяин.
Первая стычка произошла из-за базарных весовщиков. Базарный староста, назначенный Тимуром, изгнал из города четверых гератцев, которые наживались, скупая более полновесное самаркандское серебро и пуская в оборот некачественное пешаварское. Баскумча арестовал старосту и посадил в зиндан[14], а гератцев обласкал и назначил базарными весовщиками. Теперь выдача гирь и аршинов зависела только от них, что открывало самые широкие возможности к мздоимству. Купеческая депутация явилась к Тимуру с жалобой. Выслушав их, он вмешался. Баскумча, видя решительность правителя, пошел на частичные уступки: освободил базарного старосту из тюрьмы, лишил гератцев права заниматься весовым делом, но настоял на том, чтобы купеческое сообщество приняло их в свою среду и выделило им пожизненные места для лавок. Тимур, затаив злость, вынужден был пойти на этот компромисс.
Первая стычка не стала последней. Пользуясь тем, что в полуразрушенной цитадели Кеша стояла сотня чагатайских воинов, одноглазый сотник наглел все больше и больше. На беду, он был неутомим и не делал различий между крупными и мелкими делами. Ему было дело до каждого водоноса, до каждого не там привязанного верблюда. И днем и ночью можно было видеть его фигуру в черном халате и высокой шапке с собольей оторочкой. Сидя на своем туркменском жеребце, он ощупывал подозрительным взглядом каждого проходящего мимо.
Откровенно говоря, Тимур недоумевал. Зачем чагатайскому хану нужно было отдавать ярлык на управление ему, местному батыру, если он собирался приставить к нему такого помощника? Не мог хан не понимать, что наносит правителю оскорбление и тем самым приобретает в нем будущего врага.
Случай помог Тимуру во всем разобраться.
Охотился он как-то к северу от Кеша, и Мансур, с тремя всадниками загонявший ланей, прискакал к нему, таща на аркане какого-то человека.
– Пытался сбежать от нас, когда мы его окликнули, – объяснил Мансур.
Человек был примечательный. По виду несомненно туркмен. Красная борода, бритая голова и рваная ноздря. Впрочем, рваная ноздря – отличие не племенное, а индивидуальное. Мансур ударом плетки заставил его встать на колени, но и стоя на коленях, непонятный пленник сумел сохранить независимую позу.
– Кто ты? – спросил Тимур по-чагатайски[15], но ответа не получил. Тогда он повторил вопрос по-фарсидски[16]. На всякий случай повторил, потому что понял, что туркмен ничего не скажет, хотя бы вопрошал его голос небесных труб.
– Обыщите его, – приказал Тимур.
За пазухой халата была обнаружена меховая шапка с красным околышем. Это был головной убор гонца в Чагатайском ханстве.
– Эта шапка была у него на голове, когда вы его увидели? – спросил Тимур у своих нукеров.
– Нет. Когда мы за ним погнались, на голове у него была обычная туркменская шапка. Потерялась, когда мы волокли его сюда.
– Обыскивайте дальше, у него должно быть письмо.
Письмо действительно отыскалось, было зашито в полу халата.
– Кому ты вез его? И что в нем написано?
Гонец молчал.
Тимур знал, что секретные послания обычно составляются в виде иносказаний. «Надо будет обратиться к Шемс ад-Дин Кулару, – подумал он. – Во-первых, он грамотен, во-вторых, он умен, он поможет добраться до смысла, заключенного в этом письме». Сам правитель не умел ни писать, ни читать и не научился этому искусству до конца своих дней.
– Ты напрасно молчишь. И без твоих ответов я почти все понял. Ты тайный гонец. Свою шапку ты должен был надеть, только переправившись через реку Сыр. Там тебе как гонцу ханского двора оказано было бы полное содействие. Ты скачешь в кочевую ставку Токлуг Тимура. Да? Почему ты все еще молчишь? Я ведь угадал, правда?
Повинуясь незаметному жесту Тимура, сзади к туркмену подошел один из нукеров и накинул тому на шею тонкую удавку. Так бескровно убивали по степному обычаю. Став полуоседлым мусульманином, сын Тарагая оставил не все степные привычки.
– Навряд ли ты так таился бы, везя послание самому Токлуг Тимуру. Чего может бояться гонец властителя чагатаев на землях Чагатайского улуса?
Удавка начала затягиваться.
– Ты вез это послание тому, кто не хотел бы, чтобы хан узнал о нем. Кто этот человек? Скажи мне, и я отпущу тебя. Ты ведь знаешь меня – я Тимур, сын Тарагая. Любой в Кеше скажет, что мое слово твердо.
Лицо туркмена стало наливаться кровью. Но он молчал.
– Прежде чем ты умрешь, я докажу тебе, что ты умираешь зря. Я назову тебе имя того, к кому ты тайно пробирался. Имя отправителя угадать нетрудно – это сотник Баскумча.
Туркмен сдавленно захрипел, но хрип этот не был похож на согласие говорить.
– Только один человек во всем улусе может осмелиться самостоятельно вести дела, не опасаясь гнева Токлуг Тимура. Это его старший сын Ильяс-Ходжа.
И даже после этого туркмен остался нем. Не повел он бровью, не дернул рваной ноздрей, чтобы подтвердить услышанное.
Тимур сделал знак, и удавка была ослаблена. Испытуемый рухнул на песок.
– Ты выказал мужество и благородство. Я не убью тебя. Я даже отпущу тебя.
Туркмен корчился на песке, шумно дыша.
– Ты дал слово Баскумче, что никто не узнает, кому адресовано послание, хотя бы тебе пришлось подвергнуться пыткам и сгинуть. Жаль, что столько усердия поставлено на службу столь ничтожным людям и столь ничтожным целям. Но, как уже было сказано, я тебя отпущу. И возьму с тебя той же монетой, что и Баскумча. Ты пообещаешь мне, что сотник не узнает, к кому попало письмо, адресованное Ильяс-Ходже.
Гонец с трудом поднялся на корточки. Из глаз его текли слезы. Но не благодарности, а преодоленного мучения. Из ноздрей струилась кровь.
– Ты обещаешь мне то, о чем я сказал?
Истекающая кровью и влагой голова молча кивнула.
Тимур развернул коня и крикнул своим нукерам:
– Мы возвращаемся.
Выяснив, кто стоит за сотником Баскумчой, Тимур понял, что нынешнее его положение недолговечно. Скоро, очень скоро настанет день, когда ему надолго придется расстаться с родным городом. Предвестником этого расставания стала смерть отца. Он скончался ранним весенним утром во дворе своего дома: сидел, завернувшись в верблюжье одеяло на берегу арыка. Такое было впечатление, что он просто замер, вдыхая смешанный запах набухающих почек и таинственные ароматы тающего в предгорьях снега.
Единственным, кто связывал Тимура с Кешем, остался шейх Шемс ад-Дин Кулар, но и он все более перемещался из мира реального в мир своего отшельнического воображения. Сестра его тоже умерла, и в доме постоянно жила довольно большая и чрезвычайно беспокойная компания шиитских[17] дервишей. По утрам они бродили по городскому рынку с деревянными мисками в руках, вытребывая подаяния, а вечерами усаживались у ног уважаемого учителя и часами внимали его рассказам и толкованиям Корана.
Шейх не отказывал Тимуру в совете и духовной поддержке, но тот чувствовал, что старика больше греет общество его духовных последователей и почитателей.
Старость не всегда дарует мудрость.
Не переставая любить и уважать старика, Тимур начинал догадываться, что в своих будущих делах навряд ли сможет на него по-настоящему положиться.
Осознав это, однажды на рассвете Тимур перевез свою жену вместе с сыновьями Джехангиром и Омаром из отцовского дома в свою полевую ставку.
Шаг этот послужил толчком к развитию событий.
Баскумча на следующий же день узнал о неожиданном перемещении семейства. К шатру Тимура явился посланник чагатайского сотника и сказал, что ему велено узнать, почему правитель решил, что его сыновьям пронизывающий ветер предгорий полезнее, чем теплый воздух городского дома. На что Тимур ответил, что ему вопрос этот кажется странным. Ибо кому, как не степному батыру Баскумче, знать, что скачка в чистом поле здоровее сидения взаперти.
Сотник, видимо, понял намек. На следующий день большая часть кешского гарнизона покинула цитадель и вихрем пронеслась по окрестным селам. Это был необычный набег. Хватали не столько добро, сколько людей. До семи десятков. К вечеру все они сидели в ямах городского зиндана.
Тимура удивила эта выходка, он послал своих людей разузнать, кого именно хватали чагатаи. Доставленные сведения не дали возможности сделать какой-нибудь определенный вывод. В тюрьме оказались самые разные люди. От местных сумасшедших до местных богатеев. Тимур не любил оказываться в положении, когда он перестает понимать действия противника. Он решил на время затаиться, сделать вид, что ничего не слышал о случившемся в окрестностях города.
Ожидание – дело нелегкое, особенно ожидание неприятностей.
Через день к нему в становище явилась депутация именитых горожан. Они были очень возмущены, но еще больше перепуганы. Как же жить, если от произвола не защищают ни возраст, ни деньги, ни положение?
Тимур сказал именитым гостям, что завтра же пошлет гонца с требованием объяснений от Баскумчи.
Глаза горожан померкли после этих слов.
– Баскумча будет разговаривать только с тобой или ни с кем, – сказали они.
Тимур и сам знал это, но он еще не разобрался в том, что происходит, поэтому не мог себе позволить действовать. Любой шаг грозил оказаться ошибочным.
Депутация убыла, чтобы на следующий день смениться следующей депутацией. Город волновался, в воздухе нарастало ощущение назревающего бунта. Горожан подогревают шиитские дервиши, огромное количество которых накануне прибыло в Кеш частью из Карши, частью из Термеза.
Чагатаи ведут себя нагло, как бы провоцируя выступление.
Надо ехать, понял Тимур. Может быть, там, на месте, удастся во всем разобраться.
Он взял с собой только Мансура и Байсункара, велев Хандалу и Захиру готовить становище к откочевке.
Въехав в город через Песчаные ворота, он понял, что молившие его о помощи горожане ничуть не преувеличивали размеры волнения и беспорядка, царивших в Кеше. Базар, этот точнейший барометр общественной жизни в любом восточном городе, был пуст. По улицам шныряли какие-то подозрительные люди, возле караван-сараев ревели верблюды. На площади перед цитаделью толкалась довольно многочисленная толпа. Было такое впечатление, что здесь на землю опустилось огромное пылевое облако, на дне которого тремя большими кольцами, одно в другом, кружились в бесконечном танце сотни полторы шиитских дервишей. Они были в треугольных колпаках и изодранных халатах. Почти все босиком. От бесконечных странствий их подошвы сделались тверже бронзы. Их бороды свалялись, как верблюжья грива, глаза лихорадочно блестели; гнусавые песнопения, смешиваясь со слюной, превращались у них на губах в пену еле сдерживаемого бешенства. Они ритмично притопывали и вздымали над головами свои острые, как шило, посохи.
Горожане большей частью жались к дувалам близлежащих домов и караван-сараев или осторожно толпились в переулках. В руках у многих виднелись камни и заступы.
Сквозь разрывы в пелене пыли была видна шеренга чагатайских всадников. Они молча стояли спиной к полуразрушенным стенам цитадели. Абсолютно неподвижные, как изваяния. Поднятая подошвами дервишей пыль медленно оседала на их шапки и плечи, будто это были ветки и листья придорожных чинар.
Всадники не держали оружие наготове. Тимур знал, что им этого просто не нужно делать. Как только первый сумасшедший выбежит из переулка с занесенным в руке камнем, тут все и начнется. Нападающий не успеет бросить камень, как упадет с простреленным горлом.
Чувствуя, что до такого поворота в развитии событий недалеко, Тимур решительно направил своего коня к цитадели. Все чагатаи этого гарнизона прекрасно знали его, он много раз приезжал в их расположение. Слегка тронув повод, двое стоявших в центре всадников, ничего не спрашивая, пропустили его.
Баскумча сидел под навесом в углу вымощенного камнем двора и играл в кости с одним из десятников. Преувеличенно вежливо поприветствовал он прибывшего, предложил чашу кумыса и участие в игре.
Не моргнув глазом Тимур согласился.
Сотник искренне обрадовался, вытащил из пояса и бросил на кошму потертый кошель:
– Здесь двести золотых дирхемов[18].
Тимур снял с пальца кольцо с большим индийским рубином:
– Здесь вдвое больше. А тебе я советую спрятать твой кошелек.
– Почему? – усмехаясь, поинтересовался сотник.
– Ты будешь играть не на деньги.
Единственный глаз сотника подозрительно заморгал.
– А на что?
– Ты не понимаешь?
Баскумча понял, впрочем, он с самого начала знал, что этот барласский молокосос явится для разговора о пленниках. Теперь он ждал, как гость поведет разговор.
Тимур бросил рубиновый перстень на кошму, он подпрыгнул и подкатился к ногам сотника.
– Это еще не все. Ты получишь еще по пятьдесят золотых дирхемов за каждого пленника, сидящего сейчас в городском зиндане.
Из-за стен цитадели непрерывно доносилось многоголосое гнусавое нытье. Такое впечатление, что огромная отвратительная гадина ворочается на площади.
– Ты не знаешь, о чем просишь, – сказал Баскумча, мрачнея и подбрасывая кости на ладони.
– Я знаю, о чем прошу.
Кривой сотник усмехнулся:
– Если так, Тимур, сын Тарагая, я и тебя должен бросить в тюремную яму. Все, кого мои люди схватили четыре дня назад, – сербедары или их пособники. Понимаешь, о чем идет речь, или ты вчера родился на свет?
– Тебе это приснилось, иногда людям снятся ужасные сны, сотник.
Баскумча стал подбрасывать кости повыше.
Гнусавое пение за стенами стало еще отвратительнее.
– Не будем об этом спорить, я свое дело знаю хорошо, я схватил врагов моего хана и могу ждать награды.
Баскумча махнул рукой, и игравшие с ним встали с кошмы и отошли.
– Мне непонятно, почему ты о них так радеешь, Тимур, правитель Кашкадарьинского тумена. Ведь эти бесчестные заговорщики и тебя считают своим врагом, и, если доведется, они тебя не пощадят. Даже те из них, кого ты пытаешься сегодня спасти.
– Сейчас важно не то, сербедары они на самом деле или оклеветаны кем-то.
– А что же тогда важно? – широко открыл свой неприятный глаз чагатай.
– То, что происходит сейчас в городе.
– Если будет бунт, я его подавлю.
– Я не сомневаюсь в этом, Баскумча, и не хочу бунта.
Сотник выбросил кости на кошму, они легли неудачно для него, было видно, как это ему неприятно. Произошло своеобразное гадание.
– Это мой родной город. Если ты прольешь кровь, я тоже вынужден буду пролить кровь. Ты знаешь чью.
– Ты мне угрожаешь? Явившись сюда с двумя своими нукерами?
– Нет, я просто предлагаю тебе выгодную сделку: много золота в обмен на людей, от которых тебе вряд ли когда-нибудь будет польза.
Сотник теребил длинный висячий ус.
– Взвесь все как следует, Баскумча. С одной стороны, золото, с другой – кровь. Ты правильно заметил, я явился сюда с двумя нукерами, но у меня осталось еще двое, они мне как братья и даже ближе. И под их началом до сотни людей, умеющих держать оружие не хуже твоих всадников.
– Как я объясню Токлуг Тимуру, почему я отпустил тех, кого схватил, считая их сербедарами? – с бессильной злостью в голосе сказал сотник.
Тимур, усмехаясь, взял кости с кошмы.
– Скажешь, что расследовал это дело и обнаружил, что этих честных людей оговорили, а чтобы тебе поверили, повесь тех четверых гератцев, что занимались перекупкой серебряных монет на базаре. Все в городе знают, что они воры и законченные негодяи. Никто за них не вступится, горожане даже будут благодарны тебе.
Искра надежды засветилась в глазу сотника. Этот молодой негодяй сначала загнал его в угол, а теперь сам же предлагает выход. И не самый плохой.
– Я должен подумать, Тимур.
– Некогда думать. Эти, в колпаках, что кружатся на площади, вот-вот бросятся на твоих воинов. И тогда конец.
– Кому?
– Всем. Сначала, наверное, мне. А потом и тебе. Решайся, Баскумча. Ты всегда был умным человеком, выпутаешься. Тем более что говорить тебе придется не с Токлуг Тимуром, а всего лишь с Ильяс-Ходжой.
Сотник выпучил на управителя свой единственный глаз.
Тимур бросил кости, и у него выпало двенадцать очков.
Что такое тюрьма на Востоке, невозможно понять, пока в ней не побываешь. Просто взглянув на людей, всего лишь несколько дней проведших в ней, можно было содрогнуться. Двери в стене, огораживающей зиндан, распахнулись, и чагатаи стали тупыми концами копий выталкивать бывших узников наружу.
Танцующие дервиши, ломая свои концентрические круги, бросились к ним навстречу, мгновенно на площади образовалась пестрая человеческая смесь, так что если бы Баскумча внезапно раздумал и решил вернуть подозреваемых в сербедарстве обратно, ему не удалось бы это сделать.
Когда Тимур в сопровождении Байсункара и Мансура вышел на площадь, то разделил участь бывших узников зиндана, то есть попал в плотное, потное, постоянно внутри себя движущееся месиво.
Правитель был встречен приветственными криками, каждый тянулся благодарно дотронуться до него. Один особенно настырный дервиш прямо повис на Тимуре, невыносимо гнусавя:
– Сказали те, которые в огне, стражам геенны: «Позовите нашего Господа, чтобы Он облегчил нам наказание хотя бы на день». Они ответили: «Разве не приходили к вам ваши посланники с ясными знамениями?» Они сказали: «Да». Они сказали: «Призывайте же!» Но призыв неверных только в заблуждении.
Тимура раздражала эта навязчивость, кроме того, он никак не мог отделаться от мысли о том, кого он, собственно, освободил. Сербедаров? Но Баскумча прав тогда, стоило ли навлекать гнев чагатаев, извлекая из-под замка своих тайных недоброжелателей?
И этот голос! Даже через специфический перелив гундосого пения чудилось правителю что-то знакомое в этом голосе.
Тимур схватил назойливого дервиша за плечо и резко сорвал с него колпак.
– Тихо! – прошептал тот, снова прячась под колпаком. Редкая бороденка, ледяные глаза.
– Маулана… – Тимур не успел договорить, черная вонючая ладонь легла ему на губы. Он брезгливо оттолкнул ее и слегка отстранился: – Что тебе нужно?
– Мне уже ничего. Все, что ты мог, ты уже сделал и для меня, и для нас.
– Тогда прощай.
– Погоди, правитель, и узнаешь важное.
Тимур огляделся. Вокруг – пыльная, гнусавая вакханалия. Мансур и Байсункар стояли за спиной господина, положив руки на рукояти кинжалов.
– Говори.
– Уходи из этого города и больше не возвращайся. Завтра новый владетель Мавераннахра въедет в Самарканд, послезавтра его люди будут здесь.
– Кто он?
Маулана Задэ умело высвободил полу своего халата из железных пальцев батыра и растворился в толпе, и из ее танцующих недр донеслось:
– Ильяс-Ходжа, Ильяс-Ходжа!
Помедлив всего мгновение, Тимур обернулся к нукерам:
– Лошадей!
Глава 5 Встреча у дверей отшельника
Путешествующий без денег достоин небольшой помощи.
Живущий одиноко, без семьи, достоин хорошего совета.
Не сумевший приобрести друга достоин глубокого сожаления.
Фариддин Абу Талиб Мухаммед бен-Ибрагим Ammap, «Беседа птиц»Что делает человек, которому угрожает опасность на равнине? Он уходит в горы.
Выехав из Песчаных ворот Кеша, на полном скаку несясь к своему становищу, Тимур принял решение скрыться в Бадахшане. Во-первых, он неплохо знал те места, во-вторых, чагатаи не слишком любят таскаться по горам, в-третьих, в одной из горных долин пас стада дальний родственник эмира Тарагая, глава небольшого барласского рода.
Захир и Хандал отлично справились со своими обязанностями: все тридцать кибиток были готовы к путешествию.
– Можно уходить хоть завтра утром, – сказал Захир.
– Мы уходим сейчас!
Уже через час, оглашая степь скрипом колесных ступиц и криками погонщиков, гнавших впереди каравана небольшой табун лошадей, бывший правитель Кашкадарьинского тумена двинулся к предгорьям Памира.
Тимур пребывал в отвратительном расположении духа. Поступая на службу к чагатайскому хану, он отдавал себе отчет в том, что эта служба не будет вечной, но не думал, что она закончится так быстро и что закончится она бегством. Предполагал молодой правитель в течение своего пусть и номинального, но властвования на берегах Кашкадарьи собрать побольше преданных ему людей, обучить и вооружить, дабы могли они под его водительством подняться против грабительской власти безбожных степняков. Но планам этим, как видно, не суждено было сбыться. И вот теперь он во главе нескольких десятков воинов бежит в холодные горы, совершенно не представляя себе, что ждет его там.
Весной умер отец, осенью умерла надежда.
Что он успел понять за год обладания властью, пусть даже и не слишком большой? Пожалуй, лишь одно: мир устроен сложнее, чем он некогда предполагал. Сила не всегда у того, кто проявляет силу, слабость иногда только притворяется слабостью, святость порой – всего лишь боязнь испытания. Да, он кое-что понял, но неизвестно, сколько лет понадобится, чтобы понять многое. И способен ли человек прожить достаточно для того, чтобы понять все?
На третий день пути дорога повела всадников вверх. Навстречу по разноцветным камням текли шумные ручьи, двигались облака. Места эти были отлично знакомы Тимуру. Здесь он учился охотиться, здесь провел лучшие дни своей юности.
Двигаясь в гуще своих родственников и нукеров, Тимур вместе с тем пребывал в полном одиночестве. Никто не решался с ним разговаривать. Делами охоты и обеспечения небольшого воинства пропитанием занимались Мансур и Байсункар. Захир и Хандал выбирали место стоянок и рассылали дозоры по ночам. Жена – терпеливая, молчаливая Айгюль Гюзель – вместе с сыновьями и двумя старухами не покидала кибитки. Когда ей вечерами приходилось ухаживать за мужем, она не задавала никаких вопросов.
Далеко не все разделяли мрачное настроение своего вожака. Молодые воины с удовольствием носились по предгорным лугам за дичью. Пусть наступает осень, пусть пришлось покинуть насиженные места и устремиться бог весть куда, что в этом плохого?! Солнце светит, возбужденный конь храпит, тетива звенит в пальцах, кровь кипит в сердце!
На пятый день (никакая опасность, слава Аллаху, не встретилась по пути) на перекрестке двух каменистых дорог Тимур вдруг остановился. И поднял руку. Это означало, что остановиться должны все. В течение нескольких мгновений караван из сотни человек, тридцати повозок и множества животных замер. Левая дорога уводила от развилки на восток, дальше в горы, правая сворачивала к югу, к скалистому массиву, густо поросшему лесом.
Тимур подозвал к себе Мансура:
– Поворачивайте на юг.
После того как караван уже повернул и колеса повозок загрохотали по камням, Тимур объяснил своим подчиненным:
– Я должен посетить убежище отшельника Амир Халала. Оно где-то здесь, в этих скалах.
Имя этого святого человека было широко известно. Даже беззаботные молодые разбойники, которыми, в сущности, были нукеры Тимура, слышали о нем.
– Ты хочешь с ним посоветоваться, господин? – спросил Байсункар.
Тимур не ответил, потому что не любил отвечать на бессмысленные вопросы.
Указанный скалистый массив располагался, казалось, невдалеке, но дорога к нему заняла почти целый день. Только поздним вечером, когда наступило время длинных синих теней и из мелких ущелий выползли языки ночной прохлады, Тимур разрешил остановиться.
Утром беглецов из Кеша ожидало неприятное открытие. Дозорные доложили, что на другом конце долины, в каких-нибудь двух сотнях шагов от их становища, расположился чей-то незнакомый лагерь. Эти люди, очевидно, прибыли глубокой ночью по северной дороге.
Через мгновение Тимур был в седле, через два – на окраине становища. Там он остановился, всматриваясь в очертания чужого лагеря. На той стороне происходило то же самое. Несколько всадников выехало из-за строя кибиток, и теперь они неподвижно стояли, глядя в сторону становища Тимура.
В иные времена подобные встречи обычно заканчивались взаимным изъявлением уважения и два путешествующих бека весело усаживались за совместный дастархан[19].
Теперь же, когда на землях Мавераннахра опять идет война, неожиданная встреча вызывает скорее опасение, чем радость.
– Кто это такие? – прошептал Мансур.
– Одно можно сказать с уверенностью – не чагатаи, – ответил Хандал.
– Да, – согласился Захир, – эти бы не стали церемониться и уже напали бы на нас.
– Послать к ним человека, господин? – спросил Мансур.
Тимур медленно отрицательно покачал головой:
– Нет. Пускай они к нам посылают человека. Мы пришли в эту долину раньше них.
Но, видимо, тот, кто стоял во главе противостоящего лагеря, так не считал. Прошел час, и не было видно никаких признаков того, что он желает познакомиться. Напротив, перед строем его кибиток появлялось все больше и больше всадников.
– Они что, хотят с нами драться? – недоумевали нукеры Тимура.
«Только этого не хватало», – думал он. Теперь он не мог уже выехать навстречу неизвестному беку. Сделав это, он признал бы верховенство над собой, а это сильно повредило бы его авторитету в глазах своих людей. Не мог он рисковать в нынешнем положении.
Прошел еще час.
Тимур понимал, что это бессмысленное противостояние может кончиться только одним способом – схваткой. Никому не нужной и кровавой.
Тимур был внешне спокоен – никто не должен был догадываться о том, что происходит у него в душе. Он искал выход. Искал и не находил. Из двух имевшихся: схватка или подчинение – его ни один не устраивал.
Солнце стояло уже высоко, и воздух в долине стал теплее. Потом горячее. Наконец, он раскалился. На мгновение Тимур отвел взгляд от созерцания чужого лагеря и оглядел горные окрестности. Справа, в проеме между двумя серыми скальными громадами, он увидел тонкий вертикальный язычок дыма.
И тут же понял, что ему нужно делать.
– В мое отсутствие распоряжается Мансур, – сказал он и повернул коня в сторону скального провала.
Стоило ему отъехать от своего лагеря шагов на двадцать или тридцать, как от кибиток противостоящего лагеря тоже отделилась конная фигура. И тоже направилась в сторону бесшумно струящегося к небесам дымного языка.
Неизвестный бек, судя по всему, тоже все утро ломал голову над тем, как ему поступить, и теперь с облегчением принимал выход, предложенный Тимуром.
Оба ехали шагом. Оба не глядели в сторону друг друга. Оба были видны как на ладони нескольким сотням людей, собравшимся в двух лагерях.
Неподалеку у входа в провал, в котором скрывалось убежище Амир Халала, покрытое дерном пространство кончалось. А значит, кончалась бесшумная часть прогулки. Подковы лошадей одновременно загремели по мелким белым камням, которыми было выстлано дно неглубокого ущелья, в глубине которого перед входом в пещеру отшельника горел священный очаг.
Тимур и его неизвестный противник ехали рядом, почти цепляясь стременами, но при этом не глядя друг на друга. Перед самой пещерой они спешились.
Тимур в правую сторону, незнакомец – в левую.
Оставив лошадей, оба направились ко входу в пещеру.
Тимур обогнул священный очаг справа, незнакомец – слева.
У входа, занавешенного старинной тростниковой циновкой, оба остановились. Настал решающий момент. Кто должен войти первым? Тот, кто стоит справа, или тот, кто стоит слева? Сами явившиеся к отшельнику не в состоянии были решить это. Молчаливое бдение перед камышовой циновкой могло продолжаться сколь угодно долго, когда бы не раздавшийся из пещеры голос. Он повелел им войти.
Обоим.
Тимур замялся, повеление показалось ему необычным. К святому отшельнику человек является, чтобы побеседовать с ним с глазу на глаз. Разве возможно открыть душу в присутствии совершенно чужого человека, да еще, кажется, и недружественно настроенного?
Молчаливый соперник Тимура, судя по всему, придерживался такой же точки зрения, был обуреваем теми же сомнениями. Поэтому он тоже остался на месте.
Обрушивая зыбкое равновесие их сомнений, изнутри раздалось повторное повеление:
– Войдите же! Оба!
Приподняв тростниковую занавесь, сомневающиеся вошли.
Пока глаза привыкали к густому полумраку, Тимур пытался освоиться в пещере посредством своего звериного нюха. Множество различных запахов хлынуло к его ноздрям, отталкивая друг друга. Пахло благовониями и человеческим потом, старыми пыльными шкурами и медом, сухими горными травами и горелой костью. Пахло еще чем-то необъяснимым и волнующим – это был запах отшельничества.
Постепенно становилось понятно, что в пещере не так уж темно. И можно уже было рассмотреть в глубине ее каменный горб, покрытый медвежьей шкурой, на этом горбу сидел человек, облаченный в шкуры, так что при смутном освещении казалось иногда, что он сливается с шерстистым выступом, на котором восседает, и с полумраком пещеры, из которого проступал неясным силуэтом.
Горделивые гости, не сговариваясь, опустились на колени и одновременно произнесли:
– Мир дому твоему, Амир Халал!
– Подойдите ближе.
Они подошли.
Тимур, снова встав на колени, попытался посмотреть в глаза хозяину пещеры, но сделать это было невозможно: под меховым колпаком, в том месте, где должны были бы находиться глаза, не было ничего, кроме тьмы. Тимур отвел взгляд, и какая-то неодолимая сила заставила его пасть ниц, почти касаясь лбом мощных черных пальцев на босой ноге святого отшельника. Вслед за этим он почувствовал, что на спину ему медленно легла рука пещерного старца. Она была тяжела и становилась все тяжелее. В какой-то момент Тимуру показалось, что это сама гора перенесла силу своей тяжести при помощи этой руки ему на спину. Тимур забыл, зачем сюда явился, о чем он хотел попросить этого человека, он забыл, кто он и откуда, и мечтал только об одном: чтобы эта непонятная и непереносимая тяжесть свалилась с его плеч. И голос его бессловесной молитвы был услышан.
Вдруг стало легко.
Тимур продолжал прижиматься лбом к своим брошенным на камень ладоням, но уже понимал, что самое страшное миновало и он может распрямиться, когда захочет.
Под сводами пещеры раздался голос Амир Халала. Он был такой тяжелый и низкий, что казался принадлежащим не человеку, а самой горе.
– Встаньте.
Явившиеся в пещеру остались лежать.
– Встаньте, и я дам вам совет.
Явившиеся в пещеру распрямились, оставшись сидеть на корточках.
– Тебя зовут Тимур, сын Тарагая.
– Да, святой отшельник.
– Тебя зовут Хуссейн, сын Казгана.
– Да, святой отшельник.
– Ты бежишь в горы Бадахшана, Тимур, сын Тарагая.
– Да, святой отшельник.
– Ты тоже хочешь скрыться в горах Бадахшана, Хуссейн, сын Казгана.
– Именно так, святой отшельник.
Амир Халал замолчал, медленно перебирая четки. Они были у него набраны из крохотных змеиных черепов.
– Вы не должны ехать туда. Ни ты, Тимур, сын Тарагая, ни ты, Хуссейн, сын Казгана.
Отшельник снова замолчал, как бы позволяя задать вопрос. И Тимур, не удержавшись, спросил:
– Почему, мудрейший?
– Уже посланы люди, которые убьют вас там.
В голове Тимура пронесся табун разгоряченных мыслей. Конечно, что же тут удивительного? Баскумча обнаружил его бегство и легко определил, в каком направлении оно происходит. И пока управитель Кашкадарьинского тумена тащил по солончакам и предгорьям свои арбы, было отправлено несколько легких сотен, чтобы перекрыть горные перевалы.
«Как же я сам не догадался?» – думал Тимур, отчаянно кусая губы.
– Спасибо за совет, святой отшельник. Я и сам отчетливо вижу теперь, что в Бадахшан мне ехать не надо.
Хуссейн не произнес ничего, но чувствовалось, что и его душа пребывает в полнейшем смятении.
– Но, – Тимур снова попытался поймать взгляд отсутствующих глаз, – но тогда получается, что вообще нет пути. Смерть впереди и смерть позади, еще неизвестно, какая из них неотвратимее.
Отшельник молчал, он не собирался участвовать в обмене причитаниями и ждал, когда будет сформулирован вопрос.
– Да, святой отшельник, – слегка заикаясь, сказал Хуссейн, – что же делать дальше? Назад я вернуться не могу, лучше я отправлюсь вперед. Пусть меня убьют неизвестные мне люди, я не хочу видом своей смерти доставлять удовольствие врагам, тем, что хозяйничают сейчас в моем доме.
Тимуру понравилась речь Хуссейна, и первая искра симпатии к этому человеку сверкнула в его сердце.
– Вы спрашиваете меня, что вам делать дальше?
– Мы спрашиваем тебя, святой отшельник, – сказал Тимур.
– Для начала вам надобно объединить ваши силы.
В этот момент беглецы впервые посмотрели друг на друга. Трудно составить полное впечатление о человеке, рассматривая его в полумраке в течение всего нескольких мгновений. Хуссейн был пухлощек, широконос и обладал густыми черными бровями. Больше Тимур ничего рассмотреть не успел, но отчетливо почувствовал прилив симпатии к этому человеку. Бородатый, скуластый степняк с холодно сверкнувшими глазами произвел на Хуссейна также благоприятное впечатление.
– Я велел вам войти ко мне вдвоем, потому что увидел, до какой степени совпадают ваши судьбы. Звезды заготовили пророчество, кости указывают один путь для вас.
– Мы объединим свои силы, святой отшельник, но что нам делать дальше?
– Слушать, Тимур, сын Тарагая.
– Прости мне мое нетерпение, святой отшельник.
Амир Халал слегка изменил позу и тем самым перестал напоминать изваяние.
– Вам надо отправиться обратно.
– Куда обратно?!
– То есть как?!
– Не спешите с вопросами, выслушайте меня до конца, и, может быть, вам вообще не придется их задавать.
Гости пристыженно поклонились.
– Вас ищут и будут искать там, где вам скрываться удобно, вас будут искать там, где вы надеетесь чувствовать себя в полной безопасности. Вас будут искать там, где тот, кто вас будет искать, сам бы скрывался, если бы был вынужден это делать.
Слушая Амир Халала, Тимур внутренне кивал каждому его слову.
– Вам надлежит отправиться в то место, где перезимовать почти невозможно. Вам надо расположиться так, чтобы поблизости было становище вашего злейшего врага. Ну, забрезжил ли свет понимания в ваших головах?
Гости молчали, переваривая сказанное.
– Не буду вас больше мучить и назову сам. Хорезмские степи.
Тимур и Хуссейн продолжали молчать.
Снова заговорил Амир Халал:
– Зимой это место мало приспособлено для жизни. Неподалеку, в Хорезме, правит Текель-багатур. Он всегда готов угодить Ильяс-Ходже, твоему доброму покровителю, Тимур, сын Тарагая. Кроме того, он в родственных отношениях с Кейхосроу, правителем Хуталляна[20], твоего большого друга, Хуссейн, сын Казгана. Не значит ли это, что если вы откочуете немедленно туда, никому во всем Мавераннахре не придет в голову вас там искать?
Тимур понимал правоту слов святого отшельника. Это с одной стороны. Но с другой – он прекрасно представлял, каково придется ему и его людям в безжизненных хорезмских степях, да еще по соседству с подлым данником неутомимого ненавистника Ильяс-Ходжи. Но, взвесив все доводы за то, чтобы последовать совету святого отшельника, и все доводы против того, чтобы это делать, Тимур сказал:
– Меня повергает в тоску и ужас необходимость зимовать в этих безжизненных местах, но я вижу, что это необходимо.
Хуссейн выразился менее витиевато, но тоже в том смысле, что ехать не хочется, но надо.
И сразу вслед за этим стало ясно, что разговор окончен. Что ничего сверх сказанного и посоветованного больше не будет. Надобно отправляться вон. К своим людям.
Тимур и Хуссейн по очереди припали к землистой руке пещерного мудреца и попятились к выходу. И уже когда была приподнята тростниковая занавесь, Хуссейн вдруг остановился и неуверенно проговорил:
– Прости, святой отшельник, я напоследок хочу задать тебе вопрос.
Послышался удивленный голос Амир Халала:
– Спрашивай, если считаешь нужным.
– Я стеснялся раньше… Ты все время называл меня сыном Казгана, но ведь я не сын, а внук…
Амир Халал помедлил несколько мгновений. Тимур замер, ожидая ответа с не меньшим напряжением, чем Хуссейн.
– Сказанное сказано. Кто может вместить слово сие, тот вместит.
Глава 6 Братья
Укройся в горах иль исчезни в степи, Все беды снеси и все боли стерпи, Невидимым стань и неслышимым будь, Но тайно тоска будет жечь твою грудь. Степною дорогой и горной тропой Ты сам, словно тень, побредешь за собой. Кабул-Шах, «Цветник страданий»Мы не будем рассказывать о том, как две сотни человек под водительством бывшего правителя Тимура и бывшего хозяина Балха Хуссейна добрались от памирских предгорий до хорезмских степей. Все равно никто не поверит, что такое могло произойти. Тимур и Хуссейн сами поражались собственным воспоминаниям. Такое количество счастливых случайностей, что невольно поверишь в помощь высшей силы, от имени которой советовал им отправиться в этот путь святой отшельник Амир Халал. Узоры, нарисованные самой судьбой, неизмеримо превосходят все то, что можно видеть на самом искусно вытканном ковре.
Надо ли говорить о том, что общие переживания, общие трудности и общие удачи очень сблизили двух молодых вождей. Если учесть еще наличие у них общих врагов, можно представить, какими тесными и взаимодоверительными стали их отношения.
Но не сама по себе эта дружба представляется главным чудом, возникшим в результате неожиданного свидания Тимура и Хуссейна в пещере святого отшельника. Больше всего поражало то действие, которое она оказала на характеры обоих вождей. Они, в это трудно поверить, не стремились к первенству одного над другим. Не секрет, что обычно дружеские отношения строятся по принципу явной или тайной подчиненности одного другому. Здесь имело место нечто иное. Нукеры Тимура не могли надивиться на своего господина. Нукеры Хуссейна пребывали примерно в таком же состоянии. И первые и вторые знали своих господ как людей предельно властных, не привыкших делиться даже малой частицей своего единоначалия. А тут спокойно пожертвовали по половине того, чем обладали!
Эта глава романа названа «Братья» только лишь потому, что Хуссейн и Тимур так стали называть друг друга. На самом деле между братьями, особенно на Востоке, никогда не встретишь настоящего равноправия. Чаще всего выше (и заметно выше) стоит брат старший. Иногда владетельный отец назначает наследником не самого старшего из сыновей, и тогда выше всех становится сын наследующий. Так, например, произошло в семье самого Тимура. Омар был его первенцем, но наследником должен был стать Джехангир.
Надобно еще отметить, что сближению барласского правителя и балхского эмира способствовало то, что они великолепно дополняли друг друга особенностями своих характеров.
Хуссейн был на несколько лет старше Тимура и происходил от более древнего и знатного рода. К чести Хуссейна надо сказать, что он не настаивал на своем превосходстве ни по одной, ни по другой линии. Жизнь в большом богатом городе способствовала некоторой его изнеженности и дала возможность получить образование. В небольшом его караване помимо всего того, что имелось в караване Тимура, присутствовали и два касса-хана, чтеца-сочинителя, к услугам которых он частенько прибегал в холодные дождливые ночи, проводимые у тлеющего костра.
Хуссейн любил женщин и был по этой части неуемен, как и все мужчины его рода. И если с Тимуром путешествовала только его жена Айгюль Гюзель, то эмир Балха прихватил с собой небольшой гарем, который делил со своим господином все тяготы метаний по горам и солончакам.
Отличался Хуссейн от своего нового друга и поведением. Был шумен, резок, принимал решения всегда быстрые и всегда окончательные. Это было бы невыносимо для его подданных, когда бы при этом эмир не стремился быть совершенно беспристрастным и справедливым. Тимур своей выдержкой, неторопливостью и обстоятельностью при расследовании спорных дел наилучшим образом дополнял его.
Только одна безусловно отрицательная черта была у балхского эмира – скупость. Досталась она ему в наследство от отца и, следовательно, от деда Казгана, который, собственно говоря, и жизни своей лишился благодаря ей. В свое время правитель Хуталляна Кейхосроу заманил эмира Казгана в ловушку, умело сыграв на этой его струне.
Самое неприятное в этой человеческой черте то, что она имеет обыкновение с возрастом неуклонно усиливаться. Но в описываемый нами период она еще не достигла таких размеров, чтобы омрачить вновь возникшую дружбу.
Прибыв в хорезмские степи, оба вождя скоро поняли, что святой отшельник Амир Халал, предсказывая им нелегкую зиму, ничуть не преувеличивал. И даже степями эти степи назывались зря. Это была настоящая пустыня.
Отыскав одинокий, вдалеке от всех дорог расположенный колодец, вожди решили, что здесь устроят свою стоянку.
Места были действительно пустынные. Когда-то поблизости проживало небольшое туркменское племя, пастухи которого пригоняли к колодцу свои отары на водопой. Но постепенно пески сожрали все пастбища, и туркмены куда-то откочевали.
То, что место столь пустынно, было хорошо только с одной точки зрения – безопасности. Но имелась и вторая сторона в этой ситуации: надо было как-то добывать пищу. Одной охотой две сотни человек не прокормишь.
Вначале съели всех запасных коней.
Потом Тимур и Хуссейн собрали все имевшиеся у них деньги и отправили двоих нукеров, Захира и Ибрагима, которому эмир доверял из своих более всего, в Ургенч на базар за продуктами. В этом был определенный риск, но на него приходилось идти. Два раза в месяц Захир и Ибрагим привозили в становище две арбы, доверху груженные лепешками и овечьим сыром. Они могли бы это делать чаще, но их путь был непрямым и запутанным, чтобы сбить со следа людей Текель-багатура, если они захотят проследить, кому это вдруг в безжизненной степи понадобилось столько еды.
Но и этого было мало.
Тогда Тимур предложил собрать всю чагатайскую одежду, что была в становище, обрядить в нее десятка полтора наиболее лихих воинов и отправить вверх по течению реки Аму, где можно было бы добыть небольшую отару овец.
Темны сумерки в зимней степи.
В шатре Хуссейна вокруг выложенного небольшими камнями очага сидят оба вождя и несколько ближайших помощников. Только что был выслушан рассказ Мансура и Рустема (дальнего родственника эмира) про их набег на зимующую возле Саята отару. Особенно похвастаться было нечем – четверо убитых воинов и два десятка не самых жирных баранов.
– Видит Аллах, если за каждого паршивого барана мы будем терять по воину… – начал эмир Хуссейн, но не стал заканчивать мысль. Всем и так понятно, что именно он хотел сказать.
– Вы были в чагатайских архалуках?[21] – спросил Тимур.
– Но пастухи нас не испугались, – развел руками Рустем.
– Неужели чагатайская власть настолько ослабела? – усмехнулся Хуссейн.
Тимур пожал плечами и стал внимательно смотреть в огонь. История была странная, и, стало быть, с выводами спешить не стоило.
– Может быть, Ильяс-Ходжа откочевал из Самарканда за Сырдарью? – осторожно высказал предположение Мансур.
– Что ты имеешь в виду? – обернулся к нему Хуссейн.
– Вчера Захир привез сплетни с ургенчского базара. Ходят слухи, что Токлуг Тимур захворал. В такой момент наследнику лучше находиться поближе к ханскому шатру.
Когда деловые разговоры были закончены, эмир Хуссейн послал за касса-ханом – пусть споет-развлечет, надо как-то разогнать тоску этого зимнего вечера.
В огонь подбросили рубленого камыша, пламя стало пожарче. Закутавшись в лисью доху, Хуссейн велел певцу начинать. Тот поклонился и сел к огню, осветившему его рябоватое лицо с жалкой, напоминающей сосульку бородой.
Задребезжали струны, задребезжал вслед им старческий голос певца:
В краю, где растут, зеленея, леса, Где реки темны, но светлы небеса, Где явлена мира безбрежная ширь, Родился и вырос Махмуд, богатырь.Казалось, что Тимур внимательно прислушивается к словам касса-хана, но на самом деле мысли его были далеко отсюда. Где? В Хорасане? В Бадахшане? В Кеше? А может, в пещере у отшельника Амир Халала?
На юге, в стране возле черных пустынь, Где много инжира, урюка и дынь, Где воздух от зноя устало дрожит, В семье у царя вырос воин Джамшид.Хуссейн, в свою очередь, был вполне увлечен слушанием, как будто касыда[22] эта была неизвестной ему. Густые брови подрагивали, реагируя на перипетии излагаемого сюжета, эмир поджимал и покусывал пухлые губы.
А касса-хан пел:
Сошлись в поединке с батыром батыр, И тут содрогнулась вся степь и весь мир. Звенел трое суток металл о металл, Воитель в воителя стрелы метал И взгляды, горящие грозным огнем. И ночью светло было так же, как днем!В этом месте песни Тимур отчасти очнулся от своих уединенных размышлений. Ему показалось, что история, которую рассказывает дребезжащим голосом этот старик, имеет к нему непосредственное отношение.
Махмуд и Джамшид в конце концов проявили благоразумие. Понимая, что ни один не может победить другого, они решили помириться и даже побратались. Более того, чтобы закрепить братский союз, Махмуд и Джамшид женились на сестрах друг друга.
И вот они скачут, привстав в стременах, Благие настали в стране времена. С Махмудом Джамшид навсегда обнялись, И новая дружба, как новая жизнь, Нам путь освещает и в сердце поет, Грустить и печалиться нам не дает.Закончив пение, касса-хан опустил свой дутар[23] на колени и скромно потупился.
На несколько мгновений воцарилось молчаливое ожидание. Все присутствующие поняли подоплеку поведанной только что истории и не знали, понравится ли подоплека эта Хуссейну и Тимуру.
– Сам ли ты сочинил эту касыду? – нарушил молчание Хуссейн, его лицо все больше и больше наливалось светом удовлетворения.
– Нет, господин, сочинил ее Кабул-Шах.
– Кабул-Шах? – удивленно переспросил Тимур.
– Да, господин, именно он.
– Не тот ли это Кабул-Шах, что рожден был царевичем, чингисидом, но по своей воле стал дервишем, а потом поэтом?
– И снова ты прав, господин, – низко кланяясь, подтвердил касса-хан.
– Царевич – поэт? – вмешался в разговор Хуссейн. – Этого не может быть!
Певец развел руками, как бы показывая, что он не отвечает за поступки столь высокородных особ и ни в коем случае не берет на себя смелость их обсуждать.
– Но все равно, – все больше распаляясь, сказал Хуссейн, – он хорошо сочинил, а ты хорошо сделал, что решился спеть. Именно нам и именно сейчас. Я прав, брат мой Тимур?
Раскрасневшееся лицо обернулось к Тимуру, тот слегка улыбнулся и кивнул. У него уже состоялись два разговора с Хуссейном о необходимости его, Тимура, женитьбы на сестре эмира. Верный своему правилу не совершать необдуманных поступков, бывший владетель Кеша с ответом не спешил, находя каждый раз уважительные поводы для своей медлительности. Но более увиливать от прямого ответа было нельзя, это могло поставить под сомнение его дружбу с хозяином Балха. А этого он никак не мог допустить.
Итак, Тимур кивнул в ответ на возбужденный вопрос своего брата и сказал:
– Поэт всегда немного пророк, тем более поэт-дервиш. Счастливая сила вложила эту песнь в уста этого человека. Так подчинимся пророчеству.
После этих слов Хуссейн совершенно уже не скрывал своей радости, в порыве немыслимой щедрости он сорвал с пальца дорогое кольцо со смарагдом и протянул ее касса-хану:
– Возьми! Плохим вестникам принято рубить голову, ты же – вестник добрый, было бы нечестно тебя не отблагодарить.
Певец, преувеличенно кланяясь и бормоча непрерывные восхваления щедрости эмира, попятился к выходу.
Решено было немедленно отпраздновать столь счастливое событие. Откуда-то появился бурдюк вина. Хуссейн считал себя правоверным мусульманином, но в части винопития делал для себя и своих окружающих послабление. Тимур в годы своей молодости не употреблял горячительных напитков вообще и только в конце жизни позволил виноградному зелью завоевать некоторую власть над своей душой.
В этот раз он, отступая от своих правил, выпил несколько чаш. Так что когда он явился в свой шатер, в голове у него изрядно шумело.
Замотанные в одеяла дети спали в углу за полотняным пологом, Айгюль Гюзель сидела подле них, стоявший рядом с ней глиняный светильник слегка потрескивал и чадил.
Тимур сел в ногах ложа, на котором спали его сыновья. Айгюль Гюзель почувствовала, что муж сейчас скажет ей что-то очень важное. Она сидела, положив руки на колени и опустив подбородок на грудь.
«Как будто ожидает приговора», – подумал Тимур и сказал:
– Завтра ты с сыновьями уедешь в Самарканд. К моей сестре.
Сказав это, он подумал, что пророчество Кабул-Шаха его женитьбой на сестре Хуссейна будет выполнено не полностью. Он-то женится на молоденькой красотке Улджай Туркан-ага, но вот захочет ли Хуссейн взять в жены его не первой молодости сестрицу Кутлуг Туркан-ага? Мысль эта заставила его расхохотаться.
– Ты очень рад, что берешь в жены сестру Хуссейна? – тихо спросила Айгюль Гюзель. В ответ Тимур только потрепал ее по плечу, ему лень было разговаривать на эту тему, да и не чувствовал он никакой нужды в этом.
Глава 7 Угроза с севера
Одному мир подлунный вручен словно в дар, а другой за ударом получит удар… Не жалей, если меньше других веселился, будь доволен, что меньше других пострадал. Омар Хайям, «Рубайат»– Почему ты все время оглядываешься, Захир?
Захир осторожно оглянулся, остановившись у шатра брадобрея и делая вид, что поражен блеском его мастерства. Ибрагим навис над ним, дыша в затылок.
– Объясни же, что происходит, я, клянусь знаменосцем пророка, перестал тебя понимать.
– А я клянусь не только знаменосцем, но и его знаменем и говорю при этом – за нами следят.
– Следят?
– С того самого момента, как мы вышли из ворот караван-сарая[24]. Одного я разглядел очень хорошо.
Брадобрей, собирая остатки пены с великолепно выбритой головы своего клиента, сделал двум шепчущимся молодым джигитам приглашающий жест. Но сделал он его бритвой, так что когда Захир и Ибрагим отошли от его шатра, могло показаться, что они испугались.
Хивинский базар закипал, как огромный котел с похлебкой.
Меланхолически покачиваясь, входили в его многочисленные ворота вереницы верблюдов, увешанные полосатыми тюками. Погонщики истошно кричали, размахивали длинными палками, предупреждая об опасности зазевавшихся пешеходов. Скрипели высоченными деревянными колесами многочисленные арбы – это приехали с товаром жители окрестных поселков. Топтались, сбившись в кучу, небольшие отары баранов, облаиваемые собаками. Облезлый ишак оглашал воздух дикими воплями, за что-то – видимо, за упрямство – избиваемый своим хозяином. Из многочисленных харчевен валил пар, их хозяева разожгли огонь под котлами еще на рассвете. И повсюду можно было видеть стражников в одинаковых синих халатах с длинными копьями в руках. Они, зевая, бродили вдоль торговых рядов, лениво отвечая на приветствия знакомых торговцев.
На первый взгляд могло показаться, что затеряться в этой разноцветной и разношерстной толпе не слишком тяжело, но Захир с Ибрагимом знали, что на самом деле сделать это, когда за тобой следят, если не невозможно, то чрезвычайно трудно. Главную опасность представляли собой не заспанные и жадные носители синих халатов. Владетель Хорезма Текель-багатур в целях борьбы с набирающим силу движением сербедаров наводнил города своими лазутчиками. А они, понятное дело, никаких отличительных знаков не носили. Один из них мог сейчас идти сзади в каких-нибудь двух шагах, присматриваясь к каждому движению тех, за кем ему поручено следить.
Два месяца Захир и Ибрагим появлялись на рынке с большими мешками и скупали лепешки и сыр, затем, переночевав в караван-сарае на окраине города, грузили специально купленную для этих целей хорезмскую арбу и отправлялись по большой дороге вниз по течению реки Аму. В пустынном месте вдали от людских глаз поворачивали в открытую степь.
«Что мы сделали неправильно? – напряженно думал Захир. – Чем обратили на себя внимание? Одеждой? Нет, одеты мы так же, как большинство хивинцев. Своими скуластыми лицами? Но такие лица уже, наверное, сто лет были в этих местах не в диковинку. Слишком частыми появлениями на базаре? Но базар на то и базар, чтобы на нем появляться хоть каждый день».
Они шли, стараясь как можно спокойнее и беззаботнее поглядывать по сторонам.
«А может быть, никакой слежки и нет? – спрашивал себя Захир. – А этот одноглазый в стоптанных чувяках, он так же торопливо отворачивается, когда поворачиваешь голову в его сторону, как делал это и тот, у ворот караван-сарая».
Остановившись у шелкового ряда, Захир поднял кусок ткани и начал рассматривать его на свет. Ткань была настолько тонкой, что сквозь нее было отлично видно, как одноглазый подозвал к себе пальцем какого-то невзрачного старика в неукрашенной белой чалме и показал, почти не таясь, в его, Захира и Ибрагима, сторону.
Больше сомнений не было: следят!
– Что ты делаешь, безумный! – послышался над ухом Захира возмущенный крик. Это был торговец, он тащил к себе кусок шелка, увидев, что странный покупатель нервно мнет его в руках. – Покажи сначала деньги, оборванец, прежде чем хвататься своими грязными руками за такую ткань!
Захир разжал руки.
– Ваш шелк великолепен, как свет утренней зари, как ресницы возлюбленной, легок, и я жалею о том, что забыл дома свой кошелек.
– Кошелек! – захохотал торговец. – Скажи еще, что у тебя караван верблюдов, груженных индийскими пряностями! Скажи еще, что ты переодетый шах и что у тебя…
Известно, что на восточных базарах люди разговаривают с еще большей охотой, чем торгуют. Посланцы Хуссейна и Тимура убедились в этом на собственном опыте. Захир был убежден, что их схватят сразу же после шумной и глупой истории возле шелковой лавки. Но этого не произошло. Слежка продолжалась, он еще несколько раз убеждался в этом, но хватать их не спешили.
Что это значит? Это может значить только одно: их подозревают, но еще не решили, что с ними делать.
Надо что-то предпринять самому, пока что-нибудь не предприняли против тебя – так учил эмир Тимур, и, оказавшись в сложной ситуации, надобно этому совету последовать.
– Ибрагим, – тихо сказал Захир, не поворачивая к спутнику своего лица.
– Я слушаю, – так же тихо и так же глядя в сторону, отвечал тот.
– Мы сейчас расстанемся с тобой. Они подозревают нас, пусть их подозрения окажутся справедливыми.
– Говори яснее.
– Мы воры, Ибрагим.
– Мы во… воры?
– Ты пойдешь налево, я пойду направо. Ты украдешь кошелек, и я украду кошелек.
– Понимаю.
– Сделаем так, чтобы нас поймали. Поймали стражники.
– Но нам отрубят руку.
– Ты хочешь, чтобы нам отрубили голову?
Через некоторое время почти в один и тот же момент в разных концах базара поднялся страшный гвалт. Всякий опытный человек сказал бы – это ловят вора. И этот опытный человек не ошибся бы.
Стащив горсть золотых монет из-под носа менялы, Захир бросился бежать, петляя между арбами, ишаками и базарными зеваками. Ни первые, ни вторые, ни даже третьи не спешили его хватать. Истошно, по-бабьи, вопил меняла, расцарапывая щеки крашеными ногтями. На его крик явились стражники. Узнав о краже, они неохотно затрусили вслед за дерзким похитителем.
Захир бежал как олень, и ленивцам в синих халатах нипочем бы его не догнать, когда бы у них не было особого средства. Один из стражников снял с плеча лук, вынул из колчана стрелу – конец ее был обмотан дратвой, при воспламенении дающей много дыма. На углях в мангале первого уличного торговца он эту дратву воспламенил, и через мгновение в небо взмыла нещадно дымящая стрела. Это был знак стражникам, стоящим у базарных ворот. Они тут же стали запирать высокие скрипучие створки.
Еще некоторое время Захир бегал по торговым рядам, пиная ни в чем не виноватые кувшины и переворачивая арбы с горами дынь. Наконец возмущенные его дерзким и бессмысленным поведением торговцы пришли на помощь стражам порядка, и тогда неумелый ворюга был схвачен.
Гордые собой и своими смелыми действиями, стражники потащили его в зиндан, что находился возле дома базарного смотрителя. Ибрагим уже находился там. Вид у него был не самый лучший. Лицо расцарапано, из носа сочится кровь. Глаза грустные. Захир, напротив, чувствовал огромное облегчение – он считал, что самое страшное позади. Им удалось выкрутиться.
По таким мелким делам, как базарное воровство, с судом не тянули.
Обычно наутро городской кади[25] требовал к себе нарушителей. А городской палач уже пил чай в заднем помещении.
Захир боялся только одного: что сейчас в базарный зиндан явятся таинственные люди, следившие за ними весь день, и именем правителя уведут их в другой застенок, откуда не унесешь ноги, оставив на память всего лишь кисть левой руки.
Когда наступил вечер и стало понятно, что бояться нечего, Захир пришел в прекрасное расположение духа. Он даже пытался развлечь своего товарища, ибо тот был необъяснимо мрачен и замкнут. «О чем грустить? – не понимал товарища Тимуров нукер. – Пусть отрубят руку. Но ведь мы избавлены от лап настоящих палачей, от мастеров пыточного искусства, и, стало быть, нет опасности, что мы можем впасть в предательство. Разве жизнь наших друзей и великодушных господ не стоит каких-нибудь пяти пальцев?»
Ибрагим не отвечал на эти слова. Наверно, потому, что его сильно избили, когда ловили, решил Захир и стал подгребать под себя гнилую солому, чтобы улечься спать.
И сны ему снились светлые.
Наутро все произошло так, как он себе и представлял. Криворотый кади, похожий на облезшего стервятника, сидя на каменном возвышении в окружении многочисленных засаленных подушек, выслушал менялу, одного из стражников, спросил у преступника, признает ли тот себя виновным, и объявил приговор. В соответствии с повелениями пророка, законами Хорезма и по природной справедливости, отсечь похитителю чужого имущества левую руку по запястье. Если означенный будет замечен в повторном преступлении подобного рода, отсечь руку, не щадя, по локоть.
Захира вывели на тюремный двор, к нему приблизился размякший от чая палач. Показал, куда и как положить ладонь, сверкнул начищенный металл…
Весело засмеялись толкущиеся на тюремном дворе стражники. Одни делали ставки за то, что этот степняк рухнет наземь после экзекуции, другие делали ставки против, утверждая, что он мужчина крепкий и только прижигание может свалить его с ног.
Рядом с плахой на небольшом огне дымился казан с древесной смолой. Палач подошел к нему, вытащил из него деревянную палку и подозвал к себе только что наказанного. Тот, неуверенно переступая ногами, приблизился. Боли он не чувствовал. Его больше занимал вид валяющейся на плахе кисти, чем вид крови, хлещущей из обрубка.
Палач уверенным движением опытного врача прижег ему кровоточащую рану, и только тогда Захир почувствовал страшную, оглушающую боль. В голове его помутилось, он зашатался, но на ногах устоял.
– Ну, иди-иди, – спокойно, почти по-отечески сказал ему палач, кивая в сторону открытых ворот. И Тимуров нукер, пошатываясь, пошел, оставляя ни с чем всех споривших стражников – и тех, кто был за него, и тех, кто был против.
– Если Ибрагим не появится завтра, нам надо сниматься и уходить, – сказал Тимур. Они с Хуссейном сидели в шатре и без всякого удовольствия пили кумыс.
– Ты хочешь сказать, что мой нукер предал нас?!
– Я всего лишь рассуждаю. Их судили в один день, стало быть, Ибрагиму тоже отсекли руку. Всего лишь руку. Захир ждал его в караван-сарае два дня. Ибрагим не появился. Этому может быть два объяснения: или он не выдержал наказания и умер, или…
Хуссейн нахмурил свои густые брови.
– Я знаю Ибрагима с детства, он был самым верным моим нукером.
Тимур перевернул свою чашу дном вверх, показывая этим, что больше кумыса он не хочет.
– Только из уважения к тебе, брат, я не отдал приказа сниматься еще вчера.
За стенами шатра послышался топот копыт – кто-то на полном скаку мчался по становищу. «Братья» молча посмотрели в глаза друг другу.
Закрывавшая вход занавесь была отброшена. Вбежавший тяжело дышал. Это был Хандал, сегодня был его день командовать в северном дозоре.
– Говори! – велел Тимур.
– Конница. Со стороны Хивы.
– Сколько?
– Три сотни. Или четыре.
Краем глаза Тимур увидел, что Хуссейн пристыженно опустил голову. Кажется, теперь уже не оставалось сомнения в том, кто виноват в происходящем, но правителю Балха было все же трудно смириться с мыслью, что наивернейший его слуга оказался подлой собакой. Он схватился за последний аргумент:
– Но тогда объясни мне, брат, почему Ибрагим не выдал им Захира? Ведь он знал, где тот может скрываться!
Тимур встал, поправляя пояс и висящую на нем саблю.
– Пожалел. Они сдружились, видимо, за эти две луны. По-настоящему. Как мы с тобой.
Хуссейн, кажется, хотел что-то ответить, но времени для разговоров не было.
Текель-багатур был дальним родственником Токлуг Тимура и, как выяснилось, верным помощником Ильяс-Ходжи. Чтобы как следует услужить сидящему в Самарканде наместнику Мавераннахра, он не ограничился посылкой ему известия о месте пребывания его врагов, а решил собственноручно притащить их в его дворец на аркане.
Его воины расположились в нескольких сотнях шагов от становища эмиров и с чувством превосходства и приятными предвкушениями посматривали в его сторону. Они знали, что эта добыча от них не уйдет, знали, что в стоящих перед ними кибитках есть женщины. Возможна и другая добыча – ходили слухи, что при бегстве из Балха Хуссейн вывез большую часть казны.
В становище полным ходом шли приготовления к сражению. Ни о каких переговорах не могло идти и речи. Если бы племянник правителя Хорезма Мунке-багатур имел возможность понаблюдать за этими приготовлениями, он, пожалуй, удивился бы. Большинство людей Тимура и Хуссейна занимались тем, что доставали воду из колодца. Объяснение тут было простое. Сразу после того, как явился из Хивы обезрученный Захир, Тимур велел все кибитки поставить в один большой круг и связать между собой веревками. Это была предосторожность на случай неожиданного нападения. Такая тактика не являлась открытием молодого полководца, великая степь издавна воевала таким образом, и даже некоторые европейские армии впоследствии применяли ее. Достаточно назвать таборитов[26].
Естественно, нападавшие искали пути для того, чтобы преодолеть стены искусственной крепости. И наиболее действенным оружием считался огонь. Тимур, для того чтобы не тушить объятые пламенем повозки, велел облить их водой заранее, чтобы сделать их недоступными для огненных стрел.
Воины прекрасно понимали замысел полководца и поэтому носились с кожаными ведрами по становищу как угорелые.
Время у них было. Мунке-багатур не мог атаковать сразу, нужно было дать отдохнуть лошадям, выдержавшим поход в двенадцать фарасангов.
Тимур и Хуссейн сидели на стоящих рядом лошадях и в просвет между кибитками наблюдали за противником.
– Если бы Аллах шепнул мне на ухо, что среди этих чагатаев скрывается Ибрагим, клянусь тем, кто бы мне это шепнул, я бы дрался с ними впятеро злее!
Тимур ничего не ответил на страстное замечание названого брата. Он не любил красивых слов и цветистых выражений, он думал не теми понятиями, которые можно сыскать в свитке поэта.
Прискакал Мансур и доложил: все уже мокрое и кибитки более напоминают лодки, чем что-либо другое.
– Лейте, лейте, – прикрикнул Хуссейн, – лучше сражаться посреди болота, чем посреди пожарища.
Тимур осторожно положил ему руку на плечо, успокаивая горячность военачальника:
– Если вылить воды слишком много, наши лошади потонут в грязи, ничего нет страшнее, поверь.
Хуссейн отвернулся. Мысль была слишком очевидной, но ему не хотелось проигрывать спор в присутствии этого самоуверенного нукера.
– Пошли! – послышались крики и справа и слева.
Кожаные ведра полетели наземь, воины бросились к оставленным в специально подобранных местах лукам.
Тимур снял с колен свой железный остроконечный сеистанский шлем и покрыл им голову.
Как и предполагалось, первая волна несла на струнах своих луков дымящиеся стрелы, отчего над скачущими поднялась темная дымка. Вместе с этой дымкой первую полусотню сопровождал характерный визг, всегда сопутствующий атаке степной конницы. Сердца русичей, мадьяров, грузин, иранцев, китайцев обливались нестерпимым холодом, стоило ему повиснуть в воздухе. Люди Тимура и Хуссейна и сами могли кричать подобным образом, поэтому остались совершенно спокойны.
Не доходя примерно сотни шагов до колесной крепости, чагатаи по команде сотника сделали дымящийся залп. Через мгновение затрещали деревянные борта кибиток, глухо вздрагивали шкуры, которыми были обтянуты верхние каркасы. Ни одна стрела не пропала даром. Монгольские воины, у кого бы на службе они ни находились, стрелять из лука умели как никто в мире.
Полусотня поджигателей не могла остановиться сразу, еще несколько десятков шагов она летела вперед, прежде чем, погасив часть инерции, стала забирать влево, подставляя свои бока под стрелы защищающихся.
Стрелы чагатаев бессильно шипели в мокром дереве и влажных шкурах, стрелы людей Тимура и Хуссейна со свистом ударили в гущу разворачивающихся всадников. Один залп, второй. После второго Тимур скомандовал:
– Стой!
И правильно сделал: чагатаи уже скакали обратно, попасть в них теперь было трудно, а стрелы приходилось беречь.
Первая атака людей услужливого хорезмийского правителя закончилась полным провалом. Десятка полтора всадников и пять-шесть лошадей корчились на холодном песке. Уносящаяся обратно рать потеряла по дороге еще двоих, пытавшихся некоторое время удержаться в седлах.
– Сейчас они будут думать, – сказал Тимур, пристально глядя в сторону противника.
– Думаешь, они не догадаются, что все дело в воде?
– Сначала они подумают, что взяли с собой плохую нефть, и попытаются напасть вторично. Меня волнует то, что они станут делать после второй отбитой атаки.
По команде Мансура из-за кибиток выбрались несколько человек и бросились вытаскивать стрелы из трупов.
Дальше все происходило так, как и предсказывал эмир Тимур. Правда, не одна, а две атаки с целью поджечь повозочную крепость была предпринята людьми Мунке-багатура. Еще до сорока человек из его войска осталось лежать возле круга, созданного сцепленными кибитками.
– Их предводитель плохо думает, – сказал Тимур после третьей атаки, – и за это его войско будет наказано.
Племянник правителя Хорезма был совершенно сбит с толку, как был бы сбит всякий человек, обнаруживший, что дерево не горит. Но не мог же он вернуться к своему трусливому, а стало быть, и мстительному дяде всего лишь с этим открытием. Тому нужны были Тимур и Хуссейн. Желательно живые. В крайнем случае он мог согласиться на их головы.
Мунке-багатур собрал сотников и сообщил им свой план. Он был столь же решителен, сколь и глуп. Было велено атаковать кибитки, оставив лошадей подле них, с одними саблями и копьями врываться внутрь этого проклятого неподжигаемого стана, а там уж видно будет. Никто из сотников, а все это были люди серьезные и бывалые, от этого плана в восторг не пришел, но вместе с тем они знали, что, если приказ не будет выполнен, не поздоровится не одному лишь ханскому племяннику. Позади была гибель верная, впереди – всего лишь сотня издыхающих от голода барласских собак, и пусть их кибитки не горят, их кровь хорошо наточенным железом, надо думать, отворяется.
Чагатаи пошли в атаку всей своей массой, и был момент, когда могло показаться, что незамысловатый план Мунке-багатура близок к осуществлению. Сплошная линия кибиток лопнула, нападающие градом летели со своих лошадей, ломающих ноги в толчее провала. Но сзади напирали все новые волны. Возглавляемые Хуссейном всадники встретили орущий чагатайский вал сплошной стеной стрел, после чего, вытащив из ножен клинки, столкнулись с ними грудь в грудь.
Сеча вскипела.
В это время Тимур со своими лучшими нукерами покидал становище с противоположной стороны. Но это было не бегство. Обогнув становище, Тимур ударил чагатаям в тыл. Это было сделано вовремя. Хуссейн, подавляемый втрое превосходящими силами, стал шаг за шагом отступать внутрь мешка, в который превратился окруженный повозками лагерь. Его людям грозила неминуемая гибель, совершенно озверевшие чагатаи перебили бы их всех до последнего человека, кажущаяся близость победы придавала им дополнительную ярость и дополнительные силы. Неожиданный удар в тыл вверг их в растерянность. Часть из них просто-таки оказалась в состоянии полной паники. Они кружили по лагерю, вопя что-то нечленораздельное, и гибли почти без сопротивления под клинками Тимуровых нукеров.
Но, надо отдать им должное, паника поразила не всех, во многих сохранилась воля к сопротивлению. Возможно, если бы путь к отступлению был свободен, они, видя бесполезность дальнейшей битвы, ускакали бы в степь. Но им приходилось, подобно рису, кипящему в котле, кружить по смертоносному лагерю без всякого строя и порядка, повсюду попадая под неожиданные удары.
Наконец Мунке-багатур случайно набрел на тот пролом, через который Тимур со своими людьми вышел ему в тыл. Не желая более испытывать судьбу, он крикнул своим телохранителям, что надобно отходить.
Победа!
Лишь первые несколько мгновений оба эмира искренне радовались ей. Но стоило им остановиться и отдышаться, и глазам их открылась воистину печальная картина. Весь лагерь был усыпан трупами. Перепрыгивая через них, повсюду носились лошади без седоков, заглушая крики многочисленных раненых. Но более всего повергало в ужас количество оставшихся в живых воинов – десятка два с половиной, не больше. Тимур охотился и сражался с двенадцати лет, но никогда ему еще не приходилось видеть ничего подобного. Тронув повод, он подъехал к Хуссейну, похожему своей мрачной неподвижностью на статую, и обнял его за плечи, шепча на ухо:
– Спасибо тебе, брат Хуссейн. Эту битву выиграл ты. Если бы не твоя стойкость, наши головы валялись бы среди этих лошадей.
Глядя перед собой на бьющегося в предсмертных судорогах жеребца, Хуссейн сказал:
– Они скоро вернутся, что мы им противопоставим?
Тимур снял шлем и вытер потную голову.
– Бегство.
Глава 8 Яма
Когда видишь человека, бредущего по дороге несчастий, подумай о том, что он, может быть, торит путь для тебя.
Фаттах аль-Мульк ибн-Араби, «Книга благородных предсказаний»С неприятным удивлением в душе осознал Тимур на третий день их горестного путешествия к югу, что он почти в точности повторяет путь незадачливого Хаджи Барласа, два года назад безвозвратно и безвестно сгинувшего в благодатных просторах Хорасана. Не придется ли ему повторить эту незавидную судьбу? Оставалось лишь надеяться на то, что Вседержитель земли и неба не скареден и для каждого человека у него найдется по отдельной судьбе.
Первое впечатление от созерцания поля битвы не обмануло эмиров. Приходилось признать, что они не одержали победу, но претерпели ее. Лишь семеро нукеров, выехавших с Хуссейном из Балха, остались в живых, погибли все шесть жен: какой-то распаленный кровью и жаром сражения зверь в человечьем обличье ворвался в кибитку, где они сбились в одну дрожащую кучу, и перерезал их кривым монгольским ножом. Хуссейн, впрочем, стойко вынес известие о гибели гарема, много сильнее его поразило бы то, что гарем попал в руки чагатаев целым и невредимым.
Сестра правителя Балха не пострадала оттого, видимо, что укрывалась в другой повозке. И это была единственная радость на фоне многочисленных бедствий. Вместо восьмидесяти воинов у эмира осталось всего одиннадцать. Пали, сражаясь, Захир и Хандал, а еще один из вернейших нукеров, Байсункар, был ранен.
Долго предаваться унынию тем не менее эмиры не имели возможности. Поспешно совершив погребальный обряд, уложив в неповрежденные повозки все, что еще представляло ценность, и тех раненых, относительно которых сохранялась надежда на выздоровление, они двинулись к югу, надеясь добраться до Герата. Почему именно туда? Правитель этого города слыл недоброжелателем Токлуг Тимура. Следовательно, люди, претерпевшие большие бедствия от ханского сына Ильяс-Ходжи, могли рассчитывать на его снисхождение.
Надо ли говорить о том, что путешествие вышло чрезвычайно трудным. От холода, голода и невозможности обеспечить нормальный уход один за другим умирали раненые. Вслед за ранеными пошли лошади, начался страшный, необъяснимый падеж. С места кровопролитного сражения эмиры угнали с собой довольно большой табун и хотя бы по этой части считали себя обеспеченными. Судьба распорядилась по-другому. Даже Улджай Туркан-ага пришлось пересесть с повозки на круп мужнина коня. Она, разумеется, не роптала, но Тимуру было стыдно перед своей молодой женой.
Однажды утром, после голодной, безрадостной ночевки, Хуссейн застал своего брата за странным занятием. Тот обрезал со своих доспехов серебряные бляхи и выковыривал бирюзу и гранаты из рукояти своей сабли.
– Что ты задумал? – задал естественный вопрос обеспокоенный родственник.
– Я решил отправить Улджай Туркан-ага в Самарканд. Она поживет у моей сестры. Так же, как моя первая жена.
– Не знаю, что и сказать на это.
Подбрасывая на широкой мозолистой ладони несколько помутневших от старости камешков, Тимур сказал:
– Когда-нибудь мы с тобой будем правителями Самарканда. Отправляя туда свою любимую жену, я поселяю там свой гарем. Пусть с этого и начнется наше возвращение.
Хуссейну понравилась уверенность брата, но оставались некоторые детали…
– Но ведь не сам ты повезешь ее туда?
– Мне там появляться нельзя.
– Правильно. Но тогда кому ты можешь доверить это дело? Тут надо подумать.
Тимур пожал плечами:
– Чего тут думать? Байсункар болен, значит, поедет Мансур.
– Это хорошо, что ты ему можешь довериться, но путь неблизкий, и ему потребуются деньги.
Тимур еще раз подбросил в руке добытые ценности и насупился. Он и сам понимал, что этого мало.
Хуссейн тоже задумался, у него было лицо человека, мысленно что-то взвешивающего. Какие-то неизвестные «за» и «против».
– Погоди.
Хуссейн подошел к своему коню и из переметной сумы достал тряпицу. Развернул ее, на свет показался дорогой перстень со смарагдом. Тимуру показалось, что он его где-то видел.
– Возьми, пусть продаст, этого должно хватить. Только скажи ему, чтобы не продешевил.
Тимур все силился вспомнить, где он видел это украшение. Ах да! Это был тот самый перстень, который Хуссейн вручил своему касса-хану в благодарность за хорошее исполнение касыды Кабул-Шаха. Сколь ни печален был эмир Тимур, но он едва удержался, чтобы не расхохотаться. Ловок, оказывается, брат. Надо понимать, что и само выступление подготовил он. До такой степени мечтал породниться. Певец спел, мгновение подержал в руках перстень, а после хозяин, не привыкший разбазаривать ценности, отобрал его обратно.
– Ты смеешься, Тимур?
– Я просто радуюсь тому, что теперь мне не придется беспокоиться о судьбе моей жены.
На следующий день пало еще несколько лошадей. Жене эмира, Мансуру и двум охранникам выделили лучших из оставшихся, так что, когда Улджай Туркан-ага скрылась со своими сопровождающими за ближайшими барханами, картина вырисовалась удручающая. Под водительством двух эмиров осталось войско, состоящее всего лишь из десяти человек. Самое неприятное было в том, что лошадей осталось еще меньше. Всего семь.
Молча собрались в дорогу. Те, кому по жребию выпало путешествовать пешком, взялись за стремена руками, без всякого воодушевления ожидая команды к началу похода. Человеку, сразу из «пеленок» пересаживающемуся в седло, пешее положение представляется ненормальным и невыносимым.
Наконец отправились. Из-за того, что приходилось соизмерять скорость с силами безлошадных путников, передвижение происходило шагом. За день преодолели не более трех фарасангов. На ночь остановились у степного колодца, поужинав остатками того, что оставалось в переметных сумах, легли спать. Трудно сказать, что приснилось братьям Хуссейну и Тимуру в эту ночь, но то, что они увидели, проснувшись следующим утром, было страшнее любых снов.
Куда-то исчезли еще четыре лошади. Тимур, постукивая плеткой по сафьяновому голенищу, долго и молча смотрел на открывшуюся картину. Хуссейн был не в силах даже вытащить из-за пояса плетку.
Вскоре выяснилось, что лошади исчезли не сами по себе, вместе с ними пропали и трое нукеров. Что интересно, это была та тройка, которой предстояло путешествовать пешком сегодня. Один из нукеров Тимура обошел место ночевки. За колодой, из которой здесь когда-то поили овец, он нашел изрезанный бурдюк из козлиной кожи.
– Они обернули кожей копыта лошадей, господин.
Тимур и сам догадался и поэтому ничего не ответил.
Хуссейн взял из рук нукера изрезанный бурдюк и задумчиво помял его в руках, потом бросил на землю и разразился проклятьями.
Хотел Тимур посоветовать ему, чтобы берег силы, но не стал, не до разговоров с бушующим названым братом ему стало, какая-то непонятная пелена опустилась ему на душу. Всегда считал он наихудшим из грехов предательство, но как же жить, если оно окружает со всех сторон? Покачнулась в тот момент его вера в высшую силу, ведущую его по жизни.
Байсункар молча смотрел на него, ожидая его слова. Вид Хуссейна, яростно сражающегося с останками бурдюка, их не интересовал. Тимур прекрасно понимал, чего они от него хотят, но у него не было слова для них. Неоткуда было их зачерпнуть. Он хотел вознести мысленную молитву, но сердце не могло ее напитать кровью веры.
Это был опасный момент. Эмир не хотел показать своей слабости верным нукерам, ибо неверящему неизбежно перестают верить. Но у него не было силы изобразить силу.
Чем бы закончилась эта немая сцена у заброшенного колодца, неизвестно, если бы судьба не вмешалась в нее. На это вмешательство первым обратил внимание эмир Хуссейн. Он вдруг перестал топтать каблуками предательскую козлиную шкуру и крикнул, вытягивая руку на юг:
– Смотрите туда!
Все обернулись.
На горизонте плоского пространства, окружавшего место стоянки, появились крохотные, муравьиного размера фигурки.
Не всегда неожиданные встречи бывают благодатным даром судьбы, но в данном случае уклониться было невозможно. Как ни странно, Тимур успокоился. Провидение протягивало ему руку, это было ему очевидно, и воистину не важно, что в конце концов может оказаться в этой руке.
Настроение вождя передалось и его нукерам, и они встретили наплывающую на них конную толпу вполне спокойно.
Хуссейн расстался наконец с многострадальным бурдюком и, подойдя к Тимуру, встал рядом с ним. Если быть точным – даже на полшага впереди. Надо, чтобы приближающиеся незнакомцы сразу, с первого взгляда определили, кто тут эмир, а кто нукер.
– Не меньше пяти десятков, – сказал Хуссейн. И без знания цифр и чисел было понятно, что ни о каком сопротивлении речь идти не может. Неграмотного Тимура больше, чем численность неизвестных всадников, волновала их одежда. Когда они приблизились настолько, что их можно было рассмотреть, он с некоторым облегчением сказал:
– Туркмены.
Облегчение в его голосе относилось к тому факту, что не чагатаи.
Предводитель всадников, видимо, отдал команду, и они стали растягивать свой строй вширь, охватывая стоянку эмиров гигантскими клещами.
– Они думают, что мы захотим бежать, – усмехнулся Хуссейн.
– Я бы тоже так себя вел.
И вот совсем уже подъезжая, перевели коней на шаг.
Остановились.
Кто у них главный, определить было легко. В самом центре дуги, охватившей лагерь эмиров, сидел на превосходном ахалтекинском жеребце краснолицый толстяк. Борода лопатой достигала пояса, расшитого серебром, на голове высилась белая баранья шапка. Все остальные были в черных.
– Кто вы такие? – спросил он по-чагатайски.
Ответа не последовало.
Всадник в белой шапке ударил пятками сапог своего коня в подбрюшье и подъехал шагов на двадцать поближе.
– Кто без моего соизволения топчет мои пески и пьет воду из моих колодцев?
Произнося эту риторическую формулу, щедробородатый туркмен острыми черными глазами всматривался в обоих эмиров. Вдруг по лицу его пробежала искра удовлетворения.
– Как я рад, – закричал он, – ведь перед нами сам правитель достославного города Балха, я не ошибся, эмир Хуссейн?
– Ты не ошибся, – мрачно сказал эмир.
– И ведь не ошибся, хотя тебя трудно узнать. Что беды и несчастья делают с людьми! Смотрите, воины, что происходит с человеком, от которого отвернулся Аллах! А как ты был высок и недоступен на своем троне!
Краснолицый откинулся в седле и хрипло захохотал. Захохотали и воины.
Перестал смеяться туркмен так же резко, как и начал. Теперь он обратил свой взгляд на второго эмира:
– Кто же сопутствует тебе, о владетель Балха, в твоих огорчительных странствиях, а?
Названые братья не сочли нужным отвечать.
– А я и сам догадаюсь. Не благороднейший ли правитель Кашкадарьинского тумена Тимур, Тарагаев сын, перед нами, а?
И краснолицый снова расхохотался.
Тимур наклонился к уху Хуссейна и спросил:
– Кто это?
Хуссейн не успел ответить, его опередил новый вопрос носителя белой бараньей шапки:
– Что вы там шепчетесь, благородные эмиры? Клянусь всеми четырьмя сторонами света, я и об этом догадаюсь. Ты спрашиваешь у своего названого брата, кто я такой. Не будем отягощать ответом владетельные уста. Я сам тебе отвечу, Тарагаев сын. Меня зовут Али-бек Тшун-Гарбани[27], я хозяин здешних мест. Ты не слышал обо мне? Я постараюсь, чтобы ты надолго запомнил встречу со мной. Эй!
По этой команде в воздух взвились волосяные арканы.
Али-бек, развернувшись, поскакал прочь от колодца. Хуссейн, Тимур и их люди вынуждены были брести вслед за ним пешком с прикрученными к телу руками.
Уже к концу дня эмиры выяснили, что туркменские тюрьмы ничем не отличаются от кешских и самаркандских. Зиндан в селе Махан, где главным был краснолицый Али-бек, представлял собою глубокую глиняную яму с вертикальными, в десять – двенадцать локтей стенами. Дно голое, утрамбованное. После двухдневного пешего перехода возможность обрести хотя бы такое ложе казалась благом.
Спущенные на веревках пленники кое-как разместились. Было тесно, но терпимо. Оставалось радоваться бегству троих человек позапрошлой ночью. На Востоке еще в древнейшие времена поняли, что худшим врагом человека является человек, особенно если ты находишься вместе с ним в ограниченном пространстве на более или менее длительный срок. Ты не можешь разогнуться, ты обязан вдыхать его отвратительные испарения, он впивается локтями или коленями тебе в живот и в спину. И так день за днем, неделя за неделей. Все обреченные на взаимное безвылазное сидение на дне затхлой дыры или тихо сходят с ума, или превращаются в бешеных зверей.
Тюрьма в селе Махан оказалась достаточно просторной для девяти пленников. Кое-как они устроились на глиняном полу, предвкушая глубокий сон. Но оказалось, что они рано радовались. Наверху, над краем ямы, появилось чье-то плохо различимое лицо, и раздалось отвратительное хихиканье. Сначала Тимуру показалось, что это пришел позлорадствовать какой-нибудь местный убогий негодяй.
Тимур ошибся.
Хихикающее существо вытянуло над ямой руку. Кажется, эта рука что-то держала в своих землистых пальцах. Пальцы разжались, и Тимур услышал, как что-то шлепнулось ему на сапог. Он сразу понял, в чем дело, – скорпион! Эмир не растерялся и каблуком другой ноги раздавил насекомое.
Но то было лишь начало. По приказу Али-бека пленников круглосуточно засыпали насекомыми. Не только скорпионами. В ход шла всякая нечисть, крупная и мелкая, всякая, даже такая, названия которой сидящие на дне ямы не знали.
Интересно, что более всего в этом пыточном развлечении усердствовали дети. Их можно было понять, ведь это очень весело, ты притаскиваешь из дому или из конюшни пригоршню каких-нибудь жуков, швыряешь вниз, и там начинается бешеное шевеление и раздаются сдавленные вопли здоровенных дядек.
Скорпионы и каракурты в это время года неядовиты, но когда тебя осыпают ими сверху, невольно охватывает ужас. Реальные неприятности доставляла мелкая кровососущая, неядовитая гадость. В полумраке тюремного дна ее трудно было отыскать и раздавить. Она пропитала одежду, набилась в обувь, засела в бородах и бровях. Почти невозможно было уснуть, мелкие болезненные укусы нарушали самый глухой сон.
Уже на второй день пришлось сорвать с себя одежду, ибо она не столько защищала от насекомых, сколько предоставляла им жилище. Теперь все сидели голые, почти сплошь покрытые ноющими расчесами.
Самой страшной пыткой была невозможность ответить на вопрос, сколько все это будет длиться.
– Что ему от нас надо? – рычал Байсункар, раздирая ногтями искусанные лодыжки.
– Денег, – отвечал Тимур.
– Денег?
– Он знает, что за нами охотится Ильяс-Ходжа, и, поймав нас, очень обрадовался. Он надеется нас выгодно продать. Мы будем сидеть здесь, пока он не сговорится с царевичем о цене.
– Но еще неделя, и мы выйдем отсюда без кожи.
– Его не расстроит, если мы останемся без головы.
Еще в первый день заключения Хуссейн объяснил Тимуру, откуда он знает Али-бека и почему тот к нему так неравнодушен. Оказывается, года полтора назад у того вышел спор с его соседом Мубарек-беком относительно каких-то пастбищ. Не умея договариваться и не желая устраивать кровопролитие между родами, старейшины постановили обратиться к человеку постороннему, уважаемому и незаинтересованному, с просьбой разрешить этот спор по справедливости. На свою беду, владетель Балха согласился это сделать. Он присудил пастбища Мубарек-беку.
Выслушав этот рассказ, Тимур заметил:
– Все ясно. Схватил он нас затем, чтобы нажиться. Осыпает насекомыми, чтобы отомстить за твое справедливое решение. Плохи наши дела.
Но даже говоря эти слова, в глубине души Тимур не унывал. Приступ неуверенности в себе, который он испытал у степного колодца, прошел бесследно. Чуть ли не со смехом вспоминал теперь о нем сын Тарагая.
Между тем один из нукеров скончался – то ли от потери крови, то ли от невыносимых страданий, то ли от безысходности, а скорей всего – от всего вместе. Об этом снизу было сообщено тому хихикающему негодяю, что бросил в яму первого скорпиона. Он же раз в день приносил несколько сухих ячменных лепешек. Услышав о смерти одного из заключенных, хлебонос исчез, и через некоторое время наверху появилась широкая физиономия самого Али-бека и послышался его недовольный голос:
– Кто тут у вас притворяется мертвым?
Ему указали на безжизненное тело. Но сверху трудно было разглядеть что-либо в вонючей полутьме. Али-бек велел своим людям опустить вниз веревки, дабы можно было поднять умершего наверх.
– А вы что там сидите голые? Баню себе устроили, да? – захохотал Али-бек и с этим хохотом и удалился.
Несмотря на то что хозяин Махана выказал полнейшее презрение к тем, кто сидит в его зиндане, насекомых стали бросать реже. Очевидно, краснолицый рассудил, что за живых эмиров Ильяс-Ходжа заплатит больше, чем за мертвых, так что с убийством спешить не имеет смысла.
И потянулись бесконечные дни. Заключенным в глиняной ступе казалось, что и само число их бесконечно.
Глава 9 Висельники
Темна, тепла самаркандская ночь. Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови. Сергей Бородин, «Звезды над Самаркандом»Высокий глухой дувал, огораживавший громадный сад, принадлежащий Джафару ибн-Харани, богатейшему торговцу палийскими пряностями, в ярком свете луны казался белым. Звенящая, сверхъестественная тишина стояла в плавно изгибающемся канале переулка. Могло показаться, что это место просто-напросто необитаемо. Или служит обиталищем теней: на белой стене бесшумно появились три одинаковые фигуры. У всех были высоченные колпаки, расширяющиеся к земле одежды, в руках они несли посохи. Одинаково переваливаясь с ноги на ногу – так люди не ходят, – они проплыли вдоль дувала к тому месту, где в нем имелась укромная калитка.
Три дервиша, единым махом перебежав переулок, сгрудились возле нее. Один из посохов несколько раз условленно ударил в одну из медных полос, которыми была обита калитка. Удары посоха были внутри поняты правильно, более того, их ждали: калитка отворилась почти мгновенно. Три дервиша утонули в открывшемся проеме, три отдельные тени слились с основным телом ночи.
И уже через мгновение ничто в переулке не напоминало о таинственном видении. И даже если бы нашелся случайный свидетель его, то, протерев глаза, он, скорей всего, решил бы, что ему померещилось.
В доме торговца пряностями собрались богатые горожане. Купцы, муллы и даже несколько высокопоставленных городских чиновников. В частности, верховный мераб[28] Абу Сайд и помощник городского казначея Султанахмед-ага. Они сидели полукругом в укромном покое, убранном двумя слоями туркменских ковров. Посреди стояли подносы с фруктами и сладостями и несколько серебряных кумганов с щербетом[29]. Верховный мераб и владелец четырех оружейных лавок Джамолиддин пользовались услугами превосходных пешаварских кальянов. Под белым потолком висело полупрозрачное облако сладковатого запаха.
Внезапно откинулся один из ковров в центре, открывая дверной проем, в котором появился незнакомый присутствующим молодой человек с рябым лицом, редкой бородой и угрожающе поблескивающими глазами. Одет он был в лохмотья, в одной руке у него был посох, в другой он держал треугольный колпак. Оглядев собравшихся, он отвесил им поясной поклон. Поклон был выполнен по всем правилам, но что-то в нем не понравилось богатейшим горожанам, они и сами бы не сумели объяснить, что именно.
Следом за странным гостем появился хозяин. Сделав жест в сторону дервиша, он сказал:
– О, лучшие из граждан нашего благодатного и несчастного Самарканда, я выполнил вашу просьбу и привел к вам того, с кем вы хотели поговорить. Это Маулана Задэ, некогда лучший ученик нашего медресе, а ныне самый разыскиваемый чагатаями сербедар.
Столь лестно отрекомендованный Маулана Задэ снова отвесил нижайший поклон и сказал:
– Более чем польщено сердце мое возможностью встретиться со столь достойными и могущественными людьми.
Обмен приветствиями состоялся, но холодок легкого недоверия продолжал оставаться в атмосфере укромного убежища.
Джафар ибн-Харани указал гостю место, которое он мог бы занять. Тот с охотой уселся, принял чашу с напитком, аккуратно отхлебнул, обвел внимательным, острым и почти веселым взглядом всех собравшихся. Те дивились, как это такому оборванцу и молокососу удается выглядеть столь уверенным в себе. Первая мысль, конечно, – за ним стоит какая-то сила. Это наверняка, но какая?
– Повторяю, я весьма и весьма польщен приглашением в столь высокое собрание…
Гость не закончил свою мысль, но всем стало ясно, что он предлагает переходить к делу. По меркам обычного порядка вещей это было неслыханно, непочтительно и шло вразрез с правилами поведения, но никто не возмутился, хотя почти все затаили в глубине души явное неудовольствие.
Промолчали потому, во-первых, что встреча эта была уж ни в коем случае не обыкновенным чайханным заседанием, а во-вторых, все были наслышаны о характере этого бывшего ученика медресе. Много им рассказал о своем питомце мулла Али Абумухсин, присутствующий здесь.
Одним словом, молодому таинственному нахалу было вынесено молчаливое прощение за грубое нарушение правил застольного поведения и неуважение к старшим по положению и возрасту.
Первым заговорил верховный мераб, высокий худой старик с неестественно красным носом. По поводу этого носа в городе шутили, что он оттого так красен, что в арыках, главным смотрителем которых является Абу Сайд, течет отнюдь не вода, а настоящее вино.
– Ферганские купцы принесли весть, что якобы чагатайский хан находится при смерти.
– Он уже не первый год болеет, какая же здесь новость! – резко сказал Маулана Задэ, отхлебывая из чаши.
– О его прежних болезнях мы слыхали тоже, но сейчас – другое. Он на самом деле совсем плох.
– Вы хотите спросить меня, хорошо это или плохо? На этот вопрос ответить очень легко. Я от всей души желаю смерти этой чагатайской собаке, и день, когда он перестанет обременять землю, будет для меня праздничным.
Мераб покашлял и пожевал губами, ответ молодого богослова, несмотря на всю определенность, показался ему уклончивым. Чтобы спасти разговор, грозивший завять в самом начале, хозяин дома вмешался в него:
– Что касается Токлуг Тимура и его перехода в мир иной, все мы думаем одинаково, тут обсуждать нечего. Интереснее поговорить на другие темы.
– Назовите мне их, я пришел, чтобы говорить.
– Нам кажется, что Ильяс-Ходжа покинет Маверан-нахр, когда эти сведения дойдут до него.
Маулана Задэ пожал плечами:
– Мне кажется, они до него уже дошли. Конечно, сынок поскачет за реку Сыр, как это бывало всякий раз, когда здоровье Токлуг Тимура ухудшалось. Но что с того? Нам что с того? Чагатайский гнет от этих перемещений царевича не слабеет.
Присутствующие закивали: гость говорил правильно и смотрел в корень дела.
Али Абумухсин поднял руки, унизанные перстнями, и огладил острую седую бороду.
– Аллах подсказал мне, что час близок, но надобно же и нам самим сделать те шаги, которые надо сделать.
Маулана Задэ почесал грязным пальцем изрытую оспинами, поросшую редкими волосами щеку.
– Не знаю, что вам сказать. Вы все прекрасно знаете, что уже два года я занимаюсь тем, что вы называете «делать шаги». Аллах сказал свои слова уже давно, в тот день, когда чагатаи пришли на земли наших предков. Я их услышал раньше вас, вы же долго не хотели слышать этих слов. Вы перед лицом чагатайского наместника называли меня бешеной собакой.
Некоторые из присутствующих потупились.
– Вы надеялись сохранить свои лавки и свои деньги, теперь вы стали думать по-другому, потому что почувствовали, что сила теперь стоит не только за степняками. И хотя у них сил больше, несмотря на это, мы убиваем их уже сейчас. И то, что Ильяс-Ходже в каждом видится сербедар, – хорошо.
В спертом воздухе тайного убежища установилась тяжелая тишина.
– Забудем о прошлом, Маулана Задэ, станем думать о будущем, – сказал ковровщик Джавахиддин.
К голосу купца присоединился мулла:
– Ты недоволен тем, как мы вели себя, но с нашей точки зрения твое поведение тоже могло внушать нам… недоверие.
Маулана Задэ немного откинулся назад и картинно выпучил глаза:
– Недоверие?
Али Абумухсин сухо кивнул:
– Здесь собрались люди, на плечах которых лежит забота о благосостоянии Самарканда, без нас этот город мертв, он станет сборищем бездельников, безбожников и ротозеев, которые через несколько месяцев перемрут с голоду. Мы заботимся о воде, хлебе, одежде, мы заботимся о душе нашего народа. Ты бросил нам обвинение в том, что среди этих забот мы не забываем и свой карман. Да, отвечу я тебе, не забываем, но где, скажи, ты видел, чтобы было по-другому?
Маулана Задэ криво улыбнулся, как бы подтверждая, что да, не видел.
Мулла продолжал:
– Мы – хорошие пастухи своего стада. Хочешь, я тебе объясню, чем хороший пастух отличается от плохого?
– Объясни, учитель.
Али Абумухсин не обратил внимания на иронию, неуловимо мелькнувшую в интонации бывшего ученика.
– Хороший пастух заботится о своих овцах, вовремя выгоняет на пастбище, вовремя поит, а когда приходит время стрижки, правильно стрижет. Что касается пастухов плохих, то их есть два вида. Первые не удовлетворяются шерстью, которую дают им овцы, но сдирают с них и кожу. Так ведут себя глупые и алчные правители. Но есть и кое-что похуже. Есть пастухи, которым не нужны ни шерсть, ни шкура, они перерезают горло барану, чтобы просто напиться крови.
Маулана Задэ отставил чашу и оперся ладонями о колени, глядя в пол.
– Ты хочешь сказать, о учитель, что я и мои люди похожи на таких пастухов?
Мулла почувствовал, что перегнул палку.
– Видит Аллах, я не хочу, чтобы ты стал похож на такого пастуха.
В разговор вступил верховный мераб, несколько нервно перебирая четки и почесывая переносицу:
– Ты должен помнить, что разлад между нами произошел не по нашей вине, и деньги и покровительство мы тебе предлагали искренне…
– В обмен на то, чтобы я ничего не делал!
– Не так, мы хотели, чтобы ты действовал разумно, не навлекая гнев чагатайский на тех, кто еще не сделал своего выбора. Есть люди, которые живут и думают медленнее тебя.
Маулана Задэ всплеснул руками:
– Но сколько же можно ждать! Я не могу вечно зависеть от мнения людей, желающих, с одной стороны, быть сербедарами, а с другой стороны, не желающих помнить, что сербедар означает висельник. То есть человек, идущий на все, рискующий всем ради достижения благородной цели.
Джафар ибн-Харани, тяжело вздохнув, сказал:
– И от этих людей ты бросился к другим, ты свел дружбу с Абу Бекром.
– Свел.
– Но он же простой неграмотный трепальщик хлопка.
– Но при этом умный, решительный и бесстрашный человек. Его авторитет среди ремесленного люда непререкаем.
– Это-то и плохо, – пробормотал про себя верховный мераб.
Хозяин дома продолжал:
– А Хурдек и-Бухари?
– Что Хурдек и-Бухари?
– Ты не можешь не знать, что это за…
Маулана Задэ рассмеялся:
– Разбойник, обыкновенный разбойник с большой бухарской дороги. Вернее, нет, не обыкновенный, он великолепный, неуловимый, хитроумнейший разбойник. Из лука он стреляет лучше всех в Мавераннахре!
Джафар ибн-Харани недовольно поморщился:
– Но это же…
– Я еще не все о нем сказал. Прошу заметить, что стрелы свои он выпускает только в чагатаев.
– А в кого он будет их выпускать, когда чагатаев не станет? – опять себе под красный нос проговорил верховный мераб, но на этот раз Маулана Задэ отлично расслышал его слова. Удивление отразилось на его непривлекательном лице.
– Вот вас что заботит!
Сухощавый старик качнулся на месте, скрипя закостенелыми суставами.
– Не гневайтесь, верховный смотритель арыков и каналов. Не станем углубляться в будущее, это бесполезно, как и размышление о вреде, который могут принести шипы еще не выросших роз.
Али Абумухсин, лучше других видевший, насколько близко подошел разговор к обрыву ссоры, вмешался с несвойственной ему торопливостью:
– Верно, верно. Сначала надо выгнать чагатаев.
– В этом мы едины. Речь, по-моему, идет только о цене, которую придется за это уплатить, – сказал ковровщик Джавахиддин.
Маулана Задэ опять потянулся к чашке с щербетом.
– Если кто-то хочет узнать, что думаю на этот счет я, то вот что скажу: любой ценой!
Среди присутствующих преобладали люди купеческого сословия, а те, кто не были купцами, все равно отлично умели считать деньги. Для них это заявление было совершенно неприемлемым и по сути, и по форме.
– То есть как – любой ценой?
– Не понимаю, у всякой вещи есть цена…
– Так не бывает!
– Так нельзя!
Маулана Задэ эта вспышка беспредметной алчности явно забавляла.
– Я хотел сказать, что за такое дело, как изгнание чагатаев из Мавераннахра, можно заплатить сколько угодно денег, все равно сделка окажется выгодной.
Джафар ибн-Харани подлил гостю сладкого напитка:
– Твои слова выглядят слишком расплывчатыми, отвлеченными, а мы – люди земные, мы все привыкли щупать руками.
– Но ум ведь тоже на что-то дан человеку Аллахом, в его возможностях ощупать то, что не в силах ощутить самые тонкие пальцы.
– Это все слова.
– И это говоришь ты, о учитель, сам учивший меня приемам словесного убеждения?
– Учил, не скрою, и вижу, что усвоил ты многое, но не совсем правильным образом применяешь усвоенное.
Маулана Задэ развел руками:
– Послушай, сейчас мы не станем обсуждать, по скольку тысяч дирхемов каждый из достойнейших граждан Самарканда, присутствующих здесь, должен будет внести на… чтобы в конце концов сбросить ненавистное владычество. Важно, чтобы все поняли – без этого не обойтись. Воистину, это важно. – Маулана Задэ провел руками по своей редкой бороденке.
Али Абумухсин пристально смотрел на своего ученика, как бы стараясь понять, что все-таки у того на уме.
– Но цена – это не просто кошель с монетами.
Маулана Задэ ответил пристальным взглядом на пристальный взгляд.
– А что еще?
Мулла вздохнул, он собирался с силами, он был неуверен, что стоит заводить этот разговор.
– Я слушаю с вниманием и почтением, о учитель!
– Ты пришел на нашу встречу в облачении шиитского дервиша.
Маулана Задэ в подтверждение этих слов поднял колпак, лежавший рядом с коленом.
– Но ходят слухи – я буду рад, если они окажутся злонамеренными, – что и другие дервиши, не только шиитские… проще говоря, болтают, будто ты знаешься даже с марабутами[30].
Ни для кого из гостей сказанное не было новостью, но повергло всех в оцепенение.
– Что ты скажешь на это, Маулана Задэ?
Положив треугольный колпак на место, молодой гость медленно похлопал себя ладонями по рябым щекам.
– Скажу, что Самарканд – большой город и в базарной толпе здесь можно встретить кого угодно.
Али Абумухсин усмехнулся:
– Думаю, ты сам понимаешь, что твой ответ выглядит уклончивым.
– Понимаю. И дам другой, но уже готов к тому, что и он вам покажется не слишком прямым.
– Но тем не менее говори.
– Я всем сердцем ненавижу чагатаев.
Помощник городского казначея вытащил изо рта мундштук кальяна и сказал:
– Понимаю, из этих слов следует непременный вывод: для того чтобы чагатаев прогнать, наш гость готов пойти на союз с кем угодно, даже с марабутами.
Маулана Задэ обвел присутствующих немигающим взором.
– Хоть с самим шайтаном.
– Вот разговор о цене и закончен, – прошептал верховный мераб и опять скрипнул суставами.
Туго соображающий ковровщик Джавахиддин вмешался в разговор и забормотал, пытаясь заглянуть в глаза то хозяину дома, то помощнику казначея, то верховному мерабу:
– Но ведь я слышал, что марабуты – убийцы. Все до единого. И еще я слышал, что они водили дружбу с самим Старцем Горы[31].
– Вы правы, благородный Джавахиддин, – улыбнулся Маулана Задэ, – но Старца Горы монголы давно повесили за ноги, а его ассасинов[32] рассеяли. Марабуты, весь их таинственный орден, дико ненавидят всех монголов, хоть чагатаев, хоть ордынцев, не будем же это ставить им в вину.
Абсолютное молчание было ответом на эти слова.
Глава 10 Яма (продолжение)
Пускай на тебя ополчатся великие мира князья, Не унывай. Пускай предадут тебя те, про кого ты сказал бы «друзья», Не унывай. Пускай ты не видишь просвета в волнах бесконечного зла, Не унывай! И даже когда ты увидишь, что смерть за тобою пришла, Не унывай! Кабул-Шах, «Разговоры душ»Что может сниться человеку, лежащему на дне затхлой глиняной ямы, облепленному кровососущими паразитами и собственными испражнениями, потерявшему счет погибшим друзьям и счет дням, что может сниться такому человеку?
Тимуру снилась бабушка.
Они сидят рядом возле очага в полутемной юрте, больше никого нет. Ни рядом, ни, кажется, во всем белом свете. Бабушка медленно и тщательно сшивает кожаной ниткой два куска овчины и ведет рассказ. Голос у нее хрипловатый, мужской, но, несмотря на это, ласкающий детское сердце. Рассказ, это Тимур знает точно, касается его. Весь, от начала и до конца, посвящен ему. И это даже не рассказ, а длинное, подробное предсказание. По ходу этого рассказа о будущем Тимур то ужасается, то трепещет, то удивляется. Не может быть, чтобы именно ему досталась такая необычайная и возвышенная судьба. Да, именно она, бабушка, раньше всех, раньше шейха Шемс ад-Дин Кулара рассмотрела в своем внуке нечто необыкновенное. Раньше святого отшельника Амир Халала, раньше всех предсказателей и пророчиц.
Слушая ее, маленький Тимур дает себе слово запомнить все, что услышит, он понимает, как это важно. Он даже знает, что уже неоднократно видел этот сон, знает, что, когда просыпался, в памяти не оставалось и следа от бабушкиных предсказаний. Только хрипловатый голос и ощущение тепла и любви, исходившие от бабушки.
Получится ли в этот раз?
Мальчик Тимур закрывает глаза, чтобы сладко заснуть там, в темной юрте далекого детства. Эмир Тимур открыл их, чтобы, посмотрев вверх, увидеть над собой висящую в воздухе змею. Он среагировал мгновенно, вскочил на четвереньки и крикнул:
– Не спать!
Остальные приходили в себя медленно.
– Не спать, не спать! – кричал эмир, внимательно следя за тем, как истязатели, собравшиеся там, наверху, выдвигают шест с извивающейся на нем змеей. Гюрза? Эфа? Гадюка? Им мало тарантулов и каракуртов, теперь они решили перейти с яда насекомых на змеиный яд!
И что они там еще бормочут наверху?
Над краем ямы появилось несколько голов, и все вместе они истошно шептали:
– Тише, тише!
Шест со змеей на конце стал опускаться в глубь ямы. Проснувшиеся арестанты повскакивали со своих мест и встали, прижавшись спинами к глиняным стенам.
Тимур внимательно следил за шестом и первый отметил, что змея не шевелится. Они что, решили забрасывать яму дохлыми змеями? И сразу вслед за этой мыслью его кольнула догадка – это не змея.
А сверху продолжали ползти голоса:
– Тише, тише!
«Так это карачак», – удивленно и неуверенно подумал Тимур. Так называлось специальное тюремное устройство по добыванию из ямы заключенных, которые сами не в состоянии двигаться.
– Что вам надо? – негромко, но отчетливо спросил торчащие наверху головы Тимур.
– Опоясывайтесь, господин, опоясывайтесь! – последовал ответ.
Вскоре все семеро пленников, облаченные после купания в чистые халаты, ели чечевичную кашу с бараниной и запивали горячим чаем.
Хозяин юрты, небезызвестный Мубарек-бек, сидел во главе стола, но сам ничего не ел, а лишь посасывал мундштук кальяна. Ему было лет пятьдесят, у него был вид бывалого и даже свирепого человека. Красавцем его трудно было назвать – два рваных шрама, один на лбу, другой на щеке, обезобразили его лицо. Но не душу, о чем свидетельствовало то, что он был способен помнить сделанное ему добро.
Свойственно было ему и великодушие. Благодарность он испытывал только лишь по отношению к эмиру Хуссейну, а от ужасающего сидения в тюремной яме спас всех, кто там находился. Если освобождение Хуссейна Али-бек мог понять и отчасти простить, то вызволением из неволи Тимура Мубарек-бек навлекал на себя не только бешеный гнев хозяина селения Махан, но и, возможно, месть всесильного чагатайского царевича.
Когда первый голод был утолен и недавние пленники осоловело развалились на чистых кошмах, Тимур задал великодушному спасителю мучивший его вопрос.
– Спрашиваешь, зачем я это сделал? – спокойно переспросил Мубарек-бек.
Лежавший рядом эмир Хуссейн удовлетворенно похлопал себя по вздувшемуся животу и засмеялся:
– Добро, надо делать добро, брат мой названый! Добро сделанное всегда к человеку возвращается.
Хозяин юрты провел черным пальцем по шраму, рассекавшему щеку, а потом по второму, рассекавшему лоб.
– Не ищи объяснений глубоких и таинственных, такие поиски не рождают ничего, кроме недоверия.
Разумными показались Тимуру слова Мубарек-бека, и он в знак понимания и согласия склонил голову.
– Вы – враги Али-бека, Али-бек – мой враг, значит, вы – мои друзья. А иметь возможность выручить друзей из беды и не сделать этого… – Мубарек-бек сделал движение рукой, заканчивающее мысль. Потом он продолжил говорить. – Позволь мне дать тебе совет, – обратился он к Тимуру.
– Выслушаю со вниманием.
– Ты молод, но уже недоверчив. Прирастая годами, удержись от того, чтобы прирастать недоверием.
– Благодарю тебя, Мубарек-бек, и за спасение, и за совет. Скажу еще вот что: сегодня мой дом – седло моего коня, но настанет время – и мой дом станет велик, и ты должен знать, что в этом доме ты будешь первый гость.
Пожилой туркмен совершенно серьезно кивнул в знак согласия. Он и не подумал отнестись к самоуверенной речи молодого степняка как к пустой похвальбе.
Через два дня, когда пленники Али-бека несколько окрепли, Хуссейн и Тимур решили, что пора покинуть гостеприимный кров Мубарек-бека по крайней мере для того, чтобы не навлечь на него гнев Ильяс-Ходжи и самим не подвергаться лишней опасности быть захваченными людьми царевича. Спаситель честно им сказал, что, если перед его становищем появится чагатайская конница, он не сможет их защитить и вынужден будет выдать.
Эмиры получили в подарок от благородного владетеля лошадей, одежду, оружие и в придачу шестерых воинов из числа тех молодых людей, что решили попытать судьбу под началом известных степных героев, эмиров Хуссейна и Тимура.
Выехали еще до света. Направление решили взять на юго-восток, вдоль по течению Мургаба, в этих местах, по словам Мубарек-бека, было легче скрыться и от чагатайской погони, и от подлого внимания Али-бека.
– А мелкие шайки разбойников не посмеют на вас напасть. – Этими словами и завершено было прощание.
Двигались с максимальной осторожностью. Двое нукеров постоянно скакали впереди отряда, двое сзади, двое по правую руку, дабы предупредить о нападении со стороны песков.
План эмиров на ближайшее будущее был столь же прост, сколь и неопределен. Решено было навербовать как можно больше сторонников среди местных лихих людей. Все они, как правило, ненавидели чагатаев и их правление, потому что были вытеснены в здешние бесприютные полупустынные местности из благодатного Мавераннахра именно ими. И особенно ненавидим был сам Ильяс-Ходжа, употребивший много сил для того, чтобы навести в Междуречье порядок. А что может быть отвратительнее для прирожденного разбойника, чем твердый порядок?
Эмиры рассчитывали на то, что за последний год они стали довольно известными людьми по обе стороны Каракумов, и мелкие вожди предпочтут встать под их знамя, чтобы избавиться от риска мелкого разбойного промысла. Названые братья понимали, что затеваемое дело может занять времени много или даже очень много, и были готовы к этому. Собрать по человеку войско так же трудно, как по крупице составить казну.
Они ехали, беседуя о малозначительных мелочах и не подозревали, что всеведущая и неутомимая судьба уже приготовила им новое испытание. На старости лет Тимур скажет, что обременительно быть любимцем судьбы даже в том случае, если она споспешествует тебе, не говоря уж о том, если она тебя невзлюбила.
– Смотри, – сказал Хуссейн, указывая плеткой вперед и влево от маршрута их движения.
Вечерело, но одиноко стоящий на берегу реки дом был виден отчетливо. Довольно большой дом. Интересно, обитаемый ли? Тимур повернулся к Байсункару:
– Проверь.
Тот поскакал к безмолвному строению, поднимая копытами небольшие фонтанчики пыли.
– Неплохое место для ночлега, – заметил Хуссейн.
– Сейчас мы это выясним.
Через некоторое время Тимуров нукер подал сигнал, что все в порядке, никакой опасности не обнаружено.
Дом, как выяснилось, принадлежал рыбаку, очень старому, совершенно немощному таджику. Сети его давно пересохли и рассыпались, и кормился он теперь тем, что принимал путников на ночь, превратив свое жилище в некое подобие караван-сарая. Две его дочери, которые тоже уже дожили до седых волос, зажгли глиняные светильники и подали гостям вяленое мясо и сухие лепешки. Держались они очень приниженно и угодливо.
Тимур приказал двум молодым туркменам, присоединившимся к нему подвигов ради, идти охранять лошадей. Сменить их должны были Байсункар с товарищем, потому что вторая стража самая трудная и, чтобы бороться с предутренним сном, необходимы и опыт и закалка.
Поели почти в полном молчании, старик хозяин, как это было принято, сидел с гостями за столом. В отличие от других караван-сарайщиков он оказался совершенно нелюбопытен, тихо потягивал чай и время от времени вытирал слезящиеся глаза. Впрочем, молчаливость хозяина нисколько не расстроила путешественников, ибо ничто так не утомляет, как бесконечные расспросы празднолюбопытствующих.
В конце трапезы Хуссейн сам задал старику вопрос, спросив, нет ли в окрестностях каких-нибудь разбойников и если есть, то кто они такие и откуда явились.
Старик ответил не сразу, пошамкал губами, вытер нежданную слезу.
– Много разных людей. Не интересуюсь.
– Тебе что, все равно, кто ночует под твоим кровом?
– Аллах приводит, Аллах уводит.
Хуссейн махнул рукой – продолжать беседу не имело никакого смысла.
– Будем укладываться, – сказал Тимур.
Услышав эти слова, одна из престарелых дочек хозяина появилась из темноты с явным намерением погасить светильник.
Эмир остановил ее жестом:
– Погоди. Мы будем спать при свете.
Хозяева удивились такой прихоти, но безропотно подчинились.
Перед тем как лечь спать, Тимур решил обойти посты, Хуссейн вышел с ним вместе.
Было прохладно, в темном воздухе отчетливо рисовался выдыхаемый устами пар. Окружающий мир был отнюдь не бесшумен. Мелкая насекомо-песчаная жизнь вершилась вокруг одинокого караван-сарая. Где-то на пределе слуха стоял шум Мургаба, а может быть, Тимуру только казалось, что он его слышит. И, конечно, звездный шатер… Не будем здесь затевать его описание, чтобы в этом описании не сгинуть. Не то что страницы, не то что главы целой книги не хватит, чтобы выразить то впечатление, которое производит на человеческую душу величественный бесшумный свод. Чтобы не застыть навеки под воздействием этого завораживающего видения, Тимур обратился к мелким, но насущным вещам. Проверил, как несут службу молодые туркмены. Замечательно несли. Молодые глаза были вытаращены в непроницаемую для взгляда темноту, руки до боли в суставах сжимали древки копий.
Хуссейн спросил у них, помнят ли они, как следует кричать в случае опасности. Они продемонстрировали, что помнят. В четверть силы, но и этого было достаточно, чтобы из дома выскочили несколько человек с обнаженными саблями.
Можно было укладываться.
Тимур заснул сразу, и ему снова приснилась его бабушка. Причем в очень странном обличье: с острогой и сетью, переброшенной через плечо. Она идет быстрым шагом, маленький Тимур еле успевает за ней. Он знает, что бабушка ведет его к заводи, где будет учить тому, как следует при помощи остроги ловить рыбу. С одной стороны, он рад, что кто-то наконец взялся его обучить этому искусству. С другой стороны, он прекрасно понимает, что не бабушкино это дело – бегать с острогой по колено в воде. И вообще какой-то слишком уж крупной выглядит его бабушка и шагает так быстро, как никогда ходить не умела. Надо бы ее окликнуть, думает маленький Тимур и вдруг понимает, что он боится это сделать. Заводь уже близко. Сеть волочится по земле, острога покачивается в крепкой руке. Вот они уже стоят на берегу, бабушка медленно поворачивает к маленькому Тимуру краснобородое лицо и… кричит, как молодой убиваемый туркмен.
Тимур первым вскочил на ноги. Условный крик возле коновязи повторился. Вернее, начал повторяться и тут же захлебнулся в крови перерезанного горла.
Эмир хотел подать команду своим людям к подъему, но в этом не было надобности – все уже стояли на ногах и вытаскивали из ножен клинки.
По шуму, доносившемуся снаружи, можно было заключить, что таджикский караван-сарай окружен большим конным отрядом. Топот, крики.
– Туркмены, – сказал Хуссейн, вытирая потную ладонь о халат.
– Собака Али-бек нас отыскал, – прорычал Байсункар.
В этот момент ветхие двери, выводившие наружу, были разнесены в щепы, открылось впечатляющее зрелище: толпа людей с копьями, саблями и факелами в руках. Было светло, как в час ярко-кровавого заката.
– Эй, вы! – раздался мощный голос. – Я Курбан Дарваза, вы слышали обо мне. Я справедливый человек. Бросайте оружие, проявите благоразумие. Доверьтесь честному и справедливому суду Курбана Дарвазы.
– Мы не совершили никакого преступления, почему ты смеешь говорить о суде?! – крикнул Хуссейн.
– Вы пришли в мои земли, где я и эмир, и кади, и мулла. И только мне решать, по повелению Аллаха вы находитесь здесь или по наущению черного его врага.
– А если мы не бросим оружия?
В ответ раздался хохот.
– Что тогда спрашиваешь меня?
В следующее мгновение три или четыре стрелы просвистели над головами эмиров и их нукеров и с тугим звуком впились в стену у них за спиной.
– Они перестреляют нас, как уток, – сказал Байсункар.
Ощущение своего полного бессилия сковало всех. Было понятно, что сдаваться ни в коем случае нельзя, приговор у предлагаемого суда мог быть один – петля за ухо и на перекладину над воротами.
– Думайте быстрее, ибо Аллах создал меня не только справедливым, но и нетерпеливым.
В подтверждение намерений всесильного Курбана над головами недавних заключенных просвистела еще одна стрела.
Тимур медленно вернул свою саблю в ножны.
– Что ты хочешь делать? – прошептал Хуссейн. Все остальные тоже ничего не понимали и взволнованно переглядывались.
Тимур спокойно, даже нарочито медленно вышел из глубины дома на порог, пустые ладони он нес перед собой, давая понять, что он хочет говорить, а не сражаться.
Всего в трех шагах перед ним была плотная толпа, ощерившаяся копьями, саблями и освещаемая потрескивающим пламенем многочисленных факелов.
– Где ты, Курбан Дарваза?
– Я здесь! – раздался голос из-за спин разгоряченно сопящих воинов.
– Трудно разговаривать с невидимкой, но если ты хочешь оставаться невидимым, ладно. Я хочу у тебя спросить, Курбан Дарваза, ты действительно считаешь себя самым справедливым и сильным по эту сторону Мургаба?
– Я сказал, а ты слышал.
– Тогда я напомню тебе вот что: я напомню тебе старинный и великодушный туркменский обычай. Когда сталкиваются два войска, первыми выясняют, кто сильнее, эмиры, и только когда никто из них не может доказать своего превосходства, обнажают оружие все прочие.
Последовало минутное замешательство, выразившееся в неопределенном молчании горластого Курбана.
– Ты предлагаешь мне сразиться, да? – наконец ответствовал он.
– Ты правильно меня понял, Курбан Дарваза.
– Я согласен, видит Аллах, но не могу же я сражаться с безликой и безымянной тенью.
– Меня зовут Тимур, сын Тарагая, я родом из Кашкадарьинского тумена.
Наступило еще более продолжительное молчание, чем в первый раз. Потом послышались звуки невнятной толкотни в глубине вооруженной толпы. Толпа расступилась, и из полыхающей факелами темноты появился всадник. Тимур не сразу рассмотрел его лицо.
– Так ты, говоришь, Тимур, сын Тарагая?
В этот момент свет ближайшего факела метнулся, и эмир отчетливо рассмотрел большую красную бороду и рваную ноздрю. Конечно, он сразу узнал этого человека, а бывший гонец сотника Баскумчи тоже узнал своего собеседника.
Эмир не спешил радоваться, ибо невозможно было предсказать, к каким действиям побудит предводителя степных бандитов воспоминание о той давнишней встрече.
Вдруг краснобородый резко спрыгнул с коня.
Тимур сделал шаг назад, берясь за рукоять сабли, он подумал, что Курбан Дарваза решился на поединок. Но он ошибся, повелитель всех людей и всех песков по эту сторону Мургаба кинулся к его ногам, причитая:
– О, повелитель, повелитель, повелитель!
Такого поворота Тимур, при всей уверенности в себе, все же не ожидал. Надо ли говорить, что все остальные ожидали этого еще меньше.
Люди Курбана Дарвазы приблизились вплотную, факелы в наступившем недоуменном молчании громко, трещали над их головами, могло показаться, что это от напряжения трещат головы разбойников.
– О, повелитель, повелитель, повелитель! – продолжал громогласно выкрикивать Курбан Дарваза, припадая к сапогам великодушного Тимура.
Разрешилось всеобщее недоуменное смущение неожиданным образом. Одной из разбойничьих стрел был поврежден висевший на стене светильник, полыхающее масло пролилось на сухое дерево, и вскоре весь дом вспыхнул, как будто пораженный молнией.
Глава 11 Бухара
Есть города, исполненные силой. Есть города, исполненные славой. Есть города, исполненные богатством. Есть города, о которых мечтает душа твоя. Фаттах аль-Мульк ибн-Араби, «Разговоры в ночи»Курбан Дарваза, удачливый туркменский разбойник, даже не подозревал, какую оказал услугу Тимуру, пав перед ним на колени. Слух об этой истории мгновенно облетел округу. Это ведь только кажется, что пустыни безлюдны и далек в них путь от человека до человека. Новости распространяются здесь так же быстро, как в городах. Вручив эмирам Тимуру и Хуссейну семь десятков своих разноплеменных головорезов, Курбан Дарваза подал пример сотням и сотням всадников, промышлявших к югу от реки Аму. В сущности, самый независимый, самый неуправляемый человек ищет того, перед кем он мог бы преклонить голову.
Прошло каких-нибудь две недели, и Хуссейн с Тимуром уже кочевали вдоль по течению Мургаба во главе небольшого войска в три сотни сабель.
Именно войском, а не как-либо иначе следовало называть эту стихийно сложившуюся толпу единомышленников. Острая ненависть к чагатаям и железная дисциплина делали эту боевую единицу весомым аргументом в предстоящем споре с Ильяс-Ходжой. Конечно, у царевича сил намного больше. Но не всегда же будет так.
Поскольку отряд разросся, возникла необходимость разделить его на части для удобства командования. Во главе сотен встали Курбан Дарваза, Байсункар и Аяр, молчаливый сорокалетний человек, большой, судя по всему, мастер военного дела, бывший у Курбана помощником. Присоединясь к эмирам, сотники составляли вместе с ними военный совет, на котором обсуждались планы на ближайшее будущее и детали предстоящих операций. Все далеко идущие, принципиальные планы Тимур и Хуссейн доверяли только друг другу.
Роль своеобразного секретаря играл Садвакас, молодой тонкошеий персиянин, единственный из отряда Хуссейна, кому удалось выжить в кровавых перипетиях последних месяцев. При дворе Хуссейна в Балхе он был то ли носителем опахала, то ли еще кем-то в этом роде. То есть человеком в высшей степени изнеженным и тонкокостным. Очень было удивительно, что остался в живых именно он. Хуссейн испытывал к нему огромное доверие и ни на чем не основанную приязнь. Может быть, только на том, что Садвакас был единственным из выживших. Но достаточное ли это доказательство преданности? Такой вопрос задавал себе Тимур. Себе, но не названому брату, ибо понимал, что вопросом этим он его глубоко обидит.
Жизнь настала веселая и разнообразная. Чуть ли не каждый день совершалось какое-нибудь геройство или приключение. То попадется команда чагатайских мытарей[33] и останется висеть на старой чинаре рядом с дорогой. То купеческий караван попадет в их засаду, и караван-баши придется расстаться с самой ценной частью товара, чтобы не расстаться с еще более ценным – жизнью.
– Я забираю у вас только то, что вы все равно отдали бы Ильяс-Ходже, – говорил Тимур убитым горем предводителям караванов.
– Ильяс-Ходжа все равно возьмет свое из того, что осталось, – осторожно и горестно возражал купец.
– Ну тогда пусть он тебя защитит. Согласись, это бесчестно – брать деньги, обещая взамен защиту, и не выполнять обещаний.
Купец молчал, не решаясь возражать и тихо радуясь про себя, что этот разбойник столь выгодно отличается от других. И жизнь дарует, и половину товара. Таким образом, Тимуру, как ни странно, удавалось добиваться своего. Несмотря на то что они с Хуссейном, как ни крути, занимались самым натуральным грабежом, среди торговцев о них сложилась слава людей великодушных и благородных, чуть ли не бескорыстных. А об Ильяс-Ходже ходили разговоры, что он правитель никудышный и, несмотря на все свои тысячи всадников, не способен навести порядок в стране.
Царевич не мог всего этого не знать, и, понятное дело, им овладевало все большее и большее бешенство. Итак, этот Тимур, о смерти которого ему уже неоднократно докладывали, не только жив и здоров, но и способен вредить ему, наследнику чагатайского престола и наместнику Мавераннахра! Надобно было положить этому конец. Ильяс-Ходжа стал готовить специальное войско для похода на юг, за реку Аму, для поимки мятежных эмиров. Но сам царевич не мог оставить Самарканд на сколько-нибудь длительное время. Город казался ему ненадежным, скрытая враждебность с годами не утихала, город не хотел примириться со своим правителем, а правитель не оставлял усилий для того, чтобы его окончательно покорить.
Проезжая по неприветливым улицам в окружении бесчисленной свиты, одной рукой держа повод, другой опираясь на бедро, покрытое драгоценной тканью ширазского халата, холодным взглядом прищуренных глаз рассматривал стены, башни, минареты и караван-сараи ненавидимый городом царевич.
Городская чернь валилась на колени и касалась лбом горячей дорожной пыли. Но в этой угодливости Ильяс-Ходжа не чувствовал истинной покорности. Кто знает, может быть, у каждого водоноса, трепальщика хлопка или погонщика верблюдов в рукаве шевелится кинжал?
Успехи неистребимых братьев там, на юге, давали этой швали лишнюю надежду на скорую перемену их судьбы, их надо изловить и повесить на городских воротах.
Проныли муэдзины[34] на многочисленных минаретах города. Правоверные с истовостью совершили все, что им следовало совершить в этот час. Ильяс-Ходже и в этой религиозной истовости виделся дух непримиримости. Даже молясь, они сопротивляются.
Явились с докладом высшие городские чиновники.
Ильяс-Ходжа сидел на широком деревянном помосте, покрытом ковром. Два опахала бесшумно парили над ним. За спиной стоял наготове слуга с серебряным кумганом на тот случай, если царевич захочет кумыса.
У ног царевича примостился писец, свиток разложен, бронзовая чернильница открыта, всем своим видом он как бы говорил: дайте мне поскорее что-нибудь записать.
Царевич мрачно оглядел стоящих перед ним седобородых старцев в белых и зеленых чалмах. В руках у всех четки, а в глазах тоска. Они по опыту знали, что ничего хорошего от внезапного появления царевича ждать не приходится.
– Казначей, – тихо сказал Ильяс-Ходжа, не глядя на казначея.
Выяснилось, что казна находится в том же положении, в котором находилась и месяц назад. Слишком медленно поступают налоги. Многие сборщики так и не вернулись.
– Почему?
Оказалось, что их отлавливают и убивают, отбирая перед этим, естественно, деньги.
– Верховный смотритель дорог и мостов.
Здесь дела обстояли примерно так же, как и в казначействе. Старые мосты, те, что построены во времена прошлого царствования, несут службу исправно, равно как и дороги, но возведение новых весьма и весьма затруднено.
– В чем затруднение?
– Разбойники. Строители отказываются выходить за городские стены и ночевать в степи, а без этого разве можно что-нибудь построить?
Ильяс-Ходжа потеребил свою бородку.
– Верховный мераб скажет нам, что его арыки и колодцы приходят в запустение, потому что разбойники наводнили страну и убивают всякого, кто попытается почистить колодец или расширить арык, да?
Красноносый смотритель всех водных устройств государства печально развел руками.
«Изображает, что печален, а в глубине души радуется», – со злостью подумал царевич.
Необходимость решительной охоты на разбойничьих эмиров стала более чем очевидной.
Люди для этого дела есть, но нужен человек. Нужен тот, кто мог бы эту охоту возглавить. Царевич мысленно перебрал всех своих военачальников. Что-то подсказывало ему, что высланное против эмиров войско должен возглавить человек, имеющий по отношению к ним личную злость. Только такой охотник сможет довести дело до конца.
Только Баскумча. Бывший сотник, а ныне тысячник Баскумча был бы на месте во главе карательной армии. Но он на севере, в ханской ставке. Самому отправляться нельзя, такое озлобленное чудище, как Самарканд, нельзя надолго оставлять без пристального внимания.
Судьба пришла на помощь царевичу в тот самый момент, когда он уже стал впадать в отчаяние. Ему доложили, что прибыл Мунке-багатур, племянник правителя Хорезма. После неудачной стычки с эмирами он утратил благорасположение капризного дяди и теперь прибыл к сыну Токлуг Тимура в надежде получить выгодную и видную службу.
Объяснились молодые люди быстро и поняли друг друга полностью. Уже на следующий день три тысячи чагатайских всадников начали готовиться к походу в мургабские степи.
Ильяс-Ходжа надеялся на успех, Мунке-багатур был в нем уверен.
* * *
Заслуживает внимания то, что в день выступления чагатайской конницы из лагеря под Самаркандом неприметный дервиш подошел к шатру эмира Тимура и сказал телохранителям, на манер каменных изваяний охранявших вход, что у него есть для их предводителя сведения, преинтересные и чрезвычайной полезности. Телохранители с недоверием смотрели на святого человека. Какой-то уж слишком оборванный и вонючий, глаза слезятся, голова трясется, на ногах струпья, на поясе уныло качается чашка для подаяний.
Долго бы еще пребывали в сомнениях бдительные воины, если бы эмир Тимур сам не появился из шатра. Увидев дервиша, он внимательно присмотрелся к нему и спросил:
– Что тебе нужно, святой человек?
– У меня есть для тебя важные сведения, может быть, именно те, которых ты ждешь.
– И ты можешь мне сообщить их только с глазу на глаз? – прищурившись, спросил Тимур.
– Именно так, господин.
– Ну… ладно, – с неожиданной неуверенностью в голосе проговорил Тимур.
– Ты сомневаешься, господин? Прикажи связать мне руки!
Ничего особенного дервиш этими словами не предложил. Именно так поступали в подобных случаях все владетели Мавераннахра и окружающих областей в этом веке. Ибо кто мог быть уверен, что не член секты марабутов, дервишей-убийц, просит об уединенном разговоре? Предупреждая все сомнения на этот счет, сегодняшний гость сам предложил совершить эту меру предосторожности. А может быть, тут особо хитрый расчет на то, что пристыженный эмир откажется от этой процедуры и тем самым попадет в ловушку?
– Что ж, раз ты сам настаиваешь… Свяжите ему руки.
Рисковать незачем, марабуты слишком искусны в деле истребления правоверных, они могут перерезать горло благодушному правителю, обладая всего лишь отточенным ногтем.
Дервиш покорно позволил себя связать.
Вскоре в полумраке шатра состоялся такой разговор:
– И кто же тебя послал ко мне, святой человек?
– Ты хорошо знаешь пославшего меня. Он хочет напомнить о своей искренней дружбе и спешит принести на алтарь этой дружбы букет полезнейших сведений.
– И все же, кто он?
– Ученик твоего учителя, скромный выученик самаркандского медресе.
– Маулана Задэ?
Дервиш поклонился.
– Снова он возникает на моем пути, – задумчиво сказал Тимур.
– Он никогда не оставляет тебя своими молитвами.
– За это спасибо, но – к делу.
– Мунке-багатур, племянник правителя Хорезма, поступил на службу к Ильяс-Ходже. И сделал это с одной только целью – добраться своими кровавыми лапами до твоего горла, господин. Три тысячи всадников, господин.
– Мунке-багатур…
– Именно так.
– Не самый искусный воитель.
– Но три тысячи, господин, три тысячи чагатайских всадников!
Тимур прошелся по шатру, утопая каблуками в кошме.
– Когда они выступают?
– Мне кажется, они уже два дня в пути.
– Из Самаркандского тумена?
– Нет, Ильяс-Ходжа боится оставлять город без надлежащего контроля. На улицах полно чагатаев, караул возле каждой мечети, каждого караван-сарая. Он взял людей из Бухарского тумена. Бухара тихий город.
– Что еще ты хочешь мне сказать?
– Я уже сообщил все, что было велено.
В это утро не только Тимур развлекался беседой с неожиданным гостем. Эмир Хуссейн принимал в своем шатре небогато, но прилично одетого человека. Он ничем не выделялся, ходил мягкой походкой, обладал обыкновенными, незапоминающимися чертами лица, говорил тихим голосом, и взгляд его был абсолютно неуловим. Назвался он простым, ничего не говорящим именем, эмир Хуссейн тут же забыл, каким именно.
– Мы уже полдня ходим с тобой вокруг да около. Что ты наконец хочешь мне сказать?
– Я хочу сказать, господин, что не вечно длиться твоему изгнанию из родового гнезда.
– Слышал я это.
– Что не вечно терпеть тебе обиду со стороны зловредного хуталлянского правителя Кейхосроу, может быть, уже близок день справедливого отмщения.
– И это, видит Аллах, ты мне уже говорил!
– Это говорю не я, а тот, кто меня послал, он много выше меня, он бесконечно выше меня, и он в силах сделать все, что здесь обещают мои недостойные уста.
Хуссейн сердито надул щеки, свел вместе густые брови и хлопнул пухлыми ладонями по коленям.
– Так кто он, этот всесильный, тебя пославший? Пора, пора уже и имя произнести!
Посланец с незапоминающимся лицом мягко улыбнулся, прикладывая руки к груди:
– Неужто, господин, ты еще и сам не догадался, кто это мог бы быть? Кто может обещать так много?
Хуссейн развел брови и снова свел их, напряженно думая.
– Кто сильней всех в Мавераннахре, а скоро будет сильнее всех во всем улусе Чагатайском, а, господин?
Сообразил, сообразил наконец Хуссейн. Об этом можно было говорить с уверенностью – столько крови одновременно прилило к его щекам и засверкало в глазных яблоках.
– Так ты…
– Да, господин, да, – торопливо бормотал гость, – меня послал он, царевич Ильяс-Ходжа. Он предлагает тебе дружбу и лучшее место подле своего трона.
– Ты пришел, чтобы сказать мне…
– И услуга невелика, та, о которой он дружески просит тебя, господин.
Хуссейн встал и, тяжело ступая, направился к говорящему, занося, как разъяренный медведь, свои мощные лапы.
– Если вдуматься, если вдуматься, господин, у вас общий враг. Он не только нарушает безмятежный мир души благородного царевича, он затмевает и солнце твоей собственной судьбы.
Руки Хуссейна легли на щуплые плечи чагатайского посланца и стали подбираться к горлу. Тот говорил все торопливее, словно сказанные слова могли приостановить ярость эмира.
– Рассмотри и увидишь, что ты весь в его власти. Ты старше и родовитее, но кто истинный хозяин в вашем войске? Кто принимает решения, за кем идут воины? Убей его, и ты получишь настоящую власть вместе с вечной дружбой царе…
Позвонки посланца хрустнули в пальцах эмира. Он брезгливо отшвырнул обмякшее тело.
Тимур спокойно выслушал рассказ названого брата об этом происшествии.
– Так ты говоришь, он предложил тебе голову правителя Хуталляна?
– Да.
– Немало. Высоко нас с тобой ценит сын Токлуг Тимура. Это все?
– Все, – сказал Хуссейн – и солгал. Он ничего не сказал о кошельке с двумя тысячами дирхемов, который отыскал в поясе посланца. Не стал он упоминать и о том, в какое именно место их дружбы пытался вбить кол человек Ильяс-Ходжи. В глубине души, конечно, Хуссейн считал себя более достойным первенства в их союзе с Тимуром, но чувствовал, что время разговоров на эту тему еще не пришло.
– Сегодня мы сворачиваем лагерь.
– С чего это вдруг? – удивился старший из названых братьев.
– Нам надо уходить отсюда. Ильяс-Ходжа не слишком, видимо, рассчитывал на подосланного им человека и вслед за ним послал войско. Три тысячи сабель.
– Мы будем отступать в Хорасан или в Герат?
Тимур покачал головой:
– Мы обманем их.
– Как?
– Они ждут, что мы пойдем в Хорасан или в Герат, и позаботятся, чтобы там нам организовали встречу. Хаджи Барлас в свое время попытался скрыться в Хорасане, что из этого вышло, ты отлично знаешь, да?
Хуссейн кивнул, размышляя о том, что тот невзрачный подлец, в сущности, был не так уж не прав. Вот идет у них с братом военный совет, но решение-то уже принято и все будет сделано так, как решит он, Тимур.
– Ну, ладно, не томи меня, брат, говори.
– Мы пойдем в Бухару.
– А почему не прямо в Самарканд? – ехидно спросил Хуссейн.
Тимур не обиделся.
– Человек, который сегодня навестил меня, сообщил, что против нас выступил именно Бухарский тумен. Пока он будет переправляться через Амударыо, мы разминемся с ним, двигаясь по сухому руслу Мургаба.
– Мы станем брать Бухару?
Тимур пожал плечами:
– Не знаю. Сил у нас пока недостаточно для таких дерзких дел. Но кто знает, не умножится ли наша армия, как только мы вступим на родную землю?
– Может быть, ты и прав, – рассеянно согласился Хуссейн, душа его была переполнена противоречивыми чувствами. Тимур предлагал очень хороший план, в нем был только один недостаток – то, что его предлагает именно Тимур.
Явились вызванные сотники. Им в общих чертах было повторено все то, что только что услышал Хуссейн.
– Когда мы выступаем?
– Завтра на рассвете.
Хуссейн слушал, как Тимур отдает команды, и машинально похлопывал себя по вздувшемуся поясу, по тому месту, где находился кошелек, снятый с трупа чагатайского посланца. Тимур чувствовал, что с названым братом что-то творится, но разворачивающаяся кутерьма общих приготовлений мешала ему подумать на эту тему более внимательно.
Глава 12 Самарканд
Человек, с которым ты начал свой путь, не дойдет с тобой до середины его; человек, с которым ты минуешь середину пути, не будет с тобой при конце его; человек, с которым тебе суждено встретить конец свой, где же он?!
Низам ад-Дин Шами, «Размышления у погасшего светильника»Своему шпиону, сообщившему, что он видел эмира Тимура на берегах Мургаба, Ильяс-Ходжа выдал награду. Шпиону, прискакавшему в тот же день с известием, что эмир Тимур вместе со своим войском находится в окрестностях Бухары, царевич ничего не дал и отпустил с миром. Третий вестник, клятвенно утверждавший, что дерзкий предводитель барласского племени прячется в Самарканде, был по приказу Ильяс-Ходжи высечен плетьми. Виданное ли дело, чтобы один человек, пусть даже такой хитроумный, как эмир Тимур, мог находиться одновременно в трех разных местах?
Но прошло некоторое время, и царевич получил известие от Мунке-багатура из мургабских песков. Племянник правителя Хорезма утверждал, что он просеял эти пески сквозь сито, и даже если бы Тимур с Хуссейном превратились в сурков, то и тогда они были бы найдены и пойманы.
Бухарский след тоже оказался ложным. Да, войско, собравшееся под знаменами Хуссейна и Тимура, действительно рассредоточено по территории Бухарского тумена, но при нем находится только один из эмиров – Хуссейн. Стало быть, что? Стало быть, выпоротый лазутчик вполне мог оказаться прав. Да, философски решил царевич, справедливостью является лишь то, что мы в данный момент считаем справедливостью, видимость иногда много убедительнее истины.
Правитель не имеет права ограничиваться в сложных ситуациях одними лишь размышлениями, хотя бы и самыми высокомудрыми. Правитель обязан что-то предпринять. Первое решение напрашивалось само собой – полторы тысячи всадников были отправлены бухарскому эмиру для усиления его гарнизона. Ильяс-Ходжа был уверен, что эти разбойники не посмеют напасть, но бухарский правитель слал такие слезные и испуганные послания, что отказать ему было невозможно.
В народе зреет бунт, появление большой вооруженной шайки у городских стен может подхлестнуть разбойные настроения.
Мунке-багатур был отозван, ибо бессмысленно охранять пески, в которых никого нет. На обратном пути Мунке-багатуру было велено пройти через Кашкадарьинский тумен – не мешает лишний раз продемонстрировать силу на родине одного из мятежных вождей. До сведения Мунке-багатура было доведено, что, если возле Кеша и Карши после совершения рейда останется несколько сожженных селений, нареканий чагатайской власти это не вызовет.
Теперь Самарканд.
Трудно в таком городе отыскать человека, если он не хочет, чтобы его разыскали. Еще со времен Чингисхана осталось множество разрушенных зданий: медресе, бани, караван-сараи, просто частные дома. В этих развалинах ютились целые племена бродяг самого фантастического вида и неизвестного происхождения. Они там едят, спят, рождаются, болеют и умирают. С наступлением темноты они выходят на промысел. Кстати, до наступления темноты они тоже не сидят сложа руки, целые тучи оборванных, голодных, востроглазых, наглых ребятишек вьются между посетителями базаров и лошадиных рынков.
Помимо обыкновенных бродяг полно и бродяг верующих, несколько враждующих между собой религиозных орденов облюбовали развалины главного медресе в южной части города. Грязные, свирепые, вечно голодные, заунывно и непрерывно требующие подаяния. Жгут какие-то костры и устраивают таинственные моления, подозрительно напоминающие поклонения Сатане.
Несколько раз Ильяс-Ходжа предпринимал попытки очистить город от человеческой нечисти, но потом эти попытки оставил, ибо невозможно сделать то, что сделать невозможно. Царевич подозревал, что причиной бесплодности его усилий явилось и то, что городские чиновники из числа местных жителей втайне сочувствовали и дервишам, и обыкновенным бродягам.
А что творится за заборами в садах и дворах зажиточных граждан, всех этих купцов и менял, внешне изъявляющих полную покорность при том, что у каждого кинжал за пазухой? Отравленный кинжал.
В любом из этих домов эмир Тимур мог при желании найти надежное убежище.
Было известно, что где-то у северных ворот Самарканда живет старшая сестра Тимура, но все попытки отыскать ее закончились неудачей. Что помешает брату уклониться от встречи со стражниками, если это удается его сестре?
Одним словом, царевич, и так находившийся в состоянии, далеком от радужного, узнав, что в Самарканде появился Тимур, впал в самую настоящую ярость. Втрое были увеличены все караулы. Городские ворота было велено запирать за час до заката, а отпирать, когда уже полностью рассвело. Это нововведение сильно ударило по интересам огородников, торопившихся как можно раньше доставить на базар свой скоропортящийся продукт, что сильно увеличило недовольное брожение среди горожан.
Кроме того, стражникам было велено обыскивать всех, кто входит в город и выходит из него. Разумеется, стражникам это повеление очень понравилось, ибо чем подробнее обыск, тем большие он открывает возможности для обыскивающего. Стражницкая пристальность имела еще одну сторону. Известно: все, что делается тщательно, делается медленно. У всех ворот города скапливалось огромное количество народа, с нетерпением, переходящим в глухую злобу, ожидающего своей очереди для того, чтобы очутиться в ласковых руках блюстителей порядка. Но если люди ропщут негромко, то животные не привыкли скрывать своих чувств. Сотни орущих верблюдов, ишаков оглашали воздух по обе стороны ворот.
Итак, одно лишь появление тени эмира Тимура вызвало в огромном городе сильный переполох.
Конечно, жители Самарканда догадались, что явилось причиной ужесточения и без того тяжелого и ненавистного порядка. Разговоры вполголоса и шепотом поползли из чайханы в чайхану, из харчевни в харчевню, из лавки в лавку. Зрелище того, как Ильяс-Ходжа боится эмира, принесло ему славы больше, чем сражение в чистом поле.
Тимур поселился в доме старого друга своей семьи Тунг-багатура.
Дом был расположен весьма удобно. Задней частью сада он выходил к полуразрушенной городской стене, в которой имелся искусно замаскированный пролом. Соседями были люди престарелые, глуховатые, подслеповатые и никаких гостей не принимающие. Во дворе Тунг-багатур держал свору гератских кобелей, звери эти были великолепно натасканы, подчинялись только хозяину, и их невозможно было прикормить. Лаяли они так, что могли и мертвого поднять из гроба.
Появился в городе эмир Тимур не для того, чтобы наслаждаться встречами со своей молодой женой, хотя и это имело место более чем неоднократно, и не для того, чтобы вкушать полуденный отдых в прохладной тени сада на берегу глубокого, чистого арыка. Одевшись так, чтобы не привлекать внимания, бродил он по улицам и базарам, толкался у городских ворот, ел плов и чимбукчу в чаду и духоте базарных харчевен, прислушивался к разговорам в чайханах за чашкой зеленого чая.
Не в одиночку совершал свои путешествия эмир. Несмотря на то что в городе было мало людей, способных узнать его в лицо (особенно если учесть, что он сбрил бороду), его непременно сопровождали Тикиш-багатур, сын Тунг-багатура, с тремя вернейшими нукерами, готовыми не раздумывая отдать свою жизнь для спасения жизни эмира. Эти молодые люди были из числа тех барласских юношей, которым не пришлось лично участвовать в охотничьих забавах Тимура ввиду слишком юного возраста. Им пришлось довольствоваться рассказами старших о нем. А известно, что иногда легендарное событие западает в душу значительно глубже, чем случившееся на глазах. От Захира, Хандала, Мансура и Байсункара они отличались только тем, что носили монгольские, а не мусульманские имена. Но имена именами, а выросли они в вере пророка Магомета.
Какова была цель этих опасных прогулок, догадаться нетрудно. Тимур имел своей целью изгнание чагатайских собак из Мавераннахра, и ему необходимо было самолично убедиться, каково настроение жителей главного города страны, готовы ли они к жертвам, и к каким именно, во имя достижения этой цели.
Немало фарасангов отмерил Тимур по пыльным улицам, не один казан плова съел, не один десяток чайников чая выпил, прежде чем понял то, что собирался понять. Сорок восемь дней было проведено в этих трудах. И вот сидит он в глубине заросшего сада на ковре, брошенном прямо на берег арыка. Солнце просвечивает сквозь листву, легкие изменчивые пятна бесшумно перебегают с рукотворного ковра на текучий ковер воды.
На другом конце ковра сидит хозяин дома, массивный седой Тунг-багатур. Давний, преданный друг Тарагая. Он отщипывает от большой янтарной грозди одну виноградину за другой и не торопясь отправляет их в рот. От испепеляющего солнца, от едкой пыли или еще от чего-то у него воспалились веки, и поэтому он выглядит так, будто чем-то очень расстроен. Почти до слез.
Журчит вода в арыке, отчаянно зевают, показывая страшные красные пасти, собаки в тени дувала.
Тот, кто захотел бы прислушаться повнимательней, наверное, смог бы услышать шум скопища людей и зверей, втиснутых в узкую горловину городских ворот.
– Аллах свидетель, я ничего не спрашивал у тебя о планах, Тимур, но сейчас я вижу, что какое-то решение ты принял. Поэтому, если можешь мне сказать, каково оно, скажи.
Эмир тоже отщипнул виноградину, но есть не стал, любуясь ее просвечивающимися внутренностями.
– Скоро я уеду.
– Когда?
– Скоро.
Тимур хотел положить виноградину в рот, но не успел. Он увидел человека, который стоял в той части сада, в сторону которой была протянута удерживающая ягоду рука. Человек стоял шагах в двадцати от сидящих, стоял неподвижно и молча. На мгновение он показался эмиру просто сплетением древесных теней. Хозяин сада заметил, что что-то завладело вниманием гостя, и, тяжело повернувшись, проследил за его взглядом.
– Кто это?
Тимур не ответил. Не счел, что этот вопрос адресован ему.
Неизвестный, словно стремясь удовлетворить жгучее любопытство поедателей винограда, сдвинулся с места и подошел поближе. И Тимур узнал его. Рябое лицо, редкая борода, широко посаженные неуловимые глаза.
– Маулана Задэ.
Узнанный неприятно улыбнулся и поклонился.
Тунг-багатур растерянно переводил свой взгляд с незваного гостя на своих собак. Они обязаны были уловить его запах за полсотни шагов и поднять бешеный шум. Так нет же, лежат, зевают.
Маулана Задэ был одет в простой потертый халат, какие носят погонщики верблюдов и водоносы.
– Прошу прощения и снисхождения у достойнейшего Тунг-багатура за то, что посмел незваным-непрошеным явиться в его благодатный дом.
Сказав это, бывший ученик медресе снова согнулся в поклоне.
Хозяин, даже будучи человеком непроницательным, сразу сообразил, что отнюдь не желание восхититься роскошью и уютом его жилища привело сюда этого человека, но он сделал приглашающий жест, предлагая ему место на ковре над журчащей водой.
Маулана Задэ сел с видом человека, уверенного, что ему ни за что не откажут в этом знаке внимания. С улыбкой посмотрел на Тунг-багатура, который никак не мог прийти в себя из-за необъяснимого поведения своих всегда столь надежных собак. Маулана Задэ с плохо скрываемым удовлетворением наблюдал за его недоуменными взглядами в сторону лениво лежащих животных.
– Не надо сердиться на них, уважаемый Тунг-багатур.
Хозяин недовольно поморщился: кому может быть приятно, что его мысли сделались прозрачными для незнакомого человека?
– Повторяю и умоляю: не обижайте своим раздражением сих великолепных зверей. Они не виноваты, что я обладаю некоторыми особыми умениями, позволяющими мне вводить в заблуждение даже проницательных людей, не то что собак. Долгие годы особых упражнений, долгие годы упорства и самоотречения принесли некоторые плоды. Но оставим это, невежливо с моей стороны до сих пор не сообщить вам, кто я такой и почему без приглашения явился в ваше жилище.
Тунг-багатур кивнул – слушаю, мол.
– Имя мое Маулана Задэ, может статься, вы слышали его.
Тунг-багатур конечно же слышал это имя, слышал многое, что рассказывали в городе о его носителе.
– Клянусь загробным блаженством, если вы Маулана Задэ, то я не вижу ничего особенного в том, что мои собаки не захотели вас учуять.
Бывший ученик медресе спокойно снес хвалебное речение в свой адрес.
– А прибыл я в хранимый Аллахом дом ваш, чтобы увидеться с вашим гостем, хранящим до сих пор молчание.
Тимур сделал приветственный жест, но вложил в него не слишком много удовлетворения и искренней радости.
– Я хочу поблагодарить тебя, Маулана Задэ.
– Поблагодарить за что?
– За того дервиша, что сообщил мне о выступлении армии Мунке-багатура.
– У-ум, – Маулана Задэ выплюнул виноградные косточки, – только отчего ты решил, достойнейший Тимур, что дервиш этот был послан именно мной?
Тимур пожал плечами:
– Как бы там ни было, он появился вовремя и принес полезное известие. Но если ты не хочешь, чтобы я был тебе благодарен, – воля твоя.
Маулана Задэ положил в рот сразу несколько виноградин. Прожевал. Опять довольно неопрятно выплюнул косточки.
– Не затем я явился сюда, да еще таким образом, чтобы упиваться щербетом твоей благодарности.
– Тогда скажи: зачем?
– Я давно знаю, что ты в городе, я следил за тобой и старался не мешать.
– Да ты совсем и не мешал мне, – усмехнулся Тимур.
– Я понимаю, что ты здесь не только для того, чтобы повидаться с семьей. Ты изучал город так, как изучал бы всякий, кто собирается этот город брать.
Тимур слушал не перебивая.
– Ты больше месяца в городе, и я решил, что тебе этого времени должно было хватить.
– Для чего?
– Для того чтобы принять правильное решение. Ты безусловно увидел то, что видят все. Чагатаи уже не правят в городе.
– Они стоят на каждом углу.
– Но они не знают, что творится в домах и головах жителей. А я знаю. Знаю, что достаточно одной искры – и здесь все вспыхнет. Сотни – я говорю то, что знаю достоверно, эмир Тимур, – сотни горшечников, кузнецов, трепальщиков хлопка, даже купцов точат свои кинжалы.
Эмир медленно покивал, на него неприятно действовала волна жаркой, истеричной энергии, которая шла от воспламенившегося под воздействием собственных речей ученика медресе.
– И ты считаешь, что такой искрой мог стать…
– Да, клянусь бессмертием души. Я знаю, где они, – под Бухарой, я знаю, сколько их, пять, а может, и шесть сотен. Если они неожиданным ударом…
Эмир поднял руку, как бы ставя этим жестом предел разговорчивости Маулана Задэ.
– Даже если твои кузнецы и горшечники, брадобреи и чувячники все, как один, поддержат моих всадников, все это кончится огромной кровью.
Маулана Задэ потрясенно помотал головой:
– Тебя волнует кровь?
– Бессмысленно пролитая – да. Мы ничего не добьемся. У Ильяс-Ходжи очень, очень много всадников. И не только здесь, в городе. И твои сербедары, сколько бы их ни было, не выстоят против них.
Лицо Маулана Задэ налилось темной, тяжелой кровью, он закрыл глаза.
– Ты рассчитывал, что я дам тебе другой ответ? – удивленно спросил Тимур.
Собеседник продолжал сидеть молча, с закрытыми глазами, он словно впал в какой-то транс. Тунг-багатур опасливо косился на него, не представляя, чем может разрешиться эта ситуация.
– Я ненавижу чагатаев не меньше твоего. Мы избавимся от них, но не сейчас.
Маулана Задэ внезапно открыл глаза, он полностью овладел собой, лицо его снова сделалось почти веселым, в движениях появилась самоуверенность.
– Не сейчас? А когда, скажи мне, эмир Тимур.
– Тебя мучает нетерпение. Это очень горячее пламя, оно может и сжечь. И не только тебя, но и тех, кто рядом, тех, кто вместе с тобой.
Ничего не отвечая на эти слова, Маулана Задэ встал, подошел к берегу арыка. Постоял так, не поворачивая голову к оставшимся сидеть на ковре.
– Да, мы избавимся от чагатаев. И не только от них. Не только.
С этими словами он легко перемахнул через арык и пошел, не оборачиваясь, в глубь сада.
Когда он полностью пропал за деревьями, Тунг-багатур спросил у Тимура:
– Не понял я, что он хотел сказать. От кого он собирается избавляться?
– От меня.
– Да?! Аллах помутил его разум!
– Не Аллах.
Помолчав немного, Тимур добавил:
– Пошли предупредить мою семью, что я сегодня не приду.
Тунг-багатур от природы не отличался большой сообразительностью, так что ему понадобилось определенное время, чтобы осмыслить сказанное. Когда это случилось, он осторожно спросил:
– Ты изменил свои планы?
– Да.
– Из-за этого мальчишки?
– Можешь считать так.
– Ты опасаешься предательства с его стороны?
– От него можно ждать чего угодно.
Глава 13 Двойник и тень
И сказал он: «О сыны мои! Не входите одними воротами, а входите разными воротами.
Ни в чем не могу я вас избавить от Аллаха.
Власть принадлежит только Аллаху: на Него я положился, и пусть на Него уповают уповающие».
Коран. Сура Йусуф (67)Полгода прошло в непрерывных блужданиях. В ночь после разговора с Маулана Задэ Тимур с полутора сотнями людей – конных и пеших – покинул Самарканд. Чтобы сбить с толку тех, кто захотел бы за ним погнаться, пошел он не на юг, к реке Сыр, и не на запад, к Бухаре, где стоял эмир Хуссейн, а на север, к реке Аму. По дороге ему встретился большой туркменский табун. Пастухи, узнав, кто перед ними, сопротивляться не стали, частью разбежались, частью влились в отряд эмира.
Теперь все его люди были на лошадях, подвижность отряда возросла, и Тимур успешно совершил марш на запад. Там он объединился со своим названым братом. Встреча получилась на удивление теплой. Два дня провели эмиры за роскошным дастарханом в небольшом селении севернее Бухары. До сотни дозорных были разосланы в разные концы от этого селения, дабы предупредить о приближении опасности. Но, как ни странно, чагатаи не спешили с нападением. Возможно, Ильяс-Ходжа просто не знал, где находятся и беззаботно пируют его злейшие враги, возможно, в голове его зрели какие-то новые, неторопливые планы.
Несмотря на внешнее спокойствие в бухарских землях и вокруг них, эмиры понимали, что им надобно что-то предпринять. Ударить прямо на чагатаев и отнять у них Самарканд и Мавераннахр они были не в состоянии. Такое нельзя было осуществить всего с пятью сотнями всадников, полагаясь на туманные обещания сербедаров о поддержке. Да и стоит ли с ними связываться, с сербедарами этими?
Надо было накапливать силы, а проще всего сделать это было на юге, на землях, не охваченных чагатайским влиянием.
В Кандагар, решили эмиры, надо идти туда. Мавераннахр – еще недозрелый плод, пусть он дозревает под заботливым уходом Ильяс-Ходжи и его головорезов.
Во время этого похода Тимур и Хуссейн с полным правом могли заключить, что судьба наконец начинает поворачиваться к ним лицом. Их слава летела впереди них. Десятки, сотни людей присоединялись к ним. И таджики, и туркмены, и степняки. Когда разрастающаяся армия приблизилась к Кандагару, к эмирам явился один из местных беков Арази Хабиб и объявил, что желает со своими людьми, а их у него не менее тысячи человек, встать под начало Хуссейна и Тимура. Кто же откажется от такого приобретения?
Над ручьем, над прохладным горным ручьем на поросшем травой берегу стоял шатер Тимура. Очень жаркое лето выдалось в том году, и только в этих местах, в предгорьях вблизи воды, несущей свежесть тающих снегов, можно было вздохнуть полной грудью. Вернувшись с охоты, эмир сбросил с себя пропотевшую одежду и в одной рубахе развалился на огромном ковре в тени старой развесистой чинары.
Слуги управлялись с лошадьми. Дадут им остыть и поведут на водопой.
Повар хлопочет у котлов, распространяющих соблазнительный запах. За время своего успешного шествия на юг Тимур оброс имуществом, и его ставка стала напоминать ставку обычного степного хана. Разумеется, та жизнь, что вел он, ни в какое сравнение не могла идти с той, что организовал себе жизнелюбивый Хуссейн. У него был не один ковер и не один шатер, и содержимое этих шатров вызывало живейший интерес и зависть его нукеров.
Тимур вполне спокойно относился к превосходству названого брата на этом поприще. Даже спокойнее, чем его нукеры. И Мансур, и Байсункар, и особенно Курбан Дарваза считали, что повелитель должен больше заботиться о своем внешнем блеске. Ибо люди по большей части глупы и чаще всего именно внешний блеск принимают за истинное величие. Тем, кто умеет только смотреть, но не умеет думать, может показаться, что между эмиром Хуссейном и эмиром Тимуром нет равенства и первый стоит выше второго.
Тимур, конечно, догадывался о существовании подобных разговоров и настроений, но серьезного значения им не придавал. Нет, он не был даже глубоко в душе аскетом, он нисколько не заблуждался относительно того, как действует на души подданных богатство и величие, умело выставленные напоказ. Просто он считал, что время для усилий в этом направлении еще не пришло. И потом, имеет смысл заботиться о величии и блеске своей столицы, каковой мог бы стать, скажем, Самарканд, но какой толк устраивать подобие висячих садов Семирамиды[35] на берегу обыкновенного, хотя и живописного горного ручья?
Таковы примерно были размышления эмира на этот счет, но в тот момент, о котором идет речь, не ими была занята его голова. Тягостные предчувствия одолевали Тимура с самого утра. Ни успешная охота, ни лепетанье снеговой воды под обрывом берега, ни зрелище величественных горных вершин не отвлекали и не успокаивали его.
Хуже всего было то, что предчувствия эти были неопределенны. Как ни напрягал он свой мозг, не мог определить, с какого направления ждать ему неприятностей. Хорошо, если не беды.
Он отказался от еды, к немалому изумлению и нукеров и слуг. Виданное ли дело!
Немедленно по команде Мансура всех коней отвели к дальним коновязям, и все в стане стали ходить на цыпочках, дабы не потревожить драгоценный покой эмира.
Только холодной воды истребовал Тимур, только ее испил он во время своих мрачных размышлений.
Осторожно, бесшумно приблизился к нему Байсункар. Войдя в тень чинары, он сказал, что явился некий человек, довольно дерзко заявляющий, что ему необходимо видеть эмира.
– Кто он?
– Имя его ничего мне не сказало. Он не мулла, но похож на человека духовного звания.
Тимур приподнялся на руках, привалился к стволу чинары и велел:
– Пусть придет.
Вскоре из-за шатра появился человек среднего роста с округлым симпатичным лицом, которое украшала небольшая темная борода и такие же темные усы. Высокий, изрезанный мудрыми морщинами лоб. Живые, уверенно глядящие глаза. На вид лет сорок или около того.
Не дожидаясь, когда ведшие его воины заставят встать на колени, он преклонил их сам.
Тимур указал ему, где сесть. В душе у эмира появилась необъяснимая уверенность, что появление этого человека как-то связано с мрачными и неопределенными мыслями, одолевающими его с самого утра.
– Как тебя зовут?
– Мое имя значит не больше, чем шум воды в этом ручье.
Эмир задумчиво почесал грудь в разрезе рубахи.
– Ты не хочешь открывать свое имя или потому, что оно связано с большой славой, или потому, что бесславье сопутствует ему. Я мог бы заставить тебя говорить, но дело в том, что легче всего человек лжет, когда он говорит о себе.
– Воистину так.
«Какие хорошие глаза, какое хорошее лицо, – думал про себя Тимур. – Вдвойне жаль, что он не хочет назваться, это означает, что он пришел не для того, чтобы поступить на службу».
– Что ж, незнакомец, Аллах судья тем причинам, что заставляют тебя молчать о том, о чем ты молчишь. Но отчетливо вижу, что ты пришел говорить. Так говори то, что ты задумал сказать.
– К тебе я прибыл из Кеша.
Тимур едва заметно встрепенулся.
– Из города, близкого твоему сердцу, но с известием, которое оставит в твоем сердце рану.
– Не медли. Плохие новости следует сообщать быстро. Даже у смерти есть достоинство – она мгновенна.
– Твой учитель…
– Шемс ад-Дин Кулар?
– Шемс ад-Дин Кулар.
Гость тяжело и длинно вздохнул.
– Я уже велел – не медли!
– Он умер.
– Давно?
– Совсем нет.
Тимур закрыл глаза и привалился затылком к шершавой сухой коре дерева.
– Он был стар. Очень стар. Смерть всегда не только мгновенна, но и неожиданна. Гибель воина в бою ничем, в сущности, не отличается от кончины старика в постели.
Гость сочувственно опустил глаза и так застыл.
– Я был грешен перед ним. Мне показалось, что возраст помутил его разум и у меня нет теперь нужды в нем как в учителе. Месяцами я не вспоминал о нем, а теперь мое сердце ноет и наполняется холодом.
Гость продолжал сидеть в позе скорбного сочувствия.
– Он что-нибудь сказал перед смертью?
– Я прибыл только для того, чтобы передать его слова.
– Кончина его была легкой?
– Он умер как праведник.
– Ничего нет удивительного в том, что праведник умер как праведник… но слова, что он велел передать?
– Я попытаюсь передать их слово в слово, ибо скрытый смысл их мне непонятен, но гонец необязательно должен знать содержание письма. Шейх перед смертью много думал о тебе – так он говорил. О тебе, твоей будущей судьбе. И не просто думал, по его свидетельству, были ему какие-то видения и сны. Их он мне не пересказывал, но понял я, что они запутанны и грандиозны.
Глаза эмира превратились в узкие щелки, в них сосредоточилось все его внимание.
– Он сказал, что два человека тяготеют над твоим будущим.
– Два?
– Именно. Одного он называл твоей тенью, второго твоим двойником.
– Он не называл имен?
– Он говорил, что имена ты знаешь, а если не знаешь, то очень легко догадаешься. И самая главная опасность – не перепутать.
– Что не перепутать, незнакомец?
– Не перепутать, кто из этих людей твой двойник, а кто твоя тень.
Эмир задумался. Уже и щелками нельзя было назвать его глаза, так плотно были сжаты веки.
– Это все?
– Нет. Еще он сказал, что ни тот, ни другой не будут сопутствовать тебе вечно. Ты избавишься от них. Может быть, не скоро, может быть, с огромными жертвами, но обязательно. Каким образом – чутье тебе подскажет. И время и способ. Это нетрудно. Трудно будет определить только одно…
– А именно?
– Порядок.
– Какой такой порядок?!
– Порядок, в котором это следует сделать. От кого освободиться сначала – от тени или от двойника.
Тимур медленно налил себе в чашу воды из кумгана. Предложил гостю, тот вежливо отказался. Сделав глоток, эмир отбросил чашу. Вода успела нагреться и утратила свой волшебный вкус.
– Видит Аллах, самоуверенность – тяжелая болезнь, схожая со слепотой. В начале разговора я сказал, что разуверился в пророческих способностях своего учителя, теперь же вижу: все то время, что я не думал о нем, он думал вместо меня.
Здесь эмир прервал свою речь, спохватившись, что сидящему перед ним человеку совсем не обязательно слышать его затаенные мысли.
– Да, я должен тебя отблагодарить.
– Нет, я так не считаю. Благую ли весть принес я в твой стан?
– Весть принес ты печальную, но сослужил при этом полезную службу, уж поверь мне. И если ты будешь слишком рьяно отказываться от награды, мое сердце проникнется недоверием.
– Твое слово, твоя воля, господин. Если ты хочешь меня наградить, подари мне этот нож.
Гость указал на рукоять, торчащую из-за пояса Тимура. Даже в минуты отдыха, даже окруженный телохранителями внутри своего стана, эмир никогда не расставался с оружием.
– Этот? – Тимур медленно вытащил нож и взвесил его в руке. Ничего особенного в нем не было: кривое лезвие, костяная рукоятка с двумя потускневшими квадратными гранатами, украшавшими ее. – Зачем он тебе, в нем нет никакой ценности.
– Ты ошибаешься редко, эмир Тимур, но сейчас ты не прав. Этот нож имеет ценность. Его держал в руках ты.
Тимур не любил льстецов, особенно неизобретательных. Он поморщился.
– Но главное событие в жизни этого ножа еще впереди. Мне так кажется, – улыбнулся гость.
Охотно продолжил бы с ним свою беседу эмир, но краем глаза увидел, как с холма на той стороне ручья спускается большая группа всадников. Пожаловал названый брат.
– Ладно, иди, таинственный вестник, хотя, если сказать правду, мне не хочется тебя отпускать. Но иди. А это, – эмир приподнял нож и коротким движением швырнул в ствол соседней чинары, – можешь взять. На память.
Поклонившись, гость удалился.
Эмир Хуссейн явился в великолепном расположении духа. И явился не один, с ним прибыл Кердаб-бек, толстый, низкорослый мужчина. Выражение лица его было грустным, на мир он смотрел сонным, унылым взглядом. Ничего, казалось, не могло его обрадовать. Своим поведением он резко, даже слишком резко отличался от жизнерадостного, крупного, шумного Хуссейна.
Тимур облачился в подобающий случаю дорогой халат и велел подать еду и вино. Спутник Хуссейна по виду был таджиком, а таджики издревле склонны к винопитию.
– Достойнейший Кердаб-бек прибыл сюда к нам из Сеистана, – начал свою речь Хуссейн, – он высокий посланец-визирь[36] тамошнего славного правителя Шахруда.
Тимур выразил полнейшее удовлетворение этим фактом. Ни он сам, ни его предки, насколько он мог вспомнить, не имели с правителями этой области ни тяжб, ни столкновений.
Хуссейн продолжал рассказывать. Вырисовалась следующая картина: владыка Сеистана Шахруд-хан попал в сложное положение ввиду того, что появился вдруг еще один претендент на его престол. Отец Шахруда был любвеобилен, как это часто случается на Востоке, и оставил многочисленное и честолюбивое потомство. Большую часть своих братьев и племянников славный Шахруд переловил и зарезал и было успокоился, но тут выяснилось, что успокаиваться было рано. Откуда-то из-за Вахша явился некий Орламиш-бек, который утверждает, что имеет прав на владение Сеистанской долиной больше, чем Шахруд, ибо раньше рожден и закон первородства полностью на его стороне. Он говорит, что его мать была первой, рано умершей женой Шахрудова отца. Претензии его, конечно, смехотворны, но нашлись легковерные и пошли за ним. И, что самое прискорбное, легковерных этих оказалось весьма и весьма немало. Орламиш-бек и его приспешники утверждают, что так случилось оттого, что люди невыносимо устали от правления Шахруда, называют законного властителя кровопийцей, скорпионом и хищным зверем, пожирающим якобы свой собственный народ. Так вот, истощив свои силы в борьбе с дерзким самозванцем, Шахруд-хан обращается за помощью к таким великим и могущественным батырам, как эмир Хуссейн и эмир Тимур. Благодарности хана, в случае успешного отражения бесстыдного врага, не будет границ. И золото, и лошади, и женщины. И, конечно, вечная признательность и дружба Шахруд-хана.
Закончив говорить, эмир Хуссейн вытер пот со лба и налил себе вина.
Во время его речи Кердаб-бек продолжал скорбно, сосредоточенно и, можно даже сказать, стыдливо молчать. Молчать, перебирая пухлыми волосатыми пальцами драгоценные четки. На Тимура он не смотрел, по сторонам тоже, кажется, его интересовала только игра солнечных искр на аметистовых гранях камней, составлявших четки. Тимуру стало любопытно, каков может быть голос у такого человека, и он в соответствии с правилами восточного гостеприимства, прежде чем приступить к делам, спросил, как путешествовалось столь достославному гостю. Кердаб-бек не только не успел, но даже и не попробовал открыть рта, за него опять все изложил Хуссейн. Мол, путешествовалось не очень-то хорошо, в горах много бандитов, случаются и камнепады, одному лошаку раздробило камнем голову, так что он с поклажей улетел в пропасть.
Тимур понимающе покивал:
– Выражаю восхищение мужеством Кердаб-бека, человека невоенного, непривычного, судя по всему, к путешествиям такого рода, но преодолевшего все опасности на пути к нашей встрече.
Гость тоскливо улыбнулся.
– Так получилось, что ведение дел, и военных и прочих, мы с эмиром Хуссейном привыкли делить поровну, и теперь настает время, когда необходимо обсудить долю моих обязанностей. Поскольку гость наш устал, мне не хотелось бы утомлять его нашими разговорами. Не согласился бы достойнейший Кердаб-бек вкусить заслуженный отдых под сенью гостеприимного шатра, который как раз стоит перед ним?
Молчаливый посланец понял, что его удаляют, не желая в его присутствии устраивать склоку или выставлять взаимные претензии. Он спокойно встал и равнодушно удалился, сопровождаемый обходительным Мансуром.
– Чем ты недоволен? – сразу бросился в атаку еще не остывший от своих словоизлияний Хуссейн.
– Я просто не хочу прыгать с конем в реку, – слегка переиначил старинную чагатайскую поговорку Тимур.
– Стоит мне придумать какое-нибудь стоящее дело, ты, даже не подумав как следует, отвергаешь.
Тимур отпил вина.
– Кто тебе сказал, что я что-то отвергаю? И как я могу отвергать то, чего не знаю? Если ты мне толком объяснишь, зачем нам это нужно, возражать я не стану.
Хуссейн поморщился и похлопал себя по коленям, покрытым полами халата в серебряном шитье.
– Аллах свидетель, я уже почти все тебе изложил. У этого Шахруда дела плохи. Плохи, но не безнадежны. Уже полгода у них там идет война. Никто не может победить.
– И ты думаешь, если мы ввяжемся, то…
Хуссейн стал морщиться еще сильнее и сильнее же хлопать себя красными ладонями по коленям.
– Не заставляй меня говорить то, что говорить неприятно. Не волнует меня, кто именно там победит, важно то, что там можно заработать. Шахруд-хан согласен платить. Много. Этот толстяк подробно мне перечислял. Скажу честно, – Хуссейн приложил руку к груди, – если Орламиш-бек предложит мне, м-м, нам, больше, имеет смысл перейти на его сторону.
Тимур улыбнулся и снова потянулся к чаше.
– Но если мы победим – ведь может же и такое случиться, – помимо денег приобретем сильного друга. И не где-нибудь на краю света. От Сеистана до Самарканда каких-нибудь тридцать фарасангов.
– Ну, это для птиц, которые могут перелетать через горные хребты.
– Ты скажи мне главное, брат, – согласен?
Тимур лег на спину. Порывы прохлады, рождаемые движением горной воды, приятно овевали лицо.
– Брат мой, я жду ответа!
– Ответ? Не нравится мне твой замысел. Мне не хочется ни к кому поступать на службу.
– Но это же будет только так называться. Ведь еще неизвестно, кто к кому поступает служить – мы к Шахруд-хану или он к нам.
– Но не только задетая гордость тревожит меня.
– Что же тогда, что?
Крупный, разгоряченный Хуссейн нависал над мирно лежащим братом. Крупные капли пота капали с него, как жир с туши, повешенной над пламенем костра.
– Ты посуди, наши люди уже месяц бездельничают. Даже больше. Без дела войско слабеет, падает дисциплина. Ты сам говорил. Вот посмотришь, скоро начнут разбегаться.
– Пожалуй.
– Вот, сам соглашаешься. И потом, если у тебя есть предложение лучше моего, предлагай!
Тимур покачал лежащей на ковре головой:
– У меня нет лучшего предложения.
– Но тогда что же?!
– У меня есть плохое предчувствие. Очень плохое.
Хуссейн обиженно сел, веселье слетело с него, густые брови сошлись на переносице.
Тимур не дал ему обидеться до конца. Встал, обнял названого брата за плечи:
– Как бы ни плохи были мои предчувствия, они не могут бросить тень на нашу дружбу.
Глава 14 Удача и судьба
Спорящий с судьбою – благородный безумец,
Сетующий на отсутствие удачи – безумный раб.
Махмуд ибн-Шамкух, «Споры птиц и зверей»Уже первые недели похода показали, что темные предчувствия не обманывали Тимура. Вдруг начался падеж скота, поэтому, переправившись через Сухраб и Пяндж, эмиры были голодны, как степные волки. Но поживиться было нечем и негде. Попадавшиеся по дороге селения были разорены теми, кто проголодался раньше. У обожженных развалин был абсолютно брошенный вид – ни одного сумасшедшего, ни одной собаки. Жизнь слишком давно ушла из этих мест. Из всех войн, которые известны роду людскому, кровавее и разрушительнее всего те, которые ведут между собой братья или бывшие друзья.
Кердаб-бек, игравший роль проводника, играл ее все так же молчаливо. Когда к нему обращались, отвечал или односложно, или уклончиво. На вопрос Тимура о том, когда же, собственно, они получат обещанные деньги, он хладнокровно заметил, что деньги уже заплачены. Три тысячи дирхемов.
Тимур не стал спрашивать кому, это и так было ясно. Хуссейн на вопрос о деньгах отреагировал самым беспечным образом. Конечно, получил, мешок с монетами лежит, кажется, вон в той суме. Почему не сказал об этом брату? Решил, рано пока что делить добычу, кто же этим занимается, отправляясь на войну? Вот когда они с победой поскачут обратно, тогда они и поделят все добытое поровну, как братья.
Что было на это сказать?
До узурпатора Орламиш-бека очень быстро дошли сведения о приближении войска эмиров. Он в это время осаждал Шахруда в горном селении Чокал и считал, что дни его противника сочтены, весь Сеистан был под его пятой. И жители если и не выказывали радости, то по крайней мере демонстрировали послушание. Бек отправил своего сына Меймена с тысячей всадников навстречу Хуссейну и Тимуру, повелев ему остановить их. А еще лучше отбросить. А в том случае, если повезет, то и рассеять. Имена эмиров были уже хорошо известны и в горах, и в степи, но пока они всего лишь внушали уважение, не пришло время, когда они стали вызывать трепет.
– Здесь, – сказал Тимур, стоя на вершине лесистого склона. Внизу белой извилистой ленточкой лежала пыльная, каменистая дорога. Напротив склона, густо поросшего лесом, был почти отвесный каменистый обрыв, источенный дождями и ветрами.
Хуссейн внимательно ознакомился с этой картиной, на лбу его появилась сомневающаяся складка.
– Что значит – «здесь»?
– Здесь они хотят нас встретить.
– Кто?
– Орламиш и его люди.
Молчаливый обычно Кердаб-бек подтвердил, что это одна из немногих дорог во внутренний Сеистан и самая, пожалуй, удобная.
Хуссейн еще раз внимательно осмотрел горный распадок, его конь сделал несколько шагов вперед, как бы стараясь приблизить хозяина к изучаемой картине.
– Что значит «хотят»? Они что, уже здесь?
Тимур усмехнулся:
– Мы уже здесь, и значит, встреча состоится, но не такая, как они думают. Мансур! Курбан!
Когда доходило до устроения конкретных военных дел, Хуссейн не вмешивался, он давно понял, что у Тимура это получается лучше. Чтобы у окружающих не создалось впечатления, что его названому брату принадлежит в их союзе первенствующая роль, Хуссейн вел себя так, будто он просто позволяет эмиру Тимуру командовать. Как высший начальник позволяет это начальнику среднему.
Поэтому когда Тимур объяснял Мансуру и Курбану Дарвазе, куда убрать коней, как расположиться воинам на лесистом склоне, как замаскироваться, чтобы их нельзя было рассмотреть ни снизу, ни с севера, откуда пойдут люди Орламиша, так вот, во время отдачи этих мелких приказаний Хуссейн в стороне беседовал с посланцем Шахруда.
Старинное положение военной тактики гласит, что выигрывающий во времени тем самым выигрывает в инициативе и во внезапности нападения. Навряд ли неграмотный эмир, бывший барласский разбойник, был знаком с поучениями великих полководцев древности. Он сам догадался, в чем его преимущество, и сам понял, каким образом это преимущество проще всего использовать.
Когда всадники Меймена въехали из долины в распадок, они не подозревали, что к встрече с ними здесь уже все тщательно подготовлено.
Воины сеистанского узурпатора – по большей части чагатайцы – ехали неторопливо. Им казалось, они успели сделать то, что требовалось, примчавшись к этому извилистому проходу в горах быстрее братьев-эмиров, и теперь можно было не спешить.
Меймен, высокий рослый парень, любимец удачливого отца, ехал впереди, одной рукой держа повод, а другую положив на рукоять меча. Он был счастлив, что ему доверили самостоятельное дело, он поклялся и отцу, и себе самому, что не посрамит ни имени отца, ни своего собственного.
Когда возглавляемая им колонна оказалась под каменистым склоном, Меймен не удержался, задрал голову, любуясь мощью нависающих громад, чудовищными извивами трещин, цветными пятнами мха, рискованно прилепившимися к каменистому телу деревцами. Но что это? Или от пьянящего воздуха зашумело в голове, или от солнечного блеска возникло странное движение в глазах… Горы не могут летать! Горы не могут двигаться!
Сын Орламиша не успел додумать свою сумбурную мысль, как вместе с конем был расплющен громадным камнем, рухнувшим с отвесного склона.
Несколько мгновений его спутники с удивлением и ужасом взирали на открывшуюся их взору картину, но потом им стало не до этого – на них самих посыпались сверху валуны и булыжники.
Кому не хватило камней, те получили стрелы. Тучи стрел.
Лишившись в один момент и своего предводителя, и четверти своей численности, войско превратилось в скопище перепуганных, не способных к разумному сопротивлению людей. И сейчас горный проход напоминал длинный арык, заполненный обезумевшими лошадьми и всадниками.
Камни и стрелы продолжали падать и сыпаться.
Ту часть войска, что не успела втянуться в распадок, атаковал Курбан Дарваза со своими туркменами. Никому не нравится, когда его атакуют внезапно, да еще с тыла. И чагатаи Меймена дрогнули, смятения им добавили перепуганные беглецы из жуткого ущелья. Сражение не состоялось.
Началось бегство.
Отступление и преследование в сражении армий, состоящих преимущественно из кавалерии, – тот момент, когда можно добиться наибольших результатов и понести самые большие потери. Мансур, Байсункар и Курбан Дарваза были большими умельцами степной войны, им ничего не надо было подсказывать и напоминать.
Глядя вслед клубам пыли, уползавшим по узкой долине, Тимур сказал:
– Теперь нам не стыдно явиться и к самому Шахруд-хану.
– Да, – не скрывая удовлетворения, согласился названый брат.
Тимур посмотрел в сторону Кердаб-бека. Лицо ханского посланца в этот момент на время утратило свою обычную непроницаемость, и в глазах его эмир увидел полыхание каких-то огней. Не одна только радость светилась в этом пламени. Но что именно – рассмотреть не удалось. Посланец опустил глаза. Пальцы его занялись четками. Он негромко произнес:
– Мой господин будет рад. Я пошлю ему гонца.
* * *
Потрясенный гибелью сына и войска, Орламиш-бек отступил от Чокала, несмотря на то, что селение, по всем расчетам, должно было вот-вот пасть.
Эмиров встретили как спасителей. Отворились ворота, не отворявшиеся больше двух месяцев, толпа изможденных, но радостных сельчан высыпала на дорогу.
Воины с длинными копьями и круглыми щитами врезались в эту толпу и распихали по сторонам. Поднимающуюся по крутой тропинке колонну победителей встретила процессия во главе с высоким, крупным мужчиной. На нем была большая зеленая чалма, украшенная серебряными звездами, длинный, расшитый серебром и украшенный каменьями халат, за поясом торчал меч в золоченых ножнах. Он шел навстречу победоносным эмирам, широко разведя руки и удовлетворенно улыбаясь в длинную крашеную бороду. Первым он обнял Хуссейна, и это было неудивительно. Дорогой халат должен был первоначально сблизиться с дорогим халатом. В свое время досталась порция уважительных приветствий и Тимуру.
– Приветствуем тебя, высокородный Шахруд-хан, властитель Сеистана! Победа, которую мы одержали, была одержана в твою честь, – с вежливым полупоклоном, отступив на полшага по всем правилам придворного обхождения, сказал Хуссейн.
Лицо встречающего окаменело, он кого-то поискал глазами. Нашел Кердаб-бека и удостоил его ледяным взглядом.
Тимур сразу понял: что-то тут не так, и смутно тлевшее пламя плохих предчувствий получило новую порцию топлива.
Человек с крашеной бородой вежливо и даже изысканно поклонился высоким гостям и негромко сказал:
– К сожалению, по воле Всевышнего доброго Шахруд-хана поразила болезнь и он не в силах выйти к столь достойным гостям. Меня зовут Гердаб-бек, я великий визирь и от имени властителя веду дела.
Произнося эти слова, человек с крашеной бородой переводил взгляд с одного гостя на другого, стараясь понять, какое впечатление произвели его слова на каждого из них. Если бы он не был так внушителен и импозантен, то могло показаться, что он не вполне уверен в себе и готов к любому развитию событий, даже самому неблагоприятному.
Сообщенное им было столь неожиданно, что оба эмира замерли в удивленном молчании. Гердаб-бек воспользовался этим и предложил пройти внутрь крепости, в его дом, где, по его словам, можно было спокойно, не смущая толпу, подробнейшим образом поговорить обо всем, что заинтересует гостей-победителей.
Названые братья переглянулись. По лицу Хуссейна было заметно, что он начинает разделять сомнения Тимура.
– Хорошо, – сказал Тимур в ответ на предложение Гердаб-бека, – мы войдем в твой дом, великий визирь, но только после того, как выразим свое почтение пригласившему нас благороднейшему Шахруд-хану.
– Да продлит Аллах его дни! – заявил Хуссейн в добавление к словам брата.
– Воистину да продлит! – воздел руки Гердаб-бек и повернулся, пропуская дорогих гостей внутрь крепости.
Гости неторопливо вошли.
Внутренность укрепленного селения не поразила их воображения ни блеском построек, ни благоустроенностью улиц. Вместо сладкозвучного пения соловьев можно было слышать только истошные вопли еще не съеденных ишаков.
И с самой большой натяжкой Чокал не мог быть признан городом, единственным его достоинством являлось удобное расположение, почти все его укрепления были естественного происхождения, лишь в двух местах местным жителям пришлось приложить собственные усилия для возведения чего-то, отдаленно напоминающего крепостные стены. Многие годы спустя, уже став повелителем огромной империи, Тимур сумел проявить должным образом свое уважение к градостроителям и архитекторам, которое жило в нем всегда. Самарканд стал одним из величайших и, вероятно, самым красивым и благоустроенным городом своего времени, далеко превзойдя по этой части Париж потомков Филиппа Красивого, не говоря уж о Лондоне и Толедо. И вот, идя по пыльным, сирым улицам нищего горного кишлака, будущий Повелитель Вселенной нес в своем сердце образ идеального Самарканда и одновременно глубочайшее презрение к тем, кто сумел даже такое место для крепости, каким являлся Чокал, превратить в свалку строительного и человеческого мусора.
– В селении есть вода? – спросил он вдруг у облаченной в расшитый серебром бархат башни, шагавшей рядом с ним.
– Вода? – переспросил Гердаб-бек.
– Да, вода, своя вода, вода, за которой не надо выходить из крепости?
– Ручей… из горы бьет родник.
– За всю свою жизнь не видел более удобного места для неприступной крепости. Почему ее до сих пор здесь не построили?
Слегка приостановившийся великий визирь подумал, что слова «за всю свою жизнь» в устах столь молодого человека звучат по меньшей мере странно.
Изможденные люди валялись прямо на улицах. Вперемешку со скелетами. Скелетами людей и животных. Вдоль улиц бродили угрюмые, запыленные босые бородатые воины с копьями наперевес. Пешаварцы, догадался Тимур. Можно было только посочувствовать государю, вынужденному положиться на такое воинство.
– Вот, – сказал великий визирь, указывая на невысокий покосившийся дом за полуразрушенным саманным забором.
Эмиры не поняли, в чем тут дело, и вопрошающе воззрились на Гердаб-бека.
– Дом. Здесь…
И только тогда Хуссейн и Тимур догадалась, о чем идет речь. Итак, в этом хлеву живет повелитель Сеистана Шахруд-хан. Ворота были навсегда распахнуты и в распахнутом состоянии изувечены. Порог жилища был почему-то усыпан птичьими перьями. Никто не встретил гостей. Одинокий пешаварец, судя по всему приставленный для охраны высокородной особы, уныло сидел в сторонке, прислонившись спиной к уличной печке и поставив копье между колен.
Тимур и Хуссейн вошли внутрь. Тихо, жарко, уныло.
Шахруд-хана они нашли в небольшой затемненной комнате, он стоял на коленях на коврике, брошенном на глиняный пол, и методично отбивал поклоны. Один, два… сто. Хуссейн и Тимур как завороженные наблюдали за ним. Очень скоро они перестали надеяться, что он увидит их и хоть как-то отреагирует на появление гостей, но что-то мешало уйти, трудно было просто отвернуться от этого зрелища: правитель Сеистана молча и неутомимо отбивает никому, кажется, не посвященные поклоны.
Гердаб-бек тронул за локти одного и другого, и выведенные из полутранса эмиры вышли из дома наружу. Там великий визирь объяснил им, что так продолжается уже несколько недель. Хан почти ничего не ест, по крайней мере не каждый день принимает пищу, прекращает отбивание поклонов только тогда, когда теряет сознание. Очнувшись, поспав немного, он принимается за свое странное дело снова. Это жилище он выбрал себе сам. В тот самый день, когда после разгрома дружины скрылся в этом селении. До него здесь жил местный праведник, ненормальный человек.
– Удары судьбы – их было слишком много – помутили разум нашего властителя, – печально сказал Гердаб-бек.
– А кто придумал позвать нас? – спросил Тимур.
Великий визирь мрачно вздохнул:
– Я послал своего младшего брата Кердаб-бека в Кандагар. Ему было велено все объяснить вам по дороге…
Тимур, пристально глядя в сторону неподвижно сидящего возле печи пешаварца, произнес:
– Твой брат проявил большую предусмотрительность и знание человеческой натуры. Он ничего нам не рассказал.
– Да, – воскликнул Хуссейн и бешено всплеснул руками, – если бы он описал нам все это, мы не тронулись бы с места!
Гердаб-бек, стараясь не обращать внимания на колкости, направленные в его адрес, вновь предложил отправиться в его дом, где после дороги и битвы можно было отдохнуть и освежиться.
– Не сомневаюсь, уважаемый, что ваше жилище прохладнее и приятнее покоев, занимаемых Шахруд-ханом, – сказал Тимур, – но так уж у нас заведено, что прежде чем взять в руки чашу с кумысом, я должен проверить, напоены ли кони моего войска и накормлены ли воины.
– Достойно похвалы, и я, конечно… – забормотал что-то великий визирь.
Хуссейн сердито посмотрел на брата. После такой его выходки ему было неудобно принять приглашение радушного хозяина, а между тем он испытывал огромную потребность в отдыхе. Тимур же, не обращая внимания на все это, продолжал говорить:
– Потому что войско, оставленное без попечения, приходит в негодность. Как вот этот воин. – Он указал на неподвижно сидящего пешаварца.
Все посмотрели туда, куда указывал Тимур.
– Он спит, – сказал Гердаб-бек.
– Он мертв.
К концу дня выяснилось, что те полторы тысячи всадников, что привели с собой эмиры, это и есть все силы, которыми располагает сумасшедший властитель Сеистана и воспользоваться коими в своих целях предполагает его предприимчивый великий визирь.
– За один кошель с монетами мы бросились на спасение издыхающего трупа, – сказал Тимур названому брату, после того как они ознакомились с положением дел в селении.
Хуссейн не возражал, ибо что тут можно было возразить?
Да, вода в крепости была, но еды не было совершенно. Той, что привезли всадники эмиров в своих седельных сумках, им и самим могло хватить самое большее на неделю. Возле шатров, разбитых победителями Меймена, мгновенно собралось множество высохших от голода стариков и распухших от него же детей. Тимур велел один раз накормить их. Воины без особого воодушевления выполнили этот приказ.
– Зачем? – спросил Хуссейн. – Ведь на всех все равно не хватит.
– Мы здесь не задержимся.
– Ты хочешь сказать…
– Да, Хуссейн, завтра мы уйдем и бросим этих людей на произвол судьбы. Было бы слишком жестоко не накормить их перед этим.
Великий визирь и его молчаливый брат издали наблюдали за поведением нанятых военачальников, они боялись приблизиться, понимая, что и так уже навлекли на себя их гнев, и не хотели испытывать судьбу, проверяя, во что этот гнев может вылиться.
Собрав сотников, Тимур сказал им:
– Выступим завтра, как только начнет вставать солнце. Поэтому прямо сейчас – спать.
Вскоре вокруг шатров, установленных прибывшими всадниками, раздался истошный детский визг, спасители плетьми разгоняли назойливых и все еще голодных ребятишек, чтобы они не мешали укладываться. Эмиры легли спать в одном шатре, так и не перекинувшись ни единым словом с великим визирем. Тот пребывал в полной неопределенности и тревоге.
Быстро наступала темнота.
Захлебнулся кровью последний ишак, чтобы, сварившись в котле, насытить Гердаб-бека и десяток его прихлебателей и телохранителей.
На стенах и на надвратной башне стоят Тимуровы стражники, выгнавшие оттуда обезумевших от голода пешаварцев, и пересвистываются, давая знать друг другу, что пока все в порядке.
Бьет поклоны обезумевший сеистанский хан, только он один в этом скопище людей верит в силу своей немой молитвы.
Тимур спал спокойно. Тот факт, что его обманули, развязал ему руки, и он прекрасно знал, что будет делать завтра.
Хуссейн ворочался, он был вне себя от того, что его обманули. Он изыскивал способы отмщения за этот жестокий обман. И в голову ему приходил только один – надо отобрать у Гердаб-бека все, что у него можно отобрать. Говоря другими словами, следовало ограбить тех, кого они были призваны защищать. Такими странными путями иногда шагает по земле идея справедливости.
За час до рассвета Тимура разбудил Курбан Дарваза.
«Жаль», – подумал эмир, просыпаясь. Он знал, что так рано его будят не для того, что сообщить радостную новость. «Радость ждет, беда торопит», – гласит барласская поговорка.
– Что?
– Нас заперли!
Тимур сел на кошме и протер глаза.
– Объясни как следует.
Оказалось, что Орламиш-бек оказался не таким простаком, как о нем думали, он сообразил, что Чокал освободила от осады не громадная армия, а небольшая дружина. И главное, он сообразил это очень быстро. И сделал из этого правильные выводы: он решил запереть храбрых эмиров в селении. Пускай он возьмет крепость на месяц позже, но зато его добыча увеличится на тысячу вражеских голов. Что, во-первых, увеличит сладость победы, во-вторых, отпугнет желающих вмешаться в борьбу за власть над Сеистаном.
– Они завалили дорогу деревьями и повсюду посадили там лучников-таджиков. Очень много. Работали ночью.
– Значит, надо было уходить вечером, – пробормотал тихо Тимур, всматриваясь в редеющую белую дымку, скопившуюся на дне ущелья, по которому пролегала дорога, исходящая из Чокала.
– Воистину Аллах помогает тому, кто встает рано, но кто помогает тому, кто вообще не ложится? – воскликнул Курбан Дарваза.
– Месть, – ответил эмир.
– Да, – вздохнул сотник, – ведь мы убили его сына.
– А я об этом забыл.
– Поднимать сотни?
– Погоди. Это единственная дорога из селения?
– Нет, есть еще две.
Они были тут же осмотрены.
Первую как возможный путь для спасения пришлось отвергнуть сразу. Она мало чем отличалась от обыкновенного обрыва, спадающего к бурному пенному потоку. Не то что лошадь, не всякий человек смог бы по ней спуститься. Кроме того, кто поручится, что на том берегу в зарослях барбариса не скрывается засада из сотни-другой лучников?
Вторая была более пологая, чем третья, и более широкая, чем первая. Конница прошла бы по ней с грохотом и свистом, когда бы не одно небольшое препятствие. Стена. Тот, кто ее некогда воздвигал, был по-своему прав: чтобы обезопасить селение от нападения с этой стороны, другого способа, кроме как воздвигнуть стену, не было. Тот старинный строитель и представить себе не мог, что когда-то возникнет ситуация, при которой для спасения понадобится не прятаться в укрепленном Чокале, а как можно стремительнее бежать из него.
Когда Тимур в задумчивости стоял на стене, к нему присоединился Хуссейн. Он уже все знал. Поэтому был пасмурен и раздражителен. Его счет к хитроумному визирю вырос до громадных размеров.
– Что будем делать, брат?
Тимур повернулся к Хуссейну. Он не понял вопроса. Потому что не расслышал его. Какая-то мысль проворачивалась в его голове.
– Пусть попробуют взять нас здесь, – сказал Хуссейн, но голос его не был подобен звону металла.
– Один раз Орламиш-бек пошел нам навстречу, брат, больше он не окажет нам подобной услуги. Он справедливо считает, что теперь наша очередь идти в гости.
– Ты говоришь так, как будто что-то придумал.
– Если бы я умел летать по воздуху, мне не нужно было бы думать, – загадочно заметил Тимур и приказал Мансуру: – Приведи сюда великого визиря. Хотя постой. Мы сами поищем.
– Сколько нужно людей?
– Всех. Всю твою сотню. И твою, Курбан Дарваза, тоже.
– Что ищем? – спросил Мансур.
– Китайский песок.
Чокал мгновенно ожил, был перевернут, как старый, набитый пыльным хламом сундук. Вскоре к ногам эмиров были брошены несколько небольших кожаных мешков, чем-то напоминающих бурдюки для вина или кумыса. Тимур присел на корточки, развязал один из бурдюков, набрал в ладонь серо-сизого порошка, потом повернул голову в сторону стены, загораживающей дорогу, и окинул ее оценивающим взглядом.
– Песка может не хватить? – озабоченно спросил Курбан Дарваза.
– Будем надеяться, что Аллах вложил в него достаточно огня. Наше дело – выбрать правильно место, куда эти бурдюки запихнуть.
Осмотрев стену еще раз, Тимур указал, где именно нужно было ее долбить. Несколько воинов тут же отыскали тяжелые заступы и взялись за работу. Кладку явно делали не городские мастера, камни кое-как лежали друг на друге, некоторые дыры были просто забиты кусками самана.
– А что с ними будем делать? – спросил Хуссейн, кивнув в сторону Гердаб-бека и его брата, стоявших в некотором отдалении и наблюдавших за происходящим. Гердаб-бек сменил свой роскошный халат на обычный, но этого было недостаточно, чтобы смягчить праведный гнев Хуссейна.
– С ними? – прищурился Тимур.
Хуссейн грозно свел брови на переносице, крылья его носа угрожающе подергивались.
– За то, что они нас обманули, я предлагаю забрать у них все. Смотри, брат, он одел простой халат и делает вид, что даже не ел вчера. Я пошлю людей, пусть они посмотрят, что там у них в тайниках. А лучше сам схожу.
Тимур криво усмехнулся:
– Я бы предпочел их просто повесить.
– Повесить?
– Да. Но позже, а сейчас… – Тимур сделал знак Байсункару: – Приведи их. Вернее, одного, старшего.
Гердаб-бек, обливаясь холодным потом ужасающих предчувствий, приблизился.
– Ты уже знаешь, что сделал Орламиш-бек?
Великий визирь мрачно кивнул.
– Сколько у него людей?
– Очень много.
– Зачем же ты нас сюда заманил, шакал вонючий? – вспылил Хуссейн. Тимур спокойно переждал, когда утихнет гнев побратима.
– Да, зря ты нас сюда позвал. Мы не собираемся оставаться здесь навсегда. Мы могли бы перейти на службу к Орламиш-беку, потому что он человек более достойный, чем твой господин. И тем более чем ты.
Молчал великий визирь, молчал и только спрашивал себя: убьют или не убьют?
– Но поскольку мы стали причиной смерти его сына, он нас не захочет принять. Выход один: попытаться вырваться из этого горного голодного гнезда. Сейчас ты соберешь всех своих пешаварцев. Всех, кто может стоять на ногах. Кто ими командует?
– Калашахир-бек.
– Приведи его.
Великий визирь ушел, слегка пошатываясь. Непосредственная опасность отступила, но он понимал, что ненадолго.
Заступы продолжали вгрызаться в камень и саман.
– Пока тут это… – Хуссейн сделал неопределенное движение рукой, – я пойду займусь их тайниками. А то потом не будет времени.
Вновь появился великий визирь.
– Где Калашахир-бек?
– Он… объелся вчера ослятиной. Его рвет с кровью. Он скоро, наверно, умрет.
На небольшой площади у ворот медленно собирались изможденные серые тени с копьями в руках. Все, что осталось от наемного пешаварского войска.
Тимур указал на них плеткой:
– Тогда их поведешь ты.
– Я?
– Да! Мансур, дать им лошадей.
Курбан Дарваза сообщил, что дыры в основании стены готовы, можно закладывать бурдюки. Тимур пошел проверить, как это будет сделано. Ему еще ни разу не приходилось иметь дело с порохом, он даже не видел, как это делают другие. Руководствуясь пересказами из третьих уст, он принял интуитивное решение. Если провидение споспешествует ему, значит, план взрыва – его подсказка.
Мешки установили, насыпали к ним пороховые дорожки.
Тимур велел сворачивать шатры.
Прибежал Мансур и сообщил, что пешаварцы не могут сидеть на лошадях, падают. И это когда кони стоят, что будет во время атаки?
– Привязать их к седлам!
Ослабевших, обезумевших от голода людей намертво прикрутили к седлам. После этого толпу искусственных кентавров собрали на площади возле главных ворот. Два десятка всадников было выделено для того, чтобы играть роль пастухов при этом беспомощном стаде. Не дать ему разбежаться, расползтись.
Остальные воины эмиров собрались неподалеку от того места, где при помощи взрыва должен был образоваться проход. Лошадям заткнули уши, чтобы грохот их не перепугал, и уложили на землю во дворах близлежащих к заминированной стене домов.
Мансур и Байсункар стояли наготове с подожженными факелами, выжидательно глядя на Тимура. Он опять забрался на стену, чтобы поточнее определить обстановку. Прежде чем поджечь порох, он приказал отворить главные ворота и пустить вниз по извилистой дороге пешаварскую конницу. Роль, которую она должна была сыграть, была всем очевидна: отвлечь внимание людей Орламиш-бека от направления, где будет нанесен главный удар.
Хуссейн успел управиться со своими делами по очищению тайников великого визиря, и его люди торопливо заканчивали упаковку добытых ценностей.
– Так, может, все-таки повесим лукавых братьев? – спросил он Тимура.
– Делай, как считаешь нужным, – ответил Тимур, отворачиваясь.
Хуссейн пребывал в сомнении. С одной стороны, он прекрасно знал, что лучший способ избавиться от ненужных и неприятных ожиданий – это убить человека, с которым они связаны, но с другой стороны, заниматься сейчас висельными упражнениями в двух мгновениях от начинающегося жестокого боя было не совсем с руки.
Тимур подал знак, и высокие деревянные ворота Чокала стали медленно открываться. Дико скрипели заржавевшие за время осады металлические петли, пританцовывали разгоряченные кони, мотая на своих спинах изможденных воинов.
Тимуру с того места на стене, которое он занял, чтобы охватить как можно шире картину разворачивающихся событий, было отлично видно, как катится вниз по белой извилистой дороге окутанная пылью толпа всадников. Когда до засеки, устроенной людьми Орламиш-бека, оставалось всего несколько сот шагов, Тимур спустился со стены и велел Мансуру поджигать порох. Нещадно дымящие пороховые огненные дорожки устремились к стене. Эмир быстро бежал им навстречу, и как только он спрятался за выступом дувала, раздался тройной грохот. Над головами лежащих на земле людей и коней просвистели камни и ошметки какой-то строительной дряни. Не сразу удалось определить, совершил ли китайский песок то, что от него требовалось, – клубы удушливой пыли стояли в том месте, где раньше привыкли видеть стену.
Прежде чем Тимур успел что-то рассмотреть, раздались радостные крики воинов справа и слева от него – удалось! Пыль оседала, обнаруживая большой треугольный провал, за которым не было ничего, кроме бледно-синего неба. И тогда Тимур и сам закричал от радости:
– В седла!
Но выполнить эту команду было непросто. Некоторые лошади взбесились оттого, что уши им заткнули плохо, и теперь носились по усыпанной строительным мусором площади, волоча за собой упирающихся всадников, повисших на поводах.
Пыль оседала все больше, путь к спасению просматривался все отчетливее. Конница, несмотря на перенесенный громовой удар, привычно строилась, разбираясь по десяткам и сотням. И тут Тимур обратил внимание на человека, стоящего перед проломом на коленях лицом к коннице. Человек этот не просто стоял – он непрерывно и молча отбивал земные поклоны.
Мансур крикнул кому-то из нукеров:
– Эй, уберите его!
Нукер поскакал вперед, раскручивая привычным движением аркан в правой руке.
– Знаешь, кто это? – спросил Тимур у Мансура.
– Нет. Но он мешает: лошади не прыгают через человека.
– Это Шахруд-хан, властитель Сеистана.
Удивленным глазам Мансура, спокойным глазам Тимура, веселым глазам Хуссейна и множеству прочих глаз открылась такая картина: как только хан в очередной раз разогнулся после поклона, аркан охватил его шею, и через мгновение потомка Чингисхана, как мешок с соломой, волокли по замусоренной площади. Если бы Тимур был старше годами и знал латынь, он мог бы сказать: так проходит земная слава. Но времени размышлять не было. Хуссейн выскочил из строя вперед и, вырвав из ножен саблю, закричал громовым голосом:
– За мной!
Несколько десятков лошадей, конечно, переломали себе ноги. Да и дальнейшее развитие событий трудно было назвать безоблачным. Орламиш-бек не полностью поддался на уловку с пешаварской атакой. И возле взорванной стены оставил несколько сот лучников. На всякий случай. Когда стена внезапно взорвалась и бесчисленные камни посыпались им на головы, лучники опешили. Но не все и ненадолго. И вскоре, когда миновавшие пролом всадники покатились вниз с горы, огибая каменистые выступы и одиноко растущие деревья, в них полетели стрелы.
Скачка под откос опасна тем, что она приводит коня в немыслимое возбуждение, и даже трезвому и опытному всаднику трудно бывает с ним справиться. И это с одним конем, что уж тут говорить о целом конном войске!
Размахивая саблей, Тимур скакал во второй или в третьей линии, пытаясь хотя бы отчасти контролировать, что происходит вокруг. Вон справа несколько десятков всадников окружили огромную чинару, к которой жмутся ощетинившиеся пиками пехотинцы Орламиша. Зря! Они не представляют никакой опасности, их можно было просто миновать. Но тут уж нечего делать, не докричишься, и кавалерийский поток уносит все дальше. Склон становится менее крутым. Излучина ручья, валуны на той стороне, над ними торчат высокие меховые шапки. Много, до полусотни. Это может быть опасно. Предчувствие не обмануло. Кто-то там подал визгливую команду, шапки резко выросли над камнями. Тимур видел, как справа и слева от него на землю посыпались его всадники. Возникла суматоха. Сейчас они опять выстрелят, и будут бить, пока не опустеют колчаны.
– Мансур! – крикнул Тимур, показывая нагайкой на ручей чуть выше засады. Мансур все понял без объяснений: надо обойти. За камнями лучники неуязвимы. Во главе с теми, кто оставался рядом, Тимур поскакал вверх по течению. Ручей был неглубокий, но с опасно каменистым дном. Чтобы не переломать ноги лошадям, приходилось перебираться через него медленно, становясь добровольными и очень удобными мишенями для лучников.
Выскочив-таки на противоположный берег, Тимур огляделся. Победа, собственно говоря, была одержана. Хуссейн носился в редком чинаровом лесу, гоняя вокруг стволов одиночных, орущих от ужаса пехотинцев. Они, кое-как отмахиваясь копьями и кинжалами, валились на землю в потоках своей поганой крови.
Путь свободен. Пока Орламиш обогнет распадок, перейдет через перевал, пройдет полдня. Тимур поднял руку, чтобы указать, куда теперь следует направить удар, и тут произошло неожиданное… Стрела попала ему прямо в ладонь, рассекши ее пополам. Боли он не почувствовал, только сильный удар. Настолько сильный, что не удержался в седле и рухнул на каменистый берег.
Чагатаи дико заверещали от радости, они прекрасно поняли, кого им удалось ссадить. Целая толпа их выскочила из-за камней, и нескольким нукерам Тимура, остававшимся возле него в этот момент, пришлось, чтобы не погибнуть на месте, отступить, призывая на помощь.
– Где?! – заорал Хуссейн, когда ему сообщили о падении и пленении названого брата.
– За теми камнями!
На скаку скликая своих разбредшихся воинов, Хуссейн помчался в указанном направлении.
– Так он ранен или убит?
– Не знаю, – растерянно пожал плечами Мансур.
Прискакал Курбан Дарваза.
– Да, он за камнями. Там много лучников. Очень.
– Орламиш-бек знает, где мы? – задумчиво спросил Хуссейн, расчесывая красную щеку, слегка иссеченную каменной крошкой.
– Конечно, – кивнул Мансур, – он же видел, как развалилась стена.
Он уже, наверное, выслал конницу наперехват, продолжал размышлять про себя Хуссейн. Мансур, Байсункар, Курбан Дарваза молча наблюдали за ним, они ждали его решения.
Все разумные доводы были за то, чтобы предоставить эмира Тимура его судьбе. Он наверняка или убит, или при смерти. Конечно, благородное дело – отбить его труп…
Глава 15 Удача и судьба (продолжение)
Кибитка двигалась медленно, осторожно, но все равно каждый камень, попавший под ее деревянное колесо, причинял Тимуру нестерпимую боль. Эмир лежал в полном мраке и только в разрывах кожи, натянутой на каркас кибитки, мог видеть клочок звездного неба. Еще дальше, еще менее различимыми, чем далекие звезды, были его надежды на будущее.
Правая рука и правая нога.
Правая рука и правая нога!
Чего стоит воин, лишенный и того и другого?
Итак, удача оставила его, это несомненно. Но какова же теперь судьба, ожидающая его?
Тимур застонал, и не от того, что колесо вновь накатило на дорожный камень. Боль физическая была не самым тяжким из выпавших на его долю страданий. Больше всего его угнетала бессмысленность и несправедливость произошедшего. Почему эта безжалостная стрела не пробила ему горло, почему душа не вылетела из его тела в момент того страшного удара о каменистый берег?! Видит Аллах, смерть в победоносном бою трудно счесть достойной наградой, но по крайней мере нет повода роптать. Но что теперь делать однорукому, одноногому человеческому обрубку, из жалости спасенному из рук врага?
На мгновение Тимур впал в забытье. Но только до очередного ухаба длилось это облегчение.
Хуссейн спас его. По рассказам, он вел себя как мазандеранский тигр. Крушил врагов направо и налево, сам был ранен. Слегка. Герой, батыр! Отчего-то не испытывал Тимур благодарности по отношению к своему названому брату. Справедливее, намного справедливее и умнее было бы погибнуть, чем сделаться беспомощным рабом братской привязанности и давнишних обещаний.
Тимур вспомнил их совместное сидение на дне глиняной тюрьмы под градом скорпионов и тарантулов: когда судьба издевалась больше, тогда или сейчас?
Ненужные размышления, бессмысленные.
Опять наплывает волна забытья.
Куда же направляется Хуссейн? Орламиш-бек не стал преследовать беглецов, догадавшись, что они не вернутся и никакой теперь опасности не представляют.
Ах да, Балх!
Тимур вспомнил, что Хуссейн решил проверить, как обстоят дела в его родовой вотчине. По слухам, которые носились по степным и горным дорогам, ставленник Кейхосроу Хуталлянского то ли умер, то ли бежал, город фактически никем не управляется.
Ладно, пусть Балх. Выбирать не приходится. Хуссейн обещал сыскать всех лучших лекарей в округе. Есть такие травы, отвары которых творят чудеса с человеческими костями и жилами.
– Мы еще поохотимся с тобой, брат, – сказал Хуссейн при последней встрече.
Тимур догадывался, что такие слова годятся только для того, чтобы утешить больного, и говорящий нисколько не верит в то, что говорит. Тимур собрался с последними силами и усмехнулся, глядя названому брату в глаза:
– Почему только поохотимся? Мы еще повоюем.
Тимур лежал в своем шатре неподалеку от Балха, это кочевье отвел ему Хуссейн, после того как ему удалось овладеть городом. При эмире остались лишь самые верные – Мансур, Байсункар и Курбан Дарваза. Но надо честно сказать – лица их не светились безмятежной радостью и уверенностью в будущем. Местные лекари оказались бессильны против тех повреждений, кои получил сын Тарагая. Усилий они не жалели, мазей и отваров доставляли в избытке, но поправлялся эмир медленно. Он и сам подозревал, и умные из окружающих догадывались, что виной, скорей всего, не раны и ушибы, а та внутренняя душевная хворь, что овладела удачливым и бесстрашным воином. Может, он сам был виноват? Слишком вознесся, посчитав Маулана Задэ тенью своей, а названого брата – двойником? Не заносился ли он в мечтах в слишком отдаленные пучины времени, предвкушая свое единоличное величие в Мавераннахре, где не будет уже ни одного, ни другого?
Да, вознесся. И теперь лежит, распластанный на потертом ковре, обмазанный вонючими мазями, обставленный чашами с отвратительными горькими настоями, в то время как бывший ученик медресе плетет свою сербедарскую сеть, охватившую, по слухам, не только Самарканд и его окрестности, но и Бухару.
Он, непобедимый, изворотливый, неприхотливый, проницательный Тимур, видит сны о собственном несбывшемся величии, а жадный, сладострастный кутила Хуссейн возвращает себе родовое гнездо, цветущий город Балх, и посылает болящему брату кушанья из дворцовых кухонь.
Эмир стал молчалив и неприветлив, ни с кем почти не разговаривал, даже вид здоровых, крепких сыновей, что стараниями Тунг-багатура и его старшей сестры были тайно вывезены из Самарканда в становище под Балхом, не радовал его. Что толку в обладании хорошими сыновьями, если им нечего оставить, если ты нищими отправляешь их в мир? И такие полубезумные мысли порой являлись в голову эмира.
Однажды в его шатре появились Курбан Дарваза и Мансур. Пользуясь болезнью своего хазрета[37], они промышляли мелким разбоем, грабили чагатайских (как они утверждали) купцов, пригоняли небольшие отары овец. Но поскольку сил у них было мало, то успех им сопутствовал не всегда. У караванов была стража, а овечьи отары часто охраняли хорошо вооруженные отряды. Так вот, очередной набег оказался крайне неудачным – добычи никакой, потерь предостаточно, особенно в лошадях.
– Надо где-то достать лошадей, – глухо сказал Мансур, скромно глядя в пол.
Тимур сидел, обложенный подушками, и бесшумно посасывал мундштук кальяна, он в последнее время весьма пристрастился к этому удовольствию.
– Что же вы сделали с прежними? – спросил он.
– Загнали, – еще глуше сказал Мансур.
Курбан Дарваза, стоявший рядом, вздохнул и отвернулся.
– Загнали. Во время погони или во время бегства?
Смущенное молчание было ему ответом.
– От кого же вы бежали?
– Их было больше. Намного, – запальчиво начал Курбан Дарваза, – и мы едва не сломали им хребет…
– Это были люди Кейхосроу. Они воюют против Хуссейна, а значит, и против нас, – объяснил Мансур.
– Много пало лошадей?
Курбан Дарваза кивнул:
– Много. В случае внезапной перекочевки многим придется идти пешком.
Эмир снова пососал мундштук кальяна.
– Надо добыть лошадей.
– Вот мы и пытались…
– А денег нет… – очень тихо, как бы размышляя вслух, произнес Тимур.
Нукеры его ничего в ответ на это говорить не стали, помолчали, переминаясь с ноги на ногу.
– Езжайте к Хуссейну. Он даст денег.
Мансур развел руками:
– Мы попросим… Но он не даст. Деньги имеют особую власть над душой твоего названого брата, хазрет, и ты это знаешь лучше нас.
– Он не рассчитался с нами за Сеистан. Напомните ему об этом. Нельзя, чтобы несправедливость продолжалась, даже ради того, чтобы сохранить добрые отношения с братом. Но я вижу, что вы не радуетесь тому, что вам придется навестить правителя Балха?
Нукеры собрались уходить, как вдруг Мансур вспомнил что-то и, повернувшись, сказал:
– Мы не все неприятные новости сообщили тебе, хазрет.
– Не все?
– Нам попался на дороге один купец… Выяснилось, что он родом из Кеша.
– Говори, что замолчал?
– Он сообщил нам, что умер твой учитель.
– Какой еще учитель?
– Шемс ад-Дин Кулар.
Тимур усмехнулся:
– Успокойся, Мансур, ты не сообщил мне ничего нового, просто напомнил о давнем горе.
– Давнем?
– Что тебя удивляет?
– Этот купец всего пять или шесть дней как вышел из Кеша.
Лицо Тимура сделалось вдруг сосредоточенным. Неловким, но решительным движением он отстранил кальян.
– Приведи его сюда, Мансур.
– Кого, хазрет?
– Этого купца.
– Не знаю, здесь ли он…
Эмир бросил в его сторону тот обжигающий взгляд, от которого за последний месяц его воины отвыкли.
– Пусть окажется, что он здесь. И живой.
Привели.
Обычный, низкорослый, с длинной бородой персиянин. Он очень потел от страха, и взгляд у него был бегающий. Сердце эмира не доверяло таким людям. И еще меньше стало доверять, когда пойманный открыл рот, лишенный передних зубов. Рот этот стал извергать сплошь лживые слова. Мансуру и Курбану Дарвазе уже виделась веревка на шее этого незадачливого рассказчика, но Тимур не спешил, он подробно расспрашивал суетливого торговца, когда тот последний раз видел достойнейшего учителя Шемс ад-Дин Кулара, сам ли он его видел или только слышал рассказы о нем. Подробно расспросил и о похоронах святого шейха, и о том, где именно состоялось его погребение. Выслушав подробные и обстоятельные ответы на все свои вопросы, погладив левой рукой бороду, Тимур сказал спокойным и одновременно убийственным тоном:
– Ты лжешь.
Купец рухнул на ковер к ногам эмира, как будто его ударили дубиной по затылку. Он знал, что ожидает человека, которому Тимур бросил такое обвинение. Когда схлынула первая волна ужаса, он принялся еще более торопливо, подробно, с перечислением и добавлением новых, самых мелких, самых незначительных деталей рассказывать, как выглядел святой шейх в момент их последней встречи и во что его облачили в день похорон. Чем быстрее он говорил, тем меньше его слова действовали на Тимура. И особенно раздражали эмира брызги слюны, летевшие из-под верхней губы безумно вспотевшего купца.
– Ты лжешь, потому что мой учитель, шейх Шемс ад-Дин Кулар, умер больше месяца назад, и я узнал об этом через несколько дней после этого.
Купец замер, как-то сразу поняв, что дальнейшими словоизвержениями ничего изменить нельзя. Он только прошептал:
– Не убивай меня, хазрет. Проверь…
– Если я буду проверять слова каждого проходимца, успею ли я что-нибудь еще совершить в отпущенный мне век?
– Не я обманываю тебя, хазрет, а тот, кто явился к тебе с преждевременным известием. Проверь, кто прав, и, может быть, ты узнаешь, что к тебе приходил дьявол в человеческом обличье.
Тимур снова придвинул к себе кальян и затянулся холодным дымом так, словно он помогал ему думать.
– Где твой караван?
Купец осторожно, не разгибая спины, посмотрел в сторону Мансура и ничего не сказал – в данный момент караван интересовал его не сильно.
– Я не убью тебя. Сейчас. Но решай сам, хочешь ли ты этого. Решай.
Купец помотал головой, как буйвол, отгоняющий слепней:
– Я не понимаю, хазрет…
– Сейчас я мог бы убить тебя легко и безболезненно, но когда я удостоверюсь, что ты мне солгал, смерть, которой я подвергну тебя, будет ужасна.
– О хазрет, дай мне возможность рискнуть!
Тимур усмехнулся:
– Аллах свидетель, я хотел тебе добра.
Когда купца увели, эмир сделал знак здоровой рукой, давая понять находящимся в шатре, что он желал бы подняться. Мансур и Курбан Дарваза не поверили своим глазам. Тимур снова усмехнулся и сказал:
– Помогите мне встать.
Выяснилось, что он хочет прогуляться. Впервые после месяца неподвижного лежания. Неуверенными руками приподняли нукеры своего господина. Они чувствовали, что ему больно, но определяли это не по его лицу, ибо оно оставалось спокойным.
– Ведите меня.
Ступая осторожно, почти не перенося вес на больную ногу, вышел на свет. Постоял, медленно и глубоко вдыхая свежий, слегка пахнущий дымом костра воздух. Мансур и Курбан Дарваза держали его под руки, они еще не знали, стоит ли радоваться тому, что происходит.
– Туда, – тихо сказал Тимур, указывая в сторону бегущего ручья.
– Но там ничего нет, хазрет, – тихо проговорил Мансур, но ноги его сами собой начали выполнять приказание.
Мансур оказался не прав. Куст. Старый, полузасохший, задерганный ветрами предгорий куст.
Тимур приблизился к нему и, наклонившись над ним, стоял так долго, будто у него затеялся разговор с неподвижным жителем этих мест. Вскоре Мансур и Курбан Дарваза поняли, что не в одном лишь кусте дело. Тимур наблюдал за невзрачной букашкой, медленно взбиравшейся по одной из тонких корявых веток. Налетел порыв ветра, и букашка упала в жухлую траву, но тут же начала повторное восхождение. И снова ей помешал ветер. Так продолжалось раз за разом. Насекомое, против которого ополчились силы природы, не отчаивалось и наконец взобралось на самую вершину куста и отыскало там себе корм.
– Вы видели? – тихо спросил Тимур.
– Да, хазрет, мы все видели.
– Эта маленькая букашка должна служить нам примером терпения и настойчивости. Несмотря на все превратности судьбы и несчастья, мы не должны унывать. Мы должны помнить, что постоянное и упорное стремление к обдуманной цели, как бы далеко ни расположил ее Аллах от сегодняшнего нашего дня, даст нам возможность этой цели достигнуть.
Тимур сделал знак, что хочет вернуться в шатер.
– Отправляйтесь к Хуссейну, он даст нам денег для покупки лошадей.
– Рассказать ему о том, что ты уже встаешь? – поинтересовался Мансур.
– Не надо. Ему расскажут.
Когда Тимур приблизился к шатру, он не мог видеть, что особенно сильным порывом ветра столь впечатлившую его букашку швырнуло в поток холодного ручья.
Часть вторая
Глава 1 Тени подземелий
Человеческих тайн много, и они темны, как могилы. Тайна у Всевышнего одна, и она сияет, как солнце. Абу ан-Назр Утби, «Мысли по пути на север»В хлопковом амбаре было темно и душно. Дальняя его часть была завалена огромными тюками, в воздухе характерный запах, который устанавливается в помещении, где работают трепальщики. Лунный свет, проникавший внутрь через узкие окна под потолком, заставлял рассеянно серебриться блуждающие в воздухе пушинки.
Собравшиеся сидели вдоль стен и были почти неразличимы во мраке амбара, свое присутствие они выдавали кашлем и чиханием.
– Давно мы не собирались вместе, – раздался низкий уверенный голос.
Говорящего было не видно – какая-то смутная глыба на фоне белой, но неосвещенной стены. Говорящего, судя по тому, как зашевелились сидящие у стен, знали все. И не только знали, но и признавали за ним право говорить в укоризненном тоне.
– Сейчас принесут холодного чая, иначе этот кашель никогда не прекратится.
Говорил Абу Бекр, хозяин этого амбара и староста квартала трепальщиков хлопка чудесного города Самарканда.
Рядом с ним находились двое: великолепно известный нам Маулана Задэ и вольный стрелок, убивший многих чагатайских батыров, Хурдек и-Бухари. Это были люди, власть которых над собой охотно признавали все сербедары Самарканда и окрестностей. И не только. На нынешнем таинственном собрании были гости и из Карши, Кеша, Ферганы, Бухары.
Слово взял Маулана Задэ:
– В укор, в укор хочу вам сказать это – не собирались мы чуть ли не с прошлого урожая.
Невидимые гости стали кашлять громче и недовольнее, несмотря на холодный чай. Этого выскочку из самаркандского медресе они по большей части недолюбливали. Абу Бекра уважали, Хурдеком и-Бухари восхищались, а Маулана Задэ и недолюбливали и побаивались. Сложилось такое мнение, что он способен на все. Никто не был так неутомим и изобретателен в мести. Кроме того, ходили слухи, что ему подчинены чуть ли не все дервиши Мавераннахра. А каждому известно, что в котомке у святого странника может оказаться не только глиняная чашка для подаяний, но и нож с отравленным лезвием.
– И я понимаю, отчего сделались вы людьми мирными и расслабленными. Ильяс-Ходжа бежал за реку Аму, нет чагатайского гарнизона в цитадели, не горят посевы, не дымятся хижины.
Пропитанная хлопковым духом темнота слушала говорящего, не пытаясь спорить или соглашаться. Как говорят в степи: подманивает ласково, чтобы убить наверняка. Все ждали, когда Маулана Задэ начнет говорить неприятное.
– Вы решили, что Ильяс-Ходжу прогнали насовсем и можно предаться мирному и спокойному труду. Но вы забыли, что прогнали чагатаев не мы, а Хуссейн и Тимур. Толстяк и хромец сделали нашу работу. А что это значит? А вот что: мы одних хозяев сменили на других.
Из темноты раздался глухой голос:
– Мы сменили плохих на хороших. Хуссейн и Тимур не убивают райатов[38] и не воруют наших жен. Они больше похожи на охранников, чем на господ наших.
Маулана Задэ неприятно засмеялся:
– Пусть так, хотя, видит Аллах, мне не слишком приятны подобные речи. Это речи раба. Сейчас дело не в этом.
– А в чем? – в несколько голосов спросила темнота.
– До вас дошли слухи, а мне донесли мои лазутчики: Ильяс-Ходжа снова находится по эту сторону реки Аму.
Невидимые загомонили, замахали руками так, что висящие в лунных лучах хлопковые пылинки испуганно заплясали.
– Он ведет с собой шесть туменов. Чагатаи ведут себя так же, как и в прежние времена, – убивают и грабят. И тех, кто им покорился, и тех, кто сопротивляется.
– Надо сообщить об этом Хуссейну и Тимуру, – раздалось сразу несколько испуганных голосов.
Если бы присутствующие могли видеть лицо бывшего слушателя медресе, они бы увидели, что он улыбается, и улыбается презрительно.
– Эмиры знают все, что знаем мы, – раздался тяжелый голос Хурдека и-Бухари.
– И что они собираются предпринять?
– Они размышляют, что им делать, – это сказал Абу Бекр, и слова эти вызвали настоящую бурю возмущения, крики смешались с приступами кашля.
– О чем тут размышлять?
– Бросить нас на произвол судьбы или не бросить?!
– Куда именно бежать, в Бадахшан или в Хорезм?! – сыпались возмущенные вопросы.
Маулана Задэ не упустил случая вставить ехидное замечание:
– В свое время родственник Тимура, Хаджи Барлас, чтобы спасти свою шкуру, бежал от отца Ильяс-Ходжи в Хорасан, может быть, и для сына Тарагая он облюбовал там местечко.
Но не все поддались преждевременной панике, раздались и трезвые голоса. Кто-то напомнил Маулана Задэ, что в свое время Тимур не последовал за своим родственником, а пошел навстречу Токлуг Тимуру и спас свой тумен от полного разорения. Неумно заранее подозревать человека в предательстве, ибо сказано: лишенный доверия теряет преданность.
– Неужели вы думаете, что Хуссейн и Тимур подставят свои шеи под чагатайский меч ради спасения наших жизней и нашего имущества? – захохотал Маулана Задэ.
– Они никогда не станут нашими подлинными братьями и в решающий момент откочуют со своими кибитками. Кровь степняков течет в их жилах, вид обработанной и плодоносящей земли внушает им отвращение, – присоединился к словам своего друга Хурдек и-Бухари.
Абу Бекр прогудел, воздевая над головами сидящих могучую руку, сжатую в кулак:
– Только тот хозяин своей жизни, кто держит свою жизнь в собственных руках!
Фраза эта выглядела слегка неловкой и, если вдуматься, не вполне вразумительной, но произнесена была с таким чувством и с такой уверенностью в правоте произносимых слов, что сопротивление сомневающихся теней было на время полностью подавлено. Но молчание, повисшее под сводами хлопкового амбара, не было родственным воодушевлению. Собранные здесь горшечники, скорняки, водоносы, брадобреи, чувячники, красильщики, торговцы не просто не любили воевать, они считали, что это совсем не их дело. А весь разговор складывался так, что без их участия в боевых действиях никак не обойтись. Жители больших городов Мавераннахра давным-давно утратили воинственный пыл, он был растрачен прапрадедами их прапрадедов в войнах, названия которых канули на дне великой реки истории. Даже оружейники испытывали отвращение при мысли, что им придется взять в руки копье или меч.
Маулана Задэ, Абу Бекр и Хурдек и-Бухари знали характер своих соотечественников, но надежды пробудить в них воинственный дух не теряли. Особенно усердствовал в этом плане большой любитель и мастер произносить длинные, убедительные речи бывший слушатель медресе. В живописных и ужасающих красках нарисовал он невидимым слушателям картину неминуемого и очень быстро приближающегося разорения Самарканда. Дома превратятся в пепелища, базары – в кучи гниющего мусора, жены и дочери – в наложниц, а перекладины ворот – в виселицы. По улицам будут разъезжать чагатайские собаки, развлекаясь стрельбой из лука по местным собакам, и только потому, что стрелять уже будет больше не в кого.
– Ты говоришь очень убедительно, – осторожно возразил ему кто-то из темноты амбара, – но даже если мы возьмемся за мечи и копья, которые умеем держать в руках, как мы защитим город, у которого нет стен, а через стены цитадели которого перепрыгнет жеребенок, а, Маулана Задэ? Жители Кеша попробовали пять лет назад, и ты не хуже нас знаешь, мужественный Маулана Задэ, что из этого вышло. А ведь там был не царевич с шестью туменами, а всего лишь сотник Баскумча.
– Кеш не Самарканд. Самарканд во много раз больше, – пытался спорить Маулана Задэ.
– Насколько он больше, настолько его и жальче, – парировал невидимый полемист.
Бывший слушатель медресе почти уже рычал от бесплодного раздражения.
Откуда-то из угла раздался боязливый стариковский голос, едва различимый за хлопковым кхеканьем:
– Может, нам нанять войско для защиты?
– Надо очень много денег, – пробурчал Абу Бекр.
– У нас в городе есть богатые люди, они пожертвуют часть богатств, чтобы не потерять все.
– Я уже обращался к ним, – огрызнулся Маулана Задэ. – Они сказали, что денег не дадут. И Джафар ибн-Харани, и мулла соборной мечети, и верховный мераб, и многие, многие другие. При этом они считают себя сербедарами, трусы и предатели!
Неприятный вздох прокатился по амбару. Присутствующих смутило то, что городские богатеи проявили такую уклончивость. Люди среднего достатка привыкли во всем брать пример с людей богатых, они считают, что человеку, имеющему сорок кошелей с золотыми дирхемами, открыт больший кусок тайной правды, чем тому, у кого таких кошелей лишь четыре.
– Они даже намекнули мне, что не умрут от горя, если я навсегда оставлю их в покое, например, напоровшись на чагатайское копье.
Многие из собравшихся подумали, что они, в сущности, придерживаются той же точки зрения, и порадовались, что в амбаре темно и нет опасности, что эти мысли будут прочитаны по их лицам.
– Я побывал в гостях у ферганских и бухарских повелителей денег, – вступил в разговор Хурдек и-Бухари, – все они на словах сочувствуют тем прекрасным мыслям, которые проповедуем мы, они готовы искренне оплакивать нас, когда мы погибнем, но помощь их остается лишь в их словах.
– Они хуже предателей, ибо внушают надежды, которым не суждено сбыться. А деньги свои они хранят для того, чтобы при появлении чагатаев с их помощью смыть с себя обвинение в сербедарстве. Вы это понимаете? – Голос Маулана Задэ становился все более раздраженным.
– У нас нет другого выхода. Аллах так сказал, а я слышал, – заявил вдруг Абу Бекр.
Собравшиеся внутри амбара были смущены этим непонятно к чему относящимся заявлением даже больше, чем жесткими речами соратников старосты квартала трепальщиков. Торговцы и ремесленники были готовы доверять Абу Бекру в большей степени, чем двум молодым, горячим людям, склонным требовать невозможного и мечтающим о немедленном осуществлении своих требований. Абу Бекр был человек солидный, его дочери вышли замуж за людей состоятельных, а сыновья славились умеренным поведением и трудолюбием. Ах, если бы такой уважаемый человек умел выражаться как-нибудь попонятнее!
Надо сказать, что соратники верховного трепальщика хлопка тоже не сразу и не до конца поняли, что именно имеется в виду. И что вообще значат слова: «Аллах так сказал, а я слышал»? Не присваивает ли благородный Абу Бекр себе пророческую роль? Не надо бы этого делать, дабы не смущать пугливые души правоверных, этих заплывших жиром благополучия трусов.
Маулана Задэ первым догадался, к чему клонил отец семейства.
– Вы поняли, что сказал благородный Абу Бекр? – с веселой угрозой в голосе спросил он пропитанную сомнениями и смущением темноту.
Никто не ответил ему.
– Он сказал: у тех, кто не отдаст сам, мы придем и возьмем. Не может считаться преступником тот, кто вынимает камень из забора, окружающего дом жадного менялы, для того чтобы поместить этот камень в стену, которая защитит город.
Своей образной речью Маулана Задэ не добился нужного эффекта. Чайханщик наклонился в темноте к водоносу и тихо спросил:
– Они что, заборы собираются разбирать?
Вдоль стен амбара прокатился тревожный шепоток, из уст в уши вливались вопросы и поглупее того, что пришел в голову старому чайханщику. Все были окончательно сбиты с толку. Ведь сказано: не заботься о красоте своей речи, а заботься о ясности в голове того, кто эту речь слушает.
Неизвестно, чем бы завершилось тайное собрание, когда бы одному мудрому от природы и медлительному от нее же брадобрею не удалось соединить в голове нити всех сегодняшних разговоров, что вылилось у него в довольно разумное предложение:
– Что-то рано мы беспокоиться начали. Кто это сказал, что эмиры уже бросили нас? Может, скачут они сейчас на битву с кровавым Ильяс-Ходжой? Нехорошо тогда звучат наши сегодняшние речи. Аллах молчит, но видит нашу торопливость.
Трудно было возразить что-то на это, хотя Маулана Задэ и пытался. Изощренный в казуистике беспредметных споров, он мог бы доказать, что отсутствие сведений о предательстве Хуссейна и Тимура неопровержимым образом свидетельствует о том, что грязное предательство состоялось. Но для этого нужна была другая аудитория, привыкшая наслаждаться тонкими изгибами и неожиданными поворотами мысли. А здесь собрались люди все больше примитивные, верящие в то, что можно пощупать, но не в то, что выглядит твердым в словесном описании.
Одним словом, мысленно шипя от ярости и обливая свое жесткое торопливое сердце коричневой кровью отдаляющейся мести, пришлось Маулана Задэ признать свое временное поражение.
– Хорошо, – сказал он, – хорошо, сегодня мы разойдемся по домам. Но что будет тогда, когда вы сами увидите, что мы не можем больше доверять этим степнякам?
Озадаченное молчание в ответ. Какой смысл задумываться о расстройстве желудка, который, может быть, нечем будет наполнить?
– Я спрашиваю, вы подчинитесь мне, если я окажусь прав?
Все еще не до конца понимая, чего от них так настойчиво добиваются, ремесленники и торговцы, водоносы и писцы, сытые по горло сидением в пыльном, душном амбаре, сказали, что да, подчинятся. Скорей бы на воздух, в чайхану, к ароматной баранине и свежезаваренному райскому напитку! Пусть этот таинственный и бесноватый ученик богословов считает, что они приняли его условия, что бы эти условия ни значили.
Абу Бекр тоже понял, что разговор окончен, и крикнул охранникам, стоявшим с обнаженными саблями у выхода из амбара:
– Пусть идут!
Порыв свежего ночного ветра влетел в растворенные ворота и поднял целый смерч легкой хлопковой пыли. Так получилось, что больше всего от этого порыва досталось Маулана Задэ. И глаза и рот его оказались забитыми летучей гадостью. Если бы в амбаре было светло, можно было подумать, что Маулана Задэ плачет, так слезились его глаза. Если только вообще его можно представить плачущим.
Глава 2 Кровь и грязь
Иногда война приходит с севера, Иногда война приходит с юга, Иногда война приходит с запада, Иногда война приходит с востока. И всегда война приходит с неба! Кабул-Шах, «Дервиш и его тень»Весь Мавераннахр пришел в волнение и движение, когда по нему разнеслась весть о вторжении чагатайского войска. Одни правители до смерти перепугались, другие возликовали. Третьи затаились, не вполне представляя, чего можно ожидать от этого события. Испугались мелики[39] Шаша[40], Ходжента, Отрара, Тавриза – уже три года они не посылали положенной дани хану Страны Чет. Три года назад им показалось, что время его правления в Междуречье прошло окончательно. Более того, с присылаемыми к ним даругами и баскаками[41] медики вели себя высокомерно и даже оскорбительно. Ильяс-Ходжа три года копил обиду и силы и теперь пришел, чтобы восстановить справедливость. А что такое справедливость по-чагатайски, никому в Мавераннахре объяснять было не надо.
Тряхнув мошной, бросились заносчивые правители перевешивать трухлявые ворота своих хиндуванов[42] и переобувать своих стражников. Те лишь внутренне усмехались, ибо ни босые, ни обутые не собирались стоять насмерть на пути непобедимой чагатайской конницы.
Не радостнее было и в Термезе, во дворце наследственных сеидов[43], носящих титул худован-задэ. От прямых выплат дани наследникам Чингисхана они были освобождены, так что денежно перед Ильяс-Ходжой не провинились, но при этом все равно считались его заклятыми врагами.
Напротив, в великолепном расположении духа был Ульджайбуга, вождь племени сульдузов, владевший к этому времени половиной земель Балхского вилайета[44], вотчины хана Казгана, деда эмира Хуссейна. Ульджайбуга справедливо полагал, что падение Хуссейна отдаст в его руки и вторую часть богатейшей области. В том, что этот заносчивый, жадный, прожорливый и вспыльчивый толстяк будет разгромлен, сомневаться не приходилось. Ни умелым полководцем, ни мудрым дипломатом он не считался, а его вечный союзник Тимур был хром и сухорук. Одним словом, вождь сульдузов начал готовиться к войне, разумеется, на стороне Ильяс-Ходжи. Начал готовиться скрытно, не спеша обнаружить свои намерения.
Похожими приготовлениями был занят и владетель Хуталляна Кейхосроу, но подвигли его к этому не радостные предвкушения крупных близких успехов, а непрекращающиеся сомнения и чувство неопределенности, возникшие в его душе вместе с появлением известия о начавшемся вторжении.
Кейхосроу можно было понять. Он тоже ненавидел Хуссейна, и даже намного больше, чем Ульджайбуга, поскольку имел к этому личные, кровавые причины. Пять лет назад по приказу Хуссейна был удушен его родной брат Кайкубад. Правда, справедливости ради надо сказать, что удушение это было следствием, расплатой за другое убийство. По злонамеренному наущению Токлуг Тимура, чагатайского хана, Кейхосроу зарезал на охоте хана Казагана, деда эмира Хуссейна. Так завязался узел кисаса (кровной мести), и лишь одному Аллаху было ведомо, когда и как суждено ему развязаться.
Как бы там ни было, ни на одно мгновение не забывал Кейхосроу о Хуссейновом долге, но в обычное время не было у него сил и возможности добраться до его жирного горла. Теперь все изменилось – у него появился союзник, и какой! Он ненавидит Хуссейна ничуть не меньше самого правителя Хуталляна. Отчего же не наполнялось чистым ликованием сердце злопамятного Кейхосроу, отчего же примешивалась к нему, к ликованию, столь сильная струя сомнений и опасений? Легко ответить на этот вопрос. Во-первых, хуталлянский эмир был таджиком, и он сам, и его предки испокон веков враждовали с чагатаями. Во-вторых, Кейхосроу также считался данником Ильяс-Ходжи. Пока у того были большие сложности с Хуссейном и Тимуром в Мавераннахре, чагатай об этой дани не вспоминает, но если он разгромит их, накажет ближних должников, взгляд его непременно обратится на должников дальних. Таким образом, сердце Кейхосроу разрывалось: с одной стороны, он хотел скорой и лютой гибели Хуссейна, с другой – не хотел платить дани чагатаям. Как ведет себя человек, не знающий, что ему делать? Если он глуп и нетерпелив, он мечется, совершая непонятные и вредные поступки. Он сидит в стороне и тишине и копит силы, если он человек рассудительный.
Поглядим, как пойдут дела, а там посмотрим – таков был девиз владетеля Хуталляна. Главный его город Мунк погрузился в ожидание.
Тимура известие о вторжении застало в его родном городе Кеше. Он был занят тем, что восстанавливал городской хиндуван, сильно пострадавший во время неудачного восстания, поднятого дервишами Маулана Задэ и безжалостно разгромленного Баскумчой. Было что отстраивать в Кеше и помимо цитадели. Многие города Мавераннахра не смогли за прошедшие десятки и десятки лет зализать раны, нанесенные самым первым монгольским вторжением в эти места. Надо было признать, что в деле разрушения городов не было равных Потрясателю Вселенной Чингисхану. Тимур лелеял мечту стать непревзойденным государем в деле их возведения и укрепления.
Мансур, Байсункар, Курбан Дарваза, которых он на монгольский манер стал именовать не нукерами, а батырами, искренне недоумевали, откуда у их хазрета взялась такая искренняя тяга ко всему, что связано с городом. Все они, несмотря на то что носили мусульманские имена, распространенные среди оседлого населения, оставались в душе степняками, кочевниками и искренне считали, что от городов не может быть никакой пользы, кроме дани. За годы службы эмиру они привыкли выполнять его волю не рассуждая или, вернее, выполнять, несмотря ни на какие свои рассуждения. Они привыкли оставлять свои мысли при себе, когда Тимур не спрашивал у них, что они думают по тому или другому поводу.
Тимур, восстанавливая Кеш, вкладывал в это много времени, денег и сил, но понимал, что его родной город не может быть городом его мечты. Слишком мал он для этого, слишком беден, слишком неудобно расположен. Его слабые плечи не удержат на себе тот грандиозный замысел, что возникал в неописуемой ясности и сиянии в сознании эмира.
Стены и дворцы, сады и мечети, медресе и бани, базары и караван-сараи. Они будут больше гератских и бухарских, балхских и хивинских. Нет-нет, даже за точку отсчета нельзя брать эти города и крепости, слишком они ничтожны. Багдад, Каир, Дамаск, Шираз, Султания[45] – вот города, достойные того, чтобы выступить соперниками его замыслам. Соперниками будущего великого и красивейшего Самарканда. Он победит их, он превзойдет их. Когда эти города будут исчезать в пыли, поднятой копытами его конницы, он построит вокруг Самарканда селения с такими названиями, и они окружат Самарканд, преклоняя перед ним свои головы, как бы готовые ему служить.
Во сне явилось Тимуру это видение и завладело его воображением полностью. Давно уже он мечтал о небесном, непревзойденном городе – столице целого мира, и временами ему казалось, что он уже видит его, но только теперь он понял, что увидел его.
И тут является Хуссейн.
Он кочевал где-то в низовьях реки Аму и, когда услышал о внезапном нападении Ильяс-Ходжи, бросился напрямик через пески Кызыла на юг. Он не был озабочен тем, что случится с Самаркандом, считая этот город потерянным. Заботила его лишь судьба Балха. Он прекрасно понимал, как в создавшейся ситуации поведет себя Ульджайбуга.
Тимура Хуссейн нашел в небольшом загородном доме, стоящем посреди большого тенистого сада. Названый брат сидел на широкой веранде и пил чай в обществе двух незнакомых Хуссейну людей ученого вида. На ковре перед Тимуром лежали свитки и книги. Причем свитки были развернуты, а книги открыты. Это больше всего поразило Хуссейна, отлично осведомленного о том, что Тимур так никакой книжной науке и не выучился.
Увидев приближающегося брата, Тимур отослал властным движением здоровой руки своих собеседников: дела градостроительные должны были уступить место делам государственным.
Хуссейн, уверенно ступая, взошел на деревянную веранду и сразу же занял на ней главенствующее положение благодаря своему богатырскому росту, княжеской стати и царственному одеянию. Телохранители балхского властителя не могли не отметить про себя этого обстоятельства, и Хуссейн несколько мгновений специально не садился, чтобы как следует насладиться своим столь явно выраженным превосходством.
Сел, не без труда подобрав под себя ноги. Лицо его слегка покраснело от совершенного усилия. И вообще за последние годы Хуссейн очень посолиднел, отяжелел, заплыл благородным жирком, что, собственно, и должен был сделать, исходя из положения, ныне им занимаемого.
– Приветствую тебя, брат мой! – с чуть нарочитой высокопарностью в голосе обратился он к Тимуру.
– И я рад тебя видеть. Да хранит тебя Аллах! – со сдержанной сердечностью ответил тот.
Хуссейн принял поданную ему чашу, с удовлетворением обнаружив, что она наполнена не чем иным, как темным хорасанским вином, и немедленно осушил ее. Осушил и поданную тут же вторую.
Хозяин к вину не прикоснулся.
– Вижу, брат, что ты даже в этом изменил своим привычкам, – весело сказал он, утирая атласным рукавом губы и усы.
– Что касается вина – понятно, но что сверх этого ты имеешь в виду? – улыбнулся Тимур.
– Город, вот что! Я проскакал его со своими людьми насквозь. Повсюду копошатся люди. Ты окружаешь себя камнем, как какой-нибудь хорезмшах[46]. Тебе ли не известно, что короткая сабля вернее хранит батыра, чем длинная стена?
– Могу вернуть тебе упрек.
– А именно?
– Балх.
– Что Балх? Почему Балх? Балх – это совсем другое… Там долго правил мой дед. Там недолго правил мой отец. Кровь кочевника не стала кипеть во мне слабее оттого, что я получил в наследство это скопище глинобитных домов и зачумленных харчевен.
– А также дворцов, садов и медресе. Но оставим бесплодные препирательства, они могут бросить тень на радость нашей встречи после долгой разлуки.
Хуссейн в этот момент пил третью чашу, оторваться от нее он не смог, и лишь энергично выгнутой бровью показал, что полностью разделяет правоту сказанного.
– Жажда, – сказал он, напившись. – Четыре дня и четыре ночи не сходил с седла. Спешил к тебе. Боялся, что ты один, не дождавшись меня и не посоветовавшись, выступишь против Ильяс-Ходжи. – И он сделал не очень понятное движение слипшимися от сладкого вина пальцами.
– Спасибо тебе за то, что ты думал обо мне, – благодарно кивнув, сказал Тимур, не веря при этом ни одному слову названого брата. Он слишком хорошо его знал. Сейчас он сам приоткроет истинные мотивы своей поспешности. Впрочем, Тимур и так догадывался, куда хотел бы проследовать через Кеш со всеми своими людьми этот разодетый чан для вина. Недаром в самом начале разговора Тимур упомянул Балх, и недаром Хуссейн так бурно отреагировал на это упоминание.
– Значит, строишь тут крепость, – зевая, огляделся Хуссейн. Это была его всегдашняя реакция на первое опьянение – зевота. Необходимость поддерживать этот разговор тяготила его. Насколько умнее было бы просто миновать Кашкадарью, не заезжая в Кеш. А может, и не умнее, тут же поправил себя Хуссейн. Тимур рано или поздно узнал бы об этом и воспринял бы скрытность брата как вызов и оскорбление. Кроме того, даже в глубине души Хуссейн не мог не признать, что по всем законам – и человеческим и небесным – он не мог бросить своего названого брата один на один со всей чагатайской сворой. Остается одно – уговорить Тимура откочевать из Кашкадарьи вместе, не губить себя на бессмысленной обороне города, защитить который нет никакой возможности.
Тимур внимательно смотрел на Хуссейна. Да, он не умел читать даже в самой широко открытой книге, написанной чернилами и пером, но он великолепно читал в наглухо свернутом свитке человеческого сердца.
– Называть то, что я пытаюсь тут возвести, крепостью, – это гневить небеса.
Хуссейн опять зевнул, потянулся было к наполненной чаше. Нет, за опьянением не спрячешься от разговора.
– А что Ильяс-Ходжа… он уже где?
– Он уже десять дней стоит у того места, где Чирчик впадает в Сырдарью.
– Десять дней?!
– Он боится идти на Самарканд.
– Кого же это он боится, а?
– Нас.
Хуссейн громогласно хмыкнул и осушил-таки еще чашу.
– Знаешь, брат… ты, наверное, уже догадался – не лежит у меня сердце к этой войне. Сгинем под чагатайскими копытами бесславно и бесполезно.
Тимур осторожно помассировал здоровой рукой свою искалеченную руку.
– Искренне я говорил, брат, когда благодарил тебя за то, что ты думал обо мне, за то, что дума эта привела тебя сюда. И то, что я скажу тебе дальше, тоже будет сказано от всего сердца. Ты не обязан идти на эту войну, у тебя хватает своих забот. Может быть, лукавый и подлый Ульджайбуга уже точит против тебя и города твоего, Балха, свой кинжал.
Даже выпитое вино не помешало шевельнуться холодной змейке недоверия в душе Хуссейна.
– А ты?
– Я сделаю то, что обещал, и то, что считаю полезным. Я выступлю против Ильяс-Ходжи.
Хуссейн молчал. Ворота, которые он собирался открывать при помощи могучих ударов или тонких отмычек, оказались не заперты. Хуссейн не был умным человеком, но это не значит, что он не был человеком хитрым. А хитрому первой приходит на ум мысль о том, что его хотят перехитрить. Что задумал этот притворяющийся венцом великодушия хромец? Хуссейн вспомнил, что ему рассказывал его племянник Масуд-бек, около месяца проживший в Кеше. От глаз внимательного юноши не ускользнуло, в каком замечательном состоянии содержится Тимурово войско. Помимо конницы он завел себе пехоту и даже вызвал к себе китайцев, которые обучают его людей, как делать стенобитные машины и управлять ими. И по-другому, совсем по-другому выглядят его забавы с возведением кешского хиндувана.
Он что, хочет в одиночку разгромить Ильяс-Ходжу? Невозможно! Но почему невозможно? И ведь если такое чудо произойдет, Тимур получит в единоличное владение не только этот поганый городишко своего детства, но Самарканд, Бухару, Карши… весь, можно сказать, Мавераннахр!
Надо было внимательнее, намного внимательнее прислушиваться к рассказам племянника.
И надо же такому случиться, что в тот момент, когда витиевато и непоследовательно блуждающая мысль Хуссейна набрела на Масуд-бека, Тимур спросил о нем. Юноша этот ему в свое время очень понравился сдержанностью и рассудительностью.
Пораженный этим совпадением, Хуссейн выпучил на проницательного хромца глаза, насколько вообще могут быть выпучены глаза человека, принадлежащего к монголоидной расе.
– Масуд-бек, говоришь… Ты о нем спрашиваешь?
– Да. Не об архангеле Джебраиле.
– Масуд-бек, Масуд-бек… пусть будет Масуд-бек. Но я устал. Лягу-ка я отдохнуть.
– Чтобы завтра отправиться в Балх? – со всей возможной участливостью спросил Тимур.
Не отвечая на этот вопрос, потрясший его своей каверзностью и хитроумием, Хуссейн выпил подряд еще две глубокие чаши вина. Он решил притвориться пьяным, а этого нельзя сделать без того, чтобы не проглотить очень много вина в присутствии того, на кого направлено притворство. Сейчас надо выглядеть пьяным, а потом поспать. А после всего этого подумать.
– Ульджайбуга – безмозглый баран, зачем ему Балх?
Тимур не возражал. Он сидел молча. Он позволил названому брату и напиться, и еще изображать при этом сильное опьянение. Позволял бессмысленно бормотать имена Масуд-бека, Джебраила и Ульджайбуги. Не возражал он, когда наименование барана доставалось не только злейшему врагу, но и вдумчивому племяннику, и даже сияющему небесному существу.
В своем шатре, куда ему помогли добраться телохранители, Хуссейн выпил еще с полдюжины чаш, проспал мертвецки богатырским сном до позднего утра следующего дня и тут же явился к Тимуру с упреками, что тот всячески тормозит их совместное выступление на север для изничтожения жалких ратей отвратительного шакала Ильяс-Ходжи.
Как выяснилось всего неделю спустя, Тимур был прав – чагатайский полководец действительно побаивался объединенного войска балхского и барласского эмиров. Он устроил себе укрепленный лагерь на невысоком плоском холме и в течение месяца не стронулся с места, решив, что лучшего места для сражения ему все равно не найти. Разослал повсюду небольшие отряды во главе с баскаками, дабы напомнить данникам улуса о накопившихся долгах. Только ближайшие ответили подобающим образом, то есть изъявили на словах покорность. Правда, денег никто не прислал. Отдаленные должники отказались покоряться и на словах. Повзрослевший и поумневший отчасти Ильяс-Ходжа не удивился – ждут, собаки, чем закончится его столкновение с эмирами. Дождутся.
Выяснилось также, что Ильяс-Ходжа тоже был прав, когда побаивался Хуссейна и Тимура. Во всех столкновениях, что произошли между чагатаями и воинами эмиров, победа была на стороне последних.
Хуссейн просто расцветал на глазах, очень быстро перешел от панического страха перед пришельцами из-за реки Сыр к презрению по отношению к ним.
С Тимуром скорее происходило что-то обратное. Он был ровен, спокоен внешне, но в сравнении с бурно воодушевленным другом мог показаться человеком, у которого тяжко болен близкий родственник.
Особенно это стало бросаться в глаза после того, как Хуссейн обратил в бегство авангард Ильяс-Ходжи, далеко выдвинутый навстречу эмирам и возглавлявшийся Охтан-нойоном, опытным полководцем.
Решительным броском по приказу Хуссейна вся конница объединенного войска опрокинула Охтана, долго преследовала и привезла в конце концов до полутысячи чагатайских голов на воздетых копьях.
Во время этой славной битвы Тимур находился в своей кибитке. Теперь он мог путешествовать на большие расстояния только таким образом. Перед битвой ему помогали взобраться в седло, и в нем он сидел достаточно твердо, придерживая повод искалеченной рукой и крепко сжимая рукоять меча здоровой левой. В случае необходимости он мог бы отбиться от молодого или не слишком искушенного противника.
Сообщение о великой победе Тимур встретил спокойно. Хуссейна это спокойствие задело, он тут же про себя решил, что брат просто завидует ему. Ну и пусть завидует, раз сам не может одержать победы, подобной той, что одержал он, Хуссейн, внук Казгана, отныне прославленный своей доблестью на весь Мавераннахр.
– Нельзя ждать, надо двинуться всей силой. Дорога к горлу Ильяс-Ходжи открыта, и мы перережем его.
– Надо собрать военный совет, – возразил Тимур, чем привел победителя Охтан-нойона в совершеннейшее недоумение. И того можно было понять. Такого рода советы собирались только в тех случаях, когда обстановка была или очень трудной, или страшно запутанной и непонятно было, что делать дальше. Ни одного из этих двух оснований для созыва совета Хуссейн не наблюдал. Да и не любил он ни с кем советоваться и с удовольствием бы отменил эту ненужную особенность степного уложения.
Но сейчас он решил согласиться:
– Совет? Хорошо, пусть будет совет.
Хуссейн был абсолютно уверен, что кого бы они ни позвали для обсуждения сложившейся картины, поддержат его, а не Тимура. Хочет колчерукий братец посоветоваться – пусть. Пусть получит оплеуху от своих же батыров. Нельзя останавливать хищника, почувствовавшего вкус крови во рту.
В шатре Хуссейна собралось до десятка человек. Мансур, Байсункар, Курбан Дарваза, Масуд-бек, Кунгар и Келиб, тысячники Хуссейна.
Чтобы не растягивать дело и не дать Тимуру замутить воду, Хуссейн первым взял слово и сообщил, с какой целью созвано это собрание.
По правде сказать, беки и батыры, очутившиеся в шатре Хуссейна, были немало смущены самим фактом того, что с ними хотят посоветоваться. Давно уже такого не было, какой-то здесь подвох. Самые умные догадывались, что этот совет – лишь внешняя сторона разногласий между эмирами.
Хуссейн, как это за ним водилось, сознательно сгустил краски, он заявил, что Тимур предлагает спасаться бегством (это после такой победы!), а он, неукротимый и бесстрашный Хуссейн, предлагает немедля атаковать логово Ильяс-Ходжи, отрубить его поганую голову и водрузить на колу посреди лагеря, чтобы во время победного пира каждый имел возможность посылать ей проклятия.
Закончив свою речь, Хуссейн воззрился на названого брата, готовясь выслушать шквал возражений и упреков и ответить шквалом на шквал.
Тимур молчал. По настроению батыров он понял, что возражения не принесут пользы.
Чтобы закрепить свою победу на совете, Хуссейн применил в качестве довеска к своей речи еще и риторическую фигуру:
– С нами Аллах, когда мы идем вперед и истребляем врага повсюду, где он нам встречается.
Тимур вздохнул:
– Аллах с нами, когда мы слушаем голос разума, а не носимся по земле, покорные только порывам своего настроения.
– Вот, – закричал Хуссейн, – вот, я же говорил! Ты предлагаешь нам бежать в тот момент, когда мы начали одерживать победы!
Высвободив из рукава левую руку, Тимур степенно погладил бороду.
– Не бежать, а спокойно вернуться и заняться укреплением Самарканда. Ильяс-Ходжа и до этого столкновения боялся нас, теперь он тем более не посмеет сунуться в глубь Мавераннахра. Он уйдет. И мы соберем половину дани с его данников.
– Почему половину? – удивился Курбан Дарваза.
– Чтобы они подчинились нам без сопротивления и даже с радостью, – улыбнулся Масуд-бек. – В их глазах мы будем и более сильными, чем чагатаи, и более справедливыми.
Тимур с интересом посмотрел на племянника Хуссейна: очень сообразительный. Очень.
Несмотря на всю разумность этих доводов, восторжествовала точка зрения Хуссейна. Слишком трудно воину-победителю в преддверии полной, почти гарантированной победы перестроиться на размышления о таких мелочных предметах, как определение доли дани, которую в каком-то неопределенном будущем можно будет получить с не вполне представляемых данников.
– Хорошо, – сказал Тимур, удостоверившись, что никто, кроме него, всерьез не помышляет об отходе на надежные позиции, что все рвутся в бой. – Хорошо, пусть будет по-вашему, но, Аллах свидетель, я предупреждал вас.
– Ты зря грустишь, брат, – улыбаясь одновременно радостно и великодушно, шумел Хуссейн, – ты только представь, как великолепна будет наша победа!
– Я представляю себе, как ужасно может быть наше поражение.
– Откуда, откуда у тебя такие мрачные мысли?
– Вспомни Сеистан.
– Не хочу! Не буду! Я давно забыл его. Совсем. И тебе советую сделать то же самое. Воистину советую, брат.
Медленно приподнявшись без помощи телохранителей, Тимур, очень заметно хромая, направился к выходу из шатра.
– Спасибо за хороший совет, брат.
Уже через два дня две армии стояли одна против другой.
Ильяс-Ходжа вывел своих людей из лагеря и расположил на пологом склоне. Его позиция была очень удобна и для атаки, и для обороны. С первым чагатайский полководец не спешил, а ко второму был полностью готов.
В тысяче шагов расположилось широкой дугой войско эмиров. Оно стояло на выжженной, потрескавшейся шкуре глинистого такыра. Стояла страшная духота.
– Чего ты ждешь? – спросил Тимур у Хуссейна. Само собой получилось так, что, взяв на себя всю ответственность за продолжение похода, Хуссейн приобрел и верховное руководство. И теперь он мог единовластно распоряжаться не только отрядами Кунгара и Келиба, но и тысячами Курбана Дарвазы, Мансура и Байсункара.
– Ты же знаешь, – недовольно дернув ноздрей, ответил брат брату.
Тимур действительно знал, что с минуты на минуту должен подойти отряд кокандского хана, вдруг в решающий момент перекинувшегося на сторону эмиров. Полторы тысячи сабель – утверждал посланец. Присоединиться к их войску хан должен был еще вчера вечером. Задержка раздражала Хуссейна, как раздражала бы, наверное, любого другого человека. Полководец тоже человек. Хотя полторы тысячи кокандских сабель выглядели подарком, свалившимся с неба, Хуссейн уже включил их в свои порядки, как будто имел их в своем строю всегда. Шахматист, которому пообещали, что позволят играть партию двумя ферзями, расстраивается, когда узнает, что играть придется все же по правилам.
– И все-таки на твоем месте я бы отдал приказ атаковать, – сказал Тимур, разглядывая из-под здоровой ладони горизонт.
– Куда ты смотришь? – усмехнувшись, поинтересовался брат. – Ты, наверно, забыл, где находятся чагатаи.
– Мне кажется, я увидел кое-что поинтереснее.
Хуссейн встрепенулся:
– Кокандцы?
– Н-нет.
– А что же?
– Посмотри сам.
Хуссейн тоже приложил руку к глазам:
– Ну, небо как небо. Только серое.
– Сизое. Это туча.
– Туча чего, Тимур?
– Обычная грозовая туча.
Хуссейн задохнулся от смеха и ткнул концом плетки себе под ноги:
– Посмотри сюда! – Под копытами коня лежала витиевато растрескавшаяся земля, многие дни не видевшая дождей. – Откуда здесь гроза в это время?
– Всякое бывает…
Хуссейн отмахнулся, подозвал к себе Келиба и Курбана Дарвазу, которые должны были возглавить во время атаки соответственно левый и правый фланги, и велел им ехать к месту и ждать сигнала.
– А вот теперь я бы тебе атаковать не советовал.
– Ты меняешь свои советы, как пенджабский врач. Если будет гроза, она разразится одновременно и над нашими головами, и над чагатайскими. А ждать больше нельзя, с рассвета наши люди сидят в седлах.
С этими словами Хуссейн вытащил из ножен свою саблю, и многократно этот воинственный жест повторили у него за спиной.
Когда все всадники, коим предстояло лоб в лоб сшибиться со стоящими в оборонительном строю ратями Ильяс-Ходжи, проскакали мимо и осела поднятая их копытами пыль, Тимур снова вгляделся в картину видоизменяющегося горизонта.
Он темнел очень быстро. Намного быстрее, чем это можно было себе представить, и намного быстрее, чем того хотел колчерукий хромец, застывший в одиночестве в тылу собственного войска.
Казалось, он просто заворожен этим грандиозным зрелищем, но оказалось, он выбрал этот момент для размышлений. И когда первый воздушный язык, предвестник неизбежной бури, коснулся волосяного хвоста, торчащего из шишака его шлема, Тимур подал знак телохранителям, стоявшим в некотором отдалении. Они мгновенно приблизились.
– Исмаил, – сказал он одному из них, – поезжай сейчас же в становище и приведи сюда кокандского посланца.
Половина неба была погребена под синевато-сизыми глыбами, движение воздушных масс перестало быть бесшумным. После того как от дымного брюха передовой тучи отвалилось несколько полыхающих волосин, тяжелый грохот обрушился на равнину.
Тимур оглянулся в ожидании посланного в лагерь телохранителя. Тот факт, что Исмаил долго не возвращался, ему явно не нравился.
Стоило на некоторое время стихнуть небесному громоизвержению, как спереди раздался как бы его отголосок. Не такой величественный, но с ужасающей, душераздирающей нотой в самой своей сердцевине.
– Скачет! – крикнул второй телохранитель.
Да, действительно, одинокая фигура приближалась со стороны лагеря. С левой стороны, как бы ударяя во фланг армии Хуссейна, валила стена дождя, хлеща опережающими струями горячую, взрывающуюся паром землю.
Исмаил подскакал как раз в тот момент, когда Тимура накрыло первым водяным опахалом, в тот момент, когда над головами эмира и его телохранителей лопнуло небо, вышвырнув целую кучу огненных костей на стол кровавой игры, поэтому первые слова прискакавшего утонули в этом шуме.
– Что ты сказал, повтори!
– Его нет!
– Ты посмотрел в других кибитках, может, он просто…
Телохранитель безжалостно покачал головой:
– Приставленный к нему человек зарезан.
И тут небо лопнуло во второй раз.
Кокандский хан никого не посылал, это был… но с этим потом. Вред, который этот подосланный обманщик мог принести, уже принесен, теперь надо разобраться с тем, что может натворить гроза.
А гроза старалась вовсю. В считанные мгновения глинистый такыр превратился в месиво. Липкое, как смола. Оно было не слишком глубоким, едва покрывало лошадиные копыта, но и этого было вполне достаточно, чтобы буквально обездвижить всю конницу. И вслед за водяными стрелами посыпались стрелы оперенные и смертельные.
Чагатаи, как уже говорилось выше, располагались на всхолмии, поросшем степной колючкой, то есть имели под ногами более-менее устойчивую опору.
Визг, вой, проклятия и все, что только можно вообразить себе, разносилось над гибнущей в объятиях предательской глины ратью. Лошади падали, бились и ржали, пытаясь встать на ноги, ломая в то же время ноги своим всадникам, ярость плеток их не вразумляла, а приводила в еще большее бешенство. Хуссейн пытался командовать, он не терял присутствия духа, так же как командующий унгкул-бронгаром (правым крылом) Келиб, равно как и славный и отчаянный Курбан Дарваза, возглавлявший левое крыло – сунгкул-джувонгар. Есть ситуации, когда мужество и стойкость воинов бессильны, не многим полезнее при этом решительность и упорство полководцев.
Непонятно, кто отдал приказ отходить. Впрочем, что тут гадать. Но что надо спасать свою шкуру, было ясно абсолютно всем. Раскачиваясь, как пьяная, волоча облепленные подлой грязью копыта, получая в спину отравленные стрелы и ядовитые насмешки, потащилась победоносная армия Хуссейна к своему боргаку – становищу.
Дождь продолжал лить, в нем было столько мощи, что он мог бы погубить еще десяток армий на этом куске жидкой земли.
Но нет худа без добра. Насмотревшиеся, что случилось с нападавшими, чагатаи не решились их преследовать, справедливо рассудив, что с ними липкая глина может сыграть ту же кровавую шутку. Как бы не превратилась ослепительная победа в грязное поражение. Таким образом у Хуссейна появилось время на то, чтобы спасти тех, кто не был погребен под телами собственных коней и не погиб от вражеских стрел.
Глубокой ночью, не дожидаясь, когда земля подсохнет, армия эмиров отправилась на юг.
Братья ехали в одной кибитке и молчали. Даже выпитый бурдюк вина нисколько не смягчил горе испытываемых переживаний. Чтобы не наносить брату дополнительных душевных ран, Тимур не стал ему рассказывать про историю с кокандским посланцем. Поражение было неизбежно, что можно сделать, если их перехитрили люди и возненавидела природа!
Расстались братья так же молча. Конечно, они понимали, что это не ссора, но вместе с тем догадывались, что вчерашняя гроза проложила между ними еще одну преграду, и кажется, немалую.
Об обороне Самарканда теперь не могло быть и речи, следовало сначала зализать раны.
Глава 3 Стены Самарканда
О Боже, да не будет того, чтобы нищий
стал почтенным человеком!
Шараф ад-Дин Али ЯздиВесть о разгроме армии эмиров достигла города через несколько дней после сражения. Она многих повергла в уныние и панику. Многих, но не всех. Те, кто мог видеть в это время Маулана Задэ, с удивлением обнаруживали, что он сделался бодр, деятелен, разве только не весел. Примерно так же держали себя Хурдек и-Бухари, Абу Бекр, их друзья и приближенные. Они словно почувствовали, что пробил их час. Повсюду сновали какие-то непонятные люди, вооруженные кинжалами, сосредоточенные и неразговорчивые. Выяснилось, что в городе полным-полно шиитских дервишей, они покинули места своего обычного обитания среди окраинных развалин, ими кишели рынки и улицы. Лавочники, и состоятельные, и небогатые, собирались в чайханах и обменивались бесконечными слухами. Главные касались того, что будет дальше.
Что будет делать Ильяс-Ходжа?
Что будут делать эмиры?
Кого будут убивать?
Кого просто ограбят?
Городские стражники как-то в одночасье утратили свою представительность и предпочитали не показываться в людных местах.
На базарах было много народу, как в обычные дни, но торговля практически замерла. Райаты из окрестных селений не появились утром со свежими фруктами и овощами. Все восприняли это как очень дурной сигнал.
Сказать, что неопределенность изводит и утомляет, значит, сказать малую часть правды. Город стал напоминать котел с закипающей похлебкой, да простится нам это избитое сравнение. По большей части «люди базара» были готовы и согласны на любой из двух мыслившихся реальными путей развития. Если эмиры решатся защищать город, обладатели домов, караван-сараев и лавок готовы были им за это платить. Если Ильяс-Ходжа одержит полную и решительную победу, они в принципе были готовы платить и ему. Разница между первым и вторым была для «людей базара» только в том, что чагатаю платить нужно было намного больше. В той или иной форме посетители почти всех чайхан и харчевен сходились на том, что платить придется. Желательно, конечно, поменьше.
Но дело в том, что любителями приятно побеседовать за ароматным чаем население Самарканда не исчерпывалось. Какие-то свои настроения бродили и клубились в хижинах бедноты, в среде всяческого сброда, которым обычно полон большой торговый город. И всегда этот сброд оказывается наиболее легко воспламеняемым материалом, когда над городом нависает какая-нибудь большая опасность.
То, что Самарканду на этот раз не удастся откупиться от грядущих неприятностей звонкой монетой, стало ясно ранним утром, на третий день после известия о поражении эмиров. И, конечно, в центре разворачивающихся событий оказался молодой богослов Маулана Задэ. Опоясанный воинским поясом, на котором болтались и сабля, и тяжелый таласский меч, он подошел к воротам дома, в котором предавался тревожному отдыху престарелый и уважаемый Абу Саид, в недавнем прошлом верховный мераб Самарканда, а ныне хранитель главной его печати.
Не обращая внимания на то, что час воистину ранний, Маулана Задэ громко постучал рукоятью меча в медную бляху, приколоченную на ворота.
В доме проснулись быстро, потому что никто толком и не спал. Слуга-старик был выслан спросить, кто это так нагло беспокоит старика – хранителя городской печати.
– Народ! – был дан ему гордый и звучный ответ, подтвержденный тремя десятками глоток тех, кто толпился за спиной своего вожака.
Ответ был столь необычен, заносчив и нелеп, что старик не сразу сообразил, в чем дело. Пришлось призывать еще кого-то. Стражники, которым было поручено охранять сон высокопоставленного чиновника, благополучно и благоразумно отсутствовали.
Все эти заминки и задержки разозлили толпу представителей народа. Она, что интересно, быстро разрасталась, что почти всегда случается в подобных ситуациях. Среди простых людей оказывается очень много желающих пристроиться в хвост к какому-нибудь начинанию. В ворота полетели камни, и послышались угрожающие крики.
Вот наконец ворота отворили. Маулана Задэ и десяток его спутников, увешанных оружием столь же угрожающе, как и он сам, вошли во двор.
Хранитель печати был, разумеется, перепуган до смерти, но старался держаться с достоинством. Была у него мысль одним начальническим окриком осадить эту шайку вооруженных оборванцев во главе с этим омерзительным наглецом. Была, но исчезла при виде того состояния, в котором находились и оборванцы, и наглец. Они были свирепы, мрачны, одновременно крикливы и готовы на все. Именно эта внезапно возникшая уверенность, что готовы на все и ни перед чем не остановятся, и заставила старика удержаться от первоначального плана.
Он уныло поприветствовал их и осведомился, что им нужно в столь ранний час.
Именно в этот момент власть перешла к Маулана Задэ и его сторонникам.
– Предательство не выбирает час, когда ему обрушиться на наши головы.
– Предательство? – испуганно спросил старик.
– Мы остались без защиты, ваши благородные эмиры бросили город на произвол судьбы.
– Бросили?
– Да, и бегут в Балх. Но зря они думают, что в состоянии нас предать. Найдутся руки, способные защитить Самарканд. – С этими словами Маулана Задэ воздел вооруженную руку и рассек утренний воздух сверкающим лезвием. Лес рук, отягощенных оружием, взметнулся следом, и послышались крики, утверждающие, что вот они, эти руки, нашлись.
– Вы хотите воевать с чагатаями? – осторожно и растерянно спросил Абу Саид.
Маулана Задэ подошел к старику вплотную.
– Это старый разговор, и сейчас поле спора останется за мной. Печать!
– Печать?
– Да, городскую печать!
Абу Саид не стал уточнять, зачем этому возбужденному молодому человеку она понадобилась, он просто снял с дряблой старческой шеи тяжелую серебряную цепь с привешенным к ней куском старинного золота.
Получив то, что хотел, Маулана Задэ крикнул:
– А теперь мы пойдем к начальнику городской стражи! Он мне очень нужен.
– Начальник городской стражи бежал, – послышался голос из толпы.
Маулана Задэ захохотал. Это известие его позабавило.
– Но тогда что? Тогда в квартал городских глашатаев!
– Зачем? – раздались вопросы.
– Да возвестят в Самарканде, что пора вставать. Сон закончился, у нас много дел.
За воротами, куда выскочил Маулана Задэ, волновалось уже целое человеческое море. Вид такого скопления народа не испугал и не смутил бывшего богослова.
– В соборную мечеть! В соборную мечеть! – воскликнул он, и тут же сотни голосов поддержали его:
– В соборную мечеть! В соборную мечеть!
– Да-да, и соберите туда всех богатых и важных, всех жирных и ленивых! Я буду говорить там.
В городе на некоторое время воцарилось совершеннейшее безумие. Но внимательный наблюдатель легко обнаружил бы в кипении этого внезапного возбуждения черты какого-то смутно различимого порядка. Бесновалась чернь, а в кварталах ремесленников можно было обнаружить нечто схожее с прежним порядком и даже сверх того. Группы вооруженных (и не чем попало) людей стояли в тех местах, откуда удобнее было следить за происходящим. Лавки были закрыты, но возле них собирались люди и кричали, что хозяину, должно быть, уши заложило, раз он до сих пор не в соборной мечети. Поневоле приходилось подчиняться. Люди состоятельные никогда ни с чем подобным не сталкивались, а такое столкновение парализует волю.
Самарканд был поделен на участки. В районе базара, оружейных лавок, конного рынка распоряжался Хурдек и-Бухари. Кварталы между медресе, банями, чинаровым садом и все ремесленные кварталы были отданы во власть Абу Бекра, трепальщиков и горшечников. На всех выездных путях стояли специальные караулы, так что желающему в этот день бежать из города сделать это вряд ли удалось бы при всей изобретательности. Да никто из имущих и не помышлял о побеге.
По всем улочкам города стекались к соборной мечети ручейки народа, вскоре под ее сводами и вокруг нее собрались тысячи людей. Все были переполнены ожиданием, что сейчас произойдет что-то важное.
Знатные и богатые стояли отдельной группой, инстинктивно сторонясь толпы. Здесь был и Абу Саид, хранитель, вернее сказать, бывший хранитель, городской печати, и Джафар ибн-Харани, торговец пряностями, привозимыми из южных районов Индии, человек известный тем, что пытался поддерживать хорошие отношения с предводителями сербедаров. Был здесь и Султанахмед-ага, превратившийся за те годы, что мы не встречались с ним, из помощника казначея в главного хранителя городской казны. Явились и другие, не успевшие заблаговременно унести ноги чиновники; не посмели уклониться и богатейшие люди города. Затравленно смотрел из-под густых черных бровей Джамолиддин, владелец оружейных лавок, истекал потом ковровщик Джавахиддин. Был здесь и Али Абумухсин, мулла соборной мечети. Он был поражен немотой, и на лице его читалась полная растерянность.
И этой растерянностью воспользовался Маулана Задэ. В природной решительности ему бы никто не отказал, да к тому же он был лучше всех готов именно к такому развитию событий. За то время, пока в мечети собирался народ, Маулана Задэ успел переодеться, на нем теперь был черный халат с зеленой каймой – в таких появлялись высшие городские чиновники. На груди его висела пущенная поверх халата серебряная цепь с главной печатью Самарканда. Рука опиралась на рукоять меча самым уверенным образом. Кто бы мог воспротивиться и воспрепятствовать человеку, облаченному подобным образом?
Так что когда Маулана Задэ выступил вперед, все, даже самые сановные и самые богатые, самые нетерпеливые и самые кровожадные, были готовы только к одному: внимательно слушать.
– Благородные жители Самарканда! – звучно и значительно сказал он, поднимая руки и прося таким образом, чтобы наступила тишина.
И тишина наступила.
Маулана Задэ заговорил.
Сначала он обрушился на жадных и трусливых эмиров, которые в дни мира и благополучия всячески грабили город, взимая незаконную подушную подать под видом пошлин и хараджа, а в дни войны бежали, спасая свои никчемные жизни.
Среди собравшихся в мечети были люди, по-разному относящиеся к эмирам, были даже те, кто считал, что нельзя приравнивать Хуссейна к Тимуру, но все они молчали, ибо трудно было что-либо возразить против произносимых обвинений.
А Маулана Задэ продолжал говорить.
Многие рассчитывают спастись, отделавшись от подступающего к городу Ильяс-Ходжи деньгами и подарками, говорил он. Это люди или трусливые, или наивные. После того как Самарканд отдался под защиту Хуссейна и Тимура, не простит чагатай его жителей. Заберет все, и хорошо, если только все закончится тем, что все деньги и все имущество будет отнято у неблагоразумных жителей Самарканда. Он, Маулана Задэ, например, думает, что у большинства будут отняты и их жизни.
И опять никто не решился возражать.
Далее человек в черном халате с зеленой каймой спросил у собравшихся, кто возьмет на себя защиту ислама и станет ответственным за эту защиту и перед знатными людьми, и перед простыми жителями.
Знатные хранили молчание, сбиваясь во все более тесную кучку. Они постепенно становились похожими на отару разодетых баранов, знающих, что их вот-вот поведут на заклание, но не находящих в себе сил для сопротивления.
Отвернулся от них бывший богослов, и презрение отчетливо выражалось на его лице в этот момент. Он повернулся к людям простым. Он чувствовал исходящую от них энергию, мощные волны понимания и приятия.
Он спросил у простого народа, окажет ли он ему поддержку, если сербедары возьмут на себя заботы по охране города, сербедары, доказавшие свою ненависть к чагатаям и готовность умереть за родной город, когда это понадобится.
Поднялся такой крик, что Али Абумухсин невольно поднял голову, инстинктивно опасаясь, как бы не рухнул величественный свод соборной мечети.
Кричали разное. И проклятия кровожадным чагатаям, и проклятия жадным и трусливым эмирам; доносились и угрозы в адрес знатных разодетых негодяев, пораженных ныне немотой. Угрозы по большей части исходили из уст должников, особенно тех, у кого подходил срок выплаты долгов.
Но главное, что можно было понять из общего шума, – народ безусловно и однозначно согласен, чтобы защитниками ислама и Самарканда стали сербедары во главе с решительным, справедливым и предусмотрительным Маулана Задэ.
Далее события развивались самым стремительным образом. Медлить было нельзя: со дня на день ожидалось появление армии Ильяс-Ходжи.
За оставшиеся в распоряжении нового руководства дни нужно было вооружить народ и придумать, чем защитить город.
С первым делом обстояло достаточно просто. Запылали горны кузнецов, к лавкам крупнейшего в Самарканде оружейника Джамолиддина явились люди и потребовали, чтобы он отворил ворота каждой из них.
Купец сдвинул свои черные брови и попытался быть не столь безропотным, как в тот момент, когда в его присутствии банда оборванцев захватывала власть в городе. Теперь, когда часть этой банды явилась за тем, чтобы отобрать у него его имущество, он стал возражать.
Но уже было и поздно и зря.
Когда он вцепился в рукав драного халата, принадлежащего одному из наиболее решительных сербедаров, который вытаскивал на улицу целую охапку дорогих хорасанских мечей в серебряных ножнах с рукоятями, украшенными китайской бирюзой, помощник грабителя, тип еще более отвратительный, оглушил купца ударом палицы из красного дерева, утыканной кремнями. И не просто оглушил. Джамолиддин издал глухой горловой звук, из его затылка струйками потекла кровь, и он обреченно завалился на бок.
Присутствовавшие при этом оборванцы на мгновение затихли, они еще помнили, что бывает за такое преступление, да еще совершенное против богатого и знатного человека. Но тот, что вытаскивал мечи из лавки, не растерялся и крикнул, что так будет с каждым, кто посмеет воспротивиться воле защитников родного города.
Толпа зевак возликовала.
Оказывается, то, что случилось на их глазах, не кровавое злодеяние, но торжествующая справедливость, и то же самое можно будет произвести с любым сопротивляющимся богатеем.
Это открытие было подтверждено тут же. Владелец седельной мастерской тоже неосторожно выразил сомнение в том, что он должен быть полностью ограблен из-за того, что какой-то недоучившийся мерзавец нацепил на себя черный халат с зеленой каймой и ходит, опоясавшись мечом бывшего начальника городской стражи.
Седельщика тут же закололи, причем уже без особых переживаний, и вскоре над толпой поплыли новые деревянные седла, сверкая на солнце не полностью просохшей краской, чем-то напоминая стадо золотых тельцов.
К ковровщику Джавахиддину тоже вломились, он уже был наслышан, как ныне принято поступать с упорствующими в сохранении своего имущества, и поэтому сопротивляться воле народа не стал. Хотел только выразить осторожное сомнение в том, что отобранные у него ковры принесут большую пользу в деле обороны города от чагатайских собак, но даже и от этого воздержался. Стоял в сторонке, смотрел, как очищают его лавку, тихо потел и еще тише радовался тому, что основную часть своего богатства – четыре кубышки с золотыми монетами – схоронил в надежнейшем месте, до которого никакому Маулана Задэ не добраться, хотя бы он окончил двадцать пять медресе.
Хранитель казны, когда к нему явились Абу Бекр и Хурдек и-Бухари, был уже наготове. Все ключи, необходимые для проникновения в хранилище, лежали на серебряном блюде.
Сербедарам понравилась такая покладистость, в веселом расположении духа они вошли в хранилище. Их настроение резко изменилось, когда они обнаружили, что казна пуста.
– Клянусь четками первого халифа[47], он издевается над нами! – сказал Хурдек и-Бухари.
Абу Бекр крикнул сопровождавшим его сербедарам, чтобы они немедленно схватили Султанахмеда, хранителя казны. Все и любые приказы сербедарских вождей исполнялись в этот день беспрекословно, но последний исполнен не был. Выйдя из хранилища, Абу Бекр и Хурдек и-Бухари увидели казначея, лежащего на полу подле высокой резной двери, украшенной перламутром. Рядом с телом стоял раб хранителя, удавивший своего хозяина по его просьбе.
– Зачем ты сделал это? – спросил Абу Бекр.
Наматывая красный шелковый шнурок на ладонь правой руки, раб объяснил, что такова была предсмертная воля его господина.
– А зачем он приказал себя удавить?
На этот вопрос ответил своему спутнику Хурдек и-Бухари:
– Он знал, что мы не поверим ему, что деньги сами собой исчезли из хранилища, и будем его пытать.
К середине дня три сербедарских вождя пришли к выводу, что образовавшийся в городе хаос погромов и грабежей не идет на пользу делу организации предстоящей обороны. Дав народным низам насытить чувство мести, вожди ввели в действие заблаговременно организованные отряды ремесленников и подтянутых тайно к городу вольных стрелков Хурдек и-Бухари.
Многих из этих вольных стрелков самаркандские купцы и землевладельцы Мавераннахра знали по большей части как разбойников, но с момента выступления Маулана Задэ в соборной мечети такое наименование их стало совершенно неподобающим.
Особо беснующихся и неукротимых грабителей связали и побросали в ямы городского зиндана вперемешку с разного рода купеческой мелочью. Иногда получалось так, что ограбленный сидел в вонючей духоте земляной ямы в обнимку со своим недавним грабителем.
После вспышки неуправляемого народного гнева воцарившийся на улицах порядок особенно бросался в глаза. Все, кто мог что-либо делать, делал. Кто не мог трудиться сам, помогал работающим. Если бы Самарканд нужно было с чем-то сравнить, правильнее всего его было бы сравнить с муравейником.
Оказалось, что у Маулана Задэ составлены очень длинные и при этом чрезвычайно точные списки всех тех, кто мог быть полезен в организации обороны. Про любого горшечника, медника, погонщика верблюдов, шорника, брадобрея, водоноса, каменотеса, трепальщика хлопка, валяльщика шерсти было известно, на что он способен, где он живет, и уже было предусмотрено, как именно он будет использоваться.
Оказалось, что за теми, кто мог бы попробовать уклониться от участия в общем деле, была предусмотрена слежка. Многочисленные дервиши, скопившиеся на окраинах города, расползлись по улицам и переулкам и держали под наблюдением чуть ли не каждый дом. Были ли эти дервиши настоящими дервишами, сказать трудно. Но то, что они являлись великолепными шпионами, оспаривать было бессмысленно.
За три дня почти непрерывных трудов сделано было следующее: все улицы и улочки Самарканда (за одним всего лишь исключением) были перегорожены завалами из бревен, необожженных кирпичей, бочек, разломанных арб и телег и всего прочего, что обычно применяется при строительстве подобного рода. Человек, решивший на коне добраться с окраины города в центр, ни за что не смог бы этого сделать. Помимо этих завалов такого решительного кавалериста на крыше каждого дома ожидали по два лучника, расположенных таким образом, чтобы даже опытный чагатайский воин не сразу сообразил, откуда именно по нему стреляют.
Хурдек и-Бухари, лучший специалист в обращении с любым видом лука на всем пространстве между реками Сыр и Аму, лично отобрал из числа согнанных на площадь перед соборной мечетью юношей тех, из кого можно было в течение нескольких дней сделать хотя бы отдаленное подобие стрелка.
Теперь о том исключении, которое было сделано при возведении завалов. Это была самая широкая и самая прямая улица, по которой проще всего можно было добраться к центру города: к базару, мечети, дворцу правителя и цитадели.
В чем была суть предложенного Хурдеком и-Бухари плана? Он собирался впустить чагатаев в город, дать им возможность добраться до центра и наводнить своей конницей искусственное ущелье, и только потом неожиданно ударить.
– Откуда ударить? – поинтересовался Маулана Задэ, в части военных изобретений сильно уступавший своему другу.
– Так же, как мы собирались это делать на всех прочих улицах, – с крыш. Только здесь будет не по два человека в каждом дворе, и не обязательно лучники, а все, кого удастся собрать. Надо заблаговременно разжечь все очаги в домах, прилегающих к центральной улице.
– А это зачем?
– Надо велеть водоносам, чтобы они не орошали эту улицу, пусть она будет сухой, как раскаленная жаровня.
Маулана Задэ не стал спрашивать, почему надо сделать именно так, он молчал в ожидании того, что великий лучник сам все ему объяснит. Но объяснил не Хурдек и-Бухари, а Абу Бекр:
– Когда пыль на улице высохнет и раскалится подобно песку пустыни, мы рассыпем хлопок.
– Хлопок?
– Да! – самодовольно просиял гигант, глава самаркандских трепальщиков. Ему было приятно, что он хотя бы в чем-то утер нос Маулана Задэ, самому умному, тому, от кого всегда исходили все главные замыслы и выдумки.
– Пожалуй, что я вас понимаю… – прищурил свои злые пронизывающие глаза бывший богослов.
– Мы рассыпем хлопок, много, очень много, весь, который найдем в Самарканде… и когда они войдут, мы начнем швырять горящие угли, факелы, пылающую ветошь им на головы и под копыта их коней…
– Да, Абу Бекр, да.
Хурдек и-Бухари подхватил тему:
– Кони их обезумеют, строй сломается, они уже не смогут сопротивляться, если даже у них и возникнет мысль о сопротивлении. И тут я отдам приказ лучникам…
Маулана Задэ вскочил со своего места, яростно сжав кулаки. До него дошла вся адская изобретательность этого плана.
– Ильяс-Ходжа победил Хуссейна и Тимура при помощи воды, мы победим Ильяс-Ходжу при помощи огня. Но…
Хурдек и-Бухари и Абу Бекр вопросительно посмотрели на своего друга.
– А почему вы думаете, что Ильяс-Ходжа запросто, как кролик, поскачет в нашу ловушку, не захочет ли он для начала послать лазутчиков?
Великий лучник отрицательно покачал головой:
– Ильяс-Ходжа, может быть, и силен, как показала битва с эмирами, но никто не скажет, что он мудр. Он горяч и мстителен. Он ненавидит Самарканд и знает при этом, что город не укреплен. Совсем.
Маулана Задэ сам продолжил речь Хурдека и-Бухари, как бы отвечая на свой собственный вопрос:
– Кроме того, воины его изголодались по добыче. После битвы в грязи ему ничем не удалось их вознаградить, эмиры ушли от него со всеми своими обозами.
– Ты правильно говоришь.
– Не станет великий победитель Хуссейна и Тимура – а он наверняка считает себя великим – натягивать поводья в виду незащищенного, набитого товаром Самарканда.
– В этом году в Самарканде много хлопка, – улыбнулся Абу Бекр.
Глава 4 Кеш
А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они вместе с теми из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они как товарищи!
Коран. Сура 4. Женщины. 71 (69)Тимур погладил сначала Джехангира, потом Омара. Мальчики стояли перед ним навытяжку, и в глазах их читалась робость, смешанная с волнением. Сыновья Айгюль Гюзель заметно подросли за то время, что не виделись с отцом, и теперь были ближе к юношам, чем к детям по своему виду. Да и то сказать, растущие в степных кочевьях взрослеют раньше, раньше наливаются силой и обретают ловкость, необходимую на охоте, чем их городские сверстники. Тимур сам в четыре года сидел на коне, в семь лет убил первое животное, а в двенадцать – первого человека.
Эмир повернулся к Тунг-багатуру, прибывшему вместе с мальчиками, и спросил:
– Что это у них на лицах?
– Укусы паразитов. Их было полно в этой прелой соломе, и я ничего…
– А моя жена, она не спешит меня увидеть?
Тунг-багатур сдержанно покашлял.
– Она смущена, хазрет… Эти кровососущие искусали ее еще хуже, чем твоих сыновей.
– Расскажи мне подробнее, в чем дело, откуда взялись эти паразиты. Неужели моя жена и мои дети жили в какой-то выгребной яме?
Старик замахал руками:
– Что ты, хазрет, они жили в моем доме… но в городе начались беспорядки…
Тимур нетерпеливо дернул щекой:
– Это я знаю.
– Взбунтовались сербедары. Они ограбили городскую казну, все богатые лавки, забрали печать…
– И это я знаю, старик, говори сразу о том, почему моя жена и мои дети прибыли ко мне искусанными!
– Я расскажу, расскажу. В городе стало опасно находиться. Они убивали даже мулл. Они отбирали все, что можно было отобрать…
Эмир снова дернул щекой.
– Ко мне в дом явились люди.
– Сербедары?
– В Самарканде все вдруг сделались сербедарами.
– Как они узнали, что моя семья находится у тебя? Хотя что тут спрашивать, шпионы Маулана Задэ знают все. Он еще тогда, в первый раз, догадывался, где прячутся мои родственники.
Тунг-багатур кивнул:
– В дом твоей сестры они не приходили. Они знали, что твоей жены там нет.
– И что же сделали эти люди?
– Они привезли две больших арбы и велели твоим детям и твоей жене лечь на дно.
Тимур не смог скрыть удивления:
– Лечь на дно арбы?
– Да, хазрет. Потом они велели вынести из хлева, где стоял скот, всю солому и, прости, хазрет, велели накрыть ею тех, кто лежал. Я спросил, зачем они это делают, в ответ они велели лечь на дно и мне. Они были непочтительны. Я сказал им, кто перед ними, но они велели мне молчать.
Эмир усмехнулся:
– Они правильно сделали.
Тунг-багатур, пытаясь понять, что имеет в виду его господин, наклонил голову набок.
– Важно не то, что они вели себя непочтительно, важно то, что они вели себя разумно.
– Объясни, хазрет, мои старые мозги не в силах постичь твои мысли.
– Вывезти всех вас под гнилой соломой – это был, видимо, единственный путь спасти вас.
Старик молчал, он никак не мог расстаться с убеждением, что навязанное ему сербедарами путешествие было формой особо изощренного унижения.
– Остается только установить, кто именно из сербедарских вождей решил оказать мне такую щедрую услугу.
– Они задушили людей, которых ты послал для спасения своей семьи.
– Правильно. Я бы и сам так сделал, будь я на их месте. Надо было чем-то подогреть ненависть к эмирам, бросившим город в трудный час.
Тимур ненадолго задумался, перебирая пальцами одной руки гранатовые четки, лежавшие на синем шелке его халата. Другой рукой он сделал знак, и из-за расшитой занавеси появился слуга. Тимур велел ему увести мальчиков:
– Они будут жить в саду, в алебастровом павильоне.
Потом эмир повернулся к сыновьям:
– Завтра мы поедем с вами на охоту.
Вслед за мальчиками ушел и старик Тунг-багатур. Настало время выслушать Байсункара. В «грязевой» битве друг детства эмира получил почти такие же раны, что и сам Тимур, только в левую руку и ногу. Это, конечно, еще больше сроднило их. Правда, теперь, когда Байсункар стал не способен к воинскому ремеслу, хазрет решил использовать его природную сообразительность и предусмотрительность на другом поприще. Он сделал его чем-то вроде визиря, советника, и, надо сказать, Байсункар справлялся со своими обязанностями, мог дать толковый совет, проникнуть в замыслы врагов.
– Как он себя ведет? – спросил Тимур у вошедшего визиря.
Речь шла о появившемся неделю назад в Кеше подозрительном купце. Он сразу же стал добиваться свидания с эмиром, всячески намекая, что принес известие чрезвычайной важности и мог бы принести огромную пользу Тимуру и всему его роду. После допроса с пристрастием, который учинил ему Байсункар, выяснилось, что прибыл этот фальшивый купец не откуда-нибудь, а из Хуталляна, прямиком от эмира Кейхосроу. Всегда, в любую минуту готовый к любым поворотам в своей судьбе и судьбах окружающих, Тимур тем не менее удивился. Есть о чем задуматься, когда к тебе посылает тайного посланца злейший враг твоего ближайшего друга. Самое плохое было в том, что посланец именно тайный. Открытое посольство можно было бы без зазрения совести повернуть от ворот Кеша обратно в Хуталлян и, известив Хуссейна, почивать на лаврах хранителя искренней дружбы.
Секретность посланца могла скрывать за собой очень многое. Тимур хорошо помнил кокандского вестника, явившегося в их с Хуссейном лагерь перед битвой с Ильяс-Ходжой. Допускал эмир даже ту возможность, что этот ряженый подослан самим названым братом. Слишком холодно расстались они, слишком многое легло между ними. Хуссейн вполне мог проникнуться желанием проверить – не слишком ли многое?!
Впрочем, названый брат никогда не отличался тягой к интригам, и его трудно было представить замышляющим какую-нибудь умственную каверзу. Жадность, лихость и заносчивость – вот основные краски, в которых рисовался его образ.
Но, с другой стороны, ему могли подбросить лукавую мысль о том, что неплохо бы распознать, разведать планы скрывшегося в Кеше брата. О том, что при Хуссейне есть лукавые и умные советчики, Тимур знал очень хорошо. Достаточно было вспомнить о Масуд-беке. Этот юноша забирается мыслью далеко в будущее и готов на многое сейчас, чтобы в этом будущем обеспечить себе достойное существование.
Тимур тряхнул головой, как бы стараясь избавиться от паутины мыслей.
– Так как он себя ведет?
– Стоит на своем. Утверждает, что прибыл от властителя Хуталляна, клянется местом в раю, что это так, и желает говорить с тобой, хазрет.
– Он не пытался бежать?
Байсункар покачал головой, улыбаясь:
– Нет. У него нет возможности попытаться. Но если ты скажешь, легко сделать так, чтобы у него появилась такая возможность.
Четки Тимура соскользнули сначала с руки, потом с гладкой ткани халата на пол, и Байсункар быстро наклонился и поднял их.
– Пусть придет.
Когда посланец Кейхосроу появился перед ним, эмир с трудом сдержал усмешку. Причем относилась она не к несчастному жирному коротышке со связанными руками, а к хитроумному визирю Байсункару. Дело в том, что тот, рассказав о посланце все, что только можно было рассказать, вплоть до мельчайших деталей, забыл упомянуть о том, что лежало на поверхности: хуталлянец был крив на один глаз.
Одет он был так, как и подобало купцу, только от недельного пребывания в городском зиндане одежда его обтрепалась, чалма из белой сделалась землистого цвета. Движения, которые он попытался произвести, представ пред светлые очи кешского правителя, обнаруживали в нем человека, наслышанного о приемах придворного обхождения. Впрочем, эмир, большую часть жизни проведший в седле да в походном шатре, не научился ценить тонкости дворцового этикета оседлых правителей и поэтому решил, что телодвижения, совершаемые кривым хуталлянцем, скорей всего, проявление нервной болезни, как это бывает у особо рьяных дервишей.
– Кто ты и как тебя зовут?
Посланец заговорил, и речь его почти с первых слов утомила Тимура. Необыкновенно витиеват и усложнен был слог этого человека, а произносимые им слова ничего при этом не выражали. Эмир, конечно, знал о том, что при помощи слов можно не только о многом рассказать, но еще больше скрыть, но впервые видел перед собой человека, обладающего этим умением в столь высокой степени. И этот человек его не восхитил.
– Уведи его, – сказал он Байсункару, – пусть ему дадут десять плетей.
– А потом?
– Потом сюда.
Посланец стоически снес порку, всего лишь два раза сдавленно вскрикнул. Правду сказать, били его поверх халата, что вдвое смягчило удары. К чести его или, вернее, к его уму, он понял, за что его бьют. Поэтому, когда его снова бросили к ногам эмира, он тут же объявил, что его зовут Мутаваси Ариф и что послан он великолепным и добронравным властителем Хуталляна с тем, чтобы предложить блистательному и великодушному эмиру дружбу властителя.
– И больше ничего? – саркастически ухмыльнулся эмир.
– О, любимец Аллаха и неодолимый властитель Кеша не может не знать, что есть две дружбы. Одна истинная, другая лживая. Первая подобна золотому сосуду, куда можно собрать все блага жизни, вторая – всего лишь худой глиняный горшок, из которого утекает в песок все, что бы ты туда ни собрал.
– Ты еще захотел плетей?
– О нет, лучший из справедливых, но то, что я сказал, по-другому сказать было нельзя.
Тимур сменил позу, давая большую свободу затекшей ноге.
– Кого сидящий в Хуталляне считает золотым сосудом, а кого худым горшком?
Мгновенная и неприятная улыбка пробежала по лицу Арифа, и без того не награжденному приятностью.
– Мой господин знает, как золото и глина распределены в твоем сердце…
Тимур перебил:
– И хочет меня уверить, что распределены неправильно, ты это пришел сказать?
Одноглазый потупился, пораженный притворной скорбью.
– Тогда говори.
– Пославший меня знает о давности и об истоках твоей дружбы с одним достославным воителем. Воитель этот кровью грешен перед владетелем Хуталляна, сверкающим Кейхосроу. Но блеском своей добродетели затмевающий солнце господин мой…
– Плеть! – крикнул Тимур, и глаз говоруна испуганно забегал меж воспаленных век.
– Не винит, совсем не винит мой господин тебя за дружбу с согрешившим против него!
– Вот оно что?
– И даже если волей ваших дружеских связей ты выступишь на стороне кровавого грешника против моего господина, то и тогда его сердце не закроется для тебя.
– Теперь ты все сказал?
– Почти все.
Тимур опять усмехнулся, еще более саркастически, чем некоторое время тому назад.
– Ты сказал почти все, но не сказал почти ничего. Зачем Кейхосроу, зная мой характер, послал ко мне такого болтуна? Или в Хуталляне не умеют говорить по-другому?
– В Хуталляне умеют говорить по-всякому, непревзойденный среди великолепных, но понимают лучше тогда, когда говорят именно так, как говорю я.
– Сказано, и ты не можешь не знать этого: не устоит тот город, где, чтобы выразить простую мысль, говорят сложные слова.
– Воистину сказано, – низко-низко, почтительно-уничижительно поклонился посланец.
– Итак, Кейхосроу собирается напасть на Хуссейна и предупреждает меня, чтобы я не приходил к нему на помощь.
Хуталлянец отчаянно затряс щеками, и чалма его съехала на правое ухо.
– О нет, величайший, нет! Ты меня неправильно понял. Видишь, что получается, когда сложные мысли превращаешь в простые слова?
Тимур взмахнул здоровой рукой:
– Сын шайтана! Говори мне прямо, что задумал Кейхосроу, чего он от меня хочет! Что собирается мне сообщить? Говори, или я заставлю моих стражников снять с тебя халат и велю не останавливаться на десятом ударе!
Мутаваси Ариф испуганно прищурил свой единственный глаз и произнес тихо, с неожиданным для себя выражением:
– Не верь Хуссейну.
– Почему?
Купец вернулся к своему обычному языку:
– Потому что, когда ты открываешь ему объятия приязни, он готовит для тебя объятия смерти.
Тимур откинулся на подушки, пососал мундштук кальяна, раздувая крылья своего широкого носа.
– Вот ты сейчас говорил, что пославший тебя велик и умен.
– Если ты так понял мои речи, то я рад.
– Но если он умен, то почему он рассчитывал, что я поверю словам какого-то одноглазого проходимца и ради них нарушу оскорбительными подозрениями свою братскую дружбу с эмиром Хуссейном?
Проходимец молчал, глядя в пол, у него появилось чувство, что зря он добивался и добился встречи с Тимуром, разумнее было бы оставаться в затхлой тишине каменного мешка в зиндане.
– Кейхосроу ненавидит Хуссейна и хочет ему отомстить за смерть брата, и он знает, что я это знаю. Зачем он присылает тебя? Мне слишком понятно, для чего ему нужно оговорить в моих глазах Хуссейна!
Молчал проходимец, молчал, ибо был согласен со словами, выходящими из уст колченогого эмира.
– Посылая тебя, он должен был отправить с тобой доказательства того, что Хуссейн против меня что-то замышляет.
Не поднимая головы, Мутаваси произнес:
– Мой господин сказал, что главные доказательства ты отыщешь в своем сердце.
– В своем сердце?
– Да, он сказал, что проницательный Тимур еще и до моего появления в его дворце знал, что эмир Хуссейн должен против него что-то замышлять.
Тимур снова потянулся губами к мундштуку, но раздумал. Слова этого одноглазого ничтожества блеснули вдруг искоркой какого-то смысла.
– В сердце, в своем сердце…
– Да, так именно он и сказал.
– Ну, хорошо, я покопаюсь в нем, – Тимур положил ладонь, обремененную четками, на левую часть груди, – и добуду главные доказательства. Но, как я понял, есть и еще какие-то, более мелкие, менее важные?
– Они в Хуталляне, у моего загадочного, подобно лунному диску, господина.
– Почему же ты не привез их сюда?
– Не все планы хуталлянского властителя известны мне. Быть может, некие люди уже везут их сюда.
– Хорошо, я подожду. А ты…
Посланец Кейхосроу отправился в зиндан и, надо сказать, был несказанно рад хотя бы тому, что отправился не на виселицу.
Глава 5 Хлопковый кошмар
Никто не знает, что его ждет.
Никто не знает, где и когда его ждет то, чего он не знает.
Никто не знает, хочет ли он того, что ждет его неизвестно где и неизвестно когда.
Кабул-Шах, «Дервиш и его тень»Хурдек и-Бухари и Абу Бекр ошиблись, но ошиблись только в одном: Ильяс-Ходжа не ворвался в Самарканд, а вошел в него медленно и даже неторопливо. Было ли это проявлением его опасений или, наоборот, знаком чрезмерной уверенности в своих силах, сказать трудно. Пожалуй, имела место смесь одного и другого.
Окруженный кольцом телохранителей, чагатайский военачальник держал левой рукой повод, другой опирался на луку седла. Глаза его скользили по домам, проплывавшим справа и слева.
Рядом, отставая на полшага, ехали Баскумча и Буратай, предводители первого и второго туменов. Они держали свои вынутые из ножен сабли поперек седел и смотрели по сторонам с не меньшим вниманием, чем Ильяс-Ходжа.
Картина, открывшаяся победоносно въезжающей в город армии, несомненно поразила воображение степняков вне зависимости от занимаемого ими места в кочевой иерархии. И простой воин, и десятник, и сотник, и начальник тысячи – все молча спрашивали себя: в чем дело?
– Что тут у них произошло? – раздувая ноздри, словно стараясь унюхать какие-то запахи и хоть так разобраться в происходящем, сказал Баскумча.
– Испугались и попрятались, – высказал свое мнение молодой красавец Буратай. Никогда и ничего на свете он не боялся, даже тех, кто нападал на него с самой безумной яростью, так имеет ли смысл пугаться того, кто бежит и прячется?
Ильяс-Ходжа недовольно покосился на своего батыра. Он очень изменился за последние годы, сын Токлуг Тимура, жизнь многому научила его. Например, тому, что беззаботная храбрость и презрение к неприятелю – не самый короткий путь к победе.
Плотной колонной шириной в шесть лошадиных крупов втягивалась темная тысяченогая змея в извилистую глотку. Змея ползла медленно, поэтому поднимаемая ее многочисленными копытами пыль не взлетала даже до лошадиных ноздрей и клубилась бесшумными облаками у них в подбрюшье.
Хурдек и-Бухари, наблюдавший эту в высшей степени впечатляющую картину из специального укрытия, устроенного на минарете соборной мечети, молил Аллаха только об одном: чтобы у бесчисленных ополченцев, ждущих сейчас его сигнала, не сдали нервы и они не начали забрасывать горящими факелами вражескую конницу раньше времени, пока та не втянулась в городское горло достаточно далеко. Пока голова этой змеи не достигла «желудка» – площади перед мечетью.
Медлительность, убийственная неторопливость чагатаев изводила и его самого, человека, лишенного какого бы то ни было намека на нервы.
Ноздри Баскумчи что-то учуяли.
– Пахнет горелым, – сказал он, по-собачьи вертя головой.
Ильяс-Ходжа тоже огляделся и тоже принюхался, но царский нос не мог сравниться с охотничьим.
– Что ты говоришь, чем это пахнет?
– Горит кизяк, горит камыш…
Буратай усмехнулся:
– Ну и что, все в Мавераннахре топят печи кизяком и камышом.
На это трудно было что-то возразить, но Баскумча чувствовал, что опасность, присутствие которой в воздухе затаившегося Самарканда он явно ощущал, как-то связана с запахом кизячного дыма, блуждающего за дувалами близлежащих домов.
– Может, нам повернуть назад? – неуверенно поинтересовался Ильяс-Ходжа у своих спутников. Но когда начальник спрашивает неуверенно, он всегда получает отрицательный ответ.
Буратай обернулся назад и присвистнул:
– Уже поздно.
– Мы не сможем развернуться, – неохотно подтвердил Баскумча.
– Не понимаю, чего нам здесь бояться? – бодро крикнул Буратай. – Да разбежались они все из города. Услышали о поражении своих эмиров и о нашем приближении, испугались чагатайской мести. Даже печи свои загасить толком не успели…
Чем убежденнее говорил молодой батыр, тем сильнее было подозрение Ильяс-Ходжи, что он, забираясь в глубину молчаливого города, забирается одновременно в какую-то ловушку. Не зная еще, что он решит в следующее мгновение, чагатайский полководец остановил своего коня.
Остановились и Баскумча с Буратаем.
Остановилось кольцо телохранителей.
Постепенно замерла и вся конная колонна.
Эта внезапная остановка в глиняных теснинах совсем не добавила уверенности в себе тем, кто эту колонну составлял. Степняк любит простор и не любит тесноты.
Хурдек и-Бухари выругался и яростно ударил себя кулаком по колену:
– Что-то почуял, собака!
До «желудка» оставалось не менее двух сотен шагов.
– Ты думаешь, они сейчас поползут обратно? – спросил Маулана Задэ, стоявший рядом и нервно расцарапывавший себе щеку грязными ногтями.
Великий лучник опять ударил себя кулаком по тому же самому колену.
– Не знаю, но больше медлить нельзя. Мы не можем упустить такой случай.
Хурдек и-Бухари выскочил из своего укрытия и стал размахивать большим зеленым полотнищем. Это был знак лучникам, стоявшим у входа на базар, у главного караван-сарая и на дне высохшего водоема.
Тремя дымными пучками взмыли в небо до полусотни подожженных стрел. Их было отлично видно из любой точки города, великий лучник все рассчитал правильно.
Стрелы были видны не только отовсюду, но и всем, в том числе и чагатаям. Сердца всадников упали в копыта коней при виде черных полос, внезапно перечеркнувших небо. Но волнение их было недолгим, потому что вслед за немым полетом черных молний на них обрушился ужасающий гром.
С каждой крыши, из-за каждого дувала полетели факелы, охапки горящей соломы, горшки с раскаленными углями, пылающие тряпки, головешки. Все это сопровождалось бешеными криками все еще невидимого противника.
Между копытами коней побежали небольшие огненные ручейки полыхающего хлопка, подожженного тем горючим мусором, который всадники сбрасывали на землю со своих голов и халатов.
Взаимоотношения животных с огнем всем отлично известны. Паника человеческой толпы, попавшей в страшную засаду, ничто в сравнении с безумием лошадиного табуна, попавшего в засаду огненную. Если люди еще пытались слушаться голоса рассудка, который силен в бывалом воине, то лошади абсолютно и наотрез отказывались слушаться голоса поводьев. Через несколько мгновений после траурного полета стрел в небе восставшего Самарканда треть самоуверенной чагатайской конницы валялась на пылающей земле, а остальные две трети безуспешно пытались развернуться на образовавшихся вдруг горах горелого мяса, бывшего еще минуту назад людьми и лошадьми.
Огонь сказал свое слово, и тогда в конную змею, в жутких судорогах пытающуюся выбраться из собственной, быстро отмирающей кожи, полетели камни, стрелы и все, что оказалось под руками у защитников города.
Как ни странно, когда дошло до нормального сражения, до стрел и клинков, чагатаи немного успокоились. Они выползали, обдирая в кровь бока, из города, но при этом довольно результативно отстреливались.
Вечером этого же дня в доме бывшего начальника городской стражи собрались вожди восстания. Вокруг дома стояло несколько десятков охранников с копьями и факелами – при прежнем хозяине дома не выставлялось и трети этого количества. Из темноты то и дело появлялись какие-то люди, шептали на ухо охранникам условные слова и беспрепятственно проникали внутрь дома. Маулана Задэ, Хурдек и-Бухари и Абу Бекр по докладам своих осведомителей старались составить картину того, что представлял собой Самарканд после утреннего сражения. Постепенно они пришли к выводу, что картина получается не столь радостной, как того хотелось бы.
Во время своего отступления чагатаи застрелили и зарубили очень много защитников города, которые по неопытности своей кинулись преследовать ненавидимого всем сердцем врага, желая добить его. Но оказалось, что враг ранен отнюдь не смертельно, что не издыхает он и способен сопротивляться и отвечать ударом на удар.
– Не может быть! – воскликнул Абу Бекр, когда ему сообщили, сколько убитых и раненых насчитывается в кварталах ремесленников – самой надежной опоры новой власти.
Второй большой неприятностью были пожары. Когда в городе, построенном наполовину из сухой соломы, разводят сотни костров, избежать пожаров практически нельзя. И они вспыхнули. Пыл боя смешался с жаром горящих домов. Выгорели десятки кварталов, а значит, появились новые сотни бездомных.
А бездомные почему-то всегда голодны. Человек с пустым желудком и без крыши над головой не способен долго размышлять о предметах высоких и более-менее отвлеченных. Поздно или рано, но он впадает в апатию или раздражение и становится неуправляем.
Каждый из сербедарских вождей так или иначе чувствовал это.
И вот, когда над Самаркандом уже стояла глубокая ночь, когда пахнущий дымом и спекшейся кровью город начал наконец засыпать, к дому начальника городской стражи явился очередной вестник.
Он был тоже пропущен беспрепятственно. Стражники, сделавшие это, смотрели вслед ему с нескрываемой тревогой. Вестник ничего не сказал сверх того, что было необходимо, но все почувствовали – новость, которую он несет, нерадостная.
Вожди восстания сидели в большой комнате за роскошно накрытым дастарханом, при свете многочисленных светильников, но было слишком заметно, что настроение у них вовсе не праздничное.
Когда пропущенный телохранителями вестник ступил на покрывавшие пол ковры, наиглавнейшие сербедары немедленно обратили на него испытующие взоры.
Хурдек и-Бухари отставил чашу вина.
Абу Бекр отложил баранью кость.
Маулана Задэ бросил на золоченое блюдо виноградную кисть.
Вестник опустил глаза и глухо повторил:
– Они не ушли.
Удар ножом в сердце принес бы пирующим победителям меньшую боль, чем эти слова.
Чагатаи сочли все произошедшее на улицах Самарканда не поражением в войне, а всего лишь неудачей во второстепенном сражении.
Хурдек и-Бухари рассеянно приподнял отставленную было чашу. Абу Бекр вернулся было к своей баранине, но, почувствовав вдруг глубочайшее отвращение к еде, злобно отшвырнул сочный кусок мяса.
И одному и другому было ясно – если Ильяс-Ходжа предпримет настоящую, по всем правилам осаду города, защитить Самарканд не будет никакой возможности.
В амбарах почти нет хлеба.
Купцы попрятали большую часть товаров.
Без регулярного подвоза топлива через неделю остановятся кузницы и невозможно будет выковать даже наконечник для стрелы.
Ремесленники, составлявшие главную ударную силу сегодняшней битвы, не способны к войне долгой и изнурительной. Уже ночью, зализывая раны, они спрашивают себя, зачем они дали втянуть себя в эту историю.
А что говорить о городской черни? И главное: Самарканд не крепость. Нельзя же считать укреплениями кучи мусора, кое-как насыпанные на улицах!
Ильяс-Ходжа потерял много людей, но это значит лишь то, что оставшиеся в живых будут лить кровь и за себя, и за убитых.
И тут, среди потока безрадостных размышлений своих соратников, поднялся Маулана Задэ. На его рябом лице рисовалась какая-то неожиданная решительность.
– Позволено ли мне будет братьями моими удалиться на самое небольшое время для разговора большой важности?
Хурдек и-Бухари и Абу Бекр поглядели на него недоверчиво. Им обоим не слишком нравилась чрезмерная таинственность, которую развел вокруг себя бывший слушатель медресе. Особенно их задевало то, что он не спешил посвятить своих братьев в обстоятельства своей секретной жизни.
С кем он встречается?
Для чего?
Не начал ли он плести какую-то особую сеть, в которую, может быть, рассчитывает поймать и трепальщика хлопка, и стрелка из лука?
Не помышляет ли он об единоличной власти?
Такие мысли не могли не появиться в головах Хурдека и-Бухари и Абу Бекра. И особенно остры они были в моменты наибольшего успеха, когда будущее казалось дорогой от одной вершины к другой.
Другое дело такие дни, как сегодняшний. Легко отказаться от своей доли, когда нечего делить.
Может быть, таинственные дервиши Маулана Задэ помогут и спасут тогда, когда уже никто не в состоянии помочь и спасти?
Почувствовав молчаливое согласие своих соратников, бывший богослов неторопливо вышел из ковровой комнаты.
Где он провел остаток ночи, не узнал никто, по крайней мере никто из тех, кто трапезничал с ним вечером. Результаты его таинственных действий сказались (и уже на следующее утро) в лагере чагатаев.
Ильяс-Ходжа улегся спать на рассвете, ибо только на рассвете закончил советоваться с Буратаем, Баскумчой и другими предводителями туменов из числа тех, что остались в живых и не были тяжело ранены.
Здесь, так же как и в самаркандском дворце, шел подсчет раненых и убитых, здесь, так же как и на сербедарском совете, пытались определить, чего можно ждать от нового дня. Перед тем как лечь спать, чагатайский полководец решил, что оснований для отступления от Самарканда нет. Что толпа взбунтовавшейся черни, несмотря на то что ей сопутствовал успех при первом столкновении, все же не тот противник, от коего надо спасаться бегством.
Горячий и молодой Буратай сразу же поддержал Ильяс-Ходжу в этом решении; Баскумча, славившийся своей осмотрительностью, поначалу возражал, но и то, как потом выяснилось, лишь для очистки совести.
Проснулся Ильяс-Ходжа в бодром и почти веселом настроении. И сразу же направился к шатру, где вчера происходил совет. Стоявшие у входа в шатер стражники склонились перед царевичем.
Он вошел внутрь.
Стражники приняли обычное положение. И вдруг у них за спиной раздался сдавленный крик. Они бросились внутрь, и вот какая картина открылась их глазам.
Посреди шатра на большом серебряном блюде лежали две отрезанные головы, и обе смотрели тусклыми глазами на вошедших.
Все вокруг было залито кровью.
В углу валялись завернутые в одеяла тела.
Сквозь отверстие в крыше шатра падал яркий утренний свет, подчеркивая жуткую мертвенность лежащих голов и тусклый отблеск их глаз.
Но самое главное – головы принадлежали Буратаю и Баскумче.
Придя немного в себя, Ильяс-Ходжа велел казнить стражников, дежуривших возле шатра той ночью. Он не спрашивал, кто убил его лучших и вернейших помощников. Он задавался только одним вопросом: случайно ли он сам избежал беззвучной смерти или…
Но если он и среди своего войска не защищен от кинжала тайных убийц, то…
Такими страшными сомнениями был обуян чагатайский царевич. Он потерял уверенность, стоит ли ему продолжать осаду страшного города Самарканда. И когда пришло известие, что разгромленные им и дождем эмиры Хуссейн и Тимур собирают силы, чтобы явиться на защиту города, Ильяс-Ходжа отдал приказ – отступать.
Глава 6 Кан-и-Гиль
Вернувшись в город своего детства, ты не станешь ребенком.
Встретившись с другом, предавшим тебя, ты подумаешь не о дружбе, но о предательстве!
Фаттах аль-Мульк ибн-Араби, «Книга благородных предсказаний»Кан-и-Гиль – название места, где, встретившись после недолгой разлуки, братья-эмиры разбили свои шатры.
Не слишком они обрадовались друг другу, лед, появившийся в их сердцах после «грязевой» битвы и отступления из Самарканда, и не думал таять. Но глубоко заложенный в них инстинкт власти подсказывал каждому, что в данной ситуации им надлежит действовать совместно. Нельзя было допустить, чтобы у новых хозяев города хоть на мгновение появилась надежда на то, что они смогут сыграть на недоверии эмиров друг к другу.
Так что они, не сговариваясь, поставили свои богатые шатры рядом, повсюду появлялись вместе и всячески демонстрировали полное взаимопонимание. Люди наивные или несведущие могли подумать, что вернулись времена первоначальной дружбы Хуссейна и Тимура. Оба эмира очень желали, чтобы именно такое мнение сложилось у сербедарских вождей.
На следующий день после воссоединения ратей этим вождям было выслано приглашение на дружескую встречу. Гонцы, отправленные с этим приглашением, должны были создать у Маулана Задэ, Хурдека и-Бухари и Абу Бекра ощущение, что эмиры восхищены их действиями, полностью их одобряют и предлагают подобающим образом вместе отпраздновать такое великое событие, как разгром чагатайской армии.
Для этой цели от Хуссейна был выбран хитроумный Масуд-бек, от Тимура – его визирь, увечный Байсункар.
Как только посланцы дружбы прибыли в город, сербедарские вожди собрались на совет. На нем стоял всего лишь один вопрос: как вести себя дальше?
Было понятно, что Хуссейн и Тимур не ангелы и главная их цель… отнять у победителей плоды их победы. Но, с другой стороны, все трое понимали, что именно появление конницы эмиров явилось одной из причин отступления Ильяс-Ходжи и, стало быть, они имеют какую-то часть в плодах победы. Так что предстояло определить размеры этой части.
– Дружба! Они нам предлагают дружить?! – хохотал Абу Бекр, лупя себя огромными красными ладонями по обширному животу, обтянутому дорогим халатом.
– Такую дружбу предлагает сборщик податей райату, а волк ягненку. Как только мы впустим их в город, и нам, и всем делам нашим придет конец. И все вернется на прежние пути, богатый снова станет богатым, а тот, кто всю жизнь был согнут непосильной работой, вновь будет вынужден согнуть свою спину. И хорошо еще, если палка вернувшегося господина хотя бы первое время будет эту спину щадить.
Разговор происходил во дворе дома Джафара ибн-Харани. Торговец индийскими пряностями всегда с тайной симпатией относился к сербедарскому движению вообще и к Маулана Задэ, в частности. А теперь, когда висельники пришли к власти, поспешил эти отношения укрепить. Он справедливо рассудил, что любой власти, как бы она себя ни называла, рано или поздно понадобятся те, кто умеет торговать. Так почему не стать первым, а стало быть, и главным торговцем новых правителей? Он обратился к трем вождям с почтительнейшим предложением перебраться из неудобного дома начальника городской стражи в его дом, значительно более обширный и роскошный. Купец, разумеется, предупреждал, что ни в коем случае не собирается тревожить спокойствие гостей своим хозяйским присутствием. Он поселится в другом доме и будет терпеливо ждать того светлого часа, когда кто-нибудь из вождей не захочет его увидеть.
Солнце еще только начало свое восхождение к полуденному трону. Воздух был легким, но вместе с тем густо напоен приятными запахами, свойственными этому времени суток. Под раскидистыми непроснувшимися деревьями, на ковре неописуемых размеров, возлежали советующиеся, ели, пили и разговаривали о вещах, которые могли впрямую повлиять на их ближайшую судьбу.
– Я тоже не верю им, – сказал Хурдек и-Бухари, – они ласковы, пока не все в их руках. Чего я могу ждать от Хуссейна, когда он знает, что когда-то я грабил караваны, принадлежавшие его отцу?
Эти слова вывели Маулана Задэ из состояния задумчивости, в котором он находился.
– Караваны?
– Да, караваны. – Хурдек и-Бухари усмехнулся: – Ты забыл, что когда-то я был разбойником. Но даже если ты забыл, Хуссейн не забудет никогда.
– Так же как и то, что я – простой ремесленник. Что я никогда не стану вровень с ним. И чтобы я не попытался это сделать, пока в моих руках есть сила, врученная мне народом, он, клянусь Аллахом, постарается меня убить, – сказал Абу Бекр.
– А почему вы все время говорите только о Хуссейне? Ведь их двое, названых братьев.
Стрелок из лука помотал головой:
– Из увечного человека никогда не получится настоящего правителя.
Абу Бекр согласился:
– Хуссейн намного знатнее, и уже давно у них все решает он, так все говорят.
Маулана Задэ на это ничего не ответил и снова впал в задумчивость. Соратники его не тревожили. В их отношении к бывшему богослову в последние несколько дней произошли определенные изменения. Они конечно же слышали о том, что случилось в шатре Буратая и Баскумчи, и хотя Маулана Задэ ни о чем прямо не говорил, они внутренне признали его полное над собой превосходство.
Всегда чувствовали, а теперь признали окончательно. Ни один, несмотря на свою огромную физическую силу и большой авторитет среди ремесленников Самарканда, ни другой, несмотря на разбойничью славу и невероятное мастерство во владении оружием, не могли себе даже представить, как можно было сделать то, что сделал этот рябой хитроглазый сербедар.
Он сделал это, он запугал чагатайского царевича до того, что тот без повторного сражения обратился в бегство.
Кто ему помог? Они не исключали, что сам шайтан.
– Так вы предлагаете сражаться?
И стрелок и ремесленник замялись.
– Мы просто говорили, что эмирам нельзя доверять. По крайней мере такие люди, как мы, не должны этого делать.
Маулана Задэ удивленно поднял брови:
– Но уважаемый Абу Бекр, внимательно посмотри и увидишь – одно рождает другое. Если мы эмирам не доверяем, мы воюем с ними.
Возражать было трудно, трепальщик хлопка насупился.
– Посмотри еще раз и увидишь тогда, что, даже если мы решимся сражаться, нам это будет не под силу.
– Почему это? – поинтересовался Хурдек и-Бухари. – У эмиров людей не больше, чем у Ильяс-Ходжи, и они так же, как и чагатаи, не умеют летать по воздуху. Пусть наши укрепления слабы, они не смогут миновать их без потерь.
Бывший богослов печально улыбнулся:
– Тут важно не то, каковы те, кем командуют, а то, кто командует.
Абу Бекр потряс головой, силясь разобраться в этом высказывании.
Маулана Задэ пожалел его и пояснил:
– Ильяс-Ходжа был враг, притеснитель, убийца и хищный зверь. Поэтому народ поднялся против него, и не нужно было много сил, чтобы заставить его подняться. А кто эмиры?
– Кто? – в один голос спросили собеседники.
– Все в городе знают, что они правили Самаркандом на законном основании и власть их не может быть оспорена, если только не стать на бесчестный путь.
Маулана Задэ ждал, что ему возразят, но возражений не последовало, однако он счел нужным добавить еще несколько фраз:
– Воистину, не уверен я, что те, кто швырял горящие угли во всадников Ильяс-Ходжи, снова подожгут их для того, чтобы швырнуть во всадников Хуссейна и Тимура.
– Так что же ты предлагаешь делать, скажи прямо, – с некоторым раздражением в голосе спросил Хурдек и-Бухари.
Маулана Задэ медленно выпил чай, медленно отломил кусочек лепешки, не торопясь отправил его в рот и тщательно прожевал.
– Я предлагаю принять предложение.
Его соратники ждали именно этих слов, но слова эти, будучи произнесены, неприятно их поразили.
Хурдек и-Бухари даже попробовал возражать. Он обратился к здравому смыслу:
– Но почему ты не боишься его принять? Именно ты? Кто назвал в соборной мечети эмиров трусами? Кто призывал взять в руки оружие? Если Хуссейну и Тимуру представится возможность наказать нас за все, что мы сделали, ты будешь первым, ибо твоя вина перед ними – самая большая!
Бывший богослов сделал еще несколько глотков чаю.
– Рассуди, Хурдек и-Бухари, если я, тот, кому эта встреча может грозить наихудшими бедами, предлагаю от нее не уклоняться, имеет ли смысл уклоняться от нее тебе? Твоя вина действительно много меньше моей, не говоря уже о благородном Абу Бекре, видит Аллах, он вообще чист перед эмирами.
Стрелок из лука молчал. С одной стороны, слова Маулана Задэ выглядели вполне справедливыми, но когда он смотрел на них с другой – они начинали казаться ему неубедительными.
Да и любому другому, кто присутствовал бы при этом разговоре, слепое доверие Маулана Задэ к Хуссейну и Тимуру могло показаться несколько странным. Представляя собой воплощенное коварство, являясь олицетворением хитрости и недоверчивости, он в данном случае рассуждал как упрямый и наивный ребенок.
Имелось простое объяснение этой простодушной сговорчивости бывшего богослова, но оно было неизвестно его соратникам, отчего они и были терзаемы жестокими сомнениями.
Накануне тройственной встречи в доме торговца индийскими пряностями Маулана Задэ имел еще одну встречу в доме другого предусмотрительного купца, столь тайно сочувствующего сербедарам, что имя его не стоит здесь произносить вслух. Так вот, в этом доме, о существовании которого ничего не было известно ни трепальщику, ни стрелку, Маулана Задэ беседовал с советником Тимура Байсункаром. И беседа эта выглядела следующим образом.
– Хазрет мой шлет привет тебе, Маулана Задэ! Привет и пожелание доброго здоровья.
Бывший богослов подумал, что это пожелание из уст человека, до такой степени не выглядящего здоровяком, должно было бы показаться забавным, если точно знать, что под ним не скрыта тайная угроза. Поэтому он только поклонился и ответил пожеланиями славы и долголетия.
– Господин мой благодарен тебе за ту помощь, которую ты оказал его семье в те дни, когда некому было окружить ее заботой, когда желающих мстить было намного больше, чем способных сочувствовать.
Тимур почти не сомневался, что трюк с телегами, набитыми соломой, придумал и осуществил именно Маулана Задэ, но чтобы убедиться в этом окончательно, велел Байсункару произнести эти слова, и в том случае, если Маулана Задэ выразит хотя бы малейшее недоумение по поводу сказанного, мгновенно прервать встречу.
Бывший богослов никакого сомнения не выразил, отблеск самодовольной улыбки появился на его лице. Он был рад тому, что оказался столь предусмотрителен.
Можно было продолжать разговор.
И Байсункар продолжил его. Все, что он говорил дальше, было для сердца бывшего богослова менее приятно, чем все сказанное выше.
Во-первых, он объяснил Маулана Задэ, как эмиры относятся к произошедшему в Самарканде: они считают происшедшее злонамеренным бунтом. Победу над чагатаями расценивают как случайность.
– Пройдет малое время, и блеск победы померкнет, а злонамеренность бунта выступит на первый план. Ты умный человек, Маулана Задэ, так сказал мой господин, и ты не можешь этого не понимать.
Бывший богослов молчал.
– А злые намерения только тогда хороши, когда они жестоко наказаны в назидание всем замышляющим худое.
Далее советник Тимура сказал, что эмиры рано или поздно Самарканд возьмут и только слепец может этого не видеть и только глупец не понимать.
– Одно и то же чудо не случается дважды, Маулана Задэ.
И на эти слова ничего не ответил собеседник Байсункара.
– И когда дойдет до наказания тех, кто виновен в злонамеренном бунте, не ты ли будешь первым стоять в списке, Маулана Задэ, подумай?
– Твой господин на угрозы значительно более щедр, чем на похвалы.
– Он напоминает тебе об опасностях, которые тебе угрожают, чтобы ты выше ценил его похвалы.
В глазах бывшего богослова мелькнули искры интереса.
– Говори же, благородный Байсункар.
– Хазрет не хочет, чтобы в ответ на то, что ты спас его семью, тебя посадили на кол.
– Видит Всевидящий и все сопутствующие ему, что я разделяю желание твоего господина!
– Но тебе, должно быть, известно, что весы, на которых будут взвешиваться поступки, находятся не только в руках у моего господина.
Маулана Задэ слегка помрачнел.
– Известно, благородный Байсункар, но что же делать? Как помочь восторжествовать справедливости?
– Надо бросить на весы, которые справедливость держит в руках, кое-что еще!
Маулана Задэ был несколько озадачен.
– Еще? Что еще?
Глядя на него внимательным, спокойным взглядом, Байсункар сказал:
– Надо сделать так, чтобы Хурдек и-Бухари и Абу Бекр явились на встречу с эмирами.
– Но это же…
– И как можно скорее.
– Вы их убьете… – язвительно начал Маулана Задэ.
– …и тогда ты получишь возможность беспрепятственно покинуть город и увести отсюда всех, кого пожелаешь.
Бывший богослов ощерился, заходил кругами по комнате, почесывая рябые щеки.
– Очень ух неточные весы у вашей справедливости, тебе не кажется, благородный Байсункар?
Байсункар пожал плечами:
– Ты имеешь возможность сам проверить все гири, Маулана Задэ.
Сербедар остановился, широко расставив ноги и заткнув большие пальцы рук за красный пояс.
– Ты говоришь, покинуть беспрепятственно город?
– Это не я говорю, это говорит справедливость. Устами моего господина.
Раздраженный смешок в ответ:
– Я могу покинуть город в любой момент, и мне не нужно для этого ничьего разрешения!
Байсункар в ответ улыбнулся:
– Я знаю, что ты имеешь в виду. Мы слышали историю про головы Буратая и Баскумчи.
Собиравшийся и далее бросаться словами, Маулана Задэ осекся и насторожился.
– И должен сказать тебе, таинственный и предусмотрительный Маулана Задэ, что история с головами не может повториться, так же как и история с горящим хлопком на улицах Самарканда.
– Почему?
– Потому что ты не Старец Горы, а бывший слушатель самаркандского медресе. У того были сотни федаинов[48], готовых в любое время отдать свою жизнь по первому его требованию, тебе же удалось втянуть в свои сети несколько безрассудных мальчишек, и весь их запал ты истратил на то, чтобы запугать Ильяс-Ходжу,
Маулана Задэ снова заходил по комнате, но намного медленнее.
– Кроме того, Ильяс-Ходжа был не готов к такому повороту, чагатаи считают все рассказы про ассасинов сказками времен хана Хулагу. А Тимур готов ко всему.
– Так чего хочет Тимур? Чтобы я привез к нему Хурдека и-Бухари и Абу Бекра? Привез на расправу? Но кто меня убедит в том, что расправа над ними не будет и расправой надо мной?
Байсункар пожал плечами:
– Никто.
– То есть как «никто»?!
– Тебе остается лишь довериться благородству эмира Тимура и его чувству благодарности.
Маулана Задэ громко засмеялся:
– Где это видано, чтобы прочные взаимоотношения людей строились на принципах благородства и благодарности?
– И тем не менее у тебя нет другой надежды, кроме как на благородство и благодарность.
Обессиленный этим невыносимо глупым, на его взгляд, разговором, бывший богослов рухнул на подушки, что-то бормоча про себя и нервно хихикая.
– Вот в чем тебе еще дает слово мой господин: в первую встречу твоих висельников никто не тронет, и они вернутся в Самарканд сытыми и довольными. Твоя честь, если она имеет для тебя значение, будет сохранена.
Маулана Задэ оторвал лицо от подушек и покосился в сторону Байсункара:
– И я вернусь?
– И ты.
– Тимур не возьмет меня в свою свиту?
Визирь отрицательно покачал головой:
– Нет.
Оттолкнувшись от подушек, Маулана Задэ сел на них;
– Тогда я ничего не понимаю. Для чего тогда эта встреча? А-а, угощение будет отравлено!
– Нет, угощение не будет отравлено.
– Ничего не понимаю, ничего не понимаю, – торопливо и недовольно бормотал сидящий.
– В свое время ты все поймешь. И потом, тебе ведь важнее не то, понимаешь ли ты что-нибудь, а останешься ли ты цел. Правильно?
Маулана Задэ покосился на него, злобно мерцая глазами.
– Кто знает, кто знает…
Утром следующего дня группа примерно из сорока всадников выехала из Самарканда в направлении местности Кан-и-Гиль. Сербедарские вожди долго спорили относительно того, стоит ли брать с собой большую охрану. И предмет для спора действительно был.
С одной стороны, не могли же они приехать в становище эмиров втроем, с другой – слишком большая свита могла быть сочтена эмирами несоответствующей их чину и положению и, стало быть, оскорбительной.
Сошлись на сорока всадниках. И не много и не мало. Путешествие совершалось в молчании, все, что три соратника могли сказать друг другу, было сказано накануне и не по одному разу.
С вершины небольшого плоского холма они впервые увидели шатры эмирского войска. Зрелище это было впечатляющим, трудно было окинуть его одним взором.
Инстинктивно посольство висельников притормозило бег коней – в этом сказалось их последнее сомнение в правильности принятого решения.
Но недолго суждено было длиться этому сомнению. Оказалось, что навстречу им высланы встречающие – несколько десятков всадников в праздничном облачении. Они издавали приветственные крики и запускали в небеса стрелы.
Положив ладонь на рукоять меча, Хурдек и-Бухари наклонился к уху Абу Бекра:
– Если мы сейчас ударим по ним, то опрокинем, и у нас останется время, чтобы оторваться от погони.
– Это последняя возможность свернуть с гибельного пути, но мы ею не воспользуемся, – сказал в ответ трепальщик хлопка, и голос его звучал обреченно. Он плоховато сидел в седле и вообще выглядел подавленным.
Стоявший чуть в стороне Маулана Задэ, словно почуяв, что за его спиной происходит что-то ненадлежащее, хищно обернулся, и оба великовозрастных товарища его внутренне вздрогнули под его взглядом.
– Я не хотел ехать, я знал, что мне нельзя сюда ехать, я знал, что меня могут убить, если я приеду сюда… и вот я здесь, – прошептал Хурдек и-Бухари.
Но как часто случается в жизни, ожидания сербедарских вождей не оправдались. Уже очень скоро они сидели за огромным и роскошным дастарханом. Особенно поражало воображение то, что устроен он был в голой местности, вдали от дворцовых кухонь и кладовых.
На самом почетном месте сидели, конечно, братья-эмиры Хуссейн и Тимур. Для них специально были доставлены сюда невысокие ширазские костяные троны. По правую руку от Хуссейна получили приглашение сесть Хурдек и-Бухари и Абу Бекр, по левую, здоровую руку Тимура – Маулана Задэ и главный самаркандский мулла Али Абумухсин, которого сербедары сочли необходимым взять с собой для того, чтобы он ходатайствовал за них. Они были уверены, что он постарается убедить эмиров, что сербедары совсем не звери и все, что они делали в городе, делали ради высшей справедливости и порядка. А уверенность эта была основана на том, что все родственники Али Абумухсина были схвачены с обещанием, что их задушат, если до города дойдет слух о гибели сербедарских вождей.
Не только эмиры облачились в те одежды, которые считались сугубо праздничными. Великолепно выглядели все их военачальники и телохранители. Сверкали шелка, красные и зеленые сафьяны, ветер ворошил мех дымчатых соболиных хвостов на шапках тысячников и седых бобров на воротниках визирей. То здесь, то там мелькали украшенные серебром высокие тюбетейки знатных гостей и расшитые золотом чалмы мулл. Даже в ушах прислужников подрагивали золотые серьги – признак принадлежности к ханскому двору.
Если о тех, кто сидел вокруг стола, еще можно найти какие-то слова, хотя бы отдаленно отражающие великолепие того, что было на самом деле, то о том, что имелось на столе, умнее умолчать, ибо казалось, все яства мира были собраны здесь.
Конечно, самаркандские гости были и покорены и подавлены. Но это было лишь начало. Стоило эмиру Хуссейну поднять первую чашу и произнести подобающие случаю слова, как началась настоящая вакханалия чествования победителей.
Всеми признанный полководец и герой Мансур, старинный соратник эмира Тимура, поднял драгоценный китайский фиал, полный драгоценного же хорасанского вина, и произнес восторженную речь, призванную выразить невыразимое восхищение воинской доблестью и военачальнической изобретательностью славного Хурдека и-Бухари. Ибо именно в его голове родился небывалый, дерзкий и непостижимый план истребления чагатайской конницы хлопковым огнем.
Стрелок из лука был несомненно польщен, он много слышал о благородном Мансуре и среди прочего слышал то, что этот человек не способен говорить того, чего он не думает.
Не успели отзвучать похвальные крики, как вознесен был сосуд, еще более драгоценный, чем первый, и возносила его рука Масуд-бека, племянника эмира Хуссейна. Предметом, на который он решил направить свое красноречие, был гигант Абу Бекр. Что было бы с городом, говорил молодой дипломат и хитрец, что было бы с городом, когда бы в трудную минуту не отыскался среди его жителей тот, о ком идет речь. Староста квартала трепальщиков хлопка, человек, не вознесенный по рождению к вершинам власти, показал, что по совести он вполне этого достоин. Ибо ему подчинились не только трепальщики, но и горшечники, медники, шорники, харчевники… и Масуд-бек не поленился сделать то, что поленимся сделать мы, дабы не утомлять внимание читателя: он назвал более пятидесяти видов ремесел, представители коих охотно встали под мощную и справедливую руку достославного Абу Бекра.
Еще более мощный, чем в первый раз, взрыв всеобщего восхищения взметнулся над дастарханом.
Пришла очередь Маулана Задэ. Ему славословий и приветственных криков досталось несколько меньше, чем его товарищам. Почему? Потому что восхвалял его, бывшего духовного деятеля, кешский мулла. Он очень старался, но делал это без чаши с вином в руках, ибо не пристало мулле прилюдно осквернять себя тем напитком, что был проклят и отринут самим пророком. Естественно, отставили свои чаши и все прочие гости. В данной ситуации их радость получилась чуть менее искренней, чем хотелось бы.
Хурдек и-Бухари и Абу Бекр отметили это и, как это часто водится между людьми, сочли случившееся справедливым. Вот, даже эти люди, столь удаленные и по времени, и по месту от сути событий, поняли, что стрелок из лука и трепальщик хлопка должны быть поставлены несколько выше бывшего богослова.
Надо тут, конечно, принять во внимание и выпитое вино. А пилось оно из очень больших чаш.
Конечно, тремя этими превознесениями дело не закончилось. Захотели сказать и многие другие. Говорили очень хорошо: и не слишком длинно, и очень длинно, красочно и цветисто, одним словом, говорили по-разному. Но все – о дорогих гостях-сербедарах.
Если в самом начале пиршества те еще немного сомневались, что бояться им нечего и что их не убьют, то ближе к его окончанию Хурдек и-Бухари вместе с Абу Бекром плюнули бы в лицо человеку, попытавшемуся утверждать, что все присутствующие здесь во главе с эмирами – не их лучшие друзья.
Кстати, члены сербедарской свиты также были приглашены к дастархану и накормлены и напоены ничуть не хуже, чем их вожди. Они не радовались, когда им накануне сказали, куда они должны будут отправиться, теперь же они понимали, какие они были глупцы.
В самый разгар пира, когда Хуссейн наклонился со своего костяного трона к Хурдеку и-Бухари с тем, чтобы сказать очередную любезность, Тимур сделал то же самое по отношению к Маулана Задэ. С одним отличием – он сказал ему не любезность:
– Вас всех пригласят и на завтрашний пир. Но уже без охраны. Не приезжай.
На лице бывшего богослова не дрогнул ни один мускул, но внутри у него вспыхнула радость – он наконец понял, в чем заключался смысл происходящего. Теперь ему было ясно, что бояться действительно нечего.
Глава 7 Кан-и-Гиль (продолжение)
Тимур поднял голову и спросил:
– Они приехали?
Хуссейн мрачно кивнул:
– Приехали. Но не все.
– Что значит «не все»?
Разговор происходил в шатре Тимура. Хозяин шатра полулежал на подушках и время от времени прикладывался к мундштуку кальяна.
Гость показал слуге, куда положить подушки, и тоже полуприлег. Далось это действие ему не без труда, лицо налилось кровью, дыхание потяжелело. Дождавшись, когда все придет в норму, Хуссейн сказал:
– Не притворяйся!
Тимур удивленно вытащил мундштук изо рта и, изображая растерянность, спросил:
– Что значат твои слова, брат?
Брат еще раз тяжело вздохнул, потеребил тяжелый черный ус толстыми пальцами.
– Приехали только Хурдек и-Бухари и Абу Бекр.
– Значит, Маулана Задэ не явился?
– И знаешь почему?
Тимур заинтересованно кивнул: почему, мол?
– Потому что ты посоветовал ему не приезжать. Что ты на это скажешь?
– Может, он просто слишком много выпил вчера и спит где-нибудь?
– Ты лучше меня знаешь, что он почти не пил за вчерашним дастарханом.
– Может, эти двое просто не смогли его отыскать. Самарканд – город большой…
– Самарканд – город большой, я согласен с тобой, но стрелок и трепальщик сумели обшарить его полностью за сегодняшнее утро, поэтому и прибыли только к полудню. Но у меня возникает вопрос.
– Какой, брат?
– Отчего это Маулана Задэ могло прийти в голову спрятаться, когда он приглашен на пир к людям, которые уже доказали свое дружеское к нему расположение?
Тимур кивнул с самым серьезным видом:
– Да-а, непонятно это.
Он почти не слушал вопросы Хуссейна, он был занят размышлениями. Честно говоря, он надеялся, что толстяк не сумеет разгадать его план и не свяжет исчезновение бывшего богослова с тайными замыслами своего брата. Жаль, кажется, были соблюдены все меры предосторожности: эмир не оставался наедине с Маулана Задэ ни разу. Сам Хуссейн был слишком весел и пьян, чтобы о чем-нибудь догадаться. Только два объяснения его внезапной проницательности можно себе представить – чья-то умная наблюдательность или чье-то подлое предательство. Что касается наблюдательности, то она не является доблестью Хуссейна, тем более пьяного. А предательство… Предать мог только Байсункар… Это исключено. Масуд-бек! Ну, конечно!
Тимур попытался вспомнить, попадался ли ему на глаза этот юноша во время вчерашнего пира после того, как поднял бокал за здравие Абу Бекра. Нет, не попадался. Значит, пьян не был. А что может делать трезвый человек на пиру?
– Ты молчишь, Тимур?
Хуссейн был страшен: ноздри раздуты, глаза налиты кровью, кулаки сжаты. Нет, такого не убедить ни в чем и ни в чем не разубедить. Однако что ему так дался этот Маулана Задэ?
– Что ты хочешь услышать от меня, Хуссейн?
– Правду!
– Ты говоришь со мной, будто с преступником, послушай свой голос.
– Я говорю так, как считаю нужным говорить!
После этих слов Тимуру стало совершенно ясно, что увильнуть от объяснения не удастся. Когда нет возможности оторваться от погони, надо разворачиваться и атаковать в лоб!
– Ты прав, я посоветовал Маулана Задэ не приезжать сегодня, даже не посоветовал – велел!
После этого неожиданного признания Хуссейн как-то сник, он оказался в положении человека, перед которым внезапно распахивают дверь, служившую объектом его атак. Это проявилось даже в его позе – Хуссейн качнулся, слегка потеряв равновесие.
– Велел?
– Да.
– Почему?!
– Я хотел спасти ему жизнь.
Хуссейн с трудом преодолел удушье, вызванное возмущением и злостью.
– Этому бандиту?!
Тимур спокойно кивнул:
– Да.
– Но… – Хуссейн продолжал задыхаться, – но что тобой руководило?
Тимур не торопясь затянулся легким наркотическим дымом и ответил:
– Мной руководило чувство благодарности.
– Твои слова для меня темны и…
– Я сейчас все объясню. Ты помнишь, наверное, что моя старшая сестра жила постоянно в Самарканде?
– Помню.
– Когда мы выступили с тем, чтобы защитить город от Ильяс-Ходжи, именно у нее в доме оставил я своих жен и сыновей, дабы не подвергать их превратностям кочевой военной жизни.
– Это я понимаю, говори же дальше!
Тимур хотел было снова угоститься дымом кальяна, но раздумал.
– Когда мы отступали, у меня не было времени забрать свою семью с собой. Мне оставалось только уповать на то, что судьба помилует их, что Аллах послужит им защитой.
– И что же было дальше?
– И вот в один из дней, уже после того как висельники захватили власть в городе и отогнали чагатаев… или, может быть, еще до того, вдруг прибывает ко мне все мое семейство в целости и сохранности.
Хуссейн недоверчиво и недовольно усмехнулся:
– Не хочешь ли ты сказать, что это спасение из Самарканда было делом рук Маулана Задэ?
– Именно это я и хочу сказать.
– Он солгал тебе, чтобы выговорить себе снисхождение!
– Но моя семья цела.
– Ну и что?
– То есть как «ну и что»?! Мои сыновья живы, а не мертвы, Хуссейн. Маулана Задэ мне так же отвратителен, как и тебе, но если мои жены и мои слуги говорят, что это именно он позаботился об их безопасности в обезумевшем городе, я не могу не быть ему благодарен.
Хуссейн не знал, что возразить. После утреннего разговора с Масуд-беком он верил только в одну причину Тимурова споспешествования этому рябому висельнику: названый брат, почувствовав, что начинает уступать великолепному и более родовитому союзнику первенство в Мавераннахре, решил обзавестись союзником. А то, что Маулана Задэ – союзник сильный, было известно всем. Все эти хурдеки и абу бекры, вместе взятые, не стоили его одного. Бывший богослов обладал особенными способностями, вся степь была наслышана об отрезанных головах Буратая и Баскумчи. И если такой человек станет союзником Тимура, это будет сильный союз.
Именно такие мысли внушал своему дяде хитроумный Масуд-бек, признаний именно в таких замыслах хотел добиться Хуссейн от названого брата, направляясь к нему в шатер.
История про спасенную семью несколько сбила его. Объяснение мягкого отношения Тимура к рябой гадине выглядело и понятным и убедительным. Разве он сам, великолепный Хуссейн, не поступил бы так же с человеком, оказавшим ему такую услугу?
– Согласись, Хуссейн, он многим рисковал. Весь город был настроен против нас, и если бы кто-то узнал, что Маулана Задэ спас от справедливой расплаты семейство эмира-предателя, ему пришлось бы худо, несмотря на все заслуги перед горожанами. Городская чернь не имеет представления о великодушии и чести.
Возразить на это было нечего, поэтому Хуссейн молчал. Лицо его опять покраснело.
– Я понимаю, какие мысли привели тебя ко мне, брат.
– Как ты можешь это понимать?
– Я давно тебя знаю, и все эти годы ты непрерывно находишься в венце моих размышлений. Мне вот что кажется: ты подумал, что я замыслил против тебя что-то черное, собираюсь сговориться с твоими врагами и нанести предательский удар в спину, дабы забрать себе всю власть над Мавераннахром.
Хуссейн изо всех сил старался скрыть, что ход его мыслей разгадан. Ему было немного стыдно за то, что мысли эти были столь неблагородны, и страшно досадно, что из тайных они сделались явными.
– И знаешь, почему это происходит?
– Что?
– То, что в сердце у нас, самых близких людей, может сыскаться место для черных подозрений, для мелкого недоверия, знаешь?
Хуссейн пожал плечами, предлагая говорить дальше.
– Потому что мы живем теперь в отдалении друг от друга. Расстояние рождает недоверие. И вот что я еще понял, Хуссейн, и весьма горько мне было это понять, и не возрадовалось мое сердце от этого понимания. Раньше я считал, что настоящая дружба не требует доказательств. Она сама рождает доказательства. Мне не надо знать, хорошо или плохо то, что сделано, мне важно знать, другом или врагом сделано это.
– Это верные слова, Тимур.
Хозяин шатра разочарованно кивнул:
– Но теперь я с горечью вижу, что доказательства дружбы необходимы.
Хуссейн смущенно покашлял, как человек, ставший причиной чьего-то разочарования.
– Ты шел ко мне, Хуссейн, чтобы обвинить меня в том, что я совершил преступление против нашего союза, против нашей давнишней дружбы, я же припас и сейчас предъявлю тебе доказательство того, что мое отношение к тебе не изменилось. Что я по-прежнему верен всему сказанному и всему сделанному совместно.
– Доказательство?
Тимур позвал слугу, тот позвал Байсункара, Байсункар послал стражников, и те привели в шатер одноглазого купца, тайного посланца Кейхосроу, владельца Хуталляна.
Когда тот притерпелся к полумраку, царившему в шатре, и увидел, кто перед ним находится, то с глухим стоном рухнул на пол.
Хуссейн, повернувшись к Тимуру, спросил:
– Кто это?
– Он сейчас сам скажет.
Один из стражников ударил древком копья лежащего в копчик, тот глухо простонал, но остался в прежней позе.
– Поднимите его! – велел Тимур.
Двое дюжих воинов схватили купца за плечи, оторвали от ковра.
– Подведите его поближе, эмиру Хуссейну плохо видно.
Хуссейн, наклонившись вперед, внимательно всматривался в лицо перепуганного человека.
– Может быть, тебе легче будет его узнать, когда я сообщу тебе, откуда он прибыл?
– Так откуда?
Хуссейн не отрывал взгляда от того, кто трясся перед ним и истекал потом ужаса.
– Из Хуталляна.
Злейший враг владетельного Кейхосроу на мгновение повернулся к Тимуру, потом снова обратился внимательным, даже можно сказать, пронизывающим взглядом в одноглазого.
– Это правда?
Тот молчал.
– Говори же! Молчание тебя не спасет. Если я решу, что тебя надо убить, тебя убьют и молчащим.
Но одноглазый продолжал беззвучно висеть на руках стражников.
– Я знаю много способов развязывать людям языки, и, клянусь Всевидящим и Всемогущим, я познакомлю тебя со всеми этими способами. Ты хуталлянец?
Купец едва слышно проскрипел:
– Да…
Хуссейн закрыл глаза и шумно втянул воздух широко раздутыми ноздрями.
– Мне рассказывали, что в казни моего отца участвовал один одноглазый хуталлянец.
Купец визгливо закричал:
– Это был не я, я потерял глаз только в прошлом году, клянусь всем тем, что ты считаешь святым, хазрет!
Хуссейн мрачно усмехнулся:
– Не важно, когда ты потерял глаз. Важно, что мой отец предательски убит. Важно то, что он убит хуталлянцами, важно то, что среди них был одноглазый.
Купец забился в руках стражников.
Хуссейн снова повернулся к Тимуру:
– Ты отдашь мне его?
Тот кивнул:
– Но с одним условием.
– С каким еще условием? – стал возвышать голос Хуссейн, радуясь возможности раздуть затихшую было ссору.
– Я хочу, чтоб ты выслушал до конца историю этого человека, брат.
– Хорошо, только если для этого не понадобится тысяча и одна ночь.
Тимур, не державший при себе певцов и рассказчиков, не слышавший никогда о хитростях красавицы Шахерезады, не понял, конечно, что имеет в виду названый брат, но сообразил, что в словах его заключена какая-то ирония. Заключена так заключена, он решил не обращать внимания на нее.
– Помимо того что этот кривой посланец Кейхосроу похож на того негодяя, что участвовал в казни твоего отца, он еще и тайный вестник.
– Что ты имеешь в виду?
– Он прибыл ко мне с известием от своего господина, что ты, мой брат и союзник, готовишь против меня какое-то злое дело.
Хуссейн опешил:
– Я?!
– Вот именно.
– Но это же…
Тимур успокаивающе поднял искалеченную руку:
– Не трудись, брат, опровергать то, что заслуживает лишь презрения. Я не поверил ни единому слову, изошедшему из этих змеиных уст, и в доказательство того, что это так, я отдаю тебе этого человека, пытавшегося воткнуть между нами отравленный наконечник недоверия.
Тимур специально говорил эти слова в присутствии стражников. Он знал, что к вечеру красочный рассказ о проявленном им благородстве разнесется по становищу.
Хуссейн молчал. И его можно было понять, что тут скажешь! Попал в неприятную ситуацию. Шел обличать человека, а попал под град его благородных поступков. Понимая, что в этой ситуации слова не помогут, Хуссейн просто обнял своего названого брата и молча вышел.
Он был зол на племянника.
Ему было стыдно за свою неблагородную подозрительность.
Войдя под своды своего шатра, он велел позвать к себе Масуд-бека.
Тот явился тотчас.
Эмир неприязненно посмотрел на него. Племянник сразу почувствовал, что дядя гневается. Впрочем, для того, чтобы сделать подобный вывод, не нужно было слишком напрягаться, все было написано на лице эмира.
Несмотря на свою молодость, Масуд-бек обладал уже большим и своеобразным житейским опытом. Он, например, знал, что когда тебя собираются обличать, начинай первым, и начинай с насмешек. И он начал:
– У таджиков есть поговорка – ушел с одним богом, вернулся с другим.
Хуссейн поморщился:
– Не люблю таджиков. Что мне в их поговорках?
– Таджики – народ старинный, много своей мудрости нажили и чужой насобирали.
– Пускай себе наживают и дальше, а я привык своим умом жить, так и впредь предполагаю делать.
Масуд-бек вежливо, даже самоуничижительно поклонился. Опять-таки опыт подсказывал ему такое поведение. Когда собираешься дерзить, внешне выражай при этом полную покорность.
– Хорошо, если своим…
– Что-о?! – постепенно зверея, стал возвышать голос Хуссейн. Масуд-бек знал, что ему надо сказать все нужные слова до того, как дядя впадет в настоящую ярость.
– Я хотел сказать, что если бы вы жили своим умом, то дела ваши процветали бы. Но, судя по всему, вы опять решили жить умом вашего младшего брата.
С этими словами Масуд-бек пал на ковер и распластался на нем. Эмир любил, когда ему таким образом выражали почтение, тем более люди, которые имели право этого не делать.
– Встань, Масуд-бек, и объясни свои дерзкие слова.
Ни с первого, ни со второго предложения племянник не встал, лишь дождавшись третьего, позволил себе это сделать. Приняв же положение, более подобающее его имени, сказал:
– Не всякая дерзость страшна и отвратна. Только та, что есть проявление мятежного духа или животной глупости. Но бывает, что дерзость есть только плач огорченного сердца, иногда никаким другим способом нет возможности обратить к себе того, о ком печешься и за кого готов страдать.
Эмир задумался, о чем свидетельствовали сошедшиеся на переносице брови.
– Хорошо, я расскажу, о чем мы беседовали с Тимуром, и ты мне поведаешь свое мнение.
Чем дольше длился рассказ Хуссейна, тем печальнее становилось лицо его племянника, к концу же его Масуд-бек уже полностью превратился в статую немой скорби.
– Теперь ты знаешь все, теперь говори ты.
Племянник пожал плечами:
– Что я могу сказать? Только одно слово, одно-единственное – жаль.
– Жаль?! Кого жаль, почему жаль? Я не понимаю, что ты там про себя такое думаешь. Не путай меня!
– Объяснить то, что я понимаю под этим словом, просто. Мне жаль, что Аллах помимо высокого рождения, помимо храбрости и силы, помимо здоровья и любвеобилия наградил эмира Хуссейна еще и благородным сердцем.
Хуссейн замотал головой:
– Почему это?
– Потому что человек лукавый, завистливый, человек низкий и хитроумный легко может, назвавшись другом или братом, обратить все твои качества в свою пользу. И хорошо, если только так.
– То есть?
– Потому что польза такого человека – болезненного завистника, издыхающего интригана, недобитой гадины – это всегда твой вред.
Эмир покусал черный ус мощными желтыми зубами.
– Так ты считаешь, что Тимур…
– Да, да и да! Он знает благородные струны твоей души и бесчестнейшим образом играет на них.
– Как?
– Он знает, как высоко ты ставишь семью и родственные отношения, стало быть, решил Тимур, тебе понравится, когда он и себя выставит в роли семьянина, ради жен своих и детей готового на все. Тем более что одна из его жен тебе совсем не чужая. Вместо того чтобы признаться, что Маулана Задэ, этот черный вожак всех таинственных стай Мавераннахра, нужен ему для того, чтобы в подходящий момент погубить тебя и завладеть местом, которое принадлежит тебе по праву, вместо этого он рассказывает тебе красивую сказку о том, что этот пожиратель трупов с рябой рожей позаботился о его и твоих родственниках. Признайся, тебя тронул его рассказ?
Снова сошлись на переносице брови эмира, выдавая напряженную работу мысли.
– Хитер, хитер, ничего не скажешь, хитер эмир Тимур, сын Тарагая. Одним ударом избавился от обвинения в предательстве и выставил себя человеком, которого можно уважать за его замечательные поступки. Но это еще не все.
Хуссейн кивнул, веля племяннику говорить дальше.
– Видя, что тебя не так-то просто провести, одной историей не накормить льва твоего негодования, он вытаскивает из дальней кибитки какого-то одноглазого негодяя и выдает его за убийцу твоего отца и хуталлянского лазутчика.
– Но этот кривой признался сам.
– А что ему оставалось делать? Клянусь силами верха и низа, как говорят марабуты, есть простое объяснение сговорчивости этого мерзавца.
– Но какое?
Масуд-бек задумался лишь на мгновение.
– Может быть, у Тимура в руках находится все семейство этого человека и Тимур угрожает вырезать его целиком, если одноглазый не станет на себя наговаривать то, что ему будет велено.
Хуссейн замялся.
– Среди степняков не приняты такие подлые приемы.
– Степняки слишком давно живут среди людей, у которых эти приемы были приняты давным-давно. Наука, облегчающая жизнь, усваивается быстро.
– Все равно, не хочется думать так.
– Не хочется, но придется. Да и не в том суть – как именно Тимур заставил этого хуталлянца наговаривать на себя. Важно то, что он держал его про запас. Для такого разговора, как сегодня. Почему, спрашивается, он не отослал его к тебе в тот день, когда тот явился к нему с подлым обвинением в твой адрес? Почему не зарубил в порыве ярости, что тоже было бы понятно и более похоже на степной характер?
Хуссейн тяжело вздыхал, морщился, но не возражал.
– Сегодня Тимур явился перед тобой в полном блеске, он верный друг и благородный семьянин, и ты уже готов рассердиться на меня, человека, говорящего, быть может, горькие, но честные и прямые слова. Теперь он думает, что ты станешь вести себя так, как нужно ему, и сам приведешь его к той цели, которой он уже давным-давно вожделеет. Может быть, с первого дня вашего знакомства. Всю жизнь ты тащишь его за собой, всю жизнь на него падает отсвет твоей славы. Даже жив он разве не только благодаря тебе?
– Что ты имеешь в виду?
– Вспомни Сеистан. Кто не бросил его, издыхающего, на съедение людям Орламиш-бека?
Упоминание о Сеистане в том смысле, в каком это сделал племянник, согрело сердце эмира. В нем болезненной занозой сидела эта фраза: «Вспомни Сеистан!», брошенная ему Тимуром перед началом «грязевой» битвы. Теперь эта заноза благополучно вышла. На ее месте водворилась благодарность к проницательному и преданному племяннику. Отныне все, что бы ни говорил Масуд-бек, безоговорочно принималось эмиром на веру.
А говорил он вот что:
– Вспомни еще и вот такое: когда сдохли кони у людей Тимура и им грозила смерть не только от вражеского оружия, но и от голода, к кому явились они по совету своего неудачливого и нищего эмира? Они явились к тебе.
– Да, это так.
– Получили они отказ у тебя, удачливого и богатого?
– Я дал им все, что они просили.
– Вот видишь, не только своей жизнью, но и жизнью людей своих Тимур обязан тебе.
От волнения, от ослепительной ясности открывшейся перед ним картины и от воспоминания о деньгах грудь Хуссейна начала учащенно вздыматься. Ведь действительно, не одну сотню дирхемов отсыпал он в полу халата, подставленную Мансуром! Где они теперь, эти монеты?
– Я знаю, что делать, – сказал Хуссейн, поглаживая обеими руками бороду.
Масуд-бек закрыл глаза и расслабленно улыбнулся: он был доволен собой. Велика сила слов, велика! Каждый раз убеждаясь в этом, он не уставал этому удивляться.
Глава 8 Кан-и-Гиль (окончание)
Курбан Дарваза, Мансур и Байсункар были в растерянности, как и все, явившиеся вместе с ними. Это было видно по их лицам. Тимур кутался в меховую полсть – в последние дни его мучила какая-то болезнь, похожая на простуду и лихорадку одновременно. Сейчас его мучил озноб, и единственным спасением служила эта обширная полсть, сшитая из лисьих шкур. Он смотрел на вошедших в шатер, но не мог сосредоточиться: и лица старых соратников, и сам факт их появления расплывались в его сознании. Он знал, что они должны были присутствовать на казни сербедаров и, видимо, присутствовали, но почему они не рассказывают, каким именно способом казнил непреклонный Хуссейн взбунтовавшихся висельников? Собравшись с силами, перебарывая мелкую, но настырную дрожь, Тимур спросил:
– Что же вы молчите, как будто только что повстречались с архангелом Джебраилом?
Соратники переглянулись. Им предстояло сообщить эмиру неприятную новость, и никому не хотелось быть в этом деле первым.
– Еще раз вас спрашиваю: что произошло? Хуссейн помиловал висельников и, наградив, отпустил править Самаркандом?
Наконец Байсункар, которому по чину надлежало первым открыть рот, открыл его:
– Нет, хазрет, он не помиловал их. Он привязал их к лошадям за ноги и велел налить в рот кипящее масло. Потом…
Тимур поморщился, не желая слушать дальше. Он отлично знал, что было потом.
– Но что случилось с вами? Я не поверю, что ваши души содрогнулись при таком зрелище, разве вы не видели казней и пострашнее?
Байсункар погладил свою израненную руку и поклонился. Все вошедшие в шатер также поклонились.
– Мы видели страшные казни, хазрет. И не о казни мы пришли говорить.
Озноб досаждал Тимуру все сильнее, и чем больше он от него страдал, тем сильнее его раздражало длинное вступление к разговору.
– Ну так я жду, начинайте!
Байсункар с надеждой оглянулся: может, кто-нибудь захочет заменить его на высоком посту говорящего перед хазретом? Таких не нашлось.
– После казни эмир Хуссейн сказал, что желал бы сказать нам несколько слов.
– Кому «нам»?
– Твоим первейшим слугам – тысячникам и батырам. Мы пришли к нему.
Пот градом катился по лицу Тимура, эмир понял, что сейчас во что бы то ни стало надо хотя бы на время справиться с болезнью, и постарался собраться с силами.
– Что он сказал вам?
– Он напомнил нам Сеистан.
– Сеистан?!
Мутноватые глаза Тимура вспыхнули от этого слова как искры.
– Он еще смеет рассуждать об этом походе?!
Все вздрогнули, впервые они слышали, чтобы их господин в таком тоне говорил о своем названом брате.
– И что же именно он вам сказал об этой негостеприимной стране?
Байсункар опять оглянулся. Нет, надеяться было не на кого, все отводили глаза. Тогда визирь решил больше не прятаться за слова.
– Он напомнил нам о долге.
– О каком долге? – искренне удивился Тимур.
– О тех деньгах, что он дал нам на приобретение лошадей взамен павших в Сеистане и по дороге оттуда.
– Но ведь эти деньги… – Тимур не закончил свою мысль, ибо не имело смысла ее заканчивать. Все и так знали, что только человек в высшей степени бесстыдный мог те деньги поставить в долг батырам эмира Тимура. Человек, лишенный совести. А может быть, не так, может быть, это человек, специально старающийся поссориться?
Озноб, до этого мучивший Тимура, исчез, он даже распахнул доху. Мысль его прояснилась, взгляд очистился от болезненной мути, три пальца на изувеченной правой руке сжались в птичий кулак.
– Вы говорите, что это случилось только что?
– Только что, хазрет.
– Байсункар!
– Я здесь, хазрет.
– Вижу, но сейчас ты выйдешь отсюда и отправишься к Хуссейну.
– Зачем?
– Ты сообщишь ему, что он получит свои деньги. Деньги, на которые не имеет никакого права.
Можно себе представить, какой плотности молчание воцарилось в шатре. И Байсункар, в другое время уже выскочивший бы из шатра для исполнения произнесенного повеления, остался на месте. Правда, не смея сказать ни слова.
Заговорил Курбан Дарваза:
– Но у нас нет денег, хазрет, во время «грязевой» битвы все имущество наше погибло. И деньги, и стада. Даже одежды, в которых мы сидели за вчерашним дастарханом, были не наши. Мы их одалживали у тебя.
Тимур усмехнулся, и усмешка эта была добродушной:
– Ты думаешь, я забыл об этом?
Курбан Дарваза пожал плечами и осторожно погладил свою рваную ноздрю.
– Но… но тогда объясни, чем мы сможем доказать перед твоим названым братом твое обещание расплатиться? Нам придется умереть от стыда.
Тимур снова усмехнулся:
– Когда-нибудь вы, конечно, умрете, ибо такова воля Аллаха и другой воли над вами нет. Но и от меня кое-что зависит. Например, я могу вам сказать, что ваша смерть наступит не сегодня и не от стыда перед Хуссейном.
Сбитые с толку вычурными поворотами эмировой речи, батыры затихли, но тревоги в их сердцах теперь было меньше, чем недоумения. Одно до них дошло – кажется, хазрет нашел выход.
– Байсункар!
– Я здесь, хазрет, – опасливо сообщил визирь.
– Раз ты все еще здесь, а не в шатре у Хуссейна, принеси красный сундук. Пусть Алабуга поможет тебе, ведь ты у нас калека немощный, – сказал Тимур и весело рассмеялся.
Рассмеялись и остальные, на душе у них стало теплее. Раз уж хазрет шутит, бояться совсем нечего.
Из дальнего отделения шатра вскоре внесли большой кочевой сундук, выкрашенный в красный цвет седельной краской и обитый тонкими железными полосами.
Тимур снял с пояса ключ и отдал визирю. Тот открыл замок и поднял крышку. Внутри оказалось то, что в кочевом сундуке возит каждый степняк, – одеяла.
– Вытащите их.
Одеяла вытащили и обнаружили там сундучок поменьше: в таком лаковом, изящном, но прочном убежище хранят гаремные красавицы свои украшения. Он отпирался особым ключом. Когда его открыли, в глаза батырам ударил тусклый блеск – сундучок был почти доверху наполнен золотыми монетами.
– Байсункар, скажи мне, сколько вы должны за купленных в Сеистане лошадей.
– Восемь тысяч дирхемов плюс еще четыре.
– А это еще почему?
– Потому что эмир Хуссейн считает, что те деньги он дал нам в рост.
Тимур невольно закашлялся, но быстро пришел в себя и снова сделался весел. Причем было видно, что веселится он искренне. Ему почему-то особенно сильно понравилось то, что его названый брат поступил с его батырами как базарный ростовщик.
– Не много ли он хочет взять роста, полсуммы за такой срок, а, Байсункар? Какие расценки на базарах Мавераннахра?
Вмешался Мансур:
– Столько берут только кокандские ростовщики, но всем известно, что они – порождение дьявола.
– Боюсь, что не только они, – процедил сквозь зубы хозяин шатра. – Пересчитайте, там должно хватить.
Счет денег – дело недолгое, даже когда денег много, а считающие полуграмотны.
– Не хватает совсем немного, – сообщил Байсункар, – сотни три дирхемов.
– Думаю, Хуссейн удовлетворится и этим, – сказал Курбан Дарваза. – Он вообще вряд ли рассчитывал, что мы станем платить, зная о нашей нищете. Просто хотел унизить.
Тимур покачал головой и прищурился:
– Нет, Курбан Дарваза, мы отдадим ему ровно столько, сколько он просит.
С этими словами он встал, поражая батыров легкостью, с которой он это проделал, сбросил с плеч гигантскую лисью полсть и велел подать халат.
– Ждите меня здесь!
И с этим вышел. Он хромал довольно сильно, но вместе с тем его походка производила ощущение очень устойчивой.
– Куда он? – спросил кто-то, но ответить на этот вопрос не смог бы никто.
Выйдя из шатра, Тимур повернул налево и решительно зашагал к женским кибиткам. Попадавшиеся ему по дороге воины были так растеряны неожиданным появлением хазрета, что даже не успевали пасть ниц.
К жене, вот куда шел Тимур, к любимой жене своей Улджай Туркан-ага. Та, ни о чем не подозревая, сидела за бесконечным женским рукоделием у себя в палатке, ярко украшенной изнутри цветным гилянским шелком[49].
Две прислужницы, находившиеся в палатке, при виде ворвавшегося внутрь Тимура рухнули на пол и стали отползать пятками вперед с невероятной быстротой, как будто всегда этому учились. Впрочем, что с них взять – китаянки!
Улджай Туркан-ага испугалась конечно же меньше, чем прислужницы, но тем не менее испугалась. И это несмотря на довольно сердечные отношения с мужем. Он не был ни деспотом, ни таинственным дивом[50], ни неутомимым сладострастным животным. Любил ли он сестру Хуссейна?
Воздержимся, пожалуй, от рассуждений на эту тему. Стан степной орды – не лучший фон для тонких чувств и изощренной куртуазии. Одно можно было сказать с уверенностью: своей женой Тимур был доволен, и, несмотря на то что она была сестрой человека, с которым он с этой минуты вступал в состояние непримиримой вражды, он не считал ни нужным, ни возможным ее пугать или оскорблять. Спокойным и ровным голосом он сказал:
– Улджай Туркан-ага, мне нужны твои драгоценности.
Не задав ни одного вопроса, не выразив ни малейшего удивления по поводу столь странного желания мужа, она встала, отложив иглу и кожаную рукавицу, вышиванием которой занималась, и принесла из спального отделения большой кисет, вышитый кашмирским бисером[51]. Принесла и недрогнувшей рукой протянула мужу. Тот поощрительно улыбнулся, развязал шнуровку кисета и высыпал драгоценные побрякушки на большую атласную подушку. Его, оказывается, интересовали не все без исключения золотые и серебряные штуковины. А что именно?
Две огромные, богато украшенные камнями серьги.
Так ведь это подарок к свадьбе! Улджай Туркан-ага произнесла эти слова не вслух, а мысленно.
– Остальное мне не нужно, – сказал Тимур и вышел, оставив свою любимую жену в полном смятении. Она, конечно, понимала – произошло что-то ужасное.
Батыры Тимура наконец дождались своего хазрета и, когда он бросил поверх кучи золота принесенные им серьги, были поражены не меньше «ограбленной» супруги. И Байсункар, и Мансур знали, что это за серьги, и догадывались, что означает их возвращение дарителю.
– Отнесите все это ему, – сказал Тимур, – и проследите, чтобы серьги лежали сверху, чтобы их сразу можно было разглядеть. Смотрите внимательно за его лицом. Если он ничего не скажет словами, о многом может поведать книга его лица.
– Ты надеешься, что он не возьмет эти серьги? – спросил визирь.
– Видит Аллах, я ни на что уже не надеюсь, но он же учил нас устами пророка, что, если можешь дать человеку надежду на спасение, дай.
– Но если он от них откажется, хазрет, что нам делать тогда?
– Смешной вопрос – принести их мне, а я верну их Улджай Туркан-ага.
Мансур, задавший этот вопрос, задал и следующий:
– Но что будешь делать ты, хазрет, если он вернет серьги, ведь ты решил с ним порвать?
Тимур сбросил халат и снова забрался под защиту лисьего меха.
– Мы не можем порвать то, что не мы связали, мы не должны проникать мыслью туда, куда должен проникать только промысел Всевышнего.
Часть третья
Глава 1 Поэт и царь
О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости.
Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость.
Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха, поистине Аллах сведущ в том, что вы делаете!
Коран. Сура 5. Трапеза. 11 (8)Более трех лет прошло с тех пор, как закончилось стояние эмиров под Самаркандом в местности под названием Кан-и-Гиль. Более трех лет прошло с тех пор, как пришел конец дружбе двух властителей, дружбе необыкновенной и великолепной, вызывавшей зависть и недоумение у всех прочих властителей Мавераннахра и земель, его окружающих. Прошло более трех лет, как эмир Хуссейн выбрал местом своего постоянного пребывания родовое гнездо – Балх, город большой, богатый и живописный. Эмир Тимур остался в Самарканде. Жители города охотно признали его своим главой. После казни сербедаров они быстро пришли в обычное, невоинственное расположение духа и порой сами себе удивлялись – откуда взялось столько горячности и злости в простых ремесленниках?!
Правители других крупных городов междуречья рек Сыр и Аму молчаливо признали право безродного, по большому счету, барласского батыра командовать в Самарканде и Кеше, но он чувствовал, что это признание, да и сама власть его неполноценна и неустойчива. Стоит ему один раз оступиться, как найдутся желающие напомнить, что верховной властью в здешних землях имеют право пользоваться только представители рода чингисидова. Все же другие, будь они даже семи пядей во лбу и с десятью туменами войска, всегда останутся временщиками и узурпаторами.
Побуждаемый такими размышлениями, решил Тимур позаботиться о законности установленного им порядка. Ничего особенно необычного придумывать ему было не надо. В эти бурные времена многие сильные люди оказывались в положении, подобном тому, в котором оказался сын Тарагая, и тогда они приглашали на царствование кого-нибудь из потомков рода Чингисхана, которых имелось во всех окружающих землях во множестве. Родовитые царевичи приглашались на роль царствующих, но не правящих. Приличие, таким образом, было соблюдено, а суть дела не затронута.
Тимур решил последовать примеру своих предшественников и соседей.
Стало быть, решено было призвать чингисида, но кого именно?
Как всегда в таких случаях, Тимур решил для начала спросить совета у тех, чьей преданности доверял безраздельно. Мансур, Курбан Дарваза и Байсункар явились на зов в новый дворец эмира, который он воздвиг посреди большого чинарового сада в северной части города.
Приближенные выслушали решение своего хазрета и задумались, они знали, что Тимур не любит, когда ответы на его вопрошания выпаливаются сразу. В этом был элемент притворства, потому что у каждого из них ответ на вопрос, кого именно звать в церемониальные цари Самарканда, был готов давно. Мансур и Байсункар считали, что на этом месте лучше всего смотрелся бы Суюргатмыш; племянник хорасанского правителя Курбан Дарваза, с детских лет ненавидевший все хорасанское, вплоть до ковров, желал Адиль-хана, внука хана Синей Орды[52].
Интересно, что Тимур заранее знал о предпочтениях своих старинных соратников и считал, что обе стороны по-своему правы. Спрашивал он их, конечно, всего лишь для того, чтобы соблюсти определенный ритуал. Зачем спешить, когда спешить нет никакой необходимости. Ведь сказано: быстро – значит скучно.
Обдумав свои давным-давно принятые решения, ходатаи за Суюргатмыша и Адиль-хана начали говорить. Долго, обстоятельно и в высшей степени уважительно по отношению друг к другу. Тимур и слушал, и не слушал. Историческая традиция приписывает римлянину Гаю Юлию Цезарю умение одновременно читать, писать и разговаривать. Возможно, если бы барласский батыр, ставший мавераннахрским эмиром, научился вовремя чтению и письму, он бы смог составить конкуренцию древнему италийцу по части одновременной эксплуатации этих умений. Но и в том, чем Тимур обладал от природы, он достиг успехов немалых. Что имеется в виду? Правитель Самарканда мог одновременно слушать, думать о своем, вспоминать и мечтать.
О том, что он слушал и слышал, сказано выше; думал Тимур при этом, что своему уму он доверяет все же больше, чем преданности своих соратников; вспоминал о своих давнишних разговорах с Шемс ад-Дин Куларом (причем совершенно непонятно, почему это вдруг); мечтал о том, какие он возведет стены вокруг Самарканда.
Байсункар и Курбан Дарваза закончили говорить и теперь почтительно и одновременно значительно молчали, ожидая реакции хазрета.
Тимур погладил бороду искалеченной рукой. Движение это давно уже вошло у него в привычку, и было трудно сказать, какой части тела оно приятнее, руке или бороде.
– Я согласен с вами.
Соратники невольно переглянулись.
– Да, со всеми вами согласен, вы не ослышались. Оба кандидата, названные вами, имеют право занять то место, которое мы им приготовили. Меня радует то, что мои ближайшие советники готовы к размышлениям во благо государства.
Ближайшие советники скромно и польщенно потупили глаза. Хазрет редко кого хвалил.
– Да, Суюргатмыш родовитее Адиль-хана, но верно и то, что дед Адиль-хана правоверный мусульманин, в то время как отец Суюргатмыша весьма приблизительно следует заповедям Пророка.
Батыры хорошо знали своего господина и после этих слов поняли, что, как бы он ни хвалил их сегодняшние советы, следовать он им не собирается.
– Я остановил свой выбор на другом представителе славного царственного рода.
– Кто же это? – не удержавшись, спросил Мансур, когда молчание после слов хазрета затянулось.
– Кабул-Шах Аглан.
Мансур, Курбан Дарваза и Байсункар с одинаковым изумлением поглядели на эмира.
Тимур усмехнулся:
– Вижу, что изумил вас. Сейчас я развею это изумление. Вы, конечно, слышали, кто такой этот Кабул-Шах Аглан.
– Он дервиш! – воскликнул Курбан Дарваза.
– Хуже того – он поэт! – с едва скрытым в голосе негодованием высказался Мансур.
– Он живет в горах, в пещере. Как животное! – завершил парад характеристик Байсункар.
Тимур кивнул:
– Все, что вы сказали, справедливо. Но справедливость не венец творения, а лишь правильно выбранный путь. Подумайте над этими словами. Но потом, когда мы закончим говорить. А сейчас я скажу вам вот что. Я решил призвать Кабул-Шаха Аглана, и я призову его. Многим он уступает тем чингисидам, за которых высказываетесь вы, но в одном он многократно превосходит их.
– Что ты имеешь в виду, говоря это, хазрет? – спросил нетерпеливый Мансур.
– Суюргатмыш и Адиль-хан наверняка согласятся на наше предложение, согласятся царствовать не правя, но в глубине души и тот и другой будут мечтать о дне, когда смогут к своему блеску прибавить еще и власть. Кабул-Шах Аглан никогда не допустит такого желания в свое сердце. Нельзя вожделеть того, от чего добровольно отказался. Это во-первых…
Тимур вдруг прервал речь, и прервал надолго, так что соратники сочли возможным поинтересоваться, о чем он счел нужным умолчать.
– А «во-вторых», хазрет, что «во-вторых»?
«Во-вторых, я не хочу вас ссорить друг с другом. Ибо, если я предпочту Суюргатмыша или Адиль-хана, я нарушу равенство между вами. Тот, чей ставленник станет самаркандским ханом, воспарит в мыслях своих, возмечтает о туманных усладах будущего возвышения, и с этого начнется раскол. Трещина его пройдет через мое сердце. Чтобы не потерять никого из вас, я никого из вас не поддержу».
Так подумал Тимур, но не произнес вслух ни слова из того, что подумал.
Байсункар, Мансур и Курбан Дарваза разошлись в недоумении, так и не дождавшись ответа на свое «во-вторых». Всего лишь в недоумении, а такое настроение высокостоящих не опасно для государственного порядка.
На следующий же день были отправлены люди на поиски того места, где скрывается царевич, ставший дервишем и поэтом. Оказалось, что поиски его не такая уж простая задача. Когда вокруг человека много слухов, большая часть из них, естественно, оказывается ложной. По одним – Кабул-Шаха видели в горах Бадахшана, по другим – он блуждал в низовьях реки Аму. И в горы, и в речные низовья были отправлены отряды. И тот и другой вернулись ни с чем.
Поиски продолжались несколько недель, и с каждой неделей недоумение Тимура становилось все больше. Как может бесследно затеряться человек, который не прячется и имя которого у всех на устах?
Нет брадобрея и погонщика в Мавераннахре, не знающего наизусть хотя бы несколько газелей[53] его сочинения. Его меткие остроты цитируют и ученые улемы, и сквернословы-чайханщики, а его самого – нет.
Где же он?
Может быть, умер?
Нет, весть о смерти распространяется быстрее, чем любая другая, она распространяется, даже когда ее не распространяют.
Чем долее тянулось это непонятное положение, тем раздраженнее становился Тимур. Он слишком привык к тому, что когда он принимает решение, оно должно быть выполнено. Кроме того, Самарканду и в самом деле был крайне необходим законный правитель. Сверх этого ему было неудобно перед Байсункаром, Мансуром и Курбаном Дарвазой. Получается, что их кандидатам, пусть и несколько сомнительным, но все же живым людям, он предпочел неуловимый, бесплотный дух. Пустое, блуждающее по дорогам молвы имя.
От неприятных мыслей отвлекало Тимура только одно: он призвал из Дамаска знаменитого Али ибн-Ширази, лучшего архитектора этого славного города. Он поделился с ним своими мечтаниями о будущем Самарканда. Ничего не скрыл, изложил самые заветные и фантастические из своих замыслов.
Архитектор, человек почтенных лет с длинной, до пояса седой бородой, в зеленой, расшитой серебром чалме, внимательно слушал эмира, изредка поглядывая на него запавшими черными глазами, не утратившими остроты за все годы напряженных трудов. Много, даже слишком много повидал на своем веку Али ибн-Ширази и людей и городов. Сердце его остыло, а разум очистился от заблуждений. Ему нравился этот молодой хромец с затаенным огнем за щелками прищуренных глаз, нравился ему и фантастический небывалый город, о котором он так страстно и одновременно толково рассуждал. Но вместе с тем старик отчетливо видел абсолютную несбыточность излагаемых перед ним мечтаний. Ибо перед тем как прибыть во дворец, Али ибн-Ширази подробно осмотрел Самарканд, эту груду растрескавшегося самана.
Молчание Тимура затянулось, и тогда старик осторожно сказал:
– Хазрет, я поражен тем, как увлеченно и с каким знанием дела говоришь ты о градостроительстве и архитектуре. Можно подумать, что ты изучал это достойное ремесло в самой Кордове или Севилье.
Тимур машинально расчесал бороду израненной рукой.
– Ты начинаешь мягко, чтобы потом вынести твердый приговор.
Старик вздохнул:
– Я бы взялся построить тебе такой Самарканд, какой тебе нужен, но для этого тебе бы пришлось завоевать полмира.
– Полмира?
– Не меньше.
– Столько нужно золота?
Старик выпятил губы и отрицательно покачал головой:
– Не золото главное, хотя и без него обойтись, конечно, нельзя. И даже не в материалах дело. И мрамор, и лазурит, и яшму, и все остальное ты смог бы купить, собрав золото с половины мира.
– Скажи же наконец главное!
– Скажу. Люди.
– Что за люди? Я сгоню хоть двести тысяч человек. В людях недостатка не будет.
– Не об этих людях я веду речь – это мусор, а не люди. Нужны те, кто понимает, как строить города, и без которых бессильны и твое золото, и мои знания. Строители, резчики по камню, художники, чеканщики, гончары и плотники… Я составлю тебе список, если ты хочешь.
Тимур несколько раз кивнул:
– Я понимаю, о чем ты говоришь. Составь мне такой список, и когда все, кто нужен, будут у меня под рукой, я тебя позову.
Али ибн-Ширази улыбнулся:
– Я приду. Если буду жив.
Разговор этот продолжился бы, ибо Тимуру слишком приятно было беседовать с человеком, способным оценить грандиозность его замыслов, чтобы он так скоро его отпустил. Но тут из-за толстого, шершавого ствола чинары появился Байсункар, он остановился в позе, говорящей, что у него есть сообщение для хазрета одновременно и важное и секретное.
Архитектор не стал дожидаться, когда его отошлют, и сам попросил разрешения удалиться.
Отпустив его, Тимур обратился к визирю.
– Нашли Кабул-Шаха? – с вопросительно-утвердительной интонацией произнес он.
– Нет, хазрет, пока еще не нашли.
– Тогда в чем дело, говори!
– Вот.
С этими словами визирь достал из рукава своего халата кинжал и протянул Тимуру. Тот взял его, повертел в пальцах. Кривой, старый, ручка украшена старой бирюзой. Он узнал его сразу, но не сразу вспомнил то, что с этим ножом было связано. А когда вспомнил, почувствовал – кровь бросилась в голову и сильно заколотилось сердце.
– Откуда это у тебя?
– К воротам дворца явился человек. Одет как небогатый торговец, говорит скорее как духовное лицо. Сказал, что хочет видеть эмира Тимура. Когда у него спросили зачем, велел передать тебе этот кинжал.
Глава 2 Поэт и царь (продолжение)
– Как тебя зовут?
– Береке. Сеид Береке.
– Ты духовное лицо?
– Можно сказать и так. Я учился в бухарском медресе.
– Как Маулана Задэ? – не удержался эмир. Гость улыбнулся, и нельзя было не отметить, что улыбка у него приятная.
– Нет, я учился намного лучше. С тех пор я странствую от города к городу.
– Но такая жизнь больше подходит обычному дервишу, а не тому, кто может считаться родственником Пророка.
Сеид Береке кивнул, подтверждая правильность слов, произнесенных эмиром.
– Я не отказываюсь от столь высокого происхождения, но Аллах вложил в меня непреодолимую страсть к путешествиям и столь же непреодолимое стремление к истине, а где, как не среди людей, должны мы искать ее?
– Некоторые считают, и, возможно, небезосновательно, что наилучший путь – полное уединение.
– Даже полное уединение не гарантирует от широко распространенных заблуждений.
Обмен общими фразами продолжался еще некоторое время. Тимур внимательно рассматривал необычного собеседника, но никак не мог удовлетворить полностью своего интереса. За прошедшие годы человек, сидящий перед ним, кажется, совсем не изменился: та же короткая густая борода, то же сдержанное веселье в глазах, та же благородная осанка. То, что он человек знатный, не вызывало никаких сомнений. То, что он умный, – тоже. Оставалось решить, не является ли он человеком опасным. Ибо ум, принадлежащий твоему врагу, самое страшное оружие.
– Итак, ты рассказал мне о себе…
– О себе почти все, что могло бы представлять интерес.
Тимур сделал движение рукой – продолжай, мол.
– Но необходимо тебе знать кое-что о моем отце.
– Расскажи.
– Когда-то он был правителем в Термезе. Он правил там под титулом худован-задэ…
– И был убит Кейхосроу, правителем Хуталляна.
– Был убит, – кивнул Береке, – в силу чего я вынужден был оставить родной кров, хотя, как я уже сообщил, это совпадало с моими устремлениями.
– Несмотря на совершенную подлость, Кейхосроу не удалось утвердиться в Термезе.
– Там правит брат моего отца, сеид Тахир ад-Дин.
– Я знаю его, много слышал о твоем отце, но почему так мало мне было известно о тебе?
– Не хочу, чтобы мои слова выглядели пустой похвальбой, но тем не менее скажу: если человек ничего не делает для достижения славы, она иногда его все же настигает, но когда человек умело славы бежит, считая ее едва ли не самой страшной опасностью для души, у него есть возможность достигнуть успеха.
По идее, Тимуру должна была эта речь не понравиться – слишком прямой и самоуверенный намек на ничтожество той деятельности, которой посвятил себя эмир, содержался в ней. Но, странное дело, ничего похожего на раздражение или обиду не посетило сердца хазрета.
– Я вижу, что ты хочешь задать мне еще несколько вопросов. По крайней мере один – точно.
Тимур усмехнулся:
– Ну, если Аллах наградил тебя помимо стремления к истине еще и проницательностью – задай мой вопрос себе сам, сеид Береке.
Гость кивком головы показал, что понимает иронию, заключенную в словах хазрета.
– Тебя мучает загадка Шемс ад-Дин Кулара. Вернее, даже не так, тебе хотелось бы узнать, каким образом мне удалось предсказать его смерть за две недели до ее наступления. Бьюсь об заклад, тебя даже посещали мысли о том, не помогала ли мне какая-нибудь темная сила.
– Не преувеличивай степень моего недоумения, не преувеличивай также размеры того места, которое этот случай занимал в моих мыслях. Что касается старика, то предсказать его смерть было не так уж трудно, учитывая его возраст. Если ты гордишься случаем, то гордишься зря. Скорее всего, тут простое стечение обстоятельств.
Береке счел возможным возразить:
– Твои слова обнаруживают трезвость ума и уверенность в себе, хазрет. По-своему ты прав, на самом деле суть в другом.
– В чем же?
– В том, что я изучал не только богословие, но и медицину.
– Любой мулла скажет, что это вещи несовместимые.
– Мнение глупцов, ничего не смыслящих ни в том, ни в другом!
– Как знать.
– Так вот, бродя по Мавераннахру в поисках того, что мы позволим себе назвать истиной, я не мог не посетить дом благородного Шемс ад-Дин Кулара, человека, широко прославившегося своей святостью.
– Прославившегося? Ты говоришь о славе?
Береке кивнул. Тимур хочет его вывести из себя, ловя на мелких речевых противоречиях, но это у него не получится.
– Я застал его уже в плохом состоянии. У него разлилась желчь и опухли ноги, а водянка в таком возрасте – одна из самых опасных болезней. Я определил, что жить ему осталось менее месяца. Как потом выяснилось, ошибся я всего на несколько дней.
– Это я понял, но скажи, зачем ты прибыл ко мне с этим странным предсказанием?
– Мне надо было с тобой поговорить, причем поговорить о вещах серьезных, вряд ли бы ты стал беседовать с человеком случайным. Случайности у тебя, как я вижу, вызывают подозрение. Справедливо. Мне нужно было выделиться из толпы.
– Ты выделился, Береке, но почему не воспользовался предоставившимся случаем, куда ты исчез?
Сеид потупился: ему предстояло сказать Тимуру не совсем приятную вещь.
– Ты был тогда еще не готов к серьезным словам.
– Не готов?!
Сеид утвердительно кивнул:
– Не готов. И я скажу больше: если сейчас ты не сможешь подавить возникший у тебя в груди гнев, значит, ты не готов и сейчас.
Глаза Тимура превратились в щелки, внешне его состояние ни в чем не проявлялось, разве что слишком сильно вздымалась грудь.
– Ты очень смелый человек, сеид Береке.
– Я смелый человек, но не глупая смелость заставила сейчас меня говорить тебе дерзкие слова.
– А что же?
– Уверенность в том, что за дерзким их облачением ты рассмотришь разумную сердцевину до того, как отдашь приказ своим слугам удавить меня.
Помолчали. Гость почувствовал, что ему дано разрешение продолжать.
– Давно, почти с первых твоих шагов, я понял, что ты не просто очередной бек-рубака, что ты человек предназначения. И знаешь, когда впервые?
– Когда?
– После того как ты расстался с Хаджи Барласом и встал под знамя Токлуг Тимура. Многие были тогда этим удивлены. Но больше всех я. К тому времени я был достаточно зрелым человеком, многое видел и считал, что не осталось больше людей, способных на поступок, подобный тому, который совершил ты.
– Что же в нем особенного?
– Такими поступками создаются государства и династии, по крайней мере с них они начинаются.
– Не очень-то понятно, клянусь Аллахом, но продолжай, сеид Береке.
– Все прочие способны только к одному – разрушению. Дроблению, измельчению. Никто не способен посмотреть за границы своего вилайета, своего родового гнезда.
– Прошли времена Потрясателя Вселенной.
– Верно, прошли. Это был степной ветер, который смел старую жизнь, но он ничего не оставил после себя. Ничего, кроме огромного поля деятельности, на котором надобно построить жизнь новую.
– Ты хочешь всех превратить в строителей и землепашцев, сеид Береке?
– Не упрощай мою мысль. Строить – это не значит только лишь копаться в земле и месить глину. Строительство будет сначала производиться кровью и силой, а лишь потом закрепится в камне и духе. Ведь у нас есть все для этого дела. И вера Пророка, и меч Тимура.
Застыл в задумчивости на некоторое время эмир Тимур. Гость терпеливо ждал ответа, перебирая четки.
– В вере Пророка нет ни у кого сомнений, это сила сил, и она поведет нас. Но откуда у тебя уверенность, что именно мой меч осенит она? Ведь ныне в Мавераннахре десятки правителей. Неужели они все не годятся?
– Не годятся.
– И даже мой друг эмир Хуссейн?
– Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Он годится не больше, чем другие. Нет у тебя теперь врага злее, чем он. Злее и опаснее. Ибо он тоже мог бы занять то место, которое теперь занимаешь ты. Провидение долго выбирало между вами. И теперь, мне кажется, выбор произведен.
– Как-то очень легко ты рассуждаешь о таких вещах, как провидение.
– Но что я могу поделать, если я полон уверенности, что мои рассуждения верны.
Тимур посмотрел на гостя и понял, что тот говорит сущую правду.
– Хорошо. Но объясни мне тогда еще вот что. Много воды утекло с тех пор, как я обратил на себя твое внимание. Мои сыновья тогда были дети, теперь они воины. Отчего ты сразу не пришел ко мне и не сообщил все, что тебе пришло в голову. Ты же знаешь, я бы оценил твои прозрения.
– Я сомневался.
– Сомневался?
– Да. Ведь истина явилась мне не в виде свитка, где все изложено подробно и однозначно. Прозрение всегда туманится сомнением. Я сделал попытку приблизиться к тебе, и она оказалась не совсем удачной. Потом с тобой произошло несчастье.
Тимур выпростал из рукава изувеченную руку:
– Ты это имеешь в виду?
– Именно. Я счел это знаком судьбы. Не может же быть строителем великого государства человек, настолько ущербный телесно. Я впал в отчаяние, ибо был уверен, что твой двойник эмир Хуссейн для этой роли никак не подходит, несмотря на полное телесное здоровье. Надо еще ждать, подумалось мне. Ждать и внимательно смотреть вокруг себя. Значительно позднее, пройдя по многим кругам духовных поисков, я вдруг понял, что твое увечье не в ущерб тебе дано. Это свидетельство и ознаменование окончательного выбора. Закончилось существование Тимура, Тарагаева сына, всем известного в качестве хорошего конного воина. Надобен теперь Тимур-государь, будущее царство теперь скрывается не в ножнах у тебя, а в голове, и все дело в том, сумеешь ли ты добыть его оттуда.
– Ты пришел мне помочь?
Сеид склонил голову:
– Да, хазрет.
Тимур помедлил, он догадывался, что сейчас ему предстоит принять очень важное решение.
Оставить при себе этого человека? Только за то, что его слова совпадают с самыми тайными твоими замыслами? А вдруг это всего лишь лукавый обольститель, и для того, чтобы войти в доверие к правителю Самарканда, он готов притвориться единомышленником и союзником?
Но если его отринуть? С кем тогда остаться? Преданных людей хватает – и Байсункар, и Мансур, и Курбан Дарваза. Они готовы в огненную пучину кинуться ради своего господина. Но иногда полезнее для дела никуда не бросаться, даже не вынимать из ножен оружия, а просто сидеть и размышлять. Размышлять и советовать.
– Хорошо, оставайся.
Сеид Береке опять поклонился. Лицо его было очень серьезным. Он был рад тому, что все завершилось так, но не показывал своей радости.
– Я не хочу, хазрет, чтобы ты долго ждал результатов моей службы, первую пользу я хотел бы тебе принести уже сегодня, и вот какова она.
Тимур поднял брови:
– Говори.
– Я слышал, ты решил призвать в Самарканд царевича Кабул-Шаха Аглана.
– Решил, и что? Ты хочешь сказать, что это было неправильное решение?
– Оно уже принято тобой, хазрет, и, значит, отменено быть не может. Ибо вред от такой перемены был бы больше, чем от той неправильности, что могла бы быть в нем заключена.
– И что же дальше?
– Твои люди ищут царевича-дервиша по всему Мавераннахру, но они ищут его не там.
– Он уехал в Султанию? Мне передавали такой слух.
– Нет, хазрет, он не уехал в Султанию, так же как не уехал в Дамаск или Каир. Он живет в Самарканде.
– Где-где?
– На окраине, в развалинах ширазского караван-сарая. Там много таких, как он.
Тимур встал и, прихрамывая, прошелся.
– Немедленно велю его доставить сюда.
– Прошу простить меня, хазрет, но не соблаговолишь ли ты выслушать один совет.
Тимур обернулся к сеиду:
– Слушаю.
– Разумнее сделать это под покровом ночной темноты.
– Почему?
– Когда горожане и воины узнают, что над ними поставлен человек, извлеченный из грязной норы в городских развалинах, это может показаться им неподобающим. Кабул-Шах будет получать меньше почтения, чем тебе надобно в задуманной ситуации. Это может косвенным образом повредить и твоей власти.
– Но ведь он чингисид, важно ли то, где ему угодно было в последнее время жить?
– Почти не важно, но, послав людей своих к нему ночью, ты избавишься и от этого «почти».
Тимур пожал плечами:
– Пожалуй. Но скажи мне, всезнающий: а те, что занимают соседние норы рядом с будущим самаркандским ханом, знают, кто он, как ты думаешь?
Береке успокаивающе поднял руки:
– Не для того отказывался Кабул-Шах от претензий на царский венец, чтобы кичиться знатностью своего рода перед какими-то оборванцами. Тиха и скромна его жизнь и делится без остатка между молитвой и поэзией. К тому же он не вполне устойчив здоровьем.
– А это нас почему должно волновать? Если мы боимся, что он, усевшись на вершине, попробует расправить крылья, лучше вообще от него отказаться.
Береке снова сделал успокаивающее движение руками:
– Нет-нет, упоминание о его здоровье не имеет под собою никакого замысла.
Тимур взял в руки колотушку, обитую войлоком, и ударил в небольшой серебряный гонг.
Явился Байсункар. Тимур сказал ему:
– Это сеид Береке. Отныне он будет жить во дворце. Позаботься о его устройстве.
– Надолго ли он у нас останавливается?
Хазрет поскреб пальцем переносицу, и визирь с поклоном удалился. Этот знак означал, что пока еще у эмира нет ответа на вопрос.
Глава 3 Старые друзья
Никогда со змеи не настрижешь овечьей шерсти; Никогда упавший в реку не выйдет из нее сухим. Но человек, которому ты пожелал смерти, Может оказаться полезен. Кабул-Шах, «Дервиш и его тень»Загорелые грязные ноги неутомимо шагали по пыльной дороге. На каждом третьем шаге ударял рядом с правой ступней отполированный до блеска посох. На голове у дервиша была высокая обтрепанная шапка, нижнюю часть лица покрывала густая, спутавшаяся борода.
Между опушкой шапки и бородою посверкивали два внимательных глубоких глаза.
Сразу после полудня дервиш нагнал длинную вереницу телег, запряженных безропотными мулами. Гружены они были резаным горным камнем и древесными стволами.
– Куда направляетесь, правоверные? – весело спросил дервиш голосом Маулана Задэ у погонщиков. Те не знали, с кем имеют дело, потому не сочли нужным отвечать. Стояла такая жара, что даже языком пошевелить было трудно. Тем более было понятно, что вопрос задан праздный. Только ненормальный мог не знать, что по этой дороге никуда, кроме как в Балх, не приедешь. Да и никуда, кроме как в Балх, не могли везти такое количество строительных материалов.
Дервиш не обиделся на невнимательность погонщиков и пошел вдоль вереницы телег, поглядывая в их сторону и явно подвергая счету.
К вечеру он подошел к городу и еще раз убедился в том, что молва, приписывающая ему наименование «цветущий», совершенно права. Балх утопал в садах, под благодатными сводами которых текла неторопливая, размеренная и сытая жизнь. Вернее, еще недавно текла, потому что с некоторых пор эмир Хуссейн, правитель города и прилегающей области, вознамерился превратить Балх в неприступную крепость. На эти цели он пустил большую часть богатств, добытых в десятилетних войнах, которые он вел на обширных пространствах от Хорасана до Ферганы.
Маулана Задэ переночевал в шатре базарного брадобрея, потому что все постоялые дворы и караван-сараи были заполнены: для производства строительных работ Хуссейн согнал в город очень большое количество народу.
Утром поддельный дервиш отправился блуждать по улицам. Необычайное оживление царило на них, казалось, что абсолютно все жители участвуют в великом начинании своего эмира.
Со скрипом тащились по кривым улочкам груженые арбы, кричали погонщики, ибо привычные улицы сделались вдруг невозможно тесны. Дымились костры с подвешенными над огнем большими черными казанами, ритмично кричали рабочие, поднимая по деревянным полозьям обтесанные каменные глыбы.
– Вот оно что, – сказал под нос себе дервиш, подойдя к тому месту, где еще год назад были жалкие пыльные развалины, а теперь обозначились внушительные, если не сказать монументальные, стены.
Да, Хуссейн не ограничился возведением только лишь оборонительных стен, это позволяли себе некоторые особо независимые правители, хотя считалось такое строительство безусловным нарушением уложения Чингисхана; так вот, не ограничился Хуссейн внешними стенами, а решил строить еще и неприступную цитадель, хиндуван. Такое в свое время позволил себе Тимур в Кеше, правда, его цитадель скорее напоминала укрепленную усадьбу, чем крепость. Да и вскоре была разрушена воинами Баскумчи.
Весь день провел дервиш в блужданиях по городу, осмотрел все, до чего мог только добраться его взгляд, и, кажется, остался в высшей степени доволен увиденным.
Утром следующего дня дервиш исчез. Не из города, а вообще исчез. Вместо него явился к стенам строящейся цитадели некий каменщик в стоптанных, заляпанных известью туфлях, старом, видавшем виды фартуке, с необходимым для каменщицкого дела инструментом в руках. Посмотрев, что тут к чему, он незаметно смешался с толпою рабочих и вскоре уже вовсю трудился на укладке внутренней стены.
Ничего удивительного в том, что никто не обратил на него внимания, не было. Рабочих повсюду было очень много, и их перегоняли непрерывно с места на место. Так что Маулана Задэ незаметно прижился в цитадели.
Для чего это ему было нужно? Он справедливо рассудил, что именно здесь ему легче всего будет осуществить задуманное. Хуссейн, чьим любимым детищем является балхский хиндуван, не может не навещать его время от времени, дабы следить за тем, как идет строительство. Внутри уже имеется такое количество залов, укромных углов, что организовать неожиданную встречу с эмиром – вполне посильная задача.
Все случилось так, как и задумывал новоиспеченный каменщик. Увидев, как Хуссейн въезжает под надвратный свод внутрь хиндувана, он осторожно, так, чтобы никто из работающих рядом не заметил, завернул за выступ свежевозведенной стены, прошмыгнул через несколько залов, забрался на вершину недостроенной башни. Оттуда ему было удобнее всего наблюдать за передвижениями эмира.
Хуссейна сопровождал Масуд-бек, каменщик обрадовался – это было кстати. Племянник эмира считался человеком умным и осторожным, в случае чего он удержит Хуссейна от поспешного поступка.
Правитель долго и обстоятельно осматривал сердце своей будущей крепости. Он ходил по пустым залам, где не было ни одного постороннего человека, но два телохранителя не оставляли его ни на мгновение. Это бы не помешало, если бы эмира нужно было убить, но поскольку с ним нужно было переговорить с глазу на глаз, это становилось непреодолимым препятствием. Увидев врага-сербедара, Хуссейн отдаст приказ немедленно его зарубить, так что не удастся произнести и двух связных слов. Невозможно добраться до эмира и во дворце, ибо правитель двора потерял в самаркандских событиях, которыми руководил бывший богослов, всю семью и теперь ненавидит сербедарского вождя больше самого Хуссейна.
Маулана Задэ находился в каких-нибудь двадцати шагах от нужного ему человека, пару раз он уже порывался, рискуя всем, окликнуть его, но осторожность победила.
Можно было уже отчаяться. И времени в запасе оставалось немного, в любой момент Хуссейн мог уехать, а на улицах города он еще менее достижим, чем в залах крепости.
Что же делать?
И тут Маулана Задэ пришла в голову спасительная мысль. И навел его на нее Масуд-бек. Он поотстал от Хуссейновой свиты, заинтересовавшись каким-то колодцем в полу. Долго в него всматривался, поднял камешек и бросил вниз, проверяя, не бездонен ли он.
Вокруг никого.
Маулона Задэ бесшумно приблизился и негромко, но отчетливо сказал:
– Не оборачивайся, Масуд-бек.
Племянник эмира осторожно выпрямился, одним глазом косясь в темноту провала, другим пытаясь уловить, кто же это возник за его спиной. Молодой человек понимал: одно легкое движение, малейший толчок в спину, и он полетит туда, откуда ему не будет обратного пути.
– Я Маулана Задэ.
С трудом преодолев сухость в горле, советник эмира спросил:
– Что тебе надо?
– Мне нужно встретиться с твоим дядей.
– Ты хочешь убить его?
– Никогда не думал, что умный Масуд-бек скажет такую глупость! Я хочу помочь ему. Эта встреча выгоднее для него, чем для меня.
– Я… попробую.
– Обещай мне!
Масуд-бек находился в таком положении, когда пообещаешь все, что ни попросят.
– Хорошо, и обещаю тебе…
– Объясни, постарайся и объясни своему дяде, что теперь я ему не враг. Когда-то был – теперь нет, к тому же…
Бывший богослов не успел закончить фразу. В помещении потемнело: кто-то занял дверной проем. Кто-то появился в оконном. Легко было догадаться кто.
– Что тебе нужно, безумец? – раздался голос эмира. – Отпусти моего племянника, и я дарую тебе жизнь.
Сердце Маулана Задэ облилось предсмертным холодом, несмотря на это, он твердым, хотя и тихим голосом сказал на ухо Масуд-беку:
– Помни свое обещание. А теперь я спасу тебе жизнь. – С этим он сделал шаг назад, оттаскивая эмирова племянника от темного провала. Когда он отпустил Масуд-бека, то был мгновенно схвачен и опрокинут на колени.
Эмир медленно, осторожной и одновременно вальяжной походкой приблизился к пленнику. Два телохранителя следовали за ним с полувытащенными из ножен саблями.
– Кто ты, дикарь? Аллах помутил твой разум, ибо ты не понял, на кого набрасываешься.
Глядя в пол, Маулана Задэ сказал:
– Наоборот, я слишком хорошо знал, как твоему сердцу дорог твой племянник Масуд-бек, и поэтому искал встречи именно с ним, хазрет.
Хуссейну, естественно, его голос показался знакомым, и он наморщил высокий лоб, пытаясь вспомнить, кому бы он мог принадлежать.
– Вторично я спрашиваю тебя о твоем имени. Кто ты? Третий раз буду спрашивать уже не я, а те, кому я плачу деньги за умение задавать вопросы.
Маулана Задэ поднял голову, и Хуссейн увидел рябое лицо и лихорадочно блестящие глаза.
– Ты узнаешь меня, хазрет.
– А-а, – Эмир отступил на полшага назад, и лицо его стало искажаться от приливающей к нему ярости. Он схватился за рукоять кинжала, висевшего на поясе. Он собирался убить этого наглого преступника сам, не прибегая к помощи нукеров. И он бы безусловно привел свой внезапный кровавый замысел в исполнение, если бы на его руку не легла рука Масуд-бека, уже оправившегося от пережитого потрясения. Голова молодого царедворца работала очень быстро, и он уже успел сообразить, что в данной ситуации было бы непростительным расточительством просто взять и зарезать бывшего сербедарского вождя.
– Хазрет, – сказал он, – может быть, его лучше допросить сначала, а потом только убить?
– Его? – заревел Хуссейн. – Зачем? Что он нам нового расскажет? Как грабил самаркандских купцов и осквернял мечети, как призывал народ к неповиновению? Все это мне известно не хуже, чем ему.
Стараясь говорить как можно тише, чтобы сказанное не стало добычей тех, кто не должен быть посвящен в тайны мира, Масуд-бек попытался еще раз вразумить вспыльчивого дядю:
– Он пришел сюда сам. У него к тебе важное дело.
– Сам?!
– Вот именно.
– Не смеши меня, Масуд-бек. Какое у этого безродного негодяя может быть ко мне дело? Я видел, как он хотел убить тебя, может быть, ты это имеешь в виду?
Масуд-бек улыбнулся:
– Вот это я ему прощаю. Но не прощу, если выяснится, что он хотел тебя побеспокоить по пустякам.
Вспышка гнева стала подергиваться пеплом недоумения в сознании эмира, и племянник вовремя это почувствовал, пустил в дело еще несколько аргументов:
– К тому же, хазрет, он в наших руках. Полностью. Мы можем убить его в любой момент.
Хуссейн молчал.
– И потом, если он достоин смерти и мы это выясним, то глупо открывать ему такой легкий выход из этой жизни, как удар кинжалом в сердце. Пусть он познакомится на прощание с нашими мастерами пыточных дел.
Последний довод показался Хуссейну наиболее убедительным, он сосредоточенно кивнул:
– Правильно. Это ты сказал правильно. Он у нас в руках. И никуда из них не денется.
Трудно было спорить с этой мыслью, ибо насильно коленопреклоненного сербедара держало уже шестеро здоровенных нукеров.
На этом закончилась первая часть разговора, продолжение последовало в башне дворцовой тюрьмы, в темном круглом помещении с каменным полом. В окружении многочисленных пыточных устройств и инструментов. Хуссейн считал, что люди всегда становятся разговорчивее, когда имеют возможность понаблюдать эти изощренные изобретения человеческого ума.
Племянник эмира считал, что если на людей простого склада это наблюдение распространяется полностью, то человеческие экземпляры типа Маулана Задэ они вряд ли могут потрясти.
Поскольку разговор-допрос должен был носить характер строго тайный, Хуссейну пришлось ограничиться минимальной охраной. Глухонемой носитель опахала сменил свой веер на бамбуковой палке на длинное копье, Масуд-беку было велено повесить на пояс два кинжала вместо одного. Сам эмир тоже кое-что прятал в широком рукаве своего халата. В добавление к этому бывшего сербедара заключили в колодки, дабы связать не только движения его рук, но и движения ног. Хуссейн слишком хорошо помнил об отрубленных головах Буратая и Баскумчи и не хотел себя подвергать и малейшему риску.
Маулана Задэ внесли в камеру пыток и в скрюченном состоянии поместили на полу в нескольких шагах перед балхским правителем.
– Клянусь священным камнем Кааба[54], вот в таком виде ты мне даже приятен, висельник.
Сербедар, даже находясь в описанном положении, умудрялся сохранять в своем облике что-то напоминающее о чувстве собственного достоинства.
– Ну, говори, для чего ты явился сюда? Подсматривать, подслушивать? Хотел выяснить, что происходит в славном городе Балхе, да?
– Для этого не надо было сюда являться. Вряд ли есть в Мавераннахре, Хорасане и даже в Индии человек, который бы не знал о твоей великой стройке.
Хуссейн самодовольно откинулся на подушки и заявил голосом очень уверенного в себе человека:
– Правильно.
– И должен сказать, хазрет, молва ничуть не преувеличивала того, что я увидел на самом деле.
– Ты пытаешься говорить мне приятные слова, надеешься этим разжалобить меня? Ты глуп, если надеешься.
– Нет, не для этого я прибыл сюда.
– А для чего? Отвечай, и не уклончиво. Я и так потерял с тобою слишком много времени.
– Я прибыл, чтобы служить тебе.
Глаза эмира удивленно раскрылись. Он явно не верил в то, что правильно понял сказанное.
– Слу… служить?! Ты?! Мне?!
Маулана Задэ попробовал кивнуть, но ему помешала колодка, сдавливавшая и руки и шею.
– Именно я, именно тебе, хазрет.
Хуссейн повертел головой, как бы высвобождая шею из тисков воротника.
– Ты так говоришь, поскольку уже давно перешел предел дерзости и заработал себе самую мучительную смерть, какую только можно себе представить, и думаешь, что можешь говорить отныне мне все, что тебе заблагорассудится?
– Совсем о другом я думаю, хазрет.
Масуд-бек, стоявший за спиною эмира, сделал пленнику знак рукою, чтобы скорей переходил к делу.
– Я думаю о том, что не только погонщики верблюдов и купцы ведут сейчас речь о том, какие стены вокруг Балха воздвиг эмир Хуссейн. Не только водоносы и райаты восхищаются рассказами о том, каким прекрасным и неприступным будет балхский хиндуван.
Хуссейн прищурился и склонил голову набок.
– Ни болтовня погонщиков, ни восторги городской черни тебе не страшны.
– Не страшны. Но ты хочешь сказать, что кого-то я все же должен опасаться?
– И ты прекрасно знаешь, кого именно. Твоего давнишнего друга и даже, кажется, брата.
Хуссейн возмущенно хлопнул себя ладонями по коленям, отчего из правого рукава вылетел на каменный пол тонкий короткий кинжал. Звеня и подпрыгивая на каменном полу, он подлетел к самым ногам пленника. Все замерли. Ноги Маулана Задэ были свободны только ниже колен. Сербедар напряг правую и куцым, но резким движением загорелой ступни отбросил кинжал далеко в сторону. Собственно, он при всем желании не смог бы воспользоваться тайным оружием эмира – это всем было ясно, но Хуссейну понравился поступок пленника.
– Друга, брата… Но Тимур, и это всем известно, ведет в Самарканде строительство почище моего.
– Чингисханово установление запрещает возведение стен вокруг городов и особенно строительство городских цитаделей… – начал было вмешиваться в разговор Масуд-бек, но его прервали.
– То есть как это? – вспылил Хуссейн. – Мне оно запрещает, а ему нет?!
– Все законы действуют до тех пор, пока живы люди, готовые им следовать, – сказал Маулана Задэ.
– Не говори загадочными фразами, я не выношу, когда со мною так разговаривают!
– Я только хотел сказать, хазрет, что в Мавераннахре есть люди, которые считают, что в этом отношении вы не равны с твоим бывшим братом. Они до такой степени потеряли стыд и ум, что пришли к выводу, что Тимуру не только можно, но и надлежит заниматься укреплением Самарканда, тогда как тебе подобные шаги в отношении Балха следует запретить.
– Запретить?!
– Именно.
– И кто они, эти люди?
Маулана Задэ непритворно вздохнул:
– К сожалению, их довольно много. Правители Шаша, Ходжента, Отрара, Тавриза, Бухары… Только худован-задэ из Термеза придерживается той точки зрения, что все владетели Чагатайского улуса должны быть равны пред словом Чингисхана.
Хуссейн нахмурился:
– Твои сведения верны?
– К несчастью.
Масуд-бек снова попытался стать участником разговора:
– Тимур присылал в Балх людей с советами прекратить строительство. Но как можно было таким советам последовать без того, чтобы не признать его верховенства над собой. Он даже намекал, что вступит в союз с Кейхосроу, если его предупреждения не возымеют действия.
Маулана Задэ усмехнулся:
– Для меня в этом не было бы ничего удивительного, ибо сношения меж ними постоянны.
Эмиру Хуссейну разговоры именно на эту тему были особенно неприятны, он даже не удержался от того, чтобы поморщиться, и тут же переменил тему:
– Служить, ты сказал, да?
– Сказал.
– А в чем может заключаться твоя служба? Как ты сам, наверное, догадываешься, мне не хотелось бы иметь такого человека, как ты, подле себя. Ведь может статься, что на самом деле в твоей голове никакая не служба, а желание меня зарезать, когда я проникнусь к тебе доверием и стану неосторожен. Ты на это рассчитывал, признайся?
Маулана Задэ шумно хмыкнул, настолько громко, что по-восточному этикету проявил настоящую непочтительность.
– Отчего мне хотеть твоей смерти, хазрет, только оттого, что ты когда-то хотел моей? Жизнь изменчива, и те, кто когда-то были близ сердца, становятся далеки, как горы северных стран. Тебе разве не приходилось встречаться с такими историями, а, хазрет?
– Очень редкие из людей, находящихся при мне, имеют данную мною привилегию задавать мне вопросы. Не усугубляй своими речами собственной участи, она и так плачевна.
– Припадаю к стопам твоим, хазрет. Просто иногда отвечая вопросом на вопрос, о большем даешь представление спрашивающему, чем в тех случаях, когда отвечаешь по правилам. А что касается той службы, что я мог бы тебе сослужить, то замечу, что конечно же не надеялся я, что ты так наивен и доверчив, чтобы оставить меня при своей персоне. Я прошу службы вдали от твоего дворца. И в том месте, где она тебе ныне более всего необходима.
– Где же это место?
– В шатре Тимура.
Хуссейн подергал ноздрями. Уже не первый раз за время разговора собеседник огорошивал его слишком резкими поворотами своей речи. Такому тучному и основательному человеку, как балхский эмир, это никак не могло понравиться.
– Я объясню сейчас подоплеку моих слов. Но объяснение опять пойдет не по прямому пути, я умоляю уделить мне толику внимания и терпения.
Маулана Задэ перевел дух, возражения не последовало, он мог продолжать.
– Тимуру непостижимым образом удалось объединить вокруг своих замыслов очень многих владетелей Мавераннахра. Они готовы поддерживать его во всех начинаниях. Самых ретивых я тебе уже перечислял. Тавриз, Шаш, Бухара… И знаешь, что здесь самое поразительное? Я встречался с некоторыми – они понимают, чего им будет стоить их подпадание под власть того, кто возвысился неимоверно в Самарканде. Понимают, что им придется поделиться частью власти, и все же идут на это.
Хуссейн слегка наклонился вперед. Наконец-то этот разбойник заговорил о вещах, которые его всерьез интересовали.
– Что-то сломалось в головах. Семя чингисидово выродилось, будущее этого блистательного рода представляется мне ужасным. Но не это занимает меня больше всего. Я бы мог безропотно проглотить свои слезы и похоронить горестный плач по потомству Потрясателя Вселенной в недрах сердца своего, когда бы на место верховного душителя, на место главного палача выдвигали кого-то другого, а не Тимура.
Огладив свою бороду рукою, унизанной перстнями, Хуссейн поинтересовался:
– Когда ты успел возненавидеть своего тайного друга? Помнится, были времена, когда ты оказывал ему большие услуги. Спас семейство и прочее…
– Не хочется в присутствии столь высокомудрых собеседников говорить вещи, которые вертятся на языке у любого болтуна. Но сказать придется. Как враг может с течением времени сделаться другом, так и друг по прошествии лет и дней может превратиться во врага.
– Наоборот, – сказал Масуд-бек.
– Что наоборот? – одновременно спросили Маулана Задэ и Хуссейн.
– Вторую часть изречения нужно поставить на первое место, а первую на второе.
Эмир раздраженно махнул четками на племянника и велел сербедару говорить далее.
– Ты прав как никогда, хазрет, напоминая мне о тех временах, когда я совершал во имя Тимура деяния, на которые не был способен ни один из его друзей и нукеров. А он прогнал меня. Ведь если ты не забыл о том, то я не забыл тем более. А он выгнал меня как собаку. Издавна, очень из далеких времен идем мы с ним соседними тропинками. И почти всегда вели они в одном направлений, не один и не два раза пересекались, и горько мне теперь сознавать, что разошлись отныне навсегда.
– Проще говоря, ты рассчитывал, что Тимур оценит твою преданность и хитроумие и сделает тебя своим визирем?
– А он сделал визирем Байсункара, этого простака, – усмехнулся Масуд-бек.
– Байсункар не был мне соперником. Тимур его любил, ценил его преданность, но никогда не пускал в глубины своего сердца, не делился своими самыми тайными мечтами о будущем. И не потому, что не доверял, просто Байсункар как был, так и остался простым нукером, которого возвысили за личные воинские подвиги и сделали потом визирем, потому что он стал калекой. Он ведь хромает почти так же, как сам Тимур, только на левую ногу. Вот и весь секрет его возвышения.
Хуссейн злорадно усмехнулся:
– Теперь понятно. Кажется, при Тарагаевом сыне появился кто-то, кто истинно завладел его сердцем, и ты понял, что отставлен и отринут не на время, а навсегда.
Маулана Задэ закрыл глаза и опустил голову.
– Кто этот человек? – спросил эмир.
– Его зовут Береке. Одни говорят, что он сын бывшего худована-задэ из Термеза, другие утверждают, что он родом прямо из Мекки. Что он прибыл оттуда специально, дабы вручить Тимуру какие-то тайные и очень древние знаки, которые подтверждают его право на власть над всеми правоверными Чагатайского улуса и землями, к нему прилежащими.
– Лучше пусть правы будут первые, – задумчиво сказал Масуд-бек, – я уверен, что слух о прибытии этого Береке из Мекки сам Тимур и распускает, чтобы поднять свой авторитет. Не потому ли к нему примкнули все мели́ки и худован-задэ, что наслушались этих разговоров.
Маулана Задэ покачал головой, насколько ему позволяли деревянные скрепы колодок.
– Возблагодарил бы я Аллаха, когда бы это было так.
– Ты хочешь сказать… – начал было Хуссейн, но Маулана Задэ позволил себе перебить его:
– Если Тимур начнет против тебя войну, все владетели Мавераннахра поддержат его и войну ты проиграешь, хазрет.
Волна гнева вновь поднялась в душе эмира.
– Ты явился для того, чтобы об этом мне поведать?
– Нет, я явился к тебе, чтобы сообщить, что, несмотря на все сказанное выше, у тебя есть способ совладать с твоим бывшим братом. И есть человек, который знает этот способ.
– Себя имеешь в виду?
– Да, хазрет.
– Ты знаешь, как убедить мели́ков и худован-задэ отложиться от Тимура?
– Нет, я не знаю, как это сделать.
– Наверное, ты знаешь, как построить мое малое войско, чтобы оно побило большое войско Тимура.
– И это мне неизвестно.
Хуссейн и Масуд-бек переглянулись.
– Тогда объяви, что известно тебе и что в твоих силах, хитроумный сербедар.
– Только что я громко возмущался тем, что все сильные и богатые люди Междуречья готовы безропотно вручить свое будущее Железному Хромцу.
– Железному Хромцу? – встрепенулся Хуссейн. – Так его теперь называют?
– Именно так.
– И давно?
– После того как он изрубил чагатаев возле Шаша. Так вот, я возмущался из-за предпочтения, оказываемого Тимуру, но если говорить честно, то выбран он не зря.
– Что значит – не зря?!
– Это значит, что второго такого в Междуречье нет. Он сердце и ум наметившегося объединения, а что происходит с человеком, как бы ни был он велик и силен, когда его поражаешь в самое сердце?
Хуссейн и Масуд-бек снова обменялись короткими понимающими взглядами.
– Ты хочешь убить Тимура?
– Да. И когда я убью его, в Мавераннахре воцарится хаос. Каждый считает себя достойным занять первенствующее положение, когда мертв истинный предводитель. Угроза твоему благополучию в Балхе рассеется, как утренний туман над арыком. И более того, даже может так случиться, что они попросятся под твою руку, ибо все помнят, что ты был единственным достойным противником Тимура.
Картина была настолько заманчивой, что даже самовлюбленный Хуссейн поверил в нее не сразу и не полностью.
– Не будем сейчас об этом говорить, ибо это дела дней отдаленных. Лучше объясни мне, как ты собираешься добраться до его горла. Или это не обязательно будет горло, может быть, ты убьешь его в спину?
– Еще не знаю. Могу утверждать только одно: убью я его не так, как убил Баскумчу и Буратая. Тимур ждет удара с этой стороны и наверняка предостерегся. Я буду думать, и я придумаю. Еще не было такого, чтобы я не достиг цели, которой очень хотел достичь.
– Так иди, убивай. Зачем ты пришел ко мне? Просить разрешения? Ты что, боялся, что я стану тебя отговаривать или вообще запрещу убивать моего злейшего врага?
Хуссейн и Масуд-бек весело рассмеялись.
Маулана Задэ не обиделся на этот смех или сделал вид, что не обиделся.
– Мне нужна помощь. После разгрома моих людей в Самарканде, после тех казней, что вы устроили с Тимуром, мне мало кто верит. Даже мои единомышленники в Хорасане отказываются мне помогать.
Эмир выпятил нижнюю губу.
– Но если тебе не верят даже твои единомышленники, почему тебе должен верить я?
– Потому что тебе выгоднее всего поверить в мои слова, хазрет. Ты ничего не потеряешь, однако очень многое сможешь приобрести в случае удачи.
– Хорошо, считай, что Аллах внушил мне необъяснимое доверие к твоим безумным словам, что дальше?
– Дальше, если это внушение проникло глубоко в твое сердце, ты дашь мне то, что я попрошу.
– Что я должен тебе дать? – опасливо спросил Хуссейн, его жадность с годами ничуть не смягчилась.
– Мне нужны деньги и люди. Я уже сказал: никто из прежних сторонников не хочет идти со мной, а в одиночку то, что я задумал, никак не совершить. В одиночку и без денег. В убийстве чагатайских нойонов участвовало до двух десятков человек.
– И много ли ты им заплатил?
– Тогда у меня не было нужды платить кому-нибудь, тогда мне было достаточно приказать. Мое слово стоило намного дороже золота.
Хуссейн задумался. Он и верил, и не верил бывшему вожаку сербедаров. Но что-то подсказывало эмиру, что эта ядовитая гадина не лжет. Перебирая в голове все повороты беседы, он не находил в объяснениях Маулана Задэ никаких противоречий или притворства. Он не пытается набить себе цену, прямо говорит о своем нынешнем ничтожестве, о том, что его оставили сторонники. Интересно, что по этому поводу думает Масуд-бек, впрочем, что бы он ни думал…
– Какие тебе нужны люди?
Маулана Задэ в ответ на этот вопрос облегченно вздохнул. Можно было считать, что он победил недоверие Хуссейна.
Масуд-бек тоже вздохнул, и тоже с облегчением, но только не так шумно, как колодочник, сидящий на каменном полу. Он с самого начала считал, что предложение бывшего сербедара надо принять. Слава Аллаху, эмир пришел к такому же решению.
– Нет ли у тебя нескольких мерзавцев, совершивших преступления, но еще не наказанных?
– Как не быть.
– Желательно, чтобы они были из числа твоих телохранителей или просто приближенных, одним словом, людей, готовых на многое ради того, чтобы вернуть твое расположение.
Хуссейн немного подумал и кивнул:
– И такие есть.
– И последнее, что требуется, хазрет, чтобы они были молоды и здоровы.
– Не колчерукие и не хромоногие? – поинтересовался Масуд-бек, и этот вопрос вызвал взрыв всеобщего веселья.
Глава 4 Птица в клетке
И сказал он: «О сыны мои! Не входите одними воротами, а входите разными воротами.
Ни в чем я не могу избавить вас от Аллаха.
Власть принадлежит только Аллаху: на Него я положился, и пусть на Него уповают уповающие».
Коран. Сура 12. ЙусуфКабул-Шаха Аглана поселили в северной части дворца, в покоях просторных, но достаточно уединенных. Причиной была не предусмотрительность Тимура, а просьба бывшего царевича. Эмир очень боялся, что он вообще откажется от предложения играть ту роль, которая ему предлагается.
Доставленный из своего неотдаленного уединения, царевич-дервиш-поэт спокойно выслушал то, что сочли необходимым сказать ему Тимур и Береке. Именно спокойно, а может быть, даже и равнодушно. Он добровольно сошел с подножия золотого трона на пыльную дорогу духовного странника, должно ли было его волновать предложение вернуться обратно? Тем более что приобретал он на этот раз намного меньше, чем некогда отверг. Тогда он отказывался от возможности стать настоящим ханом, теперь ему предлагали стать ханом подставным.
Тимур сообщил своему условному господину, что разослал многочисленных гонцов по всей стране, а также по странам сопредельным со строгим указанием разыскать его.
– Ты слышал об этом, Кабул-Шах?
– Да.
– Отчего же ты не явился сам, ведь от твоей норы до моего дворца не более фарасанга?
Поэт, преодолевая равнодушие и особого рода лень, ответил, что не понимает, почему он должен был это делать.
– Надо ли тебя понимать так, Кабул-Шах, что тебе все равно, кем быть на этой земле, грязным нищим дервишем или ханом Самарканда?
Поэт поднял на спрашивающего большие черные глаза. Он был грязен и обтрепан, ибо Тимур не пожелал ждать, когда он посетит баню и переоденется. Веки Кабул-Щаха были воспалены – действие едкого кизячного дыма, – это придавало взгляду особый оттенок, но не было при этом ничего в нем демонического. И весь облик царевича говорил о своеобразной умеренности и уравновешенности. Да, он был грязен и обтрепан, но не настолько, как иные наиболее неистовые представители наиболее неистовых дервишских орденов. Одежда его была в относительном порядке, то есть он не вываливался специально в грязи и не раздирал ее сознательно, дабы явить миру особую степень своего падения и несчастья. Волосы его были спутаны, но не до состояния войлока. Его трудно было представить бьющим себя руками в грудь или посыпающим голову пеплом. Пожалуй, лишь абсолютное спокойствие в не слишком обычной ситуации казалось чем-то чрезмерным.
– Но мне же предложено стать подставным ханом, а не настоящим.
– Ты видишь тут большую разницу? – спросил Тимур с легкой настороженностью в голосе.
Кабул-Шах медленно оборотил свое лицо к нему:
– Конечно. Мне кажется, что моя жизнь в этом качестве мало будет отличаться от моей жизни в той норе, из которой вы меня извлекли.
– Как это – не будет отличаться? – удивленно поднял брови эмир. – Там ты был голоден, наг, лишен удовольствий и женщин, каждый мог тебя обидеть. Здесь же все наоборот, ни в еде, самой изысканной, ни в одежде, самой нарядной, ни в женщинах, с любым цветом волос и кожи, тебе не будет отказа. Не говоря уж о том, что вся моя армия встанет на твою защиту, если ты сочтешь, что кем-либо оскорблен.
Поэт спокойно дослушал речь эмира, хотя с первого слова знал ее содержание.
– У тебя неправильное представление о той жизни, которую я вел, но это простительно, ибо у тебя не было возможности попробовать. И я не поленюсь объяснить тебе, в чем твоя ошибка. Ведь дело не в том, какова еда, а в том, чтобы быть сытым, согласись. Я даже не буду говорить о том, что чревоугодие грех, а сытость угодна Аллаху, просто замечу, что в своей норе я был сыт. Мои стихи и проповеди приносили мне вдоволь и лепешек, и урюка, и овечьего сыра. Приблизительно то же можно сказать и об одежде. Не сказано ли, что она должна защищать от холода и пыли и тогда она хороша. Станет ли она лучше, если будет привлекать внимание и завистливые взгляды? С женщинами еще проще.
– Ты посвятил себя Аллаху и поэтому… – попытался предугадать его мысль Береке.
Кабул-Шах усмехнулся, но не снисходительно, а спокойно и дружелюбно:
– Ты спешишь, сеид, но это не страшно. Не грех, когда человек спешит, чтобы приписать другому человеку достоинства и подвиги, которыми тот не обладает.
Береке чуть-чуть покраснел и потупился.
– Когда я был молод, я знал женщин. Я чувствовал, как это приятно. При моей нынешней жизни у меня нет в них большой потребности, но я не буду утверждать, что у меня никогда не возникнет потребность в них. А мысль моя такова: силен не тот, кто может пользоваться услугами многих и разных женщин, силен тот, кому все равно, услугами каких он может воспользоваться. Не разные, но любые…
Тимур кивнул:
– Мысль твоя тонка, но, кажется, я постиг ее. Но что ты скажешь о защите? Не будешь ли ты утверждать, что, бродя по дорогам с одним лишь посохом в руках, ты был сильнее защищен от опасностей, чем я, которого окружают тысячи и тысячи верных и умелых воинов.
– Напрасно ты считаешь это место в моих рассуждениях самым слабым – оно самое сильное. Скажи, человек, которому все равно что есть, что одевать, все равно, спать с женщиной или нет, скажи: чье он привлечет внимание? У меня ничего нет, значит, меня нельзя ничего лишить, нельзя, стало быть, ограбить. Человек, окруженный тысячами защитников, вызывает алчный интерес у десятков тысяч желающих поживиться. Разве я не прав?
– Возможно, в твоих словах и содержится какая-то правота, но она меня не убеждает.
– Я пришел сюда не для того, чтобы тебя в чем-то убеждать. Я пришел сюда по твоей просьбе и отвечаю на твои вопросы, среди которых главный – почему я тебе не отказал.
Щека Тимура непроизвольно дернулась. Кажется, разговор из развлекающего грозил стать раздражающим. Этот умник только что доказал свою полную неуязвимость, не хотелось бы, чтобы он из-за этой невидимой стены начал осыпать гостеприимного хозяина ядовитыми упреками и отравленными насмешками. Но выяснилось, что Кабул-Шах совсем к этому не стремился.
– На твой вопрос не было короткого ответа, поэтому нам пришлось проговорить долго, отнимая твое государственное время. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, что я согласился поселиться в дворце, потому что считаю – здесь смогу вести ту же жизнь, что вел до сих пор. Суть не в еде, не в одежде, не в почестях, не в охране. Суть в том, что я тут буду так же свободен, как и там.
И Тимур и Береке встрепенулись. Эмир спросил:
– Свободен? Что ты вкладываешь в это слово?
– У меня здесь так же не будет обязанностей, как не было там. Я ни за что не буду отвечать, ничего не буду решать, значит – что?
– Что?
– Я никому не смогу навредить. Разница между настоящим правителем и правителем мнимым такая же, как между тобою и последним нищим из грязных пещер на окраине Самарканда.
Кабул-Шах повел себя именно так, как обещал. Его жизнь была жизнью дервиша, но дервиша, живущего во дворце и окруженного тем почитанием, которым окружают представителя царственного рода. Или, вернее, пытаются окружить. Кабул-Шах предпочитал уединение, отказался от какой бы то ни было прислуги, из людей подобного рода к нему входил только один человек, который приносил ему пищу.
Вместе с ним поселился один юноша, страстный почитатель его таланта. Он готовил письменные принадлежности, растирал чернила, отпаривал пергаменты – словом, обязанностей у него было немного. Ибо даже коврик в сад, подходивший к ступеням дворца, поэт выносил сам. На этом коврике он проводил большую часть дня в неподвижном сосредоточении.
Первое время Тимур посылал к Кабул-Шаху человека, когда в южном крыле дворца затевался какой-нибудь пир или прибывало важное посольство. Мнимый государь являлся, но пользы от его присутствия было не больше, чем от присутствия какой-нибудь неодушевленной статуи. Наконец эмир понял, что таким образом поэт дает ему понять, что приглашать его на подобные сборища не надо, и пошел навстречу этой сложно выраженной просьбе. Кабул-Шаха оставили в покое. Собственно говоря, от него было получено все, что нужно. Всем в Самарканде, всем в Мавераннахре было известно, что Тимур, сын Тарагая, не сделался узурпатором власти в городе, что он всего лишь управляет им, почитая род чингисидов, что доказывает уважение, выказываемое царевичу Кабул-Шаху.
Жизнь шла своим порядком.
Самарканд, так же как и Балх, был охвачен строительными работами, и это волновало многих. Ведь издревле существовало мнение, что крепости воздвигаются не просто так, не на всякий случай – они воздвигаются против кого-то.
Вопрос – против кого именно, – не нуждался в ответе. Все понимали, что Самарканд рано или поздно будет воевать с Балхом, единственное заблуждение всех заключалось в том, что они почему-то были уверены, что это произойдет «поздно».
Так думали не только самаркандские горожане, не только купцы, прибывавшие на его базары из отдаленнейших мест, того же мнения держались и лазутчики Хуссейна, возглавляемые Маулана Задэ.
Неправильным было бы сказать, что причиной их заблуждения была глупость или ненаблюдательность. Они старательно делали свою работу, подробно все вынюхивали, высматривали, расспрашивали и подкупали, кого удавалось подкупить. И все они приходили к одному выводу – незаметно никаких приготовлений к войне. Они заключали это оттого, что городские кузницы работали так же, как всегда, сборщики податей не требовали налоги за год вперед, в Самарканд не собирались отряды вольных батыров, готовых примкнуть, за определанную мзду, к любой армии, согласные участвовать в войне, против кого бы она ни была направлена.
* * *
Маулана Задэ, засевший в Карши, собирал стекающиеся к нему сведения от лазутчиков, замаскированных под уличных брадобреев, харчевников, погонщиков и т. п., и, соединив их вместе, принужден был признать, что, пожалуй, в ближайшие месяцы Тимур не собирается выступать против Балха. Это удивляло и смущало опытнейшего интригана. По его расчетам выходило, что война должна грянуть вот-вот. Кому же верить? Собственным расчетам или многочисленным и упрямым фактам? Его расчеты почти никогда его не обманывали, факты же часто оказывались обманчивыми.
И главное, что сообщать эмиру в Балх? Если настоять на том, что он должен готовиться к скорой войне, ему придется прерывать почти законченное строительство. Если окажется, что тревога была пустой, не сносить головы Маулана Задэ. Да, два дела сразу Хуссейн делать не сможет. Или война, или стройка. Но, с другой стороны, послав эмиру успокаивающие известия, позволив ему пребывать в благодушном спокойствии, можно нанести ему непоправимый вред, потому что враг его получит возможность нанести удар внезапный. А внезапный удар почти всегда смертелен.
Итак, Маулана Задэ мучился, изводимый своими предчувствиями и их несовпадением с тем, что удавалось подсмотреть его лазутчикам.
Самое интересное, что бывший сербедарский вождь мучился не зря. Чутье его не обманывало. Почему подосланные им люди не видели военных приготовлений Тимура? Потому что все приготовления были сделаны заранее. Тимуру незачем было тревожить кузнецов, потому что его арсеналы ломились от мечей, копий, стрел и тому подобного. Ему не нужно было перегонять к городу табуны лошадей и объезжать молодняк, потому что отличные подседельные кони стояли у него в конюшнях. То же самое касалось и провианта и денег. Разумеется, деньги и провиант находились не в конюшнях, а на складах и в казне.
Тимур мог отправить свою армию в поход одним движением руки, а лазутчик, способный подсмотреть и правильно понять такое движение, еще не был рожден на свет. Как и тот, который способен подсмотреть движение мыслей в голове правителя.
Хуссейн легко поверил в то, что он пока может быть спокоен. Минимум год у него еще есть. Легко он поверил потому, что ему хотелось в это поверить. По словам строителей, как раз год требовался для того, чтобы полностью закончить внешние стены, сделать их неприступными, равно как и стены цитадели.
Подозрительный Маулана Задэ все же не успокоился. Он выпросил у Хуссейна еще десяток человек, чтобы сделать свою подслушивающую и подсматривающую сеть еще плотнее, чтобы уловить ею тех мелких рыбешек, по которым можно судить о приближении большого косяка.
И ему удалось поймать такую рыбешку. Один из лазутчиков, бывший троюродным братом помощника щербетного мастера из дворцовых кухонь, сообщил, что во дворец прибыл некий Мухамед-касым. Маулана Задэ знал, что это за человек. Доверенное лицо Кейхосроу. И не просто доверенное. Мухамед-касым всегда отправлялся в стан того союзника, вместе с которым властитель Хуталляна намеревался на кого-то напасть. Излишне было спрашивать, на кого.
Маулана Задэ бросил несколько золотых монет гонцу, прилетевшему с этой вестью, и велел тут же будить другого, которому надлежало немедленно отправляться в Балх.
Нет, он решил разбудить троих. И отправить их по отдельности, ибо путь предстоял дальний и опасный. Как бы не перехватили.
Каждый из троих вез всего одно известие. Война!
Надо отдать должное сообразительности Маулана Задэ, потому что в тот самый час, когда он отдавал свои торопливые приказания, Мухамед-касым вместе с Тимуром блаженствовал в бане. Блаженствовал и вел спокойную, обстоятельную беседу. Эмир тоже был обстоятелен и нетороплив. Зачем куда-то спешить человеку, который ко всему готов заранее?
После бани Тимур, Береке, Мансур, Байсункар и, разумеется, Мухамед-касым поедали специальным способом приготовленных перепелов, в меду с орехами и шафраном, пили легкое, почти не пьянящее кашмирское вино и говорили о том, каким именно образом им следует двигаться, чтобы обе армии подошли к Балху одновременно.
– Дальше оттягивать нельзя, так требует и закон справедливости, и закон войны. Нам надо появиться под стенами Хуссейнова логова, пока стены еще не достроены, – сказал Тимур, и этим военный совет был завершен. Зачем лишний раз обсуждать то, что и так ясно?
Гость, насладившись вином и перепелиным мясом, поинтересовался, а где же находится знаменитый Кабул-Шах Аглан, отчего он не украшал собою баню, а теперь не спешит украсить столь замечательное застолье?
– Я знаю многие его стихи. Он жил как сумасшедший, но рассуждал как мудрец.
– С тех пор как он совершил мудрый поступок, согласившись поселиться в моем дворце, он перестал рассуждать вообще, – криво усмехнувшись, сказал Тимур.
– Он больше не пишет стихов и почти не разговаривает, – добавил сеид Береке.
Мухамед-касым промолчал, понимая, что коснулся темы, неприятной для хозяев. Воистину, иногда безопаснее говорить о войне, чем о поэзии.
Тимур допил вино, перевернул свою чашу вместилищем вниз и сказал:
– Мы выступаем.
– Когда? – Это спросил Курбан Дарваза, появившийся в дверях пиршественной залы.
– Сейчас.
– Сейчас? – переспросили многие.
– Неужели у нас что-то не готово? А если так, что нас должно задерживать? С рассветом войско должно быть за пределами города.
С возражениями выступил только Байсункар. Он сказал, что двор – то есть повара, жены и музыканты – в несколько меньшей степени готовы к немедленному выступлению, чем пехота и конница, поэтому он просит один день на сборы, дабы тяжкое путешествие не кончилось гибелью для тонких растений, которыми украшено существование самаркандского правителя.
Ответ Тимура на это, в общем-то, разумное предложение был в высшей степени неожиданным:
– А ты, Байсункар, вообще не тронешься с места.
– Почему, хазрет?
– Потому что не тронется с места Кабул-Шах Аглан. Кто-то должен остаться при нем.
Визирь покорно, хотя и недовольно, склонил голову.
На этом время разговоров закончилось, вскипела стихия воинских сборов.
Приказание Тимура было выполнено. Солнце только начинало всходить, а из южных ворот Самарканда выползала последняя колонна пехоты, заметая свой след пыльным хвостом.
Тут же на выезде из города кибитку с золоченым верхом, в которой начал поход эмир, догнал всадник, несколько неуверенно держащийся в седле. Это был визирь Байсункар, он крикнул, что у него есть два важных слова к хазрету.
Из-за занавесей появилось недовольное лицо Тимура. Он очень не любил, когда с ним спорят, а сейчас был уверен, что старый товарищ прискакал, чтобы поспорить относительно того, стоит ли ему оставаться во дворце, когда все остальные отправились в поход.
– Что тебе?
– Кабул-Шах умер.
– Как умер?
– Сидит под чинарою и не дышит. Он уже холодный. Почти как живой, но совсем холодный.
– Он же еще молодой, он ничем не болел, – попытался спорить с очевидностью Тимур, но скоро оставил это занятие, более достойное женщин и философов.
– Это дурной знак, – осторожно сказал с неопределенной интонацией визирь.
Тимур усмехнулся, покосившись на него:
– Только не для тебя. Я жду тебя в лагере под Балхом.
Глава 5 Цитадель
Какая цитадель самая неприступная?
Та ли, что воздвигнута посреди богатого города?
Та ли, что возведена на горной вершине?
Нет, та, что стоит в сердце твоем!
Кабул-Шах, «Мысли на прощание»Сказать, что войско Тимура пало на Балхские земли как снег на голову или как песчаная буря, значит, не сказать ничего. Конники самаркандского эмира появились под стенами родового Хуссейнова гнезда прежде самых неопределенных слухов о начавшейся войне. Не зря сказано и повторяется: неожиданность – это половина успеха. Так вот, что касается половины успеха, то она была достигнута буквально в течение одного дня. В тоске и ужасе заперся Хуссейн внутри возлюбленной своей стройки.
Тимур не стал предпринимать штурм с ходу, как советовали ему многие. Выразительно высившиеся на фоне синего неба нововозведенные укрепления Балха подсказывали, что не следует этого делать. Не важно, что защитники деморализованы и похожи скорее на стадо баранов, чем на войско.
– Из-за таких стен даже зажмурившаяся овца может поразить неустрашимого барса.
Решено было ждать, когда подойдут стенобитные машины вместе с китайскими мастерами, специально выписанными из Поднебесной империи для их обслуживания. А пока следовало обложить Балх со всех сторон, дабы не прорвались к нему подкрепления или обозы с провиантом и другими припасами.
В те дни, когда Тимур занимался подготовкой к длительной осаде, Хуссейн обходил свои хранилища и проверял, насколько город готов к длительному сидению в полной изоляции. Оказалось, что все не так уж плохо. И риса, и пшеницы, и сушеных фруктов, и масла, и вяленого мяса, и сыра овечьего и козьего запасено было в количествах просто огромных. Четыре полноценных источника имелось внутри городских стен, не считая специальных резервуаров с дождевою водой.
Из хранилищ Хуссейн отправился в арсеналы, сердце его осталось довольно и этим посещением. Многие тысячи стрел, копий и мечей хранились там всегда готовые к применению. Бурдюки с китайским песком, то есть порохом и нефтью, для ведения огненной войны также имелись в изобилии.
Эмир искренне поблагодарил старого визиря Ибрагим-бека за его старание и даже подарил ему богато украшенный персидский акинак[55], что сочтено всеми придворными было как знак высочайшего расположения.
Вечером того же дня к Хуссейну прокрался, миновав посты осаждающих, человек от Маулана Задэ и сообщил, что сербедар ни в коем случае не предал своего хазрета, более того, уже начал осуществление своего плана, в результате которого войско, прибывшее из Самарканда, должно быть обезглавлено.
На следующее утро Хуссейн, глядя на Тимуровых конников с высоты своих стен, не испытывал никакой робости, он даже шутил со своими приближенными, говоря, что воинам его бывшего друга придется пришивать своим коням крылья, дабы они могли взобраться на укрепления Балха.
Хуссейн верил, что изворотливый Маулана Задэ успеет заколоть Тимура раньше, чем в хранилищах города закончатся запасы. А лишенная единого управления армия, стоящая сейчас под стенами, перестанет быть грозной силой. Мансур и Курбан Дарваза не захотят подчиняться Кейхосроу, сеид Береке их в этом поддержит. Не захотят подчиняться лисе из Хуталляна и мели́ки Карши и Бухары, по слухам, уже прибывшие к Балху. Разодранное противоречиями войско гостей с севера станет легкой добычей. Да, жеребец, вырывающийся вперед в самом начале скачки, порой приходит к ее финишу последним.
Вслед за своим эмиром воспряли духом и его воины. Все чаще в адрес всадников Тимура неслись со стен оскорбительные выкрики, издевательские приглашения в гости. Нападающие и защищающиеся обменивались стрелами, но результативность такой стрельбы была ничтожной. Ибо одни все время двигались, а другие прятались за стенами.
Воины Тимура часто вызывали воинов Хуссейна на честный батырский поединок, но ничего из этого не выходило. Владетель Балха строго-настрого запретил своим участвовать в этих поединках. Он боялся подвоха. Ведь для того, чтобы выпустить всадника из крепости, необходимо хотя бы ненадолго отпереть ворота.
Каждое утро, проснувшись, Хуссейн интересовался, жив ли Тимур. Нет ли слухов о его безвременной кончине? И каждый раз немного расстраивался, когда ему говорили, что таких слухов нет. Почему Маулана Задэ медлит? Или он не медлит, а хочет сделать дело наверняка? И жив ли он еще? Хуссейну хотелось иметь ответы на эти вопросы, но он не знал, кому их задать.
Между тем Маулана Задэ действовал.
Для начала выяснил, где расположено то становище, которое эмир выбрал для своего пребывания. Теперь нужно было придумать способ пробраться внутрь его и отыскать шатер эмира. И то и другое сделать было очень трудно. Все воины, собранные в сотню телохранителей Тимура, отлично знали друг друга в лицо, знали также и всех слуг, мулл, улемов, тех, кто ухаживал за лошадьми и подвозил пищу. Не говоря уж о поварах.
Кроме того, как понял Маулана Задэ по ряду второстепенных деталей, Тимур никогда не ночевал два раза в одном шатре, в одной и той же кибитке. Словно чувствуя, что ему угрожает какая-то опасность, может, даже и догадываясь, какая именно.
Строго говоря, для бывшего сербедара уже само нахождение поблизости от того места, где располагалось становище Тимура, было смертельно опасно. Слишком многие знали его в лицо. Поэтому пришлось прибегнуть к маскировке. Маулана Задэ переоделся, как всегда, дервишем – это был наилучший вариант отвлечь от себя внимание. С течением времени вокруг Балха собралось огромное количество святых странников, они словно шли на запах, жались поближе к тому месту, которое должно было стать полем кровопролитного столкновения.
Но в этот раз дервишеское облачение не слишком помогло Маулана Задэ. Ни его самого, ни многочисленных его собратьев не подпускали близко к тем местам, где стояли шатры, в коих можно было надеяться застать эмира.
Соратники Тимура дивились столь необычному поведению хазрета, обычно он вел себя на войне по-другому. Когда Кейхосроу задал ему прямой вопрос по этому поводу, Тимур усмехнулся и ответил так, чтобы хорошо его слышали все присутствовавшие при разговоре:
– Вспомните про Баскумчу и Буратая. Не во время ли осады пострадали они?
– Ты думаешь, Маулана Задэ здесь? – спросил Береке.
– Не думаю – чувствую.
– Может быть, и всем прочим надо принять меры предосторожности? – поинтересовался Курбан Дарваза.
Тимур пожал плечами:
– Не знаю, но думаю, что пока я жив, вам опасаться нечего.
Маулана Задэ кружил вокруг лагеря как зверь. Спал на голой земле, питался отбросами и теми подачками, что швыряли ему наиболее благочестивые из воинов врага. Он исхудал, кожа его покрылась коростой, истерический блеск глаз превратился в обжигающий. Им владела одна безумная, кровавая идея, и он всего себя посвятил ее осуществлению. Чем отвратительнее и нестерпимее становилось его желание, тем благочестивее, святее выглядел он внешне. Даже Тимуровым полустепнякам, толком еще не утвердившимся в мусульманской вере, он казался святым человеком. Большинство простых людей связывает святость со способностью к врачеванию. И вот настал момент, когда к Маулана Задэ обратился один десятник, пехотинец, с просьбой помочь его брату, на которого навалилась некая хворь. Маулана Задэ согласился, внутренне возликовав. В неприступной стене образовалась небольшая, но все же брешь.
Конечно, ни к какому врачеванию Маулана Задэ был не способен, но был весьма способен к внушению. Он осмотрел больного, метавшегося в жару, и многозначительно сообщил десятнику, что ему надобно приготовить лекарства. Сказал еще, что болезнь тяжелая, но при помощи продолжительного и правильного лечения брата можно спасти.
– Спаси его, святой человек!
Маулана Задэ обещал, но сказал, что ему понадобится часто бывать здесь, на территории лагеря, на что получил заверение, что в этом ему не будет препон. Новоиспеченный врач отправился к ближайшему меловому обрыву, чтобы наскрести в свою баклажку лекарства, а потом к ручью, чтобы это лекарство развести. В это время к лагерю наконец подполз обоз со стенобитными машинами, что вызвало взрыв ликования среди осаждающих.
Следующее утро принесло Хуссейну новый прилив тоски в сердце.
Опять никаких сведений о том, что справедливое возмездие настигло хромого разбойника.
К стенам ползут какие-то приземистые, деревянные гады непонятного и угрожающего вида. Хуссейн знал, что дальних их предков завез в эти места еще Чингисхан и с их помощью превратил в пыль пустыни все имевшиеся в Мавераннахре крепости.
– Сжечь их! – приказал Хуссейн.
Первая реакция человека, который не знает, что делать с надвигающейся опасностью. Хуссейн почти физически ощущал, как беззащитны его только что сложенные стены перед угрюмой силой этих жутких механизмов.
Конечно, его приказание попытались выполнить. И конечно, ничего из этого не получилось.
– Они все время поливают их водой, – сказал глава лучников Карабек.
– Так убейте тех, кто носит воду!
Это была правильная мысль. Если перестать смачивать деревянные брусья, из которых были изготовлены стенобитные машины, то под палящим солнцем они очень скоро превратятся в отличное топливо.
Второе приказание было выполнить еще труднее, чем первое. Носильщиков прикрывали большими щитами, и до них было еще дальше, чем до самих машин.
Что оставалось правителю Балха? Грызть в ярости усы и бессильно наблюдать, как неуклонно, хотя и медленно подползают к его городу губители городов.
Стенобитные монстры еще только примерялись к каменным преградам, которые им предстояло сокрушить, а Маулана Задэ вовсю трудился у стены меловой. Осколком камня он истолок в мелкую пыль добытый мел, развел его водой, добавил сок нескольких кизиловых ягод для цвета и вкуса. Он правильно рассудил, что нужно изготовить лекарство, которое не окажет на организм больного никакого действия, сколь долго его ни принимай, а за время лечения можно будет осмотреться и что-нибудь придумать.
Маулана Задэ начало везти: приготовленное им питье, против всех ожиданий, принесло больному некоторое облегчение. Сыграла, видимо, здесь свою роль и способность сербедара воздействовать на человеческую психику. Он сказал больному, что ему сейчас станет немного полегче, и тот стал считать, что действительно наступает улучшение.
Как бы там ни было, авторитет святого дервиша в глазах братолюбивого десятника вырос еще выше. Теперь он доверял ему беспредельно. Кроме того, с началом активных боевых действий под стенами Балха в лагере стало меньше строгостей. Пару раз дервишу, сделавшему вид, что он находится в состоянии непреодолимой задумчивости, удавалось забредать довольно далеко в глубь его. Он неплохо стал ориентироваться на его пространствах, помимо этого примелькалась его фигура и перестала вызывать немедленное подозрение у стоящих повсюду стражников.
Больной доедал уже вторую горсть измельченного мела, когда стало известно, что сделана первая пробоина в городской стене. Предстоял решительный штурм.
Маулана Задэ сидел, склонившись над больным.
Десятник торопливо перепоясывался мечом, пристраивал на голове металлическую шапку.
Находившийся в обычном своем полубредовом состоянии больной захотел попрощаться с братом перед сражением, попытался приподняться, опираясь на плечо дервиша. Но слабая рука промахнулась и вместо плеча зацепила бороду лекаря. Борода же, как известно, была у Маулана Задэ накладная, она начала сползать, что вызвало сильное удивление лежащего. Удивление проявилось сдавленным криком ужаса. Скорей всего, несчастный даже не понял, в чем дело, ему просто показалось, что он сходит с ума, мир разваливается на глазах и отовсюду наползают призраки, рожденные небытием. Но так или иначе, он вскрикнул. И затих навеки, ибо опытная рука поддельного врача тут же воткнула ему в сердце кинжал, предназначавшийся для персоны более значительной.
– Что с тобой, Саид? – поинтересовался брат, которого не мог не испугать этот сдавленный вопль.
Маулана Задэ принимал решения мгновенно.
– Саид умер, – сказал он не оборачиваясь.
– Как это – умер?
– А вот так!
С этими словами Маулана Задэ вырвал кинжал из сердца Саида и вонзил кинжал в сердце десятника, умудрившись попасть точно между пластинами панциря. Кровавые струи из двух тел хлестнули как плетьми по стенам шатра.
Ему не хотелось, чтобы события принимали такой поворот, но раз уж жизнь вмешивается слепым случаем в происходящие события, глупо ей не подчиниться.
Что делать дальше?
Борода пришла в негодность и навеки застыла в коченеющей руке любителя мела с кизилом. Без бороды нельзя – дервишей безбородых не бывает.
Маулана Задэ присел на корточки и стал расстегивать пояс десятника.
В это время, в стенном проломе, заполненном пылью и человеческими криками, началась сеча. Сражались только пешие, потому что кони в этом каменном месиве способны были только переломать себе ноги.
Люди Хуссейна загодя готовились к неприятному событию – обрушению стены, но есть на свете вещи, к которым подготовиться невозможно. К тому же сказывалось и то, что своих воинов Тимур учил давно и подробно тому, как следует вести себя при взятии крепостей, и специальные лестницы были у них наготове. Теперь защитники Балха могли рассчитывать только на численность и героизм воинов. Но ни в численности, ни в героизме они нападавших не превосходили.
Постепенно люди Хуссейна были вытеснены из провала и попытались задержаться на сооруженном здесь временном укреплении. Хуссейн велел их возвести напротив тех мест в городской стене, которые подвергались атакам стенобитных машин.
На некоторое время можно было признать предусмотрительность Хуссейна оправданной. Наступление замедлилось. Не приносящая никому решительного успеха сеча кипела на небольшом пятачке, уже заваленном трупами и телами раненых.
Ножом десятника Маулана Задэ осторожно распорол заднюю стенку палатки, выходившую к коновязи, выглянул, осмотрелся. Никого. Разорвал плотное полотно сверху донизу и выбрался наружу, придерживая рукой высокую металлическую шапку.
В лагере было пустынно, только кое-где дымились кострища да мелькали голые по пояс кашевары, суетящиеся возле своих котлов.
Неторопливым шагом Маулана Задэ направился в том направлении, где, по его расчету, должен был находиться шатер Тимура. Никто не обращал на него внимания, ибо почти некому было его обращать. Армия занята была штурмом. Что ж, видимо, во время решающей атаки полководец уязвим более всего. Такая мысль мелькнула в голове сербедара. Впрочем, только в том случае, если он остался в лагере. На это можно было надеяться, потому что давно уже было известно – эмир не любитель мчаться при первой возможности в самую гущу боя.
Перепрыгнув через узкий, почти пересохший ручеек, обогнув большие арбы, груженные мешками, Маулана Задэ остановился. Вздохнул несколько раз, заставляя свое сердце биться ровнее. Кажется, он у цели.
Перед его глазами раскинулись шатры, крытые шелком, богато украшенные кибитки. Здесь было значительно больше народа, чем на остальной территории лагеря. Несомненно это было место, облюбованное батырами и нойонами Тимура.
Можно ли вторгаться сюда простому десятнику? Маулана Задэ этого не знал. Поэтому решил вести себя еще осторожнее, причем он понимал, что в этом опасно переусердствовать – скрытное поведение бросается в глаза не меньше, чем буйное.
Он подошел к ближайшей арбе и прислонился к ней с таким видом, будто он кого-то ждет. Рядом шла какая-то своя жизнь. Пробежал здоровый парень с седлом на плече. Брадобрей вышел из шатра, неся таз с мыльной водой, нукеры провели одну за другой двух расседланных арабских лошадей, седые стражники препираются из-за того, что… Маулана Задэ выглянул из-за своей арбы и оцепенел. Почти прямо перед его глазами была спина богато расшитого бухарского халата. Сапоги красного сафьяна. Шапка с собольим хвостом. Человек этот появился из того же шатра, из которого только что вышел брадобрей.
Стоит, оглаживает лицо.
Маулана Задэ боялся пошевелиться, боялся дышать. Если это кто-то из приближенных Тимура, то, повернувшись, он сразу же его узнает.
Только бы не обернулся.
Не обернулся. Пошел в сторону конюхов, которые…
Не важно, что делают эти конюхи.
Важно то, как он пошел. Сильно припадая на одну ногу. Да и рука, если присмотреться, согнута не совсем нормально.
«Неужели удача!» – мелькнуло в голове.
Сила и слава твоя, Аллах!
Всего секунду медлил сербедар и тут же скользнул вслед за хромцом, вытаскивая кинжал из-за пояса. Покачивающаяся спина быстро приближалась. Краем глаза Маулана Задэ увидел стоящих у соседнего шатра стражников и услышал их испуганные крики. Злорадно подумал – поздно!
Пусть теперь кричат и делают все, что хотят. Поздно! Поздно! Поздно!
Хромец стал оборачиваться, но и это движение запоздало. Лезвие с тугим сочным звуком вошло ему под лопатку.
Рухнул второй кусок стены. Значительно больший, чем первый. Дух защитников Балха, слегка воспрянувший после того, как им удалось сдержать натиск воинов Тимура в первом проломе, пал окончательно. Началось беспорядочное бегство. Не только вооруженные наспех копьями строители и горожане предпочли спасать свою жизнь, чем гибнуть во славу своего эмира. И бывалые воители, прошедшие с Хуссейном не одну военную дорогу, дрогнули.
Одно было спасение – цитадель.
Там и укрылся Хуссейн со своими родственниками, приближенными телохранителями и четырьмя сотнями самых отборных воинов.
Глава 6 Цитадель (окончание)
Проехав по всему городу, Тимур свернул к дворцу. Его сопровождали Кейхосроу, Мансур и Курбан Дарваза. Следом скакало с полсотни нукеров.
Город был наводнен воинами самаркандского эмира, и в нем происходило то, что обычно происходит в городе, только что взятом штурмом: грабежи, резня и прочие безобразия. Причем не только с соизволения эмира, но и по прямому настоянию. Пусть все узнают, как впредь будет поступать правитель Мавераннахра с теми, кто захочет противиться его власти.
Ворота дворца были распахнуты, все огромное здание было охвачено смятением, хотя никто из победителей внутрь еще не проникал. Все понимали, что это законная добыча эмира.
Тимуру помогли сойти с коня, и он, как легко догадаться, сильно припадая на правую ногу, направился ко входу. Обгоняя его, два десятка нукеров бросились туда же, на всякий случай оглядываясь, не грозит ли откуда-нибудь опасность их повелителю.
Несмотря на свое увечье, Тимур шел быстро. Ни на что вокруг, казалось, не обращая внимания. Ни резные, украшенные перламутровыми выкладками двери, ни фонтаны, бьющие из огромных перламутровых ваз, ни золотые хвостатые рыбки в бассейнах, окружающих эти фонтаны, ни белые витые решетки, оплетенные горным плющом, не привлекли его внимания. Еще меньше, чем предметы, занимали его попадавшиеся по дороге люди, тем более что все они лежали ниц на полу, касаясь лбами холодных каменных плит.
Создавая немало шума железом своих панцирей и железными же подковами сапог, впереди и вокруг него топали его оруженосцы с обнаженными саблями в руках. Они пинками расшвыривали тех, кто выражал свою покорность новому повелителю, лежа посреди дороги.
Тимур бывал в этом дворце всего один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы прекрасно в нем ориентироваться. После того как эмир сделал два поворота в своем движении, можно было с уверенностью сказать, что движется он не куда-нибудь, а в сторону гарема.
Вот наконец и его двери. Чем обычно встречали в те времена эти отделения дворца своих повелителей? Запахом сладких ширазских духов и криками попугаев. Восточные женщины, тем более собранные в большом количестве вместе, не могут обходиться без болтовни этих птиц. Когда только они находят время их слушать, если и сами любят поговорить.
Двери сераля оказались запертыми.
Телохранители, бежавшие первыми, остановились перед ними в некоторой нерешительности. Любой нукер с детства был приучен почитать жен своего господина. И вообще любого господина.
– Ну что же вы! – негромко сказал Тимур и сделал знак, который можно было истолковать только таким образом: «Ломайте!»
Эти двери оказали Тимуру еще меньше сопротивления, чем стены Балха. И вот он, морщась от сильного запаха духов и воплей цветастых птиц, входит внутрь. Первое, что он там увидел, были не женщины, а пятеро стоящих шеренгою, согнувшись в низком поклоне, мужчин. Когда они разогнулись, эмир увидел мягкие, безбородые лица с жабьими ртами, оплывшие плечи. На головах у них были синие чалмы с серебряными украшениями. Одеты все пятеро были в длинные синие халаты с белыми восьмиугольными звездами.
Евнухи.
– Кто старший из вас? – не стараясь скрыть свою брезгливость, спросил Тимур.
Стоявший в шеренге справа евнух с наиболее отвратной физиономией сделал шаг вперед:
– Главный хранитель гарема бежал еще вчера. Я буду рад тебе служить, хазрет.
– Как тебя зовут?
– Торуд.
– Ты персиянин?
– Ты угадал, хазрет.
– Все наслышаны о непревзойденной красоте жен эмира Хуссейна, я решил проверить правоту слухов.
– Ты сам войдешь к ним или прикажешь привести их сюда, хазрет?
– А сколько их?
– Двадцать шесть жен и двадцать четыре наложницы. Каждая могла бы стать украшением дома любого султана и любого халифа, хазрет.
Тимур на секунду задумался:
– У меня не так много времени, чтобы большую часть его тратить здесь.
Спутники эмира одобрительно засмеялись.
– К тому же сказано, – продолжал эмир, – для того, чтобы узнать, готов ли плов, достаточно съесть полгорсти, нет нужды пожирать весь казан.
Торуд понимающе поклонился и вытащил из-за пояса нечто упакованное в парчовый чехол, протянул эмиру.
– Что это?
– Здесь все имена жен и наложниц. Ты можешь выбрать понравившиеся имена.
– Что мне дадут имена, когда я не видел лиц! Ты сам назови мне тех, которые пользовались наибольшим вниманием своего бывшего господина. Доверимся в этом деле моему бывшему другу Хуссейну. В женщинах он безусловно разбирается. Видит Аллах, ни в чем больше, – тихо добавил эмир.
Эти слова вызвали взрыв хохота.
Торуд развернул список:
– Все пятьдесят жен и наложниц пользовались вниманием эмира Хуссейна, но сердце его принадлежало четырем. Первая – Манана, грузинка. Вторая – египтянка Манехет, третья из Индии доставлена совсем недавно, имя ее Рандива, четвертая – турецкого рода, зовут Тахмина.
– И достаточно. Приведи их в порядок, Торуд, и доставь в мое становище. Остальные…
Тимур обернулся к своим спутникам:
– Остальных я отдаю вам. Еще Чингисхан говорил, что лучшая добыча – добыча лошадьми. Потом идет добыча женщинами и только потом добыча деньгами.
С этими словами победитель покинул гарем побежденного.
Цитадель Балха оказалась укреплена значительно лучше самого города. Она была воздвигнута на каменистом основании, приподнятом локтей на двадцать над окружающими кварталами. Так что подтащить стенобитные машины было очень трудно, для начала следовало соорудить соответствующие насыпи. Осажденные сражались с неожиданной энергией, которую трудно было ожидать от людей, перенесших накануне страшное поражение. Хуссейн вспомнил наконец о запасах пороха и нефти, имевшихся в подземельях хиндувана, с их помощью защитникам удалось сжечь две стенобитные машины. Появилась опасность того, что осада затянется. Этого нельзя было допускать. Тимур понимал, что и Кейхосроу, и термезские сеиды поддерживают его только потому, что верят в его удачливость и непобедимость, любая серьезная неудача может все изменить.
– На что он рассчитывает? – спрашивал Береке Тимур, разглядывая стены хиндувана.
– Разве что на помощь Аллаха, – пожимал плечами в ответ сеид.
– Аллах оставил его, это понятно всем!
– Сейчас понятно, но завтра могут появиться сомневающиеся.
Тимур отмахнулся, показывая, что не надо ему повторять вслух его собственные мысли.
– У нас остается одно средство.
– Ты имеешь в виду штурм?
– Да. Китайские машины вот-вот подползут к его хиндувану вплотную. Мы обили их медными листами, теперь их нельзя будет зажечь.
Эмир посмотрел на своего ближайшего советника:
– Ты придерживаешься другого мнения?
Береке кивнул.
– Тогда скажи какого?
– Я знаю, как заставить Хуссейна сдаться. Но для этого мне необходим один человек.
Тимур усмехнулся:
– Я знаю этого человека?
– Знаешь. И знаешь намного лучше меня и, несмотря на это, очень дорожишь им.
Эмир вернулся в шатер, сел на подушки, откинулся, смежил веки.
– Дорожу, потому что не придумал еще, как его казнить. Он нанес мне страшную рану, убил моего старинного друга Байсункара, не могу же я просто посадить его на кол или бросить леопардам в клетку. Это выглядело бы как благодарность, учитывая размеры совершенного им зла.
– Я понимаю тебя, и я придумал, как восстановить равновесие в этом деле.
– Равновесие? Что это значит?
– Маулана Задэ, конечно, умрет, но таким образом, что своей смертью сослужит нам великую службу.
– Объясни, что ты задумал?
– Отдай мне Маулана Задэ. Отдай мне его сегодня, и завтра к тебе явится человек от Хуссейна с просьбой о мире.
Тимур задумался. И думал довольно долго. Не то чтобы он испытывал недоверие к словам своего ближайшего друга и советника… Но расстаться с такой добычей, как убийца Байсункара, ему было тяжелей тяжелого.
– Хорошо, Береке. Я отдам тебе его, делай с ним, что ты считаешь нужным. Да поможет тебе Аллах.
– Да поможет!
Сеид не обманул своего друга. Назавтра, сразу после утреннего намаза[56], в становище самаркандского эмира явилось посольство из цитадели. Возглавлял его, против ожидания, не молодой умник Масуд-бек, а пожилой, седобородый воин Ибрагим-бек. Тимур хорошо знал его, ибо приходилось им участвовать не в одном совместном походе. Знал и уважал.
Плохо выглядел ветеран. Даже сквозь смуглоту лица проглядывала смертельная бледность. Не от страха был бледен старый вояка, а от стыда.
Тимур отнесся к нему достаточно уважительно, он не сердился на Ибрагим-бека. Нельзя порицать человека за то, что он до конца остался верен своему господину.
– С какой вестью ты пришел ко мне?
Глава посольства поклонился и сказал, что послан с известием о том, что эмир Хуссейн желал бы прекращения войны и мечтает о мире.
– Я тоже ни о чем, кроме мира, не мечтаю. Если мы посмотрим, то увидим, что именно твой господин должен быть признан виновником кровопролития. Разве я построил стены вокруг Балха, разве я построил хиндуван?
Ибрагим-бек опять поклонился:
– Мой господин сожалеет о сделанном. Мой господин заранее согласен на все твои условия. Просит он только об одном, и просит смиренно.
– Я знаю, о чем он просит. Хочет, чтобы я сохранил ему жизнь.
– Ты угадал.
– Ему не пришлось бы просить о сохранении жизни, если бы он хоть что-нибудь сделал для сохранения нашей дружбы. Аллах видит, сколько в моих словах правоты.
Седобородый посланец просто склонил голову в знак согласия, ибо не было нужды в словах.
– Передай ему, Ибрагим-бек…
Посланец поднял голову и выжидающе прищурился.
– Передай эмиру Хуссейну, что если он добровольно сдастся, я не убью его.
– Что ты не убьешь его…
– Да. Теперь иди, я сказал все, что надобно было сказать.
Когда посланец удалился, Тимур некоторое время молчал. Молчали и присутствовавшие при беседе Береке, Кейхосроу, Мансур и Курбан Дарваза. В пору было веселиться от души, войну можно было считать закончившейся. И закончившейся победоносно. Впереди открывалась широкая, отчетливо различимая в пучинах будущего дорога к славе и возвышению. Но они были смущены подавленным состоянием своего господина и друга. Может быть, ему что-то другое видится на будущих путях?
– Скажи, Береке, как ты заставил Маулана Задэ отворить ворота хиндувана?
– Я отрезал ему голову и отправил в подарок Хуссейну. У того оказалось слабое сердце, и он решил сдаться.
– Воистину, Всевышний на каждом шагу убеждает нас, что мир устроен сложнее, чем нам кажется. Кто бы мог подумать еще несколько месяцев назад, что эмир Хуссейн, узнав о смерти одного из своих лютых врагов, вместо того чтобы пуститься в пляс от радости, впадет в такую печаль, что потеряет способность к сопротивлению.
Береке обернулся к батырам и пояснил смысл этого, не очень понятного непосвященным, разговора:
– Этот премерзкий сербедар, крыса в человечьем обличье, сговорился с Хуссейном против хазрета и должен был убить его. Хромота Байсункара обманула его.
– Но Байсункар хромал на левую ногу… – осторожно возразил Мансур.
Тимур пояснил:
– Ты никогда не обращал внимание, что в зеркале вод человек отражается так, что правая рука у него оказывается слева, и наоборот. Байсункар был обращен к убийце спиной, так что хромота в воспаленном мозгу Маулана Задэ оказалась там, где и должна была, по его мнению, быть, справа. Он хотел убить меня не столько ради Хуссейна, сколько ради себя. Он готов был расстаться со своей поганой жизнью, лишь бы достичь цели, а значит, был особенно опасен.
– Воистину так, – пробормотал Кейхосроу.
Тимур сказал Мансуру:
– Скажи поварам, чтобы они готовили пир.
– Сегодня, хазрет?
– Сегодня ночью.
– Но почему ночью?
– Потому что вечером сегодня мы закончим все дела.
– Ты думаешь, Хуссейн захочет сдаться как можно скорее? – поинтересовался Береке.
– Конечно. Он поспешит. Ведь он будет не сдаваться, он будет спасать свою жизнь.
* * *
Переодетый простым горожанином, в сопровождении Масуд-бека, Ибрагим-бека и телохранителей, также сменивших свое облачение, эмир Хуссейн покинул цитадель и по узким глухим улочкам направился к восточным воротам. По понятным причинам он не хотел ни с кем встречаться во время этого путешествия, поэтому выбрал самый скрытный маршрут. Людей Тимура, которые еще оставались в Балхе, он опасался, надо сказать, меньше, чем своих сторонников, которых несколькими днями ранее бросил на растерзание самаркандскому воинству.
Хуссейн шел пешком, ибо понимал, что пеший человек привлекает меньше внимания, чем всадник с конной свитой. Шел быстро, наклонив голову, время от времени посматривая по сторонам.
Раздавлен.
Убит.
Испепелен!
Да, он оказался на самом дне, он принял унизительные условия полной сдачи. Да, он валяется сейчас в пыли и судьба его ничтожнее судьбы самого последнего райата. Но кончается ли все этим дном, и не для того ли существует дно, чтобы, оттолкнувшись от него, начать возвышение?
Именно такие мысли роились в его голове, а перед глазами проплывали картины кровавой, всесжигающей мести. Хуссейн шел сдаваться, понимал, что должен будет пасть ниц и Тимур поставит ему свой сапог на хребет, но думал при этом о мести. Мести, мести и мести. Он жалел, что у Тимура только одна жизнь и что лишить ее человека можно только один раз.
Если бы он рассказал о своих мыслях спутникам, они бы решили, что их господин обезумел.
Появились первые признаки вечера, поползли длинные тени, порывы пыльного ветра пронеслись через перекрестки, неся с собой запах гари. Хуссейн быстро, настолько быстро, насколько позволяла его полнота, шел в молчаливом окружении вернейших своих слуг. Он спешил побыстрее испытать все то, с чем неизбежно связано всякое поражение. И снова наверх и вперед, к очищающему огню отмщения!
Наружу выбрались не через ворота – хотя они были недалеко, там могли оказаться посты самаркандцев, – а через пролом в стене. Пришлось перепрыгивать с камня на камень, иногда нога соскальзывала и опиралась на остывшее тело.
Картина побоища придала ярости Хуссейна новые силы. Он пошел еще скорее, направляясь к одиноко стоявшей в сотне шагов от городской черты мечети.
Лицо его начало подергиваться от сдерживаемой энергии, Хуссейну все труднее и труднее было молчать. Когда руководимая им группа нахмуренных людей оказалась буквально в нескольких шагах от минарета мечети, Хуссейна прорвало.
– Что он сказал? – обратился он с вопросом к Ибрагим-беку, вопроса этого ничуть не ожидавшему.
– Что ты говоришь, хазрет?
– Что он сказал, что дарует мне жизнь, да? – С губ эмира сорвался нервный, раздраженный смех. – Он сказал, что дарует мне жизнь! Он, он дарует! О Аллах, ты видишь, он дарует!
Хуссейн остановился, и все остановились. Ибрагим-бек наконец понял, о чем идет речь, и осторожно позволил себе возразить:
– Он не так сказал, хазрет.
Несмотря на всю свою тучность, эмир мгновенно повернулся к говорившему:
– Не так?
– Он сказал: «Я не убью его».
Установилось молчание. По лицу Хуссейна потекли струйки пота. Сначала по вискам, потом еще, еще, вскоре все лицо его оказалось мокрым. Масуд-бек, как всегда, все понял раньше всех и стал незаметно отступать в задние ряды окруживших эмира телохранителей. Он не знал, зачем это делает, но особого рода чутье подсказывало ему, что надо поступать именно так.
Сдавленным, резко изменившимся голосом Хуссейн почти прокричал:
– «Он» не убьет… Но там же есть еще Кейхосроу!
После этих слов и Ибрагим-бек, и все прочие поняли, в чем тут дело, и молчание стало еще ужаснее. Его непроницаемость оттенялась диким визгом, с которым вдоль городских стен Балха неслись развеселые конники Тимура. Эмир кивнул в сторону Тимурова становища:
– Мне нельзя туда.
Сказав это, он повернулся к пролому, через который только что покинул свой родной город. Всадники, числом до сотни, гарцевали, ходили кругами, бросали вверх свои шапки и пытались попасть в них из лука. Воздух звенел от дикого восторженного визга. Цитадель тоже стала недоступна.
– Спрячемся, – глухо пробормотал Хуссейн и бросился к минарету. Остальные с охотой последовали за ним, торчать на ровном месте в опасной близости от места дикарских развлечений пьяных самаркандских головорезов никому не было приятно.
– Переждем, – еще более глухо и подавленно сказал Хуссейн, быстро входя под каменные своды, – здесь мы под защитой Аллаха.
Но не все последовали за своим господином. Дождавшись когда последний телохранитель скроется в каменном убежище, Масуд-бек бросился к кизиловым кустам, находившимся неподалеку. И канул в них, как будто никогда и не было племянника у балхского эмира. Куда он спешил – говорить излишне.
Сидя на коне, властитель Самарканда с пологого холма любовался закатом. За его спиной застыли в полной неподвижности Мансур, Курбан Дарваза, сеид Береке. Они стояли не только позади своего господина, но и несколько ниже его.
Зрелище заката было впечатляющим, эмир любовался им в полной тишине. Только где-то далеко сзади, если прислушаться, можно было различить звуки веселья в становище.
Торжественная тишина царила в мире, охваченном трагическими красками гибнущего заката.
Тимур сидел в такой позе, что всем, кто наблюдал за ним, казалось, что ему подвластна и эта тишина, и все небесные цвета.
Холодный привкус вечности ощущался в почти неуловимом колебании воздуха. Еще мгновение – и величественная картина, открывшаяся взору победителя замрет навсегда.
Но пока что этому еще не суждено было осуществиться. Еще не пришло время.
Равнина, лежавшая у подножия заката, безжизненная на вид, беспорядочно поросшая редкими кустами степной колючки вдруг ожила. Слева направо ее пересекал всадник вслед за ним тащился длинный хвост пыли. Всадник был далеко, но было видно, что он счастлив – вознес руки к небу и что-то благодарственное кричит небесам.
Сеид Береке, пользуясь своим особым положением в свите эмира, тронул повод своего коня и неторопливо приблизился к нему. И встал рядом. Вернее, не совсем все же рядом, на полшага сзади.
– Это Кейхосроу, хазрет.
– Я вижу.
– Но что он тащит на аркане? Кого он тащит?!
– Мою тень.
Могила Тамерлана
Первая часть
– А, это вы Ватсон?
Шерлок Холмс опустил газетный лист и медленно откинулся в кресле. Весь его вид говорил, что гостей он не ждет. Письменный стол был завален газетами, газеты были присыпаны пеплом. На углу стола стояла тарелка с остатками пищи. Вилка вообще валялась на полу.
С тех пор как великий сыщик перебрался в этот дом неподалеку от пересечения Кингс Роуд и Парк-cтрит, доктор навещал его раз пять или шесть, и не мог не отметить, что во все прошлые разы беспорядка было меньше.
Ватсон поставил к стене сложенный зонт и снял котелок, усыпанный мелкими дождевыми каплями.
– Мальчишка-посыльный сообщил мне…
Великий сыщик очнулся от задумчивости.
– Разумеется, мой друг, разумеется, я жду вас с нетерпением. За три часа, прошедшие с того момента, как я отправил к вам посыльного, успело произойти несколько важных и в основном неприятных событий. Взгляните, тут у меня «Таймс», «Дейли-Ньюс», «Дейли-Телеграф», «Кроникл»…
В кабинет без всякого стука влетел мальчишка в форменной фуражке и бросил на стол перед Холмсом новые газеты. Тот пробежал глазами заголовки на первой полосе.
– «Стандарт» и даже «Стрэнд»! Все как сговорились! Все пишут одно и тоже! Как это ни странно, приходится верить!
Ватсон опустился в кресло у холодного камина и церемонно поставил трость между колен.
– Вера не ваша стихия.
Холмс пропустил это замечание мимо ушей и сказал.
– Волнения в Оранжевой Республике.
– Очень интересно, – сухо произнес доктор.
– Не столь интересно, сколь прискорбно, мой друг.
– Судя по тому, что вы выкурили за эти три часа не менее восьми трубок, все обстоит именно так.
Сыщик бросил в сторону доктора удивленный взгляд.
– Браво Ватсон, именно восемь. Напрасно вы утверждали, что не в состоянии профессионально овладеть моим прославленным методом.
Доктор насупился, отчего его аккуратно подстриженные рыжие усики сделались вдвое гуще.
– В данной ситуации я выступаю профессионально не как сыщик, но как врач. В вашем возрасте восемь трубок на фоне возбуждающего чтения, это чересчур.
– Пожалуй, мой друг, пожалуй.
– Но что же вас так впечатлило в этом сообщении из владений ее величества в Южной Африке? Сейчас не девяносто девятый год, война невозможна.
– Зато возможно падение акций «Кимберли Китченер». Алмазные копи и прочее в том же роде.
– Алмазные копи?! – весьма удивленно и несколько задумчиво произнес Ватсон.
– Бумаги таких компаний падают очень быстро, а потом, даже если выяснится, что оснований для беспокойства не было, растут долго и неохотно.
– И что, это может как-то отразиться на ваших делах?
Холмс постучал холодной трубкой по холодной каминной доске.
– Не только на моих, но и на наших, друг мой.
В глазах доктора появился огонек понимания, правда, почти мгновенно сменившийся туманом сомнения.
– Но Холмс…
– Спрашивайте, мой друг, спрашивайте!
– Боюсь, я и без ваших ответов понял, что произошло. Компания не в состоянии оплатить наш проект. Величайшее расследование сквозь века! Ведь вы почти уже доказали, что Железный Хромец был отравлен во время последнего китайского похода. Осталось только…
– Да, наша поездка, которую мы так давно планировали, которая должна была стать венцом моей карьеры, быть может… – в голосе великого сыщика звучала откровенная грусть, – кажется, сорвалась.
– О боже, Холмс, только не говорите, что мы должны забыть о могиле Тамерлана. Ведь проделана такая работа…
– Правильно, друг мой, верно.
– Сколько перелопачено материалов, проложены маршруты, уже даже наняты проводники через перевалы Кашмира.
Холмс только грустно кивал.
– И в основном это был результат вашей фантастической трудоспособности, Ватсон.
– А ваши идеи, Холмс!
– Но что делать, если теперь они стали так же неосуществимы. Но, поверьте, меня больше всего расстраивает тот факт, что из-за разорения «Кимберли Китченер», и крушения идеи величайшего расследования – «Могила Тамерлана», мы так и не прочтем ваш роман, мой друг. А ведь это было бы грандиозное сочинение.
– Что об этом говорить, Холмс, какой-то роман, вы, вы…
– Что вы говорите, роман, это как раз… Успокойтесь, дорогой друг. Я знаю один способ, как справиться с неприятностью – тут же пуститься в новое дело.
– Но мы же отказали всем, собираясь в Кашмир. И дочери мясника, с ее отравленными племянниками, и викарию, повешенному в своей библиотеке. То есть не самому викарию, впрочем… Я знаю, вы буквально заболеваете во время вынужденных простоев.
Знаменитый сыщик затаенно улыбнулся, он уже начал обретать черты своего привычного образа – уверенность, твердость, сила.
– Судьба сурова, но и щедра. Правда, не всегда ее щедрость может полностью возместить размер потери. Простоя не будет. Одним словом, Ватсон, пока вы ехали ко мне, я получил письмо. Да, мы пока откладываем папку со звучным названием: «Могила Тамерлана».
В руках Холмса появился обыкновенный почтовый конверт.
– Я получил это четверть часа назад. Прочтите.
Доктор развернул лист бумаги поданный ему.
– «Мистер Холмс. Вы моя последняя надежда. Если мне не поможете вы, не поможет никто. Посетить вас лично мне мешают опасения за мою жизнь. Я вынужден скрываться, и даже изменить свою внешность. Предлагаю встретиться завтра в ресторане “Айви” в четыре часа пополудни. Я подойду к вам сам. С последней надеждой Х.».
– Ну что скажете, Ватсон?
Холмс крепко держал в зубах девятую трубку.
Ватсон нахмурился и вновь сгустил усы.
– Судя по тому, что вы за мной послали не зря. Со своей стороны скажу – если я вам нужен, можете на меня рассчитывать.
– Другого ответа я от вас не ждал! Да, кстати, я не слишком бесцеремонно вторгаюсь в вашу жизнь? Предполагаю, что эта история отнимет у нас не один, и не два дня. Может быть, придется покидать Лондон.
– Если мы собирались пересечь полмира и забираться в Гималаи…
– Считаю излишним интересоваться, что станется с вашей практикой?
– Вот именно.
– А ваши литературные занятия?
– Они на точке замерзания. Барнетт ждет от меня нового рассказа о Шерлоке Холмсе. Я надеялся, что эта индийская поездка обеспечит меня материалами на годы вперед. Вы же знаете – вы единственный источник моего вдохновения.
Великий сыщик кивнул.
– По правде сказать, я был уверен, что с финансированием все устроено надежно. Очень надеюсь, что про Тамерлана мы забываем не навсегда. А пока придется заняться тем, что есть.
– Я получил авансовый чек из «Чемберса». Уже две недели тому, а в голове ни одной подходящей идеи.
– Думаю, теперь они у вас появятся, Ватсон.
Холмс ожидал доктора в зеркальном холле ресторана. Он сидел в углу длинного зеленого дивана, в тени небольшой бихарской пальмы, на носу у него помещались черные очки без оправы. Всякий входящий в высокие стеклянные двери оказывался перед ним как на ладони. Между тем его самого можно было разглядеть, лишь зная, где именно он сидит.
Доктор знал. Он медленно подошел и, не говоря ни слова, сел рядом. Несколько секунд прошло в полном молчании.
– Не стесняйтесь, Ватсон, спросите, почему я устроился здесь, хотя в ресторане полно свободных столиков.
– Считайте, что я уже спросил.
За долгие годы общения с великим сыщиком доктор утратил большую часть своего природного простодушия. Он знал, что любое слово Холмса может оказаться входом в ловушку не только безобидного, но иногда и неприятного розыгрыша.
– У меня две цели. Вторая заключается в том, чтобы увидеть нашего мистера Х со стороны. Люди, как вам известно, почти всегда играют. Даже когда этого не хотят, и особенно тогда, когда думают, что вполне естественны. Тут все зависит от качества раздражителя.
– Вы считаете, что наш контрагент на швейцара среагирует не так, как на…
– Разумеется, мой друг. Перед «великим сыщиком» он, безусловно, предстанет в маске. Он просит меня о помощи, но это не значит, что он мне полностью доверяет.
– Какова же ваша первая цель?
Холмс закинул ногу на ногу и наклонился влево, частично покидая полосатую пальмовую тень.
– Она всегда и везде для меня главная: совершенствование моего метода. Согласитесь, что прежде чем присмотреться к человеку, нужно определить к кому присматриваться. До назначенного срока осталось четверть часа. Будем теперь особенно внимательны, Ватсон. Вам придется отсесть на другой конец дивана и развернуть газету.
– У меня нет газеты.
– Я захватил для вас экземпляр «Таймс».
Доктору нечего было стыдиться, никто не обязан таскать в кармане газету на всякий случай, но легкий укол в самолюбие все же ощутил. И этот укол подтолкнул его к чуть ехидному вопросу.
– А почему вы уверены, что автор письма еще не пришел? Может он уже сидит в зале и пьет свой кофе.
– Нет. Исключено. Вспомните текст письма. Этот человек утверждает, что вынужден скрываться. Зачем же ему торчать лишние полчаса в людном месте?
Доктору нечего было возразить. Он взял газету и приподнялся.
– Помните, что внешность этого человека будет изменена.
Ватсон поморщился. Этот совет был явно лишним. Он уже положил себе присматриваться к людям с необычной внешностью. Теперь, если он добьется успеха, то будет вынужден делить его между собственной проницательностью и напоминанием Холмса.
За восемнадцать минут наблюдения в холл вошло двадцать четыре посетителя. Четыре пары, две компании, одна в пять человек, другая в шесть, пятеро одиночек, из них одна дама. Человек наивный, вроде Ватсона десятилетней давности, сосредоточился бы исключительно на одиночках, отбросив из их числа даму. Сегодняшний доктор оставил под подозрением всех. Человек скрывающийся мог, например, пристать к большой компании. Это легко сделать, если в ней не все друг с другом хорошо знакомы, или успели, как следует набраться. Войдя внутрь, он может безболезненно отколоться.
Одиночки подозрительны все, само собой разумеется. И толстяк в белом жилете, и буйнобородый господин с золотым зубом, и коротышка с постоянно выпадающим из глаза моноклем.
И даже дама.
Конечно же, дама!
Ватсон приятно заволновался. Безусловно, это переодетый мужчина! Достаточно вспомнить эту квадратную фигуру, эту тяжелую гренадерскую походку, зверски напудренное лицо, неуместную вуалетку, скрывающую глаза.
Доктор бросил краткий победительный взгляд в сторону сосредоточенного друга. Интересно, он тоже догадался? Будет очень забавно, если нет. Ведь признаки столь очевидны. Достаточно присмотреться внимательным… О, она возвращается из ресторанной залы! Она (он!) нас ищет!
Избранница доктора явилась не одна. Ее аккуратно, но твердо поддерживали под руки два официанта. Шляпка у нее съехала, со щек сыпался косметический мел. Швейцар, увидев эту сцену, бросился на помощь. Но не даме, а официантам! В одно мгновение квадратная женская фигура проследовала через выходную дверь на дождливую улицу и там разразилась визгливой бранью.
– Нам пора, Ватсон.
Доктор сглотнул слюну.
– Думаете, ОН уже внутри?
– Уверен, да.
– И кто же это?
– Сначала хотелось бы услышать ваше мнение.
Доктор лихорадочно соображал, что же ответить.
– Неужели вы не заметили ничего необычного?
В голосе друга не было и тени иронии, но Ватсон почувствовал, что краснеет.
– Почему же, мне кажется, что это джентльмен с огромной бородой. Мне кажется борода накладная.
– Браво, Ватсон.
– Я угадал?
– Нет.
– Так с чем же вы меня поздравляете? – почти неприязненно поинтересовался доктор.
– Мое восхищение совершенно искренне. Вы направились по правильному пути, но не в том направлении.
Они вошли в залу. Холмс снял очки.
– То есть, ваша голова работала, как голова нормального человека. Вас предупредили, что внешность будет изменена, и вы решили, что в облике будет что-то прибавлено. Усы, борода. Чем больше борода, тем она подозрительнее. Так думают все нормальные люди. Чтобы заметить убывание чего-нибудь в облике…
– Нужно быть Шерлоком Холмсом, – буркнул доктор.
– Вы обиделись, мой друг? Напрасно. К моему тону можно было привыкнуть за эти годы.
К ним приблизился метрдотель и поинтересовался, чем он может помочь джентльменам.
– Нас ждут. Вон там у колонны.
Ватсон посмотрел в указанном направлении. Там сидел хорошо одетый и выбритый сорокалетний мужчина. Пока они приближались к нему, доктор успел его рассмотреть. Припухшие веки говорили, несомненно, о пристрастии к выпивке, непреднамеренно надменный вид о благородном происхождении. Кроме того, нетрудно было заметить, что господин этот чувствует себя явно не в своей тарелке.
Подойдя к его столу вплотную, Ватсон обратил внимание, что сюртук джентльмена несколько поношен и короток в рукавах.
– Здравствуйте! – сказал Холмс.
Мужчина привстал и неуверенно улыбнулся.
– Я тот к кому вы писали, со мною мой напарник, доктор Ватсон.
– Прошу садиться, джентльмены.
Отделавшись от официанта, Холмс спросил:
– Давно сбрили бороду?
Мужчина погладил рефлекторно подбородок и скулы, они были заметно белее остального лица. На левой стороне подбородка виднелся тонкий, длиною в три дюйма, шрам.
– Сегодня утром.
Ватсон вспомнил о своей даме полусвета, и ему стало стыдно.
– Обычно я ношу такую, довольно окладистую. Теперь неуютно. И холодно.
– Приступим к делу мистер…
– Блэкклинер. Эндрю Блэкклинер. Я владелец с недавних пор поместья Веберли Хаус в Хемпшире, милях в десяти от Винчестера. Места наши считаются глухими, может быть потому, что неподалеку начинаются холмы Олдершота. А может, мы чувствуем себя живущими в глухомани, потому что соседи нас не жалуют.
Произнося эти простые слова, мистер Блэкклинер начал раздувать ноздри и комкать салфетку правой рукой. Страстная и порывистая натура, сделал про себя вывод доктор. А шрам, безусловно, след старого ранения.
– Почему же они вас не жалуют? – спросил Холмс.
Блэкклинер мощно нахмурился, на секунду замолк, словно, решая, стоит ли отвечать на этот вопрос. Потом шумно выдохнул воздух – решился.
– Всему виной наш батюшка, Энтони Блэкклинер, его неуемный нрав. Слишком большим он был охотником до дамского пола. Причем действовал без всякого разбора и оглядки. Ни возраст женщины, ни ее положение, ни даже отталкивающая внешность не служили для него препятствием. Думаю, ранняя смерть нашей матери произошла от горестного состояния, в коем она беспросветно пребывала. Она родила отцу троих сыновей, но это его не укротило. Само собой разумеется, все окрестные дома были закрыты для нас. Нам пришлось искать счастья вдали от родины. Я предпринял военную карьеру. Гарри, средний наш брат, занялся наукой, а младший, Тони, поступил в католическую школу в одном из северных графств.
Мистер Блэкклинер хорошо отхлебнул из своего бокала. На лице Холмса на мгновение появилась тень неудовольствия. Ватсон не обратил на это внимания.
– Насколько я понял, ваш отец живет уединенно.
– Жил. Неделю назад он был найден мертвым у себя в кабинете. За три дня до его смерти мы все собрались в Веберли Хаусе. Такого не случалось уже много лет.
– Почему?
– Мы слишком разные люди, и не будь у нас общих родителей, никогда бы в жизни не познакомились бы друг с другом. Гарри, это циничный, холодный, расчетливый ум. Он нравственно, может быть, и чистоплотен, но от его чистоплотности разит крещенским холодом. Тони – святой, или почти святой. И почти еще подросток. Тихий, с затаенной страстной мечтой о царстве всеобщего счастья. Я же, изволите видеть, джентльмены, слишком офицер по натуре. Хотя и принужден был обстоятельствами выйти из полка. Я более других унаследовал отцовский характер. Карты, дуэли, веселые женщины – вот мой мир. Однако все еще льщу себя надеждой, что душа моя не полностью, не окончательно погрязла, что осталось в ней хотя бы одно светлое пятнышко!
В глазу у мистера Блэкклинера сверкнула самая настоящая слеза. Рука потянулась к бокалу, но была с мягкой решительностью перехвачена рукою Холмса.
– Кто еще, кроме вас четверых, на момент смерти находился в доме?
Мистер Блэкклинер шмыгнул носом, овладевая собой.
– Постоянно жила при нем мисс Линдсей. Впрочем, не при нем, это я преувеличил. Она дальняя родственница нашей матушки, попала к нам в дом в возрасте уже примерно четырнадцати лет. У нас не было принято об этом говорить, но, предполагаю, Элизабет (таково ее имя) пришлось много претерпеть в прошлом. Теперь это привлекательная девушка. Весьма и весьма привлекательная. Три года назад, когда я в последний раз навещал Веберли Хаус, она была еще ребенком, настоящим ребенком. По манерам, по взглядам на жизнь. И, поверьте, я не хвастаюсь, она увлеклась мною, еще довольно молодым, бравым офицером. По понятным причинам роман между нами был невозможен. Она писала мне. Я уехал. Теперь же у меня открылись глаза, джентльмены. Какая красавица! И тут же в моем сердце вспыхнула ревность, я то уж знал характер отца. В старости он только усугубился. Не мог он оставить без внимания такой цветок, растущий в собственном саду.
– Хорошего же вы мнения о своем отце! – не удержался доктор.
– О, поверьте, таким подозрением его образ не оскорбишь. Грязное, сладострастное животное – вот его самая мягкая характеристика.
– Что же вы предприняли?
– Что я мог предпринять, мистер Холмс! Ревность сжигала меня. Я попытался поговорить с Элизабет, уповая на наши старинные, пусть и вполне эфемерные, отношения. У меня ничего не получилось, она была молчаливее камня. Я бродил по дому, пил в одиночестве.
– Понятно. Что же привело в Веберли Хаус вашего среднего брата Гарри? Ведь он тоже, насколько я понял, не жаловал семейное гнездышко.
Сэр Эндрю оторвал взгляд от полуопустошенного бокала и вздохнул.
– Думаю, всему виной деньги. Он скрытен, мой брат Гарри. Но не может скрыть того, что презирает меня, как натуру пошлую и крикливую. Считает меня ничтожеством. Но я сумел кое-что разведать о его трудностях. Будучи сверхъестественно щепетилен в своих делах, он умудрился попасть в жесточайшую финансовую зависимость. Причем от дамы. Ему требовались две с половиной тысячи фунтов на проведение какого-то очень важного опыта. Опыт этот должен был увенчаться грандиозным успехом, который прославил бы Гарри среди всех европейских физиков. А может, и химиков. Но опыт не совсем получился, или даже совсем не получился. Дама, дававшая деньги, влюблена в Гарри до безумия, но одновременно очень деликатно влюблена. Она, конечно, ни за что не хочет принять эти деньги обратно. Гарри же убежден, что должен их вернуть во что бы то ни стало. Денег у него нет, потому что нет славы. Есть один способ списать долг – жениться. Но это невозможно. Даму он не любит. К тому же думает, что деньги она ему давала не из любви к нему, а из любви к науке. Он боится, что рухнет образ кристально честного и чистого Гарри, великого ученого.
– А у покойного были такие деньги?
– Да, мистер Холмс, были. Ровно три тысячи фунтов. Более того, как раз в такую сумму исчислялась доля наследства нашего Гарри, по завещанию нашей матушки. Я свою долю давно спустил. Гарри прежде своей доли не требовал, по все тем же щепетильным соображениям. А тут, видимо, поборол гордыню и явился за деньгами. Но выяснилось, что отец давно уже все пустил по ветру, и его долю, и долю Тони, не говоря уж о том, что причиталось лично ему. Остались три тысячи, но они были обещаны мисс Линдсей, за согласие выйти за старика замуж. Она же не спешила с этим согласием, равно как и с отказом, чем разрывала мое сердце. Что-то она выгадывала и взвешивала. Куда-то девался весь ее прежний романтизм, на его месте обнаружился весьма твердый и зрелый характер.
Холмс неторопясь отрезал кусок ростбифа.
Сэр Эндрю вытирал обильно выступивший пот.
Ватсон сурово заметил:
– Если исходить из рассказанного вами, то и у вас, и у вашего брата Гарри были весомые основания убить мистера Блэкклинера.
Отставной офицер грубо скомкал платок и резко приблизил лоснящееся лицо к щеке доктора.
– Вы правы, сэр, были. Скажу больше, не раз в моих горячечных видениях такая возможность соблазнительно рисовалась мне. Но я ни на секунду не рассматривал ее как реальную! Верьте мне, джентльмены, верьте мне!
Сыщик тщательно прожевал кусок мяса, потом так же тщательно промокнул губы салфеткой.
– А что вы скажете о вашем третьем брате?
– Тони? В том смысле, что вы спрашиваете, годится ли Тони в убийцы? Просто смешно! Мне даже немного стыдно слышать от вас этот вопрос, мистер Холмс.
– Тем не менее расскажите, почему ваш младший брат внезапно приехал из своей церковной школы. Ведь он приехал внезапно?
– Нет. Хотя и посреди семестра, но не внезапно. Отец прекратил платить за его обучение.
– Из скупости?
Сэр Эндрю вздохнул, чувствовалось, что он не любит прижимистых людей.
– Отец был скуп, но не до такой степени. На свои грязные развлечения он тратил деньги без счета. На выпивку, на подарки своим прачкам и забеременевшим крестьянкам. Я думаю, ему перестало нравиться то, как глубоко Тони увлекся своим богословием. Отец, надо вам заметить, считал все священническое племя ханжами, готовыми ради денег на любой обман. А тут у Тони появился духовный какой-то покровитель, отец Копстол, вы, верно, слышали о нем. Тони все более и более подпадал под его влияние. Причем, насколько я понял, влияние это было не совсем обычное. Отец Копстол и не протестант, и не католик. Затеял что-то вроде собственной церкви. Тони решил присоединиться к ней, порвать с миром и всякое такое.
– Мистер Блэкклинер был против?
– Он и в школу не хотел его посылать, это матушка настояла. А тут он почувствовал, что теряет Тони. Он был к нему своеобразно привязан, ценил его чистое сердце. Кажется, Тони тоже испытывал к отцу странную нежность. Не то, что мы с Гарри.
– Одним словом, вы не можете вообразить, чтобы ваш младший брат мог поднять руку на вашего отца.
Сэр Эндрю решительно замотал головой.
– Нет, нет и нет. Должны же быть какие-то безусловные ценности в нашем сумасшедшем мире! Человек с такой душой, как у Тони, не способен обидеть даже неодушевленный предмет, не то что отца. Их ведь даже звали одинаково, вы заметили?
– А что еще известно об этом Копстоле? – поинтересовался Ватсон.
– Довольно известный деятель англокатолического движения. Можно сказать, скандально известный. Проповедник полнейшего бессребреничества и особых моральных строгостей. У него несколько сотен персональных последователей. Видимо, молодой Энтони один из них.
Сэр Эндрю сделал хороший глоток джина.
– Да, мистер Холмс, это так.
– Насколько я понимаю, полагающаяся ему часть наследства не была истрачена.
– Какие-то две сотни фунтов. На учебу.
Холмс взял свой бокал и задумчиво поднес ко рту. Перед тем как выпить, заметил:
– Ранее, я полагаю, Тони не проявлял большого интереса к деньгам.
– Они были ему безразличны.
– Теперь, перед вступлением в братство, они ему срочно понадобились. Думаю, Тони написал отцу с требованием своей доли. Тот, будучи человеком крутого нрава и ненавидя все церкви этого мира, не только не дал ему большого, но и отказал в малом.
На лице сэра Эндрю изобразились ошарашенность и восхищение.
Холмс поставил стакан на стол с видом сожаления, что ему приходиться быть столь проницательным.
– А теперь вот что, сэр Эндрю, скажите нам, почему вы прибегаете к таким мерам предосторожности? Кого и чего вы боитесь?
Мистер Блэкклинер, словно вспомнив об ужасе своего положения, опасливо оглянулся.
– Поверьте, я человек не робкой дюжины. Неплохо стреляю. Я ушел из полка не по своей воле. Карточная история. Вина моя не была доказана, но… в общем, я не тот, кто трепещет при первой опасности, но опасности, так сказать, понятной, привычной.
Голос говорящего понизился.
– В этой истории, джентльмены, мы имеем дело с опасностью особенной. Когда вы узнаете как именно погиб мой отец, вы поймете меня лучше. Инспектор Лестрейд…
– Он уже побывал там?
– Да, мистер Холмс. Я человек законопослушный, я сразу же обратился к властям. Ни местный констебль, ни полицейские из Винчестера, ни инспектора из Скотланд-Ярда ничего не смогли прояснить в этом деле. Лестрейд просто-таки бежал из Веберли Хауса, он признал свое поражение, посоветовал мне уехать в Лондон и сменить облик. А также, он мне посоветовал обратиться к вам. Он сказал, что такие загадки по зубам только одному человеку. И вот я перед вами в измененном облике. Сам не знаю, чего я боюсь, но боюсь очень.
Медленно вытащив салфетку из жилетного выреза, Холмс сказал:
– Лестрейд болван, но не трус.
Сэр Эндрю почему-то обиделся.
– Ну, знаете, он мне даже болваном не показался. Такой дотошный, въедливый. Во все вник, ничего не упустил. Громадный опыт. У него было не менее шести версий. Только отказавшись от последней версии, он сказал, что ему страшно.
– Расскажите мне, как был убит ваш отец.
– Инспектор посоветовал мне не делать этого, он сказал, что рассказ не даст всей картины или, что хуже, исказит ее. Вам лучше поскорее выехать на место преступления.
Ватсон посмотрел на своего друга. Холмс думал. Тогда доктор обратился к сэру Эндрю:
– Скажите, а вас ни на какие мысли не наводит название компании «Кимберли и Китченер».
Мистер Блэкклинер равнодушно пожал плечами. Значительно интереснее было в этот момент смотреть на великого сыщика, по нему пробежали две-три весьма выразительных гримасы. Сказал же он всего лишь следующее:
– Мы выезжаем завтра, первым поездом. Встречаемся у меня дома, где-нибудь в половине восьмого.
Сэр Эндрю смущенно улыбнулся.
– Мне не хотелось бы показаться странным, но я бы мечтал провести эту ночь не в одиночестве.
– Чего проще, – усмехнулся сыщик, – в Лондоне три сотни публичных домов.
– Вы меня неправильно поняли. Я бы хотел бы провести ее поблизости от кого-нибудь из вас, джентльмены. Этот Лестрейд нагнал на меня такого страху.
Холмс посмотрел на Ватсона. Тот отрицательно дернул усиками.
– Сегодня мы с миссис Ватсон идем в театр. Как всегда по пятницам.
– Нет-нет, театр это не то место, где я мог бы чувствовать себя спокойно!
– Ладно, диван в моем кабинете вас устроит?
– О, да.
Доктор Ватсон явился в дом своего друга на два часа раньше условленного времени.
– Что с вами?
Холмс сидел в гостиной, курил и, видимо, думал. Рядом с его креслом на полу, на коленях халата и на столе лежали газеты. Опять, машинально отметил доктор, но ему сейчас было не до газет.
– Я был вчера в театре, Холмс, – зловещим тоном произнес Ватсон.
– Что же давали?
– Это не важно, тем более что мы с миссис Ватсон не были в зале.
– Почему?
– Нам пришлось задержаться в буфете.
– Иногда это случается, – усмехнулся Холмс, – хотя, странно. В вас я раньше не замечал буфетных наклонностей. К тому же вы были в обществе супруги.
Ватсон обошел стол, держа котелок по-офицерски, на сгибе руки.
– Вы тотчас перестанете иронизировать, когда я вам сообщу, что я в этом буфете увидел.
– Уже перестал, рассказывайте.
– Я заказал миссис Ватсон стакан лимонада. – Доктор выразительно посмотрел на своего друга. – Пока мы ждали заказ я невольно начал рассматривать посетителей. И за одним из столиков, в компании шумно веселящихся джентльменов… – последовала выразительная пауза.
Холмс выпустил вопросительный клуб дыма.
– Я увидел Ройлата.
– То есть?
– Разумеется, вы не хуже меня помните то дело о девушках-близнецах, отчиме-чудовище и ядовитой змее.
– Еще лучше я помню ваш замечательный рассказ «Пестрая лента», мой друг.
– Сейчас речь не о рассказе, а о его герое. Я глазам своим не поверил. Это был он! Я великолепно его запомнил. Его бешеный нрав, его отвратительную физиономию, сиплый голос. Это был он!
Лицо Холмса застыло. Веки опустились. Задумчивость поглотила великого сыщика.
– Вы же видели его мертвым. Он умер от ядовитого укуса. В театре вы встретили человека, который сильно похож на того Ройлата. Такое случается. Не исключено, что у каждого из нас, где-нибудь на планете имеется двойник.
Ватсон убежденно покачал головой.
– Это был он, погибший Ройлат!
– На чем строится ваше убеждение? Вы заговорили с ним? Спросили, как его здоровье после пребывания на том свете?
– Я не решился. На меня напало непонятное, а, впрочем, вполне понятное оцепенение. Я только смотрел на него и старался, чтобы миссис Ватсон не заметила моего состояния. Но, уверяю вас, мои чувства не могли меня обмануть.
– Смею заметить, они нас обманывают чаще, чем что-либо другое. Методы холодного рассудка надежнее.
– Вы говорили мне об этом много раз, и много раз доказывали мне справедливость ваших слов. Но сейчас я дальше, чем когда-либо, от того, чтобы верить в эту теорию.
Лицо доктора сделалось растерянно-задумчивым.
Холмс выдохнул еще одно витиеватое облако.
– Оставим на время теорию. Какие практические шаги вы предприняли в этой ситуации?
– Какие там шаги! Я был не в состоянии подняться с места. Компания, в которой пьянствовал Ройлат, встала из-за стола и, вульгарно балагуря, удалилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы он случайно меня не узнал.
Сыщик усмехнулся одними глазами.
– И это все?
– Конечно, нет. Я поинтересовался у официанта, наконец принесшего лимонад, кто этот человек, известный мне по имени Ройлат.
– Он вам ответил, что это никакой не Ройлат, – убежденно заявил Холмс.
– Да, – вздохнул доктор, – он сказал, что это провинциальный актер, кажется, из Бристоля недавно прибыл. Добряк и выпивоха. Имя он не запомнил.
Холмс медленно переменил свою позу.
– Вам показалось этого недостаточно?
– Ни в малой степени. Скажу больше, эти слова ничуть не поколебали меня в уверенности, что я видел именно Ройлата.
– Вы становитесь на опасную дорожку, Ватсон, и как врач должны понимать, насколько это тревожно, когда ваши ощущения начинают столь упорно сопротивляться очевидным и безусловным фактам. Вам говорят, что перед вами живой актер, а ваши чувства уверяют вас, что это мертвый сквайр. Очень странно.
Доктор яростно потер глаза, словно стараясь удалить туман, застилающий их.
– Друг мой, нам предстоит распутывание чрезвычайно сложного дела, нам потребуются для этого все наши силы, не станем их распылять. Тем более что для этого нет никаких оснований.
– Возможно, вы правы. Что я говорю! Вы, безусловно, правы. Но мне…
– Понимаю, вам до конца хочется рассеять недоразумение.
– Да.
Холмс вытащил из жилетного кармана часы.
– У нас есть немного времени до отхода поезда. По дороге на вокзал мы заедем в театр, это почти по пути.
Ватсон радостно вскочил, но тут же лицо его вновь стало озабоченным.
– У вас опять возникло какое-то чувство?
– Извините меня, Холмс. Мое преклонение перед вашим даром… Но откуда вы знаете в каком театре мы были вчера с миссис Ватсон? Ведь я вам этого не говорил ни вчера, ни сегодня.
Холмс пожал плечами.
– Не знаю.
– Не знаете? – В голосе Ватсона было и удивление, и смущение.
– Пока не знаю. Впрочем, давайте разберемся. Для начала, скажем, что я знаю лондонские театры, в частности, мне известно в буфетах каких из них приняты актерские сборища. Знаю также, в труппу какого театра ни за что не будет принят пожилой провинциал. К тому же, если вы обратили внимание, мое жилище завалено газетами. Половина из них печатает театральные объявления. Кое-что из них само собой осело у меня в голове. Плюс ко всему, я знаю ваши вкусы, вкусы миссис Ватсон. Стало быть, мне не трудно сообразить на какой спектакль вы ни в коем случае не пойдете. Все эти сведения, сопоставившись, сами собой родили вывод – вчера вы с женою были в театре «Савой» с намерением посмотреть «Идиллию старых огней», постановка в славной манере Гилберта и Салливана.
– Правильно, – улыбнулся доктор.
Холмс сбросил халат на спинку кресла и облачился в серый сюртук, поправляя манжеты, он продолжил лекцию:
– Работу мозга по дедуктивному методу часто путают с рассказом об этой работе. Мозг не механизм, нет никакого тупого арифметического сложения фактов и наблюдений. Часы напряженной работы, часто с ощущением того, что топчешься на месте, и вдруг – озарение. Разгадка сама падает на ладонь как яблоко.
– Вы вновь и вновь поражаете меня Холмс. Стоит мне подумать, что я близок к постижению вашего характера, как вы в очередной раз меня поражаете.
– Оставим это. Едемте в театр.
– А как же наш, э-э, мистер Блэкклинер?
– Он еще спит. Мы разработали специальный план. Он прибудет на вокзал в отдельном кэбе. Так безопаснее.
– Так вы считаете, что ему и в самом деле, есть чего боятся?
– Я принимаю меры не против опасности, но против его страха.
В театре в этот ранний час они не застали ни актеров, ни оркестрантов. Сонный служитель долго не мог понять, чего от него хотят эти двое джентльменов. Ватсон совершил три попытки растормошить его похмельную память. Он описывал Ройлата ярко, потом тщательно и, наконец, нервно.
Тщетно.
Холмсу это удалось сделать при помощи одной гинеи.
– Вам нужно поговорить с мистером Харрисом.
– Кто это?
– Управляющий труппой.
– Откуда же мы его добудем?
– Вот он.
Действительно, в вестибюле появился пузатый, лысый человек в замызганном цветном жилете, заметно поношенном сюртуке и с потухшей сигарой в углу рта.
– Мистер Харрис?
Под кустистой бровью поднялось тяжелое веко.
– Слушаю вас.
Ватсон в четвертый раз описал свое видение. Он еще не закончил говорить, а управляющий уже вытащил двумя нечистыми пальцами сложенный листок бумаги из внутреннего кармана.
– Вам нужен этот пройдоха Бриджесс.
– Вы узнали его по моему описанию?
– Вы так выпукло очертили его отвратный облик, как будто вы сам Стивенсон.
Доктор покраснел. Холмс спросил:
– Что это за листок?
– Письмо этого негодника Бриджесса.
– Что он пишет?
– В письме этот мошенник сообщает, что покидает труппу, покидает сцену, покидает Лондон и направляется, насколько я могу судить, к чертовой матери.
– Причина?
– Если бы была причина, этот умник все равно ее бы скрыл.
– А откуда он появился у вас?
– Откуда-то из провинции. Я не забиваю голову пустяками, джентльмены.
– Он был мастером своего дела? Я имею в виду, он был хорошим актером?
– Он был мастером выпить и поесть, и умельцем отвертеться от платы за еду и питье.
Холмс повернулся к доктору.
– Вы удовлетворены?
По лицу Ватсона было видно, что не совсем. Сзади раздалось хриплое покашливание. Мистер Харрис сказал:
– Если вы хотите узнать об этом бездельнике, что-нибудь сверх того, что сказал вам я, обратитесь к газетам.
– Газетам? – резко обернулся доктор.
Управляющий труппой вытащил из кармана номер «Ивнинг Пост».
– Вот здесь, вот в этой колонке, мелким шрифтом.
Ватсон взял газету и прочел, шевеля губами.
– В половине двенадцатого… под колесами поезда… вокзал Ватерлоо… на части… документы… Том Бриджесс.
Холмс тоже пробежал заметку глазами. Посмотрел на потрясенного друга. Посмотрел на часы.
– Нам пора, Ватсон.
– А? – не без труда очнулся тот.
– Нам пора?
– Куда?
– На вокзал.
Мистер Харрис то ли чихнул, то ли прыснул со смеху. Впрочем, друзьям было не до него. Они и в самом деле спешили.
Уже почти полностью стемнело, когда коляска с тремя пассажирами выехала из букового леса и, шелестя резиновыми шинами по мелкой сентябрьской грязи, подкатила к воротам Веберли Хауса. Ворота были заперты. Высокие, оббитые металлическими полосами, наводившие на мысль, что дом действительно крепость. В небольшой привратницкой, справа от ворот, тускло светилось маленькое квадратное оконце.
Сэр Эндрю, за что-то извинившись, тяжело спрыгнул на землю и с медлительностью, напоминавшей опаску, подошел к этому окошку. Осторожно постучал в него согнутым пальцем и позвал неуверенным голосом.
– Яков, а Яков!
– Знаете, Ватсон, я предвижу, что это дело будет не так-то легко распутать, – без всякой связи с происходящим произнес Холмс.
Доктор деликатно промолчал, у него не было пока никакого мнения.
– Яков, где ты там, надо бы выйти!
– Не исключено также, что это будет мое последнее дело.
Наконец, этот самый Яков появился. Высокий, худой, горбатящийся мужчина с обширными, распушенными баками. Свет, падавший сзади из окна, таинственно подсветил их. Привратник показался вдруг фигурою значительной. Что-то бормоча себе под нос, он отпер ворота. Английские слуги бормочут себе под нос то, что они думают о своих господах.
Сэр Эндрю, тяжело дыша, уселся на свое место. Обращаясь почему-то только к доктору, он сказал:
– Не подумайте ничего такого, джентльмены. Яков славный парень. Очень, очень тонко чувствующая натура. Все принимает близко к сердцу. Большое пристрастие к литературе, его не раз видели рыдающим над книгой. Но, жаль – избалован отцом.
– Что вы имеете в виду?
– Уж не знаю почему, но Яков всегда был ему особенно любезен. Может быть, из-за болезненности своей. Да-а, у него ведь бывают эпилептические припадки. Его положение в доме всегда было совершенно незыблемым. Подозреваю, весьма подозреваю, что Яков оказывал родителю услуги в его приключениях по женской части. Он ведь не только привратник, но и садовник. Все ключи от калиток потайных у него. Он отчасти и винным погребом ведает, хотя сам и капли в рот не возьмет.
– Может, именно поэтому? – предположил Холмс.
Они ехали по липовой аллее, было полное впечатление, что это сырой подземный ход.
– Сказать по правде, мистер Блэкклинер, я был удивлен, увидев этот глухой забор. Такое ведь не часто встретишь в этой части Англии.
– Да, мистер Ватсон, редко. Это все отец. Я вам уже говорил об особенностях его характера. Он умудрялся, при всем своем женолюбии, оставаться очень замкнутым человеком. Может быть, он боялся мести, может быть, хранил тайну…
Коляска, хрустя крупным песком, круто вывернула из липового тоннеля и подкатила к парадному крыльцу. Дом смутно рисовался в толще тумана. Трехэтажное, массивное здание с белыми оконными переплетами.
На крыльце стоял невысокий плотный мужчина. Даже в темноте было видно, до какой степени он лыс. Он кутался в клетчатый плед, в правой руке держал большой стеклянный фонарь.
– Ну вот, джентльмены, – с непонятным облегчением сказал сэр Эндрю, – добро пожаловать. Человек с фонарем, это Эвертон, дворецкий. Пять поколений в доме и все такое. Прислуги у нас тут немного, да и та приходящая. Из деревни, которую мы проезжали. Гринхилл, кажется. Эвертон первым обнаружил, что с отцом что-то неладно.
Холмс прямо на крыльце провел первый допрос.
– Итак, вы первый кто увидел труп?
– Не совсем так, сэр. – Голос из массивной головы, влажной от ночного тумана, шел на удивление тонкий, почти писклявый.
– Поясните.
– Как всегда в шесть часов я принес милорду его чай. Он не ответил на мой стук. Я стучу особенным образом, милорд прекрасно это знает. Я постучал еще раз, громче. Никакого ответа. Тогда я нажал на ручку двери. Она была заперта. Меня это насторожило, у милорда не было обыкновения запирать дверь кабинета изнутри. Кроме известных случаев. То был не известный случай.
– Вы имеете в виду визит женщины?
Дворецкий потупился и деликатно отвел взгляд.
– Проводите нас туда.
Кабинет располагался на втором этаже. Вдоль широкой ковровой лестницы ступенчато висели темные портреты былых владельцев Веберли Хауса. На площадке меж этажами, в эту благородную когорту вдруг влезла громадная кабанья морда. Ничего не сказав по поводу людей, Эвертон счел необходимым объясниться по поводу животного.
– Охотничий трофей милорда.
Далее опять шли портреты.
Когда поднялись на второй этаж, Эвертон кивнул влево.
– В той части коридора комнаты сэра Гарри и сэра Энтони.
– Мне хотелось бы поговорить с ними немедленно, – сказал сыщик.
– Боюсь, это невозможно, сэр. Сэр Энтони уже лег. Он всегда ходит к заутрене и поэтому ложится засветло. А сэр Гарри еще не встал, он работает до рассвета и спит, пока не стемнеет.
– Судя по тому, что вы говорите, вы никогда не собираетесь все вместе?
– В каждой семье свои странности, – с достоинством заметил сэр Эндрю.
Переложив фонарь из правой руки в левую, Эвертон нажал ручку двери и произнес торжественно и скорбно.
– Кабинет милорда, джентльмены.
Кабинет был похож на кабинет. Фонарь, поставленный на письменный стол между бронзовым подсвечником и сандаловой папиросницей, едва-едва добирался своим бледноватым светом до окраин помещения. Давало знать о себе золото на книжных корешках в шкафу до потолка. Голая статуя, венчавшая полуколонну в углу у окна, показала только колено, локоть и локон.
– Кто же первым увидел труп?
Сэр Эндрю задумчиво выпятил губы.
– Трудно ответить на ваш вопрос со всей точностью. Эвертон, обнаружив, что дверь кабинета заперта изнутри, позвал меня. Затем появились Гарри и Тони, на звук наших голосов. Затем Яков с инструментами, он лучше всех знает, как обращаться с замками. Когда он взломал замок, мы все вместе вошли вовнутрь.
– Что же вы увидели?
У сына перехватило горло, дворецкий пришел ему на помощь.
– Милорд лежал здесь, на ковре, на левом боку. В правом виске у него была дыра.
– Дыра?
– Точнее сказать, дырочка, сэр. Как от пули.
– Кто обнаружил пистолет?
– Пистолета нигде не было. Мы все осмотрели внимательнейшим образом.
– Кто-нибудь мог его незаметно вынести?
– Исключено, – вступил в разговор сэр Эндрю, – никто не выходил, пока мы не завершили поиски.
– Хорошо. Окна?
– Окна? Ах, да. Окна были закрыты на все шпингалеты, портьеры были опущены, как сейчас. Отец боялся сквозняков.
Холмс подошел к холодному камину и заглянул в него.
– Мы тоже подумали о дымоходе, мистер Холмс. Но там толстая решетка на высоте четырех футов. В старину так часто делали. Через нее даже утке не влететь.
Холмс выпрямился.
– Дверь была заперта изнутри на ключ?
– Не только на ключ, но и на задвижку. Яков очень ругался, когда все это пришлось расковыривать.
– И вы вызвали полицию?
Сэр Эндрю кивнул.
– Немедленно. Сначала деревенского констебля. Еще до того, как он прибыл, Гарри посоветовал телеграфировать в Лондон, в Скотланд-Ярд. Мы не стали прикасаться к телу. И послали за местным врачом, мистером Бредли.
– Это тот пожилой господин с рассеченной губой и в пенсне, что стоит у меня за спиной?
Толстяк-доктор окончательно вошел в кабинет, виновато при этом покашливая. Холмс тут же обратился к нему, не давая присутствующим тратить время на восхищение своей проницательностью.
– Что показало вскрытие, мистер Бредли?
Толстяк тщательно поправил пенсне, как будто его неуверенное положение мешало ему говорить.
– Повреждения были весьма характерными. Мне приходилось сталкиваться с подобным. Я был полковым хирургом в действующей армии.
– Лет двадцать назад?
Снова возня с пенсне.
– Откуда вы знаете?
– Извините, но сейчас в вашем облике нет ничего такого, что напоминало бы о действующей армии. Не обижайтесь и скажите мне лучше, из чего был, по вашему мнению, произведен выстрел?
– Надо думать, из пистолета, не самого большого калибра. Точнее сказать трудно.
– С какого расстояния?
– Кожа вокруг отверстия не опалена. На самоубийство это не похоже. Нисколько не похоже.
– Выводы буду делать я. На своем веку я видел столько самоубийств, ничуть на самоубийство не похожих при первом осмотре…
– Извините. Стреляли ярдов с двенадцати-пятнадцати.
Холмс оглядел кабинет.
– От того места, где лежит тело до любой стены не более шести-семи ярдов.
– Но вы еще не знаете самого главного, – тоном плохо скрываемого превосходства заметил доктор.
– Слушаю вас.
– Я не нашел пули.
– Не понимаю.
– В черепе милорда не было пули. Была дыра в голове, была смерть, но не было пули.
Наступило напряженное молчание. Все ждали, как отреагирует великий сыщик на это сенсационное сообщение. Ватсон, например, в глубине души надеялся, что его друг небрежно махнет рукой и своим простым, естественным объяснением сгонит скептические гримасы с этих физиономий.
Холмс молчал.
Ватсону пришлось говорить самому.
– Вы не могли ошибиться, коллега?
Доктор Бредли снисходительно улыбнулся и не счел нужным отвечать.
– Может быть, кто-нибудь, еще до того, как вы здесь появились…
Толстяк объяснил:
– Из такой раны невозможно извлечь пулю, не разворотив полчерепа. Даже если бы здесь чудом оказался сам мистер Герфинг со своими новейшими зондами, то и в этом случае остались бы очевиднейшие следы. Пуля была в голове милорда как в сейфе.
– Кто присутствовал при вскрытии?
– Обычный состав. Впрочем, есть протокол. Учитывая необычность случая, я позаботился обо всех, даже самых мелких, формальностях. Сверх всего – инспектор.
– Лестрейд? – подал голос Холмс.
– Он все время был при мне. Ему так нетерпелось получить пулю, что он сам порывался взяться за пинцет.
Ответ можно было считать исчерпывающим.
Опять наступило тягостное молчание. Случившееся просматривалось в свете сказанного еще хуже, чем интерьер кабинета в свете фонаря.
– Любопытно, – пробормотал великий сыщик, – труп человека в запертом изнутри, наглухо зашторенном кабинете, и без пули в голове. Любопытно.
– Не столько любопытно, сколько страшно.
Все обернулись. В дверях стоял высокий, чрезвычайно горбоносый, в длинном атласном халате человек.
– Мой брат Гарри, – прошептал сэр Эндрю.
– Да, Гарри Блэкклинер, если угодно, – высокомерно подтвердил тот.
– Здравствуйте, – скучным голосом сказал Холмс.
Ватсон молча коснулся кожаным пальцем тульи своего котелка.
– Вы назвали эту историю любопытной, мистер э-э…
– Холмс, с вашего позволения.
– При чем здесь мое позволение? Здесь позволяю или запрещаю не я.
– Кто же?
Горбоносый обошел стол и опустился в отцовское, затаенно скрипнувшее кресло. Он стал похож на большую, недовольную жизнью птицу. Фонарь, стоявший рядом, бросал на его физиономию мертвецкий отсвет. На бледном лоснящемся лбу билась напряженно изогнутая жилка. Во взгляде было что-то безумное. Когда бы не трагическая история, стоявшая за всем происходящим, это заявление прозвучало бы чуть театрально.
– Скажу только одно. Смерть отца – это не последняя смерть в этом доме.
– Что вы имеете в виду? – спросил Холмс.
– О, Господи! – сказал доктор Бредли.
– Ты имеешь в виду Тони?! – крикнул сэр Эндрю.
С этими словами старший брат бросился к выходу, за ним Эвертон, далее два доктора. И, наконец, сорвался с места сам возмутитель скорбного спокойствия – средний брат.
Когда пристыженные спасители вернулись в кабинет, в сопровождении разбуженного, но ничуть не убитого, сэра Энтони, они не застали там Холмса.
– Где же он? – раздался чей-то недоумевающий голос. Никто на этот вопрос не ответил. Группу все еще возбужденно дышащих джентльменов окружила угрожающая тишина. Ватсон почувствовал, что по позвоночнику потекла медленная ледяная капля. Бредли схватился за ворот, чтобы облегчить жизнь своему полнокровию. Сэр Гарри раз за разом зачесывал растопыренной пятернею копну волос на затылок. На широком, скуластом лице юного Тони то вспыхивали, то гасли горящие ужасом глаза. Он, кстати, первым сориентировался в ситуации.
– А может, он у мисс Элизабет? Неужели что-то случилось с ней?!
Догадка была настолько очевидной, что группа братьев и докторов тут же снова пришла в движение. Вновь из кабинета в коридор, по лестнице на третий этаж, вдоль по тусклой полоске света к полуоткрытой двери.
– Мисс Элизабет занимает третий этаж, – торопливым шепотом пояснял на ходу сэр Эндрю бегущему рядом Ватсону, – у нее большие способности к танцам, отец организовал там что-то вроде танцкласса. Нам запрещено было бывать там.
Эвертон, в последний момент вырвавшись вперед, распахнул перед джентльменами дверь.
Холмс стоял посреди дамского будуара и обнимал за плечи девушку с роскошными, распущенными по всей спине волосами. Она явно искала убежища на груди великого сыщика. Объятие было вполне джентльменским, хотя и плотным. При этом Холмс отчетливо шептал в копну великолепных волос.
– Плачьте, плачьте! Надо поплакать!
Переполненные вопросами джентльмены застыли подле неожиданной пары. Холмс, не давая их вопросам оформиться, сам начал говорить.
– Когда все бросились спасать юного сэра Тони, я подумал, что кто-то должен позаботиться и о мисс Элизабет. Я нашел ее в состоянии сильнейшего испуга. Узнав, что я не убийца, а, наоборот, сыщик, она в порыве облегчения бросилась мне на грудь. Вам надо поплакать, дитя мое, и напряжение спадет. Я правильно представляю нервную конструкцию женщины, доктор?
– Да, – одновременно ответили Бредли и Ватсон.
Плечи под валом волос затряслись.
– Вот и славно, – сказал Холмс и погладил одно из них, – а теперь, я думаю, нет никаких препятствий к тому, чтобы все удалились. Для того, чтобы распросить мисс о ее страхах, одного мужчины вполне достаточно.
Ватсон ассистентски покашлял, выясняя, относится ли пожелание к нему тоже. Оказывается, относилось. Впрочем, действия друга показались ему разумными. Перекрестный допрос в полночь, это, пожалуй, слишком для нервов впечатлительной девицы.
Когда группа молчаливых мужчин спускалась по лестнице в толщу тихих сомнений, сэр Эндрю вдруг несообразно весело спросил:
– А что бы вы сказали, господа, о хорошем куске холодной телятины и стакане доброй мадеры? По-моему, мы заслужили нечто в этом роде.
– Слушаюсь, сэр, – пропищал Эвертон.
На следующее утро, после завтрака Ватсон, как и было заранее условлено, вышел в редкую дубовую рощицу, замершую над темным, овальным прудом в тылу Веберли Хауса. Удобно петляя меж бесшумных, прохладных деревьев, песчаная тропинка сбегала к росистому берегу. Облака тумана медленно впутывались в разреженную толпу можжевеловых кустов на том берегу, освобождая для сосредоточенного обозрения темное, лоснящееся зеркало неподвижной воды.
Сколь английским было это утро!
Доктор поправил белый шарф и поднял воротник пальто. Вчерашняя телятина еще давала себя знать ломотой в висках и неприятным привкусом во рту.
Сзади раздались сочные шаги по влажному песку тропинки и, одновременно с этим звуком, явился запах табачного дыма.
– Доброе утро, Ватсон.
– Доброе, но промозглое.
Холмс заинтересованно огляделся.
– Да? Возможно. Знаете, над чем я размышлял, идя сюда?
– Даже не пытаюсь гадать.
– Правильно, не надо. Я думал над тем, с чего бы следовало начать описание этого дела. Писательское чутье вам что-нибудь уже подсказывает? Не начать ли с этого пруда? Как он таинственен. Смотрите, туманный занавес снова закрывается. Роскошно!
– Вы полезно побеседовали с девушкой?
– Скорее приятно, чем полезно. Она весьма мила, но разговор с нею не дал мне пищи для какой-нибудь стоящей версии. Может, у вас мелькнули трезвые мысли?
Ватсон нервно пожал зябкими плечами.
– Нет. Я даже приблизительно не могу себе представить причину смерти милорда. Пулевое ранение без пули – это ведь настоящий бред.
– Как раз это, дорогой друг, самая легкая из загадок. И я ее, как мне кажется, уже разгадал.
Недоверчивый, скошенный взгляд доктора.
– Да, да. Дело в том, что пуля была.
– Куда же она девалась?
– Растаяла.
– Если вам угодно шутить…
– Это была ледяная пуля. Если кусок льда непосредственно перед выстрелом вставить в патрон, то он поведет себя так же, как кусок свинца. А потом исчезнет.
– Но…
– И меня беспокоит это НО. В жизни всегда так. Одна разгадка задает десять новых загадок. Кто засунул лед в патрон? Почему сэр Энтони ждал, пока это будет сделано? Куда девался стрелок после выстрела? Где он хранил лед перед тем, как сделать из него пулю?
– И откуда лед в сентябре, это ведь тоже загадка.
Холмс кивнул, пососал потухшую трубку.
– Как раз на эту тему у меня есть соображения.
– Говорите же!
– Если подпольные помещения Веберли Хауса достаточно глубоки, можно вспомнить, что некогда наши предки имели обыкновение забивать подвалы глыбами льда, вырубленными в замерзших водоемах, и хранили на них рыбу, мясо и овощи. Иногда все лето.
– Но реки в этих местах никогда серьезно не промерзают.
– Реки да, текучая вода. А вот пруды?
Ватсон совсем другими глазами посмотрел на водное чудо, лежащее у его ног.
– Что вы скажете о последней зиме?
– Моя практика выросла втрое против обычного уровня. Сплошные бронхиты и обморожения у бедняков.
Холмс постучал трубкой по стволу ближайшего дуба.
– Остается выяснить, кто заведует подвальными кладовыми в этом симпатичном особняке. Впрочем, тут не придется долго ломать голову. Ставлю шиллинг против пенса, это наш милейший привратник Яков. Убежден, эта личность не так проста, как кажется.
– Да, пожалуй, я обратил внимание, как лебезит перед ним сэр Эндрю. Так не говорят со слугами.
– Браво, Ватсон, что вы еще заметили? Вчера и сегодня.
– Например, мне кажется, что братья Блэкклинер очень мало похожи друг на друга.
– Ну это было заявлено с самого начала. Один бретер, картежник, второй ученый, третий – почти святой.
– Я не о том, Холмс. Мне трудно представить, что все они родились от одного отца и одной матери.
– Что-то вы в последнее время ударились в физиогномику. Правда, не всегда ваши выводы основательны. Вспомните вашего Ройлата-Бриджесса.
Доктор чуть покраснел, но промолчал.
– Да, я смотрю, вы так до конца и не признали свое поражение в той истории!
Доктор нахмурился.
– Оставим это.
– И вправду, оставим. Никакого отношения тот актер не имеет к нашему спектаклю. Продолжайте, Ватсон, что еще показалось вам странным?
Ватсон выпятил верхнюю губу, пережидая пока схлынет обида. Холмс решил его подбодрить.
– С братьями Блэкклинер вы, надо признать, правы. Трудно поверить, что это одна плоть и кровь. Но прихоти природы необыкновенны и бесконечны. Безусловное ближайшее родство этих трех людей, одна из таких прихотей.
Доктор принял извинения.
– Еще этот доктор Бредли, Холмс.
– Что же с ним?
– За завтраком, к которому вы не вышли, он вел себя странно. Не как врач.
– Что вы имеете в виду?
– Он отказался от овсянки и потребовал вчерашнего жаркого. После этого велел принести вина и выпил две бутылки хереса на протяжении каких-нибудь сорока минут. Какую несусветную чушь он нес при этом!
– Две бутылки хереса с утра могут замутить самый позитивистский разум.
– Мне представлялось, что врач должен быть осведомлен о том вреде, который может принести херес в таком количестве в такой ранний час.
– Он деревенский доктор, это дает право на некоторые заблуждения. А потом, насколько я знаю, в клятве Гиппократа говорится об обязанностях врача по отношению к чужому здоровью, а не к своему. Скажите, вы когда-нибудь видели абсолютно здорового врача?
Ватсон пожал плечами.
– Помнится, даже Авиценну изводил колит.
Чтобы прекратить этот парад познаний, доктор решил слегка повернуть течение разговора.
– Мне показалось, что братья тяготятся обществом мистера Бредли.
– Думаю, не более, чем вы.
Доктор развел руками, показывая, что он все сказал.
– Теперь слушайте меня, Ватсон. Мне придется немедленно уехать.
– Как?!
– Я получил срочное послание от Майкрофта. Дело не терпит ни малейшего отлагательства. Меня не будет несколько дней. Не волнуйтесь, по моим расчетам за это время не должно произойти ничего серьезного, опасения сэра Эндрю не оправдаются. Так мне кажется. Но будут происходить другие события, за ними вам надлежит следить внимательнейшим образом. Лучше, если вы станете записывать свои наблюдения. И как можно подробнее. Особенно присматривайтесь к Якову. Мне кажется, он способен привести нас к разгадке.
– Вы убываете немедленно?
– Да. Не волнуйтесь и ведите дневник. Белая бумага надежнее сохраняет наши наблюдения, чем серое вещество мозга.
Вторая часть
«Надобно сделать замечание об общей атмосфере Веберли Хауса. Она слишком необычна, чтобы оставить ее без внимания. С чем бы ее можно было сравнить? Прежде всего, приходит на ум корабль, капитан коего отсутствует по болезни или смерти. Корабль еще движется прежним курсом, но в сердцах пассажиров уже поселилось подозрение, что в самом скором времени им придется полететь в тартарары.
Что в такой обстановке выступает на первый план – падение нравов и ослабление чувства приличия. Увеличивается потребление алкоголя, возникает словесная несдержанность. Я имею несчастливую и неприятную возможность наблюдать вышеназванные проявления. Пьяны все и с самого утра. Некоторые даже перестали переодеваться к приему пищи, что я считаю верхом невоспитанности, если учесть, что за стол садятся не только родственники, но и гости.
Несдержанность словесная также производит удручающее впечатление. Я всегда подозревал, что английского аристократа, как и всякого человека, иной раз терзает искушение употребить крепкое словцо или соленое выражение. Но я смущен тем, с какой охотой братья Блэкклинер, не исключая даже юного сэра Тони, поддаются этому искушению. Меня, надо признать, они немного стесняются, но с течением времени все меньше и меньше.
Еще одно следствие тайной паники, живущей в сердцах обитателей Веберли Хауса, – расшатывание сословных границ. Конечно, смешно желать, чтобы добрые викторианские нравы сохранялись вечно в своей благородной незыблемости, однако вид их ветшания горек для британского сердца.
Дворецкий Эвертон с каждой встречей выказывает все меньше обходительности и подобающей выправки. Такое впечатление, что его тяготит роль, которую он отправляет в Веберли Хаусе. А ведь известно, что он представляет собой шестое поколение Эвертонов, живущее в доме. Трудно поверить, что действие тайного страха столь стремительно разрушает основания традиционного быта, через порчу человеческой натуры. Я был невольным свидетелем того, как на просьбу сэра Гарри переменить остывший чайник и принести настоящего кипятку, дворецкий дал такой комментарий, который я просто не решусь здесь привести. Смысл его заключался в том, что сам, мол, не хуже меня знаешь, где кухня. Сходи и вскипяти. Правда, следует заметить, что ни господин, ни слуга не видели меня, оставшегося за выступом буфетной стойки. Стоило мне обнаружить себя, как все встало на свои места. Или почти на свои. Сэр Гарри запахнулся в невидимую тогу отрешенного мыслителя, а Эвертон сделал вид, что ждет его повелений.
Так прошло три дня. 19, 20, 21 сентября. Ощущение некоего непорядка в доме все более усугублялось. Я завтракал, пил чай, обедал. Вечерами просиживал в библиотеке. Много гулял по парку, по дому, пытаясь проникнуть в секрет его атмосферы и приглядываясь ко всякому, даже самому ничтожному происшествию. Три дня обстановка была хоть и неприятной, но стабильной.
Какие-то события начали происходить 22-го.
Во время очередной прогулки по здешнему чрезмерно тенистому парку я старался держать в поле зрения сторожку Якова (как мне было рекомендовано). Неожиданно я увидел сэра Эндрю. При первом же взгляде на него стало ясно, что он не гуляет, а крадется. Начинало темнеть, и это сэра Эндрю, судя по всему, устраивало. Перебегая от одной древесной тени к другой, он удался все дальше от дома.
Надо ли говорить, что я насторожился.
Соблюдая все меры предосторожности, я последовал за ним. Сэр Эндрю все время оглядывался и прислушивался. Странность заключалась в том, что не далее часа назад, за обедом он с самым серьезным видом сообщил мне, что остерегается выходить из дому, после того как начинает темнеть. “Но, может статься, опасность подстерегает вас внутри дома”, – заметил я. Сэр Эндрю автоматически покрутил в руках опорожненную бутылку виски и так же автоматически ответил: “Может статься”». В его тоне чувствовалась обреченность.
И вот он один почти ночью бродит по парку.
Каково же было мое изумление, когда я понял, что является целью его путешествия.
Сторожка Якова!
Холмс прямо меня предупреждал, что этот привратник фигура очень важная в данном деле.
Сэр Эндрю, предварительно оглянувшись, постучал в деревянную дверь. Ответа не последовало. Он постучал вновь. Стук, насколько я могу судить, был условным, но не возымел действия. Тогда сэр Эндрю встал на колени и что-то быстро забормотал в замочную скважину. Слов его было не разобрать, хотя я находился на расстоянии не более сорока футов.
Шепот оказался убедительнее стука. Дверь отворилась. Сэра Эндрю впустили. Тогда я на цыпочках подкрался к окошку и осторожно заглянул. Да проститься мне моя нескромность. Впрочем, она сродни нескромности скальпеля вскрывающего абсцесс.
Картина моим глазам предстала удивительная. Сэр Эндрю стоял на коленях перед своим привратником, воздевал руки, потом бил этими руками себя в грудь, словом, обращался к Якову с настоятельной просьбой. Понять о чем именно идет речь, было нельзя. Ясно только было, что о чем-то очень важном для сэра Эндрю. Ясно также было и то, что Яков не склонен идти ему навстречу. Он достал что-то из кармана, повертел перед носом хозяина, неприятно усмехнулся и издевательски покачал головой. Мол, ни за что не получишь.
Сэр Эндрю полез в карман своего сюртука, выгреб оттуда, судя по всему, горсть монет и попытался предложить ее Якову. Но тот не хотел идти на сделку. Некоторое еще время продолжался обмен взаимными упреками, наконец хозяин перешел к активным действиям. Он одним ловким движением выхватил из пальцев Якова чаемую вещицу и выскочил вон.
Что произошло в привратницкой дальше, он не видел. А произошло вот что. Яков на мгновение застыл как громом пораженный, потом схватился руками за вырез своего шерстяного жилета и попытался разорвать его на груди. Не успел, руки перебросились в область горла, и он стал оседать на пол.
Припадок, понял я и бросился к нему на помощь.
Когда я склонился над ним, взгляд его был бессмысленным, а на губах закипала пена. По телу прошла волна судорог. Надо было чем-то разжать челюсти и высвободить язык. Слава богу, у меня была с собою трость. Мне казалось, что он ее перекусит! Припадок был очень сильным, и если бы не своевременное вмешательство, можно предположить, что закончился бы он скверно.
Когда самое страшное миновало, я помог Якову перебраться на его ложе, покрытое серым суконным одеялом, дал ему напиться. Явилась у меня мысль разговорить его, я рассчитывал на естественное чувство благодарности в спасенном человеке, но мне пришлось отложить эти попытки. Привратник был не в состоянии беседовать. Я сходил в дом за своим саквояжем, сделал несчастному успокаивающий укол и так, между прочим, сообщил ему, что помимо медицинской практики, я занимаюсь любительскими разысканиями по архитектурной части. В частности, меня интересуют подвалы старинных особняков. На осторожный вопрос, не может ли он мне помочь в моем интересе, то есть отворить нижние помещения дома. Он горько усмехнулся. “Вам тоже нужен подвал?” Таковы были его слова. Он не захотел продолжать беседу на эту тему.
Интересно, кого он имел в виду? Кто еще кроме меня заинтересовался подвалами Веберли Хауса?
Яков лежал с закрытыми глазами и скорбным выражением на лице.
Чего от него добивался сэр Эндрю, я спрашивать остерегся.
Я разыскал доктора Бредли и попросил его присмотреть за больным, может быть подыскать сиделку в деревеньке, ближайшей к Веберли Хаусу.
Какой можно было сделать вывод из всего случившегося?
Ситуация яснее не стала.
Мысль Холмса о том, что узел этого дела, возможно, находится в привратницкой, получила косвенное подтверждение. Стало ясно также и то, что полагаться мне придется исключительно на свои силы. Сэр Эндрю, скорей всего, не так прост, как могло показаться в самом начале.
Итак, я пришел к решению собственноручно исследовать здешние подвалы.
И немедленно. Откладывать исследование до утра было невозможно. Слишком опасно? Но кто мог сказать, где в этом доме тебя подстерегает опасность.
Необходимо было некоторое снаряжение: фонарь, свечи, ключи. За поисками всего этого меня застал в буфетной дворецкий. Чтобы сгладить неприятное впечатление от своей возни (посторонний джентльмен в служебных помещениях дома, это не совсем нормально), мне пришлось сообщить ему свою архитектурную легенду. Он немедленно предложил мне помощь. Он был так любезен, что снарядил фонарь и отыскал все необходимые ключи. “Особая связка, – сообщил он не без гордости в голосе, – мало кто в доме знает о ее существовании”. Свою услужливость он объяснил желанием быть постоянно рядом с кем-то, ибо одиночество сделалось слишком тягостным в последнее время. “Если мне суждено столкнуться с чем-то необычным, то пусть это произойдет при свидетелях”. Я согласился, что атмосфера в доме и в самом деле тягостная и странная. Перед тем, как отправиться в путешествие по подвалам, я поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. На столике, рядом с изголовьем моей кровати лежал конверт. Это было письмо. Вот его содержание. “Должен сообщить вам следующее: известный вам привратник скрывает свою истинную фамилию. Он не Кэшмен. Он Смерд, сын небезызвестной Оливии Смерд”.
И это все!
Долго я вертел листок в руках, но ничего больше на нем не отыскал.
Одевшись подобающим случаю образом, я вышел в задумчивости в коридор, где сделался свидетелем весьма странной сцены. По лестнице с третьего этажа, прямо мне под ноги буквально скатился сквернословящий сэр Тони. Самым мягким выражением в его спиче было слово “собака”!
На третьем этаже располагались комнаты мисс Элизабет (мне так и не удалось с нею пообщаться, она почти не покидала своих апартаментов, завтракала и обедала наверху), и надо было полагать, что все «ласковые» слова относились именно к ней. Но тогда сам собой возникал вопрос, а что, собственно, делал там наверху этот богобоязненный юноша?!
Пока я размышлял над этой загадкой, сверху спустился еще один Блэкклинер. А именно, сэр Гарри. Он тоже изрыгал проклятия, тоже поминал “собаку” и озабочено дул на левую кисть.
Мое неожиданное появление, немного их смутило.
“Позвольте”, – сказал я и взял руку сэра Тони, чтобы как следует рассмотреть. На руке были несомненные следы укуса. Ничего не оставалось, как предположить, что он укушен мисс Элизабет!!!
Выражение лиц у этих джентльменов было таково, что я понял – на мои вопросы они отвечать не станут. Была надежда, что они хотя бы выслушают врачебные советы. Выслушали, но с постными лицами и весьма нетерпеливо. После чего мы раскланялись.
Что же там произошло на третьем этаже?
Загадок становится все больше.
Прежде всего, следовало навестить мисс Элизабет. Необходимо было узнать, каково она себя чувствует после общения с братьями Блэкклинер. Признаться, поднимался наверх я без особой охоты. Существовала опасность быть понятым неправильно и попасть, что называется, под горячую руку. Оказалось, что опасался я не зря. “Что тебе нужно, щенок?!” – послышалось из-за двери в ответ на мой деликатный стук.
Чтобы дать понять, что стучит не щенок, человек взрослый, я кашлянул как можно гуще.
Дверь отворилась. Мисс Элизабет явилась передо мною во всей растрепанной красе. Надобно заметить, что в этот момент я впервые ее толком рассмотрел. Живое, подвижное лицо, весьма милое. Темные, быстрые глаза, немного раздражения в уголках рта. И копна распушенных волос.
“Ах, это вы, доктор!” – сказала она тускнеющим голосом.
Я осторожно поинтересовался, могу ли войти. Не слишком охотно, но она меня впустила, при этом пытаясь привести в порядок свои волосы. Беседа наша получилась сумбурной, затрудняюсь ее изложить как-нибудь связно. Состояла она в основном из монолога мисс Элизабет. Она горько и длинно сетовала на свою ужасную роль одинокой беззащитной девушки в современном обществе. Все смотрят на нее как на вещь, никто не считается с жизнью ее души. Каждый норовит вторгнуться в ее судьбу и грязно наследить там. Первым это вообразил сам милорд. Но он хотя бы старался придать своему влечению оттенок благородства, вел речь, хотя и туманно, о женитьбе. Брал на себя обязательство обеспечить сироту. Да, она чувствовала себя морально униженной, плакала ночи напролет, но не ожидала, что с его смертью станет еще хуже. Предполагавшиеся деньги исчезли. Никто даже не упоминает о трех тысячах фунтов, обещанных милордом ей. Сыновья ведут себя как свиньи. Они, кажется, убеждены, что деньги находятся у нее. Вообще, их ничего не интересует, кроме денег. Они даже угрожают, что если они денег не получат, то не выпустят ее отсюда.
Она зарылась лицом в ладони и зарыдала. Надо было что-то сказать. Но вид плачущей женщины парализует во мне всякую способность соображать. Сказав несколько дежурных фраз о сочувствии, понимании, о железном оскале нашего молодого века, я ретировался.
Нет, уж лучше отправиться на поиски прошлогоднего льда, чем утешать разочарованную даму.
Спускаясь вниз по лестнице, я отметил про себя, что мисс Элизабет, пожалуй, не англичанка. Нервное напряжение обнажает в ее речи скрытый акцент. Кроме того, меж ее оборотами мелькают явные галлицизмы.
Эвертон ждал меня с нетерпением, о чем говорило звякание ключей у него на связке. Мы немедленно приступили к инспектированию подвальных помещений Веберли Хауса. Там было сумрачно, сыро, царили запахи плесени и занавеси паутины. Эти помещения посещаются весьма редко, по утверждению Эвертона. Сам он вел себя так, словно оказался в подвале впервые. Путался в ключах, отвечал с неуверенностью о том, что нам предстоит увидеть за той или иной дверью. Я дважды поскользнулся на влажных камнях, он умудрился сделать это раз пять.
На неизбежный вопрос о привидениях, Эвертон ответил неестественным смехом. Мол, ходят какие-то разговоры на эту тему, но лично ему ни разу с привидениями сталкиваться в Веберли Хаусе не приходилось. Конечно, в истории любого английского родовитого семейства полно кровавых и таинственных историй, но не всякая оставляет по себе память в виде колоритного духа.
Воспользовавшись тем, какое направление принял разговор, я сказал, что если дворецкий не желает беседовать об умерших, то, может быть, он охотнее поговорит о живых. Например, не знает ли он какова фамилия привратника Якова?
Эвертон нахмурился. Поставил фонарь на пол и огляделся, хотя мы были совершенно одни в каменном мешке. Потом он засвистел мне на ухо своим тонким шепотком. Оказывается, Яков действительно не Кэшмен, а Смерд, это фамилия, очень, кстати, странная, его беспутной матери Оливии, связавшейся некогда с неуемным сэром Энтони. От этой связи привратник и родился.
Интересно, Яков сын покойного милорда!
Это открытие следовало обдумать.
Кроме того, стало понятно, что письмо написано не Эвертоном.
Выходило, что привратник мог иметь свои виды на наследство. Не об этом ли говорил он с сэром Эндрю перед своим припадком? Если разговор шел о наследстве или хотя бы об исчезнувших трех тысячах фунтах, то припадок не кажется чрезмерной реакцией. Проясняется и причина заискивающего поведения отставного капитана Блэкклинера по отношению к Якову. Тот ведь, хоть и незаконнорожденный, но старший по возрасту! Сэр Эндрю наверняка посвящен в его тайну. Не может хозяин не знать того, что известно дворецкому.
Может быть, сэр Эндрю посвящен и в историю с ледяной пулей?
Я так разволновался, что чуть было не пропустил маленькую уловку Эвертона. Он оставил без внимания одну дверь в глубине винного погреба. Она была почти не заметна за пирамидой пыльных бутылок сомерсетширского сидра и корзинами с бутылями яблочного уксуса.
Когда я на нее все же указал, он стал меня уверять, что там ничего нет, что дверь фальшивая. Вот, извольте убедиться, на связке даже нет ключа для того, чтобы ее отпереть. Она никого никогда не интересовала. Вокруг было полно следов грубого хозяйничанья. Перевернутые корзины, пара разбитых бутылок. В других помещениях ничего подобного не было. Тут кто-то был, и совсем недавно. Но я сделал вид, что поверил дворецкому. И мы начали подниматься наверх.
Когда мы были на поверхности, Эвертон сказал, что гонг к обеду будет через час. Обед через полтора. У меня было достаточно времени, чтобы записать увиденное.
Приведя себя в порядок, я вышел к столу, и моим глазам открылась презабавная картина. Центром ее был мой старый знакомый инспектор Лестрейд. Увидев меня, он бросился обниматься. “Вы решили вернуться?” – “Да, из чувства долга. Я не мог поступить иначе, когда есть люди, нуждающиеся в защите, а мистер Холмс вынужденно отсутствует”. Такой между нами произошел диалог.
Надо сказать, что находившиеся тут же сэр Эндрю и мистер Бредли смотрели на инспектора без всякого восхищения. Видимо, они не до конца верили в его способность кого-нибудь защитить.
К столу в этот раз вышли все. И сэр Гарри, и сэр Тони, и даже мисс Элизабет. Над столом висело тревожное ожидание. И, как выяснилось, причиной его был не черепаховый суп, и не консомэ из спаржи, последовавшее вслед за ним.
Я поинтересовался у мистера Бредли, как чувствует себя его подопечный. Оказалось, что ему лучше, но он пока не встает. Припадок был все же слишком сильным. При нем постоянно находится сиделка. Ему отправили с кухни тарелку супа и картофельное пюре.
Тут же взял слово инспектор. Время от времени косясь в мою сторону, он произнес речь, с видимой тщательностью подбирая слова. Он призвал всех к сдержанности и терпению. И выразил убежденность, что все закончится к всеобщему удовлетворению. Да, положение серьезное, но оно не безнадежно.
Ответом ему были презрительные улыбки, тихое фырканье в ложку и прочие знаки неуважения. Да, отметил я про себя, авторитет моего друга здесь неизмеримо выше, чем авторитет представителя властей.
Молодой Тони, подпирая щеку забинтованной рукой и глядя на меня своими искренними, чистыми глазами, поинтересовался, как идет следствие.
Я ответил, что оно идет. У него, у следствия, есть свои интересы, которые могут пострадать от праздных обсуждений. Шерлок Холмс убыл не надолго, скоро он вернется и все выяснится.
“Как вы думаете, почему он уехал?” – спросило у меня сразу несколько голосов.
“Это показалось ему необходимым. Не все необходимые действия очевидны”, – отвечал я. Мне и самому хотелось, чтобы мой друг был рядом, но что я мог поделать.
“А правда ли, что его отвлекли от происшедшего в Веберли Хаусе, какие-то личные неприятности”, – поинтересовался сэр Эндрю.
Вопрос этот вызвал нервную волну, пробежавшую вокруг стола. Отреагировал даже Эвертон, громко ударивший горлышком бутылки о край бокала.
Мой ответ должен был быть безупречным, учитывая создавшуюся обстановку. Вот как я ответил. Никакие личные обстоятельства не могут помешать моему другу оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Кажется, с тех пор как он уехал, никто больше в Веберли Хаусе не умер.
По-моему, эти слова удовлетворили всех. По крайности, никто о причинах отсутствия Холмса больше спрашивал.
В целом об этом обеде у меня осталось непонятное впечатление. Собравшиеся вели себя совсем не так, как можно было бы от них ожидать. Никто не был озабочен приближением очередной ночи, никто не упомянул о таинственной и неотвратимой угрозе, затаившейся где-то под крышею дома. Даже сэр Эндрю, еще недавно прибегавший к маскировочным мерам, был теперь тоскливо задумчив и даже рассеян. Между тем было ясно, что мысли этих людей чем-то напряженно заняты.
Чем?!
Может, я что-то упустил, не заметил?
Но, что?!
Да, Шерлок Холмс прав, эта история запутана сверх всякой меры!
Сначала я предполагал осмотреть запертую дверь в винном погребе вместе с моим другом, по потом, особенно учитывая, что срок его возвращения неизвестен, принял решение действовать в одиночку.
И немедленно!
То есть нынешней же ночью. Благо у меня было все для этого необходимое. Во-первых, фонарь. Тот самый, с помощью которого нам было впервые освещено место преступления. Холмс настоял, чтобы он был доставлен в его комнату как вещественное доказательство. Неужели мой друг уже тогда предполагал, что в нем возникнет необходимость?! Во-вторых, набор изумительных отмычек из коллекции Холмса. Мой друг утверждал, что сыщик должен владеть преступным ремеслом лучше преступника, только тогда у него есть шанс его поймать. Ни один взломщик Лондона, а может быть, и всего Соединенного Королевства не обладает таким широким набором профессиональных инструментов, как тот, что я нашел в саквояже Холмса.
Важную часть снаряжения составляло устройство из моего личного арсенала. Имеется в виду мой револьвер. Осмотрев его и засунув в карман, я почувствовал себя несколько увереннее.
Перед тем как отправиться в подвал, я привел в порядок свои записи и оставил их в том месте, где Холмс, зная мои привычки, легко сможет их отыскать в случае моей гибели. Приходилось думать и такой возможности.
Между тем пробило половину двенадцатого. Правда, сказать, что дом замер в предощущении каких-то трагических событий, было нельзя. Я осторожно обошел его кругом, дыша сырым, осенним воздухом, и с удивлением обнаружил, что значительная часть окон в здании освещена. Горел свет у мисс Элизабет на третьем этаже, горел свет и в комнатах сэра Гарри и сэра Тони. Горел свет и в библиотеке, где инспектор Лестрейд с доктором Бредли играли в шахматы и пили херес. Оставалось определить, где находится Эвертон. Надо думать, делает приготовления к завтраку. Если так, то это плохо. Значит, он находится в буфетной, дорога в подвал пролегает как раз мимо нее.
Я снарядил фонарь, положил в карман пиджака пару свечей, незаметно похищенных из столовой, и коробок со спичками. Свечу в фонаре я, разумеется, не зажигал. Быть темным в темноте, это самое укромное состояние.
Продефилировав вниз по лестнице перед невидимыми лицами бесчисленных Блэкклинеров, я свернул налево. Пересек холл. Попал в коридор правого крыла. Несколько осторожных шагов – как хорошо, что я догадался надеть мягкие домашние туфли – и я у дверей библиотеки. Дверь эта была приотворена. Сыщик во мне победил джентльмена, и я заглянул. За столом с двумя подсвечниками, пылающими как две неопалимых купины, сидели Лестрейд с доктором. Судя по тону их речей, они уже давно перешли с шахмат на карты, и с хереса на джин. Беседа их состояла из обмена невнятными колкостями. В их времяпрепровождении была одна польза – они не могли помешать мне в моих занятиях.
Ступая еще более осторожно (от библиотеки до столовой, как я заметил накануне, был опасный участок трескучего ясеневого паркета), я отправился дальше. Я тенью проплыл футов около пятнадцати. Со стороны я в этот момент вполне мог сойти за привидение. Но, как часто случается в жизни, за опасным участком следовал еще более опасный.
Коридор от столовой сворачивал к дверям буфетной. Кроме того, слева стена коридора превращалась в последовательность высоченных, ничем не задрапированных окон, выходящих на лужайку перед парадным фасадом. Меня можно было обнаружить с обоих флангов. Мои армейские воспоминания говорили мне, что нет положения опасней. Но другого пути к лестнице в подвал не имелось.
И я рискнул.
Слева темнота в исполнении ночи. Справа песня в исполнении Эвертона. Он скверно, но узнаваемо напевал «Лиллибуллеро», позвякивая серебром. То ли он чистил его, то ли воровал. Я не успел задуматься, потому что должен был насторожиться.
Эвертон вышел из буфетной!
Я замер, задержав дыхание.
Он направился в сторону холла.
Я с облегчением выдохнул.
Потом достал из кармана связку отмычек. С первым замком возиться не пришлось, он был не закрыт. Что ж, тем лучше. Внутри было абсолютно темно. Спустившись вслепую на несколько ступенек по каменной лестнице, я зажег свечу в фонаре. Подземелье неохотно осветилось и показалось мне вдвое более таинственным, чем во время первого посещения.
Вторая дверь тоже не доставила мне особых хлопот. Замок был, видимо, современным, из большой фабричной серии. Приоткрыв тяжелую, пахнущую старинным деревом створку, я прислушался. Нет, никто не заинтересовался, едва слышимым металлическим щелчком в подвале.
Теперь можно было действовать более смело, между мною и остальным миром были две массивные двери. Третий замок заставил меня попотеть. Я добрался до середины холмсовой коллекции, прежде чем почувствовал, что нащупал слабость в нем. Несомненно, автором этого хитроумного запора был какой-то местный умелец, не знакомый с современными промышленными стандартами замочного дела. Он вложил в устройство свою индивидуальную, хитроумную волю.
Когда я добрался до винного погреба, то был насквозь мокр. Вскоре выяснилось, что все самое трудное у меня еще впереди. Все до единой отмычки Холмса оказались бессильны перед секретом таинственной последней двери. В глубине души я был готов к тому, что последний рубеж окажется самым трудным, но я не думал, что он окажется непреодолимым. Впадая в состояние близкое к отчаянию, я ударил грязным кулаком по замку и с удивлением заметил, что створка двери слегка отошла. Я просунул пальцы внутрь и потянул. Она без сопротивления открылась полностью. Я поднял фонарь и увидел… каменную кладку. Старинную, заплесневелую. Дверь и в самом деле ничего не скрывала.
Декорация!
В этот момент замигала свеча в моем фонаре, предупреждая, что вот-вот догорит. Я открыл стеклянную дверцу, чтобы заменить ее, и тут услышал шум шагов. Кто-то быстро, не скрываясь, шел по подвальной анфиладе в сторону винного погреба.
Не один человек, а больше.
Я сжал пальцами фитиль.
Наступила полнейшая темнота.
Неизвестные гости освещали себе путь голою свечой, о чем свидетельствовало нервное поведение теней.
Я спрятался за кучей перевернутых ивовых корзин и взвел курок своего револьвера. Сколько бы их там ни было, моя жизнь будет им стоить дорого.
Фокус с декоративной дверью, несомненно, психологическая ловушка. Они знали, что я сюда отправлюсь. Делали вид, что пьянствуют, распевают беспечно песенки… Но, каков Эвертон!
Двое мужчин ввалились в винный погреб, о чем-то громко переговариваясь. Приземистое местное эхо затаптывало их речь. Одно можно было утверждать – оба навеселе.
Наблюдение вести можно было только сквозь отверстие в дырявой корзине, поэтому видно мне было не все. Однако, первого мужчину я узнал сразу – сэр Эндрю. Второй был мне не знаком. Или знаком?!
Снедаемый сомнениями и предчувствиями, я затаил дыхание.
Чем они занимались?
Набивали карманы бутылками! Только и всего. Неужели, они явились сюда только за этим?
Проделали они все очень быстро, видимо, спешили. Когда они уже направились назад, друг сэра Эндрю вдруг остановился, потянул носом и сказал: “Слушай, здесь кто-то уже побывал перед нами”. “Почему ты так думаешь?” – “Все двери раскрыты, нам даже ключи не понадобились. Может, он и сейчас здесь”. – “И дьявол с ним, пошли”.
И тут я узнал этого второго, несмотря на эхо и скверное освещение. Его физиономия на мгновение осветилась очень хорошо.
Это был Ройлат!!!
Некоторое время я сидел не в силах подняться с корточек. В голове кружился вихрь из мыслей и их обрывков.
Однако надо было что-то предпринимать. Надо было хотя бы выбраться вон отсюда. Я поднялся и, не снимая пальца со спускового крючка, двинулся в обратный путь.
Оказавшись на первом этаже, немного успокоился.
С привычной осторожностью миновал дверь в буфетную. Внутри было тихо.
Теперь библиотека. Створка все так же приоткрыта. Как на ладони передо мною был большой стол, занимавший середину помещения. Стол был заставлен в беспорядке бутылками, тарелками с паштетом и фруктами. Горело несколько разномастных подсвечников. Стояли и валялись бокалы. За столом восседали, пребывая в разной степени опьянения, Эвертон, сэр Гарри, сэр Тони, мистер Бредли, инспектор Лестрейд, сэр Эндрю ковырялся вилкой в яблоке. Над всеми возвышался громадный Ройлат, он тоже ковырялся, но штопором, в пробке одной из только что принесенных бутылок.
Пируют. Но как мрачно. Какая странная компания! Может, это пир от ужаса, пир во время чумы.
Рубашка льдом обожгла тело. И сразу вслед за этим меня бросило в жар.
Мисс Элизабет!
Надо было немедленно проверить, что с ней. Невзирая на столь поздний час. Откуда-то во мне появилась уверенность, что с нею не все в порядке. Почему? Среди необъяснимого кошмара, затопившего дом, возможно все.
Все еще стараясь не шуметь, я решительной птицею взлетел на третий этаж. И на цыпочках двинулся к двери мисс Элизабет. Подойдя к ней на расстояние в пять футов, я услышал странные звуки. Они шли изнутри. Сдавленные, жутковатые, похожие на подвывание, нытье и стон.
Кто-то там есть в комнате мисс Элизабет, и этот кто-то совершает над девушкой нечто преступное.
Кто?!
В моем мозгу произошла вспышка – Яков!!! Только его не было на мрачном празднике в библиотеке.
Я вдруг со всей жуткой отчетливостью представил, как этот мрачный, припадочный привратник сдавливает кривыми пальцами бледное горло девушки.
Идиот! Горе сыщик! Пока бродил по дурацким, сырым подвалам… Неужели он имитировал эпилептический припадок?! На время он отвел от себя непосредственные подозрения! Имитировать слишком трудно? Ерунда, за столько лет сотрудничества с Холмсом я должен был научиться не удивляться ничему.
Так, но если Яков ее душит, значит она еще жива.
Надо действовать!
Ударом ноги я высадил дверь (сколько их было в этот вечер) и влетел в скудно освещенную спальню, выставив вперед своего металлического дружка и вопя: “Руки вверх!”
Зрелище, открывшееся моим глазам, заставило меня опустить оружие и умолкнуть. В следующее мгновение у меня возникло желание поднять его вновь и разрядить себе в сердце.
Голый Шерлок Холмс лежал в объятиях голой мисс Элизабет и совершал действия, не оставляющие никаких сомнений в том, что я полный кретин».
Третья часть
Вернувшись в свою комнату, доктор Ватсон первым делом разрядил револьвер. Вторым – записал подробнейшим образом все, что случилось с ним в последние два часа. Он сидел за столом, стиснув зубы, выпрямив спину, с каменным выражением лица, аккуратно макая перо в чернильницу. Таким образом, ему удавалось удерживать себя в руках. Он почти полностью овладел собой, но в этот момент рассказ его подошел к тому месту во времени и в пространстве, где омерзительный лицемер Шерлок Холмс зверски овладел несчастной запуганной девушкой.
Ватсон швырнул перо поверх листа, усыпая текст кляксами своего отчаяния. Вскочив, он стал метаться по комнате, растирая запястья и топорща усы.
Раздался стук в дверь.
Доктор знал, кто стучит. Он саркастическим каркнул:
– Открыто.
Доктор не ошибся, на пороге стоял насильник в сюртуке его друга, в рубашке с отогнутыми воротничками – любимой рубашке друга, и с трубкой того же друга в зубах. Кроме того, он имел наглость улыбаться мудрой дружеской улыбкой.
– Знаете, Ватсон, я даже рад, что все так получилось.
Холмс вошел внутрь, закрыл за собою дверь и сел к столу. Посмотрел на исписанные и забрызганные листы.
– Это могла быть ваша лучшая повесть. Простите, что я ее, кажется, испортил.
Грудь доктора вздымалась все выше и выше с каждым словом гостя.
– Повесть?! Вам жалко только ее?! И ничего больше?!
– Что еще я, по-вашему, испортил?
– Хотя бы нашу дружбу! Надеюсь, вы понимаете – после того, что я увидел наверху, отношения между нами изменятся.
Холмс дочитал до конца лежащую перед ним страницу.
– Великолепно! Какая экспрессия! Какая живость изложения!
– Вы издеваетесь надо мной?! Я это писал кровью сердца! Я не позволю… Я разрядил свой револьвер, но ничто не помешает мне…
Холмс резко повернулся на стуле в сторону говорящего. Глаза сыщика были печальны, трубочный дым вяло тек из приоткрытого рта.
– Вы способны убить меня?
Ватсон отвел взгляд, но ответил твердо:
– Да. Но только в честном поединке.
– И будете настаивать на нем, даже если я дам объяснение случившемуся?
– Дайте объяснение, и я решу, как мне вести себя дальше.
Прежде чем начать говорить, Холмс затянулся из своей трубки, но было видно, что табак не доставляет ему привычного наслаждения.
– Сегодня печальный день, Ватсон. Печальный по многим причинам. В частности, потому, что отныне, наши отношения никогда уже не станут прежними. Даже если мы не будем стреляться. Во-первых, я начинаю другую жизнь. Во-вторых, вы сейчас узнаете, что все эти годы я был не тем, за кого вы меня принимали.
– Многословно, но непонятно.
– Начнем с того, что я женюсь, Ватсон.
Заявление было столь сильным, что доктор был сбит со своего непреклонного настроя. Лицо сделалось мягче, глаза растерялись.
– Да, мой друг, да. Та женщина, которую вы видели в моих объятиях, в столь решительный момент, моя возлюбленная. Возлюбленная настолько, что я решил связать с нею остаток своих лет. Кстати, Ватсон, я не думаю, что вам следует брать за правило врываться в комнату в тот момент, когда запершаяся там пара…
– Я хотел помочь! Я думал, что мисс Элизабет угрожает опасность.
– Вы думали, что этот эпилептик Яков на нее набросился?
– Как вы догадались, что я подумал именно так? – спросил Ватсон и тут же пожалел, что спросил. Сколько раз возникала такая ситуация – он задает наивный, спонтанный вопрос, а всеведущий Холмс, со снисходительной улыбкой объясняет, в чем тут дело. Терпеть интеллектуальную экзекуцию от старого друга, это еще куда ни шло, но сносить ее от некой темной личности – ни за что! Ватсон добавил с кислой миной: – Что я спрашиваю, разумеется, пресловутый метод.
Холмс отрицательно покачал головой.
– Нет, мой друг, дедукция тут не при чем. Я, вообще, думаю, что дедуктивный этот метод есть миф, навязанный ВАМИ доверчивому воображению ваших многочисленных читателей. В реальности он не существует, ибо существовать не может.
– Что вы такое говорите?!
– Это я докажу и покажу вам позже. Что касается данного конкретного случая, то я ничего не угадывал, ибо ничего угадать не в состоянии. Это написано у вас на листе бумаги, который лежит на столе. Я не удивился, прочитав это. Потому что специально ПОДВОДИЛ вас к возникновению именно такого подозрения. И мои помощники помогали мне в этом.
Доктор медленно, как бы недоверчиво, опустился на стоящий у окна стул. Недоверие его было направлено не на предмет мебели, но на речь Холмса.
– Подводил?
– Да. Прошу простить меня, мой друг, но все, кого вы здесь видели, не реальные люди…
– Привидения?
– Это персонажи, изображенные нанятыми мною актерами.
Левая часть докторского лица начала как бы скисать, глаз прищурился, угол рта пополз вверх.
– Да, да, спектакль.
– Вы хотите сказать…
– Никакого сэра Энтони Блэкклинера не существовало. Никто никого не убивал ледяной пулей. Надо признать, эта часть замысла получилась излишне громоздкой. Очень уж хотелось посильнее запутать мозги читателю. Кабинет заперт изнутри, окна закрыты, шторы опущены, труп с дырой в голове и никаких следов пули, здорово, да?
Глаза Холмса творчески загорелись.
– Правда, я стал жертвой собственного размаха. Дырку в голове я нашел, чем объяснить, а вот все остальное! Хотя, честно говоря, я не первый раз в подобном положении, в конце концов, выпутался бы.
– Не в первый раз?!
– Не первый, – хмыкнул Холмс, – но мы к этому еще подойдем, сейчас нужно покончить с недоумениями сегодняшнего дела. Я уверен, у вас уже миллион вопросов возник. Спрашивайте, мой друг, я клянусь отвечать предельно правдиво.
Стул под Ватсоном страшно скрипнул, могло показаться, что это рассудок доктора.
– Начните с самого главного, Ватсон. Спросите, для чего все это было затеяно. Интересно ведь, правда?
– Интересно, – прошептал доктор одними усами.
– Главной целью затеянного мною представления, была будущая ваша повесть. Если бы все прошло, как следует, вы бы ее непременно написали. Разве не так? Разве не за вдохновением вы сюда приехали. Да, что там говорить, значительный кусок ее уже готов! Вот он на столе.
Стул Ватсона скрипнул снова.
– Поверьте, я и не думаю шутить. Я серьезен, как никогда. Как только вы стали публиковать ваши записи о моих подвигах, стало очевидно, что у вас замечательное, редкое перо, природный вкус, и от Бога полученное чувство меры и композиции. Мало у кого из ныне действующих авторов есть хотя бы полтора из этих достоинств.
Ватсон фыркнул, одновременно недоверчиво и польщенно.
– Вы думаете, это лесть? Я слишком уважаю себя и вас, чтобы заниматься славословиями. Я начал говорить вам правду, теперь слушайте ее до конца.
Доктор приосанился.
– Вместе с тем вы напрочь лишены дара воображения. Вы не способны придумать мало-мальски оригинальный сюжет. В этом отношении Киплинг и Стивенсон неизмеримо выше вас. Не обижайтесь.
– Я не обижаюсь.
– Мне попадались на глаза ваши сочинения, изготовленные вне связи с моим образом и моими сюжетными изобретениями. Они благопристойны, даже элегантны, но, увы, мертвы. Теперь перейдем ко мне.
– Да, пора бы уж.
– Природа наделила меня многими достоинствами.
– Главное из них, верное представление о самом себе.
Холмс вытащил трубку изо рта и нарисовал в воздухе недовольный вензель.
– Что может быть мельче колкостей, Ватсон. Оставим их, разговор пойдет о важных вещах.
– О ваших достоинствах.
– Ва-атсон.
– Что ж, слушаю.
– Продолжаю. Оставив в стороне все прочее, замечу, воображением Создатель наделил меня щедро, если не более того. Но, видимо, чтобы соблюсти какое-то, одному Ему известное равновесие, он начисто лишил меня способностей подобных вашим. Когда я начинаю что-либо излагать на бумаге, получается тусклый кошмар. Это так плохо, что даже показать нельзя.
– Но вы мечтали о славе и во мне увидели недостающую половину той творческой личности, какой хотели бы быть?
Холмс задумчиво потрепал свой подбородок.
– Несколько упрощенно, но близко к сути.
– Но я не могу понять, зачем это было вам нужно, известнейшему, авторитетнейшему сыщику? У меня, наоборот, создалось впечатление, что вы избегаете всякой публичности. Вы все самые сочные плоды успеха отдавали Лестрейду, даже тогда, когда это делать было необязательно.
Холмс тихо улыбнулся и постучал затылком трубки в живот ладони.
– В том-то и дело, что обязательно.
– Не понимаю вас.
– Постарайтесь. Дело в том, что я никакой не сыщик.
Непонимающее молчание было ему ответом.
– Был момент, и даже период, когда я пытался подвизаться на этом поприще, но потом оставил все попытки. Вы, судя по выражению вашего лица, не верите мне, не хотите верить и не собираетесь. Инерция представлений. Шерлок Холмс – великий сыщик, это выдумка. Выдумки живучи. Даже виденная вами наверху сцена, лишь слегка поколебала ваше представление обо мне. Вы просто обиделись. На меня плохого, за меня хорошего. Пожелай я дурачить вас далее, мне без большого труда удалось бы вернуть все на свои места.
– Вы меня дурачили все эти годы?!
– Да. И прошу у вас за это прощение. Поверьте, ваша роль в нашем совместном предприятии была ничуть не унизительной, как вам, возможно, кажется. Я всегда относился к вам с искренней любовью.
Доктор встал. Сделал несколько шагов к двери. Но внутренняя путаница чувств и мыслей была не способна разрешиться простым порывом. Доктор не ушел. Он сел на свой стул.
Холмс внимательно следил за поведением Ватсона.
– Знаете что, давайте, я вкратце изложу вам свою историю, а вы зададите мне после этого все вопросы, которые сочтете нужным задать. По-моему, это самый короткий путь к тому, чтобы разогнать туман, застилающий истинную картину событий.
– Валяйте, – с неожиданной развязностью сказал Ватсон и забросил ногу на ногу.
Холмс неторопясь раскурил трубку, посидел несколько секунд в задумчивости.
– Вы, наверное, знаете, что Шерлок – это редкое ирландское имя. Мы Холмсы, в значительной степени, ирландцы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. От нашего отца нам с Майкрофтом достался неуемный и предприимчивый характер. Причем силы натуры разделились между нами пополам. Но разными компонентами. Вы общались с Майкрофтом и, вероятно, согласитесь, что это личность незаурядная. В прежние времена он был одним из самых изысканных скандалистов и самых изящных бретеров лондонского света. Теперь его стихия – международные заговоры, тайные миссии и прочее в том же роде. В известном смысле он человек выправки и карьеры. Я – другое дело. Я шалопай и мечтатель с детских лет. С самого начала не ставил ни во что светскость и приличия. Компания у меня была всегда самая разношерстная. От священников до актеров. Где между ними располагались воры, боксеры и репортеры. Именно в этой пестрой среде я и приобрел свои странноватые нравы. Кое о чем вы писали и сами. Именно вы заметили, что я храню сигары в ведерке для угля, табак – в носке персидской туфли, а письма, которые ждут ответа, прикалываю перочинным ножом к деревянной доске над камином. Именно вы заметили, что я люблю, усевшись в кресло, лупить из револьвера в противоположную стену. Правда, вы смягчили образ, написав, что я стремился украсить стену патриотическим вензелем «К.В.». То есть «Королева Виктория». На самом деле я собирался написать таким способом неприличное слово. Эти сведения почерпнуты мною из начала ваших записок обо мне. Там же вы пишите, и справедливо, о периодах нападающей на меня прострации, о моей любви поваляться на диване с любимой книгой и трубочкой гашиша. Причем поваляться не день или два. А месяц-полтора. Почему-то из всех этих правильных наблюдений вы сделали неправильные выводы. Но вернемся к дням моей молодости. В один неизбежный день я сбежал из дому с актерской труппой. Наглость, живость и тяга к прекрасному и алкоголю были намешаны во мне в нужных пропорциях. В ваших глазах я увидел очередную вспышку недоверия. Холмс – актеришка! Как это может быть?! Но, вспомните, сколько раз за время нашей совместной деятельности я прибегал к разного рода актерским уловкам! Кого я только не изображал: и скверного старика, и назойливого букиниста, и слесаря. А как я сыграл священника – рассказ «Скандал в Богемии»! А эта история с моей мнимой смертью из рассказа «Шерлок Холмс при смерти»! Актерство всегда рвалось из меня наружу.
Ватсон неуверенно кивнул.
– Но тем не менее на сцене я не задержался. Меня привлекал театр, но угнетала театральная жизни. Необходимость притворяться, когда нет ни малейшего желания делать это. Мне кажется невыносимо скучным играть двадцать раз подряд одну и ту же роль. К тому же я ленив. Тут я предлагаю еще раз вспомнить мою любовь к длительному диванному лежанию. И я решил заняться частным сыском.
– Насколько я могу судить, работа хлопотнее театральной.
– На первый взгляд. Главное в работе сыщика то, что всегда можешь от нее отказаться, если она тебе не нравиться, и в любой момент ее бросить, если она тебе надоела.
– Но гонорар?
– Я забыл вам сказать, что мой отец к концу жизни стал весьма состоятельным человеком. Он провел много времени в Южной Африке и сделал чрезвычайно удачные приобретения. Меня, за мое беспутство, он проклял как отец, но понял, как ирландец. Через Майкрофта я узнал, что значительная часть наследства мне гарантирована. Как правило, о таких вещах еще раньше тебя самого узнают твои кредиторы. Таким образом, я получил возможность делать такие долги, которые позволяли мне существовать не задумываясь ни о чем, кроме моих удовольствий. Профессия сыщика позволяла мне входить в тесный, часто очень тесный контакт со множеством людей. Среди них было немало женщин. Какие-то из них привлекательны, какие-то состоятельны. Иногда это совпадает.
– Вы хотите сказать, что случай на третьем этаже…
– У вас снова потрясенный вид. Вы что же, друг мой, все эти годы всерьез думали, что я этакий монах сыска. Я здоровый, привлекательный, обаятельный мужчина! Вы думали, что женщины меня занимают только как клиенты или свидетели?
– Я думал, что вы джентльмен.
– Не хочется вас разочаровывать, но для большинства женщин важнее убедиться в том, что вы мужчина, а не в том, что вы джентльмен.
– Это не английский юмор.
– И тем не менее, Ватсон, и до встречи с вами, и после нее, я вел веселую жизнь. Где-то между простой половой невоздержанностью и настоящим распутством. Потому-то я и снял квартирку у нашей милейшей миссис Хадсон. Это была тихая заводь в море бушующей женской стихии. Будь я мелкий пошляк, я бы поселился у какой-нибудь молодящейся вдовушки и тайком от вас таскался бы на ее половину, хлопал по заднице при каждом удобном случае и требовал, чтобы она не брала с меня деньги за кормежку, ибо большая часть энергии на нее же, вдовушку, и тратиться по ночам.
Холмс возмущенно затянулся дымом. Описанное поведение представлялось ему отвратительным.
– Такие, как вы, Ватсон, семейные счастливцы…
– Оставим это!
– Как хотите. Итак, время вернуться от женщин к характеристике моей работы. Первоначально я брался за любое дело, я искренне хотел победы в этих витиеватых поединках с проявлениями неистребимого, многоликого зла. Я старался. Поверите ли, рисковал здоровьем и входил в расходы ради достижения результата. То есть вел себя именно так, как и положено тому Шерлоку Холмсу, что описан вашим волшебным пером. После годичных мытарств я пришел к глубокому, хотя и неожиданному, выводу.
Тяжелая, длинная затяжка.
– Мир преступления, мир реального, бытующего преступления невероятно скуден, сер, однообразен, плосок. Вспомните, как я порой открыто сетовал, просматривая отделы уголовной хроники лондонских газет. Повар побил скалкою свою жену, заподозрив в связи с поваренком. На рынке Гринхарниш похищены три лотка с рыбой. В драке между кэбменами выбито пять зубов, из них два лошадиных. Какой смысл всем этим заниматься?! К тому моменту, когда мы об этом читаем, повар помирился с женой. Кэбмены и лошади поделили зубы. Рыба или съедена, или протухла. Наконец, мы натыкаемся на что-то интересное. Заголовок: «Таинственное убийство»!!! Миссис такая-то зарезана в своей комнате. Ящики бельевого шкафа выпотрошены. Через четверть часа после начала следствия обнаруживается на первом этаже того же дома пьяный квартирант, безработный кочегар. Карманы его куртки набиты тонким женским бельем. На столе початая бутылка дорого джина. На вопрос, откуда у него все это, он с пьяными рыданиями сознается, что он убийца.
По лицу великого сыщика пробежала гримаса отвращения.
– Были дела более кровавые, но не было более запутаных. Я застосковал. И хотя мне, как уже говорилось, нравился мой образ жизни, я начал подумывать о смене декораций. Судьба человека – это характер плюс два-три случая. Иногда достаточно одного. Ум нужен для того, чтобы распознать такой случай. Вот мой, например: по просьбе одной экзальтированной и состоятельной дамы, я затеял возню вокруг истории со смертью ее брата. Смерть эта, по ее мнению, наступила безвременно. И в этом была ее главная странность. Смерти, но не дамы. Сорокалетний мужчина скончался от сердечного приступа. Так заключили врачи. По мнению сестры, он был кем-то убит. Она истерзала своими претензиями полицию. Особенно инспектора Лестрейда. Он и без того был тогда на неважном счету в Скотланд-Ярде, бедняга. Как раз тогда мы познакомились и сдружились на всю жизнь.
– Странно, я бы ваши отношения дружбой не назвал.
– Придет время, и уже скоро придет, я расскажу, в чем тут дело. Итак, исследовав все, что только можно было исследовать в истории гибели сорокалетнего джентльмена, я пришел к выводу – ни малейшего намека на чей-либо умысел в ней нет. Она прозрачна как ясно утро. Но, чем сильнее, чем изобретательнее я убеждал в этом сестру-заказчицу, тем яростнее она настаивала на своем. Ищите, сэр! В этот момент мне чрезвычайно нужны были деньги, о наследстве я еще не знал, гонораром пренебречь не мог. Сознание мое работало в лихорадочном режиме. Надо было что-то придумать. Я было даже хотел предъявить обвинение самой сестрице. Ее настойчивость, подумалось мне, может быть, есть следствие тайного комплекса вины перед братом. Ей станет легче, стоит ее обвинить. Но нет, решил я, не будем отбирать хлеб у психиатров. Облегчение она, возможно, и испытает, но денег не даст, это точно.
Поезд подходил к дебаркадеру вокзала Ватерлоо, когда было сделано открытие, перевернувшее всю мою жизнь. Правда, выяснилось, что мне потребуются помощники. Как минимум, двое. Первым должен был стать Лестрейд, то есть полицейский чин, официальное лицо. Мы с ним быстро поняли друг друга. Дела у него на службе шли неважно, как я уже говорил. О повышении он не мог и мечтать. Мой же метод мог его вознести, прославить.
– Дедуктивный метод?
– Называйте, как хотите, когда дослушаете до конца. Итак, нужен был еще один. И тут я вспомнил о своих театральных знакомствах. Одним словом, через два дня в доме подозрительной старой девы состоялась следующая сцена. Мы с Лестрейдом представили заказчице смазливую девчонку. (Мы якобы заманили ее предложением стать секретарем хозяйки дома.) После двух-трех заранее отрепетированных вопросов девица созналась (в потоках слез), что являлась любовницей сердечника, поступившего с ней, в итоге, бессердечно. Он решил ее бросить, она явилась к нему в дом, как бы для последнего объяснения, и подсыпала в чай редкий колониальный яд, который нельзя определить при вскрытии. Сколько я изобрел на своем веку этих невероятных колониальных штуковин. Один дикарь с Андаманских островов чего стоил.
– Но я же сам видел этого дикаря!
– Переодетый мальчишка. Люди с легкостью верят во все, что не способны вообразить сами. Окончание истории: Лестрейд предъявляет старой деве какие-то крупицы в запаянной пробирке, это якобы яд. Без вещественных доказательств нельзя. Потом он с самым суровым видом защелкивает наручники на руках продолжающей рыдать актрисы. Я принимаю конверт с чеком на триста фунтов. Довольны все. Заказчица получила душевное спокойствие, и отнюдь не разорилась. Лестрейд обрел газетную славу. Актриса гонорар, превышающий ее трехмесячное жалованье.
– И с тех пор вы полностью переключились именно на такие дела? – без тени восхищения в голосе спросил Ватсон.
– Вы, как всегда, спешите, мой друг. Я бы умер с голоду или с тоски, ожидая второго такого случая. Я пошел дальше. Решил тачать такие случаи собственноручно по колодке, подброшенной мне судьбою. В помощь мне было то, что скончался мой отец. Появилась возможность оплатить фантастические долги и финансировать фантастические замыслы. Надо признать, первые опыты были не вполне великолепны. Были ляпы, подводили предварительные расчеты. Дважды я был на грани разоблачения. Но технология замысловатого развлечения постепенно отрабатывалась. Оттачивали свою технику игроки. Первым и главным был, конечно, наш дорогой Лестрейд. Я бы снял перед ним шляпу, когда бы она была у меня на голове. Ни одна криминальная история не будет убедительно выглядеть и не может законно завершиться без участия человека с подлинным полицейским жетоном. Лестрейд и его официальное удостоверение были главной опорой моего замысла. Кроме того, ему надлежало увязывать все дела по линии своей службы, чтобы не было никаких недоумений и шероховатостей. Но главное, конечно, то, что он редкий актер.
– Он же идиот – ваши слова!
– С актерами это случается. Здесь другой случай. Он гениально играл идиота. И гениально долго играл. У себя на службе он другой человек. Важно и то, что он был честен.
– Честен?
– Он не получил за все эти годы от меня ни шиллинга. Лишь изредка мне приходилось компенсировать его дорожные и алкогольные расходы. Кстати, у меня накопился перед ним немалый долг по этой части. Гонораром его была слава. Коллеги восхищались им, что его радовало, и ненавидели, что его забавляло.
– Боюсь, он заботился о том, чтобы не попасть под обвинение в мошенничестве.
– Кто знает, – вздохнул Холмс.
– Но актерам вам приходилось платить? – вдумчиво спросил доктор.
– Да. И чем дальше, тем больше. Ведь платить приходилось не только за, собственно, игру, но и за соблюдение секретности. Это, как вы понимаете, для людей подобного типа в высшей степени тяжело. Кроме того, приходилось требовать, чтобы самые активные участники представлений покидали лондонскую сцену, во избежание случайной встречи с вами. На мою финансовую беду вы, с помощью вашей очаровательной супруги, сделались заядлым театралом. Представляете, сколько может потребовать продажный лицедей за такой подвиг, как оставление столичной сцены!
– Надо понимать, Ройлат – нарушитель подобной договоренности?
– Да. Он будет оштрафован, согласно подписанному договору. Сюда он явился, чтобы выпросить прощение. Но прощения не будет. Я хотел принять во внимание то, что он сам мне сообщил о вашей встрече в буфете, и тем самым дал мне возможность подготовиться к вашим вопросам и отвлекающему маневру. Но уже здесь, в Веберли Хаусе, он повел себя самым неподобающим образом.
– Значит, он не погиб на вокзале Ватерлоо?
– Конечно, нет. Я взял первое попавшееся газетное сообщение о несчастном случае и выдал его, с помощью толстяка Харриса, за сообщение о смерти Ройлата-Бриджесса. А он не тот, и не другой. Он пьяница Джонс. Ему в театре никогда не доверяли ничего серьезного. Он играл только неблагородных разбойников и палачей. Единственная главная роль в его карьере, это злой отчим в «Пестрой ленте», и такая неблагодарность. Стоит один раз дать поблажку такому субъекту, и прощай дисциплина. Впрочем, есть и другая причина, мешающая мне заплатить этому негодяю, как и всем остальным.
– Вы разорены?
– Близок к этому. Алмазные копи, обладателем коих сделался некогда наш отец, в результате безумных и корявых действий наших политиков, оказались на так называемой территории размежевания. Долго объяснять, суть же в том, что акции нашей компании обесценились раз в пять. Если положение не изменится, а оно, судя по газетам, не изменится, я банкрот. Мои дела были плохи уже в тот момент, когда затевалось нынешнее представление. Оно стало возможным только благодаря необычайному характеру сэра Оливера.
– Кто это?
– Ах, да, вы же… Это Яков. Это он действительный владелец Веберли Хауса. Сэр Уиллогби, в роду пэры и все такое. Человек с личными и родовыми странностями. Плюс эпилепсия. Он жил предельно уединенно. Вот откуда забор. Дожил до пятидесяти лет и вдруг, совершенно случайным образом попал в театр. Кажется в театр Гаррика. На какую-то дрянную постановку. Неподготовленный мозг его был потрясен. С того момента ничего, кроме театра, его не интересовало. Он попытался поступить на сцену под накладным именем, но был с позором отвергнут. Разумеется, никаких данных у него для сцены не было. Кроме воспламенившегося сердца и бешеной, всепоглощающей любви к искусству. Это род болезни, вроде той же эпилепсии. Он бы умер, если бы его не познакомили со мной те самые негодяи, что изображают семейство Блэкклинеров.
– По-моему, искусственная фамилия.
– По-моему, тоже. Они хихикали над ним, эти мелкие души, издевались. Представили мне его как забавный казус. Я поговорил с ним полчаса и тут же предложил роль. Он был рад, как ребенок, у него даже случилось, что-то вроде приступа. Условие я поставил одно – он предоставляет нам свой замок, как декорацию. Он согласился. Я им доволен. Он единственный, кто не требует денег, не пьет и не пристает к мисс Элизабет с вульгарными предложениями. Потом он по-настоящему перевоплотился в своего персонажа. В незаконнорожденного, припадочного, несчастного Якова.
– А что за пьесу мы тут все разыгрываем?
– Я был слишком занят делами своей компании и предложил подыскать сюжет мисс Элизабет, тем более, что ей предстояло играть одну из главных ролей. Она, конечно, сюжет этот не придумала, а вычитала. Я предполагаю, из иностранного романа, потому что коллизия мало напоминает истинно британскую, но в ней много мощи. И надрыва. Представляете – все хотят убить отца. Отец человек омерзительный, но человек. Все не только мечтают его убить, но и имеют к этому прямые побуждения. Ничего похожего на холодный расчет, сплошные терзания. Я бы ни за что не взялся за этот сюжет, если бы не мисс Элизабет. Она просто сгорала от желания сыграть эту роль. Влюбившись, становишься мягкотелым.
– У мисс Элизабет есть дар?
Холмс серьезно задумался.
– Как вам сказать. Она неплохо танцует, есть определенная балетная выучка. Как драматической актрисе ей пока не везло. Но всегда хотелось успеха именно по этой части. Кроме Якова, лишь она по-настоящему прониклась судьбой своего персонажа. Остальные только пьянствовали и притворялись вполсилы. Уверен, что это было заметно.
Ватсон вдруг расхохотался.
– Что с вами?
– Я вспомнил сцену в привратницкой, когда сэр Эндрю, или как там его, требовал у Якова ключ. Теперь-то понятно, что это был ключ от винного погреба.
– Сэру Оливеру не жалко было своих бутылок, он боялся, что джин помешает господам актерам играть, как следует. Его ужасала возможность провала. Он согласился выдать ключ только для целей сюжета, когда Эвертон сопровождал вас к фальшивой двери. Труппа ведет себя, как наемная армия. Чем меньше платишь, тем меньше стараются. Они стали стремительно превращаться из наследников благородного рода в то, чем являлись на самом деле, в картежников и алкоголиков.
– И не только это, Холмс. Я был свидетелем бесчестного поступка совершенного джентльменами, играющими роль сэра Гарри и сэра Тони.
– Что же натворили ученый и святоша?
– Мне показалось, что они пытались неподобающим образом атаковать мисс Элизабет. Я не знал тогда, кто она вам, иначе бы обязательно вмешался.
Холмс грустно улыбнулся.
– Спасибо, мой друг, но вы немного неправильно все поняли. Не они пытались ее атаковать, а она пробовала бежать из Веберли Хауса. Они ведь, друзья-актеры мои, взяли ее в заложники, отправив меня за деньгами в Лондон. Она хотела тайком выбраться из этого логова, ее схватили. Когда ее водворяли на третий этаж, она искусала обоих братьев. Вы стали свидетелем окончания этой сцены. Теперь я вернулся. Тайком ото всех пробрался наверх, где вы меня и застали.
– Вы собирались бежать, оставив меня здесь?
– Нет, что вы. Я привез немного денег, мне, я думаю, удастся погасить большую часть долга.
Ватсон потер виски и на несколько секунд закрыл глаза.
– Нет, это слишком невероятно. Я то верю вам, то вновь теряюсь. Слишком много такого, что вызывает вопросы.
– Задавайте, бога ради. Я уже все рассказал.
Ватсон снова потер виски.
– Правильно ли я понял ваше сбивчивое признание – я был единственным зрителем, ради которого готовились эти громоздкие розыгрыши?
– Только ради вас. И не заблуждайтесь насчет громоздкости. Чаще всего удавалось обойтись минимумом средств. Разве что история с собакой Баскервилей потребовала особых приготовлений. Да, еще, может быть, гонка катеров по Темзе.
– А сокровища Агры вы взяли напрокат?
– Милый Ватсон, вспомните, разве вы видели их? Вы все время имели дело с закрытым ящиком. Их вообще никогда не существовало. Зато они теперь существуют хоть и не на дне реки, зато в воображении читателя.
– А история с премьером и пропавшим письмом? Я сотню раз видел фотографию этого человека в газетах, я не мог ошибиться!
– Не забывайте, мы имеем дело с театром. Вы не представляете себе, что такое грим в умелых руках.
– А убитый нами Милвертон?
– Ну-у, мой дорогой, умение притворно умереть, чуть ли не главное в мастерстве актера. Даже Ройлату-Бриджессу-Джонсу это по силам.
Доктор сильно осклабился, потом пожевал губами.
– Понимаю, у вас найдется простое объяснение любому эпизоду этой эпопеи.
– Любому, – бодро подтвердил сыщик.
– Итак, меня разыгрывали, чтобы впечатлить, дать ход моему перу?
– Да.
– Просто изложить мне свой сюжет словами вы не желали?
– Я лишил бы вас живого переживания и превратил из творца в ремесленника. Наш случай соавторства уникален не только по методам, но и по результатам. Нам удалось то, что не удавалось самым большим талантам. Убедительный образ положительного героя!!! Ведь, что такое наш Шерлок Холмс – это пример практической святости. Гениален, деятелен (когда нужно), нравственно трезв. И при этом живой человек. Такая фигура должна быть в культуре. И неважно, что прототипом для нее послужил развращенный, нечистоплотный, сибаритствующий наркоман. Не видя вокруг себя таких людей, как изображенный вами великий сыщик, читающая публика должна знать, что они возможны в принципе. Должна верить, что они где-то есть. Шерлок Холмс должен стать предметом веры, да это уже, по-моему, произошло. Я, если хотите, бессмертен. Равно, как и вы, мой друг.
– Возможно, у вас нет литературного дара, но дар критика несомненен.
– О, несчастный дар, – засмеялся сыщик, – как бы там ни было, моя беспутная жизнь искуплена моим литературным существованием.
Ватсон бросил на своего друга долгий взгляд исподлобья.
– У меня к вам остался последний…
– Вопрос сердца или вопрос ума?
– Сочтете, как захотите. Меня теперь не столько волнует ваша судьба, сколько судьба вашего дедуктивного метода. Вы обещали разъяснить.
Сыщик смущенно насупился. Потом поморщился.
– Надеялся, что вы догадаетесь сами. Конечно же, все демонстрации своих сверхспособностей я подстраивал. Как фокусник готовит свой цилиндр, чтобы из него в нужный момент вылетали голуби и конфетти. Возьмем самый последний пример. Я заставил нашего загорелого сэра Эндрю сбрить свою шкиперскую бороду непосредственно перед нашим визитом в ресторан, вот вам и весь метод. Еще проще объясняется, то, как я догадался, какой именно театр вы посещали с миссис Ватсон. Увидев вас и сообразив, что замечен вами, ко мне ночью примчался Ройлат. Он рассказал мне не только о факте встречи, но и том, где она произошла. Несколько труднее было объяснить мою догадливость. Вы меня чуть было не раскусили. Пришлось изворачиваться, плести несусветную чушь. В этом самая суть моего дедуктивного метода. Не нужно, чтобы он на самом деле работал, нужно, чтобы верили, будто он работает.
Чуть было не установилась неприятная во всех отношениях пауза, но Холмс не позволил ей это.
– Совсем другое дело, когда гадать нужно без подготовки, вслепую. Мельчайшая, чуть-чуть ошибочно понятая деталь способна увести вас так далеко, что вы ужаснетесь, когда узнаете, где находитесь со своими выводами. Чтобы вам стало яснее, возьмем трость доктора Мортимера из первой главы вашей блистательной «Собаки Баскервилей». Кстати, обратите внимание, как удачно она была ПОДСТАВЛЕНА! А теперь представьте, что вместо нее, и без всякой предварительной подготовки, мы с вами вынуждены были бы исследовать трость другого доктора. Например, доктора Ватсона. Дайте мне ее. Что бы обнаружил наш анализ? Кто владелец трости?
Холмс возбудился и его возбуждение передалось оцепенелому до этого Ватсону. Не слишком желая этого, доктор начал размышлять вслух.
– М-м, мы могли бы предположить, что владелец господин средних лет, молодые люди таких тростей не носят. Могли бы сказать, что он горожанин. Она не испачкана и не ободрана о дорожные камни.
Ватсон задумчиво замялся.
Холмс усмехнулся.
– Эти выводы так же точны, как заявление, что Великобритания остров.
Ватсон пожал плечами.
– Я бы мог продолжать подобные придирки еще долго. Ограничусь только одной. Как нам быть с зубами?
– Какими зубами?
– Человеческими! На вашей трости отчетливые следы человеческих зубов. Я Шерлок Холмс, я беспристрастно исследую вашу трость. Каким образом я могу догадаться, что вчера, в шестом часу дня вы спасали привратника Веберли Хауса Якова от эпилептического припадка?!
Доктор вздохнул.
– Даже если я каким-нибудь непостижимым образом догадаюсь, что владелец этой трости доктор – специальная табличка, какая была на трости Мортимера, не обязана быть на любой другой, – то что я должен подумать об этом медицинском муже? Что он работает в клинике для буйнопомешанных? Что он исследует каннибалов, и ему совсем недавно пришлось отбиваться от предмета своих исследований? Как мне истолковывать эти следы? Так вот, запомните, в жизни не бывает историй, которые бы развивались стройно и разумно от начала до конца. Всегда откуда-нибудь появляются такие «зубы».
Ватсон смотрел в пол и выглядел неважно.
– Можно произвести еще множество разоблачений в том же роде, но к чему? Метод мой хорош только для книжных страниц. Там он выглядит убедительно, и не надо от него требовать больше, чем он может дать. И упаси вас боже переносить книжный опыт непосредственно в жизнь. Может получиться неловко, а может и страшно. Миру дела нет до стройности наших умозаключений.
Собеседник, оказывается, сдаваться не собирался.
– Но если додумать вашу мысль до конца, то получается, что мы ни о чем не можем судить, никогда не узнаем, что происходит на самом деле. Бог с ними с чувствами, но мы, выходит, не можем доверять и наукам. Как же мы умудряемся жить? Получается, я не могу быть уверен даже в завтрашнем восходе солнца!
– Но представьте, как вы обрадуетесь, если он все-таки случится.
Доктор вскочил, сделал круг по комнате. Второй раз за время разговора остановился перед дверью, как бы опять прикидывая, а не уйти ли ему отсюда. Но это была его комната.
– Можно привести множество опровержений вашего заявления.
– Приведите.
– Возьмем хотя бы вашу невесту, – роковым тоном произнес доктор.
Холмс слегка раздул ноздри.
– Зачем?
– Как вы думаете, могу я знать что-нибудь о ней?
– Смотря что. Вы ведь тут виделись. Мало ли что она вам сказала.
– Могу ли я знать о ней что-либо такое, что она хотела бы скрыть?
Сыщик весело покачал головой.
– Исключено.
– Между тем я могу утверждать, что она не англичанка.
– Верно, она не англичанка. Она русская. Ее фамилия Павлова. Елизавета Павлова. Подозреваю, что роман, который мы здесь разыгрываем, это русский роман.
За дверью послышались множественные, приближающиеся шаги. Холмс и Ватсон выжидающе поглядели на дверь. И оба сказали: «Войдите!», когда раздался стук. Ватсон в глубине души пожалел, что поспешил разрядить свой револьвер.
На пороге стоял Эвертон. За ним все братья Блэкклинер, Лестрейд и еще кто-то. Они все явно удивились, увидев Холмса. Он спросил твердым голосом:
– В чем дело, джентльмены?!
Из толпы выбрался инспектор, он почесывал переносицу и морщил лоб, и был при этом по-особенному официально серьезен. Он не играл в этот момент.
– Повесился привратник. То есть, сэр Оливер. Он оставил записку, из которой следует, что это он убил отца.
– Какого отца?! – прошипел Холмс.
– Под подушкой у него было обнаружено три тысячи фунтов. Его сиделка понятия не имеет, откуда они взялись. Она отлучалась в деревню.
Эпилог
Зима. Меж неплотно задернутых портьер видны жадно сыплющиеся снежные хлопья. Потрескивает огонь в камине. На диване, сложив на груди рукава атласного халата, лежит Шерлок Холмс и смотрит в потолок. Рядом на стуле, положив руки на шерстяные колени, сидит Ватсон. У правой ноги раскрытый саквояж.
Классическая сцена: визит врача.
Вошла миссис Холмс с подносом, на нем хрустальный графин и два стакана. Миссис Ватсон с грустной улыбкой ставит его на столик у изголовья кровати. И уходит.
Доктор тяжело вздыхает.
– Я понимаю, вы не можете не терзаться, но смею заметить, в этих терзаниях нет никакого толка. Вы не виноваты в этой смерти.
– Но зачем я оставил деньги у него под подушкой! Зачем?!
– Не терзайтесь. Кто мог представить, что сэр Оливер вообразит, что все происходящее происходит на самом деле!
– Деньги были толчком. Проснувшись и пересчитав их, он решил, что это как раз те три тысячи фунтов, что были украдены из кабинета несуществовавшего милорда. И что украдены именно им. А перед тем как украсть их, он убил их владельца. Таков был сюжетный ход романа. Он ведь почти наизусть выучил этот длиннющий русский роман. Он сроднился с ним, он был уверен, что живет в нем.
– Такое случается со слишком впечатлительными натурами.
– Знаете, как он называется? «Братья Карамазовы». Очень длинное, очень мрачное сочинение. Я еще могу себе представить, что этот роман поразил воображение моей русской супруги, но чтобы солидный, великовозрастный англичанин… Согласитесь, есть тут что-то странное. Он полностью олицетворил себя с отвратительнейшим, жалким персонажем по фамилии Смердяков.
– Яков Смерд?
– Да, мой друг, да, еще раз прошу меня простить. Это тоже выдумка Элизабет. Равно как и фамилия Блэкклинер. Этакий полунамек на русское название. Впрочем, сейчас легко говорить об этих филологических играх, а сэр Оливер, между тем мертв.
– Но вы же не могли знать, что он может так вжиться в чужую судьбу. Скажу больше, он был нездоров. Он все равно свел бы счеты с жизнью. Ваши деньги здесь ни при чем!
– Я всего лишь не хотел, чтобы господа актеры обнаружили их у меня раньше времени. Они были так озлоблены, что не остановились бы и перед самым вульгарным обыском. Да! Я хотел сначала убедиться, что с Элизабет все в порядке?
– Вы рассуждали вполне логично.
– Да! Но я мог отдать деньги вам!
– Меня тоже могли обыскать.
– Я мог засунуть за какую-нибудь картину, запихнуть между книгами. Почему я положил их ему под подушку?! Почему?!
Ватсон нахмурился и поглядел в свой саквояж, там лежал заранее снаряженный шприц.
Холмс, не глядя на него, усмехнулся.
– Не бойтесь, Ватсон, успокаивающее не понадобиться. Налейте лучше виски.
Доктор с удовольствием выполнил просьбу. Холмс приподнялся на локте и взял рюмку двумя пальцами.
– Представляю, как страдал наш старик. Ведь мне, представьте, стало известно, что отец сэра Оливера, Джон Уиллогби закончил жизнь при странных обстоятельствах. Существовало даже подозрение, что он был убит. Ходили слухи, что тут замешан кое-кто из родственников.
– Вот как?!
– Трудно что-то утверждать, но не исключено, что сэр Оливер жил все эти годы в атмосфере кошмарных семейных воспоминаний, и наша невинная забава послужила лишь катализатором его поступка.
– Вы хотите сказать, что на сердце сэра Оливера лежал старый, тяжкий грех?
Холмс задумчиво отхлебнул из бокала.
– Не думаю, что именно это я хочу сказать. Сэр Оливер подчинился требованию сюжета, в который уверовал. Меня занимает другое: почему я пошел на поводу у чужого замысла? Ведь только этим можно объяснить мою выходку с деньгами. Но ведь я к тому времени не читал романа!
– Да, я знаю, романов вы не читаете.
– Этот пришлось.
– Утверждают, Холмс, что это великое произведение.
– Но не до такой же степени!
Примечания
1
Бек (тюрк.) – господин, властитель; синоним арабского – эмир. Титул родоплеменной знати (феодалов-землевладельцев) в странах Средней Азии.
(обратно)2
Токлуг Тимур – существуют разночтения в имени хана Кашгара и одновременно властителя Чагатайского улуса. Так, в энциклопедии «Британика» его зовут Туглак Тимур. В романе мы оставляем авторскую транскрипцию имени хана как более правильную и соответствующую историческим документам.
(обратно)3
Мавераннахр – средневековое название страны, лежащей в междуречье Сырдарьи и Амударьи, с городами Самарканд, Бухара, Термез, Кеш (современное название последнего – Шахрисабз).
(обратно)4
Страна Чет – после смерти великого завоевателя – Потрясателя Вселенной – Чингисхана его обширная империя была разделена согласно завещанию между сыновьями. Части этой огромной империи стали называться улусами. Так, существовал в Волжских и Каспийских степях улус старшего сына Чингисхана Джучи – впоследствии Золотая Орда. Второму сыну – Чагатаю достались земли бывшего Хорезмского государства (ныне территории Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана), которые стали называться улусом Чагатая, или Страной Чет.
(обратно)5
Шейх (араб., букв. – старик) – титул правителей в арабских странах, глав религиозных мусульманских общин, старост деревень и селений в Средней Азии; в широком смысле – почтенный человек вообще.
(обратно)6
Дервиши – мусульманские монахи. Странствующие дервиши занимаются знахарством, гаданием, заклинаниями.
(обратно)7
Зикр (араб., букв. – созерцание) – ритуальное поминание Аллаха по особой формуле.
(обратно)8
Наиб (араб., букв, – заместитель) – помощник, представитель духовного лица.
(обратно)9
Фарасанг – персидская мера длины, около 5–6 километров.
(обратно)10
Дувал – глинобитный забор, окружающий городской или сельский дом в Средней Азии.
(обратно)11
Медресе – высшая мусульманская духовная школа.
(обратно)12
Тумен – воинский отряд у монголов численностью десять тысяч человек, а также область, земля, удел, входящий в состав более крупной административно-территориальной единицы и выставляющий такое количество воинов.
(обратно)13
Кумган – разновидность металлического кувшина с ручкой, носиком и крышкой для омовений.
(обратно)14
Зиндан – тюрьма.
(обратно)15
…по-чагатайски… – В основе чагатайского языка – древнеузбекский литературный язык.
(обратно)16
…по-фарсидски… – Фарсидский язык (от Фарси – область в Персии, современный Иран) – литературный персидский язык, сложившийся в Х веке.
(обратно)17
…компания шиитских дервишей. – Шииты и сунниты – мусульмане, приверженцы двух основных религиозных направлений в исламе. Сунниты наряду с Кораном признают «священное предание» – сунну. Шииты отвергают сунну и следуют другому «священному преданию» – ахбару, считая пророком Али – зятя Мухаммеда.
(обратно)18
Дирхем – старинная арабская серебряная монета, или белый дирхем, в отличие от черного – медного дирхема. В Средней Азии чеканились и золотые дирхемы.
(обратно)19
Дастархан – в широком смысле стол, пир, угощение.
(обратно)20
Хуталлян – местность в междуречье Вахша и Пянджа, ныне это Курган-Тюбинская и Кулябская области Таджикистана.
(обратно)21
Архалук – временное поселение пастухов овец, баранов.
(обратно)22
Касыда – песня, баллада, сказание.
(обратно)23
Дутар – среднеазиатский двухструнный музыкальный инструмент.
(обратно)24
Караван-сарай – гостиница (постоялый двор) для проезжих торговых людей на дорогах и в городах Востока, Средней Азии, Закавказья.
(обратно)25
Кади – судья.
(обратно)26
Табориты (первая половина XV в.) – вооруженные отряды крестьян и горожан, ведшие борьбу с феодалами. Название произошло от города Табор в Чехии.
(обратно)27
Али-бек Тшун-Гарбани в романе «Тимур», и Али-бек Джаны-Курбаны в романе «Тамерлан» – один и тот же человек. Разница в написании имени существует вследствие расхождения в этом вопросе первоисточников.
(обратно)28
Мераб – чиновник, управлявший в городе или по всей стране (верховный мераб) каким-либо хозяйством. В данном романе – управляющий всеми каналами, прудами в Чагатайском улусе.
(обратно)29
Щербет – фруктовый прохладительный напиток.
(обратно)30
Марабуты (араб.) – аскеты, готовившие себя к войне за веру. Жили в особых укреплениях – рибатах. В Средние века составляли объединения, подобные суфийским братствам. Марабуты стали основателями династии Аль-Маравидов в Северной Африке и Испании.
(обратно)31
Старец Горы – так называли вождя исмаилитов (религиозное течение у мусульман-шиитов) Хасана ибн ас-Саббаха. Исмаилиты захватили ряд крепостей в Иране и на Ближнем Востоке, и в самой неприступной из них – Аламут, построенной на вершине горы, обосновался ибн ас-Саббах. После его смерти в 1124 году его дело продолжили преемники, которые впоследствии объявили себя имамами и передавали власть уже по наследству. Против исмаилитов долго и безуспешно боролись самые различные государи мусульман, но их власть, основанная в основном на политическом терроре, продержалась до конца XIII века, когда монгольские властители разрушили последнюю крепость поборников веры Исмаила.
(обратно)32
Ассасины – мистический орден в среде мусульманства, существовавший в XI–XIII веках в горах Персии и Ливана. Это была организация, наводившая ужас производимыми ею политическими убийствами на весь средневековый мир от Запада до Востока. Во главе ее стоял шах-аль-джабаль (так называемый «Старец Горы»). Ассасины имели жесткую иерархическую систему. В Средние века был весьма популярен сюжет о том, как какой-нибудь европеец оказывался в гостях у шах-аль-джабаля, и подчиненные Старца горы, фидаины, по мановению руки своего господина безропотно прыгали в бездонную пропасть.
(обратно)33
Мытари – сборщики налогов.
(обратно)34
Муэдзины – служители мечетей (храмов), призывающие мусульман к молитве с вершины минарета.
(обратно)35
…висячих садов Семирамиды… – Имеется в виду одно из семи чудес света – «висячие сады» в Вавилоне, сооружение которых ошибочно приписывается ассирийской царице Семирамиде (IX в. до н. э.), – известны со времен Античности.
(обратно)36
Визирь (везир) – высший правительственный сановник в древних странах Востока и Средней Азии.
(обратно)37
Хазрет – государь, повелитель.
(обратно)38
Райаты – крестьяне в Средней Азии.
(обратно)39
Мелики – мелкопоместные землевладельцы, одна из низших ступеней сословной иерархической лестницы феодалов.
(обратно)40
Шаш – современный город Ташкент.
(обратно)41
…присылаемыми к ним даругами и баскаками… – Должностные лица: надзиратели за сборами податей и исполнением повелений хана; наместники с теми же функциями.
(обратно)42
Хиндуван – самостоятельное укрепление внутри города (цитадель).
(обратно)43
Сеид – почетный титул людей, считающих себя происходящими от основателя ислама Мухаммеда (Магомета). В странах Среднего Востока так часто называли представителей знати.
(обратно)44
Вилайет – родовое поместье, земельный удел.
(обратно)45
Султания – в Средние века город и крупнейший торговый центр на севере Иране.
(обратно)46
Хорезмшах – титул правящих властителей Хорезма, города и государства в Средние века.
(обратно)47
…четками первого халифа… – Четки – бусы, нанизанные на шнурок, применяются для отсчета молитв и поклонов. Халиф – в ряде стран мусульманского Востока титул верховного правителя, соединявшего духовную и светскую власть.
(обратно)48
Федаины (фидаины) – люди, жертвующие собой ради идеи, члены тайной религиозной организации.
(обратно)49
Гилянский шелк – шелк из Гиляна, иранского центра шелкоткачества.
(обратно)50
Див – злой дух.
(обратно)51
Кашмирский бисер – Кашмир – город и провинция в Индии.
(обратно)52
Синяя Орда – государство монголов.
(обратно)53
Газель – поэтическая форма небольшого лирического стихотворения в поэзии Средневековья в мусульманских странах Азии. Нередко исполнялась под музыкальный аккомпанемент.
(обратно)54
…священным камнем Кааба… – В храме в Мекке (Аравия) хранится в одном из святилищ «черный камень», особо почитаемый мусульманами.
(обратно)55
Акинак – короткий скифский меч.
(обратно)56
Намаз – обязательная молитва, совершаемая мусульманином пять раз в сутки – утром, в полдень, после полудня, вечером и поздно вечером.
(обратно)


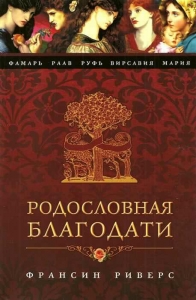

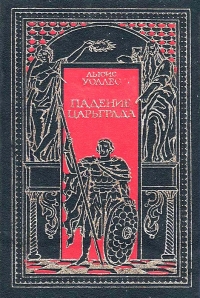

Комментарии к книге «Железный Хромец», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев