Ольга Ипатова ЗА МОРЕМ ХВАЛЫНСКИМ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
Перевод с белорусского Надежды НУЖКОВОЙ
Кузнец Томила перестал спать по ночам. Неудивительно — работал день за днем, отряду Брачислава и его воинам необходимо было новое оружие. К домницам — Томила поставил еще две новых невдалеке от кузницы — беспрестанно подвозили руду темно-красного или бурого цвета, — ее копали на Чертовом болоте и на задвинском лугу.
Глиняные домницы, еще теплые после плавки, торопливо загружались — деревянный уголь вперемешку с кусками руды. Перепачканные углем хлопцы кожаными мехами вдували в глиняные сопла — трубки внизу печи — сырой воздух. Горел уголь, плавилась руда. Потом помощники ломали печь, грузили на железные листы с деревянными ручками куски крицы[1] и тянули их в кузницу. Там Томила и хлопцы нагревали крицу в горне и до изнеможения били ее тяжелыми молотами — выжимали железо.
Железо! Рудая, мягкая земля обретала новые качества. Она становилась колючей дидой[2], что вопьется во вражеское тело; блестящей секирой, когда придет время, она станет красной от крови; кольчугой, что сбережет могучее тело воина. И Томила, помня об этом, никогда не брался за работу, не помолившись задымленному Перуну, что застывшими, широко расставленными глазами следил из божницы за каждым его движением. Томила не кричал на помощников, которые были не в состоянии так долго, как он, плющить горячую пористую крицу. Когда начинали они отдыхать, отдыхал и он, молчаливо глядя вокруг. Черное, с морщинами, как бы обозначенными сажей, лицо его было хмурым: с отрядом шел его старший сын. Думалось раньше — славный кузнец выйдет из Путяты, с детства любил тот крутиться в кузнице, пробуя слабыми еще, детскими ручонками поднимать над горячей крицей молот. А теперь вот молодца к горну пугой не загонишь. Что уж меч, да и тот сделал отец. Сделал, правда, на славу — с двух сторон заостренное лезо[3]— секи с какой пожелаешь руки! А ножны начала делать мать, да так и не закончила — принесла тайно дочь соседа-кожевенника Любава — и когда только меч измерила? И ахнули, дивясь, они с женой: такие были логны[4], что только князю впору, — по коже красными шерстяными нитями орел вышитый, по бокам цветы синие и желтые, зеленое тявье[5]. Не выдержало горячее сердце девичье — упала Любава в ноги жене кузнеца, начала плакать-рыдать: отправляется в дальний шлях ее Путята, забыл о ней и о своих горячих обещаниях, покидает без словца ласкового! А разве ж переубедишь бутрыма[6] этакого: логны взял, усмехнулся довольно и — прочь из хаты, снова к воиству своему!
Сжимается что-то в груди старого кузнеца: а что, если?.. Дородная девка Любава, здоровых внуков принесла бы им с женой — все утешение! Бирюльки делал бы для них из липы, коньки позднее, как подросли, выковал бы… Вот и младший, Алекса, пристает: сделай коньки, тата[7]!
Встрепенувшись, он закричал помощникам: не сделают ко времени, разговор короткий у князя — порты стянут молодые нахальные гридни[8] и… свети старыми костями, срамись перед всем светом, а потом сколько дней охай и прикладывай к писягам разваренное зелье!
Стучат дружно молоты: гах-гах-гах, — а перед глазами Томилы стоят неведомые пути-дороги, по которым пойдет его сын, и нет-нет да перегорит под молотом готовая уже железяка, а помощники молча выбросят ее из кузницы: наверное, понимают, что делается в душе уважаемого всеми мастера…
Десятский Ирвидуб женил младшего сына, восемнадцатилетнего Редьку. В просторном деревянном доме Ирвидуба все было готово к свадьбе. На дубовых столах дымились огромные, специального заказа глиняные мисы с большими кусками медвежатины и зубрины, а также мелкого тушения множество зайцев, гусей и уток в латушках[9] — местилось меж кувшинами с толокном, гладышами с липецем[10] и сытою[11]. Липец был сварен еще летом, настоялся, и от него в светлице пахло цветением, хоть за окнами стояло морозное, с серебряным инеем на деревьях утро. В сеннице[12] жрец, привезенный из древнего капища возле деревушки, надевал бордово-красный, украшенный синими шелковыми шнурами плащ, который только что подарил ему Ирвидуб. Рослый, молчаливый мужчина, жрец, одетый в чистую полотняную блузу и зребные[13] портки, двигался легко и неслышно, черные волосы его, разделенные посередине и перехваченные красной лентой, были смазаны, ноги обуты в кожаные постолы, легкие и удобные при ходьбе. Однако Ирвидуб настоял, дабы гость обул красные сафьяновые сапожки, и жрец с неудовольствием смотрел на дорогие подарки, размышляя, что ни дед, ни отец его никогда бы не пошли на то, чтобы заменить каноническое убранство. И все же приходилось считаться с обстоятельствами: жрец знал, какую душевную борьбу выдержал Ирвидуб, чтобы угодить и Брачиславу, окрестившему сына, и соблюсти обычай предков, кои женили своих детей, не зная не ведая ни о какой церкви. Посему хозяева ждали Брачислава трепетно — что там скажет князь?
— Едет, едет! — раздались тем временем живые крики из высокой светлицы, где сидел дозорный, и все — дворовые, челядь — засуетились, расстилая от крыльца по снегу сувой[14] красного полотна, и хозяин, прохваченный нервным потом, побежал навстречу князю, обминая вытоптанную тропинку с разостланным сувоем и проваливаясь в снегу.
Брачислав вошел в светлицу, с трудом переставляя распухшие ноги, и, сопя, долго усаживался в красном углу. Могучее, в последнее время сильно ожиревшее от неизвестной болезни тело его нависло над столом. Головой он едва не доставал до божницы, где рядом с каменной фигурой Ильи Угодника мирно соседствовала фигура Дажбога. Подле князя сел мальчик — длинноногий отрок с темными живыми глазами на худощавом лице. Высокий, немного выпуклый лоб, довольно большой, однако красиво вырезанный нос, тонкие губы, властный, смелый взгляд делали его похожим на орленка, который еще не оперился, однако готов ударить клювом каждого, кто протянет к нему руку. Голова у мальчика перевязана золотой широкой лентой. Это был княжич Всеслав. Отрок вопросительно глянул на отца, и, поймав его взгляд, Ирвидуб помахал рукой.
Посередине комнаты, меж столов, размещенных вдоль стен в виде прямоугольника, холопы поставили резной стол, накрыли его белой скатертью, вытканной руками невесты. Жрец в наброшенном плаще подошел к столу и поставил на него деревянную фигуру Волоса. Челядница подала ему большую свечку из желтого воска, в то время как вторая женщина клала на стол круглый бохан белого хлеба и берестяную солонку, наполненную солью. Запалив свечу, жрец прикрепил ее к бохану.
Подвели к столу молодых. Жрец, поморщившись (его уколола булавка-фибула, которой был застегнут на плече плащ), обратился к молодому:
— Желаешь ли ты взять в жены девушку Малину, что стоит перед тобой?
Редька, кряжистый, светловолосый, смущенный общим вниманием, хотел покрутить ухо, как всегда в минуту раздумий, однако, спохватившись, опустил руку и пробасил:
— Желаю.
Невеста, кругленькая, ладная, на вопрос жреца вспыхнула малиновым цветом и ответила едва слышно:
— Желаю.
После ритуальной клятвы в верности друг другу жрец перевязал руки молодых красным платочком и повел их, взявшись за платочек, вокруг стола. Три раза обошли они вокруг Волоса и каждый раз кланялись ему и целовали хлеб-соль, а потом низко, до земли, поклонились жрецу и всем присутствующим.
Высоким, слегка хрипловатым голосом жрец провозгласил:
— Я, служитель могучего Перуна, славного Волоса и ясного Купалы, отдаю девушку Малину в жены молодому Редьке. От сего времени и во веки веков пусть будут они мужем и женой!
Раскрасневшийся служитель Перуна отошел от молодых, и, едва только удалился за дверь, выдержка оставила его. Со злостью выругался и, отстегнув проклятую булавку, изранившую до крови все плечо, бросил ее в угол и направился в сенницу, где ему был приготовлен отдельный стол.
Молодые же стояли, ожидая второй части обряда. Ирвидуб, с облегчением вздохнув (на лице князя не было гнева), взял поданную ему икону святого Николая Угодника и благословил ею сына и невестку, а потом повел их, посадил в красном углу рядом с Брачиславом и его сыном и первый поднял глиняную, с зеленым отливом кварту с душистой и крепкой сытой.
Свадьба понемногу набирала силу. Брачислав расстегнул кафтан, лицо его покраснело, залоснилось. Миса перед ним наполнилась костями, челядница смела их в ондорак[15]. Всеслав лениво тыкал деревянной спицей в твердый гороховый кисель, поданный на десерт. Прижмурив глаза, он посмотрел на Редьку. Тот неохотно пил квас, синие глаза его помутнели от сытости. Сват, суетливый дружинник Зарянко, сторожил молодого, чтобы тот не пил крепкого, и хоть брал кварту за квартой, не пьянел.
День клонился к вечеру. Всеслав думал о том, что мальчишеская ватага давно ждет его на Полоте, на звонком льду, на котором так хорошо сейчас гойсать на коньках. Коньки были как не у всех ребят, однако его коньки вызывали всеобщую зависть, потому что были железные, а не деревянные, как у остальных, и, заостренные на точиле, несли они так быстро, что никому не удавалось обогнать Всеслава.
Наконец ему удалось выйти из-за стола, и, разминаясь, он выскочил на крыльцо и почти рысцой направился к Полоте. Двое молодых гридней, взятых из семей вятших людей Полоцка, коих приставили охранять княжича, поспешили за ним.
Подростки встретили их радостными криками. Они достраивали снежную крепость, но делали это без особого воодушевления — не было Всеслава, а значит, нет воеводы для той рати, которая будет защищать крепость. Нападающие уже выбрали воеводой Алексу, младшего сына кузнеца, он единственный мог соперничать с княжичем. Не раз, сцепившись, катались они по земле, пробуя каждый утвердить превосходство над соперником, однако победа доставалась то одному, то другому. Вытянувшийся для своих десяти лет, сын кузнеца был шире в плечах, однако княжич более верткий. Не однажды ссекал старый кузнец дзягой сына за то, что тот непочтительно лупил княжеского отпрыска, не один раз плакала мать над побитым в кровь Алексой. Допытывалась у чада и мать Всеслава, кто разукрасил его писягами, однако княжич вырывался из ее рук и молча прикладывал к лицу мокрые рушники. Брачислав же только посмеивался: «Пу-у-усть, пусть растет воин!»
Всеслав и сейчас не подошел к сопернику, тот сам окликнул его:
— Так что, покатаемся?
— Зачем? — пренебрежительно отказался Всеслав. — Все равно тебе не догнать. Нос разобьешь.
— Мне свою голову блюсти, а не тебе, — усмехнулся Алекса и достал из-под залатанной сермяги пару новеньких коньков, блеснувших железными боками.
Все дружно ойкнули. Известно было, что княжичу привезли коньки из далекой северной страны. Товар этот, не виданный в Полотчине, сначала вызвал в городе удивление, однако, увидев, как ловко скользит по льду княжеский сын, многие из вятших, да и из старой чади, заказали своим детям такие же, но сделать их брались только из дерева. Откуда же взялись железные коньки у Алексы?
— Я сам сделал, — гордо заявил Алекса. — Сам придумал отливку, крицу выбирал. А отец помогал клепать.
Хлопцы обступили его, дивясь. Всеслав почувствовал себя обиженным.
— Ну, начнем?
Он достал из карманов кожушка, окаймленного белыми узорами, свои коньки и быстро привязал их к ногам. Алекса сделал то же, и они вместе начали спускаться к Полоте.
Солнце село, но налился светом ветах[16], и Полота просматривалась далеко, до того самого места, где река делала поворот.
Парни стали поодаль, однако на одной линии, прочерченной гриднем. Когда он взмахнул рукой, оба они сорвались с места и понеслись по реке.
Ж-ж-ж! — в лад скрежетали по льду коньки, и звуки эти становились все тише. Соперники скрылись за поворотом.
Крепчал мороз. Звезды высыпали на небе, были они ясные, большие, а над алой полоской зари дрожала, переливалась самая большая — зеленоватая Чегирь[17]. Подростки хукали на закоченевшие руки, возились, чтобы не окоченеть.
Первыми встревожились гридни. Они переглянулись, и оба, как по команде, кинулись бежать к повороту. За ними молча подались остальные.
…Всеслав судорожно глотал воздух. Алекса не отставал от него ни на шаг, наоборот, он несколько раз обгонял княжича и вот наконец-таки вырвался вперед; постепенно расстояние между ними увеличивалось, и Всеслав вскоре понял — сын кузнеца победил его окончательно. Может, ослепленный бессильной злобой парень не заметил на своем пути проруби, едва затянутой свежим ледком. Он лишь почувствовал, как под ногами затрещало и их будто потянуло в бездну, его всего словно обожгло кипятком, и сразу же некая неведомая сила потащила вниз, а потом кинула вверх. Ударившись головой об лед, он не разумом, а скорее неким звериным чутьем понял — где-то близко должен быть выход из ледяного плена, и, уже задыхаясь, растопыренными руками шарил вверху, а вода тянула его дальше и дальше под лед…
Заслышав треск, Алекса оглянулся — и ужас сковал его ноги. Долгое мгновение он стоял, будто окаменев, а потом ринулся к полынье. Он подоспел в ту минуту, когда тонкая мальчишечья рука мелькнула в воздухе, схватилась за край ледяного выступа, но сразу соскользнула и исчезла в темной воде. Алекса не раздумывал: он бросился на лед, наклонился над прорубью. Снова показалась рука: Всеслав отчаянно боролся со смертью. Алекса изловчился и ухватил за руку Всеслава в тот миг, когда она так же беспомощно, как и перед этим, скользнула по гладкому льду. Всеслав, почувствовав помощь, отчаянно рванулся, голова его вынырнула на поверхность, и он наконец глотнул воздуха. Но от этого толчка не удержался Алекса: как и Всеслав, очутился в воде.
— Спасите! — закричал. — Спасите!
Единственным спасением, на которое он надеялся, были парни, которые должны ждать их. Он кричал что было сил, потому что чувствовал — их хватит ненадолго: Всеслав уцепился в его руку с дикой, исступленной силой, а та, которой он сам держался за шероховатый выступ, торчавший из гладко вырубленной ледяной стены, немела все сильнее и сильнее.
— Держитесь! А-а! — послышалось в ответ.
Гридни, а за ними мальчишки бежали к полынье. Однако Алекса уже не видел их, не чувствовал, как отдирали его руку от ледяного выступа, тащили обоих из полыньи, а потом несли в ближайшую хату и хозяева растирали их гусиным жиром.
Всеслав пришел в себя раньше. Удивленно вглядывался в незнакомых людей в незнакомой хате, потом спросил слабым голосом:
— Почему тут?
Ему рассказали. Когда дошли до того момента, что никак не могли расцепить его и Алексы руки, он с трудом усмехнулся побелевшими губами:
— Значит, быть тому…
Потом мальчишки лежали рядом на лаве, накрытые теплыми кожухами: светло-русый, коренастый сын кузнеца и темноволосый худощавый Всеслав. Впервые княжич не чувствовал к сопернику злости, наоборот — какое-то облегчение. Он слегка толкнул Алексу:
— Пойдешь в дружину ко мне, когда вырасту?
Алекса внимательно посмотрел в глаза Всеславу. Тот смотрел улыбаясь, однако дружелюбно, и парень понял — не шутит княжич. Он облизнул пересохшие губы и тоже толкнул в бок Всеслава:
— Согласен!
Хозяин радостно и немного завистливо шепнул жене:
— Повезло черной кости, станет она белою…
На что жена отозвалась, кутая Алексу:
— Ой, панская ласка тяжкая! — И добавила: — Будь, дитя, высоким, как дуб, крепким, как зуб!
Всеслав лежал притихший, сон медленно, будто ядовитое зелье, вливался в него. Было тепло и уютно, непривычно уютно среди незнакомых людей, в смердовой хате, где стены насквозь пропахли вкусным березовым дымом, как в бане, балки над головой черные, обросшие, будто мхом, сажей, пола же не было совсем. Вместо светлых, желтых досок здесь так же, как на потолке, чернела крепко утоптанная земля. Отрок повернулся к стене и заснул. Спокойно спал и Алекса. А тем временем, пока гонцы ехали за княжичем, и кузнец, и жена его были схвачены и приведены в княжеские хоромы, и там гневный Брачислав повелел гридням снять с виновных портки и исподнее и дать каждому по двадцать розог за «дерзость чада воспитуемого…».
* * *
Потянулись год за годом…
Вечером в трапезной, доедая кусок жареной щуки, княгиня сказала, будто мимоходом, обращаясь больше к тысяцкому Ирвидубу:
— Когда вернется — что же, бить ее, боярскую дочь?
Все притихли. Старший сын, Давид, глянул на отца, младшие княжичи навострили уши: было интересно, что станет с Нелюбой, внучкой уважаемого Ирвидуба, которую тот недавно привел к княгине, а она убежала с княжеского двора так же, как три последних года убегает с отцовского.
Ирвидуб залоснился потом, покрасневшие обвисшие щеки его задрожали, сошлись редкие седые брови.
— Самого епископа просил выгнать из нее беса, однако яко крепость та нечистая сила — самой княгини не убоялась! Стыдно мне — повелительница такую честь нам оказала, к себе нечестивую приблизила, а она… охти мне!
Малые грызли пряники и блаженно наблюдали за Ирвидубом. Брачислав заметил их острые любопытные глазки и глянул на боярина-огнищанина. Тот поднялся и с поклоном обратился к княжичам:
— Время в опочивальню…
— Тебе тоже время, — резко сказал Брачислав жене, и та, опустив глаза, поднялась из-за стола и вышла, будто выплыла, вслед за детьми.
— Моей бы так управлять, — про себя вздохнул Ирвидуб, проводив взглядом ее тонкий, высокий стан. Все, кто был в трапезной, склонились в поклоне.
— Спрашивал я у волхвов, не на их ли капища бегает, — с отчаянием сказал Ирвидуб. — Нет, нету ее там. Где беса тешит, позорит меня и род наш?
Брачислав слушал, запивая щуку острым, кислым квасом. Еще утром, узнав о побеге Нелюбы, мелькнула у него мысль-догадка.
По всему Полоцку шли пересуды того, как внучка Ирвидуба насмеялась над сватами. Сватался к Нелюбе не лишь бы кто: молодой Василек вел свой род от тех, кто пришел в Полоцк из-за моря еще с Рогволодом, отцом Рогнеды, и все знали, что со временем станет он едва ли не самым богатым в городе. Правда, одно не давалось Васильку — наука, и черноризец Михаил из монастыря при кафедральной церкви на верхнем замке исходил стонами, возвращаясь из огромных хором волочанина[18] Криворога, отца Василька. Однажды, когда Михаил охая спускался по узкой тропинке, на него, как мячик, из кустов дикого шиповника упала семилетняя дочь боярина Редьки. Бойкая девчушка в дорогой вышитой рубашечке, разорванной на боках, была без сознания: она сорвалась с камней старого замчища, куда взобралась без ничьей помощи. Михаил принес девчушку в монастырь, обмыл ее и напоил снадобьем и с того времени обрел новую ученицу. Нелюба приносила ему радость в той же степени, в какой доставлял огорчения Василек, и, чтобы пристрастить парня, к науке, не раз он показывал тому ровненькие шнурочки святарных[19] текстов, которые без единой ошибки выводила на восковых дощечках Нелюба.
Василек впервые увидел внучку полоцкого воеводы в церкви. Молитвенно сложив руки, черноволосая, краснощекая девушка шептала вслед за епископом псалом Давида, но и в руках ее, и в быстрых глазах было нечто вольное, диковатое, и облик ее бросался в глаза, пробуждая совсем не молитвенные мысли. «Сатанинское нечто в ней», — глядя на пунцовые, как вишни, губы, подумал парень — и вышел из церкви, не видя вокруг света.
Однако родители, с большим уважением встретившие сватов от Криворога, приняли великий позор: Нелюба расхохоталась, услышав о замужестве. Она смеялась долго, мстительно, а выскочив назад, в свою светлицу, расплакалась так, что не могли ее успокоить ни няньки, ни кормилица, ни сама испуганная мать.
С того времени она начала исчезать из дому. Приходила через несколько дней, вся в грязной, запачканной рубашке, с содранными ногтями, выходила к столу и жадно ела, не обращая внимания на упреки семьи. Отец попробовал побить ее и замкнуть в клеть — изогнулась, вылезла через окно, и не было ее аж две седмицы[20], так что мать с нянькой тайно от хозяина спустили в Полоту свежий каравай хлеба и на нем две зажженные свечи, — если втянул дочь водяной, пусть будет ей, речнице, легко! Однако она пришла — и тут взялся за отступницу дед. Ирвидуб повел ее к княгине, и молодая девушка, на зависть всем боярским семьям, стала жить в княжеском дворе. Но прошел месяц — и беглянка снова не удержалась.
— Убить ее, что ли? — жаловался Ирвидуб. — Аль она виновна, аль злая доля ее такая? Помнишь, господин, в какой день родилась?
Брачислав помнил — в тот самый день, когда судили волхвов, и событие это таинственно связывалось с жизнью внучки Ирвидуба. Он подбодрил старика:
— Даруй только Перун удачу, и помолись завтра в церкви, чтобы не было за эти дни дождя!
Ирвидуб удивленно посмотрел на князя; в его глазах засветилась надежда и вместе с тем — боязнь. Он медленно вышел из-за стола, поклонился и исчез в двери. Князь, забрав лучину, отправился к себе. Отрок двинулся было за ним, однако князь повел бровью, и тот испуганно отступил.
Пройдя сени, Брачислав услышал голос. Он остановился: говорила кормилица Нежата. Она, видимо, только что уложила спать его дочерей и рассказывала им о чем-то. Всеслав неслышно подошел к двери. Голос Нежаты, тихий, глубокий, дремотно растекался по опочивальне:
— Днепр-то брат нашей Двине. И еще одна сестра есть у него — Волгой прозывается. Сироты они втроем были, ходили-ходили по земле и все искали, где бы можно было разлиться великими реками. Что вы думаете? Нашли!.. Нашли и ночевать легли в болотах. Сестрицы были хитрее брата: как Днепро заснул, они тихонечко встали, заняли лучшие места и потекли себе. Встает утром брат, глянул вокруг — как бросится вдогонку! Злился-злился, курочил берега, а потом успокоился, дошел себе до моря. Правда, зато много у него омутов да истоков.
— А сестрицы? — подала сонный голос одна из княжен.
— А сестрицы разбежались в разные стороны, спасаясь от погони, и больше уже не встречаются, — ответила Нежата и хотела вскочить, увидев в дверях Брачислава.
Он кивнул головой и, передав ей лучину, встал над широкой спальной лавою, где, уткнувшись в перины, засыпали его дочери. Они открыли глаза и, узнав отца, потянулись к нему. Брачислав обеими руками обхватил девчушек, вдохнул их теплый, душистый запах и улыбнулся своей неожиданной нежности.
— А мы давайте сделаем, чтобы брат и сестра встретились, — шутливо предложил он дочерям.
— Давайте! Давайте! — захлопала в ладоши младшая.
— А как, папочка?
Но Брачислав уже вернулся к своему всегдашнему состоянию обеспокоенности.
— Потом подумаем!
Тихо опустил дочерей, поцеловав их на прощание, и, забрав лучину, пошел, дальше.
Мысли его вернулись к Нелюбе, и он вспомнил, как удивила его в прошлом году одна находка. В верховьях Полоты, за полдня ходьбы от Полоцка, увидел однажды князь странные ямы, а подойдя, узнал в тех ямах краски, которыми рисуют иконы, — желтую охру, красноватую умбру. Это не удивило бы, если бы в маленьком детском следочке, отчетливо отпечатавшемся в глине, не увидел кусок золотого шнура. Тогда он долго думал, кто эта женщина, что была тут, вдали от людей, и почему она занималась таким неженским делом, однако, когда пришла к ним Нелюба, он как-то заметил у нее на руке желтоватое пятно, похожее на увиденную глину на берегу Полоты. И вот сегодня, слушая жену, он мгновенно связал в одно все эти разрозненные события.
— Завтра конь чтоб был, — буркнул он холопу, подскочившему, чтобы раздеть князя, и, бросившись на твердую свою лаву, мгновенно заснул.
Назавтра он приказал сыну:
— Возьмешь оруженосца — и вдвоем девушку чтоб привезли!
— Почему я, отец? — возразил семнадцатилетний Всеслав. — Не мое дело с сумасшедшими возиться!
— Учись властвовать! Учись, глядя в глаза людям, отгадывать их самые тайные мысли! Сам реши, что с ней делать, а я — посмотрю!
Молодой княжич позвал с собой Алексу и гридней. Алекса был недоволен.
— Пошто не княжескими делами занимаешься? — Он со злостью дергал коня, ибо в тот день надеялся вволю пострелять из лука.
Всеслав дал ему побурчать, потому что Алекса — единственный, кого он считал равным себе, а иногда ставил его и повыше себя, по-доброму завидуя воинскому его мастерству. Высокий, крепкий, сын кузнеца будто бы врастал в седло и казался Всеславу похожим на могучего кентавра, которого он видел в книгах, правда, кентавра молодого и красивого. Длинные русые волосы пушились у Алексы на плечах, темные брови были густыми и придавали ему вид хмурый и дерзкий.
— Не одна по тебе будет сохнуть, молодец, да что-то ты свои стрелы любишь больше, — не однажды дразнили его женщины, однако Алекса лишь пренебрежительно хмыкал и переводил разговор на иное. И сейчас он делился с князем:
— Как поймать девку, за косу ее — и на площадь, и пугу рядом. Кто хочет, пусть перетянет…
— Боярскую дочь? — улыбнулся Всеслав.
— Пусть себе и боярскую…
— На площадь — и пугу рядом?
— А что ж — заслужила!
— Нет, — стал серьезным Всеслав. — Боярский позор прятать от простой чади нужно за семью печатями, так, чтобы никто и думать не отважился, будто людей сотворил бог равными. И бить их, боярских дочерей, не на площади, а в темном порубе[21], и так, чтобы на лице следов не было, дабы люди видели их недоступными и в золоте — на том княжеская власть держится…
— Так, так, конечно! — поднял голову Алекса. — Если кто-то убьет мою мать, то заплатит не виру[22], а так — слезы. А если эту… девку, то вон сколько золота с него возьмут — аж десять гривен!
Лицо Всеслава обрело печать суровости.
— Ты мне не возражай! Сам знаю, что делать. Ее отец тысячами таких, как твоя мать, владеет, и ежели он станет мне вопреки… Один он! А сколько таких еще есть! Опираясь на них же, их и понимать надобно.
— Супротив тебя не пойдут. Ты — из Рогнедова племени! Вече за тебя будет. И отец твой могуществен.
— Знаю. И ты знаешь, что он не вечен. А тогда — тогда без Ирвидуба, да Криворога, да других людей именитых, как супротив Киева один пойду?
— Криворог поможет! Когда все пути водные по Днепру полоцкими будут, он в десять раз богаче станет!
— Что ж! Живот[23] отдать есть за что, не то что именье…[24] Смоленск и Псков — древние земли кривичей. Если их свести в одно княжество — не слабее оно будет Киева, что нас вотчиной своей считает…
Всадники ехали уже по лесу, росшему по обеим берегам реки. Ясное небо теплой, ранней осени светилось у ног чистой синевой Полоты, деревья вокруг были еще зелеными, однако желтизна уже тронула их вершины. Плыли по ветру паутинки, неуловимым прикосновением время от времени мелькнув по раскрасневшимся лицам собеседников.
— Боровик! — обрадовался, как подросток, Алекса, увидев у могучей, стройной сосны темно-коричневую, совсем бархатную головку боровика. Он резво соскочил с коня, достал из сумки, прикрепленной к седлу, ножик и через минуту положил в сумку три крепких гриба.
— Зачем? — скривил губы Всеслав. — Накормят же тебя, как приедешь.
Алекса ничего не ответил: может, и сам не знал, зачем ему боровики. Но и дальше не переставал ощупывать глазами каждый куст, каждый холмик, что попадались по дороге.
Невдалеке от облюбованного им места Всеслав приказал привязать коней к толстой ольхе, и они пошли пешком, стараясь не особенно высовываться из-за деревьев.
Молодой князь улыбнулся по-мальчишески довольно, увидев под высоким, обрывистым берегом невысокую женскую фигуру в белой, уже запачканной рубашке и черной бархатной душегрейке. Женщина копалась в земле, время от времени клала что-то в блестящие глиняные горшочки, стоявшие рядом.
Увидев парней, выходящих из лесу, она вскрикнула и, узнав Всеслава, бросилась бежать. Алекса, мгновенно подогретый будто охотничьим азартом, ринулся вперед. Он свалился сверху прямо перед ней и, не давая опомниться, схватил за длинную косу, выбившуюся из-под повойника, потом потащил наверх. Девушка пробовала вырваться, но дружинник рукой зажал, как в тиски, обе ее ладошки, которыми она вознамерилась закрыть лицо. Увидев, что все пропало, беглянка гордо выпрямилась и почти приказала князю:
— Скажи холопу, чтоб отпустил меня!
Всеслав какое-то время, прищурив глаза, стоял перед ней, покачиваясь. Потом сказал властно:
— Веди, где твоя берлога. Сам найду — все разнесу!
Она, подумав, покорилась. Гневно сверкнув на Алексу черными глазами — тот взглянул на князя и выпустил ее, — она пошла вперед, с болезненной гримасой растирая руки.
Землянка с крышей из камыша пряталась среди елей. На лаве, вырезанной из земли, были настелены еловые ветки; поверху лежала овчина. Сквозь дыры в крыше виднелись загрунтованные доски — они лежали на полу. Здесь же были и горшки, шелуха от яиц. Пахло красками и деревом. На лавке, прислоненной к стене, стояла доска. Всеслав взял ее в руки, поднес к свету, падающему из открытых дверей. Алекса подошел ближе.
Отрок держал меч. Суровое, нахмуренное его лицо было просветленным и одновременно таинственно-задумчивым. Темно-синий хитон[25] с золотыми узорами покрывал широкие плечи. Ослепительно чистый алый восход полыхал за ним, отсветом ложась на светло-серое железо, на темные волосы, что вились надо лбом, на длинные могучие крылья, которые, казалось, вот-вот поднимут отрока в бескрайнюю небесную высь.
— О-о-о! — будто выдохнул наконец Всеслав. Лицо его разгорелось, серые глаза смотрели на доску с восхищением. — Кто это?
— Архангел Михаил. — Сложив руки на груди, Нелюба стояла у входа.
Всеслав раздумывал. Гордое семейство Ирвидуба ни за что не допустит такого позора: девушка — а рисует, будто некий ремесленник! Самим богом ей назначено рожать детей да ходить за мужем! Нелюба хорошо понимала это, потому и решила жить, вроде зверь, в глуши. Но, по всему, она от своего не отступится. Две силы столкнутся — и погибнет более слабая… Она и сейчас, исхудавшая, землистая, выдержит ли дальше собственное раздвоение?..
— Собирайся, — сказал он наконец. — Будем черта из тебя выгонять…
Она взглянула на него. С затаенной жалостью и грустью смотрел Всеслав: откуда падает на плечи таким вот молодым неожиданный и скорее ненужный им дар?
— Красиво! — сказал наконец.
Алекса удивлялся — почему княжич не наказывает непокорную? Отчего стоит перед иконой молча, думая о чем-то просветленном?
Он, Алекса, не такой. Он не станет преклоняться перед доской, пусть на ней нарисован сам архангел! Всем свое место. Этой избалованной боярыне — замуж надо, детей рожать. Только кто ее, испорченную бесом, возьмет?
По Полоцку поползли слухи: Всеслав-князь — сильнее епископа: именно будто бы он выгнал черта из внучки славного Ирвидуба. Правда, девушка время от времени уезжает от княгини, однако направляется всегда в селецкий монастырь. Там есть у нее келья, ключ от которой лишь у нее одной. Говорят еще, что, спасая душу свою, откупила Нелюба у византийских купцов несколько икон, равных которым нет даже в кафедральной церкви, и подарила она их монастырю.
Подслушал кто-то из челяди, как усердствовала княгиня, допытываясь у сына, какими чарами он вылечил девушку, и как смеялся старый князь, узнав истину. Купленный в Иерусалиме кусок дерева — будто бы из самого гроба господня — он приказал отдать Нелюбе, а успокоенная княгиня прямо до утра любовалась иконой, привезенной из монастыря. Сыну же и его оруженосцу подарил Брачислав по хитону, только у Алексы был плащ тот не из бархата, а из валяной шерсти, да и воротник из лисицы, а не из соболя.
И так не понял Алекса, почему и зачем позволили безумной девке рисовать иконы? И жалел ее, и презирал. Да у каждого своя судьба — ждала она и Алексу, подкарауливала, не спуская глаз…
Осенью был поход, а в том походе погиб его старший брат Путята. Поседела мать. Согнулся кузнец Томила.
Радовался отец, когда приходил домой Алекса.
— Единственный сын теперь ты у меня… — сказал однажды, и глаза заслезились. Повторил задумчиво: — Единственный… И тот в воях. Пусть бы землю обрабатывал. Или железо. Или глину. За что ж мне такое? — И упал на колени перед Сворогом: — За что?! Боже, за что ты караешь эту землю? Есть же, наверное, место, где нет войны, — как искать его?
— Отец, без войны мужи дряхлеют и становятся рыхлыми, как грибы-дождевики! — немного свысока начал успокаивать его Алекса.
Когда перед ним на колени упала мать, стал более серьезным:
— Что это вы?
Начал поднимать мать, а та, обнимая его ноги, просила:
— Ты же хоть береги себя… Пропадет наш род… Девки замуж выскочат — и все, лови их. — И добавила с неожиданной силой: — Женись ты, что ли?!
И снова снисходительно проговорил Алекса:
— Поход будет осенью, вот что!
И поспешил к выходу. Потому что редко, от случая к случаю, удавалось Алексе тайком от княжеских челядинов побывать на своей Водяной улице, у родителей. Каждый раз, когда видел свою хату, будто вросшую в землю, березу, которая тянулась ввысь у невысокого крыльца, видел у божницы почерневших от дыма Рода и рожениц, — щемило сердце.
— Отец, ты бы пол настелил или забор новый поднял, — не раз говорил он, отдавая старику серебряные и медные куны[26], которые копил на службе.
Щедрый был княжич, ничего не жалел для младших отроков; и все отдавал Алекса в семью. Но за это время почти ничего не изменилось в хате, только вместо желтых бычьих пузырей блестели в узеньких окошках слюдяные пластинки да стоял у полатей большой расписной сундук, где с каждым годом прибавлялось девичьих нарядов, украшений да полотенец — что делали сестры да покупали родители. Старый Томила надеялся теперь выдать дочек не за простых смердов, как-никак сын — отрок в княжеской дружине! А сестры, Радость и Ручеина, в последнее время вытянулись, как молодые тонкие деревца, и, будто деревца, налились сочной силой. «По четырнадцать весен — хоть бы не засиделись в девках!» — горевала мать. «Не засидятся! — успокаивал отец. — Не найдем богатого, найдем хоть и бедного, но своего. Когда есть деньги, то и кривую, и слепую возьмут. А наши же гладкие, будто телочки, а глазами так и стригут. Только б на каком игрище не умыкнули куда далеко».
Мать вздыхала. Она всегда как бы боялась чего-то, даже когда шла, то держалась поближе к стене и редко возражала в чем-то хозяину и детям. Она верила, что дочерям повезет в жизни, — недаром же когда на рожь гадали Радости, то кинулся петух не к воде, а к зерну, значит, будет у нее хозяин добрый, не пьяница. А у Ручеины будет муж богатый: во время гадания подошел петух к золотому перстню, а ведь как она боялась, что подойдет к медному — к нищему мужу было бы то!
Однако в пятый день после Великдня удалось Алексе выбраться домой с самого утра. Приехали сваты к Брачиславовой дочке, и большая суета началась в княжеском дворе. Старшая дружина готовилась к походу, но сначала устроят соревнования — кто лучше владеет луком и стрелами, кто сильнейший из воев[27]. Пусть глядят заморские гости, дивятся, что за богатыри живут здесь, на Полотчине. Позор, позор будет им, если не найдется кто помериться силой с Гостомыслом, любимым воем Брачислава! А младшие дружинники будут смотреть на все это издали. И потому, сунув старшему отроку беличью шкурку, чтобы не говорил ничего сотнику, подался Алекса домой, где молодой Ярила, празднуя начало сева, будет ездить по полям на белом коне и в белой рубашке. В позапрошлом году хотели выбрать Ярилой его сестру, да побоялся Алекса — узнают во дворе, не пожалеют прутьев! А хотелось же Ручеине почувствовать себя молодой богиней, которая в венке из весенних полевых цветов, с горстью колосьев ржи в руке празднует весну, принимая песни Ярилины, венки и хороводы. Однако осуждает церковь бесовские игрища, блудом называет и хороводы, и угощение брагой, и веселые игры. И все равно тянет Алексу на Ярилин праздник на Дивину горку, особенно в такой день, когда молодая несмелая зелень густо опушила деревья, небо синее-синее и высокое, прямо звенит его кристальная твердь, а ветерок ласково остужает лицо, разгоряченное ожиданием и ходьбой! Скинул Алекса кафтан и сапоги, босой пошел по сыроватой еще дороге, — пока никто не видит, хоть бы немного почувствовать ногами землю. Эх, лаптики бы сюда — мягкие, из ивовой коры, которые, кажется, сами мчат вперед, да где там — пальцами начнут показывать люди: мол, дружинник княжича, а обут как простая чадь! А сапоги что-то тесноваты стали, мозоли натирают, попросить же новые стесняется Алекса, а купить — как же к отцу без кун придешь?
На Дивиной горке, редко поросшей темно-зелеными сосенками, густо, как проса, насыпано народу. Белые вышитые сорочки, портки, венки — все пестрое, цветное, и все движется вокруг чего-то, что тяжело Алексе разглядеть издали. Но подошел ближе и разглядел: стоит на полянке белый конь, а рядом тонкая девичья фигура — верно, та, кому выпало в этом году быть Ярилой, тоже вся в белом, а на голове веночек из первых весенних цветов. Стоит девушка, примеряется — видно, непривычно ей с конем управляться, и тогда высокий русый юноша подхватил ее и мигом посадил на коня. И тут же заиграли гусли, загудели волынки и вслед за белым конем, которого вел под уздцы русый юноша, все двинулись вокруг горы, припевая, некоторые уже и пританцовывая. И Алекса пошел за ними, — нужно же посмотреть на Ярилу, вместе со всеми повеселиться в хороводе. Догнал он коня, который вез Ярилу, взглянул на нее. Беленькая головка с распущенными волосами, синие глаза… Личико бледное, почти детское. Видимо, и пошел бы себе дальше Алекса, однако оглянулась в тот момент девушка и улыбнулась — может, и не ему совсем, а людям, что были вокруг. Но улыбка словно осветила ее — блеснули белые зубки, милым, беспомощно девичьим повеяло на него, и он остановился, вроде ударило что-то в грудь, а потом… потом уже не сводил глаз с девушки, ловил каждое ее движение и венкам, которые бросали под ноги белому коню, завидовал. А потом, когда, объехав гору, вернулось шествие на старое место, под огромный дуб, и начала девушка-Ярила всем брагу хмельную подавать, — он среди первых протиснулся к ней, отведал браги, но не почувствовал вкуса. Зато почувствовал, принимая чашу, прикосновение ее тонких пальцев — и запылал весь. Когда отошел, хрипловато спросил у какой-то кабеты:
— Откуда девушка эта, чьего роду-племени?
— Вдовы Катунихи дочь Береза, — охотно ответила та, хитровато поглядывая на молодого дружинника. — Что, присушила уже? Не тебя первого, добрый молодец!
И засмеялась.
Вдова Катуниха? Напрягая память, вспомнил вдову и малышку, что бегала за ней. Неужели это она, измазанная, болезненная девчушка?
— Сватай, пока не поздно! — не унималась кабета. — А то наши хлопцы такие удальцы, что… не оглянешься — умыкнут в темные леса, в пущи глухие!
А народ, толпясь вокруг Ярилы-Березы, пел:
Весна-красна, Что ж ты нам принесла? Из пуньки сенцо Вынесла, вынесла. Из клети зерно Вымела, вымела…Белыми прозрачными полотнами тумана застлала окрестные ложбины теплая ночь. Вверху, сквозь марево легких облаков, едва уловимо переливались звезды, изредка срываясь с небесных своих гвоздиков, которыми крепко прибил их когда-то сам Перун. Однако старым становился Перун, побеждали его новые боги, и может, скоро придет конец света, и как же тогда будет с налаженным издавна порядком? Но так говаривали старые люди, а молодой гридь Алекса, стоящий у огромного, сложенного из столетних дубов гумна, об этом не думал. Сегодня выпадало ему дежурить около самого главного склада, где бережно было спрятано все, что может пригодиться для войска, — шлемы, щиты, мечи, копья, сабли, стрелы, ножи, топоры и множество другие железяк, которые жадно впиваются в слабое человеческое тело. Лежали там на огромных полках тонкие кольчужные сетки, которыми закрывают лицо лучники; лежали и кольчуги, кое-где иссеченные вражескими саблями; отдельно размещались хоругви, флаги, а также бубны и трубы — они поднимают дух утомленного битвой войска, вливают в жилы новые силы и отвагу. Часто раскрывались при князе Брачиславе ворота этого гумна, не сильно отдыхали от кровавых сечей брони, и кольчуги, и все иное, что лежало тут. И кони, которые тихо ржали в соседней конюшне, тоже не очень-то объедались в тиши отборным овсом. Знали и кони, и поводные, на которых ехали копейщики-всадники, и товарные, обозные, тянущие тяжелые возы, и сумные, на которых грузили сумы с припасами и добычей, — все они знали бездорожье, и лютую погоню, и запах походных костров… И припасы, громоздящиеся в кладовых-скотницах, и вина, томящиеся в погребах-брэтьяницах, — много всего было на большом Брачиславовом дворе! — все они были недавние, привезенные в этом году, и, видимо, в этом же году пойдут на нужды неутомимого войска.
Много богатства на княжеском подворье! Есть под клетью отдельная комната, туда как-то завел молодого оруженосца немного подвыпивший казначей. Ослепило Алексу увиденное, когда приподнял тот край сундука: потиры — чаши церковные, на которых сияют узоры из золотой и серебряной проволоки, карцы и братины с гравировками, чарки — из горного хрусталя, яшмы, сердолика, чаши с эмалевыми клеймами, ложки, складни — и всюду зеленеют, пунцовеют драгоценные камни, и сияние от всего этого прямо бьет в глаза, как крепкий дух от браги. Но восхищались глаза, а сердце было холодным, загорелось оно только от мечей и копий, висящих на стенах. Особенно поразил его меч с бронзовой рукоятью, — тонкий, синеватый, он, казалось, прямо пел, и какая-то спесивость была в нем, и нетерпение, и жестокость, будто мучился он здесь, в тесной комнате, рядом с грудами золота и серебра.
— Эх, мне бы его! — не удержался Алекса.
— Захотел! Это дамасский, и цена ему большая. Никто не знает, как сделать такой, от всего света секрет утаивают. Рассказывали только, что охлаждают его не в воде, а — поверишь ли? — в крови человеческой. Ради этого в живого человека вонзают оружие!
— Да ну! — не поверил сначала Алекса, а потом пригляделся и молча вглядывался в меч, пока не вытолкнул его из сокровищницы протрезвевший казначей.
Теперь Алекса, поправляя на плечах теплую овчину, думал о том мече, о сече, когда багряная кровь с безумной силой ударяет в голову и глаза, и что-то клокочет в груди — кипучее и неукротимое, и тело рвется вперед, а рука наливается силой, и тяжело вгрызается во врага острое оружие.
Воином он был, и в любой момент готов был нестись вперед, в неизвестность, рискуя, ища себе и князю славы. В последних битвах уже приметили его старые вой и с одобрением поглядывали, когда шел по двору — молодой, легкий, веселый. Сам князь Брачислав подарил ему недавно, как лучшему стрелку из молодых, целую серебряную гривну! Алекса отдал ее отцу, об одном просил — не тратить без нужды. Ту гривну на их улице почти все видели, а многие просили дотронуться до нее: говорят, прикосновение рук княжьих от всяких болезней вылечивает!
Про многое думал молодой воин, вспоминая битвы, дороги, где прошел или проехал на коне. Воинственный князь Брачислав, искал он себе подвигов, а всему княжеству — славы и выгоды, хотел, чтобы не изгоями чувствовали себя князья полоцкие, а могущественными владыками. Но сквозь все то, что виделось сейчас Алексе, властно пробивался молодой девичий облик со светлыми, как отбеленный лен, волосами, с тонкой шелковистой кожей, под которой горит, переливается румянец, с устами упругими и сочными, как спелые вишни. И дивно было Алексе — такая худая, нескладная девчушка приходила к ним с травами, такой несмелый голосок выговаривал: «Эта вот от лихорадки, от цинги, от чесотки, артрита…» — а сейчас… Не сама ли княжна сидела передо всеми на белом коне! Длинная шея, стан стройный, гордый, глаза большие сияют, будто синие таусиные каменья[28], привезенные из далекого Киева, каменья эти украшают мозаику в деревянной Софийской церкви, что над Двиной… И не скажешь, что она дочь бедной вдовы Катунихи — бедной, потому что не берет она ничего за свои лекарства, говорит, что это большой грех, а люди — они и рады. Пока болит, готовы портки с себя снять. А прошло — и прощай, Катуниха, мы тебя знать не знаем и ведать не ведаем! Ничего! Еще немного соберет он гривен да посватается к красавице. Как-никак не слабак он, а княжеский дружинник, не откажет ему вдова. Только по сердцу пришелся бы он девушке, потому что нельзя, чтобы соблазнилась она только богатством, — хотя и нет у него большого богатства, живут же они сейчас по сравнению с Катунихой зажиточно. Нельзя, чтобы пошла за него девушка без сердца, потому что жить, зная, что не отзовется она душою на твою ласку, не засияет у нее в глазах свет от твоего поцелуя, — тяжело. Грех это — жить без любви. Так говорили и жрецы, так говорили и в церкви, — а хлопец начал слушать всех, кто говорит о семейной жизни, о двоих. И как это случилось — сам не знает Алекса. Быстро пролетело дежурство для Алексы, потому что впервые изведал он сладость мечты, когда с молодой охотой складывает и тешится душа дивными узорами, сама связывает и развязывает их, не считаясь ни с жизнью, ни с обстоятельствами, а просто побеждая их или совсем не думая ни о судьбе, ни о дорогах, которые суждено пройти человеку и которые далеко уводят его от светлых юношеских желаний…
Утром, когда дед Белун[29] едва прогнал с неба темные тучи и из-за марева еще не показался краешек красного солнца, Алексу пришли проверять. Муж славный Бекша бесшумно крался меж строений, сараев и риг, но острый, как у рыси, глаз Алексы заметил — не человека, а только краешек тени, — и отозвался молодой дружинник суровым голосом, хоть, казалось, совсем закружили его непривычные мечты. И снова хвалил его перед князем Векша, и жизнь расстилалась перед Алексой белым, радостным полотном, и думал он о том, что нужно готовить вена или воцкае — выкуп за невесту. То ли в поход идти, то ли вослед за князем ехать на полюдье — хорошо, если есть кому ждать дома, и бросать дрова в очажок, и кормить доброго деда-домовика, который за это будет оберегать скотину от гнева Волоса, скотного бога, а дом — от Огневика, а богатство — от змея. Правда, говорят, что, если кто понравится змею, тот приносит в хату и куны, и хлеб, ржаные нивы заставляет родить много зерна, а коров — давать много молока. «Но пусть оберегает нас Род и роженицы, — думал Алекса, — не хотел бы я дружить со змеем, лучше поднять его на копье, как Георгий Победоносец. Еще бы славы мне добыть в битве — и все, чего больше нужно от жизни?»
В княжеской горнице было светло: по стенам щедро развешанные смоляки в серебряных зажимах, на столе — свечи из желтого воска, длинные, витые. И все это горит с тихим шипеньем, смоляки — время от времени будто взрываясь, и тогда все, кто сидит в горнице — князь в высоком кресле с костяной спинкой, остальные на лавках, покрытых красным бархатом, — оглядываются, какое-то мгновение бессмысленно смотрят, как трещит и вертится огненными искрами лучина, а потом снова переводят глаза на казачника, деда Мокшу.
Дед, в длинной посконной рубашке с красным узором возле шеи, с красной суконной повязкой на белых волосах, рассказывает свои сказки, в самых драматических моментах помогая себе длинными костлявыми руками, и его выцветшие, поблекшие глаза вспыхивают молодыми огоньками:
— Рассек добрый молодец шкуру высохшую, старую, и вышла оттуда королевна, да такая распрекрасная, что и слов нет. И обнял ее добрый молодец, а она ему говорит: «Любить тебя, Подвей-княжич, буду до самой смерти». Обнял тут ее Подвей-княжич крепко-крепко…
Княгиня Марфа и дочери слушают, не пропуская ни единого слова. Щеки их разгорелись, глаза полны умиления. Но Брачислав, только закончил дед Мокша сказку, недовольно прогудел:
— Ты лучше про битву нам старое предание расскажи, про предков наших, а то это как пряники сладкие, ими только молодицы балуются! Вишь, разобрало их!
Княгиня и дочери — ни слова, только глаза в землю опустили. А дед Мокша другие сказки завел. Про Рогволода и Владимира, которые три дня и три ночи здесь, у стен Полоцка, бились, и никто не мог победить, пока княгиня Ольга не пошла к старому капищу и там, вместе с дружинниками своими верными и волхвами, не принесла в дар Перуну хлопца да дивчину, а для того схватили их ночью, и одного и другую, чтобы крику не было и чтобы родители своими жертвами другим богам не отвели удачу от внука Ольгиного, Владимира. И только тогда победил Владимир Рогволода…
— Ты что это плетешь? Не могла Ольга такое сделать, святая она и веры православной! — снова загудел Брачислав, и ручки его кресла жалобно заскрипели под могучим телом.
Бояре и стольники переглянулись: Брачислав — потомок и Ольги, и Рогволода, не хочет он отдавать предпочтение никому из них. Свечник неслышно подошел к столу, переменил свечку.
— Хорошо, тогда я расскажу про великого воина Александра, или Искандера Двурогого, как называли его в дальних странах, которые он покорил своим мечом. — Дед смиренно склонил седую голову, низко, прямо костлявые руки дотронулись до свежих липовых лаптей, поклонился, начал свой сказ.
Княгиня и дочери сидели неподвижно. Глянешь на них — будто весенний луг увидишь. Платья из заморских тканей, вышитые жемчугом и обвешанные желтыми прозрачными камнями. На голове у княгини — венец, понизу с золотыми висюльками, спускающимися по вискам, а ленточка сзади вплетена в косу шелковая. Старые женщины по углам шептались, что очень уж большая щеголиха княгиня, любит носить платья из тафты черевчатой, из атласа. Но князь позволял жене многое — любил ее за красоту и ум.
Тихий весенний вечер смотрелся в окна горницы. Нечасто выпадало князю и его семье вот так тихо, по-семейному, провести вечер. Чаще возвращался он поздно, утомленный и грозный, с полюдья или с охоты, из далекого же похода не бывало его в Полоцке месяцами. А чаще вечерами гремели в гриднице[30] пиры, принимал он то гостей заморских, то бояр именитых, то с дружиной гулянку устраивал, потому что дружина — это то, что ближе детей и жены, потому что только на них, преданных воинов, вся надежда в тяжкий час битвы, они и жизнь спасают, и то, что дороже жизни, — князеву славу. Но не только во время пиров, когда ни единой женщины нет в гриднице и вино зеленое и медовуха вволю туманят буйные головы, бывают в княжеском доме вещие старцы, которые умеют петь про славу Боянову и на тонких струнах гуслей выводить старые песни про подвиги молодецкие; приходят в терем и смиренные монахи, которые читают в огромных, окованных железом и серебром книгах про подвиги Симеона-столпника, Февронии Блаженной и других святых угодников. Крепко задумаются мужи именитые, примолкнут… однако потому только, что затронет их одна дума — о душе, о муках ее вечных после смерти, о загадках, которые никому из смертных не разгадать… Но уйдет монах, тихо отчитав божественное, а назавтра снова до самой полночи горят лучины в гриднице, и только успевают носить молодые стольники из погребов чаши да бочки, наливать гляки да кумганы[31] с квасом, и гремит слово застольное, и про битвы былые и будущие говорят дружинники, гридни и другие люди именитые. Рассказывают седые воины о походах, о заговорах, что шепчут над ними вещуньи, когда отправляются мужчины в далекую дорогу, а молодые слушают, и горячие их руки вслед за старшими будто сжимают боевые мечи. Дело воина — поход и битва, и нет ему песни милее, чем завывание ветра в шлемах врагов, раскиданных на кровавом поле сечи…
— Покорил Александр под свою власть земные царства, — голос деда Мокши наполняет все уголки горницы, — и потом зашел на край света и увидел там такие народы, что сам ужаснулся: свирепее лютых зверей и едят живых людей. У одного только один глаз, и то на лбу, а у другого и по три глаза. У одного только одна нога, а у другого три, и бегают они так быстро, как летит из лука стрела. Имена этих народов были Гоги и Магоги. Начал воевать с ними Александр: дивные те народы не устояли и бросились от него бежать. Он за ними гнал-гнал и загнал их в такие глухие места, горы и пустыни, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Свел над ними одну гору с другой сводом, поставил на тот свод трубы и пошел назад. Подуют буйные ветры в те трубы, поднимется страшный вой, а народы кричат: «О, это же, видимо, сам Александр! Жив он, жив!» Эти Гоги и Магоги до сих пор живы и боятся царя, а выйдут из гор перед самым концом света…
— Ох, несчастье какое! — вздохнул старый ключник Лоб Вязовый. — Нам еще тех Гогов и Магогов не хватает!
Алекса и другие отроки из младшей дружины собрались под дверью горницы, чтобы послушать сказки и песни старого деда Мокши. Славно рассказывает он — никогда не забудет вспомнить о славе предков, заселивших болотистую, нелегкую эту землю, защищая ее от врагов, не жалея жизней, поливая красной рудой — кровью. И сколько богатырей могучих во время битвы, сколько красавиц и дедов старых приняла она в себя — тогда, когда гнали их по дорогам захватчики, чтобы продать в далеких краях как невольников! А теперь вот про Гогов и Магогов рассказал, — а сколько еще чудес есть на свете, неизведанных, непознанных!
Стоял Алекса под дверью, и сердце его билось. Эх, увидеть бы их живыми, дивных тех людей с тремя глазами, попробовать на них меч острый! Правда, не заговоренный у него еще меч, однако, прежде чем идти против тех далеких чародеев, пусть бы полежал он в отваре плакун-травы. Собранная на Иванов день, покоряет она нечистую силу, спасает от дьявольского искушения. А еще нужно взять с собой одолень-траву — без нее никто не отправляется в чужую землю. И помолиться нужно Перуну и богине Громовнице. Конечно, лучше бы меч-кладенец, да только попробуй найди то место в океан-море, где на Латырь-камне лежит, закованный семью цепями, тот волшебный меч…
— Эй, малый! Заснул ты, что ли? — окликнул Алексу Лоб Вязовый.
Очнулся хлопец — один стоит он невдалеке от дверей, все вышли из комнаты, только в горнице князь и княгиня и челядинцы не расходятся: у младшей княжны начались колики в груди, вздохнуть не может. Может, сглазил кто ее, может, подумал недоброе, глядя на красоту девичью. Послали за ученым греком — много он знал; бывало, тоже читал из большой книги про подвиги богатырей, и книгу ту несли за ним два молодца, потому что была она заключена в две дубовые доски, а по доскам шло серебряное литье, по литью этому еще сияли драгоценные камни. Но не очень слушал то чтение Алекса, хоть и говорили в горнице, что написал книгу ученый грек, Георгий Амартол: невыразительно, сухо читал лекарь, и на лице его была написана скука, будто совершал он великую милость, что вообще соглашался что-то объяснять окружающим варварам. Невзлюбили его все во дворе, но был он под защитой самого князя, и потому при встрече низко кланялись Лисистрату, а за глаза называли его Лисицей и Тхорем.
И теперь, быстро идя в княжескую горницу, надменно оттолкнул он, даже не взглянув, Алексу, который не успел посторониться. Толкнул — и пошел себе дальше, только прошелестел по желтым половицам его белый шерстяной, с коричневой каймой плащ странного покроя, и после Лисистрата остался запах непривычный, не похожий ни на что знакомое, — будто прогретая кора дуба, только более горькая и душистая.
Отошел Алекса под незлобивый смех Лба Вязового, потер плечо, еще раз глянул вослед греку, уже закрывающему дверь горницы, услышал плач младшей княжны — и что-то пронзило его, недоброе, болезненное, как будто по сердцу ударил высокомерный грек. А может, просто стало обидно, что нельзя отплатить ему ни вызовом биться на мечах, ни кулаком добрым — так, чтобы летел он, сбитый с ног одним ударом, и белый плащ с этой извилистой каймой вслед за ним!
А через некоторое время пришел однажды в дом князя арабский купец Абдурахманбек. Две недели прожил он в Полоцке, и уже немало добра из привезенного им перешло во двор самого князя и бояр именитых — и парчи, и бархата, и кисеи, и тонкой китайской посуды — белой и зеленоватой, и серебристых подносов с извилистыми узорами. Кроме того, привозил купец Абдурахманбек в Полоцкое княжество и совсем удивительные товары — зеленую глину, которая мгновенно снимала с тела волосы, и пахучую землю, которой моются в банях, и розовое масло, от которого делается легким дыхание и улучшается работа желудка, и варенные в меде орехи, и многое другое, что так любят женщины. Издавна знал Брачислав веселого толстяка, падкого до медовухи, небольшого роста, который всегда катится как шар. Парчовый халат на нем разноцветным платком перевязан, на голове длинный белый платок, завязанный концами вверх и на голову накрученный, на ногах — туфли с носами, загибающимися кверху. Всегда около себя толмача держит, однако и сам товар может показать, и так показать, что мгновенно понимают его покупатели. Только вот цены за свои товары просит очень уж высокие. Морщатся купцы именитые, бояре да сам казначей княжеский — но как же женщинам отказать, так и разгораются у них глаза на товары неведомые. Да и на сладкие речи торговца очень они падки. Готовы днями слушать его рассказы: как он по могучему Днепру свой корабль ведет, как с разбойниками сражается. Рассказывает иногда Абдурахманбек и совсем невероятное: будто там, где он живет, женщина никогда на глаза мужчине не показывается иначе, как лицо черной сеткой закрыв, а знатные женщины и вообще со двора не выходят, а живут свой век, только мужа видя. А жен у мужа бывает помногу, столько, сколько он содержать может.
— Ну так и сколько же он прокормит? — охают, слушая это, какая-нибудь боярская дочка и ее няньки.
— У великого шаха Хорезма более шестисот жен и наложниц, — ответит весело толстяк, жадно глядя на личико, как роза выглядывающее из-под серебряного обручика. — Есть старшие, есть более молодые жены, такие, как ты, ханум[32].
— Так он же, наверное, старый? — наивно раскрывает глазки ханум…
— Какой же он старый? Пять десятков всего насчитал. Как раз тот возраст, когда мужчина по-настоящему красоту ценит, вот такую, как у тебя, ханум…
Покраснеет девушка или молодая женщина, но личико так и светится: очень любит каждая из них сладкие, как мед, слова! Только мужчины недовольно морщатся: знают, что купец теперь семь шкур начнет сдирать.
Давно не был в княжестве Полоцком Абдурахманбек, однако за эти годы будто и не изменился, только потолстел еще больше. И когда пришел он во двор, сразу привели его к Брачиславу.
— Салям алейкум! — поклонился купец во все стороны, и ответил ему Брачислав, не ожидая, пока переведет толмач:
— День добрый, день добрый, Абдурахманбек!
И — подождал немного. Знал — теперь начнет купец спрашивать, здоров ли он, хорошо ли себя чувствует, какие новости в доме. Хотя, конечно, все знал хитрый Абдурахманбек, но так делать требует его обычай. Только самый последний невежда сразу начнет с торга, не спросив хозяина, как дела, не показав ему, что интересуют гостя все его заботы. Поэтому князь терпеливо ответил на все расспросы и тут же сам поинтересовался:
— Неужели ты не боишься таких далеких дорог?
— Господин мой, — склонился в поклоне Абдурахманбек, — конечно, боюсь. Однако…
— Много прибыли, правда?
— Нет, не так много. Мы торгуем едва не в убыток себе, поверь…
— Не говори! — махнул рукой Брачислав. — Если бы не было прибыли, не загнать бы вас так далеко!
— Ну, пусть себе есть, но самая маленькая…
— Я не хочу подсчитывать, сколько ты имеешь, поверь! — Брачислав пренебрежительно скривился. — Меня интересует, что ты привез нам теперь.
«Ну что за варвар, — думал, склоняясь в низком поклоне, Абдурахманбек. — Не понимает наслаждения долгой, неторопливой беседой, когда слова служат, чтобы ласкать слух и окутывать нас в джалабу[33] мудрости, чтобы мы, бедные люди, не чувствовали дыхания бархута[34], куда в конце концов отправятся души многих из нас… Однако же он настоящий Джалут-Голиаф… Ничего, нужно потерпеть. Может, это поможет мне в деле…»
А назавтра княгиня и дочери отправились на купеческий струг[35], чтобы посмотреть товары, а заодно и чудеса, которыми был полон тот струг, — чужеземная посуда, ткани — ими обтянуты меленькие, едва над землей, оттоманки, — толстые одеяла, на которых сидят из тех земель люди, вместо того чтобы, как это водится у всех других народов, сидеть на креслах, чтобы не продуло…
А возвращаясь со струга, оступилась княгиня на лестнице, проложенной между стругом и пристанью, и тяжело упала в воду. И почти тут же большая волна — не иначе подослал ее нечистик! — всколыхнула струг, и он бы, наверное, раздавил княгиню, если бы не бросился вслед за ней купец — в том, в чем стоял, и не уперся толстыми, жилистыми руками — одной в пристань, а другой в струг, не удержал его на те несколько минут, когда посыпались в воду дружинники и стража…
Белую, как мука, без чувств княгиню вытащили и тут же, положив на носилки, рысцой понесли в терем, а впереди бежал отрок, чтобы предупредить лекаря. Купец же сам вылез на берег, тяжело кряхтя, а окровавленные его руки слуги тут же помазали желтой мазью, которую купец, как и оружие, всегда возил с собой.
Назавтра Абдурахманбек был зван на торжественный прием к полоцкому князю.
Низко поклонился ему князь Брачислав, посадил рядом с собой. Расспрашивал про дом и жизнь, про незнакомые земли, откуда приехал купец. Благодарил за помощь и удивлялся, откуда у него взялась такая сила, чтобы остановить струг.
— На помощь мне, я думаю, пришел мудрый Джирджис, — кланяясь, отвечал Абдурахманбек и начал тихо бормотать что-то.
Толмач объяснил:
— Джирджис — это Георгий Победоносец. И еще славный бек молится, чтобы пришли на помощь мудрый Георгий и Джибрил, или, как говорят арабы, Рух-ал-Кудс, потому что они очень часто помогают ему…
Епископ, стоящий около Брачислава, насторожился:
— Чтобы не было какой беды… Хорошо, что зовет купец на помощь святого Георгия, но другой, как там его… Джибрил? Не злой ли это дух?
— У вас Руха-ал-Кудса называют святым Гавриилом. — Толмач взглядом поискал иконы.
— Что же это — у них те же святые, что и у нас. А мы же их нечистыми считаем? — обратился Брачислав к епископу.
— Зато у нас говорят про вас — неверные, — не выдержал толмач. — А я так думаю, что все люди пошли от Кабила и Хабила, или Каина и Авеля по-вашему, и разница только в том, что живут они в разных местах, оттого и обычаи стали разные…
— Я попрошу еще о помощи и Биби-фатиму и Амоарону — обе они помогают женщинам. Пусть жена хакана[36] быстрее выздоравливает.
И сидел Абдурахманбек на пиру, и много ел, одно только не мог взять — маринованных грибов, которые назвал, охмелев, скользкими, как пиявки. Удивлялись люди полоцкие тому, но ужаснулись, когда сказал купец, что у себя дома угостит он гостей глазами барана, варенными в молоке.
— В каждой земле свои обычаи, — сказал князь сурово.
Все примолкли. И долго еще — через толмача — рассказывал перс о далеких землях, откуда приехал.
Маленькая Гордислава смотрела большими испуганными глазами на смуглое широкое лицо с черной бородой, на пухлый палец и на удивительный камень. Не знала она, а об этом тоже рассказал потом Абдурахман, что делал перстень великий мастер, думая о недоступной ему девушке, и заклял камень-гранат словами поэта Абу Ахмеда Мансура ибн Мухаммеда, судьи города Герата, который умер от любви: «Как ты привлекла мое сердце, так не смог бы привлечь гранат соломину». Владеет гранат таинственной силой притягивать к себе предметы и также притягивать сердце возлюбленной. Но не хватило у ювелира денег на калым, и женился он только в зрелые годы — на другой. А перстень, который он сделал для возлюбленной, пошел гулять по свету, и вот он на руке Абдурахмана, а до этого сиял своим таинственным светом под иным солнцем, перед другими глазами…
А в конце пира сказал Брачислав:
— Одарю тебя щедро за мою княгиню!
И принесли в палаты богатства великие: медвежьи, волчьи и беличьи шкурки, и соболей, и острое оружие. Но Абдурахманбек отказался и попросил одного — молодую девушку, которая недавно представляла на празднике молодого славянского бога — Ярилу.
— Кто это? — зашептались вокруг.
— Дочь вдовы Катунихи, — ответил Абдурахман.
Не открыл он князю, что был на поганом празднике, где высмотрел красивую славянку с просветленным лицом и синими глазами — синими, как бадахшанский лазурит. Возгорелось в нем сердце. Знал купец толк в женщинах, а перед ним была жемчужина, которая стоила гарема самого султана! Дорого можно было и продать ее, когда надоест. Однако не удалось ему купить девушку.
Хоть и бедная была вдова, продать дочь наотрез отказалась и еще в придачу опозорила гостей — грязным веником выгнала из хаты Абрудахманбека и его толмача, ибо были они настойчивы и ни за что не хотели уходить просто так, не договорившись, не купив. А как же иначе взять красавицу? Обвенчаться с ней не мог купец, ибо, если бы стало известно, что хоть на мгновение отдал он душу неверным, пошел в церковь, отказался от воли Аллаха и пророка его — Мухаммеда, не жить бы ему в своем уютном, большущем доме с садиком, где весной так сказочно красиво цветут персики и абрикосы, а многочисленная свита прислужниц готова исполнить малейшее его желание… Торговать с неверными можно, однако каждый раз, приехав от них, нужно идти к мулле, чтобы наложил он очистительные обряды и хорошо замолил грехи. А здесь муллы — нет. Да и есть у него уже четыре жены и несколько наложниц. Просил он, низко кланяясь, отдать ему ту девушку.
Брачислав поколебался немного, однако согласился послать к Катунихе людей с наказом — купить девушку для него, князя Брачислава.
Поколебался, ибо хоть и теперь еще ездили и в Киев, и в Новгород, и в Полоцк «девки купити» и свейские купцы, и купцы из Дони (Дании), из земель мусульманских и сами купцы полоцкие отвозили еще, вместе с мехами соболей и куниц, в булгарскую столицу на Итили (Волге) девушек из окрестных земель, — делали это уже тайно: епископ киевский и полоцкий и священники в своих проповедях гневно сопротивлялись поганому обычаю, учили, что есть у всякого существа живая душа и никому не дано распоряжаться ею, кроме господина земного — князя да владыки небесного. Навряд ли удалось бы теперь Абдурахману взять какую-нибудь девушку боярскую или дочерей людей именитых или старцев городских — не стал бы Брачислав обижать так своих людей, хоть властвовал в Полоцке много лет самовластно. Но как отказать гостю, который спас жену, если хочется ему простую девушку, дочь бедной вдовы? А между тем вдова эта, хотя и была бедной, не имела нигде долгов, не занимала ни кун, ни другого имущества, и нельзя было продать ее в рабство за долг, как делали это повсюду со своими непокорными людьми бояре и тысячные. Зато за позор должна будет заплатить Катуниха гостю заморскому гривну серебром. И с тем наказом помчался на Водяную улицу посадник Лось, а через некоторое время привез он девушку, всю в разодранной рубашке и с распущенными волосами, ибо вдова Катуниха не только не отдала посаднику гривну, но обозвала его всякими словами и плюнула в лицо, а девушка вырывалась от него и не желала слушать никаких приказов, хоть и послал за ней сам великий князь. Крепко разгневался Брачислав, приказал, чтобы высекли хорошо вдову, однако ответил ему посадник, что все это уже сделано и теперь сидит она в погребе княжеском, как рабыня, а имущество ее скудное все забрано в казну как плата за позор купца чужеземного. Хотел князь учинить добрую науку и дочери вдовы, но ждал обрадованный Абдурахманбек, и потому было приказано только как следует отмыть ее и одеть в хорошую одежду, и когда зашла красавица в горницу, все застыли и позавидовали-таки купцу, высмотревшему ее — и где, на Дивиной горке, куда ходят люди черные, простые!
Поздно вернулся с полюдья молодой князь Всеслав с младшей своею дружиной. Пока мылись в бане, оставив банщику метлу, воду да черную курицу в жертву, чтобы не пугал потом слабых духом, пока пили квас да садились в сеннице ужинать — один за другим погасли желтые, тусклые огоньки в полоцких хатах и дворах. Со смехом, шутя, садились потные, раскрасневшиеся гридни за ужин, с молодой жадностью оглядывали стол, где лежали на большущих деревянных тарелках куски свеженины и рыбы, поджаренной, пока дружинники мылись в бане, белые треугольники сыра, моченый горох, коричневые караваи хлеба, булки, смазанные перед выпечкой яйцом — так блестели их желтые бока. А между тарелками стояли разноцветные, расписанные киноварью, шафраном или сажей деревянные сосуды с квасом, пенилась брага, остро пахнущая медом и душистыми травами, и пустые желтые братины с резаными ручками стояли вдоль столов.
Тогда и наклонился над Алексой стольник Никита и сказал тихо:
— Не твою ли это красавицу вчера купцу басурманскому отдали?
— Что? — не понял сразу Алекса, однако все похолодело у него внутри, и как черная молния в глазах вспыхнула.
— Говорю тебе — твою, видимо, девку отдал вчера князь как плату за спасение жены. Неужто ничего не знаешь?
А когда Алекса отрицательно махнул головой, тихо прибавил:
— Потом расскажу, а то вон, видишь, невтерпеж им!
И правда, несколько гридней кричали, требуя питья, и стольник, быстренько поставив на стол бочонок, побежал за другим.
Алекса же весь ужин просидел, не трогая ничего из еды, только пил и пил одну за другой бражницы прохладного кваса. А после ужина, когда услышал, как все случилось, пошатнулся, сел на лаву, обхватил голову руками.
— Где она? — глухо спросил у стольника, крепко сжав его руку.
Тот, стоя напротив, поправил рукав синего суконного кафтана, тряхнул длинными русыми кудрями:
— Братец ты мой, зачем тебе это знать? Для тебя все равно, что тот купец, что Карачун[37] забрал ее.
— Где она, говорю?! — закричал хлопец и, вскочив, двумя руками схватил стольника за плечи. — Говори, а то сразу дух вон!
— Не реви, бык ты, — злобно ощерился Никита. — Добра человеку хочешь, а он вон тебе — новый кафтан чуть не порвал. Ну, скажу я, так что из этого? На том подворье она, что около самого вымола. Корабль готовят, завтра тот Абдурахман уезжает. Куда ты?! — закричал он уже в спину Алексе. — Тебя же все равно не выпустят ночью, шалопут ты бешеный!
Однако Алекса уже выскользнул за дверь, побежал по двору, хватая ртом остывший к ночи воздух. Но не успел он одолеть нескольких сот метров, как услышал голос начальника караула Одинца:
— Эй, кто там? Стой!
Алекса остановился, караульные приблизились к нему.
— Ты это, хлопец? — удивленно сказал Одинец. — Чего и куда летишь сломя голову?
— Мать… мать у меня… заболела… — едва выжал из себя Алекса. Что-то душило его, не давало сказать слова, но говорить нужно было, нужно было просить, чтобы выпустили его отсюда, ибо иначе… Иначе он бросится вперед и разобьет себе голову об острые концы ограды, окованные железом.
— Мать? — еще больше удивился Одинец. — Кто же тебе сказал об этом? Никто сюда не входил из чужих, мы ничего не знаем.
— Кто? — растерянно переспросил Алекса, пробуя сообразить, что ответить. Не был готов он к вопросам, вообще не был готов с кем-нибудь говорить. Одна мысль нестерпимо колола его, сверлила сердце: «Скорее! Туда, пока не поздно! Пока не поздно!»
— Э-э, отрок, что-то ты путаешь, — недоверчиво протянул Одинец, и второй караульный согласно кивнул головой. — Что-то тут не так. А я вот сейчас задержу тебя и назад отведу. А то ты, может, злодейство какое во дворе совершил. Вон у тебя глаза как бегают и лицо побелело…
Он близко поднес смоляк к лицу Алексы.
— Нет! Я не делал… никакого злодейства… Мне нужно, нужно выйти, понимаете? Нужно!
— Нет, дорогой, никуда ты не выйдешь, а пойдешь с нами назад. Если ни в чем не повинен — посидишь немного, остынешь. Может, задумал что-то недоброе. Пойдем!
Он поправил меч в ножнах, подтолкнул Алексу.
— Пошли!
Все было кончено. Его не выпустили, отводят назад, а завтра с самого утра корабль распустит белые паруса и понесет куда-то в неведомую даль на муки, может, на смерть — Ее… Он как-то видел купца, и мысль, что сегодня она там, может, в объятиях этого лоснящегося, чернобородого толстяка, вызывала в нем жгучую боль. И бешенство. Он, воин, умеющий владеть оружием лучше многих, он, кто не раз бился в кровавых сечах, не может защитить то, что ему стало — теперь он понял это! — дороже жизни! Какой же он воин? Какой он мужчина? Да, правда, отрок, всего только слабый отрок он, ежели не может освободить ее, взобраться по толстым стенам, обхитрить или победить стражу.
И, уже подходя к крыльцу, он вдруг вывернулся, отскочил в сторону, потом со страшной силой нанес удар Одинцу — он целился в самый низ подбородка, туда, где удар такой силы вызывает бесчувствие и потерю памяти на некоторое время, а потом, когда Одинец упал, бросился на второго караульного. Тот, ошеломленный неожиданностью, все же смог подобраться, отскочить от Алексы, и Алекса, разъяренный и почти слепой от ярости, выхватил у караульного копье и с такой силой воткнул его в ногу, что будто громадным гвоздем прилепил своего врага к земле. Тот застонал, ухватившись руками за копье, а Алекса несколькими огромными прыжками достиг ограды, подтянувшись к самому верху, ловко, как огромная кошка, перемахнул через нее, и ночная тьма скрыла его. Напрасно поскакали вслед по улицам всадники с копьями наперевес, будто гонясь за опасным преступником, — оруженосца не было нигде.
Однако глубокой ночью посадника[38] полоцкого разбудили неожиданным известием: дружинник княжича Всеслава напал на гостей полоцких, немцев из Дони, и задумал, видимо, недоброе, ибо завтра собирались они возвращаться домой с большим количеством серебра и золота, хорошо поторговав в славном Полоцке. Но преступник тот Алекса ни в чем не признается, потому посажен в погреб и закован в железо. Сказал сильно разгневанный посадник представителю купцов, что завтра же выплатят им за бесчестье и страх положенный штраф, а злоумышленника будет судить князь, и судить строго, ибо не бывало еще такого, чтобы дружинник занимался разбоем.
На рассвете, едва раскрыв глаза, получил княжич известие о содеянном Алексой, и тогда, не веря всему, что случилось ночью на купеческом подворье, собрал он челядников и стражу и учинил им допрос. Донесли перепуганные челядники о недолгом разговоре Алексы и стольника Никиты, и тогда понял Всеслав, что не разбоем занимался на купеческом подворье его оруженосец. Однако вина его от этого не уменьшалась: смертью должен был покарать Брачислав, ежели не за разбой на купеческом дворе, то за то, что восстал Алекса против его решения. И все же собрался Всеслав просить за своего дружинника, для чего приказал подать ему резной ларец и задумался, глядя в него. Понимал, что вряд ли уступит арабский купец девушку, которая ему понравилась, однако ж купец он, привык всему знать и назначать цену… Потому, не ожидая, пока проснется отец, поскакал Всеслав вместе с тремя гриднями на купеческое подворье — просить Абдурахманбека.
Сонный, невыспавшийся купец, торопливо поправляя наспех завязанную чалму, кланялся до земли, показывая толстую спину в блестящем халате, выражал княжичу почет и уважение, однако отдать назад девушку отказался наотрез.
— Пусть мудрый и великий Всеслав и его отец тут же окутают меня покрывалом смерти, но тогда попаду я в джанна — рай, — торопливо переводил толмач. — А ежели отдам женщину, чьи уста могут подарить мне наслаждение рая, чьи ресницы пронизали мне сердце тысячей стрел, — поганой собакой я стану и душу мою отправят прямо в джаханнам — ад.
— Ты знаешь: мы, кривичи, упрямый народ, и потому я прошу тебя еще раз — верни нам девушку. Из-за нее человек, которому я обязан жизнью, опозорил себя, нажил клеймо вора. Мы заплатим вам за позор, но знай — он не грабитель и не грабить сюда пришел ночью, он хотел ее забрать и биться с тобой, как воин с воином, ибо ты, Абдурахман, как известно мне, еще и славный воин, хорошо владеешь ножом, — гнул свое Всеслав, стараясь говорить приветливо, однако лоб его все больше морщила большая складка. — Лучше бы вы тут убили его, ибо воину заиметь славу грабителя — равносильно смерти. Продай мне ее! Мне, княжичу! Назначай любую цену! У нас много девушек, мы найдем тебе еще лучшую!
Однако Абдурахманбек отрицательно закачал головой, и впервые княжич увидел в его зрачках стальной блеск.
— Если б ты пришел ко мне там, — он показал головой куда-то назад, — и стал просить отдать жену или любую другую женщину, которую люблю, я отплатил бы за позор только одним — твоей кровью. Однако я тут, у тебя в гостях, и ты можешь показать себя добрым хозяином только так — не требуй у гостя того, что он не может тебе дать. Когда она надоест мне — я отдам ее первому, кто встретится на дороге. Когда она утратит красоту — она станет мыть ноги у моей новой наложницы. Однако всегда мужчина распоряжается женщиной по своей охоте, по своему желанию. К тому же не обижу ли я твоего отца — пусть надолго сбережет его Аллах! — тем, что откажусь от его подарка? Как ты думаешь, мудрый княжич Всеслав?
На мгновение у княжича возникло желание — выхватить короткий меч и… Однако он тут же опустил глаза, и горячая краска залила лицо: даже подумать недостойно, что можно обидеть гостя, который к тому же помог им, спас мать. Отплатить неблагодарностью за доброту, отобрать назад подаренную отцом девку-огнищанку, даже просто просить ее назад, — позор! Ах, горячая кровь закипела в нем, забурлила, когда решился ехать сюда! Зачем? И так ежели узнает отец о его поступке, то не похвалит, а сурово сдвинет брови, бросит: «Негоже такое делать князьям полоцким!» Однако ж хотелось выручить Алексу, единственного из своих ровесников, которого видел равным себе. На короткое мгновение представил невысокую, приземистую фигуру юноши, его чистые синие глаза, длинные русые волосы — что за безумие охватило его, когда решился на такое — силой отбивать подаренную самим князем девушку? Перун, видимо, омрачил его разум, или, может, разгневались старые боги, что не за своим делом, не за тем, что предназначено судьбой, пошел он? Ибо каждый должен делать то, на что более способен, — кто пахать поле, кто разводить краски и осторожно рисовать на стенах загадочные лики святых, кто сидеть дома и торговать… Алекса был воем, его можно было представить только на поле сечи с копьем или мечом в руке, и даже кольчуга обвивала его тело особенно ладно. Но Перун лишил хлопца разума — и теперь нужно было спасать его, нести жертву богам, особенно ей — вечно изменчивой и недоброй Маре, которая губит людей призраком несбыточного, насылает на них помрачение совсем так же, как насылают обман и завлекают теплом далекого очага страшные болотные огни, затягивая путника в трясину…
Он поднялся с мягкого ковра, на котором сидел — разноцветные подушки разлетелись во все стороны, толмач бросился их подбирать, — и сказал, стараясь, чтобы голос его звучал весело:
— Ну что ж, торговый гость Абдурахманбек! Не хочешь — дело твое. Но в знак дружбы и как просьбу забыть мои слова я хочу подарить тебе то, чего ты не взял за девушку. Возьми же это просто в знак уважения!
Он обернулся. Дружинник почтительно наклонился, выбежал за дверь. Потом вернулся с большой стопкой пушистых лисьих и соболиных шкурок, встряхнул, подал князю. Мягко засиял в оконном свете лоснящийся мех, переливаясь черным, серым, белым. Абдурахманбек не мог спрятать удовольствия, он отвесил поклон, погладил черную бороду, с почтением принял подарок. И тут же щелкнул пальцами, а когда из соседней комнаты выбежал смуглый слуга в полосатом халате и черной плоской шапочке с белыми вышитыми узорами, что-то сказал ему, и тот побежал назад и вернулся с синеватой чашей, на которой были нарисованы золотом прихотливые звери и птицы. В чаше лежали серебряные, с чернеными узорами мониста.
— Это — фарфоровая чаша из далекого Чина[39], где на полях растет жемчужное зерно, дающее людям силу, и где есть много других чудес, которым не находит объяснения человеческий разум, — перевел толмач.
Чаша была неожиданно легкой. Тонким ребром одной из монет, которые были в монистах, торговый гость стукнул по ней, и синеватая прозрачная поверхность вроде запела, тоненький мелодичный звук пронесся по комнате, потом, будто натолкнувшись на что-то, смолк.
— А это вот, — достал купец мониста, — передай своему другу или слуге — пусть не захлестнет его горло петля тоски! — чтобы утешился и выбрал себе он другую пери[40], ибо он, как ты говорил, молодой и сильный и встретит еще немало красавиц. Я же уже в преклонном возрасте, и потому особенно дорожу всем, что хоть в какой-то мере согревает сердце или душу, всем, что дает наслаждение. Потому почтительно прошу простить меня и, припадая к ногам твоим, приглашаю, чтобы ты вытер мое лицо полой твоего милосердия, а именно, — не ожидая суда князя, хочу выехать в мой далекий край. Ныне в вашей церкви Богородицы в присутствии свидетелей — купцов из Фрисландии и Англии, а также из Риги — я заверю тебя, что не имею ничего к бедному молодому джигиту, чьи глаза затуманила любовь. О, мы, персы, умеем ценить любовь, недаром наши поэты так много пишут о ней!
Прохладная чаша в руках Всеслава наполнялась теплом, будто кровь, бушующая в нем, передавала свое тепло тонкой прозрачной поверхности. Где, в каких краях сотворили ее, как могли довезти это чудо, которое, казалось, пульсировало и пело в его руках, — в эти далекие суровые берега Полотчины? Не разбив, не разломав, не утратив тонкого серебряного пения? На мгновение тоска сжала его горло — тоска по далеким, неизведанным землям, которые он, скорее всего, никогда не увидит, ибо судьба предначертала ему жить тут, защищая эту землю, и он учится этому с малых лет и до кончины будет верен судьбе. Может, доведется когда-либо поехать в Царь-город, в Византию, но вряд ли выпадет счастье увидеть когда-нибудь тот загадочный Чин и те края, где до сих пор сидят, закрытые Александром, страшные Гоги и Магоги! Но, опомнившись, поблагодарил купца, хоть и не согласился выслушать вместе с фрисландскими и рижскими торговыми людьми отказ от судебного преследования Алексы. Сказал, что займется этим сам отец, и можно узнать об этом сейчас же, отправившись в княжеский терем, где, наверное, еще завтракает князь…
Утро едва зачиналось, когда он вышел из деревянного дома купеческого подворья, однако навстречу уже везли и несли товары, направляясь на рынок, который находился около большого двора. Рижские и готландские купцы в коротких плотных штанах и меховых кафтанах, опоясанные узорными поясами, новгородцы и киевляне в корзнах, из-под которых выглядывают белые сорочки, в высоких шапках, черные клобуки[41] в синих халатах, ляхи в коротких кольчугах спешили вперед, и у каждого за поясом торчит меч, либо в ножнах — кинжал. Нелегка жизнь купеческая, вечно тревожится торговый человек за имущество свое, оттого и не расстается с оружием, хотя повсюду в славянских городах Полоцке, Менеске, Витьбеске — оберегают гостей заморских суровые законы и договоры. Знают купцы: ежели кто обидит их словом — заплатит гривну серебром, ежели ж дойдет дело до рукоприкладства — за каждый выбитый зуб три гривны, за повреждение членов — аж до пяти. Ежели убьет сам купец вольного полоцкого человека — заплатит десять и более гривен, за холопа — всего одну… Ежели похоть разберет купца чужеземного и застанет муж полоцкий его у жены своей — возьмет за обиду и позор также десять гривен серебра, а ежели тот свяжет мужа разгневанного — заплатит двенадцать гривен старыми кунами… Все оговорено договором, даже если под хмелем сорвет купец чужеземный с головы какой-нибудь милой девушки или женщины платок или повойник…
Каждое утро оживает купеческое подворье — и увозят мед и полотна, деготь и меха, воск и рыбу, а сюда доставляют тоже несметное множество товаров. Потому лежат в княжеской казне динарии и пфенниги, пенни и дирхемы, а еще слитки серебра, перстни, хрустальные ожерелья — каждое из них по цене соответствует одной куне, или трем нагатам[42], или киевскому медному сребренику.
Ехал молодой Всеслав к порубу, где сидел Алекса, и видел, как постепенно полнятся полоцкие улицы народом. И каждый идет или едет по делу, а около полуземлянок, которые вырезает простая чадь прямо в земле и где стены обшиты деревом или обмазаны глиной, туда-сюда бегают женщины, неся в хату то охапку дров, то ведро с сыродоем, то лучину. Дальше, где начинается большой двор, хаты побольше, побогаче — рубленные из бревен, с истопками, с клетью, и окна у них не волоковые, что заволакиваются в холода досками, а слюдяные, а то и стеклянные, и около них суетятся уже не сами хозяйки, а та же простая чадь — холопы, и ежели промелькнет в окошке, раскрытом настежь, женская головка, то нет-нет да и блеснет на солнце то золотой обручик, то серебряный браслет, а то стеклянные бусы на стройной шее. Едет не спеша Всеслав, и будто впервые видит свой город, и смотрит на девушек, выглядывающих в окна, и удивляется все больше смелости молодого дружинника, чувству, которое толкнуло на отчаянный, непривычный ему поступок.
Когда вывели из поруба Алексу, княжич не сразу узнал его — русые волосы слиплись на голове в кровавый ком, одежда порванная, из-под корзна выглядывает голое тело. Порваны и портки, а на теле следы ударов и зубов собачьих.
Перехватил Алекса взгляд, застыдился, попробовал натянуть портки на багровые следы.
— Собаки порвали?
— Они, — понуро ответил Алекса.
— Дурень! — вскипел Всеслав. — Мне не мог сказать хоть бы слово одно!
— Поздно уже было.
— А раньше что? Раньше не мог! Бабник ты, дерьмо собачье! А ежели взялся красть девушку, так нужно было с умом делать это! Чтобы лучший мой лучник таким растяпой стоял перед своим князем? Да тебя и правда стоит до смерти розгами засечь!
— Секите.
— И засек бы, клянусь Перуном, засек бы! Сам, своими руками! Однако же тебя и так вон как порвали. Ну а ты?
— Троих кнехтов я положил, — так же понуро ответил Алекса. — Да там еще четверо гончаков было. И сначала высмотрел — один был виден, я его и пришил стрелой, думал — все, теперь пройду…
Он уже, видимо, приготовился к смерти, ибо синие глаза его были тусклыми и голос такой отрешенный, будто звучал откуда-то издалека. И Всеслав, вспомнив, как славно рубился мечом хлопец под Новгородом, еще раз подивился могучей силе неведомого ему чувства…
Заступничество княжего сына и клятва не держать на Полоцк обиды, которую в присутствии чужеземных гостей все же дал купец Абдурахманбек, спасли Алексу. Его секли розгами на городской площади, но не засекли до смерти, а потом, когда зажили раны, снова взяли на княжеский двор в младшую дружину княжича. Он принял подарок купца — серебряное монисто, всегда носил его на шее, и иногда серебряные дирхемы тихонько вызванивали, когда нес его по улицам, вместе с другими дружинниками, могучий вихрь молодости.
Всеслав как-то пошутил:
— Не нашел себе ладу, на которую наденешь монисто?
Алекса, отводя глаза в сторону, глухо сказал:
— Я на купца самого надену.
— А может, он никогда больше не приедет в Полоцк?
— Приедет. Ветры его сюда принесут… — загадочно, все отводя взгляд в сторону, пробормотал Алекса и больше, как ни шутил Всеслав, допытываясь, что у него на душе, не сказал ничего.
Подходило лето, горячее, огненное. Привозили в Полоцк вести, что, как несколько десятилетий назад, засуха высушила степи, что новые враги появились на южных границах княжеств, врагов тех фризцы и рижане прозывают каманами, а киевляне называют их за светлый цвет волос половцами, и идет то слово от половы — рубленой соломы, на которую похожи головы тех половцев. Уже приходили они в Приднепровье, рубились сильно и воинами показали себя отменными. Встревожены теми вестями киевляне.
Спели крупные ягоды земляники в окрестных лесах, и кадушками несли их в город; теплый ветер поднимал пыль на дальних улицах Полоцка, нес ее по мостовой, теребил косы девушек. По ночам вспыхивали далеко над Двиной зарницы, цвела рожь, и вызванивало за стенами Города, кое-где подступая под бревенчатые стены, просо. Ходили по хатам, срывая с полок поганских богов и топорами рубя их во дворах, дружинники вместе с сотскими. Кое-где плакали люди при этом, а мужчины иногда ругались: плохие, слабые эти боги, ежели не могут защитить себя, — ни Перун, ни хранитель домашнего скота Волос, ни Макоша, ни Мара, ни сам Род с роженицами… Но все равно оставались по хатам и домовик — старенький дедок с красными глазками, которому каждый год нужно было принести в жертву черную курицу, и Анчутка — летун-чертенок, который любит подразнить хозяев, поиздеваться над ними, и потому никогда не называют его по имени, а больше — «роговым» и «беспятым», а в речке или озере не переводились берегини, а в лесу жил лесовик. И сколько ни освящали нечистые места, сколько ни читано было молитв-заклятий, все равно приносили полочане и на берег, и на Воловью гору пироги, ленты, сыр и мед. Ленты вешали на ветви деревьев, широко раскинувшие свои кроны над горой, а внизу клали подарки и жертвы.
В Новгороде примерялись строить каменную Софию, купцы бранились из-за подрядов, во всех церквах шел сбор пожертвований. В Киеве Ярослав раздумывал, как наладить отношения с непокорным Брачиславом, и, отдавая ему Витьбеск и Усвят, удержал верховья Двины и Торопу, где потом возникло княжество Торопецкое, примыкающее к Смоленскому. Полоцк рос и ширился, в предместье его — Бельцах — только что открыли новый монастырь, и удивленно передавали из уст в уста, что деревянная церковь монастыря приукрашена «сильно пышно». И золотом светятся совсем новенькие, привезенные из Царь-града кадильницы, и водосвятная чаша, и панагия[43], и ладанница; что князь Брачислав пожертвовал монастырю перламутровый крест с жемчугом и разными дорогими каменьями, а княгиня — икону с драгоценным окладом.
Однажды, когда хорошо стемнело на полоцких улицах и аромат ночных цветов стал особенно ощутим, в хату к вдове Катунихе тихо постучали. Катуниха отложила в сторону кусок черного хлеба и луковицу, которыми ужинала, неторопливо побрела к дверям. Отбросила засов и пропустила нежданного гостя в хату, поднеся к его лицу лучину, которую вынула из зажима у балки. Долго вглядывалась в него.
— Чей ты, господине? Не узнаю.
В голосе не было ни страха, ни интереса. Алекса с болью смотрел в когда-то веселое, круглое, а теперь измученное и постаревшее лицо женщины, в ее тусклые глаза, где, казалось, навсегда застыло безразличие. Говорили, что перестарались княжеские тиуны, что умирала под лозинами вдова, да потом, когда бросили ее из поруба как мертвую, подобрали женщину знакомые и отвезли куда-то в лес — к жрецам подземного капища Перуна. Однако и там подлечили ей только тело, а что-то внутри сломалось, дак так и не зажило…
— Алекса я, Алекса. Помнишь ли? Приходил когда-то к тебе, чтоб заручины справить. За дочкой твоей. За Березой…
— Березой… — как эхо, повторила Катуниха, и вдруг ноги ее подкосились, она чуть не упала. — Нет ее. Убили. Забрали. На смерть повезли. Не увижу я больше дитя родное свое никогда. Ой-ей, горюшко!
Слезы потекли по ее лицу, но было оно по-прежнему застывшим и невыразительным.
— Я привезу ее назад, — сжав зубы, прошептал Алекса. — Привезу назад, и мы пойдем жить далеко отсюда, в Латгалию. А может, в Киевское княжество. Я воин. Мне всегда найдется господин. Воины нужны всюду, — видимо, никогда не перестанут уничтожать люди друг друга.
— Ты привезешь назад Березу? Ты вернешь ее? Мою доченьку, красавицу, единственную надежду мою? — остро вглядываясь в него, как безумная, воскликнула она. — Тогда езжай. Скорее езжай! Пока она жива, пока ее не проглотили там басурманы-живоглоты. Езжай, слышишь? Теперь езжай!
Она тряслась как в лихорадке. От безразличия не осталось и следа. Она носилась по хате, бесцельно искала что-то на полках, открыла сундук. Но там было пусто, только на самом дне одиноко лежал кусок полотна. Вдова схватила его, развернула.
— Возьми его. Продашь. Тебе же нужно на дорогу. А больше ничего нет у меня. О горе, горе! Нет ничего. Все забрали, забрали, а меня, меня…
Она снова залилась слезами. Потом выпрямилась, задумалась. Глаза ее загорелись лихорадочным огнем.
— Ты кто? Зачем пришел сюда? Нет, нет Березы, нет… А ты… Тебя подослали ко мне, ага, подослали! Чтобы ты выведал, есть ли что-нибудь у меня, чтобы забрать последнее.
Она выхватила из его рук сверток, торопливо положила в сундук, замкнула его и села на него, дрожа всем телом.
— Нет, нет! Ничего не дам тебе! Нет у меня ничего. Прочь иди, иди отсюда! Кто ты? Я не знаю тебя. Не мучай. О, пусть убьют тебя Род и роженицы за то, что ты мучаешь бедную женщину. У меня забрали все. Все, слышишь?
Он вспомнил, как однажды под Новгородом такая же худая, измученная женщина тянулась за ним, повиснув на коне, хватала сувой полотна, который он забрал из хаты. Она говорила то же, те же слова были у нее на языке, может, и правда забрал он последнее. Однако тогда была война, все горело, пылало, и зрелище огня только веселило их, молодых. Они хохотали, глядя на ту бедную женщину, их смешила ее пустая грудь, прочерченная синими жилами, — она была видна в вырезе сорочки. «Как у старой суки!» — крикнул дружинник Медведь, и они, хохоча, подхватили. Никого не затронуло ее горе, ее слезы. Может, потому, что знали — придут новгородцы, и так же будут плакать и тянуться за ними в пыли дорог полочанки, и этак же будут смеяться и показывать на старые груди, перевитые синими жилами… А летописцы запишут это просто: «Пришел Брачислав и повел в Полоцек мужей и жен без числа множество».
Его охватила жалость к ней, и он попробовал объяснить:
— Я приведу Березу, слышишь, мать? Я люблю ее. И мне ничего от тебя не нужно.
— Те деньги… те деньги, которые я получила от него, басурмана… их забрали, да-да, забрали… Тиун и сотский… Нет у меня ничего, хлопче… И Березы нет…
Она снова заплакала, а он опустился на колени:
— Благослови меня, мать… Ты благослови, ибо проклянут меня свои, родные. Привыкли они жить в роскоши на мои деньги, привыкли к теплой жизни. А у меня свой путь. У меня своя дорога, и она идет в свою сторону. Может, меня смерть ждет там. Но если буду жив, привезу ее оттуда, надену монисто на ее шею!
Она заморгала, видимо не поняв сказанного, однако неожиданно положила хлопцу на голову ладонь. Ладонь была тяжелая, холодная, и он вдруг со страхом понял, что не жилец она на белом свете, что истончилась где-то нитка, которую пряли для нее из кудели жизни старые роженицы.
— Спасибо, мать!.. Спасибо тебе! Мне теперь легче будет идти. Туда, где кончается земля. Куда Березу повезли. Найду ее там. Или умру, слышишь?
Она закивала головой, и он поискал глазами вокруг. Увидел маленькую фигурку Сворога, затаившуюся в углу. Может, не заметили ее дружинники, а может, не было им времени возиться в хате вдовы. Он взял Сворога.
— Пусть он поможет мне. Пусть отыщет ее. В пыли дорог, в чреве Хвалынского моря, в бездне степей, на улицах далеких городов. Я теперь знаю, где ее искать. Я слушал, спрашивал купцов. Я знаю, где та далекая Бухара. Спасибо тебе, мать, еще раз!
Утром он уже плыл на торговом судне булгар, которое направлялось из Полоцка домой, нагруженное корой дерева халандж — березы. За три дня перед тем заболел и умер от огневицы один из гребцов, и начальник каравана не сильно возражал, что вместо него сядет на весла молодой, крепкий полочанин, да еще воин. А что за вина гонит его из города, о том начальник не спрашивал — серебряная гривна погасила его любопытство, а люди были ему нужны. Пусть полочане ищут сами виноватого, не его дело следить, что да как! Лишь бы не поймали перед отправкой, не узнали, не задержали. Но никто не искал Алексу, ибо все в дружине знали, что отпросился он на один день домой по важному делу.
Когда же спохватились и начали искать, далеко уже плыл хлопец на булгарском корабле, так далеко, что синие волны Двины не касались его весел. Там последний раз оглянулся назад. Вот она, родина… Зеленые сосны с медными стволами стройно тянутся ввысь, гудят в развесистых кронах ветры. Пахнет хвоей и рожью, бежит к реке девочка в белой сорочке и с венком на голове, босая, машет весело руками, будто собирается полететь. И белый аист медленно кружит над рекой, словно высматривает кого или попрощаться хочет… Сжалось сердце у Алексы, да так больно, что подумал — задохнется. Захотелось выскочить из корабля, побежать назад, к родному Полоцку. Но тут плеть огрела плечи…
Насмешливый голос надсмотрщика прозвучал на весь корабль:
— Что, вернуться хочешь назад, кривичанин? Как баба, заплачешь сейчас, а?
Гребцы захихикали. Алекса стиснул зубы и заработал веслом. И поплыли назад, безвозвратно поплыли родные просторы, и исчезла с глаз девочка в белой сорочке, а вокруг — чужие, насмешливые лица, и смуглый надсмотрщик скалит страшные, как у волка, клыки да все насмехается:
— Вы, кривичи, очень уж привязаны к бабским подолам. У вас баба хозяйка в хате. Аль не так? Она у вас скоро оружие в руки возьмет, а вы за нее будете прятаться.
— В Полоцке ты не осмелился бы так вякнуть, а тут, когда я один, скулишь такое? Давай биться чем хочешь — мечом, топором, кулаками, я покажу тебе, подлая собака, что такое полочанин! — крикнул Алекса и привстал, чтобы броситься на надсмотрщика.
Однако сзади его взял за плечо высокий русый хлопец с рыжими бровями и белой, вроде молочной, кожей, шепнул:
— Не задирайся с ним. Он и правда подлый, и ежели хочешь живым уйти отсюда, молчи.
Сел Алекса, схватился снова за весло. Надсмотрщик довольно засмеялся, хотел вновь огреть его плетью, однако встретил пристальный, бешенством налитый взгляд, удержался, щелкнул плетью по палубе.
Когда гребцов сменили и Алекса, пошатываясь, вместе с изнуренными за день людьми спустился вниз, чтобы поесть и немного поспать, русый хлопец снова подошел к нему, ударил по плечу:
— А ты разумный хлопец. Сразу послушался. Другой бросился бы, и добром бы это не кончилось. Но оно и так тебе тут — конец.
— Почему?
— Ты же вольный человек, полочанин?
— Вольный. И я, и деды мои всегда были вольными.
— Так почему в рабы нанялся?
— Это пока. Вот доберусь до Понтийского моря, оттуда мой путь дальше.
— Ты сделал в своем Полоцке что-то такое, что тебе нужно удирать аж за море Русов?
— Я ничего не сделал. Не убивал, не грабил. У меня своя нужда.
— Какая бы ни была у тебя нужда, дальше Итиля ты сам не поедешь. Разве только повезут.
Им бросили в миски вареного проса и немного жира и повели спать — в темном углу были расстелены грязные тюфяки.
Алекса продолжил разговор, когда улеглись:
— Почему ты так сказал? Почему я не поеду сам?
— Потому что тебя хотят оставить тут рабом. Я сам слышал, как Хасан говорил начальнику каравана, что за тебя можно взять немало. Ты же воин, к тому же молодой и здоровый.
— Я заплатил им за то, что они взяли меня на корабль. А работаю за харчи, которые у нас не станет есть и собака. И они, как ненасытные волки, хотят забрать у меня свободу?
Алекса сжал кулаки, лицо его потемнело. Но белокожий человек не отставал:
— Если ты думаешь, что завтра или даже теперь ты сможешь отсюда уйти, то ошибаешься. За нами, гребцами, установлен хороший надзор. Думаешь, мы, рабы, не хотим отсюда сбежать или освободиться?
— Но я же воин!
— Думаешь, я пас коров на родине? Я из племени аланов[44] и тоже был воем, но меня схватили и пленили, и вот четвертый год я не могу освободиться, хоть мечтаю об этом с первой минуты. Я был на родине не просто воем, а начальником отряда, да только младший брат, который хотел встать на мое место, тайно сказал лазутчику, как и куда пойдет отряд, и меня захватили врасплох, опутали сеткой. Мне даже не смог помочь меч, который достался от прадеда! За этот меч я мог бы отдать все, что имел, еще тогда, когда было чем владеть. Его забрали себе победители. А я стал гребцом и сижу с настоящими рабами, которые только и думают о том, чтобы пожрать да завалиться спать!
— Вы что там шепчетесь? — подошел к ним одноглазый приземистый стражник, ударил копьем о пол. — Спать, и чтобы больше ни слова не было слышно!
Все смолкло. Алекса лежал с закрытыми глазами, обдумывая то, что услышал от хлопца. Значит, его хотят продать в рабство на рынке, продать, как скотину, чтобы какой-то толстый торговец ощупывал его плечи, заглядывал в рот, пересчитывая зубы! Нет, этому не бывать! Он прошептал тихо, повернувшись к хлопцу, лежащему рядом:
— Как же хоть звать тебя?
— Бибо.
— Откуда ты? Где это племя — аланы?
— Я — горец. Там, где горы дотрагиваются до неба, моя родина. Однако я давно не видел гор, не видел родины. Спи, полочанин, завтра поговорим еще, а то и так мне разбередил душу…
В тесном трюме пахло вонючей рыбой и прогорклым жиром, надсадно хрипел в углу кто-то из гребцов, кто-то стонал, а один завывал во сне — видимо, тоже видел сны о родине. И на мгновение Алексе стало страшно: а что, если и в самом деле не вырвется он из этого ада? Если на всю жизнь останется гребцом? Может, и не следовало наниматься на корабль? Однако плыть вольным человеком он не мог: полоцкая стража перед отплытием проверяет все корабли, ибо бывает и такое — захватят тайно купцы вольных людей или холопов, а потом увозят их и продают в рабство. Живой человек — самый выгодный товар, бойко торгуют рабами в столице булгар. А то и чужой товар могут прихватить невзначай отъезжающие — велики и длинны торговые дороги, доведется ли когда встретиться!
Он нащупал нож, который носил всегда с собой, для чего нашил в портках потайной карман. Нет, с ножом против охранников не пойдешь.
Хорошо, что гребцов мимоходом осматривает стража.
Они — на виду. Записали количество их на пристани, принимая струг, — столько и отпустили, забыв об умершем. За возможность вырваться из Полоцка, поплыть, а не пробираться лесными дорогами, направляясь к далекой, очень дальней столице булгар, и заплатил он такую большую цену: согласился стать гребцом. Можно было купить коня и попробовать пробраться на какой-нибудь корабль далеко от Полоцка, пробраться гостем, заплатить за проезд… Однако ж все равно он один, все равно везде и повсюду могут забрать в рабство! Нужно что-то делать, нужно хорошенько подумать, поломать голову, как все же добраться до столицы булгар и остаться вольным человеком. Может, это Род и роженицы помогают ему, что так потянулся к нему этот незнакомый человек, этот Бибо с такой удивительно белой кожей и глазами, в которых светятся сочувствие и бесстрашие?
Летели дни. Немало волок одолел корабль, немало серебра перешло в руки тиунов, которые живут на волоках, прежде чем отправили на колесах корабль. Тянули навстречу товары в полоцкую землю: персидские ткани, сирийские вазы, византийскую парчу, киевское стекло. Ловкий попался на Алексовом струге начальник каравана: всегда жребий выпадал на его корабль и не было ему особых задержек ни на Эссе, ни на Друти.
Вот уже и могучий Днепр, несущий волны свои в Понтское море, прозванное Русским потому, что много ходит по нему русских кораблей. Широк Днепр, страшны его волны в непогоду, потому и спешили булгары, чтобы одолеть его до осени. Однако еще страшнее днепровские пороги. Давно слышал о них Алекса: говорят, что разбивается на них каждый год множество кораблей, и даже самый опытный лоцман белеет и молится своим богам, когда приближается к днепровским порогам. Первый из них называется «Не спи», и чужеземцы вслед за русами говорят: «Эс супи». Он узкий, и посередине его выступают обрывистые и высокие скалы, похожие на островки. И вот оттуда, с высоты, вода льется с шумом великим, и сердце сжимается от страха. Через каждый порог нужно волочь судно, а иногда, говорят, даже вытягивают из ладьи поклажу и тянут всё по берегу. А тут, на Крарийской переправе, все еще разбойничают печенеги, и не единожды во время пиров сказывали гусляры о героической смерти киевского Святослава от печенегов, застигших князя тут, на днепровских порогах. И где-то в сокровищнице печенежского хана лежит окованный золотом череп Святослава, из которого семьдесят лет назад пил печенег, как из чаши… И все еще охотятся разбойники на берегах супротив гостей торговых. Потому не останавливается корабль ни днем, ни ночью, только меняются гребцы, и все более тяжелым свинцом наливаются их руки, и быстрее склоняются на грязные, затхлые матрацы их головы. За это время хорошо нагляделся Алекса на подневольную жизнь рабов: били их за каждый ненавистный взгляд, за каждое слово против. Раны от плети заживали не скоро: в хвост ее была вправлена свинчатка, и такое тоже видел хлопец впервые. Иное дело — боевой цеп: на его конце мотается железный колючий шар. Но это — оружие. А плеть была страшнее, ибо те, на кого она поднималась, не имели чем ответить.
Алексу трогали после первой стычки с начальником стражи редко: видимо, понял он, что не удастся иначе довезти до столицы непокорного. К тому же навстречу все время плыли корабли с новгородскими, киевскими, полоцкими купцами, и ежели бы узнали те, что вольного человека взяли булгары за раба, то могли бы броситься в драку — нет, не затем, чтобы Алексу защитить, а просто иметь хороший повод пощупать, что там лежит в купеческих сундуках. Торговец, он и есть торговец, однако когда у тебя бесконечно отбирают что-то на торговых дорогах, то такой ли уж грех забрать что-то и себе в походе! Тем более что каждый купец имеет оружия больше, чем любой дружинник, и видел он многое такое, чего не увидят люди оседлые, потому душа у него чаще зачерствевшая, как хлеб, который долго лежал на складе среди товаров.
Шли недели, и хотя лето уже заканчивалось в Полоцке, тут, ближе к степям, оно по-прежнему буйствовало: густо вставала трава по берегам, правда несколько поблекшая от жары, выглядывали из-за деревьев или шли на водопой, не обращая внимания на корабль, дивные, не виданные никогда звери, и на стоянках приносили местные люди на обмен незнакомые Алексе ягоды и припасы. Рубашка на плечах полочанина порвалась, и ему дали новую, но предупредили, что деньги за нее нужно отдать начальнику каравана. Бибо однажды выменял за медный грош, данный ему Алексой, кусок грубой ткани, похожей на войлок, только более тонкой, и ловко скроил новому другу что-то наподобие душегрейки. Теперь, когда корабль настигала непогода, Алекса не корчился от холода, будто грешник, которого настигает нечистый — так нарисовано на картине, которую однажды видел в церкви Сорока мучеников на Кожевенной улице. Однако больше он не потратил ни куны, ни веверицы, и никто не знал, что лежит в небольшом кожаном мешочке, который, как и нож, был спрятан в портках. А лежало там и серебряное монисто, и одного дирхема из него хватило бы, чтобы одеть и обуть человека, а еще лежало несколько медных гривен, которые Алекса берег для переезда за Хвалийское, или Хвалынское, море, туда, откуда идет дорога на древнюю Бухару. Может, не потребуются там, на тех чужеземных кораблях, гребцы, и тогда придется плыть гостем, ибо не перейти же пешком море. Какое оно, море, Алекса не знал, однако все, кто его видел, рассказывая о нем, поднимали ввысь глаза и вздыхали, но при этом не забывали поблагодарить богов за то, что живыми выбрались из его бездны.
Море было загадочным и страшным, однако Алекса верил, что останется жив, что не возьмут его ни болезнь-огневица, ни малярия, не захватят люди лихие, ибо там, за морем, ждет избавления от плена белокурая девушка с синими глубокими глазами, опушенными длинными темными ресницами. Тонкий, чуть курносый нос и робкая, хмелящая голову улыбка. Знала ли Береза, что красавица она? Наверное, знала, однако стыдливо отваживала от себя парней, не договаривалась ни с кем идти в лес омутной купальской ночью. А может, просто ждала суженого? Ждала, чтобы пробудил он в молодом сердце трепетное ожидание необычного, желание счастья, пусть себе и короткого, ибо короток человеческий век, особенно у воина. А ведь каждому хочется прожить свой век без горя и несчастья, вкусить сладость, которую дает жизнь.
Вела Алексу и месть. Всегда знал он, какое великое множество девушек красивых и плененных молодиц вывозят из княжества, однако это не затрагивало его. Не единожды, собирая полюдье, вместе с молодой дружиной забирал он дочерей у смердов, не имевших чем заплатить дань, вместе с дружинниками приводил их на княжеский двор, где их превращали в холопок. Однако ни разу не задумался он над тем, имеют ли право одни люди делать рабами и холопами других. Только теперь, в минуты, когда руки его привычно и натруженно поднимались и опускались вместе с могучим веслом, он мог, забывая обо всем, думать о том, что на протяжении двадцати лет делал бездумно и охотно, получая за это похвалу и награды.
Однако же и другие, зрелые дружинники — вирники, мечники, — все они привозили, собирая дань, меха и воск, лен и мед. А возможно, эти корши меда или куски полотна были последними в бедной хате? Кто думал об этом?
Ночью и днем виделись ему теперь глаза вдовы, осиротевшей и сломанной жестокой обидой. За что, в чем ее вина? Слышал он много раз в церкви о покорности и смирении. Однако на княжеском дворе, где учили их держать меч и владеть секирой, настойчиво вбивали в головы, что воин должен быть безжалостным и жестоким, что единственно нужное дело для мужчины — воевать, уметь защитить себя и своих и забрать ценное. Кого же слушать?
Сейчас со всей остротой он чувствовал обиду: у него, мужчины, воина, забрали девушку! Разве можно жить дальше с таким позором? Разве может он проглотить все это? Конечно, нет, забрать ее, вырвать, бросить в ненавистное лицо купца подаренное монисто! И тогда можно будет легче дышать, достойно ходить по земле.
— Советую тебе, полочанин, не ждать Понтского моря, а постараться исчезнуть в Киеве, — однажды, когда они с Бибо лежали без сна рядом, сказал Алексе белолицый алан. — От Киева легче добираться к булгарам. Я знаю эти переходы. Там всего двадцать станций, и если скакать от станции до станции, каждый переход занимает день. А без коня туда идти — два месяца понадобится. Зато нередко там по реке Итиль до самой столицы ходят караваны. Оттуда, из Итиля, поплывешь по Хвалийскому морю до Бухары, а я… там уже недалеко и до моих земель.
— Ты… ты хочешь идти со мной? — тихо спросил Алекса.
— Хочу, и чем быстрее мы придем в Киев, тем легче нам будет совершить побег. Близится осень, а мы почти голые. Рабам не хотят давать одежду, мол, гребете — и так мокрые от пота и воды.
— Вдвоем нам убежать будет труднее.
— Легче! Я видел тебя, ты действительно храбрый воин. А я… Посмотришь, если что какое… Поможешь только разогнуть цепь на ноге и, если возникнет такая нужда, прикроешь мне спину.
— Почему ты не убежал раньше?
— Я убегал уже дважды. И оба раза ловили и избивали так, что я не мог потом даже двигаться. В последний раз мне сломали два ребра. Третий раз мне уже не встать. Я и так, считай, обманул надсмотрщика, он уверен, что во мне не осталось ни капельки жизни — только что держать весло. И сам я было уверовал в это. Однако же вот — пришел в себя… А тут ты…
Они тихонько шептались, пока не обсудили все самое важное, и то, что надсмотрщик заснул, помогло им. Нигде не спрятаться рабу — то подслушает его надсмотрщик, то донесет свой же раб и за донос получит разве что лишнюю горсть вареного проса. Однако даже это жалкое вознаграждение соблазняло некоторых. Были и такие, кого толкала на измену зависть, — обычно они из тех, чьи силы иссякли в многолетнем рабстве, кто потерял надежду когда-нибудь увидеть родные места.
В теплый, по-летнему ясный и погожий день они приплыли в Любеч.
Тут, на берегу днепровской заводи, возле пристани, было многолюдно — будто бы так же, как и в других городах. Только сильнее чувствовалась близость Киева, стольного града великой державы русов: неподалеку от пристани, в урочище, звонко стучали топоры и с гулом падали сосны. Там, было видно, строили ладьи, или, как их называли византийцы, стоящие рядом, — моноксилы, выдалбливали из ствола огромной сосны. За холмом, на горе, отделенной подъемным мостом, строился замок, далеко видный отовсюду. Он был еще в начале — внизу крепко держали будущие стены огромные дубовые бревна, ими же была выстлана дорога, что вела к главным воротам будущей крепости. Вокруг замка была уже возведена стена и построено немало складов — видимо, для готовизны[45]. Слева от замка возводилась высокая башня.
У пристани выгружались товары, и булгары быстро нашли знакомых, завели с ними разговор. Следом приплыли византийцы, спрашивали — все ли спокойно в империи? Ответы были благоприятные: в империи спокойно. Бог милостив к базилевсу Константину IX Мономаху, урожай собрали богатый. Не сравнить, как при посреднике, Романе III Аргире. Тогда одни ссоры жены базипорфироносной Зои и ее младшей сестры Феодоры чего стоили империи.
А в Итиле? Спокойно, только вот рабов поубавилось, они поднялись в цене. Нужны набеги, нужна добыча, ибо царство небогато землей, много в ней степей, где растет только ковыль…
Гребцов и воинов отвели на подворье, а рабов заперли в большой деревянный сарай, около дверей поставили стражников. Самих же купцов повели дальше, где на подворье стоял большой дом из бревен — там обычно останавливались богатые купцы. У византийцев тут отдельные хоромы, и обставлено все так, как привычно им, — под иконами горит кадильница со стираксой — благовонной смолой, обиты бархатом табуреты с византийской золотой каймой, стены тоже обиты бархатом. Так же, как в самом Царь-граде, на русском подворье все привычное русам, и даже блюда готовят их любимые, и дичь для этого специально привозят в Византию.
Булгарам же такой роскоши не было — отвели, где было свободно. Рабам, чтобы сердца их немного очистились от злобы и отчаяния, во время ужина дали вина, самого дешевого, с остатками винограда, немного уже забродившего — того, что испортилось в любецких медушках и которые отдавали почти даром. И все же даже такое вино было редкостью, рабы жадно хватали его и, охмелевшие, начинали петь песни родных мест. Кто плакал, а иные быстрее укладывались спать, чтоб хоть во сне увидеть свой давно покинутый край.
Тепло было во дворе, а когда стемнело, стражники тоже приложились к биклаге с вином, угодливо принесенной мальчиком, служившим тут на посылках, и он заработал на этом целую куну. Потом они отослали мальчика за новой биклагой и, совсем позабыв о своей службе, еще пили за близкую уже Булгар, за ее степи, пили за здоровье кагана. Несколько византийцев из беднейших подсели к ним.
— Я вспоминаю времена божественной Зои, — захмелев, начал исповедоваться один из стражников. — Она знала толк в жизни! Уже за пять десятков, а ее еще за молодую примешь. Мужчин меняла чуть не каждый месяц.
— Тьфу! — сплюнул второй. — Что за тело может быть у бабы, которой за полвека?
— А если бы тебе предложили быть фаворитом у порфирородной, не смотрел бы на ее тело. Власть — ого, хотя бы раз в жизни попробовать ее! А то стережешь грязных рабов!
— Мы! Мы с тобой будем иметь молодых, стройных, с кожей мягкой и нежной, как шелк, пахнущей розой и лавандой!
Булгары же глотали мясо и мечтали о сочных арбузах, что прочищают желудок. Потом они пили за знакомых блудниц, которые, может быть, время от времени вспоминают их в веселом квартале на Медяной улице, куда они отправятся сразу же, как только получат деньги за весь этот неимоверно длинный путь в страну русов. И тут они запели, предварительно сильно грохнув в стену, где веселились рабы, отчего там все смолкло — однако же на недолгое время.
А потом стражники разошлись, осталось у сарая только двое.
— Теперь… время! — шепнул Бибо.
Он тихо подошел к двери и постучал.
— Чего тебе? — раздался голос стражника.
— У меня завелась медная монета — номисма, и, если ваша милость позволит, я истрачу ее на то, чтобы сделать лишний глоток вина за здоровье кагана. Но это после того, как за его здоровье выпьете вы.
— Откуда у него номисма? Может, бросил кто из румийцев? А может, украл? Ха-ха-ха! — засмеялся один из стражников, а второй пьяно приказал:
— Хорошо, приоткрой дверь, возьми у него монету. Но если он солгал, собака…
— Может, не надо? Откуда у него деньги? Украл? А вдруг хозяин завтра потребует их назад? — осмелился возразить второй, но первый стражник снова пьяно рассмеялся:
— Если сделает лишний шаг, сын блудницы, я проткну его насквозь! Иди!
Дверь приоткрылась. Стражник протянул руку в темноту, и в то же мгновение сильные руки Бибо схватили его за голову и втащили в сарай. Не успел он взмахнуть рукой, как гибко и по-звериному ловко схватил его руку Алекса и с размаху воткнул в мягкое, сытое тело стражника острый нож, отчего тот обмяк и тихо, без крика, повалился наземь.
Второй стражник, схватив копье, бросился к двери, но силы его забрало вино. Короткая борьба в темноте — и все смолкло.
— Всё! — тихо шепнул Бибо.
— Их возьмем? — Алекса едва заметно в темноте кивнул в сторону рабов.
— Нет! — отрезал Бибо. — Они пьяны, к тому же многие из них потеряли себя, свою волю, а безвольный человек — все равно что труп. Куда его положишь, там он будет и лежать. Не думай о них!
Алекса отрицательно крутнул головой, быстро на ощупь нашел на старом месте лучину, зажег ее. Красный робкий огонек осветил фигуры рабов, которые, захмелев, лежали вокруг кто как мог — раскинувшись, положив голову просто на грязный пол. Некоторые смотрели тусклыми глазами на друзей, видимо не понимая, что происходит вокруг.
— Вы теперь свободны! — негромко крикнул Алекса. Он подошел к одному из них, что был поближе. — Ты свободен, слышишь? Убегай!
Однако тот приподнялся и тут же опустил голову:
— Нет сил… Я не добегу. А потом — муки?.. О нет!.. Не искушай меня…
— Нет никакого желания. А жить можно и тут, — заговорил другой.
— Я пойду с вами! — раздался голос в темноте.
Приглядевшись, Алекса и Бибо увидели возле самой двери черную фигуру одного из гребцов, молчаливого, понурого Николая, что держался всегда особняком и редко заговаривал с другими гребцами. Они знали — Николай византиец, вырос в зажиточной семье, и даже дерзкий и хищный капитан никогда не бил его плеткой: было в нем что-то такое, что сдерживало гневную и безжалостную руку хозяина.
— Ты не пил? — удивился Алекса.
— Я знал все. — Николай отделился от стены и протянул руку, показывая. При слабом свете лучины блеснул кинжал. — Если бы вам не удалось самим справиться, я бы помог, — продолжал он. — Я с вами!
— Куда? — удивился Бибо, подозрительно глядя на высокого, с могучей бычьей шеей Николая. — В Царь-город?
— Нет! — коротко отрезал Николай. — Зачем? Я там жил и стал рабом. Там нет мне жизни и будущего, я пойду с вами. Пока. А там…
— Может, пойдешь один? — все еще подозрительно проговорил Бибо. — Ты ромей[46]. Можно ли вам доверять?
— А что он будет иметь с нас? — удивился Алекса. — Пусть идет. Втроем легче.
— Правда, быстрее отсюда! — сурово приказал Николай. — Там разбираться будете. А не хотите меня — ну что же, обойдусь и без вас. Но вам будет без меня труднее.
Они тихо дунули на лучину и неслышно растворились в темноте…
Но выйти к реке было не так-то просто. Прошло немного времени, и когда на унылое «Эгей!», которое регулярно доносилось с башни стражники не ответили, оттуда донесся топот тяжелых сапог. В Любече строго следили за порядком, и княжеский двор в нем считался образцовым, ибо недаром же отсюда, из Любеча, происходил сам дед великого Владимира Красное Солнышко, отец Добрыни и Малуши, Малк Любечанин! А потом поднялся бедлам — многочисленные смоляки осветили двор, туннель с двумя башнями у ворот, мост и мостовую башню. Но троица уже сидела в одной из огромных ям, предназначенных для хранения зерна. Яма находилась около одного из подземных ходов, ведущих к реке.
— Не успели! — прошептал Бибо, зарываясь в кучу мягкого, недавно собранного зерна.
— Тише! — прошипел Николай.
И правда — стражники добежали уже и до ям. Зорко оглядывали они каждую, даже бросили камень в одну из ям, уже заполненную на случай осады. Подошли и к той, где хранили зерно. Но неподалеку стоял стражник, смотрел преданными глазами на начальника стражников, и нельзя было поверить, что он задремал — может, только на одну минуту, как раз в ту, которая нужна была смельчакам, чтобы забраться в яму.
Стукнула крышка над головами Бибо, Николая и Алексы, и снова стало темно и тихо. Алекса с трудом высунул голову из зерна, вытер пот, проступивший на лице, тряхнул головой.
Только под утро удалось им выбраться из ямы и добраться до реки, а потом, переплыв ее на украденной у ротозея хозяина лодке, выйти на дорогу, которая шла вниз к Киеву. Нужно было обойти Киев, дальше — Переяславль и найти дорогу, которая прямо поворачивала на восход. Там, пройдя через степи, она приближалась к реке Дон, дальше круто поворачивала на юг, к самой Волге. Можно было идти на Тмутаракань — там ближе к яссам и аланам. Но самое главное — обойти Киев и Переяславль. Там, дальше, хоть и опасно, но зато свободнее.
Только через полтора месяца они вышли на большую дорогу. Хорошо наезженная, оживленная, по ней они первое время шли только в темноте, боясь погони.
Навстречу им двигались бесконечные караваны купцов. Везли в столицу русов — Киев дорогие ткани, стеклянные изделия, вино арабские, персидские, индийские купцы. Ехали и славянские купцы. В чужеземных обновах, смуглые от загара, будто еще покрытые пылью далеких стран, они выглядели как заморские гости, но трое смельчаков сторонились их. И все же как-то они заночевали на одной из станций вместе с полоцким купцом Рожденом, которого Алекса знал, потому что тот часто торговал на княжеском дворе. Рожден был одним из тех веселых, неугомонных молодцев, который с одинаковой легкостью мог бы хорошо молотить боевым цепом в битве и торговать всем, что пошлет ему Сворог. Высокий, дородный, круглолицый, он вышел утром по нужде и столкнулся с Алексой, вместе с Бибо выходившим из здания двухэтажной, из глины вылепленной и побеленной станции. Сам Рожден ночевал наверху — там устраивались на отдых богатые люди и важная чадь, а также княжеские посланцы. Кони же Рождена, его охранники и дружинники, а также телеги с добром ночевали отдельно, за высокой оградой станции, в специально отведенном для этого месте. Рожден был в красной островерхой шапочке с кисточкой наверху, в мягких сафьяновых туфлях и необычной, также красного цвета блестящей рубашке, и потому Алекса, услышав свое имя, испуганно и сразу мгновенно сжавшись уставился на купца, который весело смеялся ему навстречу:
— Ты что это, земляк, тоже в купцы подался?
Несколько мгновений Алекса раздумывал, а потом, оглядевшись и успокоившись — не успеют добежать до них Рожденовы молодцы! — ответил понуро:
— Да нет. Какие там купцы. По делу я.
— По делу? — широко раскрыл голубые, еще заспанные глаза Рожден. — И куда же это ты, молодчик, и по какому делу? Ты прости за любопытство, но мы же, купцы, столько невероятного видим вокруг себя, что стали любопытны, как те сороки, которые, увидев еще издали путника, летят за ним и кричат на всю степь… Да ты не бойся меня, парень! — еще шире заулыбался он, видя, как широкоплечий Бибо осторожно сунул руку в карман, будто невзначай что-то ощупывая там. — Кем бы ни был Рожден, но подлецом — никогда!
— Земляк начинает с того, что предлагает поесть, особенно в дороге, — проворчал себе под нос Бибо, однако, несмотря на то что сказал он это на своем языке, Рожден понял его — скорее, видимо, по выражению лица и по взгляду.
— Так пошли ко мне! — Он приветливо тронул Алексу за руку. — Княжескому дружиннику не годится голодать.
Они поднялись на галерею, и купец приказал отроку, неслышно подошедшему к ним из-за колонны, подать поесть, что найдется лучшего в это время в гостинице. Нашлось много чего — хозяин, хитрый хазарин Павша, содержал свою гостиницу как должно быть. Говорили, что гребет он куны лопатой, что уже третий клад спрятал и закопал в потайном, ему одному известном месте, которое не смогли заметить двое его сыновей, хотя следят за ним день и ночь, и держит он их в черном теле. Принес отрок на металлическом подносе, чеканенном мудреными накладными узорами, дичи и чеснока, сыра и куски пирога с зайчатиной. Рожден сидел и нетерпеливо ждал, пока его неожиданные гости насытятся. Когда же в могучей руке Бибо исчез последний кусок, он вздохнул и снова переспросил:
— Так что за дела погнали тебя, княжеского дружинника, в эти места и куда дальше держишь путь?
— А ты мне сам ответь, не встречал ли по дороге или где-нибудь персидского купца Абдурахманбека, который живет в далекой Бухаре? — вопросом ответил Алекса.
— Абдурахмана? Не припомню, — задумался Рожден. — Извилисты пути купеческие, многих людей знаю, однако же и ты знаешь — годами путешествую по свету, столько имен и товаров перекручивается в памяти. А что он сделал тебе, этот купец Абдурахман?
А когда выслушал всю историю, стал серьезен улыбчивым лицом, задумался.
— Купец получил твою девушку в подарок, он не виноват ни в чем, — сказал наконец. — И ты поведешь себя как грабитель и человек без чести, если попробуешь забрать ее силой. Другое дело — выкупить ее.
— Пробовали! — с горечью воскликнул Алекса. — Сам княжич Всеслав — пусть сберегут его Род и роженицы! — ездил к злодею просить за Березу. Однако…
— И ты не мог и не можешь в Полоцке найти себе девушку лучше твоей Березы? — удивленно спросил Рожден. — Ну, хотя бы тут, на этих просторах, где столько девушек в каждой хате?
Алекса опустил глаза.
— Не иначе приворожила она тебя, — раздумывал дальше Рожден. — Такое слышу в первый раз. Правда, в далекой Хвалисе и Багдаде рассказывают о любви парня-степняка и девушки, от этой любви парень стал безумцем и писал стихи, которые потом распевали на ярмарках и постоялых дворах древних Согда и Бактрии. Но это же сказки…
— Чему ты удивляешься, полочанин? — Бибо гневно глядел на купца. Он даже вскочил. — У нас, в горах, тоже есть сказки о любви. И люди учатся на них, и плачут от тех сказок, и ищут в своих сердцах искорки, которые высекали слова песен.
— Удивляюсь тому, как это вы, люди юга, так горячи сердцем. Мы же живем на неласковой земле, она требует от нас столько сил, чтобы выжить! Потому души наши заняты не любовью, а борьбой — за жизнь, за волю, за землю. В конце концов, это твое дело. Я же подумал было, что ты убил кого и теперь убегаешь от расплаты. Правда, ты сделал большее — покинул свой край ради девушки, пусть себе самой красивой на свете. Я этого не понимаю. Однако… мы все любим слушать чудесные сказки. Особенно их любят слушать там, куда ты идешь. Но как же ты идешь, не имея денег?
— У меня сильные руки и широкая грудь, я заработаю себе на жизнь, хотя бы на такую бедную, какую ты видишь. — Алекса оглядел свои полотняные, латаные-перелатаные штаны, рубашку, почти прозрачную от старости, — только на это тряпье хватило у него монет!
— Ежели ты охотно слушаешь сказки, купец, то подари своему земляку несколько монет, — вставил свое Бибо. — Ему они очень понадобятся.
— Деньги и нам, купцам, не достаются даром, — почесал затылок Рожден. — Тем более мы привыкли давать их с отдачей. А тут… Нет, денег я не дам тебе, — наконец сказал он. — Но я посодействую тебе как земляку. И другое — одержимым нужно помогать, они под охраной… кого только, не знаю? Сатаны, может?
Он прищелкнул пальцами, и знакомый гостям отрок приблизился к ним бесшумной походкой. Купец сказал ему несколько слов, и отрок исчез за дверью.
Вскоре послышались тяжелые шаги, и на веранду зашел толстый челядин с коротким кинжалом, заткнутым за широкий желтый пояс. Кинжал блестел на простой рубашке челядина, как дорогая заплата на сермяге.
— Как Арслан? — тихо спросил у него Рожден.
— Дальше он не пойдет. А хозяин отказывается брать: дорого просите, говорит, за эту падаль…
— Хорошо, — так же полушепотом ответил купец. Погладив длинную русую бороду, он весело воскликнул, глядя на Алексу: — Царский подарок хочу я тебе сделать, земляк! Для князя и его дружины везу я несколько коней. Но один из троих немного приболел. Я дарю тебе Арслана. Вылечишь — цены ему не будет.
Алекса не все расслышал, о чем шептались между собой купец и его челядин. Но горец, с его чутким, как у волка, слухом, все понял и склонился в насмешливом поклоне:
— Благодарю тебя, полочанин! Земляк, видишь, ошеломлен твоей щедростью. Кланяйся! — Он силой пригнул Алексу к земле.
— Ну что же, — Рожден встал. — Идите смотрите коня. А нам тоже время собираться. Завозился я с вами… Подготовил ли ты зелье для жертвенника? — строго спросил он у челядина.
— Все сделано, господин, — торопливо заговорил тот. — Тимьян, чебрец, еще на последний раз его осталось…
— Давай вот. Позавтракаем, жертву принесем богам и — в дорогу. А она немалая! Когда еще в Полоцке будем!
Алекса и Бибо вышли следом за челядином, спустились по отшлифованным до блеска ступеням вниз.
— Ловко придумал твой купец! — тихо зашептал горец. — Теперь слава о его щедрости покатится впереди него! Даже если та дохлятина, которую отдал нам, через час упадет и не поднимется, это уже не будет иметь значения. Главное — чтобы она была жива, пока держишь ее!
До Алексы только теперь начал доходить смысл подарка. Он остановился:
— Если конь не может идти, то зачем он?
— Я и говорю — зачем такой подарок? Живой шакал лучше мертвого льва. Пусть бы земляк дал тебе немного кунов или хотя бы один серебряный дирхем. Пошли лучше, пока твой щедрый купец не шепнул хозяину, кто ты. И правда, ежели он привезет тебя в Полоцк, князь щедро одарит его ради удовольствия покарать тебя на вашей главной площади.
Алекса вздохнул — да, теперь даже заступничество Всеслава не спасло бы его!
Он не знал, что Брачислава как раз в это время хоронили на громадном кургане и, несмотря на протесты епископа, был убит и положен в могилу белый конь, на котором любил возвращаться в Полоцк князь, победив в очередной битве…
Когда привели коня, неожиданно к ним сзади подошел Николай. Он всегда подходил, будто подкрадывался — мягко и неслышно. Даже сухие опавшие листья, шелестевшие под легким ветром, не выдали шагов византийца.
Он долго оглядывал коня — открывал пасть, трогал белые зубы, гладил, будто ощупывая, бока.
— Его нужно выходить, а это почти невозможно, — сказал наконец.
— Видишь? Я же говорил тебе — подлюга твой земляк! — толкнул Бибо Алексу в бок.
— Однако я возьму его, — как ни в чем не бывало продолжал Николай. — Может, мне поможет Мария Оранта.
— Ты… умеешь лечить коней? — вытаращился на него Бибо.
— И коней… и еще кое-что… Отправлять на тот свет без крика и шума, — равнодушно усмехнулся Николай.
Откуда-то из лохмотьев, страшным рубищем висевших на стройном смуглом теле, он достал три серебряных номисмы.
— На, держи! — передал Алексе. — Я беру эту дохлятину не даром. Это хорошая цена, спроси любого купца. Конь у вас все равно сдохнет. А мне он принесет хорощие деньги. Я остаюсь тут.
Алекса заколебался.
— Он и правда хороший конь, только болен. Может, я и сам его вылечу?
— Как хочешь, — так же равнодушно протянул Николай. — Оставайся и ты. Я займусь другим — буду помогать хозяину готовить еду. Такого повара он не найдет нигде.
— Почему ты хочешь тут остаться? — недоверчиво переспросил Бибо. Он смотрел на Николая с открытой неприязнью, а тот будто не замечал ничего, только время от времени тонкие губы его на смуглом худом лице складывались в насмешливую гримасу.
— Буду ждать. Буду собирать деньги. Что ехать на родину нищим? А может, и не поеду туда. Богатому всюду хорошо. Побуду здесь год — и постоялый двор станет моим. Нет-нет, без всяких глупостей! Я не отравлю хозяина — только одолею его. — Он еще насмешливее скривил губы. — Ну так как?
Алекса колебался. Конь смотрел мимо замученным лиловым глазом, бока его, мокрые и дрожащие, судорожно поднимались и опускались.
— Отдавай! — шепнул Бибо. — Я подарю тебе лучшего, хоть и этот — карабахской породы. Ну!
— Хорошо, — сказал наконец Алекса. — Бери его. Нам и правда нужно идти. К Хвалынскому морю…
Назавтра рано Алекса и Бибо двинулись дальше. Караванный путь клонился налево, они же отправились направо — туда, где ждали Бибо горы и откуда, как обещал он, путь к морю будет короче.
День за днем шли и шли они по дорогам, которые перекрещивались, расходились и снова сходились — то в широкую утоптанную дорогу, то в почти незаметную тропинку сквозь заросли колючих кустарников. Алекса был охотником, и это пригодилось: в силки, сделанные им, попадал то молодой заяц, то перепелка, и, изголодавшиеся на былых харчах рабов, они отъедались жаренным на горячих углях мясом, политым кислым соком из ягод. Немного мяса продавали по дороге — и мешки за их плечами увеличивались. К тому же Бибо во время одного из ночлегов наткнулся на гнездо горного хрусталя, из которого делают кубки для питья и ожерелья для женщин. Они продали его, а взамен приобрели медный кумган, в котором грели чай. Появились у них и обувь, и овчины, ночи становились все длиннее, и были они теперь нередко с изморозью, серебряными узорами ложившейся на черную овчину, что согревала их ночью. Из шкуры, пока они укрепляли камнями и глиной ограду в одном из селений, сшила им молодая вдова папахи — чтобы не стыли головы.
Дорога менялась — шла степь, потом начали горбиться вокруг желтые холмы, все выше и выше, далее потянулись каменистые острова… А ногам все больше давала знать о себе высота. И вот однажды Бибо показал вперед, глаза его вспыхнули, лицо засветилось:
— Горы!
Алекса поначалу не увидел ничего такого — облака толпились над краем неба, и были они с удивительными острыми очертаниями. И Бибо, схватив его за плечи, тыкал рукой вперед, показывая очертания гор, называя их по именам, — и тогда Алекса действительно увидел, что это вершины не виданных доселе гор, а белое — снег, который никогда не тает, потому что так высоки те вершины.
— Я думал, что они ближе к солнцу и там тепло, а тут, вишь ты, наоборот! — признался он, почесав затылок.
— Ты же сам видишь, что в горах холоднее! — рассмеялся Бибо. Он был сам не свой от радости — возбужденный, чуть не пританцовывал, порываясь обнять Алексу.
К вечеру его радость будто угасла. Переламывая в могучих руках хворост, он подолгу, застывая, смотрел на огонь и о чем-то думал.
— О чем ты мечтаешь? — вскоре спросил Алекса, нетерпеливо выхватив сухостой, потому что костер начал трещать и потихоньку гаснуть, не получив очередной порции. — Дома уже вот-вот будешь!
— Потому и думаю, — глухо ответил Бибо.
Он молча поел вареной фасоли (тут, в горах, им предлагали острый сыр или скудные припасы здешней земли — фасоль, бобы, горох), закутавшись в овчину, лег неподалеку от Алексы.
Полочанин не стал беспокоить спутника, помыл миски, сделал себе ложе из веточек молодой сосенки.
Тьма окутала их сразу, как только спряталось за холмы солнце, и начало резко холодать. Малиново-серым светился костер, стальной пепел быстро затягивал его. Пронзительно перекликались птицы.
— Мне нужно убить его, — сказал вдруг Бибо.
Алекса не отозвался, только повернулся на бок, готовый слушать. И Бибо понял это, заговорил глухо и прерывисто:
— Все четыре года… жил этим. Кинжал в грудь предателю — и все! А только теперь задумался — как жить потом? Брат же мне родной… младший!
— Так он же… он предал тебя. Вспомни, сколько пережито в рабстве. А мог бы там и остаться навечно! — Алекса не выдержал, сел.
— А ты — убил бы?
— Убил бы! — твердо сказал Алекса. — А что брат — это еще хуже. Такого первым, чтобы не коптил небо.
— Правильно… — вздохнул, укладываясь, Бибо. — И я так думаю. А вот горло что-то перехватывает, не продохнуть…
Горы поднимались все выше и выше. Скудной становилась растительность, и более каменной делалась земля. Она уже не впитывала человеческий шаг, а будто выталкивала его, и он гулко отзывался в нерадостных, тоже враждебных высотах. По крайней мере, так казалось Алексе. Шли они, стараясь меньше попадаться на глаза, прятались, когда ехали навстречу то крестьянин на ишаке — маленьких, немного смешных, но выносливых животных Алекса увидел впервые, — то воины в высоких папахах, в черных плащах, перетянутых серебряными поясами с большущими бляхами, на выхоленных, любовно досмотренных конях.
Бибо глядел вослед воинам потемневшими глазами, гортанно причмокивал:
— На коня сяду! Поглажу его, вах! У хорошего коня кожа атласная, мягкая, как у женщины! Седло закажу — горы содрогнутся!
— Ты и правда про коней как про женщин говоришь, — не выдержал Алекса.
— Женщина — само собой, но добыть ее легче, чем хорошего коня. Конь — друг, он не предаст, не станет хныкать и пилить сердце!
Алексу не обижали такие разговоры. Каждому из них — свое. За этими огромными, неприветливыми, опасными горами — Хвалынское море, а за ним… Там все пойдет легче, он доберется и до Джургеня[47], и до Бухары…
Дышать становилось труднее — воздух резкий, будто из ледника, — резало в груди, ломило зубы от речной воды, бешено мчавшейся по скользким камням.
В харчевнях подавали кислое густое молоко, сотовый мед, куски баранины, щедро посыпанной жгучей красной мукой — перцем. Бибо ел, пряча лицо, заросшее густой рыжей бородой. Они с Алексой приобрели, как все тут, широкие плащи из валяной шерсти, плотные и теплые, которые не пропускали ни дождя, ни стужи.
Однажды они незаметно сидели в углу харчевни. Дверь широко раскрылась, в тесный, сложенный из грубых камней дом ввалился небольшой отряд. Впереди шел немолодой уже, статный горец в белом шерстяном плаще, в темно-синем суконном кафтане, густо расшитом серебристыми узорами. Ножны, усыпанные блестящими, будто толчеными, камешками, ярко сияли при свете факелов, с которыми шли его спутники.
Он что-то выкрикнул хрипло и повелительно, и тут же засуетились хозяин и его сын. На улице тоже поднялась суматоха.
Прибывшие расселись вокруг очага, греясь, громко разговаривая. Бибо, глянув на них, еще больше сжался, закутался в плащ, прячась за Алексу.
Через некоторое время на широкий стол, вынесенный к очагу, начали ставить миски с вареной фасолью, сыр, ореховые колбаски, вяленые кисти винограда. Запахло молодым вином, которое наливали в небольшие широкогорлые кувшины из кожаного мешка. Снова что-то коротко сказал старший, и хозяин побежал к двум путникам, показал на стол, приглашая.
Алекса глянул на Бибо, тот шепнул ему:
— Я — болен, скажи им, объясни!
Алекса, как мог, пробовал объяснить, но старший возмущенно воскликнул что-то, и остальные бросились в угол, пробуя выгнать оттуда невежд, которые осмелились отказаться от приглашения.
Но тут Бибо вскочил, выхватил из-за пояса широкий нож, оскалив зубы, заревел возмущенно и дико. Алекса вскочил тоже, лихорадочно вырывая нож из ножен. Загремели, падая и разбиваясь, черные глиняные мисы…
Воины залязгали кинжалами и ножами, но вдруг старший дал им знак остановиться.
Подошел к двум путникам, долго вглядывался в Бибо, — тот стоял, не опуская взгляда.
— Биболат? — спросил коротко.
Бибо согласно кивнул. Неожиданно для всех они обнялись, потом заговорили быстро-быстро, перебивая друг друга. И удивленный Алекса увидел, что светлые глаза друга наполнились слезами, он склонил голову и долго молчал, а потом поднял ее и начал громко читать неизвестную Алексе молитву. Остальные сбросили шапки и стали повторять за Бибо незнакомые, но наполненные тоской, болью и счастьем слова…
Встреченный ими в харчевне человек оказался родичем Бибо — женат он был на одной из его двоюродных сестер. Этот человек и рассказал Бибо о том, что прошлой зимой, когда в аул приехал начальник княжеской охраны — тот самый младший брат Бибо, — случился обвал. Камнями был засыпан весь край аула — и дом Бибо тоже. И под тем каменным обвалом погибли отец и мать Биболата, как называли тут Бибо, его брат, а также сестра, самая младшая, которую не успели выдать замуж… «Божья кара на нем, но зачем погибли другие?» — подумал Алекса.
Целую неделю из аула в аул возили Бибо и его гостя. Родичей — близких и далеких — оказалось тьма, и все они друг перед другом старались оказать уважение чудом уцелевшему потомку уважаемой тут, в горах, семьи.
— Я не сказал им правду, — признался Бибо Алексе. — Раз погиб Бекбулат, зачем его поносить? Я сказал, что упал в пропасть и разбился, а спасли меня купцы и силой, бесчувственного, вывезли отсюда…
В горах лежала зима, когда Алекса выбирался из гостеприимного аула. Трещал снег под бурками, голубые тени прыгали на ослепительно белой дороге, зеленоватые шапки гор неподвижно и величественно возвышались вокруг. Бибо сдержал слово — подарил другу гнедого, в белых яблоках и с белой звездочкой на лбу скакуна.
Тяжелые переметные сумы висели на его боках. Лежал там длинный и плоский хлеб, который пекут в здешних очагах, твердые как камень сыры, кожаные сапоги и подстилка из шерсти.
— А может, останешься тут? Красавиц и у нас хватает, Пилигрим Любви! — в последний раз проговорил Бибо.
И, как всегда на эти слова, отрицательно покачал головой Алекса.
Он повез с собой пластинку из халцедона, на которой был вырезан гриф — как знак рода Бибо, чтобы тут, в горах, оберегали его законы гостеприимства.
Бибо дал ему провожатого — парня-подростка, который должен был провести не привыкшего к горам полочанина мимо скрытых в снегу пропастей, ледяных трещин, уберечь его от камней, которые могли в любую минуту скатиться на дорогу. Нет, скорее это была тропинка, протоптанная в снегу лошадьми и людьми, и сколько дней нужно было ехать по ней, пока она выведет вниз, к теплой и зимой долине, где вечнозеленые деревья полощут в синем тумане листву? Об этой ласковой, могуче плодородной земле Бибо рассказывал с увлеченностью юноши, когда тот говорит о возлюбленной. Сам он там, внизу, не бывал — оттуда приходили отважные купцы за золотом, которое здесь, в горах, ловили на косматые шкуры баранов, опуская их в быстротечные прозрачные речки, богатые золотыми россыпями. В потайном узелке в хурджине лежала почти пригоршня тусклых желтых дробинок — еще один подарок щедрого алана Бибо.
Тут, в горах, новости передавались с непостижимой, необычной быстротой. Пилигрима Любви, как прозвал его Бибо, встречали гостеприимно, как близкого человека, а в одной их харчевен молодой поэт, подыгрывая себе на барабане, пел песню о любви, которая позвала на край света и за которой идет, как на смерть, русый юноша с голубыми глазами.
Парень-провожатый перевел его слова, и Алекса удивленно подумал, что человеческое воображение шире, чем простая, обычная жизнь. Может, Береза показалась бы тут, меж смуглых темноволосых женщин с горячими черными глазами, чересчур холодной, бледнолицей, но фантазия певца и поэта сделала ее ослепительной красавицей, чьи глаза заставляют гаснуть на небе звезды… Неправда это, звезды холодные и ледяные, как и горы вокруг, и нет им дела ни до человеческой жизни, ни до хлопот людских! И он, Алекса, никакой не славный витязь и не герой. Однако… Он уйдет, а песня останется. Останется тут, в этих горах, среди людей, — как частица его жизни, его души…
В тот вечер вроде другими глазами посмотрел окрест. И белое, со множеством багряных, розовых, синих оттенков ущелье стало ближе, а звуки, что слышались то справа, то слева — тоже ранее чужие, враждебные, — приобрели таинственный смысл. Это разговаривали горы. О чем говорили меж собой могучие, острые, как сабли, вершины? Что они знают о людях, о вечности? Он этого никогда не узнает. Но зато знают — они. Знают и о нем, о его судьбе, его дороге…
Однажды, после того как минули перевал, провожатый распрощался с Алексой. Далеко внизу лежала долина. Казалось, горы наконец разомкнули свою каменную пасть, насобирав серых неприветливых камней.
Долина внизу лежала синевато-серая, очертания ее размывались вдали. Влажным, пахучим теплом дышало оттуда.
— Вот она, — коротко сказал провожатый и, не оглядываясь, поскакал назад, в белый туман, который стлался над тропой.
Зима была и в долине — кое-где на полях под утро выпадал снег и замерзали лужи, но ближе к полудню все таяло и звонкие ручьи размывали дорогу так, что приходилось собирать сучья, гатить, чтобы перебраться вместе с конем.
Алекса заплатил надлежащую порубежную пошлину и ехал спокойно — дорога была оживленной, множество народа сновало туда-сюда. Часто проезжала дорожная охрана, проверяла, имеет ли путник кожаную отметку об уплате пошлины, не случилось ли какой беды.
Теплый дождь омывал зелень — ее в самом деле было тут в избытке, ограды так и ломились от кустарников с гладкими, блестящими листьями, от молодых темно-зеленых деревцев, где еще висели — на самой вершине — забытые оранжевые плоды. Все вокруг будто только и жило ожиданием тепла, чтобы потянуться навстречу солнцу, налиться сладким соком… Алекса впервые попробовал лимон, слышал, что сок его, разбавленный водой, успокаивает лихорадку, заживляет раны, поел каких-то сладких ягод с косточками — они остры и пряно пахли мятой, — никак не мог запомнить, как их называли тут. Удивлялся, что ягоды пережили зиму, а потом вспомнил бруснику, которая в бочке с водой стоит аж до березозола — марта, и улыбнулся: чудеса есть повсюду, только вот на привычное не обращают внимания.
Он ехал, и весна все больше заявляла о себе: тонкая, пушистая, выползала на обочинах трава, желтели первые робкие цветы, вились над ними труженицы пчелы. Уже степь лежала перед ним, гулкая, как бубен, степь, желавшая, как все живое, красоваться под огромным небом, радоваться свету и солнцу.
Все суше и суше становилось, и нужно было запасаться водой в кожаный мешок, где раньше плескалось вино, и, уходя от дороги на ночлег, класть рядом кинжал. Все более цепкими становились взгляды встречных молодцев — не то воинов, не то воинственных кочевников.
Дыхание пустыни, еще далекой, чувствовалось во всем — реже встречались селения и города, редели купы деревьев на горизонте, желтая, глинистая земля кое-где чернела пустотой, трещины разбегались в разные стороны, будто по глиняной чаше после удара камнем. А главное — ветер. Сухой, колючий, он налетал исподтишка, вырывал из-под коня горсть вялой травы, высоко вскидывал хурджины, залепливал глаза пылью, а волосы делал жесткими, будто вымоченными в глине.
Алекса ехал в Бакунэ[48], город назвали так из-за ветров — город ветров, оттуда отправляются корабли через Хвалынское море.
Там, за морем, начинались города, о которых уже тут, в горах, говорили с уважением, — Мерв, Ургенч, Нишапур, Газна. Там лежала и Бухара. Бухара священная, а в ней, если добрался живым, жил купец Абдурахманбек, и среди многих его жен и наложниц была пленницей — она… Здесь, среди этих степей, взгляд давно не встречал родной березы. Сможет ли она, тихая, задумчивая красавица, прижиться там, на жаркой и неласковой чужой земле?
Конь — Алекса назвал его Болотом — тоже будто слабел в этом непривычном суховее, что частенько задувал и ночью и днем. Теперь, проскакав полдня, он, уставший, с потными лоснящимися боками, долго не дотрагивался до еды, лежал, настороженно глядя на хозяина умными лиловыми глазами. Большой караванный путь давно отклонился на север, потому харчевни у дороги встречались не часто: в ханстве было неспокойно.
Чаще всего ночь настигала Алексу внезапно, он никак не мог привыкнуть к тому, что солнце, едва зайдя за какой-то далекий холм, проваливалось куда-то в подземелье и мгновенно на темном, будто бархатном небе высыпали крупные, искристые звезды. Сразу же и холодало.
И, задыхаясь днем от пыли и жары, Алекса ночью плотнее кутался в овчину и жался к костру, который старался разложить в ложбине, чтобы не заметил пламя какой-нибудь лихой глаз.
Однажды, когда черная, гулкая тишина казалась ему арканом, затянувшим горло, он услышал крик. Что-то непонятное происходило на дороге, откуда он недавно сошел. Прихватив лук и стрелы, Алекса незаметно прокрался на шум и возню, которые не утихали, а, наоборот, усиливались. Крики, стоны, глухие удары… Постепенно, напрягая зрение, он разглядел — два человека били изо всех сил третьего, тот катался по земле, беспомощно вскидываясь и снова заваливаясь назад, потому что был, вероятно, связан. Еще одна неподвижная фигура стояла, понурившись, возле двух коней.
Алекса хотел бесшумно отойти, но тут снова послышался стон, — нет, это был уже хрип, предсмертный, отчаянный. И он не выдержал — быстро нащупал стрелу, сильно откинулся, выбирая устойчивое положение.
Стрела коротко запела, потом послышался вскрик. Один из нападавших взревел и, согнувшись, начал выдирать стрелу из груди, это ему не удалось, и он тяжело рухнул на дорогу. Второй нападавший испуганно отскочил, бросился к лошади.
Еще одна стрела с коротким присвистом вырвалась из лука. На этот раз Алекса промахнулся, всадник стремительно помчался прочь, и, внезапно ударившись о дорогу, с пронзительным криком потащился за ним, привязанный, видимо, толстой веревкой, еще один пленник. Так и исчезли они в ночи, неизвестный всадник и человек, которому не суждено дожить свой век спокойно и суждено ли вообще дожить до утра. Вторая лошадь испуганно кинулась по пустынной дороге и быстро исчезла в темноте.
Алекса прислушался, потом торопливо подошел к человеку, который лихорадочно рвал путы на ногах, пробуя освободиться. Второй, раненный стрелой, лежал неподвижно.
Так Алекса познакомился с молодым самаркандцем Нигматом, которого вместе с другими резчиками и каменщиками нанял для украшения джума-мечети один из ширванских ханов. Два года работал в Бакунэ резчик, а когда завершена была мечеть, выпросил двух резчиков родич хана, чтобы украсили они и мавзолей отца. Однако Нигмат сбежал — по договору он должен был вернуться полгода назад.
После первого побега его поймали и не сильно наказали. Но это был уже третий побег, и разъяренный хан отправил за ним стражу с наказом — убить непокорного!
— Жизнь мою хан хотел забрать себе и утолить ненависть, — однажды, уже много дней спустя, признался Нигмат. — А ты вернул ее мне, брат!
Круглолицый, черноволосый, подвижный, как солнечный зайчик на воде, Нигмат с первого же дня взял на себя приготовление еды и нехитрые хозяйские хлопоты. Они, плохо понимая друг друга, все же договорились до Хорезма идти вместе, так более надежно и спокойно.
В Бакунэ Алекса впервые увидел море. Серо-зеленые волны набегали и набегали на каменистый, скользкий от лохматых растений берег; продолжительный, нескончаемый ветер, солонивший губы, дул с необъятных пространств, и белые гребешки пены постоянно вздымались на изменчивой, слепящей от солнца воде.
Целых три недели выжидали они, пока какой-либо корабль пойдет на Красный берег — оттуда шла дорога на Хорезм и Бухару. Нигмат хотел отправиться вдоль моря на север, потому что, как обронил он, ни единой монеты не звенит у него в хурджине, да и хурджина тоже нет.
— Я не хочу висеть камнем на твоей шее, пусть поможет тебе Аллах, великий, милосердный! — сказал он, собираясь распрощаться.
Однако Алекса настоял, чтобы ехали они вместе. Коня пришлось продать, и денег на проезд хватало.
— Моя жизнь — твоя жизнь! — сказал растроганный Нигмат. — Может, приведется отблагодарить и тебя как положено!
Он не знал, а может, забыл, что слово владеет таинственной силой — бывает минута или мгновение, когда оно, брошенное в свет, как камешек, вызывает обвал — невидимый, неслышный, и продолжается он годы…
И было море, и были дни и недели отчаяния, когда, казалось, нет спасения, когда черные валы бросались на ладью и пробовали утопить ее в страшной бездне, над которой то летело, то затихало в безветренные дни слабое творение рук человеческих. И кончились припасы еды и питья, и не осталось у Алексы ни единой золотой дробинки, что дал ему Бибо. И когда, казалось, оставалось только лечь и умереть, увидели они долгожданный берег.
Однако и на этом путь не кончался. Наоборот: самое страшное лежало перед ними — пустыня.
Впервые Алекса видел пустыню. Она действительно ошеломляла не привыкшего к ней человека. Огромное пространство. Под ногами — серая, расколотая трещинами, белесая площадка, что блестит под солнцем, будто отполированная. И так — намного верст вперед.
— Это такыр, — показывая вокруг, объяснил Нигмат. — А это барханы. — Он еще раз показал на огромные и немного поменьше кучи песка, разбросанные аж до самого края пустыни, лежащей перед ними.
— Сохрани меня Перун, это — как блин. Что же тут — ни возвышенности, ни долины, только вот это под ногами? — показал вниз Алекса.
— Да, сколько будем идти — сплошь пустыня. И чем дальше, тем страшнее она. Хорошо, что начали мы свой путь теперь, ранней весной, когда нет страшной жары. Видишь, вон саксаулы — они нам дадут топливо для костра, и мы обогреемся. Человек живет и тут. Он, человек, повсюду живет, — философски заключил Нигмат.
За ними оставалось море — оно было неприветливым, на синих волнах пенились гребешки, белые и зеленоватые. Глухо шумело вокруг, терся песок о глиняную площадку, и Алекса понял, почему здешняя земля такая отполированная. Кое-где блестели круглые ямки — в них также стояла вода. Может, и она была такой же горькой и непригодной для питья, как и вода этого неприветливого моря, — Алексе всё время мерещилось, что вот сейчас оно нагонит их и с ревом обрушится, поглотит навеки. Однако они с Нигматом шли и шли по пустынной земле, по которой скользили ноги, а море оставалось в берегах, только шум его становился все тише, и уже не угроза слышалась в нем, а какая-то жалоба, будто у зверя, которого заключили в огромную клетку…
Все с большим интересом Алекса смотрел вокруг.
Необычайно прозрачным, как бы светоносным был воздух, и от этого все будто бы тихо светилось — и земля, и растения. Вот в сторонке показалось здание — четыре колонны одиноко окружали провалившийся купол. На стене ослепительно заблестели разноцветные плитки. Когда подошли ближе, Алекса увидел — это узоры. Витиеватые, они будто парили в воздухе. Было особенно печально, что эта красота живет только для ящериц и змей, которые, шурша, поползли прочь, когда они зашли в развалины, чтобы немного отдохнуть.
— Это мазар — кладбище, здесь когда-то был похоронен знатный человек, может, даже хан, — объяснил Нигмат. — Хан — это как ваш каган, ваш князь.
— А что с ним случилось? — поинтересовался Алекса, тяжело снимая полотняный мешок с сушеными фруктами и лепешками, которые они заработали, три дня замешивая глину и навоз для кирпичей в одном из глухих селений.
— Кто знает. Тут многое случалось, — задумчиво ответил Нигмат, собирая тонкие былинки для костра и огнивом высекая искру. — Вот попьем чаю, пойдем дальше.
Стена отбрасывала на песок косой треугольник тени, и они сели под ней. Высоко-высоко, в прозрачном небе, проплыли клином журавли.
— Первые птицы. Вскорости оживет пустыня, посмотришь тогда, как тут все расцветет, — сказал Нигмат, бережно бросая в черный, закопченный кумган щепотку черного чаю.
Алекса долго провожал взглядом журавлей. Так вот где кружат они, прежде чем прилететь на Двину, в их Полотчину. Вот что лежит под их крыльями — бесконечный блин пустыни, старые, заброшенные крепости и кладбища былых владык! Попив чаю, он не выдержал, пошел внутрь, за стены. Там кроме мавзолея высились остатки бывшего дворца — высокая когда-то башня, к ней примыкали длинные коридоры. Бойницы, ступени лестниц, арки — все сделано из сырцового кирпича, уже выщербленного временем. В нише у высокого разрушенного окна — фигурки из кирпича. Он подошел, потрогал — женщина кормит ребенка, лицо у нее едва намечено, но формы тела покатые, будто налитые силой. Дальше, во мраке галереи, видны разбитые сосуды.
В таких привозили вино в Полоцк чужеземные купцы. Были видны кости животных, кучи пепла. Он отправился дальше.
— Куда ты? Такие места любят злые духи — джинны! — закричал снизу Нигмат.
Алекса, разглядывая следы далекой, непривычной жизни, незаметно поднимался вверх. И теперь он стоял меж стен, у которых не было крыши, стен, от которых сохранились только развалины.
Среди черного запустения сияли неожиданно яркими, живыми красками росписи на стенах. Древние люди в необычных одеждах, плащах ехали на удивительных зверях, натягивали луки, танцевали. Лица мужчин и женщин, сильно потертые ветрами и солнцем, временами были удивительно выразительны, и Алекса жадно смотрел вокруг, будто хотел навеки сохранить в сознании увиденное. Только в церкви видел он раньше такие рисунки, но в церкви были иные святые, а людей с луками и стрелами, танцовщиц там не было никогда. В углу лежали кожаные свитки — это, видимо, были какие-то записи, однако они уже почти истлели. Что остановило тут жизнь — болезнь, война или гнев богов неожиданно обрушился на тех, кто некогда жил в этих стенах, ел, пил и смеялся?
Послышались шаги. Это, испуганно озираясь по сторонам, спешил наверх Нигмат. Он и вправду ждал, что увидит тут джинна, или одного из нечистиков-ифритов, или мертвого уже путника, потому что лицо его, когда он увидел Алексу, засветилось радостной улыбкой.
— Почему ты не откликаешься? — с упреком сказал он.
— Посмотри. — Алекса вместо ответа повел рукой вокруг.
— Вай-вай, какое это чудо! — восторженно поцокал языком Нигмат. — Я слышал, что в давнее время здесь, возле караванного пути, был город. Может, это он и есть?
Алекса увидел неподалеку вылепленную из какого-то белого, не известного ему материала голову танцора: узколицый, тонконосый человек с черной кудрявой бородой в шапочке. А над шапочкой — козлиные уши. Алексе только теперь стало жутко — как раз таким изображали полоцкие иконописцы черта, который приходит за душой человека, много нагрешившего.
— Пойдем отсюда. — Он потащил за собой Нигмата, и они быстро вышли из дворца.
На возвышении, возле их погасшего костра лежала змея, она лениво подняла голову и неохотно поползла в недалекую лазейку возле большого куска бирюзовой глазури, — видимо, ветром сюда занесло одну из плит дворца.
Они молча проводили ее взглядами и начали собираться. Собственно, сборы были недолгими — затолкали в мешок остатки лепешки, бережно завернули в несколько слоев плетенку с чаем, положили наверх кумган, — и снова в дорогу.
Ночью Алекса вскочил. Какой-то непонятный гул пронесся над пустыней, и он все усиливался, нес тревогу, вроде бы где-то рождался смерч. Вокруг безлюдно, только огромные звезды низко висели над землей, а теплый песок под ними мягко светился в своем сонном, недвижимом царствии.
— Это бархан поет, — сонно сказал Нигмат.
— Что? — не понял Алекса.
— Песок поет. Ветер поднялся, а когда поднимается ветер, бархан — есть тут такой в Каракумах — начинает петь. Я слышал его раньше. Спи.
Нигмат повернулся на другой бок и сразу заснул. Правда, легли они не так давно, сильно устали.
Ночью идти было легче, воздух не стал прохладнее, нет, он только утратил свою невыносимую жгучую жару, и караванный путь твердо ложился под ноги. Они свернули, когда услышали колокольчики, — это значит впереди шел караван. Они боялись караванов, хотя идти вместе было бы легче. Однако человека здесь следовало бояться больше, нежели смертельной жары или неслышимой в песке змеи, что скользит стремительно и напоена ядом смертельной силы, более страшным, чем у гадюк в полоцких лесах, — Алекса теперь знал это хорошо.
Они шли не так долго, но вокруг все изменилось до неузнаваемости. В пустыню пришла весна, зацвело все, в чем хотя бы немного теплилась жизнь: цвели колючки, корявые саксаулы — деревца, искривленные постоянной непогодой, цвели акации возле юрт кочевников, куда они сворачивали с дороги.
Нигмат учил Алексу языку фарси — удивительно легко давались полочанину слова чужого языка, и он учил их яростно, будто это обещало какое-то спасение в будущем. А Нигмат был рад этому и много говорил о родных местах, о славных городах Бухаре и Самарканде. Рассказывал про обычаи народов, населявших древний Согд и Бактрию, про то, что персы в его родных местах когда-то поклонялись Огню и богом их был Зардуштр. Однако вот уже несколько поколений как захватили земли персов кочевники — бедуины, и они принесли лучшего бога — Аллаха и его наместника на земле — Магомета.
Сам Нигмат, как праведный мусульманин, старательно исполнял обряды. Несмотря на далекий путь, нес он в мешке маленький, только поставить колени, коврик, сплетенный из тростника, и старательно молился по нескольку раз в день. Так же тщательно совершал он обряд омывания, стараясь отойти в это время от Алексы и побыть одному. Однажды это чуть не привело к большой беде. Едва отошел Нигмат за невысокий бархан, держа в руке малюсенький кумганчик, как подул — сначала не очень сильно, но с каждым мгновением все сильнее — сухой, скрипучий ветер. Прямо на глазах у Алексы все вокруг заволокло клубами пыли, песка, покрылось мглой, поплыло… Он бросился на землю, сдернул с себя овчину, чтобы как-то спрятать глаза от жгучей, резкой, как битое стекло, песчаной смеси, накрыл голову, упав на колени. Стоило ему хоть на мгновение высунуть голову, как нос и рот забивало сухой, колючей пылью, и он сжимался, стараясь закрыться от этого неожиданного смертельного ветра. По телу его, сдирая до крови, нёсся песок, но голова была закрытой, страдание, которое нес ветер, было нестерпимым — рот и глаза были забиты пылью. Время не двигалось, нет, оно просто остановилось из-за этой песчаной бури, и казалось, все это будет длиться вечно, всегда. Всегда он будет лежать вот так, задыхаясь, всегда, до Страшного суда, будет вот так не хватать воздуха, и даже слеза не в состоянии пробиться сквозь этот страшный шквал… А может, это и есть Страшный суд, может, за все его прегрешения занесло его на край света и вот так беспощадно теперь молотит и уничтожает? Он вспомнил: говорил Нигмат, что в пустыне бывают смерчи и в каждом из них поселяется джинн. Может, правда эти джинны, эти нечистики обрушились на него, но он все еще живой, все еще колотится, бешено стучит сердце…
Наконец вокруг вроде начало утихать. Он сел, протирая кулаками глаза и пальцами доставая изо рта песок и пыль. Язык распух, трудно было сказать хотя бы слово, он начал озираться, но нигде не видел Нигмата, и страх овладел им, страх остаться одному в этой бескрайней пустыне, в песках, где блеклое небо во время таких песчаных бурь сливается с землей… И он попробовал закричать:
— Нигмат!
Крик был почти беззвучным, он затерялся тут же, возле Алексы. Немного прочистив горло, закричал вновь. На этот раз что-то испуганно метнулось прочь. Может быть, какая-то ящерица тоже пряталась во время бури рядом? Но никто не откликнулся. Тогда он вновь закричал — безнадежно и долго. И никто не отозвался в ответ…
Надвинулась ночь. Он недвижимо сидел, боясь отойти от дороги — как бы не потерять ее. Барханы повсюду одинаковы. Пойти вперед — значит заблудиться в них и никогда не возвратиться назад. К тому же он надеялся — Нигмату легче будет искать. Ему привычнее здешние места, он как-то различает эти барханы, такие одинаковые для Алексы, по звону колокольцев слышит, какой идет караван. Хороший помощник ему этот сероглазый парень, всегда веселый и услужливый!
Мгновенно опустилась на землю ночь, крупные звезды высыпали на небосклоне. Алекса неохотно разжег костер, сломав для этого узловатое, почти распластанное по земле деревце, что росло невдалеке. Кремень высекал искру за искрой, но костёр не хотел загораться, будто без Нигмата он потерял силу. Однако наконец огонек затеплился. Алекса вскипятил воду, чутко слушая ночь, и положил возле себя кинжал. Огонь был ныне врагом — виден издалека, и кто знает, кому он приглянется! Но огонь мог заметить и Нигмат, и ради него рисковал Алекса, потому что не хотел верить, что пустыня поглотила спутника, к которому он действительно привязался, как к родному.
Ночь шла, а Алекса все жег костер, и, может, уже весь сушняк вокруг был сожжен, а искать чернобыльник ночью становилось все труднее. И только когда немного зарозовелось небо на востоке, до Айексы донесся слабый крик:
— Эй-вай!
Показалось или в самом деле кто-то кричал? Алекса вскочил, закричал что было сил. Крик через некоторое время возвратился, а потом приблизился. Из-за бархана выступила чья-то фигура, и это был Нигмат, голос его был радостным и одновременно усталым:
— Э-гей-а-а!
Алекса, забыв обо всем, бросился навстречу другу:
— Братец, братец ты мой!
Он обнял Нигмата за плечи, тряс его изо всех сил, и слезы катились по лицу, падали на грудь, на плечи Нигмата.
— Нашелся!
Он говорил на своем языке, однако Нигмат понимал его, и он в свою очередь обхватил Алексу за плечи и сказал со своей всегдашней улыбкой:
— Пить дай, а то пропал совсем Нигмат!
Они подошли к костру, и Нигмат первым делом погасил слабенький огонек, пощупал кумган.
— Горячий!
Он хлебал чай жадными, большими глотками, потом остановился:
— Колодец не скоро, беречь нужно!
Бережно заткнул деревянной пробкой корчагу, в которой они хранили воду, поднял на плечи мешок.
— Айда, пока не поздно. Саратан начинается, слышишь, саратан! Нужно подойти к ближайшему селению, там поживем до осени.
— Саратан?
Алекса жадно ловил незнакомое слово.
— Пошли, в дороге расскажу.
Небо стремительно светлело, наваливалась жара, ей будет полон весь день. Идти становилось все труднее, и, видимо, близок был он, этот саратан, что сжигает растения и деревья, огненным океаном обрушивается на землю. Горе человеку, который не может напоить свой урожай! Солнце расплавит все живое, что не оберегает вода, ибо так дорого стоит она в этих местах. Солнце коварное, оно выжигает и воду, оставляя соль, земля просаливается, становится белой, и жизнь покидает ее. Чтобы вернуть такую землю к жизни, нужна вода — ею промывают засоленный участок, он снова набирает силу и может рождать растения. Здесь же, в пустыне, где нет воды, нет и настоящей жизни. Правда, когда-то вода была здесь, об этом свидетельствуют древние крепости и города. Вода приходила к ним по каналам, которые питала река. Однако река капризная, она меняет русло, и приходится прокладывать каналы снова и снова…
Еще рассказал Нигмат, как, застигнутый песчаной бурей, он потерял дорогу и, надеясь добежать до Алексы, пошел в другом направлении, но, поняв, что заблудился, скоро остановился и ждал, пока можно будет искать дорогу.
Еще две ночи шли они, а днем искали хоть небольшой тени и ложились спать, разгоняя на месте ночлега ядовитых скорпионов и змей, копая под чахлым деревцем яму и затеняя ее всем, что было у них — ковриком, четырехугольниками мешков, обвешиваясь со всех сторон и палками закрепляя свои нехитрые пожитки, чтобы не сорвал их нежданный вихрь. Ложились спать просто на землю, в теплый еще с ночи песок, а вокруг Нигмат непременно стелил волосяной аркан, сплетенный им по дороге из остатков верблюжьих и конских волос, которые время от времени, зацепившись за чернобыльник, попадались на обочине.
— Простую веревку змея или скорпион переползет, — объяснял он, — а волос жесткий, она начнет ползти, наколется и — назад!
С каждым днем все больше выгорала пустыня, и однажды, когда они, закрывшись от солнца, молча сидели в ложбине, Нигмат показал рукой:
— Каракурт!
Алекса глянул на землю, однако не увидел ничего.
— Вот же! Паутина!
И правда, в затененной мышиной норке едва слышно вздрагивала тонкая паутина. Пестрая муха, пролетая мимо, зацепила нить паутины. Мгновенно из глубины норки выкатился черный бархатный шарик. Паук дернул за паутину — муха забилась в ней, рванула крыльями, но в этот момент ее облепила капелька прозрачной липкой жидкости. Паук, обрывая одни нити и подтягивая другие, быстро затащил муху в глубину логова.
— Берегись! — показал Нигмат. — Укусит, и твой Перун не спасет тебя от смерти!
— Может, твой Магомет спасет тебя?
Нигмат вскочил, ноздри его раздулись, дыхание стало быстрым и тяжелым.
— Если скажешь еще слово о пророке — зарежу!
И Алекса вскочил, глаза его налились гневом.
— Ты первый начал!
Некоторое время стояли они друг перед другом, сжимая кулаки. Солнце жгло их головы.
Наконец Нигмат обмяк, опустился на землю, накрылся ковриком. Алекса вытер ладонью вспотевшее, взмокшее лицо. Хотел глотнуть воды, но подумал: «Нехорошо, мало ее» — и тяжело мучился жаждой до самого вечера.
Потом они примирились и отправились дальше.
Однажды под утро, устало отыскивая, где бы устроиться на отдых, они заметили стены. Собственно, увидел их своим острым глазом Нигмат и обрадованно воскликнул:
— Люди! Юрты!
Им и правда нужно было искать пристанище: в последний день они так и не смогли уснуть, от жары, а колодец, до которого добрели, оказался соленым, около него лежали два скелета, а неподалеку разбросаны были кости верблюда — бо́льшую часть их растащили дикие звери. Нигмат обошел скелеты, высматривая, не найдется ли возле них что-нибудь полезное, но такового не нашел и, повозившись немного у колодца, попробовал воду, со злостью плюнул и скомандовал идти дальше. Они побрели, им обоим не давала покоя мысль — вода кончалась, а что, если и следующий колодец окажется негодным? Алекса когда-то пробовал пить неимоверно соленую воду, но и умирая от жажды, ее нельзя было брать в рот, потому что после нее нестерпимо хотелось пить. Они берегли каждую каплю воды, даже Нигмат теперь во время молитв умывался песком, а не водой. По-видимому, хотел убедить Аллаха, что он, как и прежде, исполняет все его заветы.
Завидев стены, они прибавили скорость, но жилье как бы постоянно удалялось, а солнце, поднимаясь выше, немилосердно жгло. Шли и шли, обливаясь потом, а с ним, казалось Алексе, таяли силы, да и желание двигаться дальше.
Возле дувалов — глиняных оград селения — огненная лавина скосила-таки их. Алекса упал, теряя сознание. Последним, что промелькнуло в голове, — мысль об овцах, которые, лежа возле глиняных хижин, испуганно блеяли, глядя на пришельцев, и надежда на то, что Нигмат, может, окажется сильнее и доползет до селения, которое дразнило вот уже полдня и теперь погружается во тьму…
Когда он открыл глаза и немного пришел в себя, увидел, что лежит на шкуре и в рот ему потихоньку льется что-то кислое и терпкое. Не знал, что дают ему пить, но жадно ловил распухшим ртом эту белую жидкость, пока смуглая рука, держащая чашу, не отняла ее. Тогда он увидел молодую женщину в круглой, черной, вышитой шелком шапочке, на которой кое-где были белые перышки. Ниже, на тонкой смуглой шее, бренчали монеты и ожерелье, но платье на ней было почти до прозрачности истерто временем и, видимо, не снималось уже много месяцев. В юрте кроме молодой женщины была еще старая женщина с морщинистым, будто потрескавшимся лицом, в таком же заскорузлом платье, но с головой, обвернутой огромным тюрбаном. Она бренчала посудой, и вкусный запах жареного мяса плыл снаружи.
Алекса оглянулся — Нигмата нигде не было. Он попробовал подняться, молодая женщина о чем-то строго заговорила, он понял одно слово — «там», сказала, видимо, она о Нигмате, показывая куда-то в сторону. Снова показала рукой — мол, ложись, но он ослушался, поднялся, вышел из хижины.
Нигмат налетел на него сразу. Он схватил Алексу за руку, закричал испуганно:
— Идем, идем отсюда!
Алекса оглянулся. Неподалеку от них горел небольшой костер. Мужчины сидели кучкой. Их было немного, но никто из них не пошевелился, только смотрели они на чужих, сидя с расставленными ногами на куске полосатой ткани в тени от растрескавшейся хижины. Чем же так встревожен Нигмат? Он повторил:
— Пойдем! Быстрее! — и прибавил непонятное: — Махау-хана!
Что такое «хана», Алекса уже знал, — это помещение, дом, хижина. «Мехмонхана» — место, где едят. Так говорили еще за морем. Но «махау»? Нигмат дернул его за руку:
— Смотри!
В ослепительном свете Алекса прищурился, пристальнее посмотрел туда, куда указывала рука Нигмата, и ужаснулся — мужчины были вроде бы объедены чем-то. Багровые, в сплошных ранах лица, тела в страшных буграх, у некоторых не было рук или ног.
— Махау! — повторил Нигмат, тянучи его прочь. Он с ужасом показал на себя, на Алексу, потом на мужчин возле хижины.
Алекса никогда раньше не видел прокаженных, но потом, уже в южных краях, встречал их немало на базарах и дорогах. И всегда они вызывали в нем такой же ужас, который охватил его в первый раз. Он побежал было за Нигматом, но вспомнил — мешок остался в хижине, а там нехитрые пожитки, без которых так трудно путнику. Он вернулся, подал знак Нигмату, забежал в хижину. Старая женщина повернулась к нему, и он увидел на ее лице следы той же страшной болезни. Схватив мешок, спиной, не сводя глаз с женщин, будто боясь, что кто-нибудь дотронется до него, выскочил из хижины. Огненное солнце стояло над их головами, но они шли вперед, пока не свалились в какую-то яму и не прилегли там, как всегда, тесно прижавшись друг к другу.
Еще через день, завидев вновь вдали жилье, они пошли к нему и набрели на небольшой караван-сарай. Лепешек в мешке уже не было, не было и воды. Оставалось или медленно умереть с голоду, или попробовать набрать хотя бы воды. Вода в караван-сарае тоже стоила денег, но что было делать? Будет день — будет хлеб…
Над высоким узким входом в караван-сарай, выложенным из желтоватого камня, высечены фигуры львов — Алекса уже не однажды видел этих зверей на монетах и фресках старых башен. Они вошли во двор, чистый, опрятный. Бородатый мужчина в косматой шапке и халате, подпоясанном красным платком, поспешно вылетел навстречу, но, разглядев их, замедлил шаг и недовольно нахмурился. Возможно, он ждал богатых гостей, а эти двое молодых оборванцев навели его на мысль, что пришли они просить воды и еды, а тут, в пустыне, и то и другое стоит немало. Но не подать нищему хотя бы кусок лепешки — будешь опозорен по всей караванной дороге и имя твое все начнут поминать не с добром.
Маленькая потертая монетка на ладони Нигмата несколько успокоила хозяина. Он взял ее, подбросил на ладони, что-то крикнул гортанным голосом, и сразу же в двери появился худенький мальчик.
— Он даст нам пить? — шепотом спросил Алекса.
Нигмат кивнул, и они следом за мальчиком направились в угол караван-сарая. Там, за забором-дувалом, стояли верблюды и было даже две лошади, вкусно хрустевшие овсом. Мальчик подвел их к большой, сделанной из обожженной глины яме, накрытой тяжелой глиняной плитой. В яму с другой стороны входил тонкий желоб из глины, идущий откуда-то сверху. Мальчик по ступенькам полез в яму, достал оттуда большую глиняную флягу воды, подал путникам. Потом взял у них кумган и сосуды, тоже наполнил все это водой. Нигмат и Алекса жадно выпили воды, потом Нигмат что-то сказал мальчику, тот оглянулся по сторонам, сначала отрицательно покачал головой, а потом снова полез в яму и наполнил их пустые уже фляги.
— Я сказал, что у нас больше нет денег. Но я предскажу его судьбу, если он даст нам немного воды, — объяснил Нигмат.
Почти в тот же момент появился хозяин, он подозрительно посмотрел на них и придирчиво начал наблюдать, как закрывает мальчик тяжелой крышкой драгоценную емкость. В руках хозяина было две лепешки. Свежие, белые, слегка покрытые маком, они показались Алексе спасением. Ему захотелось выхватить их из рук хозяина, впиться в теплую белую мякоть зубами и есть, есть… Но он сдержался, осторожно принял лепешки и вслед за мальчиком пошел в маленькую комнатку — худжар.
Они хорошо выспались на тонкой стеганой подстилке. Когда Алекса проснулся, Нигмата не было. Не было его и во дворе. Алекса подошел к желобку, который заинтересовал его раньше, и внимательно разглядел, откуда же течет вода. Желобок вел к большой ровной глиняной площадке, где, видимо, собиралась дождевая вода или роса, которая потом стекала в емкости внизу. «Просто и разумно», — подумал он. Интересно, что человеческий разум всегда приспособится к своим нуждам. Сверху, с лестницы, он увидел неожиданную картину: на деревянном возвышении — ступе, поджав ноги, сидел Нигмат, вокруг него стояли чашки, кумганы, блюда. Спустившись, он застал друга озабоченным: Нигмат осторожно держал чашу из тонкой белой глины с красной глазурью, рассматривая ее.
Оказалось, Нигмат успел склеить почти незаметно для постороннего глаза любимую чашу хозяина. Чаша стоила больших денег и принадлежала еще деду, а потому благодарный хозяин предложил Нигмату остаться тут, пока жара задерживает путников, чтобы заодно починить всю посуду, потому что посуда эта — дорогая, из нее пили только богатые гости. У чаши была оторвана ручка. Нигмат смотрел на нее.
— И ты это сделаешь? — удивленно спросил Алекса. — Но как?
— При помощи Аллаха и еще вот этого. — Нигмат показал на узелок. — Я всегда ношу его на груди как талисман-хранитель, ибо порошок этот — секрет нашей семьи. Может, им владеют мастера Чина, заоблачной страны, но в наших землях я нигде не встречал человека, который умел бы так обновить древнюю и очень дорогую посуду.
— А если бы кто-нибудь выкрал этот порошок?
— Не страшно, — весело рассмеялся Нигмат. — Нужно еще знать секрет, как им пользоваться. И скажу тебе еще как брату — надо достать горячее молоко верблюдицы, а если нет верблюдицы, просто горячее молоко. Когда-нибудь я покажу тебе секрет, но теперь будем зарабатывать деньги на дорогу. Я ведь твой должник!
— А я ничего не умею, кроме что владею мечом или ножом. Еще умею управляться с лошадьми, могу, если нужно, работать помощником кузнеца, но только помощником, потому что секретов его тоже не знаю… — вздохнул Алекса.
— Ничего, брат. Я вот не умею держать меч, потому что я всего только ремесленник. Если бы был купцом, то, наверное, научился бы драться, ибо купцы — люди рисковые, им нужно защищать свое добро. А что мне защищать? На мои инструменты никто не позарится, всем нужны мои руки и моя голова.
— А их что, не нужно защищать?
— А зачем тогда воины? Короток человеческий век, всего не познаешь. Учился бы я играть с мечом, не научился бы другому. А тебя возьму как подручного, будешь потихоньку носить мне воду да размешивать порошок или просто делать вид, что помогаешь. Наш хозяин, он за так ничего не дает. Ну, так за дело, брат! Нам еще нужно заработать немного денег до Бухары. А там у меня родичи — думаю, помогут. А потом, когда ты найдешь свою красавицу, я вернусь в Самарканд!
* * *
Закончился саратан, и у них в самом деле были деньги, чтобы купить место в караване и сесть на верблюдов. Все же ехать лучше, нежели тянуться пешком; минули недели — и они добрались до Бухары.
Брели по городу, наполненному криками торговцев и призывами водоносов. Алекса оглядывался по сторонам и потому часто спотыкался. Глаза его жадно впитывали окружающее, но зрение от множества впечатлений уставало. Мелькали глиняные заборы с резными дверями, высокие, на тонких деревянных колоннах торговые дворы, рынки, где краснели, синели, пестрели невиданные овощи и фрукты.
— Мавзолей Самани, — с гордостью показал Нигмат на четырехугольное здание, богато украшенное голубыми плитками и золотыми расписными узорами.
Мавзолей сиял в лучах утреннего солнца, как сказочное видение. Алекса невольно зажмурил глаза.
— Мавзолей — это что? — спросил он.
— В этом мавзолее захоронены хан и его близкие, — объяснил Нигмат.
— Захоронены? Тут, во дворце? — удивился Алекса. Остановился, посмотрел еще раз на огромное здание, вздохнул. — Тяжело ему тут лежать. Камни небось на грудь легли. У нас волотовки, курганы. Там покойному легко дышится. А то бывает, у нас сжигают мертвого, но уже реже. В последнее время больше хоронят в земле.
— У нас тоже сжигают. Те, кто поклоняется Огню, но они — неверные, такие же, как и ты, — сказал Нигмат. — Я думаю, ты еще увидишь силу Аллаха и поймешь, что твоя вера неправильная. Но ты мой побратим, и силой не буду тебя заставлять, хотя тут, — посмотрел по сторонам, — тут мне это было бы сделать легче, чем там. — Он кивнул головой назад.
— Так ты что… угрожаешь мне? — Алекса ощетинился, рука его сжалась в кулак.
— Ты мой гость, — уклонился от ответа Нигмат. — Я же не Айшма, не злодей, который обижает путников. Не бойся.
— Я и не боюсь. — Алекса разжал кулаки, двинулся дальше.
Вскоре они свернули в тихую улочку, где сильно пахло цветами, в особенности — розой. Они шли к бухарскому умельцу, который когда-то дружил с отцом Нигмата и вместе работал с ним.
Зелень пробивалась на деревцах, выглядывающих из-за дворика, около небольшой глиняной стенки цвели розовые цветы. Нигмат постучал в дверь.
Она открылась не сразу — кто-то посмотрел в щель, потом долго шептались, и тогда Нигмат громко воскликнул:
— Во имя Аллаха, есть ли тут хозяин?
Тогда дверь мгновенно открылась, и высокий седой мужчина в полосатом теплом халате и плоской вышитой шапочке на голове показался в проеме.
— Я подумал, что это злой демон Аждарха превратился в сына моего друга и стоит на пороге. Во имя Аллаха великого, милосердного, скажи — это ты, Нигмат?
— Клянусь светлым Аллахом и пророком его Магометом, уважаемый Атаджан, что я не Аждарха, и не другой демон, и не дух азаткы, который сбивает с пути путников. Длинная и необычная история приключилась со мной, и она правда может служить притчей, которую записывают для сыновей и внуков! — сложив руки на груди, заговорил Нигмат. — Мы с другом идем с большой и трудной дороги, на которой пока помогает судьба. Помогите и вы, отец, иначе самые последние шаги к дому станут и самыми трудными.
— Входите! — сказал хозяин, и гости вошли в маленький дворик, густо усаженный цветами.
Небольшая терраса была вся, до последнего кусочка красноватого дерева, украшена резьбой и росписью. Алекса загляделся на ближайшую колонну: причудливые цветы будто обвивали ее, а красная краска внутри цветов делала их живыми.
Хозяин заметил его восхищение, но ничего не сказал, повел их дальше, в комнату.
Молодой парень с тазиком в руках и длинногорлым сосудом с водой возник на пороге почти мгновенно.
В комнате та же замысловатая резьба — на двери, на невысоком столике, на ширме, закрывающей вход в другое помещение.
На стенах висели яркие вышитые полотна, и солнце по-особенному празднично ласкало узоры и переливы нитей. Много терпения, много дней и ночей стоила кому-то эта работа, и Алекса подумал о девушках — тоненьких и пугливых, чьи слабые руки творили чудеса: будто увидел среди них и ту, за которой пошел в этот далекий, залитый огненным жгучим солнцем край. Как ей тут дышится, как живется, не исколола ли она свои почти прозрачные, тонкие пальцы этой работой, вышивая своему чернобородому владыке такие же полотна?
— Чойшаб, — показал хозяин на одно из покрывал, занавешивающих вход, приподнял его.
Во второй комнате горой лежали у стен подушки, на длинном, огромном ковре стоял маленький столик. Алекса засмущался: видимо, задумался, поглядывая на замысловатую женскую работу, проявил излишнее любопытство. Нигмат, заметив его смущение, потрепал по плечу, уступил место у таза. Смуглый парень сразу же начал поливать на руки. Алекса невольно сжал ладони: руки были поцарапанные, с черными шрамами. Да, не очень почетного гостя принимал хозяин Атаджан! Однако недолго задержатся они здесь. Но, тут же кольнула мысль, могут остаться и навсегда. Опасное и неправедное, по соображениям людей этой земли, его дело! Может, потому и Нигмат ничего не говорит хозяину про их намерения, может, Алекса сам, без никого, сделает то, для чего добирался сюда? Если даже это будет последним в жизни! Потом опомнился. Нельзя решать с разгону как хочется, как жаждет сердце. Нет, нужно терпение и еще раз терпение!
Хозяин пригласил их в соседнюю комнату, и Алекса снова удивился: на скатерти, постеленной на низкий столик, лежали мягкие лепешки, на медных подносах краснели уже знакомые плоды, сок которых, кисловатый и вязкий, утоляет жажду и заставляет кровь быстрее бежать по жилам, а также лечит при внутреннем ослаблении. Казалось, что и плоды эти, и орехи, и белые, будто кусочки высохшей муки, сладости, и куски мяса возникли здесь по воле волшебника, потому что не слышно было ни шагов, ни движений — ничего, что выдавало бы присутствие кого-то другого.
Они сели за стол, и до самого вечера Нигмат рассказывал хозяину и двоим его верным друзьям, за которыми было послано, о своем путешествии. Те пили сладкое, густое, вязкое вино, со смаком ели и с таким же смаком слушали, время от времени вздымая вверх руки и цокая языком в знак удивления. Алекса заметил — дверь из соседней комнаты была приоткрыта и что-то цветное мелькало там. Однажды он даже увидел черные, веселые и немного удивленные девичьи глаза и морщинистую руку, которая оттягивала виновную подальше от чужих мужских взглядов. Безусловно, женщины, живущие в этом доме, тоже слушали о приключениях Нигмата и Алексы, потому что один раз, когда парень рассказывал, как убегали от прокаженных, оттуда донеслось выразительное: «Вай-вай!» Хозяин повернул голову в сторону вскрика, лицо его нахмурилось, и все сразу стихло.
Слушать здесь любили — давно солнце утратило свою силу и садилось за огромное дерево во дворе, а присутствующие все сидели и слушали… А разве полоцкий князь, подумалось Алексе, не любил бесед с приезжими людьми, не интересовался, как и что происходит в далеких краях, не удивлялся незнакомым обычаям и порядкам?
Алекса слушал о своих приключениях, но то единственное, ради чего он добрался сюда, рискуя жизнью, подступало к горлу, требуя немедленных действий. Что с Березой, где она? А может, перевез ее купец в другое место, может, и в живых нет ее уже, как и самого Абдурахманбека?!
Нигмат не сказал одного — что привело сюда Алексу. И никто не спрашивал об этом. Захочет гость — скажет. Нет — таково его желание. И так много интересного рассказывает молодой мастер Нигмат!
Гости расходились за полночь, раскрасневшись от вина и веселья. Парней же отвели в комнату, и там, на толстых одеялах, разостланных вдоль стены, Алекса заснул почти уже на рассвете, хотя утомленное тело просило сна. Лежал, глядя на окно, где медленно двигались звезды, откуда дул теплый ветерок. Может, этот ветер колышет и над Березой тяжелые, вышитые шелковыми и золотыми нитями полотна, притрагивается к ее губам, шевелит мягкие волосы. Он едва сдерживался, чтобы не подняться, не выйти на сонные улицы этого большого незнакомого города с голубым мавзолеем и глиняными заборами, с розовыми цветами в двориках и несмолкаемыми речками вдоль дорог и не пойти искать двор купца — искать по биению сердца, по той неведомой силе, которая толкает и зовет человека туда, куда рвется его душа. Он был уверен, что нашел бы тот дом. Но разум возражал, и Алекса думал, что действительно нельзя рисковать собой и Нигматом сейчас, когда так близка цель. Может, и правда лучше идти одному? Но Нигмат не отпускал его. Теперь он спал крепко, иногда бормотал во сне. Что-то теплое поднялось в душе Алексы — этот парень тоже хотел домой, он же дышал родной землей, воздухом! И все же не пошел сразу к семье, к братьям и матери, а помогает Алексе — помогает вопреки всему, к чему привык с детства…
Он наконец заснул, и Нигмат растолкал его с трудом.
— Хватит спать! — сказал весело, и черные глаза его смеялись. — Если бы шах влюбленных Меджнун спал так, как ты, о нем никогда бы не сложили столько песен! Могу обрадовать тебя: уважаемый Абдурахман здесь, в городе, и его любимая жена Бадия тоже.
— Бадия? — неуверенно переспросил Алекса.
— Ну да, она, твоя белокурая красавица! О которой стоило бы написать чудесную газель! Но падишах поэтов Рудаки давно умер, да и мы, невольники аллаха, далеко стоим от знаменитых людей, и не о нас пишут бейты и рубаи!
— Разве ты видел Березу? — недоверчиво спросил Алекса, исподлобья взглянув на Нигмата.
— О нет! Чужая жена — заветный сад, куда другим вход запрещен! Это гурия, к которой может подобраться только избранник!
— Когда мы пойдем туда? — глухо сказал Алекса, и Нигмат, став серьезным, ответил коротко:
— Завтра на рассвете. Бадия любит гулять по саду рано, когда домашние еще спят. Увидеть ее можно только там, в саду. Дом купца хорошо охраняют, и недаром, склад у него здесь же, за домом, и говорят, что он переполнен товарами!
Алексе показалось, что Нигмат чего-то недоговаривает, однако не стал спрашивать ни о чем, если нужно, скажет, ежели ж не говорит, зачем вытягивать душу?
После обеда — вкусной каши из белых прозрачных зернышек, будто напоенных душистым жиром, хозяин заговорил с Алексой:
— У тебя сердце, чуткое к красоте, — сказал он. — Я понял это, когда ты смотрел на резьбу на стенах, когда осматривал сабаяк[49] и сюзане[50]. Может, ты румиец, византиец, а не мусульманин — что с того? Если надумаешь остаться и будешь искать занятие, приходи ко мне. Я научу тебя ажурной резьбе ограды — панджара, покажу, как делать резьбу багдади, ислими и поргори — каждая из них имеет свой ритм, рисунок и особенности. Сам я больше всего люблю ислими — ты видишь, сколько в этой резьбе цветов и растений. Но если тебе больше нравится суровость и строгость линии, ты быстро овладеешь резьбой поргори.
— Я воин, а не ремесленник! — горячо воскликнул Алекса и замолчал — не хотелось обидеть хозяина, а пришлось.
Но тот улыбался.
— Кто знает, какие мы? Что дремлет там? — Он показал на грудь. Помолчал, потом заговорил: — Бывает, что человек всю жизнь ищет себя, а находит только к старости или же совсем не находит. И тогда душа его неприкаянно скитается по свету, и всюду ей плохо, и всюду что-то сгоняет ее с места, или если принадлежит она рабу, то рушатся в ней все оковы, и тогда человек сходит с ума, злой дух овладевает им полностью и затмевает свет разума. Ты можешь считать себя кем хочешь, но у тебя душа чуткая к красоте, и ты — не воин, поверь мне, хотя я всего только простой резчик, который зарабатывает хлеб своим инструментом и немного душой.
— Я не воин?! — Алекса прямо вскочил. — Да я убил столько врагов, сколько не вырезал ты цветов на своих столбах и стенах!
Нигмат тревожно дернул его за рукав, шепнул:
— Молчи! — Сказал почтительно и твердо, как глупому: — Лучшего мастера, чем Атаджан, нет в славном городе Бухаре! Но завистники хулят его работу, потому что мастер не гнет спину перед сильными, как того хотелось бы прилипалам.
— Ибо человек — не лисица, которая стелется по земле, пачкаясь в глине, лишь бы насытить свою утробу, — тихо прибавил Атаджан.
— Простите его, мауляна[51], может, он и правда только воин, — прибавил Нигмат. Он встревожился, время от времени дергал Алексу.
Но тот не мог успокоиться:
— Конечно, я воин, и сам князь хвалил меня и говорил, что сердце его радуется, когда видит, как я лечу в бой, обгоняя отменных воинов, и как сияет мой меч на солнце!
— Однако не меч привел тебя сюда, — тихо сказал хозяин, и Алекса встрепенулся, настороженно посмотрел на обоих.
— Почему вы так думаете?
— Потому что я — художник, многое чувствую сердцем, а не разумом. Но у гостя никогда не спрашивают, что у него на душе. Не хочется говорить, что мучает и угнетает, — твоя воля. Вижу — что-то гнетет вас обоих.
— О домула[52], я скажу, и пусть собственная голова послужит залогом моей правдивости! — воскликнул Нигмат. — Я расскажу, почему стал помогать чужеземцу, гяуру — неверному! Может, это великий грех перед Аллахом, однако неужели я должен был поступить иначе?!
И он поведал мастеру Атаджану о том, что привело в эту землю чужеземца-полочанина.
Атаджан долго молчал — так долго, что у обоих парней похолодели сердца и тревожно застучала в висках кровь.
— Коран говорит, что женщина создана ради того, чтобы облегчить суровый путь мужчины, и не более того.
Алекса молчал. Молчание угрожающе повисло и в комнате.
— Ну что же, я пойду, — сказал наконец Алекса. — Спасибо хозяину за доброту. Я пойду.
Он поднялся и пошел к выходу.
— Постой! — окликнул его хозяин. — Сядь! — приказал он парню, и тот послушно вернулся, сел.
— Я помогу тебе, ибо ты — мой гость. А главное — я сам пережил нечто подобное. Когда мою Зулейху отдали богачу, она умерла для меня. Умерло и мое сердце. Осталась душа. Душа подсказывает мне тот или иной узор, и в этом жизнь моя.
Могу я помочь тебе. Помогу лошадьми, чтобы ты смог вместе с твоей женщиной ускакать в пустыню, где затеряются ваши следы. Помогу припасами и водой. И не погибнешь ты на обратном пути вместе с ней. Пустыня, однако, не для женщин.
— С ней я не пропаду. Наши девушки и женщины выдублены суровыми северными ветрами, о которых вы не имеете представления, их кровь горит на таком морозе, от которого перехватывает дыхание у самого крепкого мужчины! — с горячностью воскликнул Алекса.
— Путь, которым ты хочешь пройти, напоминает мне путь ас-сират-аль-мустаким, которым идет каждый мусульманин в день Страшного суда, когда ангел смерти Исрафил зовет его. Шириной с лезвие меча тот путь, и удержаться на нем может только праведник. Однако считай, что половину ты уже прошел, добравшись сюда. Пусть поможет тебе Джирджис.
— А вам и жене вашей — святой Дауд и биби-Фатима, наши помощники! — поклонился ему, сложив руки на груди, Нигмат.
Поклонился хозяину и Алекса — низко, до земли, дотронувшись рукой до теплого глиняного пола. И тоже сказал:
— Пусть нам всем помогут боги, которые отвращают от людей несчастья, как бы тех богов ни называли…
Солнце еще не вставало, но восход был будто опоясан розовой лентой зари, и тонко пахло в воздухе влажной травой, напоминающей запах чебреца.
Они втроем лежали в густых зарослях под самой глиняной оградой, за которой начинался сад купца Абдурахмана. Третьим был чернокожий невольник, которого звали Юсуф и который жил в доме Атаджана. Он лежал спокойно, только четырехугольные челюсти его все время шевелились — он сосал насвой, смесь гашиша и пепла, иногда вынимая его из табакерки — насковок, маленькой круглой тыквы, окрашенной в красные цвета.
Алекса уже знал, что такое насвой — одна щепотка заставила его пошатнуться, лечь на теплую тропинку и минуту-другую лежать, чувствуя, как отчаянно кружится голова. Но люди вокруг, видимо, привыкли к насвою, его сосали и клали под язык седые старцы и даже женщины — видел он в доме Атаджана женщину, напоминающую сморщенное яблоко. От старости она уже не носила на голове темное покрывало и потому ходила по дому свободно, убирая в комнатах и держась с особенной гордостью, потому что когда-то нянчила отца Атаджана, а потом и самого хозяина. Она жевала насвой и предложила свой насковок Алексе, но тот испуганно отказался. Теперь, утром, лежа на прохладной еще земле и чувствуя, как морозом по коже царапается волнение, он думал, что сегодня никакой насвой не закружил бы ему голову, а может, даже несколько успокоил бы.
Небольшие шустрые птички с черными крылышками распевали свои веселые песни, прыгая по ограде, и парень позавидовал им — вскочить бы, глянуть, что там, в саду! Но глиняный дувал стоял неприступно, а единственный выход был через двор, где сидел кто-то из невольников купца. Пройти там было невозможно — на ночь дверь, подбитая железом, закрывалась и по бокам горело множество светильников.
Даже если пробраться в покои, где там искать Березу? Нигмат, видимо, был прав — только тут, в саду, она будет под присмотром одной-двух служанок, а с ними, женщинами, они справятся.
Стукнула дверь, и в саду послышались негромкие женские голоса. Нигмат, пригнувшись, пополз к дувалу, как кошка, ловко вскарабкался на него в том единственном месте, где молодой, уже зеленый клен мог прикрыть неожиданного гостя ветвями. Алекса наблюдал за ним с удивлением: гибкая фигура молодого мусульманина промелькнула в листве и исчезла, будто растворилась в ней, лишь вздрогнули ветви, но тут же все стало таким, как минуту назад. Только теперь он вспомнил, что на друге была светло-зеленая рубашка — такая же, как листья клена. Нигмат, видимо, лежал на дувале и наблюдал. Вновь послышался женский смех — и из листвы высунулась рука Нигмата, позвала их, жест был предостерегающий, и вдвоем с чернокожим невольником они медленно поползли к стене и в единочасье ловко вскарабкались на нее. Два конца веревки уже были спущены вниз, и Алекса снова удивился — не заметил он никакой веревки у Нигмата, ничего, казалось, не имел тот, кроме острого ножа с тонким лезвием в кожаном футлярчике, украшенном вышивкой и росписью — самаркандец любил носить его повсюду с собой, да меча в ножнах на боку. Такой же меч был и у него, вместе покупали в лавке возле мечети.
Вскарабкавшись на дувал, он увидел двух женщин. Одна из них, толстая, коренастая, накрывала небольшой столик красно-коричневой скатертью, вторая, в длинном зеленом платье и красной бархатной безрукавке, в шапочке с белым пучком перьев, стояла к ним спиной. Нигмат что-то прошептал Юсуфу, тот соскользнул с дувала и начал подкрадываться к служанке; толстощекое лицо ее с насурьмленными черными бровями было заспанным, она зевала, широко открывая рот. Нигмат в это время бесшумно подходил к изящной женщине, и у Алексы будто оборвалось сердце — неужели это его Береза?
Чернокожий невольник, видимо, прекрасно знал, что делать: служанка не успела ойкнуть, как рот ее был плотно забит кляпом. Женщина в зеленом также не успела крикнуть: Нигмат угрожающе шепнул несколько слов, и она застыла на месте, повернувшись к дувалу.
То короткое мгновение, когда Алекса приближался к Березе, он пережил как в страшном сне: незнакомое лицо, с ненатуральными черными бровями, под красной плоской шапочкой дико смотрело на него широко открытыми глазами, которые тоже показались ему черными. Он уже стоял, вглядываясь в нее, как вдруг лицо это изменилось, и знакомые, просветлевшие сразу от невыразимого удивления глаза засветились.
— Это… ты?!
Крик вырвался из ее груди неожиданно, и голос окончательно вернул знакомый облик: черные, нарисованные до переносицы брови, начерненные ресницы уже не мешали ему. И он сказал просто, хоть крик тоже рвался из его груди:
— Это я. За тобой.
Она сначала будто бы не расслышала: глаза жадно бегали по его лицу, фигуре, впивались в его глаза, а руки невольно тянулись вперед, и он заметил, глядя на ее ладони, что они, как и у здешних женщин, буро-коричневатые, окрашенные какой-то растительной краской, от которой — он также бессознательно заметил это и потом восстановил в памяти более отчетливо — порыжели и ее белокурые волосы, заплетенные в тонкие косички, струящиеся по бархатному корсету.
— Нет времени, — коротко и хрипло сказал Нигмат. — Бежим!
Она перевела глаза на Нигмата, потом снова на него, Алексу, и он повторил, будто перевел:
— Я за тобой. Бежим. Домой. Домой!
Тогда она протяжно переспросила:
— Домой?
— Ну да, домой, в Полоцк! К матери! — Он говорил и видел, что глаза ее как бы тускнели, нечто незнакомое просыпалось в них — не то удивление, не то отчаяние.
Алекса схватил ее за руку, повлек за собой, к ограде, где висела веревка, а чернокожий невольник уже успел обвязать и, как неподвижную куклу, поставить у дувала толстую служанку, глаза у которой вращались, будто у пойманного зверя.
Но тут оцепенение сразу покинуло Березу. Она остановилась:
— Мансур!
Он не понял, и тогда она повторила громко, а Нигмат сразу спросил:
— Сын?
Она кивнула головой, и в короткое мгновение Алекса почему-то отметил, что она и Нигмат лучше понимают друг друга.
Она остановилась, вырвала руку, глаза ее расширились, заискрились гневом.
— Нет! Мой дом тут!
— Тут? Твой дом? — ошарашенно переспросил Алекса. — Что ты говоришь? Тут?!
Он с горечью резко крутнул головой. Какой злой дух заколдовал ее, что она говорит?! Однако женщина овладела собой и, хоть руки ее мелко дрожали, ответила ему также гневно:
— Он любит меня! И сына!
— Быстрее! Быстрее! — воскликнул Нигмат. — Оставь ее, она…
Он не успел договорить: прямо в смуглое, тонкое его горло впилась широкая черная стрела с раздвоенным деревянным концом. И, обернувшись в сторону садовой дверцы, Алекса увидел, что по дорожке бегут люди. Еще одна стрела просвистела рядом, он пригнулся и подскочил к Нигмату, краем глаза успев заметить, какими огромными прыжками приближается к дувалу Юсуф.
Алекса подхватил уже безвольное, тяжелое тело друга, бросился тоже к ограде, но не успел добежать до нее и понял, что остается только одно — достойно принять смерть. Нигмат был уже мертв — кровь залила его горло, и Алекса знал, что от такой раны нет спасения. Он опустил тело на зеленую щетку травы, выхватил меч. Знакомое бешенство овладело им, и, ничего не видя вокруг — ни того, как слуги подхватили бесчувственную Березу-Бадию и понесли ее в дом, ни рассеченного надвое Юсуфа, Алекса сражался, наметанным глазом воина замечая близкое лезвие меча, и успевал неуловимым и четким движением выбить из чужих рук тонкий нож, который подбирался к его сердцу. Он знал — недолгой будет эта битва, ему не дадут убежать, — но хотелось смерти достойной, смерти настоящего воина, и он дрался, окровавленный и страшный, пока с глиняного дувала не просвистела тонкая волосяная веревка и не захлестнула горло, сразу оборвав и свет, и мертвое лицо Нигмата с широко открытыми, укоризненными глазами, и красный, уже исчезнувший бархат женского корсета…
Он очнулся в темном подземелье ночи, простонал, попробовал повернуться и сразу же потерял сознание.
Во второй раз, когда снова открыл глаза, ярко билось в зарешеченное окно солнце, блестела железная пряжка на кожаном поясе стражника, что сидел неподалеку с другим воем, и были заняты они какой-то игрой. Не без усилия Алекса вспомнил, что с ним, только не мог понять, где он. Ныло и дергало левое плечо — оно было туго перевязано чем-то белым. Белым была обернута и грудь.
Один из воев, голый, в цветных шароварах, в сапогах из сыромятной кожи, повернул голову и увидел, что Алекса пришел в себя. Он коротко чмокнул. Стражники вскочили, с интересом разглядывая пленного.
Потом один из них выбежал из комнаты и почти сразу же вернулся с чернобородым мужчиной в парчовом халате, перевязанном шелковым платком. Голова у мужчины была гладко выбритой, мясистый подбородок лоснился, на коротких, кургузых пальцах сияли и переливались перстни с красными, голубыми и зелеными камешками. Мужчина остановился перед лежащим, встал, широко расставив ноги в сапогах из тонкого разноцветного сафьяна, и Алекса мгновенно, даже не сознанием, а лишь памятью, узнал его. И мужчина улыбнулся, поняв, что его узнали. Улыбка не была похожа на ту, что запомнилась Алексе, — нет, не была она угодливой, а была спокойной и жестокой, и, пока так стоял он и разглядывал своего пленника, по лицу Абдурахманбека разливалось еще и удовлетворение. Потом он достал монисто, которое было на Алексе, кинул под ноги.
Алекса почувствовал ярость и дернулся, чтобы встать, но плечо пронзила острая, никогда еще не испытанная им боль, и он невольно застонал сквозь сжатые зубы. Увидел, что удовольствие на лице купца стало более заметным, и сразу затих. Тот что-то сквозь зубы сказал одному из невольников, что были в длинных синих рубашках, и один из них привел в комнату женщину. Лица ее не было видно — на голове женщины начиналась и, закрывая лицо и фигуру почти до пола, тянулась черная, похожая на сетку или на мешок ткань. Тогда Алекса, превозмогая боль, сел.
— Если ты умолчишь хотя бы одно его слово, я брошу тебя вместе с сыном в зиндан[53],— сказал ей Абдурахманбек, и Алекса понял: Березу привели, чтобы допрашивать его. Хозяин, видимо, покупал толмача где-то близко от страны русов, и теперь некому было помочь ему, кроме жены.
— Я… сам отвечу… скажу тебе, что нужно, — слабо ответил он на фарси, и глаза купца удивленно расширились.
— Ты… ты знаешь наш язык? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он. — Тогда ответь мне, сколько времени ты провел с ней, — он показал на Березу, — наедине?
— Мало, — Алекса не без напряжения подбирал слова, с трудом выговаривая их, — совсем мало. Но достаточно, чтобы она сказала, что любит тебя и сына и не хочет, не хочет… ехать со мною…
— Ехать? В Полоцкое княжество? — Абудрахманбек переспросил это, сузив глаза. Брови его сошлись в одну широкую полосу. — Ты хотел забрать ее? После того, как она была женой другого? Родила сына?
— Хотел. Но про сына я не знал.
Купец прошелся по комнате, сел на мягкие, огромные подушки, услужливо принесенные вслед за ним. Перед ним сразу же поставили резной столик, положили на него поднос с очищенным миндалем и сосуд с питьем.
— Как ты попал в мой сад? — спросил он.
— Она об этом не знала, нет!.. — снова, напрягая все силы, прошептал Алекса. — Я просил ее бежать со мной, но… Но она не захотела…
Мгновение они смотрели прямо в глаза друг другу — и затуманенный болью, мукой взгляд полочанина был тверд. Одно оставалось ему — умереть, и он хотел умереть достойно, но и смертью своей спасти ее… пусть уже чужую. Чужую…
Лицо Абдурахманбека стало мягче, мужское самоудовлетворение отразилось на нем.
— Она правда не захотела тебя? — Он показал на закутанную фигуру, которая по-прежнему молча стояла около двери, не выражая ни боли, ни волнения.
— Нет.
Хотя Алекса хотел сказать это равнодушным голосом, но что-то в нем содрогнулось, и голос на мгновение будто переломился, зазвенел горечью. И это, видимо, действительно убедило Абдурахманбека.
— Что же, если она невиновна, то… иди! — сказал он жене, и та так же молча проскользнула в дверь и исчезла.
Купец прищелкнул пальцами, и один из стражников тут же налил в тонкую белую чашку коричневого питья, которое купец жадно выпил.
— Кто тебе помогал?
— Этого не скажу!
— Скажешь!
— Нет, купец, не скажу. И ты это знаешь.
— Отсюда… добираться вдвоем до Полоцка… Без денег, без каравана… Ты — безумец!
Алекса не понял этого по-арабски сказанного слова. Купец повторил его на языке русов.
— Ваши Меджнун и Лейла — из того же племени, из племени безумцев, — с трудом выговорил он непривычные имена.
— Нет, ты… О, ты родился под звездой Бахрам[54]! Я вижу, ты многое успел за то время, пока ехал сюда за Бадией. Мне жаль тебя. Я приказал убить служанку, которая не уследила за моей женой. Тебя же я оставил, чтобы узнать, что было между вами. Кто помог, кто в этом городе мои враги? Однако ты и впрямь умрешь, но не скажешь. Ну что ж. Пока — живи.
Он выпил еще чашу и поднялся, что-то тихо сказал стражникам и вышел, а Алекса обессиленно повалился на жесткий выцветший коврик, на котором лежал, и в глазах его поплыли багровые пятна, замелькали бешено и резко — мертвое лицо Нигмата, красный жилет и синяя рубашка одного из стражников, который стоял к нему ближе всех…
А ночью его разбудили мягкие, пахучие женские ладони, прикрывшие ему рот, и голос Березы-Бадии прошептал:
— Беги! Сейчас же. Стражники одурманены питьем, они спят. Завтра их поставят на коврик крови[55], но пусть это будет жертвой Перуну, который доведет тебя до отечества, Алекса! Беги, ибо завтра приедет брат мужа, и ты станешь евнухом в его гареме.
— Евнухом?
Алекса знал, что это такое. Нигмат говорил ему о евнухе, который есть и в доме Абдурахманбека. Именно евнух должен был идти за Березой в сад, но он заболел. Может, это как раз и спасло ему жизнь. Но ему… Алексе… Так вот что уготовил ему купец, вот на каких условиях дарует жизнь! Жизнь, которая страшнее смерти, ибо умереть нужно один раз, а ему придется умирать много раз, борясь за жизнь подлую, рабскую, унизительную!
— Тебя убьют, — прошептал он, но не поднял рук, чтобы дотронуться до нее. Чужой была уже она, и чужим, хоть и сладостно-пахучим, было тело, такое близкое. Чужая ткань была на ней, и другим было круглое лицо с этими наведенными черными бровями. Та Береза вроде умерла для него, а эта… будто ее сестра стояла перед ним, родственница, и было у него чувство признательности и благодарности, но душа… душа… будто перегорела. И не душа, а разум или это чувство благодарности вынудили его сказать:
— Тебя же убьют. И зачем тебе было помогать мне?
— Тихо! — Она закрыла ему рот, но тут же быстро отняла руки. — Вот… Возьми.
Она что-то втиснула ему в руку, он почувствовал в пальцах вышитый мешочек, еле слышно звякнули монеты.
— Подкупи стражу… Иди прочь из города… Уже ищут родственников убитых, и кади — судья найдет их. А я… Я сейчас вернусь в ложницу. Он спит…
И произносила слова она, хоть говорила на родном языке и называла спальню по-своему — ложницей, будто с какой-то чужой гортанностью, уже вроде бы и язык стал труден для нее…
— И хозяину дала дурмана? — Он приподнимался, но боль мешала, волнами била в голову, и хотелось говорить дерзости, хотелось делать ей больно. Зачем? Он не мог бы ответить себе на это, но в душе была пустота, и никто в целом свете не смог бы понять и успокоить его…
Женщина помогла Алексе подняться, но он оттолкнул ее, шатаясь, вышел из комнаты.
Чернокожий невольник, почти такой же, как Юсуф, держал под плащом светильник, чтобы освещать ступеньки глиняного дворика. Шаткие тени прыгали по дворику, богатому, украшенному блестящей голубой глазурью.
Около маленькой дверцы она остановилась.
— Пусть сбережет тебя Велес и Мокаш, пусть хранит от всего злого Амбар, она — богиня здешних очагов! Поклонись родной земле и не покидай мою мать в беде! Если выживешь…
В последний раз в неверном свете, слабым светлячком, выглядывающим из-под одежды невольника, промелькнуло ее бледное лицо, черная волосяная накидка, прикрепленная к тяжелым белокурым косам золотой пряжкой. Накидка прозрачными тяжелыми складками падала ей на плечи, ложилась вокруг головы. Тускло блестела богатая вышивка на темно-синем длинном платье с красными рукавами. Свет погас.
— Дальше идите сами, — шепнула она.
Бесшумно открылась дверь, они вышли на широкий двор с чуть заметными в темноте колоннами, направились вдоль террасы.
Стражники у входа тоже крепко спали, положив головы друг на друга. Невольник осторожно открыл тяжелый металлический засов.
Собака подбежала к ним, зарычала, но раб, видимо, сунул ей кусок мяса, и собака замолотила хвостом, пропуская их.
— Держи меня! — шепнул невольник, и не успел Алекса опомниться, как тот ловко вскочил на ограду и свесился с нее вниз, стараясь изнутри снова закрыть засов. Алекса понял, что он хочет сделать, с большим усилием заставил себя удержать невольника за голую толстую ногу.
Но когда выпустил ее, почувствовал, как что-то теплое и липкое поплыло по нему, и, проведя рукой по плечу, понял, что это кровь. Невольник, соскочив с ограды, быстро пошел по улице, почти сливаясь с темнотой, время от времени возвращаясь и дергая за руку Алексу, который плелся за ним как в тумане, стараясь, чтобы, подступающая к сердцу дурнота не затуманила голову, не заставила свалиться вот здесь, на этой улице, невдалеке от дома купца.
Впереди послышались голоса, невольник едва успел дернуть за рукав Алексу, и они упали прямо в заросли тутовника, росшего около арыка, что весело струился вдоль улицы. Это шла городская стража, и молодой воин в кожаном нагруднике нес в обеих руках глиняные светильники, огромные, как дубины. Остальные шли и весело смеялись, толкая друг друга. Ножны, откуда выглядывали рукоятки мечей, мотались на поясах, Алекса с завистью смотрел на оружие.
Стражники прошли мимо, невольник поднялся, остановился, пытаясь рассмотреть руку, запачканную кровью Алексы. Из его окровавленного плеча лилась кровь, намочив спутнику руку. Тот минуту раздумывал, потом решительно подтащил парня к арыку и начал в темноте обмывать его. Снял с себя поясной платок — белбог, туго перевязал плечо, потом, немного поколебавшись, снял темный плащ, оставшись в рубашке и шароварах. Алекса тихо сказал «спасибо», хотя во всех движениях невольника чувствовалась не душевная забота, а, скорее, чувство долга. Казалось, невольнику не терпится быстрее отделаться от Алексы, но сделать это он мог, видимо, только выйдя за пределы города и выведя туда недавнего пленника.
Около больших ворот, которые были закрыты на толстый, с человеческую руку, засов, одиноко сидели два стражника с пиками наперевес.
Был тот час, когда особенно клонит ко сну, и с башни, куда вела тонкая металлическая дверца, слышался могучий храп — остальные стражники, видимо, крепко спали.
Завидев фигуры двух мужчин, охранники встали, один из них хрипло проговорил:
— Кто и по какому делу?
Чернокожий невольник шепнул Алексе:
— Держись за мной, чтобы свет не падал на тебя!
Он уверенно подошел к страже, достал мешочек с монетами и, протягивая горсть фельсов[56] старшему из стражников, тихо прошептал:
— Купец Абдурахманбек хочет продать этого невольника в другой город, но чтобы того не знала любимая жена Бадия, потому что этот юноша вырос на ее родине и она жалеет его. Потому мы делаем это тайно. Я — раб купца. Вот тавро Абдурахманбека. — Он распахнул одежду, чтобы можно было рассмотреть запаянный ошейник с меткой купца, и стражники наклонились, чтобы рассмотреть тавро. — А вот это вам. — Он сунул деньги в руку одного и, тихо звякнув монетами в мешочке, дал такую же горсть другому.
— Может, нужно было бы сказать помощнику вали[57], он как раз здесь, — пробормотал один из мужчин, густо, чуть не до самых глаз, обросший бородой, — мы же, как тебе известно, не имеем права никого выпускать из города до восхода солнца.
— Ну что же, зовите помощника вали, — спокойно сказал невольник, — но тогда вам придется делить фельсы между стражниками. Я и так дал вам немало. А чем меньше людей знают о чем-то, тем большей будет печать молчания на устах остальных.
Стражники призадумались. Наконец, с опаской посмотрев в сторону башни, откуда по-прежнему раздавался могучий храп, один из них сказал:
— Идите, только пусть и вам замкнет Аллах уста на сто замков!
Вдвоем они поспешно отодвинули могучий засов, и невольник, незаметно прикрывая собой Алексу, чтобы не было видно ран, выскользнул вместе с ним за ворота, в темноту, пахнущую молодой травой, цветущим миндалем и горечью ночного костра, который горел и трепетал на горизонте, как алый платок.
Больше ничего не было видно вокруг. Темнота приняла их и готова была растворить в своих необозримых просторах. А может, так только показалось Алексе? Ночь здесь короткая, а беспощадный день покажет, что чересчур тесны для беглеца эти просторы с их старательно обработанными и огромным трудом поднятыми полями. И куда, в какие ворота великой Бухары они вышли?
Он почувствовал, что кровь снова намочила повязку. Слабость все более овладевала им, слабость и равнодушие ко всему на свете. Ноги спотыкались в теплой пыли, однажды он чуть не упал, зацепившись о камень. Он уже не шел, а тянулся за невольником, а тот прибавлял ходу, будто и сам стремился убежать прочь от города, его сторожевых башен, будто боялся, что вот-вот раздастся крик и их снова возвратят хозяину.
Они шли долго. Но когда свернули в сторону, Алекса обессиленно опустился у дороги. Тогда невольник вернулся. Минуту постоял над Алексой, а потом неожиданным резким движением сорвал с него плащ, жестокие, ловкие руки обыскали спутника, нашли на нем мешочек с деньгами, данными Бадией. Невольник рванул мешочек, Алекса ответил придушенным звериным стоном боли и потерял сознание. Он уже не чувствовал, как невольник деловито снял с него сапоги, подумал мгновение, потом столкнул его безразличное ко всему тело с обочины в придорожную канаву и торопливо пошел по дороге вперед, время от времени с нетерпением дотрагиваясь до невольничьего обруча на шее и любовно гладя на боку два вышитых мешочка, где еле слышно звенели серебро и медь. Но еще более любовно гладил он сверток пергамента с отпускной: она делала его свободным, и за нее он согласился помочь жене купца в опасном деле!
…Ночь набрасывалась на Алексу горячей раскрытой пастью огромного полосатого зверя с могучей шеей и шелковой шерстью, которого они когда-то видели в пустыне, охватывала его пламенем костра, который раздувал бесконечный мертвый ветер, уже отнесший в неведомую, черную бездну лица Нигмата, Березы, Юсуфа, дни и ночи, испепеленные пустыней, синий поток Двины… Алекса знал — ветер, наславший на него помрачение, хочет, чтобы он стал черной горсточкой пепла, которую так легко рассыпать над твердой сухой землей… И он не ужасался, не рвался прочь — он подставлял свое тело злой, горячей силе дьявольского костра, смутно жаждал забытья и забвения…
В то мгновение, когда и вправду подхватила и понесла его темная прорва большого пути, в самом конце которого — он почему-то знал это — ждет легкость и свобода, что-то холодное обрушилось на него, целебное, земное. Однако он рвался туда, по дороге небытия, и сила, которая потащила его назад, была такой мучительной и ненужной, что он застонал и забился, стремясь убежать — туда, где избавление! Но кто-то тормошил его, кричал на ухо непонятные слова — и Алекса раскрыл глаза.
Свет ослепил его, ударил, он успел только выхватить взглядом седобородое лицо, незнакомые пытливые глаза, слабо забился в беспомощном плаче:
— Оставьте меня, мне было так хорошо! Что вам нужно? Что, кому на этой земле от меня нужно? Я никому не должен, никому, слышите?
Казалось — он кричит эти слова на весь мир.
А тот, кто стоял над ним, видел только, как дергается беспомощное тело и слабо, будто из-под земли, шепчет непонятные слова молодой, страшно исхудавший, с лицом белым, как рисовая мука, чужеземец, залитый кровью и запачканный глиной.
Опытным глазом старый человек видел, что жизни в том исхудавшем теле осталось совсем немного, но лицо чужеземца понравилось ему — на нем был выразительный отпечаток муки и отрешенности, чем-то напоминал он пророка Ису, которого старик видел однажды на древней фреске в разрушенном храме, куда обычно не заглядывал глаз мусульманина, а только, видимо, ночевали джинны. Он много сражался со смертью, старый лекарь из далекой горной местности, но, пожалуй, никогда не жалел кого-нибудь так, как юношу-чужеземца, лежащего перед ним, упорно старающегося перетянуть весы жизни и уйти из этого света. А что парню не хочется жить, лекарь почувствовал так же безошибочно, как и то, что, когда он проедет мимо на своем маленьком ослике, душа чужеземца еще успеет увидеть его с высоты, стремясь ко всевышнему.
— Послушай, Сатар, — обратился он к ослу, который мирно щипал колючки, пока хозяин думал. — Ты, конечно, нас двоих не выдержишь. Но сможешь ли ты пережить на своей спине кого-то, кроме меня? Видишь, он тщедушный и без сознания. Давай, друг, сделаем доброе дело и, хоть этот парень, скорее всего, христианин, а мы с тобой правоверные мусульмане, поможем ему окончательно переселиться назад, в этот мир. Он довольно привлекательный, не так ли?
И с трудом, охая и напрягаясь, поднял бессознательное тело, перекинул его на ослика, влил в рот незнакомца несколько капель жидкости.
— Сейчас лечить его мы не будем — вот-вот раскроются ворота Бухары, и от людей даже тут уже не продохнуть. Солнце тоже вот-вот взойдет — и вдруг кто-то станет искать молодца? Ясно же, что не от радости он лежит тут, ограбленный чуть ли не до нитки.
— А что, — остановился он вдруг, — что, ежели меня же и обвинят в его смерти? В грабеже? Бухарский судья не станет очень-то прислушиваться к приезжему. Однако что же делать, Сатар?
Осел ровно пошел по дороге, искоса поглядывая на хозяина.
— А что, Сатар, — снова спросил у него старик, — что, если мы подобрали с тобой вора, которого обманул другой вор? Ты мотаешь головой, говоришь мне: «Нет!» Но с чего ты взял, что он не вор? Мы прожили с тобой долгую жизнь и знаем, что ангельское обличье бывает иногда у такого негодника, чья душа чернее колодца Бархут, куда попадают после смерти неверные. Но душе этого чужеземца, как и нам с тобой, все равно жить в этом колодце. Так или нет, Сатар?
Красное, как огненный тюльпан, всходило солнце, и все чаще попадались на дороге то пешие, то конные люди, которые стремились в Бухару — кто искать справедливости, кто стремясь к ремеслу, а кто и убегая от непосильного труда на поле, мечтая о легком и сытом куске нахлебника, ибо в богатой Бухаре всем находилось место, лишь бы посчастливилось человеку найти себе опекуна, к которому можно пристать и жить, пусть и снося его прихоти и капризы. А ежели не повезет — что же, можно пойти в мусорщики, или в банщики, или в парикмахеры. Много есть в городе занятий. Правда, чтобы стать мастером по резьбе, или вышивальщиком, или гончаром, или кожевенником, нужно пройти многолетнее ученичество у мастеров, которые ревниво следят за тем, чтобы в их цеха не очень попадали посторонние. А есть занятия, которые только переходят от отца к сыну или родичу; овеяны они позором и ненавистью. Это — палачи и обмывальщики покойников.
Родиться в такой семье — горе, проклятье, ибо появляются обмывальщики трупов только тогда, когда в семье горе. А перенося возле себя столько смертей, не станешь ли в конце концов и сам приспешником смерти, ее страшной свиты?
К такому домику и свернул однажды старый Нармурад, чтобы спрятаться от назойливого солнца и любопытных глаз.
Много лет назад, проходя этой дорогой, он услышал крики и плач. А когда хотел завернуть в домик, остановили его местные жители и объяснили, кто здесь живет. Узнал тогда еще нестарый лекарь и о том, что случилось в домике — умирает женщина, молодая мать, оставляет на свете пятерых деток. Красивая женщина и тихая, всегда покорная и набожная — но она же жена обмывальщика, сама приходит на похороны и носит одежду, оставшуюся от мертвецов. Кто же войдет в такой дом? Вот и голосят дети, и муж ее, и старый отец. Жаль их, да только и приезжему лекарю не следует идти в такой дом, говорили люди, пусть смерть сама разбирается со своими…
Послушал он тогда все это и собрался идти дальше. Но как раз в тот момент одна из девочек выскочила из дома и жалостно заплакала, сидя на пороге и обхватив голову руками. Девочка была в рваной зеленой рубашонке, ее косички беспомощно мотались по худеньким плечикам… И лекарь не выдержал. Он вошел в дом и три дня сидел около больной, поил ее отваром аира и бадзахра — противоядного средства. Сам готовил гализ — душистую смесь муската и амбры, растворял в теплой воде, сам растирал ей руки и ноги. И больная отошла, встала, а он пошел дальше, в Бухару, куда раз в десять — восемь лет совершал долгие утомительные переходы, чтобы купить новых лекарств и попасть в дом к давнему другу молодости, который перебрался в Бухару и лечил придворного музыканта и певца, чьи песни разносились по городам и кишлакам, как разносится жарким летом неудержимый костер, катясь по сухой траве…
Но друг молодости не хотел признавать бедного табиба[58] Нармурада, вроде само его присутствие было опасным, будто бедность могла, как зараза, прилипнуть к одежде и снова превратить его в горемыку, который натер себе хребет, подлизываясь, угождая, выкручиваясь изо всех сил. Не очень хороший он был лекарь, но смог понравиться музыканту Исхаку, когда тот был молодым, никому не известным. Исхак не забывал того, кто пригревал его когда-то. Веселый и дурашливый, он не догадывался, что лекарь Ахваз, неудачник, когда-то усмотрел, вычислил его талант, его бескорыстие и доверчивость. При дворе любили этого музыканта, но тот был болезненным и капризным, лекарю Ахвазу было с ним нелегко, но зато он имел хорошие деньги. Можно было, имея такого знакомого, как Ахваз, попасть в библиотеку эмира, а там хранились книги Аристотеля и даже рукопись «Канона» самого Ибн-Сины, который умер совсем недавно и похоронен в Хамадане, а потом перевезен в Исфакан. Старый лекарь Нармурад из далекого кишлака на самом конце державы никогда не смог бы даже издали увидеть такую драгоценную рукопись, и потому он не жалел ни сил, ни времени, чтобы собирать деньги на поездку в Бухару и верить, что дверь Ахваза наконец раскроется. Он утверждал, что вещи имеют удивительную особенность — они будто бы вбирают дух, дыхание своего обладателя и могут сохранять его долго. Он верил, что ежели подержит в руках рукопись Ибн-Сины, то почувствует просветление. Может, тогда он найдет, чем болеет один из его пациентов, чью болезнь он никак не мог разгадать. Может, станет лечить лучше.
Возвращаясь в тот раз из Бухары, Нармурад снова проходил мимо глиняного домика и вспомнил о женщине. Когда же повернул своего ослика на тропинку, ведущую к ним, навстречу ему выскочил молодой мужчина. Он перекрыл дорогу ослу и почтительно поклонился Нармураду:
— Домула (учитель), ты сделал этому дому добро. Больная Патимат вернулась к семье. Зачем тебе снова ехать к отреченным и проклятым Аллахом? Лучше заверни в мой дом, все мы примем тебя как родственника.
Но Нармурад не послушался, объехал мужчину, который сзади посылал ему проклятья, угрожая кулаком, и заехал в знакомый домик. И с того времени изредка заезжал сюда и всегда встречал самую искреннюю любезность и гостеприимство, хотя теперь обмывальщицей стала бывшая девчушка в рваной зеленой рубашонке, а старая уже Патимат бесшумно мелькала по дому, исполняя домашнюю работу. Мужчины в этом доме никак не приживались — они умирали, и женщины вновь оставались одинокими.
…И в этот раз Нармурад направился к старенькому глиняному дому в зарослях камыша и тутовника, везя раненого Алексу, плотно укутанного в балинпуш — выцветшее покрывало, которое вытащил Нармурад из дорожной сумки-хурджина.
Торопливо поздоровавшись и спросив о здоровье близких и знакомых, лекарь повелел:
— Отнесите этого человека в самую дальнюю комнату, чтобы чужой глаз не увидел его, и предупредите домашних, пусть навесят на язык замок молчания! Дорога принесла мне знакомца, как подарок, и я не хочу, чтобы она снова забрала его!
Он дал хозяйке серебряный дирхем, и та поспешно послала кого-то из домашних на недалекий рынок, где для отверженных — мусорщиков, банщиков и других — был свой, отдельный ряд. А Алексу внесли в дом крепкая, коренастая, как молодой дубок, хозяйка и старая Патимат.
Семья придерживалась внешне мусульманских обычаев, но у себя дома женщины ходили с открытыми лицами, и единственный мужчина посещал тайные сборища магов-огнепоклонников. Это также было одной из причин, почему Нармурад приезжал сюда. Раненого положили на коврик с коротким ворсом, из уважения к высокому гостю обмыли лоб, лицо.
Нармурад, войдя в комнату, с неприятным чувством увидел это и отогнал женщин:
— Вот когда умрет, тогда и обмоете. Однако рано ему еще умирать. Может, смилуется великий Зардушт над ним — и надо мной тоже!
— Мы видели много больных и умерших, и думается мне, что и этот юноша не доживет до утра, — сказала Патимат. — Даже ваше умение не поможет, уважаемый учитель.
— Конечно, ежели вечный калам[59] написал ему завтра или сегодня встречу с Азраилом — ангелом смерти, — я ничего не сделаю. Даже любимец Аллаха Ибн-Сина не смог развязать узел смерти, хотя, кроме этой, не было для него тайн на земле…
Нармурад, говоря все это, ловко переворачивал Алексу, внимательно рассматривал раны.
— Пульс вялый, подобно земляному червю, — сказал наконец. — Нужно было бы зашить вот эту разорванную связку мышц, но на это у меня умения уже нет. Очень дрожат руки. Зато можно остановить разложение ткани, промыть ее и успокоить боль опиумом.
Он достал из сумки сверточек, подал его женщинам:
— Залейте кипятком один мискаль травы и, остудив, несите быстрее сюда. Также дайте мне две пиалы и достаньте воды из колодца, не из арыка. А еще — чистые сухие тряпочки. Купите кварту набида — финикового вина. Вино — для меня…
…Наверное, не хватило бы старому Нармураду собранных им еще в кишлаке денег, если бы время от времени, пока сидел он в домике обмывальщицы покойников, не приходили к нему жители кишлака с просьбой посмотреть больного. Приходил однажды и помощник местного кади — судьи, хотел взять взятку, угрожая, что донесет он кому следует о том, что держат в доме неизвестных людей. Однако Нармурад, убедившись, что не ищут будто бы белокурого юношу стражи закона, накричал на помощника кади, угрожая, что он обратится к известному певцу Бухары — Исхаку, чьи песни нравятся благородным, и тогда несдобровать и самому кади за то, что вмешивается не в свои дела. Может, угодливый помощник неплохо знал людей, ибо больше никто не беспокоил Нармурада и семью обмывальщиков, а может, и действительно поверил, что имеет приезжий лекарь могущественную поддержку в Бухаре.
Иногда, глядя на беспомощное тело юноши, слушая, как бредит он, в горячке говорит и говорит что-то на непонятном языке, удивлялся самому себе старый Нармурад: зачем возится с незнакомым человеком, зачем выхаживает его как родного? Не потому ли, чтобы заиметь ученика, как мечтал когда-то? Да, хотел он оставить после себя то, что приобрел и опытом и любознательностью, искал среди молодых людей и мальчиков пытливый взгляд и душу, которая бы жалела людей. И находил. Четырех учеников вывел он в лекари за свою долгую жизнь. Отдавал им и душу, и свое время, и умение. Но трое из них, овладев наукой лечения, ожирели и заботились только о деньгах и благополучии, выжимая из бедняков последнее. Четвертый же, видя вокруг себя столько горя и несчастий, не выдержал, душа его сорвалась с привязи и начала блуждать между тем и этим светом. Так он говорил, что на него упала тень сказочной птицы Хумай, а, как всем известно, тот, на кого упала ее тень, становится царем. Еще говорил он, что во время путешествий душа его заглядывает в волшебную чашу Джамшида, в которой отражается все, что творится на земле. Люди жалели его и боялись, ибо не раз предсказывал он то, что сбывалось потом. Жил он недалеко от Нармурада, но лечить уже не мог, только приходил к нему и часами молча сидел, глядя вокруг себя туманными глазами. Жалел его лекарь, очень жалел — однако на все воля Ахурамазды[60], только его!
В сегодняшних же мальчиках не видел старый Нармурад одержимости и увлеченности. С годами он стал особенно чутко отзываться на измученность души. Старался успокоить, как мог, боль, которую видел и читал в глазах человека или животного. Сам он прожил долгую жизнь и знал, что там, где нет боли за другого, сочувствия, там нет настоящей человечности. А как тогда наклоняться над гнойной и вонючей раной или копаться в слизких внутренностях? Он жалел тех, кому возвращал жизнь. Иногда даже думал — не лучше ли бедолаге остаться там, в вечности, зачем возвращаться на землю, на новые муки? О, как много их у человека — мук и боли, будто и правда послан сюда человек на испытания — вынесет ли столько? Он сам устал и от жизни, и от людских бед, но где-то, как уголек, тлела надежда все-таки найти и вырастить ученика, чтобы оставить после себя на земле человека, который превзошел бы его умением и знаниями. Мучительно переживал он, что после него не останется никого — ни ребенка, ни сколько-нибудь значительного дела. Воины оставляют после себя разрушенные города или груду черепов. Цари записывают свои деяния на каменных столбах и плитах. Бывает, приходят на землю люди, которых при рождении одарили боги или демоны знанием людских тайн и способностью постигать самое заветное… А что делать простым, совсем простым людям, тем, чей разум подобен тусклому светильнику в сравнении с солнечным сиянием одаренных богом? Единственное — и умирающий верит, что не напрасно прожил свое, что пришел сюда, чтобы улучшить в чем-то жизнь и послужить хотя бы удобрением, землей, глиной, на которой взойдут иные семена…
Может, оттого, что в последнее время эти мысли одолевали его все сильнее и сильнее, и остановился он около умирающего Алексы?
Отпылало лето с его невыносимо длинными, жаркими днями, с саратаном, который высасывал из земли жизненные соки, насыщая ее солью горечи и бесплодия.
Алекса уже ходил, и силы вернулись к нему настолько, что он мог ехать в далекое, долгое путешествие. Правда, бок и рука все еще подживали, раны болели и левая рука почти не двигалась — видимо, связки и мышцы на ней остались перекрученными. Немного помогал массаж, который Нармурад делал сам, в душе проклиная себя за то, что не осмелился оперировать раненую руку и сшить как следует те сосуды. Потому он без устали массировал упругое молодое тело чужеземца и даже применил один, из способов, которому учил его когда-то самый старый житель кишлака, говоря, что показал людям тот способ сам Харут[61]. Нармурад зажигал пучки горной полыни, он всегда носил их с собой, и прижигал больному места, известные тем, что воздействие на них оживляет жизненные силы человека.
Каждый день он поил его также отваром разных трав — тимьяна, сатара, ходил сам собирать их, ибо знал время и положение луны и заговоры, с которыми берут траву.
Пока Алекса лежал в забытьи, душа его, быть может, все старалась возвратиться на Полотчину, ибо бредил он и видел перед собой в огненном багрянце не степи, не события недавнего времени, а Полоцк, княжича Всеслава, первую встречу с Березой в весеннем пушистом лесу, под белыми как снег, березами.
Видел он напоенный сладким липовым ароматом посад в Заполотье, могучие оборонные валы из светло-желтой земли, на которой залетные семена деревьев или травы так охотно пускали корни. С севера вал укрепляли могучими камнями — в здешней земле так много могучих валунов, будто правда когда-то принесли их на эту землю богатыри, которые потом перевелись или погибли… А вот отец, Томила, сидит вечером на колоде, плетет-выплетает лапти да рассказывает:
«Когда-то свет еще только начинался, так ничего нигде не было, одна вода вокруг мертвая. Да посреди этой воды камень один стоял, валун. Однажды Перун разгулялся да давай пырять стрелами в этот камень… От его выстрелов выскочили три искорки — белая, желтая и красная… И от белой от искорки той пошла расти-ширится земелька, где кривичи потом уродились…»
Лежит Алекса неподвижно, а душа его блуждает где-то между землей и небом, и встречает она первого кривича — Бая, а с ним его сын Белополь — тот самый, которому после смерти отца ничего не досталось в наследство, потому пустил он в свет двух птиц, чтобы облетели они за день землю — сколько ему останется?
Ходит Бай по стене — Затронет или нет? —а это уже мать поет — тихонько-тихонько, тоненько-тоненько, и от посконной ее рубахи, вышитой черными и красными нитями, пахнет хлебом и аиром…
И двор княжеский видится Алексе, да так отчетливо. Сидят по комнатам люди, работают — и опонники[62], которые ткут дорогие ткани и занавеси, и ручечники, они ткут рушники и потом выбеливают в утренних росах. Суетятся разные ключники, слуги — милосники… А им, дружине, мало дела до этого. Они с гиканьем да галеканьем бегут с пиками да саблями по полю, учатся рубить врага да колоть его… Приостановится на поле крестьянин, посмотрит из-под руки да снова, вздохнув, возьмется за работу — кому-то же нужно кормить и одевать воев да княжескую дружину. Повезло, что не в семье смерда родился, не в поле гнуться всю жизнь — так думал когда-то Алекса, глядя на чью-то согбенную фигуру. Ну что же, и правда — хуже всех крестьянину, смерду. Не выплатит налог — в рабство. А умрет, не имея сына, — все его имущество переходит к князю по «праву мертвой руки». Не раз бунтовали смерды против этого права, в леса далекие убегали. Но куда же ты убежишь от сурового Брачислава, с которым даже сам Ярослав киевский старался жить обходительно и мирно? И лилась кровь смердов, лилась на тех же высоких песчаных валах, высоких — чтобы народ, которого собирали на кару, видел и учился быть послушным. Текла кровь густо, и, может, не от глины, а от той крови поверхность валов красная?!
А еще торчат иногда после дождей из вала то обгорелые головешки, то кости чьи-то — не то человеческие, не то животного; а то нож ржавый или пика вылезет. Чужая, былая, неведомая жизнь кипела когда-то тут, а попробуй догадайся — что было? Какие люди жили, куда пошли?
И кружит, кружит красная муть, такая же красная, как кровь смердов на полоцких валах, как глина на дорогах в осеннее мглистое время, когда идут, меся ее, воины…
…А у Березы на голове венок из перелесок, венок бело-розовый, а сама она — как цветок. Как много дают человеку боги — лететь по крутой горке, взявшись за руки, качаться на качелях и прыгать вокруг костра, налитому молодой дерзкой силой! Тело ее гибкое, податливое, жар бьет в голову, туманит ее хмелем и надеждой… Еще немного — и взлетит он в синюю высь, достанет Дажбога за полу кафтана, расскажет о радости — через три месяца свадьба.
Через три месяца — когда пройдут дожинки, когда рожь ляжет снопами на тока, овес и ячмень заполнят дубовые бочки. Когда отец докует все мечи для будущего похода. Когда… когда…
Красным маревом затягивается все вокруг…
…Когда он открыл глаза и снова увидел старика, подумал, что, может быть, очутился на том свете и это сам посланец богини Мары, которая одурманивает людей питьем из маковых зернышек и забирает покойников. Но чужеземная одежда и речь, которую он едва понимал, комната и вещи — все убеждало Алексу в том, что он на этом свете и что все вокруг — реальное и настоящее. Но он не хотел этой действительности — душа его была смятой и скрученной, как старое тряпье. Может, и от этого не затягивались раны, несмотря на заботливый уход?
Однако длиннее становились ночи, прохлада утром ложилась на выжженную желтую траву, делались крупнее и наливались силой звезды — на долгие осенние вечера, чтобы освещать смертным их запутанные и горькие дороги, — и душа юноши будто тоже наливалась жизнью и крепостью. Перестала приходить в горячечные сны Береза, пустота и холод сменились живым любопытством ко всему вокруг. Особенно полюбил он ходить в дальний конец запыленного, запущенного садика, где под кустами, похожими на ивовые, струился ручеек, который здесь называли арыком. Часами сидел он на теплом, мягком бугорке, опустив босые ноги в воду, и бездумно слушал, как струится и тихо шепчет о чем-то вода. Подходила Патимат, тихо звеня металлическими браслетами, ставила рядом лали — поднос с едой, чаще всего это был хабис — любимое тут кушанье из фиников, муки и масла — и бесшумно уходила прочь. Он без вкуса ел приторное, нелюбимое варево, снова молча сидел, лениво двигая ногами в воде. Чужое лицо смотрело на него из зеркала воды. Потом нехотя ковылял по заросшей тропинке к террасе, в отведенную им с лекарем комнату, падал на жесткие, выцветшие подушки и засыпал неспокойным, мучительным сном.
Но однажды — это было уже на исходе лета — Алекса вроде поправился. Он стремительно поднялся, неловко запахивая халат, пошел в дом. Женщины, которые сидели на террасе и делили вещи — видимо, снова обмывали и хоронили покойника, — с интересом поглядывали на него, когда шел навстречу, — длинный, худой, он казался еще более белокурым и бледным и был похож на тень. Быстрой походкой он прошел мимо и явился в комнату, где Нармурад раскладывал по торбочкам засушенную траву.
— Скажи мне, отец, — спросил Алекса сразу с порога, — скажи, зачем я тебе? Зачем ты меня столько лечишь, кормишь и не требуешь ничего взамен?
— Садись, сынок. — Нармурад двинулся ему навстречу, уступил место на ковре. — Я рад, что ты действительно поправился и душа вернулась к тебе.
— Вернулась, и настолько, что я готов отблагодарить за все, что для меня сделано, хотя я и не просил тебя ни о чем, и, может, было бы лучше, если б ты не подбирал меня на дороге. Что ты от меня хочешь?
— А что хочешь ты? Вернуться ли на свою далекую родину или искать счастья тут, на нашей земле? Одно могу сказать — ты не выдержишь путешествия назад. Силы вернулись к тебе, однако их хватит ненадолго. И знай: ежели человек несчастен, ежели его фарр[63] — а у каждого есть свой фарр, слабый или сильный, — имеет темный цвет, ему нельзя ничего начинать. Ты все равно погибнешь.
Алекса какое-то время молча вглядывался в морщинистое, загорелое до черноты, с сильными челюстями и неожиданно голубыми, почти прозрачными глазами лицо. Потом махнул рукой:
— Да, на родине, пожалуй, мне нет места. Я ослушался князя. Однако искать другого князя мне совсем не хочется. Эх, найти бы такое место, где нет владык!
— Тогда поезжай со мной, — улыбнулся Нармурад, и жесткие морщины у его губ будто разгладились. — Владыки, правда, есть и у нас, но их меньше, чем где-нибудь. Мы живем в глухом месте.
— А куда? — Алекса сел, охнул, но выпрямился и впился взглядом в Нармурада.
— Со мной — в кишлак Ширс. Это далеко, под самый Балх, в верховьях Джейхуна[64]! Я живу там вот уже сорок пять лет и знаю каждого в третьем поколении. Я научу тебя тому, чем владею сам. Расскажу о людях, раскрою много тайн, и ты сможешь постичь больше меня.
— Лечить людей? — воскликнул Алекса и отрицательно покачал головой. — Я воин! Нет, воином я был. А теперь… Я и сам не знаю, кто я такой. Я хочу покоя, и ничего больше. А может, и покоя не хочу. Мне кажется, что кто-то взял меня, кто-то огромный и жестокий, и смял в руке, как сминает маленькую птичку сокол. И мне кажется, что так же, как у маленькой птички, улетали из меня перья, и теперь я голый перед миром. А как птичке, даже самой маленькой, жить без перьев, без надежды, что она взлетит?
— Может, я помогу тебе? — Нармурад задумчиво погладил бороду, в которой осталось совсем мало темных волос. — Ты недаром похож на пророка Ису, да и имя у тебя — Аль-Иса.
— Аль-Иса? — Алекса засмеялся. — Пусть будет так.
— А ему, ты этого можешь и не знать, была дана способность даже глиняных птиц превращать в живых. Люди — та же глина, — серьезно добавил Нармурад.
Алекса думал, глядя на цветное сюзане, которое слегка колыхалось от ветерка. Да, сил у него прибавилось, но достаточно ли их для утомительного, ошеломляющего путешествия назад? Такое путешествие ему сейчас не по силам. И еще…
— Твоя жизнь долгая, ее хватит, чтобы вернуться, — прервал его мысли Нармурад. — Ты посмотришь нашу древнюю Бактрию. Ты еще увидишь много такого, что не виделось даже во сне. Поверь, ты не пожалеешь.
Алекса робко коснулся рукава лекаря:
— Я все ждал, отец, что ты заговоришь о благодарности или о том, что достаточно одного твоего кивка, и меня схватят и бросят в ваши страшные каменицы. Однако ничего такого ты не говоришь, а просишь и уговариваешь меня, как маленького. Я поеду с тобой. Поеду и постараюсь, чтобы ты не очень сожалел, что подобрал бедолагу и спас его. И скажи еще одно: зачем тебе было останавливаться в доме обмывальщика, самого низкого и никчемного из всех вокруг? Мне обидно, что люди осуждают тебя за это. Может, из-за меня? Но я не низкого звания, я был когда-то княжеским оруженосцем, сам князь не раз давал мне пить вино из его рук. Кто тебе эти люди? Ты должен был бы проходить мимо них, как мимо кучи мусора.
— Дитя мое, — тихо сказал Нармурад, — я хочу прочитать тебе строки самого Ибн-Сины — а его мудрость еще будет насыщать не одно поколение. Послушай:
Тем, чей разум расцветает с молодости буйным цветом, Я говорю, что есть у сущего примета, Неоспоримая примета, что всегда утверждает это — Родство душ всех со дня сотворения света.— Родство душ? Эти скрученные нищетой женщины родные мне? И что такое эта душа, о которой ты так проникновенно говоришь?
— У нас будет много времени, чтобы поговорить обо всем. — Нармурад положил руку на плечо юноши, и тот даже сквозь ткань почувствовал тепло и особенную силу, исходившую от лекаря. — Давай думать о дороге.
В ту неделю они гадали по лопатке барана, которую кладут в огонь, чтобы по трещинам сказать, холодными ли будут осень и зима. Нармурад решил — зима не захватит их в дороге.
Через несколько дней они выезжали из дома гостеприимных хозяев. Нармурад, произнося слова пожеланий и благодарности, заметил блестящие черные глаза, которые искрились слезами. Глаза принадлежали внучке Патимат, десятилетней Амине. Она терла в зернотерке рис и следила за отъезжающими, и на круглом смуглом ее личике с чуткими бровями и великоватым ртом была видна такая мука, что Нармурад не выдержал, попросил Алексу:
— С ней попрощайся тоже.
Девочка была в халате, штанишках из дырявой ткани. Она застеснялась, прикрылась рукавом, еще нестерпимее заблестели глаза.
— Хай, воры-воры![65] — сказала тихо.
Лекарь с грустью подумал, что, наверное, никогда не увидятся эти дети и что жизнь — сплошные утраты… «Но и находки», — подумал он, взглянув на Алексу, и, повеселевший, первым вышел со двора, ведя за собой ослика, который весело стучал копытцами, радуясь дороге и всему новому. Осел же, которого купили Алексе, топал понуро и настойчиво, будто ему передались настроение и грусть нового хозяина, который шел, повесив голову и думая о том, что что-то закончилось навсегда, а что впереди — неведомо.
На Алексе был теперь полосатый халат, подпоясанный белбогом — платком, на бритой голове у него, как и у Нармурада, торчал кулах — высокая острая шапка из лямца. Глянул в арык, который бежал у дороги, — не узнал себя. Чужое скуластое лицо смотрело оттуда.
— Несмотря ни на что, от меня чужеземцем пахнет за версту! — все же засомневался.
— У нас, в горах, есть много таких, с голубыми глазами, — возразил Нармурад. — Ты — парс, запомнил? Тебя станут искать как румийца, как христианина. Купец Абдурахманбек — богатый, он найдет тебя повсюду, знай это, Аль-Иса!
Они шли и ехали по дорогам, вдоль которых время от времени появлялись и исчезали тонкие ручейки воды, которые поили не виданные Алексой растения с пожелтевшими уже коробочками, из которых выглядывал белых пух. На некоторых полях уже ходили женщины в длинных жестких фартуках, куда они складывали пух, и издали были видны огромные кучи, похожие на снежные горы. Алекса сошел на одно из полей, посмотрел на коробочку, потянул за белый пучок и тут же ойкнул — уколол палец.
— Это нужно уметь! — засмеялся Нармурад и ловко, одними пальцами, вытащил несколько пучков и показал их Алексе. — Твоя рубашка из этого и халат тоже!
Алекса потрогал мягкие, податливые в пальцах пучки. Подумал, как все тут будто спорит между собой: земля твердая, как мертвая, с белыми потеками соли, а рождает плоды такие сочные, что из них душистая влага прямо брызжет. Из колючей коробочки — и такая, почти не ощущаемая пальцами красота! И люди, подумал он, тоже разные. Вот один из них улыбается, однако в глазах его настороженность и холод. Другой же, как Нармурад, молчаливый и понурый, а глаза его добрые-добрые. Как же научиться разбираться в людях?
Перед этим к ним пристал пожилой паломник, который возвращался из Мекки. Он рассказывал чудеса о черном камне Каабы, который будто бы висит между небом и землей и вокруг которого семь раз проходят путники. Долгими часами, пока в придорожном костре варилось мясо или пеклись лепешки, слушали Нармурад и Алекса рассказы о торжественном бритье головы перед ритуальным бегом между холмами Сафа и Марва, о легкости и празднике души, который приходит, когда человек сделал все нужное для паломничества и пришел на «праздник жертвы», или главный праздник. И они ели и спали с паломником, а потом он исчез в ночи, прихватив с собой последний динар из переметной сумы Нармурада и понурого ослика Алексы.
— Платок совести все же окутал немного его голову, — сказал Нармурад утром. — Взял твоего ослика. Ну а динар… Может, ему и впрямь надоело кормиться сухими лепешками и он хочет скорее дойти до своего селения.
— А мы? Мы что, подыхать с голоду будем? — гневно спросил Алекса, готовый по следу бежать за паломником, как охотник за зверем, чтобы безжалостно отомстить ему.
— Ты молодой, значит, всегда сможешь поставить капкан на зайца или отработать за хлеб хозяину. Я же владею лекарским делом. Значит, и действительно не пропадем с голоду. Ему труднее добывать себе еду.
— Я уже видел, что тут всегда подают милостыню человеку, который ходил в Мекку, и считают его чуть ли не святым! Пусть бы побирался. Не пропал бы!
— Нашего динара хватит ему ненадолго. А подавать тут будут всё беднее. Чем ближе к горам, тем меньше у нас мусульман. А многие только для вида ходят как мусульмане, на самом же деле поклоняются Зардуште-Заратуштре и ходят к храму Азаргуштаспа. Его когда-то основал царь Гуштасп, а когда это было — покрылось пылью столетий. Тут сплошь — огнепоклонники.
— Отец, вы и правда верите в огонь? Огонь же — это только огонь. Его может разжечь любой, даже я. Он могуч, если его возьмет в руки человек или бог — ну, скажем, у нас Сворожич, Илья-пророк. Но сам огонь?
— О важных вещах не говорят вот так, мимоходом. — Нармурад подсунул своему молодому спутнику кусок черствой лепешки. — На вот, ешь. Однако я скажу тебе, что огонь — только отблеск света, только часть силы, которая дала миру понятие о доброте и праведной жизни. Все добрые дела на земле — от света Агурамазды[66], все темные — от Аримана, который властвует над злыми духами. Неправда, зависть и злоба — творения Аримана, они идут против всего сущего, и человек должен своими делами поддерживать добро на земле. «Добрые мысли, добрые слова, добрые дела» — видишь, о чем напоминают вот эти три шнура на священном поясе, которым я всегда опоясываюсь незаметно для других? — И он распахнул халат, показал священный пояс, надетый прямо на голое тело. — И тебе я подарю такой пояс, но принять его ты сможешь только после обряда очищения… Ты ешь, ешь! — успокоил он Алексу.
— А вы, отец?
— Я сегодня поголодаю. Это укрепляет мысли и очищает тело. Поверь, я многое расскажу тебе, сын мой. Да, сын, ибо ты спасен мною и мною возвращен к свету, а это, пожалуй, то же самое, что и кровное родство. И самое первое, что я хотел бы передать тебе, — это радость от того, что окружает нас. Посмотри вокруг, сын мой. Если в твоем сердце шевельнется что-то светлое, ты пестуй это чувство, как слабый росток, и оно вырастет потом огромным деревом, под которым ты всегда сможешь спрятать свою душу от чересчур горячего солнца обыденности или от смертного холода неудач. — И старый лекарь повел рукой вокруг, будто не доверяя еще зрению и сердцу Алексы.
Они сидели на склоне горы, откуда открывалось зрелище, которое и правда что-то шевельнуло в окаменевшем сердце Алексы: голубые горы поодаль будто плыли в кристально чистом воздухе, тоже голубом, но с розовым отблеском будущего утра. Белели спокойные, недосягаемые вершины, будто вытягиваясь ввысь, и было видно, что на ближайшей горе тоненькими, как на руке человека, жилками сбегали вниз буропенные ручейки, и отчетливо, как увеличенная, была видна зелень леса, суровой зубчатой стеной опоясывающего гору. Алекса глянул вокруг, — видимо, на той горе росли такие же крепкие, похожие на полоцкие сосны, могучие деревья с пушистыми метелками светло-зеленых иголок. Он даже почувствовал смолистый запах этих иголок и серо-медных стволов, и будто заломило в зубах от студеного холода вон тех родничков, которые, он знал уже это, не нагреваются и летом. Наконец, видимо, лето тут было суровым, потому что внизу было жарко, наливались лиловой мякотью виноградники и пышно желтели на небольших полях огромные сочные дыни, а тут, в горах, уже было холодно, и Алекса по ночам несколько раз просыпался от того, что старый Нармурад бережно накрывал его собственным халатом. Потом Алекса удивлялся, что он, молодой, выносливый воин, мерзнет, а старый уже человек спит на голой земле, как на печи, хотя не далее как вчера видел собственными глазами — тонкая ткань рубашки на груди Нармурада покрылась налетом инея, а тот спал себе и даже не кашлянул утром.
Нармурад внимательно следил за лицом молодого человека.
— Затронуло сердце, но потом снова отпустило? — спросил он, и Алекса только кивнул головой: да, правда, радость будто только дотронулась до него и тут же покинула, он задумался о другом, забыл о красоте вокруг.
— Ничего. Главное, что сердце твое живо, — сказал Нармурад и поднялся. — А я так сколько живу на свете, а все равно радуюсь, что мир такой прекрасный. Что каждое создание в нем для чего-то придумано…
— А гады — змеи и другая гадость — тоже для радости придуманы? А злые ненавистники, а нечисть, которая мучает людей и толкает их на погибель?
Нармурад затряс головой.
— Ты потом мне это переведешь, Аль-Иса, — сказал он.
Алекса опомнился. Он же заговорил на своем языке, забылся! Но — как утолил на мгновение душу… Он перебросил через плечо хурджун, пока Нармурад с усилием садился на своего ослика. Тот погнал лопоухого вперед и, только когда они прошли по прохладной, каменистой тропинке некоторое время, ответил, будто понял, о чем говорил его молодой помощник:
— В жизни много темного и страшного. А кому же, как не человеку, бороться против зла? Чтобы он мог себя действительно чувствовать счастливым. После ночи встречать солнце вон как радостно, да?
Алекса ничего не сказал, и они пошли дальше. А солнце стремительно всходило над этими молчаливыми горами, над каменистой тропинкой, которая вела вперед ввысь и от которой несколько начало захлебываться неокрепшее сердце Алексы. Солнце выжигало ночной холод из ущелий и сияло на красноватых, розовых и темно-коричневых камнях скал, отчего казалось, что путники попали в какую-то заколдованную страну. Крикни — и все вокруг отзовется, оживет, засияет переливами!
И хотя Алекса шел понурившись, он и через многие годы вспоминал то утро, когда сердце его впервые после тяжелой болезни снова, пусть и на мгновение, задрожало радостью бытия и света. Он запомнил это солнце и крупные лиловые ягоды, обсыпавшие влажный куст, который чудом удержался на краешке каменной скалы, где, казалось, ничто живое не могло бы уцелеть. Позже хорошо прочувствовал, что такое горный ветер, который неделями шлифует камни, и они, неподатливые, принимают самые неожиданные формы — такие, которые выдувают в них упрямые, беспощадные ветры. Через многие годы вспоминал он ту минуту потому, что, незаметно для него, он будто снова начинал свой круг жизни. Тут, в горах, вроде пробился сквозь холод первый листочек березы, первый в холодном, еще, может, зимнем мире. И он сам, Алекса, был уже другим, новым человеком, кто пережил многое, но не дал одолеть себя темной, злой силе, которая готова была стереть его в муку, перемолоть и развеять над этими скалами, камнями, над этим ослепительно розовым маревом, заливающим мир…
Облака теперь лежали близко к ним, они были тяжелые, влажные, и все чаще шли дожди, и скользко было на узеньких тропках, которыми они забирались выше и выше в горы. Зима догоняла их, а они хотели обхитрить ее, добраться до теплого жилья раньше.
Страшно было смотреть вниз — такими маленькими казались речки, которые пенились, стремительно падая с вершин. И повсюду — камни. Они влажно переливались красным, зеленым, но больше всего серого цвета. И Алекса почувствовал, что горы владеют какой-то силой, они будто захватывают в плен, заставляют думать по-своему.
И, то идя следом за Нармурадом, который ехал на осле, то, в свою очередь, ехал сам, чтобы дать отдых усталым ногам, ибо на второго осла у них уже денег не было, Алекса вспоминал былое с удивлением. Что есть жизнь? Она вертит человеком или человек подчиняет ее себе? Своя воля, своя охота была у него или так предрекли ему боги? Предрекли и позвали в дорогу, которую измерить глазом — и то становится больно. Мать говорила, что, когда носила его, уж очень часто снилась ей дорога, — почему-то только теперь вспомнилось это, почти забытое… Маленького его часто водили в храм Перуна — был такой около озера Воловьего. Каменные стены, камни тоже огромные, невиданные — и священный костер, и бородатый жрец, и таинственные слова, и душистый дым, и ожидание чуда… Жрец часто предсказывал будущее. Многое сбывалось, а многое — нет, и где же узнать правду? Однажды его ровесник, Нежила, тайком, чтобы не увидели, дотронулся-таки до священного змея, который обвивал деревянный резной столб. Змей тогда был вялый, как сонный, — наверное, была зима. Но он зашипел, поднял змеиную голову с острыми зубами, и жрец гневно сказал, что Нежиле долго не жить. В ту же зиму, катаясь на санках, схватил Нежила огневицу, и через несколько дней она его изгрызла, сожгла, как лучину. А может, это не змей был виноват? Неужто такое было для него оскорбление, когда мальчишечий палец ткнулся в него, чтобы убедиться — живой ли тот змей, или это только призрак, потому что не бывает на Полотчине таких больших гадов? Может, было предопределено Нежиле прожить так мало?
Знать, когда и на чем закончится его жизнь. Да только никому этого знать не дано.
И под мерный топот осла вспоминались слова отцовских сказок:
«Раньше люди знали тот час, когда к ним смерть придет, а теперь никто того не знает, кроме богов. А было это тогда, когда Илья-пророк вместе с Перуном шли по земельке. Видят — человек забор соломой городит. Удивились Илья-пророк и Перун, спрашивают, зачем он так делает.
— Так умру же скоро, — говорит им тот человек. — Зачем мне из сил выбиваться?
Подумали-подумали боги, да и решили: «Ежели же это каждый начнет лишь бы как работать, что будет? Нехорошо так. Пусть работает человек не только на свой век, а и на чужой, пусть верит, что жить ему — вечно». Так оно и пошло — каждый верит, что жить будет долго…»
Кишлак Ширс был небольшой, весь он будто бы прилепился, как и тот неизвестный Алексе куст с лиловыми ягодами, на краешке каменистого острова и так же врос в него, освоил и обжил. Сначала, когда они наконец выехали из глубокого, уже омертвевшего от холода ущелья и Нармурад показал парню на почти незаметные домики, которые рассыпались по склону одной из гор, тот почувствовал будто укол в груди — так вот куда занесло его, вот где проживет он следующие годы, и какими они будут, эти неведомые для него годы? Он смотрел на домишки с плоскими крышами, с террасами и вдруг почувствовал, что ноги его, уже окрепшие от ходьбы и свежего воздуха, будто ослабели. Неужели тут край земли? Неужели за этими домиками и есть та черная бездна, или синь-Океан, о котором рассказывают бывалые люди? Слышал не раз Алекса, что земля под ногами — это спина огромной кит-рыбы. Бывает, что стонет и ворочается тот кит, и тогда летят с него в бездну, или в синь-Океан, целые города и селения. Тут, на самом краешке земли, слышно уже было однажды, как содрогнулся кит. Тогда земля заходила под ногами, а с гор полетели огромные камни — они с Нармурадом едва успели спрятаться в пещеру. Но Нармурад сказал, что бывают колебания земли еще сильнее, а на слова Алексы, что это кит-рыба ворочается, удивился и сказал, что это дьявол Ахриман хочет вырваться из вечной тьмы. Вот и попробуй разберись, где правда!
И может, суждено ему навсегда остаться тут и когда-нибудь вместе с этими домиками слететь в бездну. А может, суждено что-то другое, чего он не знает и знать не хочет? Не хочет, несмотря на то что душа его потихоньку будто оживала — совсем понемногу, и молодость, видимо, не хотела мириться с тем, что предначертана на этом свете только беда…
Вблизи глиняные, с привычными уже для Алексы толстыми стенами дома не казались такими маленькими и ненадежными. А дом Нармурада с плоской крышей, на которой можно было, как оказалось потом, спать и летом, с каменными колоннами, которые поддерживали крышу и образовывали за домом как бы крытую терраску, и вообще показался Алексе просторным — может, оттого, что в комнатах, кроме большого ящика да ниш для постели и посуды, ничего не было. Не успели они зайти в дом, как дворик наполнился людьми. И по тому, как здоровались немолодые уже люди с Нармурадом, как почтительно кланялись ему зрелые уже мужчины, Алекса понял, что приход лекаря — радость для жителей. У них сразу же забрали осла, чтобы накормить. В несколько мгновений накрыли на полу дастархан[67] — чистую белую ткань, заставили глиняными блюдами, на которых лежали орехи, сухой виноград, сушеные — видимо, уже урожая этого года — дыни и арбузы, а также кислое молоко и еще не виданные Алексой белые шарики. Когда же, помывшись с дороги и пройдя очищение священным огнем, специально принесенным когда-то из далекого храма в большой глиняной миске, наполненной оливковым маслом, они сели вокруг стола вместе со старшими мужчинами — молодые к столу допущены не были, — Алекса попробовал шарики и почувствовал, что они солено-кислые.
— Ешь! — строго сказал ему Нармурад, заметив, что Алекса чуть не выплюнул назад и пробует незаметно выбросить шарик. — Ешь, это очищает кровь и освежает с далекой дороги.
Парень вынужден был раскусить шарик и с удивлением понял, что вкус ему немного знаком. Не такой ли вкус был у кислого молока, которое подавала ему мать в высоком, тоже глиняном кувшине, только там и кувшин был иной, и глазурь на нем совсем не похожа на ту, что нанесена на здешние кувшины и чаши. Такие чаши — широкие, без ручек, которые держат на ладони, Алекса уже видел, но еще не привык к ним. Разве сравнишь их с кружкой, за которую уцепишься всеми пальцами и удержишь; эту кружку подает мать — лицо ее озабочено, но вот, поймав взгляд сына, она улыбается, и глаза ее светлеют, наливаются сердечностью и преданностью…
Чужим, отрешенным взглядом посмотрел на присутствующих Алекса. Хотел он подняться и пойти прочь от стола, за которым нестерпимо заболела душа воспоминаниями о родном доме, однако удержался — нехорошо так будет.
— Можешь идти, сынок, — улыбнулся ему Нармурад, и все старики, с седыми бородами и высокими, белыми, накрученными вокруг голов тюрбанами, посмотрели на него. В глазах стариков был интерес, но Алекса знал уже местный обычай — никогда не спрашивать первым у гостя, что к чему. И ничего не спрашивали у Нармурада — откуда и почему привел он сюда, в далекий горный кишлак, молодого чужеземца. Алекса почувствовал признательность — как же понимает его лекарь, как без особого труда читает самое, казалось бы, затаенное! Может, и боль по матери уловил, что так ласково и сочувственно улыбнулся. Однако ничем не помогут ему эти сострадания и доброта — только немного утешат изболевшееся сердце… И он остался у стола. Вскоре со двора потянуло соблазнительным запахом свежих лепешек — их, видимо, пекли в соседнем дворе и скоро принесли в комнату, где сидели гости.
Алекса ел свежую, с незнакомым запахом острых зернышек лепешку, смотрел на огонек, который слабо трепетал в глиняной чаше, освещая ее красными отблесками, впитывал в себя аромат, наплывающий от душистых трав, которые по стебельку подкидывала в чашу маленькая, в драной рубашонке девочка. У девочки были огромные голубые глаза, а волосы белые, как лен, и Алекса наконец загляделся на нее, — если бы не множество тоненьких, с мышиный хвостик, косичек, была бы она едва ли не до мелочей похожа на полочанок. Откуда тут, среди смуглых, черноволосых, с обветренной кожей людей, эта девчушка? Она держалась уверенно, видно было, что малышке привычно сидеть в этом домике, ходить по глиняному полу, искать на полке травы… Заглядевшись на светлое, с грязноватыми пятнами на розовых щеках личико девочки, которое так неожиданно — во второй раз за сегодняшнее сидение! — напомнило родину, Алекса не заметил, как ему подали прозрачный кувшин с каким-то желтоватым питьем. Он опомнился, огляделся — все мужчины держали в руках сосуды и смотрели на него, будто ждали чего-то.
— Встань, сын мой, и немного побрызгай на священный огонь из сосуда, — ласково попросил его Нармурад. — Это питье — из плодов хаомы, им приносят жертвы огню. Только осторожно, не потуши огонь, иначе… ну, не буду тебя пугать. Сделай это для меня. Пусть мой дом будет для тебя светлым!
Алекса встал, подошел к черной глазурованной чаше, внутри которой трепетал огонек. Чумазая девчушка подвинулась, потом подала ему несколько веточек — кажется, такие были на дереве, на котором росли рубиновые плоды с малюсенькими кислыми зернышками, которые утоляли жажду. Он взял пучок веточек, понял — нужно побрызгать именно этим веничком. Осторожно намочил кончики веточек, брызнул на огонь. Тот затрепетал, потом вновь стал спокойным, и только сильным, и вновь неожиданным, и могучим дуновением начал расходиться по дому аромат.
— А теперь — выпей, — услышал Алекса.
Осторожно попробовал питье. Что-то острое, душистое, приятное. Выпил. Хмель почти сразу же отуманил голову, он присел, чувствуя, как поплыло все вокруг.
Алекса смотрел, как гости — а остались только седые, бородатые старцы, — выпив напитка, встали перед глиняной чашей и, сложив руки перед собой, запели песню. Слов не мог разобрать Алекса, позднее, когда он много раз слышал моление Анахите — великой богине, матери всего сущего, он узнал, о чем пели. А пели старый древний гимн-заклинание, посвященный богине жизни Адвисуре Анахите:
Она сотворяет семя всех мужей. Подготавливает к родам Материнское лоно всех женщин, Наполняет в нужный час Молоком материнские груди…Постепенно хаома, видимо, оказывала свое действие. Старцы пели все громче и громче:
И вот, о Заратуштра, она пришла к нам, Адвисура Анахита, От Мазды, создателя своего. О, действительно красивы ее руки — Белые, сильнее бедер лошадей… …Мысль одна занимает ее: «Кто восславит меня. Кто возвеличит молоком, напитком хаома, Очищенным, процеженным Зороастрой?»[68]Алекса чувствовал, как неумолимый, неутихающий ритм подчиняет и его. Тело стало легким, и хочется вот так же кружиться, выкрикивать непонятные слова…
— Что, тавроскиф, впервые видишь такое? — прозвучал около него голос.
Алекса повернулся. Толстый, с красным загорелым лицом и маленькими хитрыми глазками человек смотрел на него, дружелюбно улыбаясь. Улыбка у него была удивительная — на нее сразу же хотелось ответить.
— Я полочанин, — на языке фарси ответил Алекса.
— Ну, это все равно. Так вас называют византийцы, я знаю. Давай лучше выпьем, полочанин, настоящего вина. Ей-богу, я всегда боюсь, когда они пьют хаому, — как безумные становятся…
Алекса посмотрел — и ему стало смешно. Правда, немного похожи они здесь на безумцев.
Толстяк протянул Алексе чашу с красным вином. Однако один из старцев — и когда только заметил? — коршуном кинулся к ним, выхватил чашу.
— Не погань светлого моления! — закричал он. — Проклятый Ашавазда!
И все взвихрились, загомонили, начали выталкивать толстяка. Он засмеялся, пошел.
— Мы еще выпьем с тобой, правда? — сказал на прощание Алексе.
Сильная костлявая рука Нармурада мягко взяла за плечо, отвела в соседнюю комнату. Он еще помнил, как чумазая девчушка испуганно постелила у самых ног узкое толстенькое одеяло, как под голову ему подсунули подушку… А потом забылся сном — удивительно спокойным и добрым, будто наконец нашлось место, где можно вволю насладиться успокоением и тишиной.
Тогда шел абан, восьмой месяц по иранскому солнечному календарю, по-славянски он бы назывался октябрем. Тут, в горах, он был то ясно-солнечным, когда прозрачным становилось небо и легкие перистые облака только изредка проплывали в недосягаемой высоте, то хмурым, будто злился на что-то. В этот месяц наливались жиром олени, зайцы и дикобразы, которых здесь никто не трогал, ибо великим грехом для каждого, кто поклянется Заратуштре, было бы употребление мясного. Неподалеку, за соседней горой, жили уже мусульмане, которые, наоборот, считали, что мужчина, который не поест мяса, годен только на то, чтобы вместо женщины заниматься прядением. Бывало, что их охотники, гонясь за горным козлом или серной, добирались до самого кишлака, но люди из Ширса не трогали пришельцев, ибо как-никак султан Шихаб ад-даула Маудуд, который властвовал в стране, был честолюбив, он не хотел древней, но довольно враждебной для мусульманства религии, и стоило только правоверным мусульманам направить жалобу на неверных… Однако и сами соседи-мусульмане хорошо знали, что, хотя султан Маудуд вырежет маленький кишлак Ширс так же просто, как вырезал бы он своим славным кинжалом веточку аргувана[69] с куста, от их собственного кишлака также останется только пепел и тлен, ибо мужчины из Ширса были как на подбор, высокие и статные — настоящие воины, — а женщины славились нездешней красотой. Шептались мусульмане — не от походов ли Искандера Двурогого осталась у ширсовцев эта непохожесть?
Тот месяц Алекса также запомнил навсегда. Запомнил, как назавтра, когда проснулся, вышел на террасу и, потягиваясь, посмотрел вокруг, непривычное чувство своей никчемности перед величавыми горами и одновременно радости от того, что он живет и видит такую красоту, снова охватило его. Лиловые тени в ущельях, фиолетовые и зеленые пятна растительности и трав, вершины могучих платанов были окрашены розово-золотистым светом, он стремительно прибывал, как прибывает вода в половодье, — и вдруг солнце встало из-за белых шапок гор, залило глиняный дворик, источенные временем колонны дома, тускло-желтый дувал… Алексе захотелось встать на колени, чтобы молиться солнцу и всему вокруг, и что-то подступило к глазам щемяще жгучее. Холодновато-пахучий воздух, заполнивший грудь, будто вытеснил все воспоминания о том, что с ним было, настраивал на то, что еще будет…
* * *
А в далеком Полоцке, кутаясь в старую одежину, наблюдая за холодным дождем, который, не переставая, вперемешку со снегом сыпался и шуршал по стенам кельи, выводил начисто летописец-черноризец Никон слово за словом, переписывая еще с лета написанное с бересты на пергамент, который сохранится навечно:
«У се же лето умрет Брячислав, сын Изяславль, внук Володимерь, и Всеслав, сын его, сядет на столе его. Его ж роди мать от волхвования: матери бо народиши его, бысть ему язва на голове его. И сказали волхвы матери его: «се язвенно навяжи на него, носить е до живота своего». И носит его Всеслав до сегодняшнего дня».
То же писал и киевский летописец Нестор, только прибавил в конце: «Тому немилостивый есть на кровопролитие…»
Умерла вдова Катуниха, ибо не давал ей нечистый, вселившийся в нее, никакого продыху. Мучил и мучил жалостью к пропавшей дочери, точил и точил сердце. А сердце человеческое — оно порой крепче валуна, слабее котенка, которого легко придушить пальцем… Советовали добрые люди вдове пойти на далекое капище Перуна, которое завели изгнанные из Полоцка волхвы далеко в лесах, называли надежные люди то место, однако ж не слушала никого женщина, смотрела тусклыми глазами и молчала. И перестали люди к ней ходить, ибо если не может она сама избавиться от болезни и нечисти, разве может помогать другим? К тому же забросила вдова все свое нехитрое хозяйство, корова зимой умерла с голодухи, а урожай пшеницы в том году сильно выжгла жара. И угасла кобета в своей курной черной хате, нашли же ее через долгое время и скорее схоронили — так страшно мучил бедную женщину нечистый… Долго еще ходили по улице слухи, что разгулялась злая сила не на шутку и все прилетает душа Катунихи на старое место, ищет, а кто же разнес потом по бревнышку ее хатку. Стонет ночами около дворов… Крестились люди, каялись, что позарились на те бревнышки, ибо пришлось-таки ставить свечки в церкви за упокой души, а свечки, как известно, стоят денег. А где возьмешь лишние? Ну а все-таки, видимо, отмолили душу — перестала летать по людям да по селению. Может, устала и на том свете…
Да про это черноризец не написал. Кому интересно о черной чади знать? Кому нужно?
Шли дни, и каждый из них открывал Алексе что-то новое. Он научился карабкаться по кручам, которые казались совсем неприступными, висеть над холодным и неприветливым ущельем, держась цепкими и гибкими пальцами за выступы скалы, а другой же рукой срезая веточки кустов, которые просил принести его Нармурад. Научился находить в пещерах горный воск, по количеству и цвету трав, растущих вокруг пещеры, устанавливать, какие болезни лечит тот воск. Шли месяцы, сначала снежный и голодноватый дэй[70], когда метели глухо воют целыми днями и заметают террасу до самых окон, подтачивают огромные скалы и помогают злым духам обрушить тьму снега и камней вниз, отчего по горам долго идут гул и тряска. В такие дни Алекса вспоминал, как рассказывал ему дед про Ледащика — злого духа, который насылает на людей болезнь и порчу. Наверное, злые духи здесь были свои, здешние, ибо болезнь ни разу не затронула Алексу, наоборот — он чувствовал себя как никогда хорошо. Ныла иногда рука, отзывалось на смену погоды плечо, но зато теперь он спал на полу, невосприимчивый к холоду, и тело его будто задубело, ибо сколько раз выходил он за дровами для очага босиком в то время, когда жгучий мороз пригонял ко двору даже диких животных. Однажды к ним на подворок зашла олениха. Передняя нога у нее была окровавлена, золотисто-рыжая шерсть на спине свалялась и висела сбитыми космами, как колтун. Алекса, увидев ее, встрепенулся, в нем ожил охотник, но Нармурад, коротко взглянув на него, подошел к оленихе, повел ее в укромное место, напоил, потом умело перевязал ногу длинной лентой коры, смоченной горным воском.
Олениха прижилась у них и даже весной, вернувшись в какие-то одной ей известные места, приходила несколько раз, а зимой не появилась — может, все-таки подстрелили ее где-нибудь в горах или сама обессилела, удирая от леопарда или волка.
Месяц спандармузд, соответствующий февралю, запомнился Алексе тем, что сеяли здесь ячмень. Мобед — жрец храма огня, которого с большими почестями привезли старейшины, в цветной кобе-рубахе, обвязанный священный поясом, в войлочном колпаке, трижды обошел поле, держа чашу с огнем. Рот его был завязан — для того, чтобы никто не опоганил своим нечистым дыханием божества. Желтой костлявой рукой он взял из лукошка горсть зерен, и Алекса удивился — столько нежной ласки было в этой руке, будто хотел старец передать зернам свою надежду, дать им силы вырасти на этой каменистой, неласковой земле.
Алекса накануне отказался пахать кусочек земли, принадлежащий им.
— Я не смерд, я воин, — сказал он Нармураду. — Хочешь, принесу тебе барана или козла, ибо глаза еще мне хорошо служат. Но пахать землю? Я был княжеским оруженосцем!
Нармурад задумчиво посмотрел на него, но не стал возражать. Утром, еще до приезда мобеда, он встал на рассвете и ушел со двора. Алекса проснулся вместе с ним и все же упрямо лежал, стараясь не дышать. Но потом что-то начало будто точить его.
«Нармурад, умный, спокойный и добрый Нармурад, работает на меня, а я, здоровый и сильный, лежу здесь! — думал он. — Но ведь пахать землю… это пристойно только черной чади!»
Он вспомнил, что уже давно не пробовал мяса, и так нестерпимо захотелось дичи, жареной, горячей с огня, пахучей! Как славно было, когда сам князь, раздобрившись, давал ему из своих рук такой огромный, красный, со жгучей поджаренной корочкой кусок от только что убитого и освежеванного кабана! Но здесь, хотя дичи, непуганой, разной, множество, — все для него запрещено. Нет, принести сюда убитого зверя — значит, оскорбить всех, кто живет в этом кишлаке и кто принял его так же ласково и хорошо, как и сам Нармурад. Правда, как-то, через несколько недель после приезда, Алекса неожиданно услышал, возвращаясь с поля, откуда нес мешок с зерном, разговор. Говорили старики, неподвижно сидящие, поджав под себя ноги, на открытой террасе-айване:
— Этот приезжий… он всего только гулям — раб, а наш лекарь относится к нему как к сыну.
— Ему виднее, — сказал второй голос. — Да и рабов у нас нет, они только при храме. Кроме того, раб не сделает того, что сделает сын, пусть себе и названый.
Алекса понял их, хотя говорили они на древнем языке, на котором все говорили здесь. Сам он иногда удивлялся этой своей способности понимать других и быстро схватывать тонкости чужого языка. Но тогда что-то будто укололо его, и он начал задумываться — не потому ли назвал его Нармурад своим сыном, что почувствовал в нем, Алексе, способность подчиняться только доброте и ласке, но не силе? Был бы здесь рабом — убежал бы через неделю, но прочнее, чем толстой веревкой, привязан благодарностью и уважением. Так не капкан ли это? Он пристально приглядывался к лекарю, и иногда его охватывал стыд — ничем и никогда не дал понять Нармурад, что он здесь чужак, наоборот — был ласков с ним и добр, как с настоящим сыном. И Алекса не выдержал — встал и побежал на поле, и уже вместе с хозяином они пахали маленький кусочек своего поля, разрыхляя неподатливую землю лемехом с металлической оковкой на острие.
И когда жрец трижды обошел землю, сыпанул зерном и остановился, глядя, кому передать лукошко, Алекса выступил вперед:
— А теперь — я.
Жрец задержал руку, долго вглядывался в него запавшими глазами, острыми и пытливыми, потом спросил:
— Саклаб?[71]
— Мой сын, — сказал Нармурад, взял из рук жреца лукошко, передал его Алексе и повторил: — Сын.
Месяц урдибихишт, когда уже бурно растет на полях зелень и белым цветом осыпаны персиковые деревья, также запомнился Алексе. Тогда неожиданно заболела девочка, та самая, которая поддерживала огонь в чаше в день приезда хозяина. Она жила у лекаря после смерти матери, пришлой женщины, которая не то убежала от хозяина, не то сам он отпустил ее перед смертью домой. Женщина пробиралась на родину, в далекий Иран, и, теряя последние силы, еще приплелась к порогу Нармурада, где и умерла. Тело ее двое благодарных лекарю людей отнесли к дахме — каменной башне в виде высокой площадки, куда обычно клали трупы, чтобы расклевали их хищные птицы, ибо нельзя отравлять мертвым телом ни землю, ни священный огонь; девочка же осталась у лекаря. Мать называла дочь Гульнарой, а Нармурад стал звать ее Аппак — Беляночкой, потому что с самого своего рождения была она белокурой и светлой — такими бывают только потомки древних персов или люди из чужих, туманных и далеких стран, где мало солнца, а много воды. Аппак была тихим четырехлетним существом, которое, ковыляя на слабых еще ножках, старательно исполняло все, о чем ее просил Нармурад. Девочка берегла огонь, мыла чашки, стелила мужчинам подушки. Когда же Нармурад уезжал, то за девочкой присматривали соседки, брали ее к себе долгими осенними ночами, но, повзрослев, Аппак неохотно уходила из дому, чаще, закутавшись в дырявое одеяло, молча сидела у очага и смотрела на огонек, а иногда на могучие языки пламени. Тут, у огня, и увидел ее Нармурад, когда вместе с Алексой вернулся с поля; девчушка лежала, закатив глазки, на щечках ее зловещими красными маками расцвела сыпь, лоб пожелтел. Она приоткрыла печальные глаза, но не узнала никого, только жалостливо пробормотала что-то на неизвестном языке.
— Мать зовет, — сумрачно сказал старый лекарь, и сухие, уже немного вялые губы его задрожали.
Он взял девочку за руку, начал слушать пульс, потом осмотрел ее, прижимаясь ухом к тщедушной, как у воробушка, груди с выпирающими под кожей косточками.
— Там, на полке, возьми джуляб, — сказал он.
Алекса взял глиняную баночку с сиропом, сваренным из лепестков роз, подал лекарю, а сам направился прочь из дома, чтобы не мешать. До этого он только собирал травы для больных, которые часто приходили к врачевателю из соседних и даже отдаленных кишлаков. Однако Нармурад остановил его:
— Нет, ты посиди рядом.
Алексе было жаль девочку, которая часто напоминала ему о родине, он никогда не обижал ее, был ласков, но она дичилась его — стеснялась, что ли? — и сам он первым никогда не заговаривал с ней, жил, мучаясь от своих мыслей, как не обращал бы без нужды особенного внимания на звереныша, который прижился в доме. Он подошел, присел на корточки перед Нармурадом и Аппак, которая, глотнув несколько ложек сиропа, лежала все такая же вялая, безразличная ко всему.
— Подержи руку, посмотри, какой у нее пульс, — сказал Нармурад. — У здорового человека должно быть пять ударов на одно твое дыхание — это значит, пока вдохнешь и выдохнешь воздух.
Алекса уже знал, что пульс показывает, чем и как болен человек, и не единожды он украдкой трогал запястье и ловил эти таинственные стуки, которыми кровь-руда толкалась в жилы и отзывалась, здоров ли хозяин. Но другого человека он слушал впервые, и эти медленные, будто нехотя, толчки, которые едва прощупывались на тонкой, как у маленького зверька, лапке, вдруг вызвали в нем острое чувство жалости.
— Что с ней, отец? — спросил он.
— Пока не знаю. Похоже на горячку.
Дверь внезапно открылась, в комнату влетел худой, такой худой, будто ребра сейчас проткнут синеватую кожу, ободранный человек, подскочил к девчушке, уставился на нее:
— Горе, горе! Повсюду горе, черная река затапливает нас! Стерегитесь, бегите! Неужели не видите, как черная река подступает к дому? Она здесь, она плещется у двери!
Алекса было вскочил от неожиданности, но Нармурад успокоил его:
— Это Спитагд. Он не обидит никого. Не бойся.
Алекса уже слышал о бедолаге Спитагде, одном из учеников Нармурада, которого покинул свет разума. Он всегда, как вечно печальная птица Шебавиз, чуял, где несчастье, и приходил в тот дом плакать по человеку. Знал Алекса, что Спитагда поначалу выгоняли из домов, но теперь все его поняли и не трогают. Даже к мусульманам приходит он и плачет вместе с людьми, и все считают, что Суруш[72] оберегает несчастного безумца и от камнепадов, и от несчастья…
Они сидели, смотрели на девчушку. Снова открылась дверь — и толстяк Ашавазда боком протиснулся в дверь:
— Аль-Иса, выпей со мной!
В руках у него был узкогорлый металлический кувшин, в кармане ободранного кафтана звенели пиалы.
— Здесь больное дитя, а вы… — укоризненно сказал Нармурад.
— Ну и что — больное дитя! Еще неизвестно, где ей лучше, здесь или там. — Он показал на небо. — А, и ты здесь, ворон смерти! — Он поздоровался со Спитагдом. — Все каркаешь?
— Змеи тебя обвивают. Змеи похоти и пороков! — Спитагд протянул руку вперед, воткнулся костлявым пальцем в Ашавазду.
— Змеи? Где это? — Ашавазда деловито осмотрел себя, но глаза его смеялись. Он подошел к сумасшедшему, протянул ему полу одежды: — Так на, стряхни их. Ты же у нас святой, об этом сам дастур[73] говорил.
Спитагд боязливо отодвинулся, посмотрел на Ашавазду, который налил вина в одну из пиал, протянул Алексе:
— Выпей, легче будет!
Алекса растерялся, посмотрел на Нармурада, выпил несколько глотков.
— Вот и хорошо! Будет легче! — обрадовался Ашавазда.
Он и пошел из комнаты, напевая:
Я пью потому, что мир наполнен тоскою, Я пью, и мне кажется — милая со мною…— Сейчас его «милая» хорошенько огреет его! — саркастически заметил Нармурад. — Все его жены убегали от пьяницы, и он стал нищ, как последний бедняк, потому что платил жениной родне большие деньги. Осталась одна — но она такая, что мне иногда хочется попросить у нее яда, у этой змеи!
Взгляд его упал на Аппак, и он снова нахмурился.
Встал, попросил:
— Перенеси ее в темную комнату. Бывают болезни, которые не любят света. Посмотрим, понаблюдаем за ней. А ты мне поможешь. Пора тебе уже учиться большему. Время. Но боюсь, что мы не поможем. Я смотрел, что ей предначертано. Судьба у нее нехорошая, ибо родилась она под звездой Денеб[74], а это всегда обещает несчастье…
Алекса видел, что старый лекарь часто смотрит на небо. И перед тем как поправить стену, осевшую от сильного подземного толчка, и перед дорогой. Он заметил также, что на крыше их дома стоит большая труба на колесах и хозяин в особенно ясные ночи сидит там аж до утра. Впервые увидев, как смотрит на небо через ту трубу Нармурад, Алекса ужаснулся — не волшебник ли он? Люди в округе не удивляются и не боятся, а, наоборот, сами вечно толкутся в доме, чтобы спросить о судьбе близких, о благоприятном или неблагоприятном времени для начинания дел. И все же Нармурад, который охотно помогал больным, нехотя говорил о будущем.
— Моей жизни на это не хватило, — сказал он как-то, — я могу немногое. И так мало знаю, что отчаяние охватывает мою голову!.. Но ты… ежели ты захочешь, твоей жизни должно хватить на все то, что не сделано мною.
Алекса тогда неопределенно пожал плечами — он и хотел бы узнать, что там делает на крыше Нармурад, и вместе с тем его не тянуло к сидению ночью под звездами. Он находил успокоение только тогда, когда заходил далеко в горы, искал корни и травы, добывал топливо для их скромного очага. А Нармурад не настаивал, видимо, ждал своего часа.
Они лечили девочку вдвоем, и никогда еще не ходил за травой Алекса в таком нетерпении, никогда еще не следил он с такой жалостью и надеждой за самыми малыми изменениями в человеческом лице. Каждая жилка на этом бледном, худеньком детском личике наполняла душу любовью и надеждой, и он впервые понял всю огромную цену жизни. Приходила зрелость. Думал, что сам мог бы иметь такую вот дочку… мог бы. А может, даже и сына послала бы богиня Мокашь, которая помогает роженицам, или лучше сразу и сына, и дочь? И Алекса ухаживал за девочкой, как ухаживала бы только разве заботливая мать. Даже во сне слушал ее сонное дыхание, на память выучил слабенький пульс, который спустя несколько недель тревоги начал наполняться жизненной силой. Сначала был как тонкая нить, готовая вот-вот оборваться, в последние дни напоминал маленький, едва заметный в густой лесной траве родничок, который тихо, но настойчиво бьет на поверхности земли.
Аппак по-настоящему поправилась позже, не зная, что, если бы не ее болезнь, никогда бы не заинтересовался врачеванием молодой воин. К тому же не оставлял Алекса и своих занятий языком. Он уже немного знал и арабский — язык завоевателей. Помогал старый толстяк Ашавазда, который много поездил по свету, побывал и буддистом, и мусульманином, а теперь вот снова вернулся к вере своих отцов. Ашавазда имел в доме несколько рукописей. Это было большое богатство, но лежали книги в старом сундуке с истрепанными боками.
Случайно Алекса наткнулся на них. Он удивился, попросил учить его читать по-арабски. Ашавазда сначала отказался, а потом как загорелся:
— Читай! Читай их, дорогой, пополняй свою голову чужим умом. Я их прочитал не один раз, но моя голова — как сито, все протекает мимо. Да и стар я уже, бессилен… А ты… Ты терпеливый и выносливый, как… как верблюд!
Алексе не очень понравилось такое сравнение. Но он махнул рукой. Что обижаться на весельчака Ашавазду?
Действительно, именно терпение Алексы, видимо, спасло Аппак. Это он проснулся, когда девочке стало плохо и она посинела, не могла дышать. Старый Нармурад тогда спал, шевеля во сне губами, лицо его было светлым и легким. А он, Алекса, услышал хрипение, и вместе они отхаживали, терли слабое тело, жгли у висков девочки горькую горную полынь. Утром ей стало легче, а потом и совсем пошло на поправку. И когда впервые Алекса вынес Аппак на воздух, стал с ней на террасе, глядя на уже привычные горы в их одиноком и гордом величии, а теплый, напоенный цветами ветер ласково овевал их лица, — он снова раскрылся навстречу всему вокруг…
И все это понемногу возвращало его к жизни — жизни, которая бьется горячей кровью в жилах и наполняет неизведанным счастьем каждую клеточку тела.
А потом месяцы пошли один за одним, так что Алекса уже и не помнил, когда что было, он жил, как молодой зверь, не заглядывая в будущее и стараясь забыть о прошлом.
В свободное от работы время он ходил к Ашавазде, помогал тому по хозяйству. И хотя лекарь Нармурад часто ворчал на него за это, не переставал беседовать с человеком, который много чего повидал на свете, знал наизусть столько стихов, что Алекса удивлялся — как помещаются они в голове? Но Ашавазда только смеялся:
— Что я? Вот великий Ибн-Сина мог прочитать книгу и сразу выучить ее наизусть. А я каких-то пару тысяч касыд знаю — что с того? Меня они не сделали ни богатым, ни уважаемым. Наоборот — наши старейшины косятся, что не отказываюсь от единственного утешения — пиалы с вином. Мусульмане-суфии[75], опьянев, объединяются с Аллахом. А я просто забываю о том, что мир такой паршивый, и мне легче жить… Давай выпьем!
И он правда ставил перед Алексой большой фиал с красным, как камень лал[76], вином. Тот качал головой, отказываясь, но потом немного выпивал. Аната шипела как змея, бросала подушки в стену. Но пока не наступил ее час, молчала, терпела. Зато время от времени будто сатанела, и тогда Ашавазде приходилось туго. Потом он набирался сил и отводил душу. И долго после этого растирала подтеки Аната, жаловалась всем и каждому в кишлаке…
Алекса брал в кладовой очередной пергаментный сверток — тем и заканчивались обычно их разговоры. Но однажды Ашавазда с таинственным видом достал откуда-то толстую, тяжелую, будто камень, книгу.
— Там было написано о других странах, о путешествиях, — сказал он. — А здесь собрана мудрость, которую я так и не одолел. Мне уступил эти записи купец, который умирал от жажды в пустыне и последним остался из каравана… Я дал ему воды, но и она не могла спасти этого человека. Он умер, благословляя меня за эти несколько глотков, хотя хотел, видимо, за книгу получить немало золотых динаров. И она того стоит!
— Так почему же не продали их, если не думали использовать? — наивно спросил Алекса.
— Я не думал? Думал! Прочитаю все, говорил себе, стану умным, как Рудаки или Мани, и, хоть не буду так писать, как они, постигну, что же за создание человек, что держит его на земле и куда он пойдет после смерти. Однако… Хотелось жить, просто жить. Молодому — ради любви и красавиц, стал старым — захотелось иметь здоровье, а где же ты его возьмешь, прозябая под покровом мудрости, который дано приоткрыть немногим? Так и прожил, а продавать это… — он показал на книгу, — не было возможности. Все казалось, что вот пройдет время, снова сбегу в белый свет. Там понадобится. Вот только сил наберу. А не прибавлялось, становилось все меньше… Читай, может, тебе придется стать избранником Аллаха, ибо недаром старый Нармурад выбрал тебя в ученики. И не говори ничего Анате. Не нужно. Это — единственное, что я смог сберечь!
— Я… не могу. Это стоит денег, — пробормотал Алекса.
— Глупости! Ты и так мне помогаешь…
И он почти вытолкал Алексу со двора, где густо росли райхон и розы, которые он бережно укутывал на зиму.
Нармурад встречал приемного сына после гостеваний не очень благожелательно.
— Старый пьяница готов пропить весь мир! — говорил он. — Мог бы приносить людям столько пользы, помогать им. А что получилось? Думает только об удовольствиях.
— Может, правда именно как раз в этом? — спросил Алекса. — Чтобы жить для себя и наслаждение получать тоже только для себя?
— Если так, то станет недоступной тебе самая великая радость — давать, отдавать себя. Вот ты спас Аппак, и разве это не доставило тебе радости?
— Может, не так следует поступать настоящему мужчине? Может, великий Перун, или, как тут говорят, Зардушт, сам хочет распоряжаться своими детьми? Мое дело — бороться. А я стал подобен слабой женщине и позволил демону жалости войти в свою душу. Разве это хорошо?
— То, что ты называешь демоном, — добрый дух. Однако тебе многое еще должно открыться. Я только молю, чтобы всегда горела над твоей головой звезда Муштарп[77]!
Когда же Алекса принес книгу, которую дал ему Ашавазда, Нармурад впервые обрадовался:
— Пусть меня простит великий Зардушт, но всегда, когда я думал о соседе, язык мой готовился к гадкому слову. Теперь же я готов сказать, что щедрость его подобна соседней горе Тахамтан — такая же могучая. Читай, мой сын, читай и думай! Я всего только скромный лекарь, мои способности малы. Однако я жил, как мог. Я не делал плохого, старался жить добрыми мыслями и поступками. Может, я попаду снова на землю после рождения?
Ежели не было той или иной необходимой работы и не нужно было идти за кореньями и травами или же доить козу (пальчики Аппак были еще слабы для такой работы), Алекса садился на небольшое глиняное возвышение — суру и, бережно развернув свиток на белом дастархане, как самое драгоценное из всего, что имел, осторожно разбирал слово за словом, впитывая в себя древнюю мудрость ушедших с земли людей. Многое было в книге ему непонятным. Тогда он читал и перечитывал, спрашивая о незнакомых словах у Нармурада, и даже ходил несколько раз в далекий кишлак, где старый учитель переводил ему отдельные арабские слова, но все равно не мог объяснить, что означают они, собранные в одном предложении. Приходилось догадываться, долго ломать голову. Эту книгу как увезти отсюда — такая она тяжелая. Первый раз как вот подумал об этом и поймал себя на том. Значит, жива в нем надежда на возвращение. Но вернуться нужно не воином — их много. То, что возьмет здесь, — знают немногие. Он вернется лекарем. Своим! Не чужеземным. И будет лечить всех-всех. Тогда, может быть, вылечит и Катуниху. Поможет матери и отцу!
Очень скоро Алекса понял, что прочитанное нужно записывать. Таинственные линии, найденные древними лекарями Поднебесной страны на человеческом теле, управляя которыми можно вылечивать болезни и отгонять злых духов, понемногу становились понятными. Но изменчива человеческая память, сохранит ли она по прошествии времени все это? И он начал думать, что и как в Полоцке, при дворе епископа и при монастыре, делали переписчики. Однажды видел, заглянув вслед за князем, как, склонившись над высоким поставцом, скрипел гусиным пером старый, с реденькой седой бородой и выцветшими глазами, немощный дедок в высокой шапке. Большая, окаймленная кожей обложка книги лежала отдельно, пожелтевшие листы пергамента, казалось, пахли тленом и пылью. Он тогда содрогнулся — скорее отсюда, к свежему воздуху, к солнцу и весенней траве! Ничего тогда не подсказало ему, что он захочет быть когда-нибудь на месте этого старика. Что сам будет мучительно думать, с чего начинать? На чем писать и чем писать? Как сделать перо таким, чтобы оно могло вывести хотя бы что-то похожее на букву? Да и забылась та давняя, еще в короткий год в школе при монастыре усвоенная, а потом забытая наука — выводить буквы, чтобы они были ровными, не наползали друг на друга и о чем-то говорили. Он уже пробовал писать пока что на песке, на свежей глине, но буквы выходили совсем непохожими на знакомые, будто рука, привычная к мечу, никак не хотела привыкать к письму.
— Так у вас пишут? — однажды, заглянув через плечо Алексы на мягую глиняную табличку, лежащую на коленях парня, спросил Нармурад.
Алекса заглянул в глаза Нармурада и покраснел. Да, он думает вернуться назад, на далекую свою землю, и, значит, не заменит Нармураду сына, на которого тот так надеялся. Оставшись один, некоторое время сидел, оцепенев. Потом отшвырнул табличку прочь. Она шмякнулась о землю и сплющилась в большой, бесформенный кусок.
Ночью, когда где-то над кручей жалобно стонала птица шебавиз, которая каждую ночь плачет о минувшем дне, он думал о старом лекаре. Как его покинуть? Нельзя оставить и девочку Аппак — она так привязалась к нему, что ходила следом, называя Алексу ата — отцом, и первой выбегала навстречу, когда возвращался с охапкой веток и сучьев, чтобы было чем растопить очаг. Он приносил ей дикие плоды, орехи или ягоды.
Долг его — закрыть глаза Нармураду и самому отвезти тело к каменной башне. Так желает старый лекарь — только так. Самому же Алексе было все равно, где будет лежать после смерти, — может, потому, что смерть была так далеко, что и не думалось о ней. Когда это будет! Он должен сделать так много — прочитать огромный свиток, переданный ему Ашаваздой, записать самое важное, чтобы потом, когда-нибудь, передать, принести в Полоцк, научить людей тому, что за много-много лет до их рождения уже знали древние мудрецы. Немного их на земле, однако и то, что знают они, может затеряться в страшном круговороте времени…
— Человек — щепка на вершине волны, и волна крутит эту щепку так, как захочет, — однажды сказал ему Ашавазда, когда они вдвоем сидели на просторной террасе его дома после жаркого, полного хлопот и суеты дня.
Алекса вспомнил огромные, зловещие, с бешеными белыми, кончиками вверху волны Хвалынского моря. Их корабль стонал, трещал так, что волосы на голове вставали дыбом, замирало сердце… однако они, щепки, как-то выжили. Или сами они, их умение спасло, или море сжалилось над ними — ради того, чтобы он затерялся в ином, огромном, чужом мире, который тоже похож на море! Закрыл глаза ладонями, положил голову на теплые еще поручни террасы. И неожиданно рассказал о Березе и о том, что привело его сюда, в дикий, пустынный край гор и снегов.
Потом они долго молчали. Ашавазда встал, принес узкогорлый кувшин, две пиалы. Налил вина, и сразу запахло розовыми лепестками, шафраном. Протянул одну пиалу гостю.
Было уже совсем темно, небо, как всегда, засветилось множеством пятнышек, легло над самыми их головами полотно Млечного Пути. Одинокая зеленоватая звезда встала на горизонте.
— Зухра[78],— показал на нее Ашавазда. — Когда-то из-за этой красавицы два ангела, Харут и Марут, согрешили и понесли страшную кару. Брошенные в бездонный колодец в Вавилоне, они стонут вот уж сколько веков. Ее же боги взяли на небо, чтобы охраняла на земле красоту и музыку.
— Почему же она, она… соблазнившая даже ангелов, не понесла за это кары? — Алекса поднял отяжелевшую голову.
— А в чем ее вина? — пожал плечами Ашавазда. — Очаровывать красотой не грех. Грех увеличивать зло на земле. Но Зухра была не виновата. Это они, ангелы, смеялись над людьми и требовали, чтобы род человеческий за грехи был сметен или уничтожен. За то и отправили их сюда в человеческом облике. Однако обличать могут многие, но как же вынести бремя этого грешного мира? Как прожить в нем достойно? Видишь, этого не выдержали даже ангелы…
И он медленно, с наслаждением выпил еще пиалу вкусного, тяжелого вина, которое волной пробежало по телу. Потом, шатаясь, пошел в дом; Алекса долго сидел один, слушая, как стрекочут здешние кузнечики, и глядел на звезду. Представил, как где-то в бездне надрывно и несмолкаемо стонут грешные ангелы, которые не смогли противостоять женской красоте и навек загубили себя. Может, и он, Алекса, наказан за это же. Но он думал не только о себе, а и о девушке. А она… О, ежели б знать раньше, чем все закончится! И почему была дана такая любовь, которая повела на край земли, а потом безжалостно обманула, скомкала, именно ему? Живут же другие и жили, как люди. Он готов был закричать, спросить у этой молчаливой земли, у звезды, одиноко дрожащей над горами: «За что?!» Но вокруг только стрекотали кузнечики, остро пахло ожившей от зноя жаркого дня травой, и та волна, может, та самая волна, которая не добила его там, на море Хвалынском, теперь могуче и властно стучала в грудь, и он, как никогда за последние месяцы, чувствовал себя щепкой… Да, да, маленькая, незаметная щепка, однако зачем жизни так мучить ее? И он заплакал, заскрипел зубами, замотал тяжелой головой. И хорошо, что никто не видел его, не слышал, не сочувствовал…
Вспомнился Брачиславов суд в гриднице, когда перед братчиной[79] собирались на посад старая чадь, дворяне и люди меньшие — горожане, приглашенные к князю.
В тот день стояли перед всеми худой, русоволосый, с безумными голубыми глазами ремесленник и жена его — тонкая, нежно-русая, круглолицая кабета. Стояла — и не могли они, молодые дружинники, отвести глаз от фигуры ее, от белой-белой шеи и губ, которые, как вишни, алели на этом испуганном, но и отчужденно-решительном лице. И говорили муж и жена разное.
— А что мне, княже, твой суд? — страстно говорил он. — Я сам сужу себя каждый день. Нет. Каждую ночь. Знаешь ли ты такие ночи, когда тьма сгущается до каменности и тело кажется сосудом зла, вырезанным в этом камне, который вот-вот сломается от непомерной тяжести, со всех сторон гнетущей его? Я сужу себя за Адамов грех, который из меня сделал грешника, ибо сказано: «Оставь ближних своих, вскинь крест свой и иди за мной». А я прилепился душой к ней, длинноволосой сестре змеевой, — и бессилен перед нею! Царство духа променял я на земную утеху — но, боже милосердный, ты видишь, какие казни египетские я терплю за нее, блудницу вавилонскую!
И глаза ее тоже вспыхнули и будто осветили сумрачным светом женщину — тонкую, гибкую, в кожаных лаптиках. Казалось, вспыхнули медные украшения-колты на висках, заискрились в них голубые камешки.
— А что мне твой суд, княже? — сказала и она. — Я добрая христианка и в церковь хожу каждую неделю, и в хате нашей висит образ старый — целый урожай льна отдали за него! Однако я выплакала себе глаза, княже, и, ежели бы не боялась сгубить свою душу и гореть в аду, я бы отравила поганым грибом этого человека или сама бросилась бы в Полоту.
Я ли не жалела его? Я ли не хозяйка в доме? Или полотно мое хуже, чем у всех в городе?
За что же блудницей меня хает? За что руки мне выкручивает по ночам и тела живого не оставляет? Пусть бы ушел от меня и спасал свою душу в схиме, а? Детей бы сама растила и подать платила как за живого хозяина. Все равно его нет у меня. Все бегает в монастырь да книги божественные читает. Однако, видно, не спасают они от нечистика.
Обнимет меня — а потом грех замаливает и иначе как блудницей не зовет. За то блудница, что тянет его ко мне и ничего с собой не поделает. И обвиняет, что не даю ему воли, что свет без меня не мил.
Так убей нас за это, княже, убей и освободи тем.
А иначе — что мне твой суд?
…Долго думал князь, а потом приказал, чтобы епископ, против всех правил, разлучил их перед богом и заключил мужчину в монастырь — навечно.
— Не мучить муж и жена должны друг друга, а вместе жить, и нести утешение другим, и крепко держать крест свой…
Недоволен был епископ, а люди полоцкие похвалили решение Брачислава. И объявили женщину будто бы вдовой, только не разрешили ей во второй раз выходить замуж.
Не один вздохнул, когда ушла она, — легко, пружинисто, как росомаха.
А мужчина пал ниц, благодаря князя, и вдруг захлебнулся смехом-плачем, и слезы текли по его худым щекам…
И, вспомнив об этом Алекса понемногу успокоился. Великая это тайна, непостижимая — так говорилось в Библии. Вот и он сейчас мучается, думает — но ответа нет и не будет. Значит, нужно жить, жить, несмотря ни на что.
…Он трудился с наслаждением, со старанием, чтобы в тяжелой работе забыть обо всем, что мучило и не давало покоя. Снова обмазал глиной и укрепил камнями стены дома, издалека приволок охапку корней можжевельника и отшлифовал толстые наросты, чтобы получились крепкие поручни на террасе, переложил тростниковую крышу — холодные зимние ветры не будут продувать жилище, — огородил двор. Камней вокруг было много, а с деревом трудновато, сучья приходилось искать в горах, тягать тяжелые охапки. Очень помогал осел, — привычный к крутым тропинкам, он терпеливо топал по скользким от холодного утреннего тумана камням, и Алекса только удивлялся, как может животное, такое невеликое в сравнении с огромной ношей, нагруженной на спину, спокойно ступать на камень, который, так и кажется, вот-вот опрокинется в бездну и потянет за собой? Как чувствовал, можно ли ступить на тот или иной валун?
* * *
Шли годы. Нармурад, большей частью молчаливый, оживлялся, когда говорил Алексе о том, что открывал сам, что находил в окружающем. Не переставал он радоваться и удивляться миру. Однажды, когда парень окучивал около стены виноградную лозу, старик взволнованно позвал его:
— Иди сюда!
И едва тот подошел, ладонью вытирая пот со лба, показал на землю:
— Видишь?
Алекса не увидел ничего, но, зная, что лекарь никогда не станет говорить о мелочах, наклонился над тем местом, куда указывал палец. Но ничего, кроме двух муравьев, которые суетились на глиняной дорожке, не увидел.
— Муравьи?
— Ты думаешь, что они дерутся? А приглядись!
Действительно, было похоже, что эти два рыжих, крупных муравья сражаются друг с другом: один из них навалился на второго, а тот отчаянно оборонялся.
— Он отгрызает ему ногу! — Нармурад показал на верхнего, совсем красного муравья. — Вот сейчас все кончится.
И правда, через несколько мгновений верхний муравей отвалился от того, который лежал, слабо шевелясь; выждал, а потом торопливо пополз по муравьиной тропке, ведущей в глубь сада. Второй, без ноги, тоже собрался ползти, но Нармурад ловко схватил его заскорузлыми сухими пальцами.
— Принеси увеличительное стекло!
Заинтересованный Алекса мигом побежал в дом, быстро нашел стекло, передал старику. Тот посмотрел на муравья, которого держал в руке, и торжественно передал кругляшок парню.
— Вот тебе и операция! Нога была сломана, а теперь быстро отрастет. Иначе бы волочилась, мешая идти, и, возможно, он быстро погиб бы.
Опустил муравья на дорожку, и тот, более медленно, чем его лекарь, но довольно живо пополз по дорожке.
— Иди, и пусть поможет тебе Очистительный!
А потом повернулся к Алексе:
— Заратуштра сотворил мир более разумным, чем мы думаем. Я сам видел, как куропатка наносила на поломанную лапку глину, которая, высыхая, становилась твердой как камень и держала поломанную кость крепче, чем даже палка, к которой я привязываю переломанные кости людей. А потом однажды задумался, почему буйволы часто ложатся в канаву там, внизу, под горой, и понял это только тогда, когда моего собственного буйвола объели слепни и он упрямо ложился в канаву каждый раз, когда я проезжал по той дороге, а однажды ночью сбежал, и только через два дня мне передали, что он лежит там же. Я забрал его оттуда, и что бы ты думал? — болячки и ранки зажили. И тогда я попробовал накладывать эту грязь на такие же ранки людей, только делал это тайно от других, ибо мастерство табиба не только в его руках и голове. Заслоны его мудрости — это умение молчать, ибо невежда готов все объяснить просто, потому что видит только явное.
Однажды он долго сидел, глядя на ступку, в которой перетирал зерна миндаля, потом, горько вздохнув, пожаловался:
— О, как хотелось бы мне взять в руки рукопись великого Ибн-Сины! Если бы не больные глаза, я бы записывал все, чем вылечивал людей, кому что помогало. Нужно записывать, все записывать, ибо память человеческая — река, которая переливается на солнце все новыми и новыми струями и никогда не повторяется!
— Почему же, учитель, вы не пойдете снова в Бухару? Хоть путь и немалый, но вы не раз говорили, что подержать в руках «Канон» Ибн-Сины — самая большая мечта вашей жизни? Неужели не уступят желанию старого человека?
Старик помолчал, потом вздохнул еще более тяжко:
— Кто же так просто пустит меня в книгохранилище эмира? Меня, бедного кишлачного табиба? Я могу всю оставшуюся жизнь просидеть под стенами ханского дворца, но никто не передаст моей просьбы, а если и передадут, то за наглость могут еще бросить в страшную тюрьму — зиндан. А главный хранитель библиотеки еще более спесивый и важный, чем сам хан, — спесивый, правда, только с нами, бедными. Я помню, лет двадцать назад один из молодых табибов тайком пробрался в книгохранилище. Он получил сто палок. Мне уже не выдержать даже пятидесяти.
Алекса все ходил к Ашавазде, и тот учил его, чему мог и что знал. А потом, несмотря на предостережения Нармурада, его помощник стал ходить в нижний мусульманский кишлак Наргыз к учителю, который молодость провел в Отраре[80], а потом вернулся умирать в родные места. Он носил туда деньги, которые смог заработать, но ничего не говорил на то старый лекарь, и был Алекса безмерно благодарен ему за это…
Старый Нармурад с каждым годом как бы усыхал, он и ходил уже как-то понуро, руки его почти безостановочно дрожали. Подрастала девочка Аппак, и в доме становилось уютнее — ниши завешивались красно-пурпурными сюзане, которые девочка приносила от старой Ниязы, она передавала ей свои секреты, полюбив ловкую, стремительную Беляночку. Сначала Аппак делала те сюзане в доме Ниязы, но постепенно руки ее наловчились, и однажды она торжественно отдала Алексе рубашку из тонкого пунцового шелка.
— Носите, ата, это я сама сшила, — сказала она, залившись краской, но не опуская глаз.
— Сама? — удивился он. — Ты же еще дитя… и шелк где взяла?
— Тетя Нияза дала. Я сшила ей десять одеял, и она продала их людям из нижнего кишлака.
— Рубашку нужно отдать отцу, — направился к дверям Алекса.
Но Аппак неожиданно схватила его за рукав:
— Нет! Ата, носите вы! Я для вас ее делала. А деду сошью еще! Я заработаю!
— Мы и сами заработаем. — Алекса пожал плечами, взял рубашку. Впервые он посмотрел, в чем же одета сама Аппак, и застыдился — длинная когда-то рубашка стала старой, короткой, худенькие руки, как палки, высовывались из латаных-перелатаных рукавов, длинные волосы были кое-как закреплены грубыми металлическими защепками, босые ноги потрескались и загрубели. И еще он заметил, что синие глаза девочки смотрели на него преданно и с любовью.
Скрипнула дверь. Тяжело дыша вошел Нармурад, присел к жаровне, в которой тлели угольки, стал греть руки.
— Отец, — обратился к нему Алекса, — посмотрите, в чем наша Беляночка ходит. Стыдно нам. Мужчины мы, ее кормильцы.
— И правда, заботы с ней. Скоро уже нужно присматривать кого-нибудь в женихи. — Нармурад посмотрел на девочку, которая быстро выскользнула за дверь. — Нужно будет ехать вниз, в кишлак Наргыз, — там хороший купец живет, купим все, что нужно. А может, сам ее возьмешь? Не так много у нас денег, чтобы ты мог заплатить калым за хорошую жену, а плохую зачем? А она, видно, будет красивой.
— Она? В жены? — Алекса засмеялся, сел около Нармурада. — Это же совсем цыпленок. Она меня отцом зовет.
— Девичий век быстротечен, — сказал Нармурад. — Давно хотел сказать — зажило у тебя сердце. Значит, нужно заводить детей, жену. Солнце юности угасает, и тени все длиннее… Так всегда, когда ближе к вечеру…
— Мне еще далеко до вечера! — засмеялся Алекса, но грусть промелькнула на его лице.
— Подумай, — говорил дальше Нармурад. — Облака не плачут и розы не цветут без любви. Все живое оставляет после себя след. Так было и будет.
— Любви… — глухо сказал Алекса. — А я… Молчит у меня душа. Молчит!
— Все еще придет. — Нармурад закашлялся, согнулся. Он кашлял долго, потом поднялся, выпил настойку из семи трав, которую готовил сам, не доверяя этого даже Алексе. — Видишь, я стар. Вот-вот умру, и душа моя отлетит к Ормузду. Как будешь жить один? А через два-три года Аппак нужно выдавать замуж.
Дверь в комнату быстро открылась. Худенькая фигурка возникла на пороге:
— Я не пойду замуж! Я буду здесь всегда! А если вы найдете мне жениха, я лучше брошусь с вершины!
И так же стремительно Аппак исчезла. Нармурад молча грел руки, смотрел, как пепел пробегал по уголькам.
— Черная звезда Денеб над ее головой, — сказал наконец. — Может, и правда не стоит тебе присматривать эту девочку? Я найду тебе другую, помогу собрать деньги. Ты и сам теперь можешь зарабатывать. — Он ласково посмотрел на Алексу. — Я радуюсь, смотря на тебя, сын мой. Ты стал лекарем, твоим рукам подвластно дерево. Ты читаешь и владеешь пером-каламом, и почерк твой такой, что смело мог бы работать даже в Бухаре.
Алекса невольно вздрогнул, но тут же сдержал себя. Бухара… Библиотека во дворце… Многое о ней слышал, и разбуженная его душа хотела — нет! — жаждала знаний. Но для того чтобы иметь книги, нужно много денег. Откуда они у бедного лекаря из кишлака? Люди, которые приходили лечиться, приносили мед, горный воск, рис, иногда просто охапку дров или шкуру овцы. А дирхем, даже самый маленький, попадал в дом не часто.
И все же понемногу их набиралось. Но зато пришло время позаботиться о девушке. В начале месяца мурдад[81] Алекса направился в дорогу. Аппак стояла на пороге хмурая: старый Нармурад не отпустил ее, как ни просилась. Но стоило Алексе отъехать примерно фарсах[82], как, случайно оглянувшись назад, он заметил маленькую фигурку в длинной красной рубашке. Острым зрением бывшего охотника и воина он разглядел — это была Аппак. Заметив, что он остановился, она побежала, смешно махая руками. Алекса повернул ишака назад, сурово сказал, приблизившись:
— Иди домой!
Она только покачала головой, глядя на него преданными глазами. Тогда он схватил ее за плечо, толкнул назад. Она отлетела, ударилась о валун, заросший мелкими цветами, но не вскрикнула, только детские губы ее задрожали.
— Я хочу с тобой. Я хочу посмотреть, как живут другие люди!
— Туман непослушания затмил твои глаза, — сказал Алекса. — Ты всего только девочка, но когда и станешь женщиной, знай: слово мужчины — закон. Пошла прочь!
Он повернул ишака и поехал. Неуклюжая фигурка, комочек, который едва не расплющился о валун… Почему-то этот образ не выходил из головы. Даже разозлился — о чем думает!
Ехал весь день, останавливаясь, когда уставал и видел большой куст или пещеру, где можно было лечь и, растянувшись на теплой земле, мгновенно заснуть — на несколько минут, которые освежили его, будто он проспал долго или выпил стакан молока с настоем сосновой смолы, — помнится, в походах всегда везли с собой сосновую смолу. Сосны растут и тут, но запах совсем другой, будто и не сосны они, а так, что-то лишь похожее на те, полоцкие… Он отгонял от себя мысли-воспоминания, а они, как назло, все лезли в голову.
…Вот он едет в деревянных башмаках, которые здесь носят все жители. Однако дома были лапти из коры липы. Если положить туда одуванчиков, подорожника, подбела, или, как говорят, мать-и-мачехи, — никогда не натрешь ноги! Липы здесь нет, — может, попробовать из ивняка? Вон же, чем ниже спускаешься, тем чаще видишь кустарники, даже деревья пошли — алыча, орех, яблони… Можно было бы наломать можжевельника — маслом его хорошо натираться в холодные ночи, когда спишь в поле или стогу перед битвой. Нет, не доживет он до того времени, чтоб снова с гиканьем помчаться на коне, держа в руке горячий от крови меч… А может, и доживет до возвращения, но почему-то не хочется никого убивать, пусть даже и лютого врага. Он же тоже человек, дышит, надеется на что-то в этой жизни, хочет взять от нее какие-то свои радости… Но — враг же!
Заметил, что день угас как раз тогда, когда упрямый ишак остановился на месте и ни за что не пошел вперед, несмотря на то что раза два он со всей силой ударил его кулаком. Ишак тоже устал за этот длинный, бесконечный день, когда нужно пробираться по узкой каменистой тропинке, старательно вглядываясь вниз, или настороженно идти через горную речку, которая бешено пенится в берегах и мгновенно студит ноги; чутко слушать горы — каждую минуту сверху может скатиться камень и расплющить все, что двигается, живет и надеется на жизнь тут, на нитке горной тропинки… Нужно в самом начале почувствовать всей кожей неприметный до поры скрип и тихий шелест, там, высоко-высоко, чтобы успеть убежать далеко вперед, не попасть под безжалостный обвал… Ишак научился этому, ибо и сам он, и предки его жили в горах, и не раз приходилось выручать старого хозяина, хотя тот и сам будто бы хорошо знал, когда и где нужно остановиться. Этот же, молодой, неопытный, готов идти дальше, ни о чем не думая, в то время как где-то сейчас в своих логовах просыпаются и готовятся к охоте страшные звери. Ишак чуял это всей кожей, вот почему он не двигался дальше, а только косил большим лиловым глазом на молодого хозяина, и глаз этот смотрел с такой укоризной, что Алекса спохватился и подумал о том, что и правда давно пришло время искать ночлег. Огляделся. Ишак стоял около большой пещеры, где, судя по всему, останавливались путники: у входа валялись куски засохшего навоза, на острых выступах скал зацепились длинные побуревшие соломины, а в глубине пещеры последние лучи солнца ярко блестели на разноцветной глазури разбитых кем-то пиалок.
Он слез с ишака, вошел в пещеру. Животное быстро потянулось к чахлой траве, кое-где пробивавшейся у входа, спеша подкрепиться и наконец отдохнуть.
Алекса сел у очага — почерневшие камни его покрылись сизым налетом пыли. Видимо, неделю-две здесь никого не было, отметил он, развязывая сумку-хурджин и доставая оттуда лепешку с маком, яблоки и несколько кусков сотового меда. Наевшись, позвал ишака и сыпанул тому несколько пригоршней овса. Потом, не сильно взбивая ложе из засохшей травы, которое постелили тут неведомые ему путники, бросил на него истертый почти до белизны коврик и с наслаждением лег, шевеля освобожденными от тяжелых деревянных башмаков пальцами ног и в который раз удивляясь, как быстро здесь наступает ночь — в проеме пещеры виднелось засиненное густым бархатом небо, и он вспомнил строку из стихотворения одного из поэтов: «Из кармана тьмы явился молодик». Рожок месяца поистине лишь угадывался слева, а несколько ниже ярко светилась и переливалась большая лохматая звезда. Он напряг память. Не звезда ли это Кайван[83], символизирующая время, что несет смерть и беду, утрату близких, одиночество? Повеяло густым запахом горной полыни, что-то невыразимо печальное было в этом мгновении — тишина гор, золотисто-праздничный рожок месяца и одинокая, равнодушная к людям, гордая своим величием над временем и его заботами звезда, сияющая в черноте бездонного неба. Он зажмурил глаза, приказал себе не думать ни о чем и вскоре будто провалился в густую, теплую перину сна… показалось ему или нет, но вроде нечто мелькнуло у входа — не то тень, не то порыв ветра, однако ишак мирно сопел, высунув голову из пещеры, и Алекса заснул, чутко слушая тишину. Проснулся он сразу, будто и не спал. Что-то тревожное появилось в ночи, в красноватом свете было видно, как испуганно прижимается к каменистой стене старый ишак. Алекса вскочил, рука его нащупала кинжал, который он всегда держал при себе.
Но никого и ничего не было заметно. Бежали минуты, было тихо, и только ишак дрожал всем телом. Короткий его стон прорезал было тревожную тишину, но тут же смолк. Алекса устал ждать, но знал, что где-то там, может близко у пещеры, сторожит или ходит, подстерегая добычу, большой зверь — может, ирбис — снежный барс, или пардус — леопард. А возможно, тигр, голодный и неуловимый, как смерть, крадется к пещере, откуда несет запахом живого существа, чьи кости, как бывало не раз до этого, так сладко трещали на зубах.
Он подумал о том, что стоило бы все же разжечь костер. Огня боится любой зверь, в нем таинственная сила, и, может, недаром в селениях верят в него, как в бога, как в самого Зардушту? Правая рука держала кинжал, левой он ощупал землю. Где-то тут должен лежать хурджин. Алекса ясно помнил, что положил его рядом. Но мешка не было, и значит, не было кремня, из которого можно высечь огонь.
Темная тень неслышно появилась у входа, длинное гибкое тело отчетливо было видно в красноватом свете ночи. Алекса похолодел — это был тигр. Почувствовал вмиг вспотевшей спиной холод каменной стены. Раствориться бы в ней сейчас, исчезнуть в каменной толще, пусть обманутый зверь грозно ревет и дерет могучими, острыми, будто кинжал, когтями неподатливый гранит! И вместе с тем в самой глубине его существа вспыхнуло красное пламя — то пламя, которое когда-то звало его на смертный бой, толкало его вперед, в гущу, в сражение! Мышцы напряглись, он почувствовал, как заныла левая рука и больно дернуло плечо. Только старая рана может помешать. Но если доведется умирать, умрет так, как надлежит воину — в бою. Он следил за зверем, чувствуя каждой своей жилкой все осторожные, безжалостные шаги, чтобы подстеречь его и не промедлить ни единого мгновения.
— Ата!
Тонкий жалобный крик разорвал тишину, и в то же мгновение зверь прыгнул. Но прыгнул не к Алексе. Бросился он туда, где раздался крик, и в то же невероятно короткое мгновение Алекса понял, что зверь выслеживал Аппак, что это она проскользнула в пещеру, дождавшись, пока уснет Алекса, это она забрала хурджин. Но не успел додумать, рванулся вперед. Он перехватил зверя еще в прыжке. Кинжал скользнул по шерсти, но и зверь потерял разбег и тяжело упал на землю, и они покатились по земле, зверь и человек, неистовствуя и не чувствуя больше ничего, кроме этой бешеной схватки, от которой зависели теперь их жизни.
Зверь вывернулся, коротко рыкнул, но Алекса снова сбил его. Тонкая смертельная сталь кинжала вошла в зверя, но в то же мгновение он почувствовал — будто раскаленным железом припекло ему грудь и вонючая пасть чуть не обрушилась на лицо. Но он перехватил тигра за горло, и могучие его руки какие-то страшные мгновения держали над собой это твердое, живое и горячее горло. Зверь захрипел, рванулся вперед, но Алекса, уже теряя сознание от еще более невыносимой боли в руке, крутнул изо всей силы это, будто железное, горло, и оно оглушительно, как показалось ему, хрустнуло — вместе с рукой, и красные искры дождем обрушились на него, угасая на лету и почему-то становясь черными…
Пришел в себя от того, что капли, горячие и невыносимо тяжелые, падали ему на грудь, и от них становилось дурно. Раскрыл глаза и не сразу понял, что над ним сидит Аппак и синие глаза ее покраснели от слез.
— Береза, — прошептал он, — это ты, Береза?
— Что ты говоришь? Молчи, ата! Молчи!
Он всматривался в девочку. Постепенно взгляд его прояснялся, и Аппак не поняла, почему его рука, лихорадочно сжав ее слабую ручку, разжалась, стала вялой и тяжелой. Сразу вспомнив, что случилось, он повел глазами по сторонам. Могучий зверь лежал неподалеку, темно-коричневые полосы на его боках потемнели, стали неживыми, в утреннем свете было видно, как сгустки крови на его морде отливали черным. Алекса знал — такие сгустки крови бывают, когда пройдет не одна, а хотя бы две ночи, как убит зверь. Когда-то приходилось ему двое суток пробираться до Полоцка, везя убитых кабанов и медведей.
— Дай пить, — прошептал он.
Но Аппак смотрела, не понимая. Тогда он сообразил, что говорил на том языке, на котором учился говорить свои первые слова… Они выплывали сами собой, бессознательно, в минуту, когда забывалось все, чем жил в последнее время, а оставалось главное в нем — память предков…
— Пить, — попросил уже на понятном Аппак языке, и она засуетилась, подала ему тыквянку с водой — тоже кто-то оставил ее тут для проезжих людей, как и кремень, и сухую траву.
Вода была уже теплой, теплее, чем бывает она сразу после горной речки, и, когда пил, Алекса догадался, что, видимо, немало времени пролежал он в беспамятстве. Попробовал повернуться, но боль пронзила тело, дурнота подступила в груди, поплыла к горлу, мучительная судорога передернула его — еще и еще…
Руки, которыми он ощупывал себя, были непослушными, будто распухшие, они иногда не узнавали, где тело, а где набрякшие кровью заскорузлые клочья ткани. Ощупывая себя, он заметил то, чего не увидел сначала, — Аппак сидела перед ним почти обнаженная, изодранная рубашка на ней прикрывала только живот и грудь. Худенькие руки торчали из-под лохмотьев. Алекса удивился еще, как это она из своей изодранной одежонки нашла еще что-то для перевязки, но вспомнил, что на нем был еще пояс-белбог. Руки его нащупали и траву, которой Аппак успела прикрыть самые страшные раны. Ту траву, которую когда-то, принеся с гор, показывал ей, показывал, не очень уж и надеясь, что запомнит она хоть что-то. А вот же запомнила! И не дала здесь одному ему истечь кровью. А он же ругал ее за непослушание! Благодарность, которую она прочитала в его глазах, сразу же засветилась в ней улыбкой, синие глаза засияли, налились слезами, и Аппак, приподнявшись, поцеловала его руку.
— Что ты делаешь? — пробовал он разозлиться. — Я же не бог тебе и даже не жрец-мобед!
— Ты лучше их, — прошептала она. — Они далекие, а ты… Ата, не покидай нас!
— Я? Покидать? — Он хотел засмеяться, но боль снова, мстя, обрушилась на него, и тело его задрожало, сопротивляясь, — ему хотелось жить, он не желал исчезать с этой теплой, роскошной, страдальческой земли…
Алекса узнал зов жизни, ибо однажды пережил его, когда ехал вместе с Нармурадом в далекий, совсем неведомый кишлак. Тогда он удивился, что жизнь зовет, — удивился, потому что душа была далекой и не подвластной даже ему самому. Сейчас почувствовал — жить хотелось. Хотелось смотреть на эту девочку с синими глазами, хотелось дышать воздухом, который далекие ледяные вершины напоили холодом и тоской о бессмертии. Он притих, сжал зубы, попробовал улыбнуться:
— Будем жить. Будем?
И она поняла эти слова как ответ, засветилась вся, снова повторила:
— Не оставишь? Нет? Я умру тут без тебя. Слышишь, ата? А со зверем я справлюсь. Увидишь!
…Две недели лежал он в пещере почти неподвижно, и две недели Аппак до изнеможения, до синевы на бледном личике ухаживала за ним. Даже спать она ложилась рядом, долго не засыпала и вздрагивала от каждого шороха, будто и вправду могла защитить его от опасности. Алекса однажды, проснувшись раньше, увидел под ее худеньким боком свой нож — рука девочки была, пожалуй, не толще рукоятки. Он потянул за теплую черную ручку.
— Двадцать раз даже неопытный воин зарезал бы и тебя, мою защитницу, и меня, немощного! — пошутил Алекса, отдавая назад нож. — Бери. Срезай пока кусты, но не думай, что ты меня защитишь. Не твое это дело. Защищать — это дано только нам, мужчинам.
— А что же тогда дано нам?
Аппак взяла нож, погладила его, спрятала под шкуру тигра, на которой спал Алекса. Она снимала ее сама, и шкура была порезана во многих местах.
— Вам? — Алекса подумал. — Поддерживать огонь в очаге, растить детей.
— Детей? Я люблю детей. — Аппак поджала под себя ноги, собрала густые светлые волосы, начала их заплетать.
— Я хочу родить от тебя мальчика. Такого же, как ты, ата, — неожиданно сказала она.
Алекса даже привстал, но она не дала ему ответить.
— Знаю, так не должны говорить девушки, старая тетя Гульнара мне говорила, какой должна быть женщина. Но во мне течет не такая кровь, моя мать не из простого рода. И я первой говорю тебе, что хочу быть твоей женой. Старый Нармурад говорил не раз, и я это слышала, что у тебя мало денег на приданое, чтобы купить невесту. А я знаю, что буду красавицей, когда вырасту. Нармурад тоже говорил это. Так разве я тебе не пара?
Алекса превозмог боль, сел. Под насмешливым его взглядом девочка сначала гордо выпрямилась, но тут же краска начала заливать ее бледные щеки, она сжалась, обхватила ободранные коленки тонкими, в красных следах — от кустов — руками, быстренько обтянула на себе куски рубахи.
Он собирался сказать что-то веселое, утешительное, но такое, чтобы никогда этот ребенок не тешил себя дурацкими выдумками. Однако подумал: «Нужно ли ее обижать? Ведь она растет. А я устал от одиночества. — Грустно усмехнулся: — Она же дитя!»
Первый луч солнца пробился сквозь дыру в пещере, затронул Аппак — и ее светлые волосы неожиданно засветились, засияли.
Пораженный, Алекса смотрел на нее. Что-то забередило в сердце, какой-то далекий, забытый образ… Смотрел на нее, сквозь нее, и вдруг увиделось — они, дружинники, стоят в церкви, идет молебен. Князь впереди, а прямо перед ним, на большом образе, — Богородица. Громадные ее глаза глядят на толпу с печалью, а над ней, вокруг нее — золотое небесное сияние, которое будто освещает лица людей, толпящихся внизу… И тихое пение, летящее сверху, и запах ладана, и мгновенное — совсем неподвластное ему — умиление, вдруг защемившее душу… Вот оно, то чувство, вернулось сейчас при взгляде на эту девчушку, освещенную солнцем!
А она ждала его слов! Улыбка угасла на лице Алексы. Что говорить? И неожиданно для себя ответил серьезно, так, что она вдруг побелела и смотрела не отрываясь, будто речь шла о жизни и смерти:
— Ты сначала подрасти. Подожди немного, слышишь?
Тогда она совсем по-детски кивнула головой, потом закивала часто-часто.
— Не обманешь, нет, ата?
— Не обману.
Она еще некоторое время вглядывалась в него, потом подскочила, засуетилась:
— Что же это я? Ты, наверное, пить хочешь? Я сейчас принесу, ата!
Подскочив, схватила тыквянку, помчалась по тропинке вниз. На мгновение остановилась — он слушал ее шаги в утренней тишине гор, — потом снова бросилась за водой.
Алекса почувствовал внезапную усталость. Не хотел — а пообещал. Судьба определилась сама собой. Дважды здесь спасли ему жизнь, значит, это знак — оставаться…
В первый же день после возвращения его и Аппак к ним в дом зашел Ашавазда. Пришел, протянул кувшин с вином. Но пить не стал. Сидя за дастарханом и равнодушно жуя кишмиш, попросил Алексу:
— Приди ко мне. Если можешь, завтра же. Я хочу, чтобы ты ночевал у меня, а может, даже пожил несколько дней.
— А твоя жена Аната?
— Она набрала столько яда, что не может удержать его, и оттого умирает, — равнодушно ответил Ашавазда.
— Как — умирает? Что с ней? — приподнялся Нармурад.
— Не суетись, лекарь. Она по ту сторону, это очевидно. Смерть держит ее за полу, не трудись напрасно! Каждый из нас идет своей дорогой, каждый остается наедине со смертью, а все близкие не могут помочь и на маковое зернышко. Так придешь, Аль-Иса? Сегодня я покажу тебе что-то.
— Ты хочешь все же научить его пить вино? — с укором спросил Нармурад, тряся седой бородой с пожелтевшими прядями. — Ты, опасный безумец, заставляешь людей поверить, что, одурманив голову, иссушив тело, можно увидеть Бога?[84].
— Я делаю вино только для себя и не предлагаю его никому, кроме друзей, — ответил Ашавазда. — Но если люди просят дать глоток, ибо им очень хочется увидеть или почувствовать Бога, я иногда иду на уступки. И что же? После этого они жалуются на меня и говорят, что я заставляю их во что-то верить? Пусть верят во все то, что помогает им жить. Не мое дело разбираться, кто это должен быть — или Зардушт, или вот его… — подумал, — его Перун, или Аид, как у великого Искандера. Или даже вот ты для нее. — Он кивнул на Аппак. — Этому существу ты единственный свет в окне. И как хорошо, что тебя любят, пусть даже это такое вот дитя!
Аппак вскочила с дырявого коврика, на котором сидела, разбивая гладким камнем большие орехи, чтобы подать их к столу. Но, услышав в голосе Ашавазды искренность, снова опустилась на коврик и с еще большей старательностью начала бить по ореху, а белые, как морские раковины, уши и щеки ее порозовели.
— Не ходи, — сказал Нармурад.
— Почему ты не хочешь, чтобы Аль-Иса хотя бы немного развязал узел моих несчастий, помог мне? — спрашивал Ашавазда.
— Какие у тебя несчастья? — Нармурад еще больше нахмурился, но Ашавазда не обратил на это особого внимания.
Он встал, ехидно проговорил:
— Скоро и тебе сворачивать скатерть жизни. Скажи, за что столько лет старался обходить мой дом?
Нармурад тоже поднялся, худые ноги его в шароварах лимонного цвета мелко дрожали, из-под чалмы редко топорщились вспотевшие пряди.
— Что же, если ты задаешь вопрос, — скажу. Не любил тебя, ибо ты бесконечно искал выгоды, а потому менял веру отцов. Сейчас приближается страшная беда — наши жертвенные огни вот-вот затушат мусульмане, наш Зардушт уступает дорогу их Аллаху и его пророкам. Наши простые истины уже не привлекают молодых, их привлекают соблазны мусульманства — много женщин, вечная готовность к войне! И мне все время кажется: пришли бы сюда мусульмане, была бы их власть — ты бы снова изменил свою веру, стал бы мусульманином. А ежели бы пришли воины из Чина — ты бы стал конфуцианцем. Или не так? А я умру тем, кем родился, и мои кости станут добычей птиц, а священный огонь в моем доме будет гореть до смерти.
— А для меня важна только эта земля. Кто будет править ею, какой огонь будет гореть в моем очаге — все равно. Победители приходят и уходят, а земля будет стоять вечно. Эти горы не изменят своих очертаний, будут тут мусульмане или зороастрийцы. И земля все так же будет рождать хлеб, обнесет ее огнем мобед или прочитает над ней какие-то слова мулла. Есть солнце, небо и звезды. И человек. Остальное — несущественно, — также с запалом сказал Ашавазда.
— Ты прав в том, что человек — сын неба. Но и земли… А земля не везде одинакова, не то что небо. — Нармурад говорил, волнуясь, теперь уже дрожали и его руки с длинными тонкими пальцами.
Алекса видел эти руки, хотя сидел не поднимая головы.
Но, уже стоя на пороге, сказал Ашавазда другое:
— Ежели ты так выступаешь за землю отцов — не держи его тут, — показал на Алексу. — Пусть добирается до своего края. К своим русам, к холодной земле, которую не согревает солнце и где плоды кислые, будто налитые уксусом. Все равно ему там будет лучше. Ибо хотя на нем и нет зунара[85], он не станет, никогда не станет нашим. Разве с детства обносил его священный огонь? Нет, другие боги кормили его, другие лица будет он помнить. Отпусти его!
Аппак схватила Ашавазду за полу халата, закричала:
— Иди прочь от нашего дома, ты, старый ворон! Он останется тут и будет со мной! Я тоже не вашей крови, но я пойду за ним, куда ни понесет нас судьба! А лучше — останусь тут, даже если придется каждый день смотреть на тебя!
Ашавазда презрительно отвел взгляд от девчушки, рванул свой халат, оттолкнул ее так, что она ударилась о дверь. И пошел прочь, опалив Нармурада пренебрежительным взглядом.
— Что же ты, защитник дедовских обычаев, не научил им чужеземку? Я добр и не скажу об этом старшим!
После его ухода в доме некоторое время было очень тихо. Алекса сидел, тупо глядя перед собой. Что-то хрустнуло. Он увидел, что глиняная пиала в руке раскололась пополам. Всхлипывала у порога Аппак. Нармурад положил в рот щепотку лекарства, лицо его заострилось.
— Берегись его! — сказал он наконец. — Он одно время занимался колдовством. Я слышал: когда он жил у румийцев, то вместе с кем-то из местных создал железного дьявола. Тот ходил и даже говорил. Когда же обоих приговорили к наказанию, твой дружок бежал, обернулся змеей, а на коврик крови встал тот.
Еще он пробовал летать тут, приделав себе огромные, как у Иблиса[86], крылья. Но старейшины пригрозили, что, если он не перестанет водиться с дьяволом Ариманом, шелковая петля найдет его горло. Он бросил колдовство, женился. И может, все было бы тихо, ежели б не это питье, после которого он впадает в бешенство. А пьет — не в меру. Видишь, смерть ходит под его крышей! Ты не пойдешь к нему, да?
Алекса долго молчал. Потом сказал, будто преодолевая течение горной речки, подбирая слова:
— Я пойду, отец. Пойду, ибо прошел сквозь ворота смерти. Назад, туда, где был, я вернусь не скоро. И не ради того я тут, чтобы пугаться и закрывать лицо руками, когда что-то неведомое заглядывает мне в глаза.
Наступило молчание.
— Да, ты уже не юноша, а настоящий мужчина, — прошептал лекарь. — Ну что же… Если что — Аппак наденет на меня синие одежды траура, она заплатит тем, кто понесет меня на башню смерти. А ты делай как знаешь.
Он попросил, чтобы Аппак принесла ему подушки, обессиленно упал на них.
Вскоре дыхание его стало спокойнее — он заснул. Алекса вышел на крыльцо.
Вечерняя заря — вечерница — горела над выступами гор. Алекса знал: пройдет всего несколько мгновений и угаснут алые и пунцовые краски, небо потемнеет, крупные звезды засияют над горами, над их маленьким кишлаком. Может, оттого, что там, на родине, вечернице было привольнее, просторнее, он особенно любил ловить короткие мгновения заката, и день, который угасал на его глазах, пробуждал в нем неясное, но грустное сожаление. Но сегодня через печаль, которая привычно сжала сердце, пробивалось страстное желание вечера, ночи, которую он проведет у Ашавазды, чего бы это ни стоило потом. Промелькнула мысль взять с собой нож — кто знает, какая опасность ждет его в доме, который всегда казался уютным и гостеприимным, но Алекса застыдился ее. Он вспомнил предание о павшем ангеле Харуте, которого сослали на землю и который научил людей колдовству. Что, если Ашавазда и правда заколдует его, превратит во что-то гадкое, страшное? Или и впрямь отберет душу? Но есть ли она вообще, эта душа? Или, может, люди становятся вот этими звездами, которые сияют над ними, как чьи-то глаза? Что, если люди становятся только глиной, как написал об этом поэт, и каждый горшок слеплен из того, что называлось когда-то человеческим телом и было полно желаний и стремлений?
А звезды и впрямь уже сияли вверху, одну из них он узнал сразу. Это была звезда Утарид[87], под которой рождались торговцы и воры. А рядом печально сияла звезда Зухра, или Чагир, которая, возможно, никогда не будет светить для него…
Он вздохнул, но тут же вспомнил про Ашавазду, поспешно зашагал по тропинке между кустами тутовника, решив обойти кишлак и добраться до нужного ему домика незамеченным, чтобы посмотреть, что там.
Однако, сделав несколько шагов, услышал, как хрустнула веточка сзади.
— Аппак, — позвал, не оборачиваясь, зная, что это она крадется за ним тайком и будет все равно стоять под дверью дома Ашавазды.
Глубокий вздох послышался сзади, и обиженный голос Аппак прошептал:
— Так старалась идти неслышно, а ты… Джинны тебе помогают, что ли?
— Я тебя чувствую и без джиннов, — вздохнул Алекса. — Ну что же, видимо, от тебя не избавишься. Иди, но чтобы тебя и впрямь не было ни слышно, ни видно.
Представил, как в темноте она обрадованно закивала головой. Ночь была на удивление темной, тучи закрыли даже звезды — когда только успели застелить небо те тучи? Заухала ночная зловещая птица, где-то над головой, в ветвях платана, хрипло каркнула ворона. Веточка аргвана зацепилась за одежду, он осторожно освободил полу рубахи, туже подвязал пояс.
Ашавазда ждал его, сидя на пороге. Тусклый красный свет трепетал на его лице. Увидев Алексу, встал, тяжело повернулся и пошел в дом, на мгновение зацепившись халатом за почерневшую резьбу на террасе. Каганец с маслом, где горел огонь, взял с собой. Киот, сделанный из толстых серых ниток, мотался при каждом шаге хозяина, пламя будто бросалось в стороны.
Из дальней комнаты послышались стоны. Видимо, там лежала Аната. Ашавазда поставил каганец на невысокий столик хан-тахту, сел рядом, выставив в стороны колени. Алекса примостился возле. Сколько времени прожил тут, но никак не может сесть на здешний манер. Ноги немеют, становятся тяжелыми и непослушными.
Помолчали. Молчание было каким-то гулким, многозначительным, будто расширились стены комнаты и они вышли на улицу, под тучи, которые курились — Алекса чувствовал это — неподалеку, над пропастью, начинавшейся почти за домом Ашавазды.
— Ждешь, что я дам тебе на этот раз? — нарушил молчание хозяин. — У меня больше нет ничего.
— Я ничего не ждал, — глухо ответил Алекса.
— Правда?
— Правда. Если позволишь, просто посмотрю Анату.
— Не нужно! Я сказал — она все равно умрет!
Снова воцарилось молчание. Наконец Ашавазда заговорил, поджав под себя плоские ступни. Глаза его стали острыми, колючими.
— Когда-то на моих глазах умирал бедуин. Он не мог уже и пошевелить рукой, когда брат привел откуда-то из самого сердца пустыни человека. Человек тот был в лохмотьях, но держался как царь-падишах. Он долго смотрел на больного, а мы стояли вокруг и удивлялись — неужели надеется что-нибудь сделать для бедолаги? Но вот лекарь положил больному руки на голову и застыл. Лицо побелело, капли пота выступили на щеках, а больной вдруг открыл глаза и посмотрел на нас. Глаза были удивленные, будто он возвращался с того света, где плясали девы-гурии и звенела Каусар — одна из райских криниц. А потом больной встал и пошел, и дошел до кумгана с водой, и жадно пил. Я не мог долго задерживаться там — мой караван спешил. Однако назавтра, отъезжая, я видел, как тот человек сидел за дастарханом и спокойно ел лепешку. Когда-то ты подал мне, больному, воду, и я вдруг почувствовал себя лучше. Ты, может, заметил, что я любил сидеть с тобой и принимать еду из твоих рук? Говорили караванники-купцы, что есть люди, от чьих рук исходит таинственная сила, она лечит и согревает. Я всегда чувствовал твое тепло, Аль-Иса. Знаешь ли ты об этом?
— Нет, не знаю.
— Нармурад недаром взял тебя с собой. Он бы, наверное, давно умер — лицо его все больше желтеет, а руки дрожат. Можешь поверить, ты подарил ему несколько лет жизни.
Алекса растерялся. Не покидает ли Ашавазду разум, не уселся ли на него Ледащик, который дотла высасывает человека?
— Протяни руки к огню, вот так. — Ашавазда подполз ближе.
Тусклый огонек затрепетал сильнее, тени по углам комнаты заколыхались.
Алекса вздрогнул.
— Не бойся, Аль-Иса. Ничего с тобой не случится. Прошу! Может, это моя последняя надежда проверить услышанное!
Он поставил каганец перед Алексой.
— Окружи огонь руками и подумай, что он сейчас разгорится, вспыхнет, — настойчиво прошептал Ашавазда.
— Он же обожжет.
— О хашвит[88],— прошипел Ашавазда. — Зачем трогать огонь? Окружи его на расстоянии, чтобы не было горячо. Ну!
Алекса поднял руки над каганцом, пожал плечами.
— Если ты сейчас подумаешь, что огонь должен увеличиться, и сильно захочешь — ну, увидишь его, огонь! — то так и будет. Поверь мне, Аль-Иса!
Алекса хотел усмехнуться, но что-то встрепенулось в его душе. Казалось, Ашавазда хочет вложить в него все свои силы, свое желание.
— Думай! Смотри!
Он посмотрел на каганец. Фитиль тлел, от него шел едва уловимый запах масла, и синеватый огонек готов был вот-вот угаснуть. Алекса вдруг воочию увидел — вот сейчас огонек увеличится, фитиль сильнее потянет масло из железного блюдца, пламя обожжет его руки…
— А-а-а!
Загремел, покатился каганец. Алекса вскочил, бросился к двери, тряся обожженными руками. Он вылетел на темную террасу, тяжело затопал по мягкому песку, царапаясь о колючие ветви. Сзади трещали кусты, и, когда неожиданно остановился, тяжело дыша, на него с ходу налетела Аппак, ударилась, охнула радостно:
— Ты живой!
— Мертвый не побежал бы, — перевел он дыхание.
— Ой, я чуть не умерла, когда полыхнуло! — радостно сказала она. — Он злой демон. Когда он смотрел на тебя, я сама видела, как изо рта у него выглядывали клыки!
— Никаких клыков не было! — засмеялся Алекса. — Лучше идем домой. Не хочу больше никаких чудес. Все это от нечистого.
Поднял голову и с удивлением увидел, что небо над ними звездное. Видимо, это ветер, который внезапно поднялся, разогнал тучи. И хорошо, что разогнал…
Разбудил их голоса Спитагда:
— Беда подступает к нам, беда! Черная вода под вашим домом, посмотрите — она уже под порогом!
Алекса вскочил испуганно. Спал неспокойно. Просыпался в бреду. А согнутый, скрюченный сумасшедший входил в дом, голося свое, как всегда.
Оказалось — умерла жена Ашавазды Аната.
Пришли старая обмывальщица и двое ее сыновей, которые жили неподалеку. Они и понесли женщину на площадку башни, а сзади понуро плелись старенькие женщины, пели: хвала великому богу Ахурамазду, который заберет к себе человеческую душу. Ашавазда шел за носилками пьяный и, назло старшим, которые взглядами проводили процессию, веселый. Проходя мимо Алексы, подмигнул ему, а старый Нармурад только плюнул и пошел себе в дом.
И все же Алекса надел синюю кабу[89], будто и правда умерла родственница, и целый день видел, как неприметно, по одному, собиралось над каменной башней воронье и медленно приплывали огромные грифы. Значит, демон Насуш вошел уже в тело покойницы, оно было нечистым и собирало других демонов. Алекса думал о чуде с огнем. Мысли плыли неуверенно. Может, показалось вчерашнее? Может, вошли в него чары? Страшно!
Однако ночью, когда уснули Аппак и Нармурад, он плотно завесил тканым ковриком дверь мехмонханы[90], зажег каганец, окружил его руками так, чтобы было тепло ладоням. Снова, как вчера, представил себе, как разгорается слабый огонек, как вспыхивает в комнате свет… Представлял до напряжения, до пота на лбу. Но ничего не происходило: все так же спокойно тянулся вверх желтый язычок огня, слегка потрескивал фитиль.
Он опустил руки. Значит, все выдумка. Ашавазда посмеялся над ним. Может, он и правда не человек? Может, сам Ангра-Майнью[91] смотрел вчера на Алексу и насмехался, а потом подул на каганец, и пламя обожгло ладони?!
И вдруг почувствовал, что огонек вздрогнул, потянулся вверх, сильнее затрещал фитиль, и на мгновение пламя действительно ярко осветило комнату и угасло вновь.
Мгновение было долгим. Все правда. Есть в его руках какая-то таинственная сила. И значит, нужно научиться ею владеть. Чтобы помочь. Всем — Нармураду, Аппак и тем, кому еще можно помочь.
Прошло немного времени, и далеко побежала его слава как лекаря по горным кишлакам. Не было теперь дня, чтобы в дверь их дома кто-то не стучал, не просил помощи. И не к Нармураду шли люди, а к молодому Аль-Исе, его стремились увидеть и от него получить облегчение. Понемногу в доме появился достаток.
Старый Нармурад относился ко всему этому сдержанно. Ни зависть, ни недоброе чувство не омрачали его лица. Он как-то незаметно превратился в помощника Алексы, делал лекарства, поил больных. Сам же Алекса теперь чаще всего «открывал» болезнь, называл ее. «Болезнь бывает разной, — говорил когда-то ему Нармурад. — Одна видна по пульсу, по дыханию больного. Но есть болезни, которые, будто тонкие иглы, заползают внутрь, и попробуй найди эту иглу!»
Алекса искал такие вот «иглы». Изжелта-бледное лицо, вспотевшие руки и хриплый кашель могли ему говорить о многом. Но когда человека приносят на носилках и он не может шевельнуть ногой или рукой, а глаза у него ясные и светлые — что тогда? Как найти таинственное, что заставляет руку или ногу шевелиться, действовать? Как изгонять злого демона, который вселяется в больного и делает его взгляд безумным?
И все же он нащупывал, учился ловить то настроение, то состояние, при котором можно было как бы перевоплощаться в человека, который лежал или стонал перед ним. Тогда почти безошибочно чувствовал, где впилась и не дает жить та таинственная «игла», где поселился злой демон, который так мучает живое, заставляет его страдать и проклинать свет. Мобед рассказывал в храме:
— Если человек проклинает свою жизнь, он тем самым будто бы отворачивается от светлых сил, от Агура-Мазды, и отдает себя темной, злой силе. И тогда радуются Ангра-Майнью и его шесть великих демонов зла: Андри, Эшма и другие.
— Вот потому, — учил когда-то Нармурад, — когда мы помогаем избавиться от злого духа, мы возвращаем человека светлым агурам — духам доброты и света. Вот почему лекарь стоит на почетном месте после жреца-мобеда.
Одолеть духов зла и вылечить больного удавалось Алексе не всегда. Часто он видел на лицах людей печать смерти, но мог только облегчить им последние минуты на земле. Но и этого было достаточно, чтобы люди всё чаще воспринимали его как одного из светлых духов — изедов, которые сошли на землю, чтобы помогать смертным. Даже Нармурад иногда смотрел на него со страхом и восхищением.
— За что Агура-Мазда выбрал меня, чтобы я спас тебя от смерти? — однажды сказал он. — Думается мне, что я умру легко. Чем более человека обременяют грехи и темные дела, тем тяжелее ему умирать. А ты меня выкупил… Да, выкупил! — с силой повторил он, но потом закашлялся, долго не мог успокоиться. — Сын мой, — закончил наконец, — я умру счастливо только после того, как отдам тебе Аппак.
— Она еще дитя. — Алекса сказал это неуверенно. Сам он видел, что девочка расцветала с каждым днем. Так красуется и будто спешит расцвести горная яблонька, зацепившаяся слабыми корнями за землю, которая накопилась за столетия в трещинах гор. Синие глаза ее, казалось, стали еще больше, щеки налились розовой молодой силой, и вся она покруглела, стала спокойнее и уже не бегала по двору, а шла легкой, упругой походкой, высоко неся голову с башней золотистых волос.
Алекса знал, что Аппак станет когда-нибудь здесь хозяйкой. Он свыкся с этой мыслью постепенно, но, когда свыкся, почти перестал думать о свадьбе. Никуда ничего не убежит, пусть подрастет Аппак, пусть все будет так, как идет… Все, что впереди, записано вечным каламом — пером Всевышнего! Он не торопился, глаза его были спокойны. И это беспокоило Нармурада, это заставило его в конце концов заговорить настойчиво. Он теперь часто сидел наверху, смотрел через свою трубу на небо — выбирал счастливый день для свадьбы.
Свадьбу назначили на месяц, когда пышным цветом расцветают в горах деревья и молодая трава набирает сочную силу. Издалека в кишлак прибыл жрец высшего разряда — достур, за которым специально ездили в далекий храм Мифры[92] по ту сторону гор. Это была высшая честь, которой мог добиться, по мнению жителей кишлака, смертный: ради него приехал, несмотря на опасность, несмотря на неприязнь мусульман, сам жрец Ездегерд! Ездегерд был самым известным среди приверженцев Зардушта; брак, им заключенный, должен быть чрезвычайно счастливым.
Ездегерд, высокий, величавый старец с молодыми и зоркими глазами, спокойно принимал жертвы, подарки ширсовцев. Он сидел на террасе дома Нармурада, а возле него лежала, пристально наблюдая за всем вокруг, огромная лохматая собака, похожая на волкодавов, которые охраняют стада в горах. Молодой прислужник старательно заворачивал в ткань чаши и коврики, сюзане и глиняные кувшины с дымчатой глазурью, относил их в повозку, расписанную зелеными и пунцовыми цветами.
На свадьбу пришел весь кишлак, даже старики, которым давно перевалило за сотню и которые, казалось, только ждали своего суда у моста Чинвад[93],— и те сидели вдоль дувала, ожидая, когда начнется обряд.
Ездегерд привез с собой священный огонь из храма Митры, и сейчас он пылал посередине двора, а местный мобед в праздничной одежде суетливо подливал масла в чашу.
Алекса вышел из дома одетый в широкую сорочку и, поверх, в длинный кафтан, трижды опоясанный священным поясом. На голове у него была шляпа, на ногах — башмаки из желтого сафьяна. Аппак была рядом с ним, бледность ее еще более подчеркивал наряд — длинная разноцветная ткань, обернутая вокруг тела, и красные цветы, вплетенные в белокурые волосы.
Ездегерд, связав молодым руки тканым поясом с символами Митры — вороном, дисками солнца и луны, — повел их вокруг священного огня. Нармурад и мальчики, толпящиеся здесь, осыпали их зернышками проса. Зернышки падали в огонь, вспыхивали, и сразу вокруг запахло жареным зерном, острым ароматом хаомы. Соком этого питья поливали священный огонь женщины, в то время как мобед громко, держа в левой руке кучку гранатовых веточек, читал литанию из Зендавесты:
О, пусть всегда с вами будет священная триада: Добрые мысли, добрые слова, добрые дела! И пусть об этом всегда напоминают Три шнурка из вашего священного пояса!Обряд уже заканчивался, как произошло несчастье: горсть проса, которую бросили на жениха и невесту, вспыхнула в огне и несколько зерен вылетело прямо на шелковый наряд невесты. Вспыхнула ткань, Аппак с криком присела, скорчилась, в то время как Алекса, не жалея ладоней, гасил огоньки, побежавшие по шелку цвета опавшей листвы.
Толпа загудела, испуг побежал как ветер. Ездегерд повел глазами — прислужник тут же принес новый сверток шелка. Достур взял за руку испуганную Аппак, ладонью поднял ее залитое слезами лицо:
— Никто не знает волю богов, дитя. Одно скажу тебе — ты получишь всю долю счастья, которая тебе отпущена. Всю! И это — немало. Смотри в будущее без страха.
Женщины тем временем ловко, подчиняясь тихим знакам прислужника, обернули Аппак зеленой тканью с блестящими серебряными нитками, обрезали и спрятали остатки. И ритуал продолжался дальше, хотя старики кивали головами и шептались, что все предвещает несчастье, которое не мог отвести даже великий Ездегерд… Однако воля богов выше слабых земных помыслов, и, может, если Аль-Иса и его жена будут достаточно старательно служить Агурамазде, он и смилуется над ними…
Отшумела свадьба, загасил рукавом расшитого золотом халата священный огонь из храма Митры Ездегерд, уехал с великим почетом.
Светало, когда Нармурад повел молодых в отдельную комнату, приготовленную старшими женщинами. Скромную комнатку было не узнать: вся завешанная цветными сюзане и ткаными коврами. Поверх пушистого ковра лежало множество ватных одеял, обтянутых полосатым курпачитом — покрывалом. Одеяло курок-курпа[94] было в узорах, раскидистые рога украшали его орнаментом, по которому сразу узнают знатоки, откуда привезли невесту.
Предрассветное небо было зеленоватым, одинокая звезда смотрела в окно. Она висела как раз над изголовьем, и нездешней выглядела маленькая фигурка Аппак, сидящей у ложа. Она теребила ткань на коленках, будто хотела и стеснялась снять с себя обожженный наряд, сверху которого тускло поблескивал новый.
Алекса почему-то снова увидел маленькую девочку, которая в этом же доме шла навстречу, растерянно улыбаясь и топая короткими ножками. Теплое, щемящее чувство охватило Алексу, ему захотелось утешить эту девочку, согреть ее.
— Ты что, боишься меня? — спросил он, снимая с себя шапку, расстегивая крючок кафтана. — Не бойся… маленькая…
— Что? — сначала не поняла она, но по тону почувствовала, о чем говорит муж — снова на своем, чужом для нее языке! И вдруг страстно сжала кулачки, затрясла ими в воздухе. — О, Аль-Иса! Даже когда завтра сюда придут дэвы и заберут меня, я все равно буду счастлива, что была с тобой! Слышишь! Счастлива!
Она рванулась к нему, упала, охватив тонкими руками его колени, волосы дернулись, рассыпавшись из-под коротких шпилек, защекотали ему ноги. Он наклонился над нею, и сердце его раскрылось для нее, горячая волна обдала Алексу, он обхватил Аппак, поднял, и волна понесла их куда-то далеко-далеко…
* * *
На Полотчине гудел вьюгами февраль, выли волки по лесам, подходили к хатам, и испуганно мычали коровы и хрюкали свиньи, чуя страшную звериную силу. Год выдался голодный, смерды ели кору, толкли ее вместе с чахлыми зернами. Чужеземным купцам зато хорошо — больше, чем когда-либо, вывезли в Готланд, Ригу и Любеск воска, меда, пушнины. Выгребали полочане все, что годами пряталось на приданое, собиралось на свадьбы или как наследство детям. В тот год одна Рига вывезла более трех тысяч стеклянных браслетов, которые так искусно делали в полоцкой земле. Зато оттуда шли телеги с рожью, и так же богатели купцы, втрое дороже продавая хлеб.
В Селецком монастыре появилась новая икона Николая Чудотворца. Многие гости Полоцка приезжали смотреть на нее, и было монастырю от этого много прибыли. Говорили, что нашли ее около монастыря, на дереве, и первыми больные прикладывались к холсту, еще слабо пахнущему свежей краской… Другие же, насмешники-завистники — а таких везде хватает! — говорили, что это была последняя работа черноризницы Ксении — бывшей Нелюбы, внучки любимца Брачислава Ирвидуба. Однако, наверное, ошибались они: не могла женщина создать такую красоту, ибо грешна извечно и оттого богом проклята.
Приезжал — и это уже была чистая правда — в Селецкий монастырь сам стремянной Всеслава — Редька, стоял на коленях перед могилой Ксении, и длинная в тот день была панихида. Известно же — богатый и заплатит хорошо, и оттого богатому место в раю готовенькое, а бедному — попробуй заслужи его!
Алекса лечил людей, записывал все на пергамент. Вечерами читал книгу, подаренную Ашаваздой.
Ашавазда приходил часто, и тогда книгу читали вслух, Алекса переводил сразу на язык фарси, Ашавазда помогал в арабском. Приходили люди, слушали. Трещал светильник. Завывали в горах злые ветры.
Перед самым праздником Митры, во время равноденствия, Аппак, которая теперь почти не отлучалась из дому, потому что ждала ребенка, почувствовала себя тревожно. Она перестала убирать в доме и пошла на айван, где сидел, поджав под себя ноги, старый Нармурад и, бормоча, перебирал травы, взвешивая их на небольших весах и отсыпая в глиняные пиалы, расставленные вокруг.
— Мне что-то нехорошо сегодня, отец. — Аппак присела рядом, руками обхватив живот.
— Выпей розового джуляба, там осталось немного, — кивнул Нармурад на дверь. — Или лучше гранатового сока, он снимает жар и успокаивает.
— Приехал бы скорее Аль-Иса. При нем мне всегда спокойно.
— Рожать ты будешь все равно одна.
— Аль-Иса говорил мне, что там, в далеком Полоцке, при женщине всегда есть кто-то, когда она рожает. И она делает это в комнате, где тепло, а не так, как у нас, — на улице, перед порогом дома, и одна!
Нармурад укоризненно покачал седой головой:
— Каждый на этой земле должен начинать свою жизнь униженным, и только добрые дела могут возвысить его. Это правильно. Пусть Аль-Иса не вбивает в тебя обычаи чужой страны. Там, откуда он, мертвого сжигают на огне. А это же самый страшный грех — опоганивать огонь, священный огонь, который дает жизнь.
— Жизнь идет от любви, — тихо сказала Аппак.
— Неразумная женщина! — Нармурад перестал перебирать травы, лицо его исказилось гневом. — Мало этого — дотронуться до покойника там тоже не считается грехом! Зачем Аль-Иса рассказывает тебе все это! Он давно наш, живет здесь. Я думал, он давно отбросил дикие обычаи своего края.
— Только змея меняет кожу, человеку этого не дано, — снова возразила Аппак.
Она слышала, как упрямо внутри стучит новая жизнь. Ее сын… А может, и дочь… Дитя, которое она так ждет, ибо родиться оно должно от чувства, перед которым ничто любовь Лайлы и дикого бедуина… как его зовут, не помнит. Но тревога, мучившая ее, была сильнее, она не отпускала душу, и Аппак неизвестно почему хотелось возражать Нармураду, говорить что-нибудь злое, что заставило бы и его встряхнуться, почувствовать страх, который охватывал женщину сильнее и сильнее.
— Может, он хочет уйти отсюда вместе с тобой? — гневно спросил Нармурад. — Ему не удастся этого сделать. Я скажу старейшинам… скажу магам, и они ослепят его, прикуют цепями!.. — Плечи его задрожали.
— Вы всегда были так добры к нам. — Аппак стало его жаль, она подползла ближе, поцеловала руку. И вдруг почувствовала, что хозяин плачет. Она не поверила своим глазам — такое было с ним впервые!
— Нет, мы не уйдем от вас. — Она еще раз поцеловала руку, которую старик гневно вырвал. — Аль-Иса, правда, много говорил мне о своей стране. Там и впрямь… все другое. Но хотя там холод почти весь год и нужно бесконечно укутывать себя звериными шкурами, я пойду с ним, когда мы…
Она вдруг запнулась, густо покраснела.
— Когда я умру, да? — добавил за нее Нармурад и грустно улыбнулся: — Не бойся. Это случится скоро. Я видел во сне джинницу, которая приходит в каменную башню пожирать наши тела. Она сначала отвернулась от меня, но потом милостиво погладила по плечам.
— И… и вам не было страшно?
— Нет. Страшно не было. Тело — это только тело. Умирает оно, а остается душа, дух. Мы бессмертны, дочка, только не многие понимают это, как не понимают того, что земная жизнь — только мучение и страх. Страх за самого близкого, за жизнь, за здоровье. Я пережил все, и мне ничего не страшно. Но не хотелось бы перед смертью быть одному в доме.
— А я… я боюсь смерти, — тихо сказала Аппак. — Мне хочется жить. Хочется родить Аль-Исе много-много детей и защитить их от опасности. Хочется ловить взгляд Аль-Исы, когда он просыпается, и согревать его своим телом в зимние вечера, когда гаснет жаровня!
— Твое тело очень мало для таких больших дел! — засмеялся Нармурад, отойдя сердцем после разговора. И сказал ласково: — Иди ложись спать. Видишь, уже темнеет. Завтра увидим Аль-Ису. Больной, к которому он поехал, выздоровеет, я вижу это по зернам риса, на которых вчера гадал…
Громкий топот остановил его слова. По узкой горной тропинке мчались кони, и молодой, искаженный ненавистью голос кричал:
— Грязные парсы, мы отомстим вам за смерть Мураджана!
— Ур-рх! — Клич воинов поплыл над горами, гулко загремел в ущельях.
И почти сразу же напротив крайних домов вспыхнуло пламя, затрещали скирды ячменя, лежащие в небольшой ограде. Закричали, завизжали разными голосами женщины и дети, послышалось лязганье мечей, скрежетание конских подков о каменистую дорогу.
Нармурад и Аппак знали — об этом шептались люди, возвращаясь из походов в нижние кишлаки, — что новый падишах ненавидит огнепоклонников-парсов и поклялся с корнем вырвать старые ростки, которые упорно росли и росли в государстве. Доносились слухи, что не так далеко отсюда, в ложбине Хурабат[95], уже вырезали целое племя парсов, а главного мага, привязанного к лошадям, волокли по дороге до тех пор, пока он не превратился в окровавленный кусок мяса. Будто там у одного из воинов огнепоклонники украли любимого коня. Украли или нет, но месть была жестокой — уцелело всего несколько человек. Может, и правда, что мусульмане ищут причины, а ежели нет ее — придумывают. Не станет ни один парс без причины убивать человека…
Но не было времени думать ни о чем. Они вдвоем бросились в дом. А воины уже мчались мимо. Один из них, приземистый, с черной бородой и разъяренными, почти белыми глазами, остановился около дома, со всей силы дернул за металлическое кольцо у двери, и она сразу же открылась.
Чернобородые воины в кожаных нагрудниках, цветных шароварах, гремя мечами и будто бы окутанные облаками бешенства и беспощадности, ворвались в комнату, ломая все на пути, вспарывая подушки, срывая сюзане и покрывала.
Они ни о чем не спрашивали. Да и зачем?
Нармурад принял смерть молча. Он только успел своим телом закрыть Аппак, которая, бешено крича, попробовала вырвать меч из рук воина с белыми глазами. Первый удар пришелся по старому лекарю, остальные — по молодой женщине, которая успела-таки острыми ногтями разодрать щеку воина и сорвать с него рубаху.
— Напрасно, — заметил кто-то, глядя на распростертые, залитые кровью тела, — ее можно было бы продать, кажется, она красивая.
— Действительно, за нее могли бы дать много, — с сожалением сказал и убийца. — Но разве можно что-то разглядеть в такой горячке? Зато на ней дорогое монисто. Продам, и оно окупит все, что в этом доме.
— А вот книга!
— О, это хорошо. Книга написана по-арабски? За нее можно получить даже несколько динаров!
На счастливчика смотрели с завистью. Искали. Но нашли только несколько мешков с травами и пергамент с непонятными знаками. Разъяренные, сложили их посередине дома и, уходя, подожгли.
И даже в бешеном пламени, в треске и копоти можно было, если остановиться, почувствовать тонкий и острый запах горной полыни…
Но и останавливаться, и дышать этим ароматом было некому…
Алекса возвращался домой на рассвете. Он действительно спас больного, который бредил уже целую неделю и жизнь которого была близка к заветному мосту через бездну, отделяющую мертвых от живых.
Но лекарю удалось поддержать слабый огонь жизни, который упрямо не хотел гаснуть в могучем теле гончара, и тот наконец пришел в себя и попросил пить.
Плата была щедрой. Хозяина уважали и любили в доме. Алексу нагрузили ячменем и мукой, вручили сверток китайского шелка и душистые палочки из сандалового дерева.
Он ехал и думал, как обрадуется Аппак и какое платье сделает себе из тонкой, почти прозрачной, ткани, от которой слабо пахло ароматом далеких стран.
Он вез и подарок для Нармурада — немного гашиша, чтобы мог старый лекарь вдоволь курить кальян и отдаваться несбыточным мечтам, которые так украшают жизнь.
…А нашел обгоревший кишлак, несколько вдов и детей и на месте своего дома — только груду глины и обгоревших балок.
И пахло, ужасающе остро и тонко пахло горной полынью.
И равнодушно светило раннее солнце.
И бегал по головешкам сумасшедший Спитагд, голосил свое, и прыгал, и плакал…
Алекса долго сидел у пепелища, не обращая внимания на плач и стоны, которые слышались у других домов. Потом, обдирая руки, начал переворачивать черные, потрескавшиеся, побитые камни.
Три дня он копал, забыв об усталости, упрямо сжав губы и время от времени припадая пересохшим ртом к кувшину с водой.
Тонкие косточки Аппак обернул узорчатым, цвета увядшей травы шелком и захоронил у дома, выкопав и посадив у могилы иву.
Не было кому гневаться и возмущаться таким святотатством. Не было кому ужасаться и смотреть, что сам он, собственноручно, перенес останки Нармурада и Ашавазды к каменной дахме, где лежали кости близких, откопанные родными. Тела уже начали распухать от жары. Уцелевшие люди несли мертвых сами, ибо так же, как и другие, был разбит и сожжен дом обмывальщицы трупов.
А потом Алекса взял в огороде несколько дынь, положил ячмень и муку в мешок и ушел из кишлака.
Люди проводили его взглядами, но никто не сказал ни слова. Только одна из женщин вскоре догнала его и отдала еще один мешок. Он заглянул в него. Там лежали твердые сыры, куски меда и халат. Женщина смотрела на него покорно и одиноко, на шее у нее был виден шрам — когда-то старый Нармурад резал ее обсидиановым ножом, удаляя гнойник, а он, Алекса, помогал. Шрам был розовый, темная жилка неровно пульсировала. Губы женщины были скорбно сжаты. Слезы навернулись на глаза Алексы. Он молча вскинул мешок на плечо, пошел не оглядываясь, ибо сзади уже не было ничего.
Ничего. Только сожженный кишлак и несколько призраков.
Жители нижнего кишлака смотрели на него враждебно. А сколько их приходило лечиться! Он видел, как один из мужчин потянулся к ножу, висящему на длинном кожаном поясе, но второй, постарше, что-то сказал — и мужчина, держа нож, скаля белые, как чеснок, зубы, помахивал лезвием, широко усмехался, глядя на Алексу. Тот прошел мимо, понурый, со страшным лицом, и дети, которые сначала бежали за ним, дразня, вскоре отстали и вернулись со смущенными лицами.
Первую ночь провел в памятной пещере, где когда-то Аппак выходила его. Лежал, думая о том, что, может быть, какой-нибудь могучий зверь снова приглядел эту пещеру для жилья, но, когда придет, встретит тут смерть, ибо из двоих будет сильнее Алекса. Он чувствовал в себе силы помериться злостью и гневом со всем светом, но мстить было некому — разве что добираться до самого эмира, но и сам эмир был только частичкой того всемирного зла, которое обязательно вмешивалось в дела и судьбы людей. «Зачем, для чего все так устроено? — мучительно думал он, глядя, как в знакомой дыре показывается звезда и постепенно, незаметно для глаза исчезает, чтобы уступить место новой. — Зачем человеку столько испытаний, и почему одни люди живут спокойно, все у них течет ровно и гладко, и весь свой век они живут, как слепые котята, а другие мучаются, теряют близких, и небо равнодушно смотрит на всех, да и некому жаловаться…»
Мир вокруг него был бездонным и пустым. Вокруг звенела тишина, казалось, только он остался тут, под звездами, чтобы мучиться и искать ответ, которого все равно нет.
В этом мире, где он долго и мучительно жаждал тепла, оно и было ему дано — но только для того, чтобы снова потерять и еще больнее, пронзительнее почувствовать, что всё вокруг — утрата, что не следует прилепляться душой к кому-то, ибо, чем более привыкаешь, тем вероятнее, что как раз это и отберут у тебя… «Темная звезда над нею», — вспомнил он слова Нармурада, сказанные про Аппак. Но сам Нармурад не увидел черную звезду над собой. Хотя, возможно, судьба все же была к нему милостива — Нармурад прожил большую жизнь, а она, Аппак, она… Он захлебнулся комком, подступившим к горлу, быстро вскочил, вышел из пещеры.
Пустынно было вокруг. Занималась заря, она была так же спокойна, так же прекрасна и недоступна, как всегда… И такими же розовыми, с темными провалами ложбин и синей дымкой над вершинами были горы. Он подошел к тропинке — справа от нее была бездна, заглянул вниз, вгляделся в далекий шнурок тропинки, видимо проложенной внизу дикими зверями. Оттуда дышало сыростью, тесные стены почти смыкались, отливая кровавым и зеленым одновременно. Подумал спокойно, что стоит только сделать шаг вперед, и он, оставляя на этих камнях клочья своего тела, скатится вниз на белый шнур тропинки. Тогда закончатся все его мучения и невыносимые мысли. Он вспомнил, как говорил Ашавазда: «Если циновка судьбы выткана черной, ее не отмоешь и святой водой». Сделать этот шаг? И сразу же исчезнет Аппак — потому что пока и мертвая она живет в нем, живет — со своей широкой улыбкой, гибким телом и золотистыми волосами, вся быстрая, живая, веселая — чудесный огонек жизни, зажженный неизвестно кем.
Исчезнет Нармурад — искривленные болезнью старые его пальцы, удушливый кашель, ясные умные глаза. Исчезнет толстяк Ашавазда, который разбудил в нем силы, о которых никогда бы не узнал Алекса.
Упрямо не хотел видеть их мертвыми, думать о тех последних минутах, когда они, возможно, звали его, горели без него.
Одинокий куст прилепился к камню, темные его ягоды блестели, как лакированные. Ветер слабо шевелил листья, и Алекса вспомнил, что, как говорил Ашавазда, рассветный ветер — посланник влюбленных. Кому-то сейчас тепло в доме, уютно и хорошо. А его, который прилепился, как этот куст, к маленькому кусочку земли в горах и думал, что нашел там покой, бешеный ветер оторвал и бросил куда-то в мир… Куда?
Домой, на далекую родину, хотя бы ползком, хотя бы по одному фарсангу в день! Может, когда-нибудь он и дойдет — несмотря на все… Может, когда-нибудь снова напишет о том, что пережил и увидел за это время. Снова — потому что все, написанное им, сгорело в пламени, зажженном разъяренными воинами, которые, наверное, даже не задумывались над тем, что они делают, когда подносили факел к деревянным поручням его дома. Будто воочию видел, как горели дома, горели страницы, которые он писал длинными зимними ночами, когда бешено выла вьюга и бросала в дверь белые пригоршни снега, а в горах время от времени гулко падали в пропасть лавины снега, и долго после этого гудело вокруг! Писал, когда Аппак неслышно пряла белоснежную шерсть овец, чтобы потом отнести ее в дом к женщинам, которые собирались вместе и учили своему вечному ремеслу молодых. Писал, когда Нармурад в соседней комнате раскладывал высушенные летом травы в мешочки, взвешивал их на мискали[96] и записывал на тоненьких табличках названия, а по всему дому шел сильный, настоянный на летнем горячем солнце запах сочных лугов и нагретой земли…
Что осталось от всего этого?
И вдруг подумал: а может, и не было ничего — ни книг, ни запаха трав, ни самого Нармурада?
Он испугался, пощупал лоб. Лоб был действительно горячий. Негде ему останавливаться, негде ждать здоровья.
Нужно было бороться.
Он вспомнил слова Авесты, которые часто перед сном повторял Нармурад, кланяясь богине Анахите:
«Одно дерево, которое вырастили в пустыне, стоит больше, чем многолетнее подвижничество и истязание себя и своей плоти в той же пустыне».
Нужно было жить…
Он брел по дороге, и тело его будто высыхало на солнце, становилось смуглым и жилистым. Полосатая повязка на голове, халат, шаровары — все, что было на нем, не вызывало у проезжих любопытства. Он спрятал пояс, по которому могли бы узнать, что он когда-то принадлежал к племени магов, и теперь ничем не отличался от всех, кто топтал каменистую дорогу, выбираясь по ней с пустынных горных тропинок или, наоборот, взбираясь на них, чтобы что-то искать в поднебесной стране, где, чем выше, тем более сжимает человеку грудь. Дни за днями шел он, и прохлада гор все более уступала место солнцу, а сами горы оставались сзади и будто уменьшались на глазах. Все чаще попадались поля, на которых, согнувшись и не оглядываясь на прохожих, работали люди. Тянуло влагой от залитых водой ровных полос, где выращивали рис. Все больше около глиняных, слепленных из сырцовых кирпичей домов зеленело деревьев. Было то время, когда наливались соком персики и начинали розоветь гранаты, упрямо высовываясь из-за зеленого покрывала зелени. Около постоялых дворов часто стояли мужчины, разложив на цветном полотенце тяжелые, смуглые кисти винограда, басму и хну для ладоней, чтобы не потели они от жары, соты с медом или первые, такие уже сладкие дыни.
Он подходил, молча клал монету, брал что нужно. Ел, сидя под тенистым платаном, слушая, как говорят о своем старики, которые собирались около чайханы, важно качая головами. Некоторые были в белых тюрбанах, и он знал, — вставая, чтобы пойти дальше, таким людям нужно поклониться особенно низко.
Часто и засиживался, слушая удивительные истории, которые рассказывались вот в такой час, когда солнце не давало выйти из живительной тени и когда особенно мягко журчит вода в арыке, который обязательно струится рядом.
Однажды он услышал рассказ о суфийском поэте Джаффаре аль-Хульди, который после крушения корабля очутился на пустынном острове вместе со своими спутниками. Они уже готовились к смерти и потому давали зарок и обещания Аллаху.
«Один из них сказал, что, если Аллах спасет его, он никогда не нарушит пост. Другой — что будет молиться, делая столько-то поклонов. Третий — что перестанет лгать.
Когда же дошла очередь до Джаффара аль-Хульди, он сказал неожиданно для всех, что дает зарок — никогда не есть мяса слона. Все удивились, услышав это: «Да где же ты найдешь здесь слона и почему именно его?» Но он не хотел слушать уговоры и упреки в богохульстве и говорил свое. Позже, вспоминал сам Джаффар, он признался, что не знает, почему ему пришла в голову такая мысль. Но раз пришла — он дал такой зарок, несмотря ни на что. И вот, что вы думаете?..»
Рассказчик остановился, обвел глазами слушателей. Алекса видел, что даже горделивые старцы слушают не дыша и что-то детское появилось на их лицах.
«Так вот, — продолжал рассказчик, — на четвертый день они, ища что-нибудь поесть, увидели толстого слоненка. Спутники поэта убили его, нажарили много мяса и пировали целый вечер. Но как ни звали Джаффара, он не подошел к ним, хотя сам умирал с голода».
«Ну?» — не выдержал молодой мужчина в желтой рубахе.
Остальные неодобрительно покосились на него.
«А на другой день, когда они сидели, спасаясь от жары, из леса вышла слониха. Она ревела, наполняя пустыню криками, и все спутники Джаффара окаменели от страха и упали на землю, стеная и закрывая себе глаза.
Слониха же, подойдя к ним, начала обнюхивать каждого с головы до ног и, пройдя хоботом по всему телу, поднимала ногу и опускала ее на человека так, чтобы раздавить его. А потом шла к следующему и также убивала его.
Джаффар тоже окаменел от страха и лежал, призывая Аллаха и прощаясь с жизнью. Но слониха, подойдя, обнюхала его два или три раза, будто не веря себе, а потом схватила хоботом и подняла в воздух».
«Неужели и его убила?» — снова не выдержал тот же мужчина, и старейшины укоризненно закивали тюрбанами, оглядываясь на дерзкого.
«Нет, Джаффара она не убила, наоборот, — положив его себе на спину, побежала куда-то. Шли часы, а она все то бежала, то шла. А когда рассвело, осторожно спустила Джаффара со спины и исчезла. А он, опомнившись, увидел себя на большой дороге и, пройдя немного, вошел в город. Жители удивились, увидев его там, а он и сам не понимал, как попал к ним. Потом узнал, что слониха проделала за ночь большой путь и, собственно говоря, спасла его…»
Идя по дороге, Алекса думал о зароке неизвестного ему Джаффара аль-Хульди. Почему вдруг тот дал его? Что и кто подсказал, что тем зароком сбережет он свою жизнь? Боги? Кто из них — Аллах, великий Зардушт или далекий отсюда Перун? И сколько их, богов, на свете? Два, три? Тысяча? А может, нет ни одного, а есть только великая бесконечность, окружающая их, и она имеет свои тайны и законы? И кому будет дано — изо всех тысяч и тысяч на земле — отгадать их?
Старой была эта караванная дорога из горных районов до Бухары, но все же видел Алекса, что кое-что меняется. Меньше стало вокруг мертвой земли, больше зелени, садов. Новый властелин давил на дехкан дополнительными податями, все более прикреплял к земле кочевников, которые извечно пасли тут свои стада. Эмиру нужно было много денег — на новые мечети, восславляющие его могущество, на войны и роскошь, которой славился двор при Бухаре.
Мало было на дороге и дервишей — этих скитальцев, которые всегда оживляли дороги своими песнями и красными плащами. Их также принудили осесть, заняться ремеслами.
Но глиняный домик в тени тутовника неподалеку от городка Караулбазар остался таким же, как и много лет назад, и та же, казалось, смуглая девчушка в красной рубашке сидела перед домом, разговаривая с лохматой собакой, которая лениво смотрела на путника и угрожающе урчала.
— Салям! — сказал ей Алекса, и девочка, широко раскрыв свои черные глазенки, торопливо прикрылась рукавом. — Принимай гостя!
Она была совсем не похожа на Амину, но что-то поднялось в груди Алексы, когда он смотрел, как девчушка бросилась в дом, как оттуда вышла тонкая в талии, широкая в бедрах женщина, покрытая халатом, как напряженно смотрели на него обе, не зная, что несет с собой запыленный, загоревший до черноты незнакомец с прозрачными глазами. Но ни одна, ни другая не сказали ничего — ждали, пока заговорит он.
— Нет, я не приглашаю вас обмывать покойника, — сказал он, улыбаясь. — Я гость твой, Амина! Разве не узнаешь?
Порозовели бледные щеки женщины, молодо вспыхнули глаза, она мгновенно похорошела, будто сама Зухра дотронулась до нее.
— Аль-Иса? Вы?
Он ступил в этот дом, ожидая, кто выйдет навстречу, но только кошка, блестя зеленоватыми глазами, промелькнула в двери да лохматая собака лаяла у порога, прячась за прокопченным тандыром[97].
Тростниковая циновка приятно холодила ноги, лепешка, которую подала на стол племянница Амины, была пропитана вкусом речной травы, — видимо, в доме не хватало муки.
Женщина, гладя костлявой рукой девочку, рассказывала, что недавно болезнь, которую занес в кишлак проезжий бедуин, почти опустошила окружающие дома. А их семью — в первую очередь, ведь они же обмывальщики трупов.
— Ангел смерти Азраил не уставал заходить в наш дом, — вяло говорила Амина. — Отец умер первым, за ним моя старшая сестра. Остались мы вдвоем — я и вот она, племянница. Так и живем вдвоем…
— А замужество, Амина? — спросил он взволнованно, потому что потери ее напоминали собственное горе, и губы его сжались крепко, будто сдерживали слова жалобы.
— Я была замужем, — так же безразлично сказала Амина, а девочка, обвив ее стан, сочувственно погладила женщину по щеке. — Но Анахита и Амбар-Она отвернулись от меня, я не смогла родить ребенка, и муж развелся со мной, прокляв меня как бесплодную. И теперь мой дом обходят даже старые калеки с дрожащими руками и гнойными глазами, ибо женщина, лоно которой пусто, проклята Аллахом и людьми! Может, и тебе не следовало бы переступать порог этого дома, Аль-Иса, но я высохла тут без доброго слова, высохла, как виноградная лоза, которой не дают воды! А ты… что привело тебя сюда?
Она подала пиалу чая, но руки ее дрожали, и он понял, что безразличный голос таил в себе муку, которая, пожалуй, не меньше его горя. Но он отрицательно покачал головой:
— Зачем своими бедами переполнять чашу твоих страданий? Расскажу как-нибудь потом, ты же позволишь побыть мне в твоем доме хоть немного?
Ему нужен был дом, где можно было отдохнуть, побыть среди людей, чьи глаза были бы дружелюбны, а слова искренни. За время своего путешествия он привык к своему горю, сжился с ним и одновременно понял, что горе отделяет человека от других, что несчастье имеет свой запах и люди бессознательно сторонятся такого человека, как чумного.
Она обрадовалась, и глаза ее стали совсем молодыми, а он с сожалением подумал, как состарило Амину время, милостивое к нему. В волосах его седины куда меньше, и более гибкий его стан, и более быстрые руки. А она же моложе его… моложе… и если бы когда-то он задержался у этого дома… отказался ехать с Нармурадом, то мог бы стать здесь хозяином. Скорее всего, вряд ли, тут же горько улыбнулся воспоминанию. Мужчины здесь долго не живут — так говорила ему когда-то старая Патимат.
Ночью он долго не мог уснуть. Будто медленно распрямлялась огромная тетива, которая толкнула когда-то его, словно стрелу, в далекий горный кишлак. А теперь стрела возвращалась на место свое… Что будет с ним? Что ждет его дальше?
Он уснул сразу, а проснулся оттого, что маленькая жесткая рука нежно гладила его голую грудь. Он схватил эту руку, сразу догадавшись, кто это, хоть тьма затопила, казалось, все вокруг.
От Амины пахло мускусом, — откуда он взялся тут, в бедном доме? Волосы, собранные днем в большой тугой пучок, теперь были распущены по плечам, они щекотали Алексу, и от них также пахло розовой водой. Она, стоя на коленях, склонилась ему на грудь и зашептала:
— Не отвергай меня, Аль-Иса! Подари мне забытье, пожалей!
Он молчал, и она начала поцелуями покрывать его руки, шею, гладить его ноги. Руки ее были горячими, она гладила его и шептала…
Он поднялся, отвел ее руки:
— Прости, Амина… Прости!
Она поняла, мгновение постояла, потом легко скользнула прочь. Раздался не то стон, не то плач — и все сразу утихло, будто и не было, будто приснилось все это Алексе.
Назавтра утром поесть ему принесла девочка, племянница Амины. Алекса почувствовал себя неважно, молча ел не поднимая глаз. Около полудня пришла Амина, делала что-то по хозяйству, закрывшись халатом, не поднимая глаз. И он решил — завтра снова тронется в путь, не станет мучить женщину стыдом и раскаянием.
Но назавтра утром за ним пришли. Мальчик попросил, чтобы помог приезжий лекарь, — у его хозяйки болит голова, второй день лежит неподвижно.
Амина, увидев мальчика, изменилась в лице: подошла к Алексе, тронула его за рукав:
— Не ходи, Аль-Иса! Она — плохая женщина!
Он удивился, возразил:
— Нужно помочь, а какая она — важно ли?
Амина еще что-то хотела сказать, но он не слушал. Собрался, пошел за мальчиком.
В комнате, закрытой по стенам разноцветными сюзане и тканью, на хан-тахте, прикрытая атласным одеялом, лежала женщина. Когда вошли мальчик и лекарь, она приподнялась, обожгла Алексу взглядом огромных, подведенных сурьмой глаз, легла снова.
Что-то было в ней кошачье — в глазах, неподвижных, с большими зрачками, но одновременно пристальных и хищных, в изгибе шеи, в настороженности. Но об этом подумал Алекса потом, а сначала он начал осматривать женщину, взял ее за руку. И сразу его обдало жаром. Слушал пульс, а собственная кровь побежала быстрее, краска ударила в щеки. Отнял руку — женщина не дала. Удержала его, села, отогнув одеяло.
— Я же вас не вылечу, — сказал Алекса.
— Ты обидел богиню Иштар и богиню Анахиту: отверг женщину.
— Откуда ты знаешь?
Она загадочно улыбнулась:
— Побудь у меня гостем, я, возможно, сниму с тебя этот грех.
Он почувствовал, как горячая волна охватила его всего, против воли затуманила голову. Это она, Аппак, схватила его руки, обвила ими его стан! И он ощутил крутой изгиб бедер, все ее гибкое, полное нетерпеливой, звериной жажды тело, и сам почувствовал в себе звериное, и, уже не думая ни о чем, схватил ее и, кажется, одним махом втиснул в дымное, пропитанное чужой жизнью и запахами одеяло…
Так он попал в дом блудницы Виспры.
Потянулись дни — длинные, полные горячей истомы, поспешных стыдливых мыслей, которые он отгонял. Зато ночи были короткие, мгновенные, наполненные бешеным, удушливым забытьем, молниеносными вспышками страсти и жадности к этому неутомимому бешеному телу.
Виспра почти не показывалась ему на глаза днем. Мальчик-служка приносил то блюдо с мясом, политым кислым винным уксусом, посыпанным зеленью, то лагманную чашку с кипятком и белыми трубками теста, то золотисто-желтый кавирму-плов. Ставил подносы на столик и молча шел назад, хитровато блеснув черными глазенками. Алекса ел, потом отдыхал в сладкой дреме, потом выходил на порог и сидел, глядя на быструю воду. Он будто потерял чувство времени, только с нетерпением ждал ночи, отгоняя от себя всякие мысли, ибо от мыслей было больно и стыдно. В дом Амины он не возвращался. И напрасно шептала ему Виспра о том, что в каждом теле заключен божественный свет, что тайно рассказывают суфии — бродячие старцы — о том, как важно, чтобы этот свет сливался с другим, ибо от него рождается новое озарение… Он со страхом сознавал, что не знал до этого самого себя, не знал о звере, живущем в нем и который могуче — так могуче, что и не справиться, — поднял теперь голову. Эта женщина владела какими-то путами, она разнуздывала что-то худшее в нем, она умела мгновенно скидывать узду разума и сдержанности… И он постепенно начинал ненавидеть ее, ненавидеть и желать еще сильнее… Мучился этим, страдал, но ничего не мог с собой сделать. Не мог заставить себя взяться за какую-нибудь работу, а дом был порядком развален, будто тут ночами бывали джиннии. В дом приходили мужчины, но служка что-то говорил им, — видимо, что хозяйка больна, и они исчезали. Бывало, что перед тем бросали в окно камни.
Он отдал ей все, что было у него. Кормились на его деньги. Рынок был далеко отсюда, в кишлаке по другую сторону долины.
Оттуда приносили баранину, орехи, миндаль. И Виспра вечерами приходила к нему в новом платье-изари. Изари у нее было кровавого рубинового цвета, и он, стоило ему увидеть ее тонкий стан, чувствовал безудержную жажду вдыхать ее запах, ласкать женщину, податливую и неизменно твердую, как дерево, из которого делают чернокожие зинджи[98] свои статуэтки.
…В безумном забытьи пролетело несколько недель, и в доме кончились деньги.
В тот день, когда Виспра сказала ему об этом холодно и властно, а он, не понимая, смотрел на нее и болезненный стыд охватывал его все сильнее, в дверь постучали. Старый, сгорбленный мусульманин в полосатой тюбетейке, с почерневшими корешками зубов, с руками, которые тряслись безудержно, будто трясучка не давала ему ни минуты отдыха, схватил Алексу за рукав и припал к его руке, целуя ее:
— Спаси моего сына, табиб! Черный дух вселился в него, и говорят, что ты умеешь справляться с ним. Кто ни лечил — не помогает!
— Но я давно не лечу. Давно! — растерялся Алекса.
Действительно, за все эти недели он закрыл свою дверь для всех. Был только с Виспрой, а все, что творилось вокруг, не интересовало его и не волновало.
— Ну а сейчас можно начинать, — властно сказала женщина. — В доме нет даже дирхема! — Она горделиво дернула плечом и ушла в соседнюю комнату, звеня браслетами, и пурпуровый ее изари переливался, как змеиная кожа, и такими же черными, жесткими (звериными, подумал Алекса) были ее волосы.
— Единственный сын! — Старик кусал губы, смотрел с мольбой.
И Алекса поехал на лошади, которую привел с собой человек, в неблизкий путь, в осенний, пропахший влажной глиной и прелыми листьями вечер. Оглянулся в отчаянии на дом — там, в одном из окон, уютно горел светильник, казалось, оттуда несло мускусом и розовым маслом, которое щедро расходовала хозяйка.
В доме не нашлось даже лепешки, и старик кормил Алексу припасами, взятыми в дорогу, — колбасой из конского мяса, сушеными дынями, поил чаем.
Какими трудными казались Алексе фарсанги, которые отдаляли его от Виспры! Ночью, когда засыпали кони и, закутавшись в овчину, спал старый Юсуф, Алекса долго ворочался на жесткой кошме, и ему казался отвратительным запах мокрой шерсти, идущий от кошмы, а напряженный слух, казалось, улавливал и шелест змеи под кустом, и длинный волчий вой где-то далеко, за песчаными холмами, и рыканье тигров в прибрежном тростнике… Женщина стояла перед его глазами, он примерял на ее шее нитку прозрачных бус с черными и золотистыми иглами внутри — такие ниточки называют волосками из бороды Пророка и говорят, что камни те приносят счастье[99]. Только один такой камешек был у Виспры — когда-то на похоронах сняла бабка ее тот камень с умершей жены бая. Часто доставала Виспра камешек, и любовалась им, и просила, чтобы купил ей когда-нибудь такое же ожерелье, потому что носить его боялась: отберут родичи бая. А может, больше подошли бы женщине камни аль-мазинадж[100] — они бывают и огненно-красными, и розовыми, и зелеными, как оливки, и от их света черные, бездонные очи ее засияли бы новым светом, который чарует его, Алексу. Он и так тянется к ней, как тянется железо к таинственному камню, которым владеют древние халдеи…[101]
Через три дня они были в маленьком кишлаке, который будто прилепился к большой пустыне. В горах уже шли дожди, и последние космы белого хлопка вытаскивали из колючих коробочек женщины, а здесь еще тепло и приветливо качались среди зелени тяжелые плоды граната, тандыры посреди дворов курились сладким и душистым запахом хлеба, а на растресканных дувалах лежали и томно доспевали виноградные грозди.
Солнце почти спряталось, последние его лучи блестели на куполе мечети. Дом, в который направлялись Алекса и его хозяин, встретил их плачем и криками.
— Умер! Умер Абу-ль-Хасан! — рвала на себе волосы, голосила исхудавшая, как щепка, седая женщина, из-под черного покрывала на ее лице видны красные полосы от ногтей.
«Главная плакальщица!» — догадался Алекса. Костлявый человек с тонкими губами и взглядом исподлобья враждебно отодвинул Алексу, положил руку на плечо Юсуфу:
— Аллах забрал твоего сына к себе. Радуйся!
Юсуф побелел, руки его бессильно опустились, и слеза покатилась по щеке.
— Опоздали… — прошептал он. — Ну что же… Будешь, лекарь, все равно моим гостем…
Мертвый сын лежал на столе, обмытый и одетый в синее. Лицо его было желтое и измученное, будто и действительно забрал его душу не ангел смерти Азраил, а страшные черные джиннии. Алекса постоял около него, смутно глядя на его спокойное, равнодушное ко всему лицо, и уже собрался пойти в комнату для гостей, но то ли показалось ему, то ли вправду — ресницы будто бы слабо вздрогнули. Алекса быстро наклонился, припал ухом к груди.
Глухая, ледяная тишина… Но что это — будто откуда-то издалека, или это показалось ему, а может, это где-то внизу шевельнулись в подземелье черные духи горцуки, — но что-то вздрогнуло, стукнуло. Алекса быстро ощупал руки покойного. Они были холодными, но, казалось, все же в них не было той ледяной, страшной, абсолютной холодности, которую несет с собой смерть.
— Не трогай моего сына, не трогай! Он уже стоит на мосту Аль-Сират и ждет Страшного суда! — закричала женщина в черном, вцепилась в руки Алексы.
Вой в комнате усилился, будто загудел могучий пчелиный рой. Женщины обступили Алексу, враждебно блестели их глаза.
— Он живой! — проговорил Алекса, но женщины не слушали его, голосили. Лекарь вышел из комнаты, почти крикнул Юсуфу: — Снимите его со стола! Я разотру его, дайте только побольше вина и масла!
Старый Юсуф бросился перед ним на колени:
— Сынок! Спаси его! Единственная моя надежда и опора! Шесть сыновей забрали в войско, двое умерли сами. Где они, мои дети, моя кровь?! А теперь и этот… Спаси!
Но вновь набежали женщины, и злобный голос костлявого человека в высокой белой чалме перекрыл все голоса:
— Я, мулла Ахмад, говорю тебе, неразумный, — твой сын умер! Если бы ты приехал до захода солнца, он был бы уже в земле![102]
Тишина воцарилась вокруг. Алекса поднял глаза — перед ним уже стояли несколько мужчин, недобро поглядывали на гостя.
Юсуф поднялся с колен, забормотал с плачем:
— О господин, этот человек подал мне надежду, которая окрылила меня, и я потерял голову от радости!
— Ты действительно ее потерял, потому что поехал искать лекаря, которого не знает никто — ни из какого он рода, ни какие у него лекарства. Тем более согрешил ты, что привез его из поселка нечистых обмывальщиков трупов. Пускать ли тебя в мечеть после этого? И читать ли над твоим умершим сыном молитвы? Что, если это не угодно Аллаху?
Юсуф снова бросился на колени, теперь уже — перед муллой. А тот, враждебно глядя на Алексу, приказал ему:
— Иди прочь отсюда, нечистый парс!
— Парс! — зашептались все вокруг. — Огнепоклонник!
И стало пусто вокруг Алексы, будто он был зачумленным.
— Хорошо, — сказал он глухо. — Я уйду. Но на всем пути, где я пойду, расскажу людям о кишлаке, где приглашенного в дом гостя выгоняют, не дав ему даже разломить лепешку! — И направился к двери.
— Постой! — Костлявый человек раздумывал. — Я сказал тебе идти прочь, но не сказал — когда. Действительно, ты у нас гость. Но ты же видишь — человек умер, его призвал ангел смерти Азраил. — Он подумал еще. — Юсуф, ты накормишь этого человека, но завтра на рассвете пусть он покинет дом. И хотя он не вылечил твоего сына, ты все равно дашь ему за то, что он приехал, четыре динара.
— Четыре динара! — запричитал Юсуф. — Но где мне взять их?
— Тогда отдай ему лошадей или что-то из своего дома, чтобы никто не мог сказать, что мы — неблагодарные. Иди отдыхай, парс, но отдыхай в самой дальней комнате. А я очищу дом после твоего дыхания!
Алекса ел холодный рис, гнев душил его. Гнев и тоска по Виспре.
Только через три дня и три ночи он увидит ее — длинные, до пят, распущенные волосы, твердая грудь, огромные глаза…
Но когда он лег спать, пришли другие мысли. Он мог бы поклясться, что человек, лежащий на столе покойников, еще жив. Но что могло бы оживить его? Да, возможно, вино и масло. Возможно… Память подсказывала что-то, но что — он никак не мог вспомнить. С тем и уснул, надеясь, что завтра рано уйдет из этого дома, забудет обиду, которая жгла его, как жжет язык горький красный перец.
Но среди ночи проснулся. Голова его была ясной, как никогда, и страницы, которые переписывал долгими зимними ночами в кишлаке, будто ожили и встали перед его взглядом…
Он поднялся.
Ночь была лунная, тихая. Едва слышно шелестела над домом могучая чинара. Спали птицы. Теплым запахом жилья и дымом тянуло из двора — там тоже спали люди.
Осторожно переступая босыми ногами, он направился к комнате, где лежал сын хозяина, беспокоясь, как бы не осталось там плакальщиц… Но Юсуф, видимо, жил не очень богато — плакальщицы ушли, чтобы снова прийти утром, потому что ночь была не оплачена.
Возле стола Алекса помедлил, колеблясь — стоит ли ввязываться во все это? Но можно ли уйти со двора, не воскресив огонек, данный каждому живому существу, чтобы радовалось оно свету и всему, что есть прекрасного вокруг?
«Но зачем, зачем мне эти люди? — кричало в нем что-то. — Они неблагодарны и глухи к небу над их головами, но зато, будто свиньи, думают о корыте, которое их накормит и напоит. А если он не оживет?!»
Что-то зашелестело в углу, темная тень двинулась по комнате. Алекса отступил на шаг.
— Это я, сынок, — зашептал Юсуф. — Не спится мне. Единственный сын, последнее семя, последняя надежда! Но мулла… Его проклятье — и нам тут не жить… Что же мне делать, сынок, что?!
— Живая собака лучше мертвого льва, — вспомнил Алекса восточную поговорку. — Не так ли? Хотите, чтобы сын ожил?
— А ты… ты и правда мусульманин? Мулла говорил, что ты парс?
— Уже боишься… Ну и что из того, кто я? Ты же хочешь, чтобы сын был живым?
Юсуф огляделся. Лунный свет падал на его серебристую бороду, на глаза, в которых читалась тяжелая мука… Но вот он решительно сказал:
— Попробуй, сынок, во имя Аллаха! Я всегда был правоверным мусульманином, я и теперь буду стоять около тебя с сурой[103], которую написал Аллах! Ежели ты — из магов или джиннов, ты почернеешь и рассыплешься перед именем Аллаха, не так ли?
— Так, — весело согласился Алекса, и, когда хозяин ушел из комнаты, видимо готовясь принести священную суру, он шепотом спросил:
— А кнут есть у тебя?
— Что? Кнут? Зачем? — удивился Юсуф.
— Принесите. Ежели он не оживет, этот кнут заходит по моим плечам, — прошептал ему Алекса.
Когда же тяжелая, большая плеть была принесена и Юсуф, протянув суру над головой сына, стал над ним, Алекса скомандовал:
— А теперь… теперь помогите снять его со стола. И что бы вы сейчас ни увидели, молчите. Понятно?
Лицо Юсуфа помрачнело:
— Так, может, ты и правда обманываешь меня?
— Послушайте, отец! Не мешайте. Суру, если хотите, положите сыну в халат. Пусть действительно оберегает его, а меня превратит в пепел. Но… закройте дверь — и молчите. Молчите, ибо погубите сына!
…В книге про лекарей-бедуинов было сказано, что пульс начнет прощупываться после десяти ударов. Но тело не оживало, и биения крови не было слышно. Тогда Алекса, стиснув зубы и собрав все силы, еще десять раз сильно перетянул неподвижное тело плетью. Потом — еще.
Старый Юсуф сидел как каменный. Только когда под дверью зашевелились и женский голос спросил, что здесь происходит, он отозвался:
— Молчи, старая!
И — снова десять ударов истертой, но крепкой кожаной плетью по голому телу.
И — как чудо: покойник застонал, зашевелился. Юсуф бросился к нему, затормошил:
— Сын мой! Очнись, вернись к нам! Огня! — закричал он еще сильнее.
Но люди, собравшиеся у двери, стояли молча, молча смотрели на Юсуфа и его сына, который, шатаясь, сел[104], потом жалобно заплакал, как дитя, ощупывая себя:
— Я живой! Живой, а вы меня похоронили!
Алекса пошел, нашел около очага смоляк, зажег светильник. Люди расступались перед ним, страх царил повсеместно, окутывая его и будто отделяя от здешних.
— Наш мулла — родственник главного лекаря, — тихо сказал Юсуф, который после радостного возбуждения снова сел, повесив голову. — И он не простит тебе, сынок, что посрамил его родственника. Поэтому собирайся, я дам тебе коня и то, что смогу собрать из денег. Сам видишь — я небогат. Но сын… Сын отработает все, что я потрачу на него. Он молодой и сильный…
Алекса выехал из кишлака перед рассветом. Но, видимо, мулла узнал обо всем, что случилось, сразу же. Не отъехал Алекса и трех фарсангов, как в первой же придорожной чайхане его схватили стражники.
А вечером, ошеломленный, он уже сидел в зиндане — глубокой черной яме, откуда едва просматривалось синее небо. Ныло тело, — после того как кади прочитал приговор: «За издевательство над покойником и вмешательство в дела Аллаха», лекаря хорошенько высекли плетьми. Алекса знал, — если бы главный лекарь, которого привел мулла, поднял покойника, это было бы объявлено чудом. А так — бедняк, не известный никому! С таким можно делать все, что захочешь — выбросить на дорогу, избить плетьми, опозорить! И никому, никому он тут не нужен! Зачем согласился ехать, зачем покинул Виспру? Но душа его молчала, пока воображение рисовало ее — снова и снова… Болело тело, истома все сильнее охватывала его, вялость застилала глаза. Рядом стонали, шевелились, скрежетали и пели что-то дикими голосами его собратья по неволе, — видимо, кого-то из них покинул разум… И это страшное месиво из человеческих тел, запах грязного тряпья, гнойных ран и еще, отдельно, запах человеческого несчастья и беды — все это постепенно начало доходить до его сознания. Он напряг зрение, присмотрелся — во мраке проступили люди. Рядом с ним сидел, скорчившись, немолодой дехканин с отрешенным, безразличным ко всему лицом. Голые его плечи торчали из лохмотьев, удивляя даже привычный глаз страшной худобой.
— Послушай, можно ли тут найти глоток воды? — обратился к нему Алекса.
Дехканин повернулся, глаза его блеснули звериными огоньками.
— Замолчи, паршивый парс! От вас, от которых отвернулся даже Аллах, все наши беды!
Алекса отодвинулся от него, оглянулся. Но люди вокруг сидели с безразличными лицами, никто не пошевелился, не сказал ни слова. Ему стало страшно и горько. Даже здесь, на краю смерти, люди не могут почувствовать свое единство! Даже здесь они не могут набраться покоя и либо сражаться за жизнь из последних сил, либо мудро и достойно встретить смерть! Одинаковы они, люди, одинаковая у них и радость, — а свирепствуют, грызутся между собой, как звери!
Но сам он хотел жить. Жить, чтобы взять то, что можно усвоить и понять, и с этим вернутся на родину. Хотя бы оправдать свою жизнь! И потому он вырвется отсюда, не даст сгноить себя в зиндане! Нет, теперь он твердо верил — смерть его не тут, не в безводной пустыне, не на дороге, где тяжелая и горькая пыль оседает под ногами, как будто действительно наполнена дотла тленом прошедших по этой земле людей! Он умрет — там…
Там, где звенят заиндевевшие бомы на гривах лоснящихся лошадей…
Где под полозьями в морозный день поблескивает солнце и рассыпается тысячами искр по заснеженной равнине…
Где девушки с серыми и синими, как цветочки льна, глазами полощут в Двине белье и грохот вальков громом отдается далеко в притихших к вечеру низинах…
Где черный пласт земли трудно поворачивается под железным лезвием, чтобы потом вырастить в своем лоне и отдать тяжелые, пропахшие хлебом колосья…
Где человеку живется сложнее — но и легче, ибо жизнь там, в суровых просторах, среди зверей и болот, дороже, ее ценят больше, чем тут. Там человек не отвык еще от мысли, что он и земля — одно, что никто еще не распахал твоего надела и что, отобранная у леса или болота, земля принадлежит тебе… Земля забирает силы. Людей не хватает на нее всю…
Почему там, в Полотчине, кажется, что она бесконечная, что нет ей ни конца ни края?
Почему здесь, где пустыня со всех сторон подступает к оазисам и старается захватить все, что долго и тяжело забиралось у нее, — почему здесь земля кажется маленькой, каждый ее кусочек — чудом?
…Он забыл обо всем, раздумывая над этим, и, может, здесь, в темном зиндане, впервые открылась ему истина: все нужное человеку — в нем самом, он может содержать в себе весь мир, который никто не отберет… «Царство божие — внутри нас», — почему-то вспомнились ему слова из церковной службы. Казалось, что он их забыл навечно, а вот всплыли же тут, в темном, душном зиндане, среди несчастных, будто и впрямь уже с переломанными хребтами людей.
Неожиданно для себя он заснул, а проснулся оттого, что вокруг поднялся вой, бешеный клубок людей визжал, вырывая друг у друга что-то очень уж вонючее, скользкое, — видимо, стражники сбросили куски какой-то туши, успевшей протухнуть. Алекса невольно содрогнулся, когда один такой скользкий кусок упал ему на голову, и сразу сюда бросились люди, чуть не затоптав его у стены, ощупывая его руками в гадкой, вонючей жиже.
Его затошнило, закружилась голова. Отполз в сторону, следя за тем, как летели сверху куски мяса, боясь, чтобы не дотронулся до него кто-нибудь из дерущихся. Вспомнил, что в поясе есть мелкие деньги. Дождался, пока утихнет вой, жадное чавканье вокруг и стоны. Крикнул наверх:
— Продайте лепешку! Только одну лепешку и глоток воды!
Стражник наверху наконец склонился над ямой:
— Паршивый пес, мы еще не все у тебя забрали?
— Во имя Аллаха, великого и милосердного, только одну лепешку! — крикнул Алекса.
Наверху посовещались, потом сбросили лестницу. Алекса полез вверх, и сразу же в лестницу вцепились люди, отталкивая его, также поползли к свету.
— Вы, отродье Иблиса, прочь! — заревели сверху.
Но люди лезли упрямо, с белыми, безумными глазами, — туда, вверх, к солнцу, к свету!
Тогда лестницу сильно встряхнули — раз, второй… Люди отлетели прочь, с ними Алекса.
— Первому, кто тут появится, проломлю голову! — разъяренно заревел один из стражников. Скомандовал Алексе: — А ты — лезь. Но если не будет монеты, можешь прощаться с твоей паршивой жизнью!
Алекса лез, стараясь, чтобы глаза привыкли к свету, пока не появится перед стражниками. Он должен успеть — иначе его вывернут, прощупают каждую складку на одежде и снова скинут вниз, в вонючую яму, откуда дороги к жизни нет. Он должен смотреть им в глаза, должен говорить с ними. Недаром же столько лет раздумывал над тем, что такое человек, в чем его сила и слабость… Недаром же искал и пробовал собрать воедино таинственную силу, которой наделен, как говорят священные книги Авесты, каждый из людей, но не каждый об этом знает и догадывается…
Он протянул монету главному из стражников, который, издевательски смеясь и предчувствуя веселую минуту, подмигивал своим сообщникам. Протянул и впился в него взглядом.
— Ты, Аль-Джасас, не обманешь меня, хотя и считаешь паршивым парсом, магом! Ты дашь мне лепешку, только одну лепешку, чтобы я смог есть не дохлятину, а святой хлеб, который так же дорог мне, как и тебе, мусульманину, внуку бедуина!
Издевательская усмешка сползла с лица Аль-Джасаса. Он машинально взял монету в один фельс, стоял, не отрывая глаз от удивительного пленника. И Алекса смотрел, не мигая.
— Дай скорее мне лепешку, и я полезу назад, в зиндан!
— Дайте ему! — Аль-Джасас махнул рукой, и стражник быстро развернул белую ткань, подал Алексе большую лепешку, посыпанную кунжутом[105].
— Спасибо, отец, — поклонился Алекса пожилому стражнику. — Спасибо и прими совет: ешь жареную саранчу из-под озера Катирани! Тогда ты, может, проживешь больше, чем год, иначе водянка тебя доконает!
Рука стражника содрогнулась, темные, опухшие руки затрепетали, он невольно выпрямился.
— Наш лекарь отказался от меня, а ты, бродяга, знаешь, что у меня водянка? Откуда?
— Не нужно десяти пар глаз, чтобы увидеть твой опухший живот и черные тени под глазами! Еще раз говорю тебе — не проводи ночи над чашей с вином, а ешь жареную саранчу и только из-под озера Катирани!
Он взялся за поручни.
— Эй ты, послушай! — нерешительно окликнул его старший стражник.
Алекса обернулся, посмотрел молча.
— Ты откуда знаешь, что меня зовут Аль-Джасасом и что я внук бедуина?
— Мне подсказали звезды, — спокойно ответил Алекса и посмотрел прямо в глаза Аль-Джасасу. — Они, правда, почти что тут не видны, но все же что-то можно понять, особенно если не спать всю ночь в вашем вонючем зиндане.
— Если ты знаешь, о чем говорят звезды, почему не выберешься из темницы? — все еще издевательски, но с некоторым оттенком уважения спросил пожилой стражник. — Мы, которые не умеем этого, держим тебя под охраной, ты в нашей власти.
— Мухамед также бежал от врагов, прятался от тех, кто хотел его убить, хотя он знал, что не умрет. Я поступаю так же, хотя я бедный лекарь, который вылечил больного мусульманина и за это получил зиндан.
Стражники пошептались, потом один из них выступил вперед:
— Ежели ты знаешь, чем можно помочь больному, подскажи, почему у меня шатаются зубы, как гнилые подпорки, и что можно сделать, чтобы они снова стали крепкими?
— Я мог бы дать тебе лекарства, но для этого мне нужно иметь мискаль розовой воды, пчелиного воска и горной смолы. И возможность хорошо все измерить так, чтобы лекарства помогли, а не навредили. А для этого нужно, чтобы душа была спокойна от забот и мук. Здесь же ничего этого нет.
И он снова направился к лестнице. Стражники стояли, остолбенело смотрели, как он спокойно спускается вниз…
Но не прошло и часа, как его снова вызвали наверх. Аль-Джасас отвел его в тесный, без окон закуток, где стояла скамья. Когда-то здесь, видимо, была комнатка для допросов и пыток: в стене виднелся толстый металлический круг, рядом — ржавая цепь. В углу стояла жаровня с углями, покрытыми давней пылью.
— Будешь тут жить… — сказал ему Аль-Джасас. — Будешь тут жить и — готовить лекарства. За это мы будем кормить тебя и даже время от времени угощать вином, а возможно, и приводить женщину. Но ни одна душа не должна знать о тебе, ибо для других ты давно умер. Если будешь послушным, через некоторое время мы выпустим тебя во имя Аллаха великого и милосердного. А теперь — вот тебе воск, смола, вода из роз и померанца. Делай лекарство для Измаила, а там посмотрим!
Алекса понял — они решили сделать из него собственного невольника, чтобы вместе пользоваться плодами его работы. Он огляделся. Здесь тоже тюрьма, но она хотя бы не в подземелье, где свет божий невидим. Свобода здесь ближе — она вот за этой запертой дверью. Может, поможет ему Велес, как-нибудь откроется дверь, и высшие силы выведут его отсюда!
Потянулись дни, длинные, однако занятые работой. Стражники иногда приводили в помещение людей из ближайших кишлаков. Аль-Джасас осматривал их, расспрашивал о признаках болезни. Алекса, прикованный толстой цепью, сидел за открытой дверью, смотрел в щелку, слушал. Потом дверь закрывалась, ему приносили все нужное для приготовления лекарств, и он растирал в белой ступке миндаль, воск, орехи, настаивал воду на цветах, готовил отвары. Целыми днями, прикованный цепью за ногу так, что едва доставал до порога, он сидел над столом, раздумывал, заваривал травы. Комнатка его преобразилась, в ней запахло жилым, пыль была старательно выметена стражниками, они, получая всё б́ольшие доходы, берегли Алексу, как берегли бы породистое животное. Больных приходило к зиндану все больше, Аль-Джасас становился все толще… Алекса однажды поинтересовался, почему сюда ни разу не заглянул кади — судья. Что же, он не знает, что зиндан стал Меккой для окрестных больных? Но молоденький стражник, который всегда зачарованно смотрел на него, наблюдая за таинственными движениями пленника, шепотом, косясь на дверь, рассказал, что судья получает свою долю из доходов и потому ничего не замечает. Берет и мулла, который однажды в мечети сказал, что на стражника Аль-Джасаса легло благословение Аллаха и он получил от небес подарок — понимать тайны болезней.
Шли дни, но однажды тот же молоденький стражник открыл Алексе, что его искал молодой мусульманин, которого он спас от смерти. Стражники грубо прогнали парня прочь, крича, что приезжий лекарь давно пьет воду из Каусара — райского родника, но он, Астар, незаметно шепнул ему, что лекарь жив.
— Что ему нужно от меня? — задумчиво проговорил Алекса. — Может, хочет получить назад деньги, которые отец отдал мне сгоряча? Но у меня нет ничего, даже фельса, а еду, которую вы носите мне, может выдержать только ишак.
— Не знаю, — пожал плечами юноша. — Только парень этот очень просился к тебе, ака[106]. Он давал мне деньги, но я не согласился, сказал, что и даром проведу его, когда все заснут и ночь будет темной.
И правда, через три ночи в дверь что-то заскреблось, потом она едва слышно открылась. В проеме двери стоял тот самый парень, чьи запавшие глаза могли бы уже никогда не раскрыться для жизни, если бы не Алекса.
Светильник потрескивал, масло из белого хлопка было плохим — стражники экономили на всем, чтобы иметь побольше прибыли.
— Ака. — Парень почтительно склонился перед Алексой, зашептал: — Я пришел, чтобы помочь тебе. Собирайся! К утру будем уже далеко отсюда.
Алекса несколько мгновений смотрел на него, потом не выдержал:
— А ты что, хочешь поехать со мной?
— Мулла объявил, что ты вернул меня с того света злым волшебством. И теперь все правоверные мусульмане нашего кишлака сторонятся меня, будто я сын дьявола. Мне не жить там! Отец поседел от горя и говорит, что ему лучше видеть меня мертвым.
Дверь открылась, молодой стражник пригрозил, чтобы собирались быстрее, если хотят спастись. Он ляжет вместе с остальными, иначе, если заподозрят его в помощи беглецу, тут же поставят на коврик крови и райскую воду из Каусара придется попробовать раньше времени…
— Я смотрел на твою работу, ака, — признался он, проводив Алексу и его спасителя и закрывая за ними дверь, — смотрел и надеялся, что научусь от тебя всему, что ты знаешь. Но лучше ты уйдешь отсюда, станешь свободным, чем погибнешь, набивая карманы пройдохам. Я также уйду отсюда. Уйду, ибо не могу слушать крики людей. Уйду, хотя отец мой заплатил немало, чтобы устроить меня в стражники, потому что место тут доходное. Но я хочу помогать людям, а не мучить их…
Темной ночью на каменистой дороге, чутко прислушиваясь, не раздастся ли крик и топот преследователей, Алекса раздумывал о том, что люди делятся на добрых и злых, какая бы ни была у них кожа и в каком уголке земли они ни жили бы. Юноша освободил его, хотя его собственное спасение было таким горьким. Может, он станет другом?
Таким другом, а в конце концов побратимом стал для него Нигмат… Не увидит он никогда ни его, ни Аппак, ни Нармурада… Разлука пробудила в нем лучшее, и он понял, как трудно удержать душу на высоте. Как тяжко на ней оседает муть похоти и сладострастия!
Кони были те же, что когда-то дал ему Юсуф, отец Абу-ль-Хасана. Об этом уже на отдыхе, когда они на рассвете отъехали в сторону и сели около арыка, сказал ему парень. Сказал и о том, что выкупил лошадей у стражи, что долго выжидал, как можно подступится к страшному зиндану, в который упекли Аль-Ису мулла и лекарь.
— Отец мой, вырывая волосы, проклинал тот день и час, когда поехал к тебе, — рассказывал Абу-ль-Хасан. — Но и радовался одновременно. Ибо, как он говорит, лучше иметь живую лису, чем мертвого льва. Я теперь ушел от него — но звезды поворачиваются на небе, судьба подступает к человеку или отступает от него, и тогда все меняется. Может, снова моя цена поднимется, а от мертвого уже нечего ждать. Но я тебе скажу: ежели бы я снова умер, не отплатив тебе, — я крикнул бы там, у моста Аль-Сират, что лучше служить Иблису, чем… чем Аллаху, ежели так!
Голос его оборвался. Расчувствовавшись, Алекса похлопал юношу по плечу.
— Я возвращаюсь на родину, а она в тысячах и тысячах фарсангов отсюда. Нам недолго быть вместе.
— Разве ты не из кишлака Ширс?
— Нет, я не парс, не маг. Я простой человек, такой же, как ты. Но я все время слушаю себя, свою душу и не даю ей заплыть жиром. Потому она стала такой, какой должна быть у человека, — чуткой ко всему, что происходит вокруг, — к крику птиц, шуму деревьев. Особенно же — к людям. Я смотрю на человека, слушаю его и будто становлюсь им: с его лицом, его заботами и конечно же его болью. Вот тогда, когда я поймаю ту боль — а она, Абу-ль-Хасан, есть у каждого, — вот тогда я чувствую, что нужно сделать, чтобы помочь ему. И в этом нет ничего удивительного и необычного.
— Быть как другой? Быть в другом? Нет, это не для меня! Я никогда так не смогу. Я — Абу-ль-Хасан, и больше никто!
— Разве ты только Абу-ль-Хасан? Ты просто сегодня им называешься. А вчера ты, возможно, был пылью, по которой прошло войско Искандера Двурогого. А может, ты был царем Сиявушем, тело которого, иссушенное солнцем и разнесенное зверями, вырастило удивительной красоты цветы. В мире — одна душа, а мы все, все те, кто живет на земле, — только части этой души. Вот почему люди должны быть добры друг к другу. Вот почему должны слушать каждый свою душу — в ней отзвуки одной музыки…
— Как красиво ты говоришь! Наш мулла тоже много рассказывает о мире. Но он учит, что только один народ имеет право на жизнь — это те, кто верит в Аллаха, остальные — неверные, их нужно убивать. Он говорил, что, если мусульманин убьет неверного, — ему прощается один грех.
— А почему же ты, мусульманин, спасал меня из зиндана, почему ослушался муллу?
Абу-ль-Хасан смутился, потом увидел лицо Алексы — и сказал задумчиво:
— Вы смеетесь, наставник, но отец говорит, что когда-то, при Сиявуше, когда жил еще богатырь Рустам и верные рыцари Ирана и Турана, верность слову и чести ценились выше, чем все остальное. Отец говорит — тайно, когда нас никто не слышит, — что Аллах требует порой того, что претит человеческому сердцу, и что в наших жилах течет кровь одного из далеких потомков рыцарей, которые воевали вместе с Рустамом. А мулла наш — хитрый и вероломный, он делит доходы с лекарем, собирает дань даже со стражников зиндана, которые обирают родственников несчастных узников. Вот почему отец поехал искать для меня лучшего лекаря. Но все же мулла перехитрил его.
— Нет, это мы вместе перехитрили муллу, а вместе и жадного лекаря, который многого не знает. А теперь давай спать, ибо дорога у нас долгая и опасная и мы еще не решили самого главного — докуда ты пойдешь вместе со мной, где я могу пристроить тебя, братец, ибо ты еще нужен и своему отцу, и своей земле…
Такие беседы вели они во время дороги, а она, дорога, все вела и вела вперед — мимо полей спеющего риса, мимо пожелтевших за длинное жаркое лето кустов тутовника, мимо желтых, как цветы шафрана, и одинаковых, как равнина в жару, дувалов, за которыми прятались домики ремесленников и виноградники. Мелькали от двери к двери женщины в разноцветных и белых покрывалах, с черными сетками на головах, несли на плечах корзины с ягодами и лепешками.
«Мусульмане спрятали лицо женщины, — думал Алекса, — потому, что сделали ее своей собственностью, будто забыв, что у нее тоже есть душа и она так же бессмертна, как у каждого из них. Богатство развращает, Коран узаконивает: мужчина может иметь много женщин, и он пользуется этим правом. В горах лицо женщины открыто ветру и солнцу, ибо она ближе к природе и всему сущему и ее не успели переломать и сделать ниже себя…»
Абу-ль-Хасан думал о том, что мир, оказывается, может быть расположен к нему и что скоро он увидит Бухару, которую, возможно, никогда бы за всю свою жизнь не увидел. Что впереди? Он смотрел на удивительного загорелого человека с голубыми, как бадахшанский лазурит, глазами, который мог почувствовать чужую душу, как свою, и сердце его наполнялось желанием чего-то необычного… Ему хотелось то мчаться с кривой саблей на боку, пугая покорных человечков, что жались внизу, то думать о том, как нелегко и невозможно строить свою жизнь, как стремится этот удивительный парс, — нет, не парс, а чужеземец из неведомых и непостижимых далей, — и что сам он хочет одного: прожить свою жизнь интересно и необычно…
В Бухаре они остановились в караван-сарае, стоящем у самого мавзолея Исмаила Самани. Отсюда было недалеко и до крепости Арка, внутри которой размещались дома именитых людей Бухары и двор самого куш-беги — главного визиря.
— Неужели ты, ака, увидишь самого Шамс-ал-Мулка?[107] — с глубоким уважением и страхом спросил Абу-ль-Хасан, когда их проводили в небольшую комнатку на втором этаже и подали горячий рассыпчатый плов.
— Нет, — улыбнулся Алекса. — Такой ничтожный и простой человек, как я, не может увидеть правителя Бухары.
— Ты — ничтожный? — Абу-ль-Хасан посмотрел на него с уважением. — Нет, ты достоин стать великим визирем, иметь много денег, невольников.
— А ты хочешь быть богатым?
— Конечно! Хочу есть каждый день жирный плов, лучшие гранаты из Хорасана! И чтобы каждый день танцевали передо мной танцовщицы. Вот это — настоящая жизнь!
Алекса вспомнил, как мечтал стать воином, стать лучшим в княжеской дружине… Как это все теперь далеко от него!
— Работай, приобретай богатство… — тихо сказал парню.
Но тот рассмеялся непочтительно.
— Неужели, Аль-Иса, не заметили вы, что трудом богатства не наживешь?! Богатым становится купец, торговец. Да у меня нет денег, чтобы начать торговлю. Еще — благородный. Еще — грабитель, но опасно — поплатишься головой. Еще…
Алекса перебил его:
— Мне завтра рано вставать. А ты, если хочешь остаться в живых, не очень пей и не рассказывай, кто мы да откуда. Понял?
Парень кивнул. Насытившись, они отправились спать.
— А что мы завтра будем делать? — спросил Абу-ль-Хасан.
Этот парень думает, что Алекса все знает и все может. А он может не так уж много. Спесивый Ахваз, который не захотел принять старого Нармурада, потому что тот беден и неизвестен, вряд ли пожелает говорить с молодым его помощником! Но другого пути не было. Нужно встретиться с лекарем Ахвазом, попытать удачи. Иначе можно годы провести в большой священной Бухаре и ни на шаг не приблизиться к своей мечте — книгохранилищу, где лежит знаменитый «Канон» Ибн-Сины… Лежат другие рукописи… Говорили, что там, в книгохранилище, есть «Калила и Димна» — сборник мудрости. Человеческая кровь на нем: составитель этой книги и переводчик ее на родной язык — язык фарси — был обвинен в ереси и казнен.[108]
Когда спутник уснул, Алекса долго сидел, глядя в узкое окошко. Прямо перед ним стоял знаменитый мавзолей — высокий купол, вокруг — четыре поменьше, стены даже теперь, при лунном свете, блестят чем-то голубым и легким, как сияние луны. Легким кажется и сам мавзолей, где похоронен великий человек. Может, и после смерти тот дух, который поднимал этого человека над повседневностью, сохраняется вокруг? Завтра, чуть рассветет, жителей города разбудит высокий и тонкий голос муэдзина, который позовет на молитву. А какой голос позовет его? Одиночество… Как нежданный враг набрасывается оно на человека и начинает душить тонкой, но крепкой петлей… Не каждый в состоянии выдержать ее, не каждый в состоянии оставаться наедине с собой. Чем выше взлетает душа, тем больше у нее сил, но, чтобы взлететь высоко, силы тоже нужны. Интересно, те, кто день за днем корпели над этими сотнями тысяч узоров, оплетающих мавзолей, тоже чувствовали вдохновение или, подчиняясь властной воле, гнулись над камнем только ради куска хлеба?
Спала священная Бухара. Спали ремесленники и водоносы, купцы и менялы, стражники и придворные… И здесь где-то живет — живет ли еще? — полочанка, силой привезенная и детьми привязанная к чужой земле. Растит детей Востоку, — а сколько их здесь, славянских девчат, парней, — плененных, замесивших своей кровью здешнюю почву, на которой так щедро, бурно растет всякое семя?! Ждал утра, глядя на прозрачно-тонкие очертания благородного мавзолея и очертания города, лежащего перед ним. Как давно было все это — тонкая фигура в прозрачном облаке душистой одежды, чужие, обведенные черным глаза и сведенные брови, дорогие браслеты на ногах и красное ожерелье на тонкой шее. И голос ее — голос тот, прежний: «Не оставляй мою мать…»
Дитя, которое бегало около них, могло быть его ребенком. И то дитя, под сердцем у Аппак, тоже могло бы жить и сейчас, подбившись под его бок, дышать теплотой, родным запахом детского, нежного… Это дитя он взял бы с собой, не оставил, не забыл о нем.
А от Виспры не хотел бы иметь детей. Блудницы не должны рожать, ибо вместе с кровью примет дитя змеиную, неверную их сущность. Хорошо, что освободился от блудницы, стал собой, прежним…
Совсем не хотелось спать, и он пошел блуждать по Бухаре, по улочкам, вымощенным гладкими, отполированными временем камнями. Подошел к медресе, заглянул внутрь дворика, куда выходили двери келий-худжров. В этих кельях живут самые осведомленные, самые умные люди Бухары-и-Шериф — Бухары священной, города, куда стекаются не только огромные богатства со всех концов света, но и самые мудрые книги и люди — украшение земли. Где-то там, глубже, — библиотека. Что там? Возможно, он никогда об этом не узнает…
Платан в дворике, облитый золотистым светом луны, стоял неподвижно. Узорчатая дверь пахла еще жизнью дерева — наверное, была сделана недавно… Зажмурил глаза, вдыхая их запах. Как будто сосна… Хотя откуда взяться сосне?
Грубая рука вцепилась в его плечо, больно сжала его.
— Кто такой? Что тут нужно?
За ним стояли стражники — и когда успели подойти?
Лица у них были настороженные и злобные — может, почуяли наживу?
— Я приехал издалека, чтобы найти лекаря Ахваза, который лечит великого музыканта Исхака, любимого певца эмира.
— Ты, видимо, настоящий кишлачник, ибо или не знаешь, или прикидываешься: Исхак давно в немилости!
— У него сорвался голос, и он стал не нужен правителю! Теперь у него другой любимый музыкант — Мири-Араб!
— Ну, а лекарь Ахваз — он хотя бы жив? У него голос не сорвался?
Стражники схватились за животы.
— С тобой не соскучишься, кишлачник! Лекари живут долго, и Ахваз хотя в опале, но живет! Недалеко отсюда!
— Гони десять фельсов, и мы покажем тебе его дом!
— Я хотел прийти к нему утром, чтобы не беспокоить старого человека! — возразил Алекса, но стражники, окружив его, повели куда-то, продолжая тормошить и требовать денег.
Он дал им наконец десять фельсов, и они привели его на тихую улицу, где небольшие глиняные домики прятались в густей шелестящей листве. В свете луны были видны гирлянды роз, которые вились по стенам. Дом, куда привели Алексу, спал, и ставни его были закрыты, и тихо было в густых кустах, окружавших дом, хотя там, конечно, спали птицы, может, даже и горлинки, которых так много около тихих домов Бухары…
— Я подожду тут, — сказал Алекса, и стражники наконец оставили его одного, а он, закутавшись в халат, сел около дувала и начал смотреть, как медленно светлеет, наливается розовым небо.
Неожиданно за дувалом послышались крики, хлопнула дверь, затопали по каменным плитам дворика старческие ноги. Алекса пересел дальше. Раскрылись ставни.
— О, чтобы тебя забрал твой Каик-Баджак![109] Чтобы скорее размоталась твоя чалма![110] — выразительно прозвучал в тишине молодой женский голос.
Сухой, подвижный человек вышел оттуда, спустился к арыку, начал, кряхтя, плескать на себя воду.
— Проклятая джинния! — ворчал он. — Прикажу — тебя завтра же распнут на воротах города! — Он потряс рукой. — Светильником бросила! А если бы пожар?
Он подул на руку.
— Два мискаля нарджина[111] с медом — и завтра все затянется, — негромко сказал от стены Алекса.
Старик испуганно выпрямился, но Алекса быстро проговорил:
— Не пугайтесь, уважаемый Ахваз, я не грабитель. Я только хочу припасть к вашим ногам, чтобы просить о милости…
— Какой-нибудь местный табиб! — ворчливо сказал Ахваз, сразу успокоившись. — И будешь просить, чтобы я закинул за тебя слово и дал тепленькое местечко! Можешь не рассчитывать, я не накрою тебя покрывалом своей щедрости. Бухара переполнена проходимцами.
— Что же, я пойду, — ответил Алекса, — но тогда вы никогда не узнаете, что можно сделать, чтобы к Исхаку вернулся голос.
Ахваз, который пошел было назад в дом, остановился, но потом махнул рукой:
— Исхака любили при старом дворе. Теперь у нас новый правитель. Новый хозяин — новые песни.
И он стал закрывать ставни. Тот же молодой женский голос прозвучал из дома:
— С кем это ты говоришь, старый Иблис?
Молодая, статная женщина, прикрываясь рукавом, с интересом вглядываясь в Алексу, шла от дома.
— «С кем, с кем» — не твое дело, женщина! — забормотал лекарь, стараясь быстрее закрыть ставни, однако немощные руки плохо слушались его.
— Дай я! — Она перехватила засов, начала ругаться по-славянски: — Пусть бы вас палеруш схватил, этих мастеров!
— Сестра! — позвал Алекса. — Землячка, ты откуда?
Она отпустила засов, стала как вкопанная:
— Из-под Киева я, братец! А ты?
— А я полочанин. Из Полоцка!
Женщина отбросила засов, выскочила, обхватила, обняла Алексу:
— Братец ты мой! Землячок! Вот радость какая!
Лекарь Ахваз дрожащими руками расталкивал их.
— Хватит… а то пожалуюсь кади… Повешу тебя, поганая наложница… Джинница… — бормотал он.
Она отпустила Алексу, обхватила старого лекаря, потерлась щекой о его морщинистое лицо.
— О любимый! Я встретила земляка! Неужели ты не разрешишь своей Дарии хоть немного поговорить с ним? Одарка я была, — быстро объяснила Алексе. — А ты что хотел от него?
— Невеликая моя просьба — о книгах. Я приемный сын бывшего друга его, Нармурада из кишлака Ширс.
— Ага! Ну, может, уломаем его!
И она продолжала ласкаться к хозяину, пока он не смягчился и разрешил Алексе войти в его дом.
— Как только вы выдерживаете своих женщин?! — совсем мирно и даже уже насмешливо спросил он у Алексы. — Красивы женщины русов, но пока обломаешь их… И то правда: они как крючки для рыбы — чем сильнее рвешься, тем крепче цепляет тебя крючок…
При свете было видно, что лекарь Ахваз был серый, как степной сверчок-богомол, глаза у него покраснели и слезились; он все время вытирал их уголком большого платка, лежащего рядом.
— Так мой друг Нармурад умер? — который уже раз переспрашивал он. Потом помолчал. — А был моложе на десять лет, — сказал наконец. — На целых десять лет!
— Нармурад-ака прожил, мне кажется, хорошую, благородную жизнь. Я бы хотел такую, — суховато заметил Алекса, несколько обиженный словно бы радостью, прозвучавшей в голосе Ахваза.
— Ну, конечно, конечно! — заспешил он. — И умер смертью праведника. Хотя… Ежели бы он принял мусульманство, жил бы до сих пор. Я вот принял, живу неплохо и считаю себя искренним мусульманином.
— А отец говорил мне, что самые лучшие обычаи — обычаи отцов и сам человек не решает, с кем ему быть. Это — от рождения дано каждому.
— Но тебя, сын мой, он все же сделал парсом. Ты и выглядишь как настоящий парс.
— Парсы дали мне веру в то, что даже если все вокруг погибнет от Тьмы и Неправды, останется хотя бы островок праведников, они и возродят правду.
Ходила по комнате Одарка, приносила еду. Поглядывала на него из-под паранджи. Разгоралось утро. Запели птицы, брызнуло лучами солнце.
— Так что ты хочешь? — спросил наконец Ахваз.
— Хоть одним глазом взглянуть на знаменитую библиотеку, которая при дворе Шамс-ал-Мулька. Готов ради этого быть вашим рабом.
Ахваз долго смотрел на него, мигая слабыми, сморщенными веками, лицо его затуманилось.
— Ты хочешь отнести Знания в свою далекую суровую страну? — спросил он наконец, и свет промелькнул в его потяжелевшем взоре. — Но славяне — народ воинственный. Недаром их мечи и кольчуги — лучшие в мире.[112] Зачем им знания?
— Не бойтесь, уважаемый, наши кривичи никогда не придут сюда, на эту землю. Они не гонятся за легкой добычей, они выжигают свои леса, делают землю пригодной для жизни. А охотятся на зверей или врагов, когда те нападают.
— Когда-то, наверное, ты был воином.
— Был.
— Но уже никогда им не станешь. Ты начал задумываться, что такое мир, и теперь хочешь… чего ты хочешь?
— Я сказал об одном, а другое — не знаю. Откуда человеку знать свою судьбу?
Ахваз еще долго молчал.
— Может, я и помогу тебе. У китайца-садовника в саду эмира нет помощника. Когда ты побудешь там среди слуг, к тебе привыкнут, и задуманное сделать будет легче. Хранитель библиотеки — родич главного садовника. Но ты должен во всем слушаться высших и до времени не говорить о своем желании никому! Помни — за каждый твой промах отвечу я, твой поручитель! — Потом добавил строго: — И чтобы больше ни ногой в мой дом. Слышишь?!
…Несколько месяцев работал Алекса помощником придворного садовника, очень редко выходя в город, где в квартале богатых купцов водоносом стал работать его спутник. И чтобы его приняли в водоносы, отдал Алекса старейшине серебряный дирхем. Не взяли бы парня, но узнали, что есть у Алексы высокий защитник — из придворных.
В домике старейшины, где занял комнатку Абу-ль-Хасан, Алексу встречали с уважением. Он улыбался, глядя, как суетится сам старейшина, готовя для гостя плов. Абу-ль-Хасану, конечно, жилось бы намного тяжелее, если бы не Алекса, и, может, это он, несмотря на все клятвы, не утерпел и рассказал, что помощник садовника много лет лечил людей. По крайней мере, однажды, когда Алекса гостил у парня, старейшина начал жаловаться, что лекарь, которому передано столько денег, так и не вылечил гнойную болячку на ноге.
— Может, вы что-нибудь посоветуете, ака? — униженно говорил он, стараясь схватить взгляд Алексы, который тот упрямо отводил.
Не хватало еще снова попасть в руки стяжателей или завистников! И тут не горный кишлак, тут право быть лекарем нужно защищать в присутствии старейшин и признанных в медицине людей. А иначе — будешь бит палками и изгнан из Бухары как самозванец. Нет, Алекса не был уверен в том, что смог бы выдержать такой важный экзамен. У него нет знаний сильных и прочных, он учился, наблюдая, брал все от природы или от старого лекаря Нармурада, — а тот и сам, пожалуй, не рискнул бы заниматься своим ремеслом тут, в этом важном городе! Старейшина не отставал, и Алекса чуть не испепелил взглядом Абу-ль-Хасана, а тот отводил взгляд в сторону.
— Я спрошу у лекаря Ахваза, он мне не откажет, наверное, — наконец неохотно сказал Алекса, и старейшина склонился перед ним еще ниже:
— О, пусть ворота твоей мудрости будут всегда открыты! Пусть Аллах даст тебе большое потомство!
Льстивый этот человек даже не догадался, как ударили его слова по сердцу. Большое потомство… Нет у него никого и будет ли вообще? Уже подступает к сердцу усталость, уже первые седые нити вплелись в волосы…
Он не приходил к Абу-ль-Хасану больше месяца. Но за это время в собственной его жизни произошли изменения, произошли неожиданно для него самого.
В свободное время — а его было совсем немного — Алекса упорно продолжал учиться арабской грамоте. Привычная его память схватывала нужное мгновенно, и он, чаще всего наизусть выучив то или иное выражение из Корана, записывал его. Бумаги не было, и он записывал на всем, на чем можно, но чаще на песке, которым каждый день присыпал дорожки в саду. Делал это Алекса до восхода солнца, до первой молитвы муэдзина, потому что правитель часто любил выходить в сад. Посыпав дорожки, Алекса шел в дом садовника или в самые отдаленные уголки сада, где росли лекарственные травы и куда свита эмира не заходила никогда. Там подстригал кусты и розы, учился делать прививку на деревьях, которые в хорошем настроении показывал ему садовник — степенный, горделивый старый китаец. Хорошее настроение у него бывало редко, он скучал по своей родине — далеком Чине, Поднебесной, или серединной, империи, как тут называли Китай, и все вокруг казалось ему диким и грубым — и комнаты дворца, и придворные с их жадностью на пирах и толстыми животами, которыми они напирали временами на Ювана, бегая за цветами или за гвоздиками, чтобы положить их в рот перед большим приемом. Юван однажды сказал при Алексе, что это он ввел в обычай класть в рот ароматный плод или цветок, чтобы не опоганивать своим дыханием владыку, и что за это не любят его придворные. «Не любят, но боятся!» — добавил он довольно, и лицо его расплылось в улыбке.
Благодаря Ювану, который развел в саду растения своей родины, познакомился Алекса с гвоздичным деревом — оно никогда не сбрасывает листья, и цветы его пурпурные, с белыми и розовыми лепестками, с шафраном, который цветет светло-фиолетовым цветом, а ткань окрашивает в желтое, с травой анис, которая помогает зубам от камней и вылечивает кашель, еще со множеством всяких чудес, которые также нетерпеливо и жадно схватывала память Алексы.
В тот день он справился со своей работой рано и потому, разгладив ровную поверхность дорожки, написал на ней первую строку поэмы, которую так любили в те годы в Бухаре. Написал ее когда-то известный поэт — Имруулькайс, написал о любимой, которую потерял, и Алекса, думая о Бадии-Березе, вывел на песке:
Постойте, поплачем, вспомнив о любимой и ее жилище!Постоял, полюбовался надписью и только хотел стереть ее, как сзади раздался крик Ювана.
— Сейчас же… сейчас же сорви цветок граната и передай евнуху! Заболела внучка визиря, а ты, лентяй, сидишь и смотришь тут на солнце!
Алекса побежал следом за евнухом, забыв и о надписи, и о себе самом. Внучка визиря болела часто и была на удивление злой и капризной. Предшественника Алексы выгнали, избив его палками, за то, что розы, которые подал капризнице через евнуха, сильно укололи ее.
А через час испуганный Юван прибежал, обливаясь потом, к грядкам шафрана, где копался его помощник, и дрожащим голосом приказал бежать за ним. Он скулил всю дорогу, что правитель, сам светлый правитель, увидел, что написал дерзкий бедняк, и хочет узнать, для кого эта надпись?
— Надеюсь, что ты, блудный сын, не завел плутни с какой-нибудь гаремной красавицей. Ежели так, то лучше давай зайдем ко мне и выпьем какого-нибудь яда, ибо смерть наша может быть страшной, как только умеют убивать в этом краю дикарей! — быстро говорил он, время от времени сбиваясь на непонятные слова — видимо, на своем родном языке. — Кому ты писал?
— Успокойтесь, уважаемый, я ни разу не видел ни одной женщины ближе чем за сотню шагов. До гаремных ли красавиц мне, у кого нет даже собственного жилья!
Еще издали на дорожке Алекса увидел множество людей в парчовых, бархатных халатах, в шапках из золотистой лисы. Китаец упал на колени и, бормоча какие-то молитвы, пополз вперед, Алекса за ним.
Он почувствовал, как множество взглядов — пытливых, пренебрежительных, зловещих — впилось в него.
— Так это ты, никчемный червяк, осмелился писать стихи Имруулькайса? Для кого они? Говори, ежели не хочешь, чтобы твоя голова сегодня же торчала на пиках моих воинов! — раздался над ним голос.
Алекса поднял голову. Нет, этот толстяк с красным лицом и отвисшими щеками — не эмир. Это, видимо, начальник стражи при дворце. Эмир — тот с бледным, бескровным лбом и синеватыми тенями под черными тусклыми глазами, в халате, подбитом соболем. И он ответил, склоняя голову перед ним:
— О владыка Вселенной, солнце Бухары! Я не знаю, живет ли еще та, о кой я думал, когда писал строки поэта, чье сердце любило так сильно. Я люблю эту поэму, ибо в ней плач и слова любви не одного, а тысячи тысяч, которые жили и будут жить после нас!
— В твоих глазах свет разума, и ты не похож на того, за кого выдаешь себя! — сказал на этот раз другой голос, и Алекса узнал — это говорил визирь. — Кто ты, который назвался помощником садовника?
Алекса почувствовал, что его охватил страх.
В плечо его больно впился кинжал.
— Говори, пес! — прохрипел над ухом начальник стражи.
— Я из страны славян и балтов, той страны, которая дает вам кольчуги и красивых женщин, воск и зверей, которыми обшит твой халат, о владыка! Я пришел сюда сначала за любимой. Теперь я остаюсь тут из-за знаний.
— Рассказывай! — снова толкнули его в плечи.
— Он расскажет свою историю сегодня вечером! — разомкнул уста эмир. — Я так хочу!
Он сделал знак, свита, сияющая парчой, золотом и драгоценными камнями, двинулась дальше. Алекса и китаец остались одни на коленях.
Первым встал садовник. Отряхнул желтый сухой песок, мотнул длинной косой на спине.
— Ну, ты явно полюбился кому-то из Небожителей! — сказал он завистливо. — Могли бросить в зиндан, а вместо этого будешь на пиру у эмира. Я вот никогда даже не заходил в его покои.
— Да я не очень туда рвусь, — сказал Алекса. — Здесь говорят: «Слоны трутся, меж себя комаров давят».
— Не побрезгуй моим скромным угощением, зайди! — неожиданно сказал садовник. — Вечер еще не скоро, а у меня есть чайник розового вина с настоящими китайскими приправами. Вкуснота — как у феи Ванму! В садах этой феи цветет раз в три тысячи лет персик, который дает бессмертие. Идем, счастливец!
Почти до самого заката солнца просидел Алекса в комнатах Ювана. И удивительно: казалось, пил много вина — действительно ароматного, хмельного, — а голова ясная, кровь бежит по жилам стремительно и сильно, так что хочется взлететь… Много рассказывал ему китаец — и о какой-то Блаженной Стране Яшмовых Колоколов, куда случайно забрел древний поэт и где нашел не виданные на земле книги, открыл тайну семи сияющих шариков бессмертия и узнал Золотую Истину; и о том, что на Луне, оказывается, живет какой-то Заяц, у которого в лапах Пест, а толчет он порошок бессмертия; и про лисиц, которые превращались в красавиц и зачаровывали смертных людей… И о многом другом рассказал бы Алексе Юван, который, оказывается, знал так много, но прислали из дворца за помощником садовника. Китаец принес жертвы своим богам — сжег много бумажных денег, чтобы замолвил парень слово и о нем. Алексу переодели, на голову ему дали шитую затейливыми узорами тюбетейку, заставили обтереться душистой водой.
Целый вечер, сидя недалеко от эмира, за отдельным столиком, в то время как придворные медленно пили чай, ели разные лакомства, рассказывал Алекса о своей жизни. Толстые, равнодушные люди цокали языками, кивали головами, но все они льстиво и настороженно следили за лицом эмира, а он был неприступен, замкнут. Только когда Алекса рассказывал о мусульманском набеге на кишлак, эмир процедил сквозь зубы:
— Давно нужно было этих поганых огнепоклонников…
И все тут же закивали головами, соглашаясь и славя мудрость владыки. Только один — невысокий, чернявый человечек — посмотрел на рассказчика сочувственно и вытер глаза рукавом.
Алексу охватил было гнев, но он сдержал себя. Хорошо известно, что будет, если не понравится эмиру рассказ, и смерть на коврике крови еще будет самой легкой из того, что может встретить. Он рассказал, как вылечил молодого Абу-ль-Хасана, и только тут эмир впервые улыбнулся, а за ним — сразу же — все придворные…
— Возможно ли это? — спросил эмир у одного из толстяков, и тот, поцеловав землю перед ним, сказал, что действительно есть такой способ у бедуинов, но помогает ли он — узнать трудно, потому что опасно делать такое с мертвым телом.
Когда Алекса наконец закончил, преклонив колени перед эмиром, по кругу начали разносить чаши с вином — Алекса по запаху узнал его. Это было ширави, египетское вино, которым хорошо лечить простуду и которое так любил Ашавазда. Вокруг слышались причмокивания, голоса, а он все лежал ниц, не осмеливаясь поднять голову.
— Может, пусть держит экзамен? — спросил кто-то над ним.
— Зачем нам новый лекарь? — сказал вялый голос эмира. — Мы знаем, что рабы из славян упрямы, они часто даже не дорожат жизнью. И этот упрямый. Я знаю! — Он топнул ногой. — Но, — добавил эмир немного позже, — у тебя имя пророка. Ради него я пожалею тебя. Пусть все вокруг знают, что милость наша — действительно безмерна. Потому пусть три часа в день он проводит в хранилище. Остальное время работает на том же месте. Пусть отрабатывает свой хлеб!
— Ты не понравился правителю, — укоризненно сказал ему китаец Юван. — У тех, кто понравится ему, жизнь становится легкой, как пылинка в солнечном луче.
— Что ты, уважаемый! — ответил Алекса. — Три часа в день! Это уйма времени! И этот халат остался на мне, и башмаки, и тюбетейка. О нет, я счастлив!
— Я-то думал, что он приблизит к себе, тронутый твоими бедами. А там бы ты замолвил словцо и за меня. Я столько отработал, я выкупил бы себя, ежели бы мне тут платили. Но я — раб, меня били палками по ногам и продали в рабство богачу Юань Шэ, а он поехал торговать в Багдад и, обеднев, потому что любил вино, продал меня мусульманам. О горькая моя жизнь! Несчастливая судьба! Я никогда не увижу больше Великую Желтую реку, не буду иметь жену с маленькими лотосовыми ножками, а Владыка мертвых Янго еще откажется от меня и отправит к этим дикарям!
Говоря это, Юван сначала раскачивался взад-вперед, а потом неожиданно упал на колени и начал бить себя по голове сухими, но, видимо, сильными кулаками. Слезы лились по его морщинистому лицу, и не высокого, горделивого старика, а убитого горем и мукой человека неожиданно для себя увидел Алекса, и все перевернулось в нем.
С того времени жизнь для него стала легче. Он работал много, но первые, самые ранние часы проводил теперь в огромном, заставленном свитками и списками хранилище книг. Хранитель относился к нему настороженно, не отказывал, но и не очень помогал. О знаменитом «Каноне» Ибн-Сины, о котором в первый же день с замиранием сердца спросил Алекса, ответил сурово, что эта книга у главного лекаря эмира и брать ее кому-то другому нельзя. Алекса и не думал обращаться к главному лекарю, он верил, что счастье, которое привело его сюда, в доступную только мечтам библиотеку, самую богатую в Бухаре, — это счастье поможет ему. Когда и как — этого не знал, но предчувствие жило в сердце, оно согревало и давало силы жить надеждой.
Юван тоже изменился. Он перестал сторониться своего помощника. Много вечеров сидели они вместе, и мудрый китаец все рассказывал и рассказывал о своей необычной стране.
— Все здесь не так, — жаловался он, выпив чайник теплого ароматного вина. — Люблю ирисы — а их боятся, говорят, что за ними идет в дом смерть. Тут заведено: не понравилась жена — три раза прочитай разводную молитву, и пусть она идет куда хочет. А можешь и продать ее другому. Да у нас за такое обернули бы мужчине голову зеленым полотенцем и опозорили как проститута — мужа проститутки. Или другое: родился крестьянином — век будешь им и будешь тянуть ярмо. У нас все имеют право держать экзамен на должность. Лучшим будет твое сочинение — большую получишь должность. Тогда ты уже не крестьянин, и тебя вычеркивают из списков и заносят в другие — чиновные!
Постепенно Алекса узнал, что Юван был студентом, но за то, что соблазнил жену уездного начальника, был бит и продан в рабство, хоть мог бы быть казнен. Такую милость Ювану явили потому, что подсудимый открыл судье секрет голубой розы, которую вывел его отец, он был отличным знатоком цветов.
— Я не любил цветы сначала, но потом начал думать о них, как о женщинах, и полюбил, — признался он Алексе. — И постепенно начал заниматься цветами. О, с ними легче, чем с людьми, с ними отходишь душой…
Особенно любил Юван пышные, белые цветы, которые называл хризантемами. О них он рассказывал целые предания, и все лучшее, что он говорил о далекой родине, было связано с этим цветком, который здесь упорно не хотел расти таким, как на родной земле.
Однажды Юван и Алекса сидели очень поздно. Наложница китайца, толстая, низенькая Замира, подавала им уже четвертый чайник вина, сердито стуча дверью, а китаец все не ложился.
— Сегодня у нас — «двойная девятка», — сказал он и объяснил: — Это девятый день девятого молодого месяца и праздник хризантемы. В такой день все, кто могут, выезжают в горы, любуются цветами и месяцем. И читают стихи. Единственное, что напоминает мне здесь родину, это любовь к стихам. У нас их посылают любимой, с которой провел ночь и расстался под утро: возьмут и нацепят на веточку цветущей вишни вместо приветствия. — И он прочитал, переведя потом как мог, знаменитые на своей родине строки:
Рву хризантему там, в ограде, к восходу, В темноте ясно вижу Южные горы. И я… вижу… Южные горы…Он упал головой на скрещенные руки, замолчал, мотая косой, заплетенной на затылке. Вошла Замира, закрывшись рукавом, махнула Алексе, показывая, чтобы шел спать. Не раз это бывало уже с ее господином, и она, преодолевая отвращение, приглядывала за этим чужим и непонятным ей человеком, хозяйничала в доме, из которого могли выгнать в любую минуту.
— Может, и правда человек — только гость на земле, гость временный, который сам не знает, для чего он тут? — спросил Алекса у китайца. — Кому нужно, чтобы вы страдали без своей родины, без дома с бумажными стенами и толстыми божками, перед которыми курят травы предки?
— Мне тяжело! — сказал Юван. — Но, видимо, такова воля Неба.
— А может, и не нужно страдать? Может, родина для человека — весь мир, где хорошо, там ему и родина?
— Нет, нет! — возразил китаец. И повторил: — Нет!
Главный смотритель книгохранилища стал мягче к Алексе: каждый день тот приносил ему то гранаты из сада, то яблоки, то удивительные цветы. А может, больше всего его поразило, как брался парень за книги — бережно, как за самое драгоценное и дорогое. Все чаще старик шел досыпать в маленькую пристройку при хранилище, потому что приходил помощник садовника обычно почти на рассвете, чтобы успеть к приходу придворных мудрецов. Те Алексу не любили — шипели вслед враждебно, не раз слышал он «гяур», «неверный». Может быть, эмир забыл о нем, потому что хватало при дворе интриг и борьбы за власть, а если бы вспомнил, мог отменить свое разрешение. Да Алекса не знал, что был при дворе человек, который всегда готов был защитить его, потому что по вкусу ему пришлась дерзость и жажда к знаниям саклаба — славянина. А еще думал придворный шут Самини, что Всевышний испытывает своих любимцев, тех, кому дает больше всех.
Но Алекса не догадывался о защитнике и старался быть незаметным, забытым всеми, будто бы и не существовало для него сильных мира сего.
И в то утро он тихо поздоровался со смотрителем хранилища, поднес ему, как обычно, подарок — отвар травы от кашля, и пошел себе к далеким полкам, чтобы еще раз просмотреть — нет ли там «Канона».
Разворачивая свитки, спрятанные в кожаные, расшитые и украшенные камнями футляры, он неожиданно наткнулся на порванный кое-где пергамент. Прочитал и — не поверил глазам. Это были знаменитые философские трактаты Ибн-Сины «Хайи ибн Якзан»: «Приглашение к путешествию», «Птицы», «О судьбе и предназначении».
Он лихорадочно читал:
«Находишься ли среди братьев моих ты, который хочет сейчас связаться со мною, чтобы узнать мои сокровенные мысли? А может, ты способен сделать мне облегчение, взяв на себя какую-то ее часть?.. Преданная душа не способна вытащить своего друга, если не удерживает в себе какой-то благородный пласт или товарищество, абсолютно безвредное для его друга. Как тебе помочь иметь преданного друга, ежели ты рассматриваешь его как некое пристанище, куда можно прибежать при несчастье, и отказываешься исполнять свой собственный долг в отношении к нему, если он тебе не нужен?»
Он сел, скрестив ноги, прямо около полки, будто боялся потерять время, и читал дальше:
«Самый богатый человек тот, кто осмеливается увидеть завтра, и самый низкий тот, кто будет обманут сегодня своим временем».
А потом он читал трактат о птицах.
«Летят свободные птицы, и одна из пленных птиц, сидящая в клетке, заклинает всем, что есть святого, сжалиться над ней, освободить ее из пут… Птицы освободили ей шею и крылья. Однако ноги остались связанными, ибо и у свободных птиц на ногах — путы, и они ищут того, кто бы освободил их окончательно.
И летят, летят птицы — через семь долин, семь вершин. Устают их крылья все больше и больше, и хочется отдохнуть, остаться в одной из райских долин… Но нет, не там истина, она — у Великого Царя, который живет на восьмой вершине.
Несказанная красота и покой на той вершине, но и сам Великий Царь не дает освобождения.
— Только тот, кто надел кандалы, освободит.
— Кто?
— Догадайтесь.
— Ангел смерти, да?
Молчит Царь…»
О чем это? О каком путешествии, о каких семи вершинах? А путы — о чем это?
А ночью пришла догадка — наверное, это про тело говорил Ибн-Сина. Душа постигает истину, но извечно связана она с телом, со слабостью, с искушениями…
С того времени он жил будто двойной жизнью: ухаживал за деревьями и цветами, встречался с Юваном, но ждал утра, чтобы снова читать и рассуждать над маленькими трактатами гениального ученого, которые так неожиданно попали к нему.
А время шло. Однажды Юван заболел. Сколько ни слушал его Алекса, сколько ни напрягал память, не мог решить, что за болезнь у человека, — глаза обведены синим, пульса почти нет, и сердце бьется неохотно, будто вот-вот остановится. Лекарь из дворца, который лечил мелких слуг, тоже пожимал плечами.
— Умрет он, видимо, — сказал наконец, и Алекса пошел делать свои бесконечные дела, а грусть не покидала его, и на сердце было так тяжело, что он и не заметил, как к нему подошел человек.
Он уже не раз подходил к Алексе, шутил с ним, расспрашивал про былое. Алекса охотно отвечал ему — запомнил сочувствующие глаза придворного каллиграфа Самини, который, однако, мало занимался каллиграфией, а больше развлекал эмира и его придворных. У Самини был редкий дар импровизации и находчивости, о котором в Бухаре даже складывались легенды. Одну из них Алекса вспомнил, глядя на тонкое, одухотворенное лицо Самини, который умел быть беспощадным и злобным, как оса.
Года два назад один из визирей, тайно ненавидя Самини, посоветовал эмиру пошутить. И тот, раздав сановникам по куриному яйцу, призвал каллиграфа и заявил ему:
— Приснился мне сон, что все мои приближенные могут нырнуть в бассейн и достать оттуда яйцо. Но это только те, у кого благородная кровь. Вот и хочу посмотреть, кто из вас достойного рода, а кто — так себе, мусор.
И по знаку правителя все направились к бассейну, и действительно, каждый, кто нырял, приносил с собой яйцо. Один только Самини вынырнул с пустыми руками. Но он не растерялся — тут же присел и закукарекал.
— Чего ты кукарекаешь?
— О владыка! — сказал Самини. — Яйца несут только курицы. Они — вокруг тебя. А я — единственный здесь петух. Откуда же у меня возьмется яйцо?!
Молчали визири, молчал и шутник, даже сам эмир не нашелся что сказать. Но неудачная шутка в тот же вечер стала известна в городе — откуда и как? Самини — единственный среди придворных, кто выбился благодаря своему таланту, а не знатности — был любимцем бухарцев, и сам эмир считался с этим.
— Что с тобой, Аль-Иса? — спросил Самини.
Алекса рассказал про китайца, и смуглое живое лицо бухарца потускнело.
— А знаешь что? — сказал он наконец. — Сегодня я играю с Шамс-аль-Мульком в шахматы. Я все время проигрываю, ибо… эмир — он эмир… Ну, что говорить. Но сегодня я выиграю и попрошу себе садовника. Я бедный человек, я не собираю деньги и драгоценные камни. Мне не откажут. Так что… Если он еще жив, успокой его, мы отправим его домой.
Через несколько дней, имея при себе грамоту отпущения, еще бледно-желтый, но полный радости, Юван прощался с Алексой и Самини.
«А кто отпустит меня, кто отправит отсюда?» — думал Алекса, когда караван, к которому пристал китаец, исчез в розово-сиреневой дымке и смолкло мелодичное позвякиванье колокольчиков, висящих на шее у каждого верблюда.
Караван отправлялся в страну шелка по Великому Шелковому пути, и вооруженные купцы напоминали скорее войско, чем мирных торговцев. Юван, одетый в синий полотняный кафтан, высокую шапку и сапоги, покопался в разрисованном желтым и красным сундуке, достал и протянул Алексе небольшой сверток.
— Если направить это зеркальце в седьмой день первого месяца на человека, можно увидеть, что у него внутри, — сказал он. — Но человек, который берется это сделать, должен быть добрым и отзывчивым. Мне не удалось это сделать ни разу, да я и боялся вызвать духа этой вещи. А зеркальце это старое, эпохи Тан. Нам оно досталось от предков, но тебе, Аль-Иса, я подарю его. Даже если ты ничего не сможешь сделать и оно не послужит тебе волшебной своей силой, то все же я, ничтожный, надеюсь, что сама работа и древность вещи послужат тебе утешением.
И он долго кланялся Алексе, став перед ним на колени, пока начальник каравана не крикнул, чтобы этот чертов сын поспешил.
Заканчивалась зима, глинистые поля подсыхали. Высоко летели журавли. Стоя на пустынной дороге, Алекса чувствовал огромную, бездонную, как это выцветшее небо, тоску и одиночество.
«Еще один человек был в моей жизни и исчез, — думал он. — А сколько будет еще?»
В комнатах Ювана было тихо, шаги Алексы гулко раздались на террасе, где, закутавшись в черное, сидела Замира. Увидев нового хозяина, она встала на колени, сложив руки, ладонь к ладони, под подбородок, — ждала приговора.
— Оставайся, — сказал Алекса, она радостно вскрикнула, склонилась до земли, черные глаза ее заблестели.
Вечером пришел Самини. Потом он начал приходить почти каждый вечер, и Алекса радовался ему как близкому человеку. Рассказывал прочитанное за день.
Но однажды и Самини достал из-за пазухи сверток.
— Это стихи Рабии, — сказал он, — первой суфийки, рабыни, которая родилась в Басре три с половиной столетия назад. Она открыла в человеке духовную силу.
— Зачем мне стихи? — спросил Алекса. — Я не понимаю их.
— Я помогу тебе, — сказал Самини. — У нас, суфий, стихи — это только иносказание. Ты думаешь, что идет речь о локонах — а это мир, иллюзия. Длина кудрей — бесконечность форм проявления бытия. Кольца кудрей — это капкан для неопытной души, а лицо — это и есть настоящее бытие. И он прочитал две строки:
В темной ночи локоном друга, Владыкой влюбленных, стал весенний ветер?А потом засмеялся.
— Подумай, о чем строки? О любви? О нет! О пути к мудрости.
— А ветер — что это? — спросил Алекса.
— Ветер — открытие, постижение истины. Видишь, как сложно?
— Но зачем мне это? — удивился Алекса.
— Если хочешь понимать Ибн-Сину, должен разбираться, о чем он писал. Ты хочешь знать о семи долинах? Это путь к Истине, через поиски, любовь, самоуничтожение — чтобы слиться с Вечным… А Вечное — это Истина.
— Для меня это очень сложно. Я… я не смогу.
— А все сразу не нужно! — засмеялся Самини. — Просто я хочу, чтобы у меня был достойный собеседник. А главное — тот, кому доверяю. О, как горько бывает среди этих сытых, темных душой людей!
— Почему же ты живешь при дворе? — возмущенно спросил Алекса.
— Для того чтобы хоть немного смягчить сердце правителя, а через него — судьбу бедного люда. У каждого — свое дело…
Не сразу признался Алекса, что у него тоже есть своя мечта: записать лучшее из того, что нашел в своих путешествиях, что прочитал, над чем думал эти годы.
— Правильно! — загорелся Самини. — Помнишь, в трактате «Хайи Ибн Якзан» есть место, где говорится, что на пути истины помогают духовные люди — будто бы земные ангелы. Это — поэты, философы, благородные писатели. Есть и другие — те, кто могут разрабатывать теории общества или просто участвовать в практике Справедливости. Слабая сторона поэтов и философов — что они стоят в стороне от практики Справедливости. Зато другие только в Деле и могут развернуть свои способности. Как же важно, чтобы создавали жизнь на земле чистые руки! Если можешь, ты должен нести Словом в мир чистоту и совесть. И об этом тоже говорит наш великий Ибн-Сина. Тебе повезло, что ты нашел трактаты. Их в списках всего несколько. Страшно подумать, что будет, когда новый правитель не сбережет библиотеку, не будет интересоваться книгами. Бери Знания, читай! И я помогу тебе, чем смогу!
…Понемногу раскрывалась душа Алексы в разговорах с Самини. И он думал с радостью о том, что судьба все же милостива к нему — дала встретится с такими людьми, и они не жалеют для него времени и сил. Отплатит ли он когда-нибудь за это?
Однажды он показал Самини, как может увеличивать огонь. Показывал и боялся, — ежели сам не может объяснить, как удается такое, то что же скажет его друг? А вдруг встанет, позовет стражу?!
Самини долго сидел, раздумывая.
— У тебя есть Это, — сказал он и показал на грудь. — У тебя есть сила Духа, недоступная мне. Нет, это не волшебство, Аль-Иса. Когда-нибудь люди узнают, что это только одна из форм проявления материи. Есть вещие сны — не потому ли, что мы каким-то образом прорываемся в Будущее, существующее вечно, как существует Прошлое и Настоящее? Я думаю, что смерти нет. Смерть — это какая-то форма существования той же материи.
— Что ты говоришь! — Алекса ужаснулся. — Только сумасшедший может не признавать смерти!
— Скажи я об этом кому-нибудь еще — меня разопнут на воротах, как Азакира или как совсем недавно — Харакани. Но я говорю только тебе, друг мой Аль-Иса…
После того разговора Алексе стало легче. Да, он правда думал, что дар, которым владеет, — от некоего злого волшебника, который возьмет вдруг да истребует от него нечто страшное, даже, может, душу. А ежели так, незачем бояться. Самини лишь бы что не скажет. Алексе далеко до него…
А однажды Самини принес еще один толстый сверток. И, раскрывая его, таинственно подмигивал Алексе и счастливо улыбался.
— Прочитай и перепиши, если можешь, — сказал он. — Мне дали на очень короткое время. Но ведь — дали…
Это была рукопись «Канона» Ибн-Сины. Алекса глазам своим не поверил, когда прочитал название.
— Несмотря на запрет главного лекаря, книга у нас! — снова подмигнул Самини. — Вот так, друг мой, Аль-Иса.
— Как же удалось достать ее?
Самини не отвечал. Лицо его вдруг стало измученным, будто сразу постаревшим на десятки лет.
— Лучше не спрашивай, — сказал он хмуро. А потом, помолчав, добавил торопливо: — Проклятая жизнь!
И больше ничего не сказал до самого конца вечера.
А дни шли своей чередой: едва начинало светать, Алекса вставал, умывался из черного узкогорлого сосуда, который держала перед ним Замира, завтракал и шел в библиотеку. Иногда лили дожди, было темно и туманно, тогда он зажигал один из бумажных фонариков, оставленных Юваном, и пестрый, яркий свет падал на страницы, над которыми он замирал на три таких коротких и несказанно счастливых часа, а потом шел в сад, занимался растениями, которые выводил на своем участке, слушал приказы нового старшего садовника и управлял своим помощником — хитрым смуглым Расулом. Самини однажды привел в дом молоденькую наложницу — Айдин, и она хозяйничала в доме.
Летом перед дворцом часто бывали публичные диспуты. Мудрецы в высоких белых чалмах, с иссушенными наукой и бессонницей лицами спорили о том, что есть Аллах, говорили о единстве мира единого и мира множественного. Диспуты были многочасовыми, народ не выдерживал, расходился, если ораторы говорили долго и не совсем понятно. Многое сначала не понимал и Алекса, трудными были для него рассуждения — как достичь единства бога и человека, неба и земли, единого и мира множественности, мысли и чувства? Достоин ли человек стоять рядом со Вселенной, равен ли он ей? Что постигает разум? А что — Вера? Любовь?
Алекса смотрел на Айдин, которая копалась около очага, а ночью бесшумно скользила к нему в постель, как покорная рабыня, и чувствовал вину перед ней, ибо сердце его было холодным, как в зимнюю длинную ночь угасшая жаровня. Он был зрелым, сильным мужчиной, виски его серебрились, он мог обнимать взглядом огромный мир и заглядывать в человеческие души — но своя душа будто ускользала от собственного взгляда, расплывалась, тускнела… Ему хотелось дать хоть немного тепла этой женщине, он обнимал ее, и часто шептал ласковые слова, и гладил ее худенькое тело, чувствуя, как бьется сердце под тонкой нежной кожей. А она однажды горько сказала:
— Вы не любите меня, потому не хотите, чтобы я рожала вам детей…
Он сначала удивился, хотел возразить, а потом понял, что это так и есть, что он не хочет ничего, что связывало бы его с этой женщиной. Когда-то он любил, и сердце жило вопреки разуму, но разум взял свое, руководил чувствами и испепелял любой росток, который мог еще взрасти в его душе.
— Тогда уходи от меня, я дам тебе свободу, — сурово сказал он Айдин, но та упала в ноги и, обняв их, плакала так, что он наконец положил руку на ее голову. Однако почувствовал жесткость волос и тонкие косточки черепа и одно смог промолвить глухо: — Оставайся, только не лезь в душу…
И она молчала, только иногда обнимала его, как бесчувственная, и он всерьез думал о том, что пиала с чаем, который она подает ему каждое утро, оттеснив Замиру и сделав ее покорной, может стать для него последней…
Однажды, когда диспут закончился, главный кади Бухары объявил, что за ересь и сопротивление законной власти присужден к смертной казни богослов Рашид из подлого племени саманидов, которые все еще считают себя владыками Бухары.
Глашатай еще раз повторил это громким голосом и прочитал указ. И тут же на минарете, который возвышался над площадью напротив нового дворца, который еще только начал строиться, показались маленькие фигурки людей, держащих за руки человека в белой повязке на лице. Он изгибался и отчаянно отбивался от стражников.
Народ на площади остолбенел: хоть смертные казни были частыми, саманидов не трогали — еще свежа была память об эмире Исмаиле, при котором Бухара стала богатой и известной. Тюрки-сельджукиды, которые совсем недавно пришли к власти, считались с былой славой предшественников, особенно не трогали здесь и богословов, а Рашид был одним из самых знатных и известных.
— Проклятые югуры! — прошептал кто-то рядом. — Невежды, которым хотелось бы сделать такими же и нас, иранцев!
Поймав взгляд Алексы, человек в ужасе закрыл рот, тихо скользнул в толпу.
Алекса хотел уйти, однако было поздно — народ прибывал, из окрестных улиц, услышав весть, бежали ремесленники и торговцы. Толпа уже волновалась, шумела. Прочитав указ, глашатай поднял голову, и в тот же момент судья махнул белым платком.
Какое-то жуткое мгновение казалось, что человек повис в воздухе — халат его широко раскрылся, руки были растопырены… Люди бросились во все стороны — и почти в тот же момент послышался глухой удар и крик, который сразу же захлебнулся, заглох…
Богослов Рашид упал около самых ног Алексы. Череп его треснул и развалился на куски, густая красная кровь быстро поплыла, и бело-розовое месиво, брызнувшее на ноги и халат Алексы, показалось раскаленной лавой, которая прожигает насквозь, до самых костей… Закружилась голова. Расталкивая народ руками, он выбрался из толпы, быстро пошел домой.
Будто отравленного, его рвало долго и мучительно, потом он до ночи пил зеленый кок-чай, удивляясь тому, что ему, воину, который столько видел смертей и горя, стало не по себе при виде мертвеца.
Приходил Самини, но, немного поговорив, ушел, тихо закрыв дверь, тоже удрученный.
Вошла Айдин, начала зажигать бумажные фонарики, закрывать шторами резные решетчатые ставни, чтобы не заглядывали в комнату чужие. Тонкие смуглые руки ее отчетливо вырисовывались на побеленной стене, круглое личико было задумчивым и печальным. Несмело взглянула на него — и опустила глаза, обведенные сурьмой.
Он смотрел на нее не отрываясь.
— Иди сюда, — позвал, и она легко прыгнула навстречу, обвила его плечи руками.
Холод и одиночество в его сердце отступили, он ласкал теплое смуглое тело, чувствуя безудержную жажду жизни, безумную радость бытия, а потом — тихую благодарность и истому…
Эта ночь, когда повернуло на весну и сквозь теплый, влажный туман пробились первые ростки, соединила их. Жизнь стала немного теплее.
Однажды Самини пришел озабоченный и хмурый. Пока женщины суетились, накрывая дастархан, он сидел, изредка вставляя несколько слов.
— Принеси вина! — коротко приказал Замире.
— Может, сыграем в шахматы? — предложил Алекса.
Самини молча покачал головой.
— Что с тобой, уважаемый? — не выдержал наконец Алекса.
— Вай-вай, Аль-Иса, не выйдет из тебя табиба, — укоризненно поиронизировал гость. — Не можешь дождаться, пока сам скажу. А принес я тебе, как черный вещун, нехорошее. — Потом гость разговорился: — Главный евнух получил большой подарок, чтобы просить у эмира твое место для своего родственника. И правда, подумай сам — ты живешь здесь, во дворце, уже три года, а не подличаешь и не гнешься ни перед кем. Дважды я отстаивал тебя, но ведь со мною тоже может всякое случиться… Во дворцах нет справедливости, я недавно прогневал владыку и от палача спасся чудом.
Он жадно выпил пиалу, потом другую.
— Что же мне делать, куда идти? А библиотека? — совсем растерялся Алекса.
— В приюте для престарелых есть место надзирателя. Правда, это место — место тоски и горя, а твое сердце все больше становится похожим на воск, но зато там далеко от придворных и от города неблизко… А главное — там живет мой далекий родственник, человек смирный и богобоязненный, но он умеет вести себя с высшими соответственно… Пока не настиг тебя гнев эмира — а главный евнух умеет вызвать тот гнев, и достаточно сломанного цветка, дождя, того, что любимая наложница чихнула… Аль-Иса, друг мой, иди в приют! Я помогу тебе получить звание табиба-лекаря.
— Но… деньги? Я только начал их собирать, а звание табиба стоит немало, — растерянно сказал Алекса, да Самини перебил его:
— Я дам их тебе… А ты потом, когда разбогатеешь, отдашь…
— Что ты надумал? — тихо спросил Алекса, глядя в упор на друга. Только теперь он заметил, как постарел, обрюзг Самини. Он много пьет, во хмелю молчит и упрямо думает о чем-то.
— Не спрашивай. — Самини остро взглянул в глаза Алексе, махнул рукой, процитировал:
Из-за сыновей горюет тот, кто имеет сыновей. Тот, кто имеет коров, плачет из-за коров. Привязанности приносят людям одно горе. Только тот не горюет, кто ни к чему не привязан.Видишь — царства рассыпались, песками замело камни, а слова живы, и умрут они, когда умрет последний человек. — Самини раскраснелся, разговорился. — У меня нет детей, мои жены бесплодны, как земля в пустыне, — пожаловался. — Я долго думал, за что такая немилость судьбы. А однажды пришла мысль — может, потому, что великий Аллах не хочет, чтобы человек своей мудростью приближался к нему? Он вложил в меня разум, дал голову и глаза, которые видят многое из того, что не видят другие… Люди восхищаются мною, но наш владыка устал от меня, хочет, чтобы каждое слово его принималось будто пророчество… И я, я сам уже хочу, чтобы мои глаза и мой язык были такими же, как у окружающих, которые кричат и славят его мудрость. Но они, мои глаза, видимо, выдают меня, ибо сколько раз, встретившись со мной взглядом, он становился хмурым и отворачивался! Что мне делать?!
В тот раз они засиделись до утра. А через некоторое время Алекса перешел в приют для престарелых, который находился за городом.
Перевез нехитрый скарб, забрал Айдин и Замиру.
В библиотеку он все приходил — Самини вымолил эту милость у эмира. Так продолжалось еще два года.
Но однажды, придя, как обычно, к двери книгохранилища, Алекса увидел в кустах испуганного Расула, бывшего своего помощника.
— Только из-за вашей доброты, ака, жду вас тут, — сказал он. — Уважаемый Самини… — Тут же поправился: — Проклятый Аллахом Самини сказал дерзость великому эмиру, и сегодня ночью его казнили. Приказано уничтожить всех родственников злодея. Берегитесь и вы, ака!
Стуча зубами от ужаса, мальчик исчез. Алекса стоял неподвижно. Потом, едва переставляя тяжелые ноги, побрел прочь. Спохватился, что не спросил у мальчика, где тело Самини, но потом вспомнил — казненных хоронили у старой дороги, сразу за городским мазаром — кладбищем горожан. Ее пересекала новая, мощенная камнями дорога, ведущая к знаменитым яблоневым садам Мульяна, наследство саманидов. Может, сначала поехать домой, удобнее будет закопать горшочек с серебряными дирхемами, которые собирал на дорогу домой? Но нет, Самини он должен похоронить сам, своими руками: «Может, ты вспоминаешь о друге только тогда, когда он нужен тебе? Пусть бережет вас Бог, братья мои, вас, которых объединяет… какое-то божественное единство… вас, которых объединяет голос Правды…»
Он шел к мазару долго — отяжелевшие ноги казались жерновами, вертелся, мелькал в глазах какой-то надоедливый, густой рой мошкары, так что приходилось останавливаться, тереть глаза. На короткое время свет яснел, потом начиналось то же самое. Солнце грело жарче и жарче.
У мазара он остановился. Голубые, выщербленные временем мавзолеи казались прохладными. Нужно было отдохнуть, может, и прилечь на какую-то минуту — трещала, раскалывалась голова. Он прошел за гробницу, на светлых плитках которой повторялся раз за разом полумесяц, — и как провалился в ее нагретую землю.
Проснулся мгновенно и не мог сразу сообразить, где он и что с ним. Почти рядом раздавалось однообразное, тягучее бормотание, шелестела глина, сновали люди. Кого-то хоронили. Видимо, похороны были богатые, потому что покрывало, в которое завернули покойника, было красивое, густо затканное фиолетовым и желтым, носилки — из сандалового дерева, а на мужчинах, которые окружили могилу, были роскошные одежды.
Алекса встал, отряхнул сухую глину со штанов, пошел было с мазара, но не удержался, спросил у сухонького, слабого старичка — может, нищего, может, обмывальщика:
— Кого хоронят?
— Бадию, жену купца Абдурахмана Ахмада ибн-Мухамеда! — ответил тот, моргая слезящимися глазами.
— Кого? — переспросил Алекса и снова бессознательно повторил: — Кого?
Старик, укоризненно глядя на него, ответил снова, а потом, поколебавшись, добавил:
— Ежели ты знаешь купца Абдурахманбека, то помолись за него — он пропал без вести в дальней дороге.
…Горячий ветер неожиданно пробежал по кладбищу, закружил сухую пыль. Алекса затаил дыхание — вдруг приподнимется покрывало, вдруг увидит он лицо Бадии… Нет, золототканое покрывало было тяжелым, ветер не мог даже пошевелить его…
После короткого сна голова прояснилась, но в груди было душно, и Алекса дышал коротко, судорожно, хватая ртом воздух. Тяжело пошел дальше — нужно было спешить.
…Помощник главного палача Бухары и его подручные были на месте — они заканчивали копать могилу, в которую сбросят осужденных. Здоровые, звероватые парни сначала встретили Алексу враждебно, но несколько дирхемов сразу изменили их настроение.
— Хочешь проститься — зачем? — сказал помощник. — Ты же не воскресишь Самини! А так… Видимо, смелый ты человек или обязан ему чем-то, а?
Алекса ничего не ответил, присел около тела Самини, завернутого в грубую рогожку. Голова лежала здесь же, под рукой казненного, глаза у Самини были закрыты, на губах застыла слабая улыбка. Смертельная желтизна не успела покрыть лицо, только заострился нос, да на щеке было кровавое пятно. Алекса поднял голову, поцеловал Самини в похолодевший лоб. На рукава халата неожиданно пролилась темная, почти черная кровь покойника.
Помощник и его подручные тем временем закончили копать яму, начали стягивать трупы, еще раз внимательно осматривая их, чтобы не пропустить чего-нибудь ценного.
— Я похороню его отдельно, — попросил Алекса.
Парни переглянулись, и он отдал им последнюю монету.
Они управились с работой первыми и, сев под чинару, смотрели, как он, тяжело дыша, заканчивал свою работу. Но насыпать холмик земли над покойником не позволили.
— Чем быстрее зарастет это место травой, тем легче попадет он в рай, — сказал помощник, процитировал:
Для горя не ищи себе причины. Тебя ждут худшие мучения. Все те, кого полюбит твое сердце,— Умрут, поверь, они без исключения.Алекса положил лопату, присел около свежей земли.
— Правильно, — сказал он. — Я знаю, что
В этом мире изменчивом цветы все равно завянут. И смерть истолчет всех — такой вечный обычай.Но, — помолчав, добавил он: — Самини был избранным, и мне плохо без него.
Помощник, обмывая руки, засмеялся:
— Молодчина, мусульманин. Жаль, что мы не поговорим больше о Рудаки. Но если тебе захочется самому хоронить своих друзей — приходи!
Они пошли, смеясь, заговорили о женщинах, бросив лопаты под навесом.
Алекса до вечера сидел под платаном, смотрел на землю, которая постепенно подсыхала, становилась твердой, как железо. Осенью пойдут дожди, пробьется трава — она тут гуще, чем где-нибудь, кусты растут будто сами собой… Яблоневым ароматом тянуло от Мульяна, зелень на кустах была свежей, могучей, все бурно росло и красовалось под этим синим бездонным небом… Он смыл с халата кровь Самини, она, разбавленная водой, стекала на землю и тоже навечно впитывалась в нее. О, сколько крови и сколько сыновей своих каждый год принимает земля!
Вечером, когда наконец добрался до дома, он не увидел там ни Айдин, ни Замиры. Враги Самими постарались на славу — убиты были его родственники, убит был бы и Алекса, друг Самини, ежели бы остался тут. Что сталось с Айдин, кто забрал ее — Алекса не стал искать, у кого бы спросить об этом.
В дальней комнате он нашел только зеркальце Ювана, спрятанное под посудой. «Все, к чему прикасались мои руки, будто забирал и куда-то уносил огромный, беспощадный ветер, хоть оно осталось», — горько думал Алекса.
Он знал, что Самини сам захотел смерти, и смерть та принесла несчастье многим, но не упрекал друга — да и как упрекнешь мертвого?
Разграбленный дом, забранные или разбитые нехитрые пожитки, исчезли женщины… Он поднялся, начал ходить по комнатам, потом вышел в сад. Раздался голос Абу-ль-Хасана:
— Он только что был тут! Я видел, как лекарь входил в дом!
Застучали сапоги сорбозов — солдат, они снова обегали дом.
Алекса прыжками уходил дальше, дальше. Спрятаться за старую яблоню. Тьма обрушилась на землю, было только слышно, как бьется сердце. Сорбозы пробежали мимо, держа светильники, красный свет прыгал по саду.
— Ты был его другом! — послышался голос одного из солдат.
— Вай-дод! Нет, ака, я всегда прятался от него, он был волшебником, и я уже говорил об этом! — Голос Абу-ль-Хасана жалобно трепетал в ночи, он кружился по саду, слепо ударяясь в деревья.
— Сбежал, проклятый! — снова сказал начальник. — Как теперь отчитываться за него?
— Убьем кого-нибудь, похожего на него, из нищих, да чтобы не узнали, — предложил один из сорбозов.
— Посмотрим, — прервал его начальник, и солдаты пошли прочь.
Стихло все вокруг, снова стало темно.
Алекса подождал немного — нигде не слышалось ни единого шороха. «Бьют и плакать не дают», — почему-то зазвучала в ушах старая полоцкая пословица.
Он осторожно, стараясь унять бешеный перестук сердца, подкрался к персиковому дереву, на котором нащупал зарубку-примету.
Под этим деревом закопал он глиняный горшочек с дирхемами — научила жизнь беречься от напасти, которая могла прийти в любое время!
Под подвалами дома, в котором жил, прятал кожаный сундучок — там лежала книга, которую он писал в последние два года. Записи из Ибн-Сины, старые заметки о лекарствах и способы лечения, переписанные записи из Платона…
Не дыша, перебрался в развороченный дом, забрал и положил в походный хурджин деньги и книгу — все, что приобрел за долгую жизнь.
Под утро, когда зарозовело небо, под густыми кустами тутовника, чутко слушая каждый шорох ветра, он достал небольшой сосуд с настоем ядовитой травы и обмазал им лицо и руки. Начало жечь кожу, она зачесалась, а потом начала вздуваться до нестерпимой боли… Посмотрелся через час в зеркало — остался доволен. Теперь ему не страшны стражники, не страшны сорбозы, которые охраняют все ворота Бухары.
Закинув сумку-хурджин на плечи, пошел, пряча лицо под платком, повязанным низко, по самые брови.
Стража у ворот, лениво играющая в кости, увидела седого высокого старика, который в хырке — рубище дервишей, босой, шел, закинув хурджин за плечи.
— Ты кто такой? — грозно спросил стражник, но, вглядевшись в лицо, отшатнулся.
— Прокаженный… — зашелестело вокруг, стражники дружно замахали руками, закричали: — Иди, иди быстрее отсюда!
Он пошел через ворота, тяжелые, окованные железными полосами, с узорами, напоминающими закрученные вверх рога баранов.
Последний раз он проходит через них…
Прощай, Бухара-и-Шериф!
Прощайте, голубые, с нечеловеческой красоты узорами мечети, высокие, как трубы во время Страшного суда, минареты, ханаки — дома для путников, базары с грудами пахучих дынь, арбузов, лука — всего, что только растет на свете! Торговые ряды с запахом кожи, лака, с ядовитыми облаками дыма от остывших сабель, парчовыми халатами, ярко блестящими на солнце, со свертками шелка и муслина! Сад, где растут его деревья, его цветы…
Прощай, мазар, где вечным сном под жгучим солнцем спят Береза и Самини…
Где давно пророс травой Нигмат…
Караван шел на Ургенч, мимо Хивы, оставлял в стороне Чач, направлялся к устью Хвалынского моря, к бывшей древней столице хазаров Атель.
Впереди, на осле, ехал староста каравана. Устроились на спинах верблюдов караванщики, купцы. Стража скакала на лошадях — чтобы скорее догнать лихих людей.
Мерно звякали бомы, шли и шли, не останавливаясь, пока не наступит привал, верблюды.
На одном из них сидел Алекса.
Половину серебра из глиняного горшочка отдал он начальнику каравана за то, чтобы проехать до Ателя. Остальное тратил на еду. Ел мало, стараясь, чтобы хватило денег, — знал, как тяжело зарабатывать их теперь, постаревшему, слабому.
Болезни все сильнее напоминали о себе. Что ж, время такое, никому его не минуть.
Ночами, засыпая, вспоминал слова Сократа: «Что ж, видимо, никогда мы не сможем достичь того, к чему стремимся — истины, пока у нас будет тело, пока к душе все время будет примешиваться это зло… Из-за тела нам никогда не удастся ни о чем порассуждать… Поскольку мы хотим узнать о чем-то в чистом виде, нам нужно освободиться от тела и смотреть на вещи только при помощи души. В противном случае никак нельзя приобрести знания.
Или можно их приобрести только после смерти…»
Медленно плыли над головой созвездия — некоторые из них он узнал, еще живя в кишлаке Ширс. И труба, через которую Нармурад смотрел на небо, и таблицы, которые тот покупал в Бухаре за большие деньги, — все было уничтожено завоевателями. Сколько же раз человечество будет повторять все сначала?!
«Земная жизнь — не настоящая жизнь. Это школа, в которой вопросы ставит Смерть». Сколько светлых умов билось и еще будет биться над вечной загадкой бытия и небытия?
Иногда вынимал зеркальце Ювана, задумчиво смотрел на него. Возможно, в нем действительно есть какая-то тайна. Верится, что когда-нибудь разгадает и ее. Может, в зеркальце также есть и какая-то частичка могучей силы Вселенной?
Горел костер, купцы варили плов, звали Алексу. Он вставал, молча ел, почти не слушая, о чем говорят окружающие. Его прозвали молчуном, но смотрели с уважением: на дервиша, вечного странника, больше всего был похож этот высокий старик с острым, блестящим взглядом, от которого хотелось опустить глаза! И он что-то писал тростниковым пером, старательно разводя чернила в бронзовой чернильнице, очищая перо каждый раз после работы. Писал урывками — когда останавливались на привал, когда, заезжая в какой-нибудь город, купцы торговали там, а потом шли дальше.
И это была его Книга — про испытания, через которые проходит на земле каждый человек, только не каждый знает об этом и живет бездумно, как набежит… О человеческом единстве и товариществе, без которых жить невозможно, да и не нужно… О том, что никогда, видимо, он не почувствовал бы, что такое отчизна, родное, если бы не закинула его судьба аж за море Хвалынское…
Менялось время — менялось и все вокруг. Великий водный путь «из варяг в греки» утратил былое значение, торговые пути в Западную Европу сократились и теперь шли мимо Днепра. И Киев, славный, могущественный Киев, уступал другим странам и городам, и сыновья Ярослава Мудрого боролись за киевский престол, воевали с Полоцком…
Узнал Алекса и про походы Всеслава, о том, что хочет полоцкий князь возвысить свою державу и сравнять ее с Киевом. Рассказывали, что сидел Всеслав на престоле киевском, но, бросив его, шел назад в Полоцк, не захотев ни власти киевской, ни стола…
Алекса не знал, какой будет встреча со Всеславом. Может, не простит его князь, прикажет ссечь виновную голову. Может, сошлет в далекий монастырь, чтобы замаливал грех. Но в глубине души надеялся, что прочитает Всеслав книгу и оценит все, что узнал в далеких землях Алекса.
Когда представлял, что книгу, пожертвованную князю, положат вместе с другими книгами, сердце сжималось. Он придумывал узоры для оклада, взвешивал, кому можно отдать его для украшения. Но приходили и сомнения — стоит ли внимания то, что написал? Но ведь сколько рецептов, сколько лекарств собрано в ней. И сколько жизней она спасет!
Жизнь звала его, звала родина — вперед, быстрее, хотя бы успеть!
Когда в первой славянской хате, недалеко от степей, подали ему после умывания вышитый рушник, на котором увидел Мокаш, или Ржаную Бабу, Мать всего живого, — долго стоял, держа рушник, глядя на него, пока хозяин не окликнул, не позвал ужинать.
И снова вспомнил гимны Анахите — тоже Матери всего живого, и удивился тому, что разные на земле люди, но все они родные, близкие в самом главном — жизни и смерти.
Если через степи шел осторожно, боясь тюрков и половцев, которые часто тревожили земли полян, то тут выпрямился. По близкой же, христианской земле шел!
Но когда остановился однажды в селе и сказал, что идет на Полоцк, хозяин не дал ему переночевать — князь Владимир Мономах с войском жег полоцкую землю, и ждал оттуда хозяин богатой добычи, ибо с войском ушли два его сына.
Остерегался теперь говорить Алекса, кто он и откуда. Говорил — путник. И все. Мало ли путников ходит по земле, а кто знает, куда они идут и откуда?
Около Чернигова сел в ладью, которая шла до Друтеска. Оттуда — рукой подать до Полоцка, дорога оживленная. На волоках людей много, работают там целые артели, волокут ладьи на бревнах, салом смазанных. Знакомый до боли путь, этой дорогой ехал, работал веслами — прямо заныли плечи, как вспомнил.
Ладья небольшая, людей мало. Везут в Друтеск плиты мраморные для нового собора. Конечно, теперь не до строительства — времена неспокойные, война. Но закончится же и она когда-то, закончатся смуты княжеские, и снова застучат топоры, а из потайного места достанут мастера плиты гладкие, розово-серые, чтобы вымостить ими ризницу и царское место. Вез мрамор приказчик, вез и все жаловался, что времена тяжелые, а хозяин на деньги позарился, сам не поехал, а его послал, хотя прошло три года, как договорено с друтескими церковными властями доставить мрамор… Может, там никого в живых нет? Может, и не заплатят денег, а завернут его с теми плитами назад?
Молился приказчик, ставил свечи-жертвы Николе Чудотворцу, а на дубе Сворожьем, что около нового селения Рогачева стоит, повесил разноцветные ленты — как оберег.
И все же не остерегся: подъезжали к Друтеску — перехватили ладью разбойники. Ежели неспокойно в державе, люди лихие не боятся наказания — никого, ни бога, ни князя, не боятся.
Речка Друть тут узкая, берега поросли густым лесом, из-за ольшаника, березы и сосны не увидишь берега.
Где, в какой кузнице ковали железный наконечник, который впился в Алексу, когда он стоял на палубе, а сердце его раскрывалось навстречу родным берегам и небу?!
Запели стрелы, заохали гребцы, кто бросился в укрытие, кто за мечом… А Алекса, держа стрелу одной рукой, а другой нащупывая борт, пошел за своим вытертым, выцветшим хурджином — где лежала его Книга.
Разбойники веревками, арканами, как степняки, зацепив ладью, тянули ее к берегу, прыгали внутрь, хватали, рвали, ощупывали…
Главный из них — разгоряченный, звероватый, с беспощадным лицом, иссеченным и покрытым рубцами, прыгнул в ладью, аж затрещали доски, перед Алексой. Схватил хурджин.
Не вырвал — очень крепко держали его.
— Там только книги. Только книги!
Мгновение грабитель смотрел в глаза старика, смуглого, в поношенном, странном халате человека, подпоясанного выцветшим, когда-то цветным платком, который зажимал худой рукой кровь, сочащуюся из-под обломанной стрелы. Другой держал свою суму. На одно мгновение мелькнула мысль — не трогать человека, ибо похож он на юродивого, а им, как известно, помогают высшие силы. Но постыдился того главарь шайки — что подумают о нем другие?
И он, коротко взмахнув мечом, рубанул по руке, держащей сумку.
Сумка упала вниз вместе с отсеченной рукой. Хлынула кровь. Но старик только содрогнулся, наклонился, чтобы схватить хурджин уцелевшей рукой. Его опередили грабители. На покрывало, которое бросили посередине ладьи, полетели исписанные листы пергамента и зеркальце. И две серебряные монеты. И больше ничего.
Звероватый человек, ошалев от злости, ногой подкинул исписанные свитки, и они упали за борт.
И тогда старик, будто подброшенный какой-то силой, кинулся вслед. Ошеломленные разбойники и еще живой приказчик несколько мгновений смотрели, как он, махая окровавленным обрубком, из которого лилась и лилась кровь, схватил свитки здоровой рукой, поднял их над водой, поплыл.
Снова свистнула стрела — впилась сзади в шею. И все же еще несколько долгих мгновений плыл этот удивительный старик, а потом, повернувшись лицом к берегу, что-то крикнул.
И все. И исчез. И только кругом пошла над тем местом краснота…
И тонкий раздался звон — раскололось бронзовое зеркальце.
Было это на самом рубеже полоцкой земли, под Друтеском.
— Что он сказал? — спросил молодой, с красным от браги лицом парень.
— Не нужно было его трогать, отрыгнется нам его жизнь, — настороженно и со страхом сказал самый старый из них.
А главный крикнул:
— Чего повесили головы, хлопцы? Не наш он, не полоцкий! А что жалеть черниговских да киевских? Они наших детей и жен не жалеют! Землю палят, бьют, как чужеземцев!
И тогда убили они приказчика, и остальных гребцов, которые были еще живы и шевелились, а все, что набрали — украшения и слитки серебра и золота, бронзовую оправу зеркальца, выбросив его осколки, — закопали в горшок, обозначили место, чтобы забрать при случае, и пошли ниже по реке — дальше в леса. Но на другой же ладье изменило им счастье — перебили их дружинники, которые плыли из Витьбеска навстречу войску Мономахову…
Поздней осенью вдоль Друти шли из испепеленного, уничтоженного Друтеска старый лирник и мальчик-поводырь. Присел старик — устал.
— Деду, быстрее пойдем отсюда, тут кости человеческие! — затребовал его мальчик.
— И много их?
— Много… Белые все, как выбеленные…
— Так чего же их пугаться? Или ты костей не видел человеческих? Видел и еще видеть будешь… — И он хрипло запел:
Земелька моя болючая! Чье же на тебе проклятье? Стеною вокруг рожь взросла, А некому жати…Старик еще посидел немного, потом поднялся:
— Пошли!
— Дед, а вон, около берега, ладья расщепленная, иссеченная, почти затонула.
— Это, видимо, Нежила со своими молодчиками грешил.
— А почему он людей убивал? — все спрашивал белокурый мальчик.
— Нежила сначала был плотником, а потом отца княжеский тиун засек, а жену и детей в плен взяли, когда три года назад нас жгли чужеземцы. Вот у него сердце и окаменело, в камень превратилось. Утратил он облик человеческий и стал диким разбойником. Зло только зло и рождает…
И они пошли, и старик все пел надтреснутым, слабым голосом:
А на земельке родной Доченьку мать покличет, А только буйные ветры, А только сова кугичит…* * *
Смотрю на серебряный дирхем из отрытого клада, думаю о том, сколько сыновей и дочерей моей земли не вернулось из далеких дорог, погибли, не донесли, не сказали то, что могли бы… А кто и остался чужеземцем, отрекся от нее, соблазнившись чужими богатствами и чужим небом.
Захириддин Мухамед Бабур, основатель династии Великих Моголов в Индии, став царем, вечно грустил по далекой родине и никогда ее не забывал. Это ему принадлежат строки:
В своих блужданиях ни на миг я радости не знал! Тоскует вечно человек по родной земле.Ничего не осталось от полочанина Алексы, в илистых долинах Друти расплылись буквы, которые день за днем, неделя за неделей выводил он, творя свою Книгу. Не осталось и полоцкой летописи, которую писал в монастыре черноризец Никон, не осталось икон, которые рисовала женщина по имени Нелюба, — исчезли они в огне великого пожарища, когда брал Полоцк царь Иван IV, не щадя ни города, ни полочан.
А может, остались — но вывезены в чужие земли, и чужие, равнодушные руки трогают их, листают древние записи?!
Ответит ли нам когда-нибудь на это Время?! Откроет ли свои тайны, чтоб хотя бы внуки наши закрыли своим трудом провалы, зияющие там и сям в ограбленном, окровавленном полотне белорусской истории?
Примечания
1
Крица — плавленая руда.
(обратно)2
Дида — старинное колющее оружие.
(обратно)3
Лезо — лезвие.
(обратно)4
Логны — седла.
(обратно)5
Тявье — стебли.
(обратно)6
Бутрым — упрямый человек.
(обратно)7
Тата — отец.
(обратно)8
Гридни — дружинники.
(обратно)9
Латушки — посуда типа плошки.
(обратно)10
Липец — мед.
(обратно)11
Сыта — сорт меда.
(обратно)12
Сенница — сени.
(обратно)13
Зребные — холщовые.
(обратно)14
Сувой — дорожка.
(обратно)15
Ондорак — крестьянская верхняя одежда.
(обратно)16
Ветах — ущербный месяц.
(обратно)17
Чегирь — звезда Венера.
(обратно)18
Волочанин — надсмотрщик за волоками.
(обратно)19
Святарных — канонических, церковных.
(обратно)20
Седмица — неделя.
(обратно)21
Поруб — место для наказаний.
(обратно)22
Вира — штраф.
(обратно)23
Живот — жизнь.
(обратно)24
Именье — имущество.
(обратно)25
Хитон — плащ (греч.).
(обратно)26
Куна — древние деньги.
(обратно)27
Вой — солдат.
(обратно)28
Таусиные каменья — лабрадор.
(обратно)29
Белун — у славян — старый, сопливый дед, стоит ему вытереть нос, рассыпается серебром. Кроме того, олицетворяет ясное небо и прогоняет тучи.
(обратно)30
Гридница — большой зал, где собиралась дружина и шли пиры.
(обратно)31
Кумган — древний кувшин для кваса.
(обратно)32
Ханум — пани (турк.).
(обратно)33
Джалаба — длинная белая одежда у арабов.
(обратно)34
Бархут — колодец, связанный с адом и заселенный душами неверных.
(обратно)35
Струг — речное судно.
(обратно)36
Хакан (или каган) — так называли на Востоке князей.
(обратно)37
Карачун — злой дух, который внезапно лишал молодых жизни.
(обратно)38
Посадник — городской голова, ответственный за порядок.
(обратно)39
Чин — Китай.
(обратно)40
Пери — красавица.
(обратно)41
Черные клобуки — так называли народ тюрков.
(обратно)42
Нагата — древние деньги.
(обратно)43
Панагия — предмет церковной утвари, знак отличия у духовенства.
(обратно)44
Аланы — предки современных осетинцев.
(обратно)45
Готовизна — запасы.
(обратно)46
Ромей — так называли византийцев.
(обратно)47
Джургень — так называли Ургенч.
(обратно)48
Бакунэ — город Баку, от персидского «бадкубэ» — удар ветра.
(обратно)49
Сабаяк — подставка для посуды.
(обратно)50
Сюзане — панно, украшающее стену.
(обратно)51
Мауляна — учитель.
(обратно)52
Домула — мудрец.
(обратно)53
Зиндан — тюрьма в подземелье (тюрк.).
(обратно)54
Бахрам — так называли арабы планету Марс.
(обратно)55
Коврик крови — коврик, на который ставили осужденных на смерть; чтобы кровь была незаметна, его делали красным.
(обратно)56
Фельс — мелкая арабская монета.
(обратно)57
Вали — начальник городской охраны.
(обратно)58
Таби6 — лекарь.
(обратно)59
Вечный калам — у мусульман существовало предание, что все, предназначенное человеку на земле, записано в вечную Книгу Бытия вечным каламом.
(обратно)60
Ахурамазда — верховный бог в пантеоне древних иранцев.
(обратно)61
Харут — имя ангела, посланного Аллахом на землю и научившего людей волшебству (мусульм.).
(обратно)62
Опонники — от слова «опон» — длинная занавеска из дорогой ткани.
(обратно)63
Фарр — ореол, который, согласно преданиям, окружает каждого человека.
(обратно)64
Джейхун — Амударья.
(обратно)65
Xай, воры-воры! — Бывай, бывай! (тюрк.)
(обратно)66
В европейской традиции Агурамазда, Ормузд — верховный бог зороастрийского пантеона.
(обратно)67
Дастархан — скатерть для гостеваний.
(обратно)68
Из книги «Яшт» — «Гимн Адвисуре Анахите».
(В академическом переводе — «Очищенным, процеженным Заотрой», т. е. священным, обрядовым соком хаомы — прим. верстальщика).
(обратно)69
Аргуван — багряник, дикое горное дерево с темно-красными цветами.
(обратно)70
Дэй — десятый месяц по древнему иранскому календарю (с 3 декабря по 21 января).
(обратно)71
Саклаб — так арабы называют славянских рабов.
(обратно)72
Суруш — у иранцев — добрый ангел, в переносном значении — голос совести.
(обратно)73
Дастур — главный зороастрийский священнослужитель.
(обратно)74
Звезда Денеб, Данаб — звезда Альфа Лебедя. Древние астрологи считали, что она приносит горе, а тот, кто родился под ней, будет несчастным.
(обратно)75
Суфии — секта в мусульманстве.
(обратно)76
Лал — рубин.
(обратно)77
Муштарп — планета Юпитер, которая, согласно верованиям древних персов, благоприятствует мудрости.
(обратно)78
Зухра — планета Венера (перс.).
(обратно)79
Братчина — пир воинов и дружинников.
(обратно)80
Отрар — столица древней Батрии.
(обратно)81
Мурдад — пятый месяц иранского солнечного календаря (соответствует июлю — августу).
(обратно)82
Фарсах, фарсанг — 5,5 км.
(обратно)83
Звезда Кайван — Юпитер (иран.).
(обратно)84
Одно из направлений учения суннитов (мусульманской секты) — путем опьянения достичь единения со Всевышним.
(обратно)85
Зунар — пояс, который обычно в странах мусульманства носили христиане. Одновременно надеть зунар означало отречься от Ислама.
(обратно)86
Иблис — злой дух у мусульман.
(обратно)87
Утарид — планета Меркурий.
(обратно)88
Хашвит — буквально: человек, склонный к пустой говорильне (иран.).
(обратно)89
Каба — халат. Синий цвет — на Востоке символ печали.
(обратно)90
Мехмонхана — комната для гостей.
(обратно)91
Ангра-Майнью — одно из имен демона зла.
(обратно)92
Мифра (Митра) — древнее иранское божество.
(обратно)93
Согласно иранским сказаниям, дела людей после их смерти обсуждаются возле моста Чинват.
(обратно)94
Курок-курпа — свадебное одеяло.
(обратно)95
Хурабат — пристанище гурий.
(обратно)96
На Востоке пользовались для лечения дозой 4,5 г, которую называли мискалем.
(обратно)97
Тандыр — печка.
(обратно)98
Зинджи — на Востоке так называли негров.
(обратно)99
Эти камни — минерал рутил.
(обратно)100
Альмазинадж — альмандин (перс.).
(обратно)101
Халдеи — маги из Ассиро-Вавилонии, показывали таинственное вещество, которое притягивает железо.
(обратно)102
Согласно мусульманскому обычаю покойника хоронят в тот же день до заката солнца.
(обратно)103
Выдержка из Корана.
(обратно)104
Об этом способе оживления пишут многие восточные авторы.
(обратно)105
Кунжут — растение, семя которого напоминает коноплю.
(обратно)106
Ака — старший брат (почтительное обращение).
(обратно)107
Правитель Бухары караханидский принц Хакан Шамс-ал-Мулк (1068–1079).
(обратно)108
Ибн-ал-Мукафа (VII ст.).
(обратно)109
Каик-Баджак — у турок и казахов злой демон.
(обратно)110
Чалму разворачивают, чтобы запеленать в нее мусульманина после смерти.
(обратно)111
Нарджин — нарцисс.
(обратно)112
Аль-Бируни писал, что мечи русской работы украшены «дивными и редкими» узорами и они лучше знаменитых мечей восточных мастеров.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



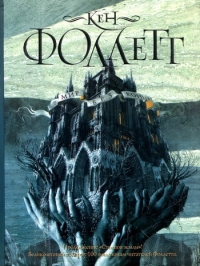
Комментарии к книге «За морем Хвалынским», Ольга Михайловна Ипатова
Всего 0 комментариев