Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой
Из Энциклопедического словаря.
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. 65, СПб 1890.
Граф Толстой Алексей Константинович — известный русский поэт и драматург. Родился 24 августа 1817 г. в Петербурге. Мать его, красавица Анна Алексеевна Перовская, воспитанница графа А. К. Разумовского, вышла в 1816 г. замуж за пожилого вдовца графа Константина Петровича Толстого. Брак был несчастлив, между супругами скоро произошёл открытый разрыв. Восьми лет Алексей Константинович с матерью и дядей А. А. Перовским (позднее попечителем Харьковского университета и известным в русской литературе под псевдонимом Антон Погорельский писателем) переехал в Петербург. При посредстве друга Перовского — Жуковского — мальчик был представлен тоже восьмилетнему тогда наследнику престола, впоследствии императору Александру II и был в числе детей, приходивших к цесаревичу по воскресеньям для игр. Отношения, таким образом завязавшиеся, продолжались в течение всей жизни Толстого. Супруга Александра II также ценила и личность, и талант Алексея Константиновича. В 1826 г. Толстой с матерью и дядей отправился в Германию; в памяти его особенно резко запечатлелось посещение в Веймаре Гёте и то, что он сидел у великого старика на коленях. Чрезвычайное впечатление произвела на него Италия, с её произведениями искусства.
Получив хорошую домашнюю подготовку, Толстой в середине 30-х годов поступил в число так называемых «архивных юношей», состоявших при Московском главном архивном министерстве иностранных дел. Как студент «архива», он в 1836 г. выдержал в Московский университет экзамен «по наукам, составлявшим курс бывшего словесного факультета», и причислился к русской миссии при германском сейме во Франкфурте-на-Майне. В том же году умер Перовский, оставив ему всё своё крупное состояние. Позднее Толстой служил во II отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии, имел придворное звание и, продолжая часто ездить за границу, вёл светскую жизнь. В 1855 г., во время Крымской войны, Толстой хотел организовать особое добровольное ополчение, но это не удалось, и он поступил в число охотников так называемого «стрелкового полка Императорской фамилии». Участия в военных действиях ему не пришлось принять, но он едва не умер от жестокого тифа, унёсшего около Одессы значительную часть полка. Во время болезни за ним ухаживала жена полковника С. А. Миллер (урождённая Бахметьева), на которой Толстой позднее женился. Письма его к жене, относящиеся к последним годам его жизни, дышат такою же нежностью, как и в первые годы этого очень счастливого брака.
Во время коронации в 1856 г. Александр II назначил Толстого флигель-адъютантом, а затем, когда Толстой не захотел остаться в военной службе, егермейстером. В этом звании, не неся никакой службы, он оставался до самой смерти; только короткое время был членом комитета о раскольниках.
С середины 60-х годов его некогда богатырское здоровье — он разгибал подковы и свёртывал пальцами винтообразно зубцы вилок — пошатнулось. Жил он поэтому большей частью за границей, летом на разных курортах, зимою в Италии и Южной Франции, но подолгу живал также в своих русских имениях — Пустыньке (под Петербургом) и Красном Роге (Черниговской губернии), где он и умер 28 сентября 1875 г.
В личной жизни своей Толстой представляет редкий пример человека, который не только всячески уклонялся от шедших ему навстречу почестей, но ещё должен был выдерживать крайне тягостную для него борьбу с людьми, от души желавшими ему добра и предоставлявшими ему возможность выдвинуться и достигнуть видного положения. Толстой хотел быть «только» художником. Одно время Толстой колебался: ему показалось привлекательным быть при государе, как он выразился в письме к нему, «бесстрашным сказателем правды», но просто придворным Толстой не хотел быть ни в коем случае. В его переписке ясно отразилась удивительно благородная и чистая душа поэта, но из неё же видно, что изящная его личность была лишена силы и тревоги, мир сильных ощущений и мук сомнения был ему чужд. Это наложило отпечаток на всё его творчество.
Толстой начал писать и печатать очень рано. Уже в 1841 г., под псевдонимом Краснорогский, вышла его первая книга «Упырь». Толстой впоследствии не придавал ей никакого значения и не включал в собрания сочинений, лишь в 1900 г. её переиздал личный друг его семьи Владимир Соловьёв. Этот фантастический рассказ Белинский, к примеру, принял очень приветливо. В 1854 г. он выступил в «Современнике» с рядом стихотворений, сразу обративших на него внимание. Литературные связи его относятся ещё к 40-м годам. Он был хорошо знаком с Гоголем, Аксаковым, Анненковым, Некрасовым, Панаевым и особенно Тургеневым, который был освобождён от постигшей его в 1852 г. ссылки в деревню благодаря хлопотам Толстого. Примкнув ненадолго к кружку «Современника», Толстой принял участие в составлении цикла юмористических стихотворений, появившихся в «Современнике» 1854—1855 годов под известным псевдонимом Козьмы Пруткова. Юмористически-сатирические выходки Толстого против течений 60-х годов немало повлияли на дурное отношение к нему части критики. Видное место занимают юмористические пассажи и в цикле толстовских обработок былинных сюжетов.
Написанные в народном стиле стихотворения, которыми дебютировал Толстой, особенно понравились московскому славянофильскому кружку. В его органе, «Русской беседе», появились две поэмы Толстого — «Грешница» (1858) и «Иоанн Дамаскин» (1859). С прекращением «Русской беседы» Толстой становится деятельным сотрудником катковского «Русского вестника», где были напечатаны драматическая поэма «Дон Жуан» (1862), исторический роман «Князь Серебряный» (1863) и ряд архаически-сатирических стихотворений о материализме 60-х годов. В «Отечественных записках» 1866 г. была напечатана первая часть драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», которая в 1867 г. была поставлена на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге и имела большой успех. В следующем году эта трагедия в переводе Каролины Павловой была поставлена на сцене придворного театра лично дружившего с Толстым великого герцога Веймарского. С преобразованием в 1868 г. «Вестника Европы» в общелитературный журнал Толстой становится его сотрудником. Здесь, кроме ряда былин и других стихотворений, были помещены остальные две части трилогии — «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870), стихотворная автобиографическая повесть «Портрет» (1874) и написанный в дантовском стиле рассказ в стихах «Дракон». После смерти Толстого были напечатаны неоконченная историческая драма «Посадник» и разные мелкие стихотворения.
Многие «либеральные» критики называли его поэзию типичной представительницей «искусства для искусства», хотя зачисление Толстого исключительно в разряд представителей «чистого искусства» можно лишь со значительными оговорками. Тем не менее литературное творчество и убеждения Толстого вызывали у многих враждебное к нему отношение, и он вскоре почувствовал себя в положении писателя, загнанного критикой. Но «поэтом-борцом», как его называют некоторые критики, Толстой не был; гораздо ближе к истине то, что он сам сказал о себе: «Двух станов не боец, но только гость случайный, за правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими — досель мой жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь».
ПРОЛОГ
учер Степан, вернувшись из недальнего от Воробьёвки уездного города Мценска, куда Мария Петровна посылала его по хозяйственным нуждам, привёз с почты письмо. Было оно для Афанасия Афанасьевича, и Мария Петровна положила конверт на стол в кабинете мужа, чтобы он сразу его заметил.
«Вот обрадуется-то весточке от графа Льва Николаевича! — счастливо подумала Мария Петровна. — Каждая строчка Толстого для него — праздник. Особенно теперь, когда сам с головою ушёл в заботы о поместье и чуть ли не напрочь забыл о писании стихов».
Фет вернулся с полей под вечер, изрядно уставший, с ног до головы покрытый серою дорожною пылью. Но даже не отряхнувшись, а только стянув с головы картуз, прошёл к себе, словно предчувствуя, что его там ожидает, и оживлённо воскликнул:
— От графа Толстого! Что ж ты сразу меня не встретила приятным известием?
— Хотела, чтобы оказалось сюрпризом, — отозвалась жена. — Намаялся, считай, чуть ли не за целый день в бричке, а тут — и привет тебе от графа Льва Николаевича.
— Да не от хозяина Ясной Поляны, — остановил её Фет. — Что от графа и что от Толстого — то верно. Только письмо из Красного Рога, от Алексея Константиновича.
Со Львом Николаевичем Фет был дружен уж и не помнит сколько лет и часто бывал в Ясной. Да и первейший писатель земли русской сам наведывался к нему в Воробьёвку на правах близкого и желанного друга и не такого уж дальнего соседа. Вот почему Мария Петровна ничуть не усомнилась в том, что письмо от него, лишь мельком взглянув на конверт и прочитав знакомую фамилию отправителя.
С Алексеем Константиновичем Толстым сама Мария Петровна, кажется, и не встречалась ни разу. Но вот Афанасий Афанасьевич был с ним знаком, и они не раз видались то в Петербурге, то в Москве, однако друг у друга в гостях так и не бывали.
В прошлом, 1868 году, рассказывал Фет жене, он, будучи в Орле, ночевал в тамошней почтовой гостинице. И, проходя по коридору, вдруг в изумлении остановился перед человеком, шедшим ему навстречу.
Человек тот и сам немало изумился. Однако, промедлив всего секунду или две, они, не говоря ни слова, бросились обнимать друг друга. Постоялец, которому обрадовался Фет, оказался графом Алексеем Константиновичем Толстым, в ту пору возвращавшимся в свои брянские края из какой-то поездки и тоже решившим заночевать в гостевом доме.
— Ну наконец-то я вас встретил, и теперь вы от меня никуда не скроетесь! — Толстой отпустил из своих могучих объятий Фета. — И не возражайте! Прямо сейчас едем на станцию и берём билеты до Брянска. Там выходим из вагона — и к нашим услугам моя коляска. Восемьдесят вёрст до Выгонских дворов и ещё двадцать пять полями и перелесками — и мы в Красном Роге. А там — сказочное раздолье для охоты: поют глухари, токуют тетерева...
— Простите великодушно, милейший Алексей Константинович, но какая же охота на боровую дичь теперь, осенью, когда выводки уже разлетелись?
— Осенью? Ах да! — хлопнул себя по большому выпуклому лбу Толстой и рассмеялся от всей души. — А знаете, почему я смешал осень с весною? Потому что весь май, с самого конца апреля, ждал вас у себя. Разве вы не получали моих писем?
Фет сознался, что дважды приходили к нему приглашения из Красного Рога, но как мог он в разгар полевых работ бросить всё и помчаться сломя голову хотя и к несказанно дорогому приятелю, но всё же не ради дела, а забавы для?
— Вы не поверите, граф, но к Воробьёвке и Мценску я прикован хозяйственными заботами и служебными обязанностями мирового судьи точно кандальными цепями. И лишь к зиме, как нынче, урываю недельку-другую, чтобы съездить опять же по делам в Орел или Москву.
— Так вот теперь аккурат осень, предзимье. Не взять ли себе в качестве отпуска сии две недельки? И ежели не на боровую дичь, то стать на заячью тропу.
— Соблазн велик, — согласился Фет. — Однако тут вот какая докука. Недавно я был на ярмарке. Есть такая знаменитая в наших местах Коренная... Так вот на ней приглянулся мне племенной жеребец для выведения породы. А заодно прикупил и пару кровных жеребных маток. Так что не обессудьте — вон какое «семейство» у меня, можно сказать, на руках.
Граф усмехнулся в свою роскошную бороду и взял с Фета слово, что уж в будущем году не примет в расчёт ни одной отговорки — будет ждать в гости в середине лета. В июне, к примеру, ни ярмаркою, ни работами в поле не отговориться — что называется, мёртвый сезон.
И вот теперь — напоминание о том уговоре:
«Красный Рог, 23 июня, канун Иванова дня, 1869.
Милый, добрейший Афанасий Афанасиевич, ускорьте Ваш приезд... ибо молодые глухари не только летают, но летают высоко и далеко. Теперь самая пора их стрелять. Сверх того, есть полевые тетерева и молодые бекасы и дупели. Уток гибель. Можно за ними охотиться в лодке в так называемом Каменном болоте. Одним словом, не отлагайте Вашего приезда. Есть у меня три акта «Царя Бориса», которые я Вам прочёл бы с наслаждением, и три новые баллады. Я смотрю, и мы все смотрим на Ваш приезд как на праздник.
Semper tuus[1]
Al. Tolstoy.
Маршрут:
1. Брянск.
2. Выгонские дворы (где будут ожидать Вас лошади).
3. Красный Рог (где будем ожидать Вас мы с распростёртыми объятиями)».
Фет пощипал кончик своего длинного, с горбинкою носа. Как быть? Охота — охотою. Но кроме неё поэт зовёт в гости поэта и обещает попотчевать шедеврами своего даровитого пера. Стоит ли отказываться от встречи, как бы он, расчётливый хозяин, ни был прикован к делам?
Стихами Афанасия Фета зачитывалась вся образованная Россия. Близкие же знали его к тому же как человека, сумевшего из ничего сделать своё поместье образцовым, приносящим завидный достаток. Над этою неожиданно проклюнувшеюся способностью незлобиво подтрунивала пишущая братия, в том числе давний университетский товарищ Иван Сергеевич Тургенев, сам, увы, с юности по-настоящему не живший в русской деревне. Ну ладно, то он, парижанин, однако, хочется верить, граф Алексей Константинович ему не чета: вот уж который год, как покинул столицу и обосновался в родовом своём имении.
«Ясную Поляну Льва Николаевича знаю. Он ведает толк в деревенской жизни, сам, можно сказать, стал форменным мужиком. Теперь вот погляжу хозяйство другого Толстого. Не зря сорвался он с царских хлебов в родную деревню, видно, дедовская казацкая кровь взяла верх над дворцовой планидой. Вот и узнаю, что и как у него, вчерашнего царского флигель-адъютанта, а теперь новоявленного помещика», — решил про себя Фет и велел кучеру Степану завтра поутру везти себя на станцию железной дороги.
Как и обещал Толстой, в Брянске на привокзальной площади гостя ждала превосходная графская тройка, запряжённая в коляску-тарантас.
Однако, как вскоре заметил практичный владелец процветающей Воробьёвки, дорога, по которой они пустились в путь, никак не годилась для такого экипажа. Шла она лесом и потому пересекалась древесными корнями, а местами была застлана бревенчатым накатом. На телеге по такой «гармошке» ещё куда ни шло, но как можно здесь да на рессорах? На каждом шагу подбрасывало так, что недолго было вытрясти всю душу.
Меж тем места тут были и впрямь чудесные. Невзирая на некоторое однообразие хвойных лесов, через которые пролегал путь, то здесь, то там взору открывались живописные виды. Густая стена елей порою раздвигалась, давая место озерцу, покрытому водорослями, и оттуда, при громе экипажа, почти из-под самых копыт лошадей с кряканьем вылетали огромные дикие утки. А по временам на высоких вершинах сосен виднелись мощные отдыхающие орлы.
По сторонам дороги леса бежали до самого Красного Рога. И когда тройка уже въехала в тенистую аллею и в конце её показался старинный барский дом, напоминающий замок, тут только лес и отступил. На самом же деле деревья лишь покорно как бы отошли на время в сторонку, чтобы завтра вновь сопровождать путников, когда они отправятся на вожделенную охоту.
Гостя и его спутника, тоже приехавшего с ружьями и ягдташем, граф Алексей Константинович и его милейшая жена Софья Андреевна встретили радушно. Обоих поселили в отдельном флигеле, где они могли, никого не тревожа, подниматься, когда им заблагорассудится, и идти в лес, а равно и отдыхать, когда на то будет их воля...
Однако охота не задалась. Фет сразу определил, что хозяин Красного Рога, несмотря на то что когда-то с великим князем, а затем и императором Александром Николаевичем вдвоём ходили не на одного медведя, в охоте на боровую дичь разбирался не совсем важно. Скорее он полагался на мнение лесных сторожей, не бог весть каких охотников, которые ему и докладывали о том, что окрест дичи развелось — гибель. Когда же эти «знатоки» привели гостей в строевой лес, Афанасий Афанасьевич обнаружил, что никаких тетеревов здесь быть не может. Во-первых, потому, что выводков ищут по кустам и гарям, а во-вторых, потому, что если даже случайно на них напасть, то дичь тут же скроется в вершинах деревьев — и конец.
К тому же время было нестерпимо знойное, и гости довольно рано возвращались домой под спасительную прохладу, так и не обзаведясь ни одним трофеем.
Но под сводами старинного замка все охотничьи неудачи отступали перед гостеприимством милейших хозяев. Право, поначалу трудно даже было выбирать между беседами с Алексеем Константиновичем в его кабинете и разговорами в обществе Софьи Андреевны.
Граф и графиня оказались на редкость увлекательными собеседниками. Алексей Константинович, к примеру, говоря о серьёзных вещах, вдруг неожиданно преображался, и тогда его речь озарялась перлами из Козьмы Пруткова. Софья Андреевна, угощая у себя чаем, поражала тем, что могла часами говорить обо всех видах искусства, включая литературу, живопись, театр, всегда сопровождая свой рассказ тонкими и оригинальными высказываниями. А то тут же оборачивалась к роялю и очаровывала слушателей своею игрою и пением.
Два дня кряду после завтрака граф читал сначала «Фёдора Иоанновича», а затем ещё не оконченного «Царя Бориса».
Сцены были живые, яркие, и новая трагедия обещала стать достойным завершением знаменитой драматической трилогии, начатой ещё «Смертью Иоанна Грозного».
В таком обществе, где кроме знаменитого автора широко известных драм, исторической повести «Князь Серебряный» и многих задушевных стихов находилась и главная Муза его жизни — его супруга, Фета не надо было упрашивать, чтобы и он прочёл что-нибудь своё. Стихи его, как всегда изумительные, теперь, в исполнении их автора, звучали особенно сердечно и вызвали неподдельный восторг.
Меж тем интерес гостя не мог не коснуться и положения дел в имении. Однажды состоялась прогулка в большой линейке по лесным дачам. Всех везла прекрасная четвёрка. По страсти к лошадям, Фет спросил Толстого о цене левой пристяжной.
— Этого я совершенно не знаю, — был ответ Алексея Константиновича, — так как хозяйством решительно не занимаюсь.
Через какое-то время недоумение Фета ещё более возросло. Там, где леса уступали место раздольным сенокосам, гость заметил обилие стогов.
— Зачем столько сена — у вас что, большие стада?
— Да нет, — пояснил оказавшийся рядом управляющий. — Сено накапливается в течение двух, а то и трёх лет. Затем мы сжигаем стога.
— Быть такого не может! — изумился Фет. — Это же всё равно что ассигнации жечь!
Толстой засмеялся:
— Я же вам говорил, любезнейший Афанасий Афанасьевич, что в сельских делах, как бы сказал Козьма Прутков, я ни в зуб ногою...
Открытие сие потрясло Фета: «Так зачем же граф оставил своё положение при дворе и заточил себя в поместье, которым не занимается вовсе, и оно, это поместье, пропадает на глазах?»
Лет семь тому назад до Фета дошло: граф Алексей Константинович Толстой неожиданно оставил службу при императорском дворе и удалился прочь из Петербурга, поселившись в захолустье России. Сразу же пошли самые разные толки о поступке графа, о котором все знали, что он с самых детских лет был в дружеских отношениях с нынешним государем и мог, что называется, в любой день входить к нему в кабинет, никому не докладываясь. Что же заставило его сделать такой шаг — не к трону, о чём мечтают многие и многие, а, напротив, прочь от дружеского расположения царя?
«Блажь!» — был ответ тех, кто сам спал и во сне видел, как бы удостоиться чести быть в близком императору кругу. Знающие добавляли: якобы царь был сильно сконфужен просьбою графа об отставке и просил его не торопиться.
«Алёша, — говорил своему другу государь, — да какие, право, у тебя обязанности при дворе, которые были бы тебе в тягость?»
Неоднократные просьбы графа ни к чему не приводили. «Послужи, Алёша, послужи», — мягко возражал ему царь.
И всё же Толстой решился идти до конца. Он подал официальное прошение:
«Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришёл к убеждению, что прямой путь и здесь, как и во всех других обстоятельствах, является самым лучшим. Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого Провидением, — моё литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен».
И далее: «Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того, чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путём...»
Нет, не укладывалось это в голове ни многочисленных царедворцев, ни тем более в голове Фета. С ним-то как раз судьба сыграла и впрямь злую шутку, против его воли лишив не какого-то баснословного счастья, а просто обыкновенного дворянского звания, в котором он пребывал с рождения и до четырнадцати лет.
Да, до четырнадцати лет Афанасий Афанасьевич носил, казалось бы, законную фамилию отца — Шеншин. Но однажды в частный пансион лифляндского городка Верро, где он обучался, из родительского дома пришло письмо, на котором стояло: «Господину Фету». В своём послании отец сообщал, что отныне сын должен переменить фамилию и в дальнейшем зваться так, как обозначено в письме, — Фет. И никаких объяснений, почему всё так вдруг обернулось.
Мальчик родился и рос в семье богатого и просвещённого орловского помещика Афанасия Неофитовича Шеншина и его жены, урождённой Шарлотты Беккер, с которой он встретился когда-то в Германии и привёз на свою родину.
Но дело было ещё в том, что молодая особа состояла до этого в браке с каким-то мелким немецким чиновником по имени Пётр Карл Фет и оказалась от него беременной.
Вскоре по приезде в Россию она родила мальчика, который в метрической книге был записан сыном дворянина Шеншина. Лишь двумя годами позже рождения маленького Афанасия состоялась свадьба «молодых» по православному обряду, и Шарлотта стала называться Елизаветой Петровной.
Всё вроде уладилось: и жена законная, и сын ещё при рождении уже имел как бы законного отца. Но шли годы, и тайна рождения их первенца тем не менее однажды неожиданно открылась: Орловская консистория признала метрическую запись незаконной. Так наследник русского столбового дворянина и сам уже дворянин, в одночасье утратив фамилию отца, лишился имеете со своей фамилией права на дворянство и даже утратил русское подданство, превратившись в немца-разночинца!
Отцовские чувства меж тем не исчезли у Афанасия Неофитовича, и по-прежнему он заботился о своём первенце. После пансиона Фет окончил Московский университет и, посоветовавшись с семьёй, решил пойти на военную службу, ибо лишь получение офицерского звания могло вернуть утраченное дворянство.
Уже через шесть месяцев на основании университетского диплома Фет мог рассчитывать на производство в первый офицерский чин. Всю свою волю молодой новобранец сжал в кулак, чтобы добиться заветной цели — получить погоны ротмистра, которые и давали право на возведение в дворянство.
Тяжела была служба в кавалерийском полку, а главное — чужда по духу выпускнику университета, к тому же увлечённо писавшему стихи. Отец постоянно высылал деньги, чтобы сын ни в чём не нуждался, чтобы не выглядел белой вороной даже среди самых богатых отпрысков известных семейств.
Вот уж за первыми офицерскими званиями получены погоны штабс-ротмистра, что означало — осталась всего лишь одна ступенька до вожделенной цели.
Но ещё одна лишняя звёздочка на плечах молодого офицера оказалась недосягаемой — вышел указ о том, что право на дворянство отныне может дать лишь чин полковника!
Как ни заставлял себя идти и идти к заветной цели, сжав зубы, пересиливая все невзгоды постылой военной службы, сил всё же не хватило. Фет вышел в отставку, вскоре женился, затем завёл одно, вскоре другое имение. Он был уже известен как талантливейший лирический поэт. Но обида, нанесённая ему ещё в детстве, не уходила, болью саднила в сердце. Ему казалось, что и в среде его близких друзей-писателей на него смотрят как на чужого, не их поля ягоду.
Последнего, скажем прямо, не бывало. Разве могло прийти в голову дворянину Тургеневу или графу Льву Толстому, что, поскольку их любимый поэт и близкий друг Фет по бумагам разночинец, посему они с ним не станут и знаться? Чушь какая-то! Но что можно было поделать с уязвлённым самолюбием...
Наконец он решился на самую крайнюю меру — написал царю. Он тоже решился просить, но не того, что просил у императора, к примеру, граф Алексей Толстой. Отставной гвардии штабс-ротмистр А. А. Фет просил высочайшей милости присоединить его «к роду отца со всеми правами, этому роду принадлежащими».
Лев Николаевич Толстой, которому Фет тут же сообщил о своей радости, ему ответил: «Очень удивился я, получив ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, хотя и слышал... давно уж историю всей этой путаницы; и радуюсь вашему мужеству распутать когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило вас, и, хотя сам не мог понять, чем тут мучиться, чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю вашу жизнь».
Слов «чем тут мучиться» Фет явно постарался не заметить. Царский указ, даровавший ему отныне дворянское звание, казалось, и впрямь стал для него словно венцом всех его жизненных свершений. Он даже не понял, почему самые близкие его друзья, которых он когда-то несправедливо подозревал в некоем отчуждении от него, именно теперь стали как-то насмешливо относиться к тому, что он, известнейший в русской литературе Фет, стал вдруг с особым наслаждением подписываться своим новым именем: Шеншин.
По этому поводу чуть ли не дошло до разрыва отношений с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который якобы где-то неосторожно обмолвился о том, что давно знает прекрасного поэта Фета, но ничего не читал шеншинского.
Фет никогда не заговаривал с Алексеем Константиновичем Толстым о перемене в своей судьбе. Слишком уж полярно противоположны оказались их жизненные поступки.
В конце концов, поведение Фета можно понять. Труднее, должно быть, и теперь понять и принять то, как распорядился собственною судьбою граф Толстой.
В самом деле, много ли в истории найдётся лиц, которым самим фактом происхождения и связей было предопределено место в кругу сильных мира сего, что так высоко ценится среди многих и многих людей?! Но, наверное, ещё меньше в истории тех, кто, следуя велению своего сердца, обрёл в себе силы отказаться от самых искусительных соблазнов власти и оценить самые громкие и соблазнительные звания и чины как ненужную шелуху.
Увы, кроме Ивана Ивановича Шувалова, в русской истории мы не назовём никого. Будучи фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, он нашёл в себе силы, чтобы не пойти проторённым путём «людей в случае», и отказался от графского достоинства, предложенного ему императрицею, не принял от неё в дар ни одной деревни. В истории он остался другом и покровителем великого Ломоносова и основателем Московского университета и Петербургской академии художеств.
Другой человек схожей судьбы — один из благороднейших русских людей, талантливейший поэт, прозаик и драматург, беспощадный обличитель тирании и деспотизма — Алексей Константинович Толстой.
А ведь, казалось, его род, как и он сам, был обязан своим положением в обществе именно тому самому везению, тому самому «случаю», что, как по волшебству, в одно мгновение превращало доныне неизвестных людей в сильных мира сего!
Впрочем, этот роман так и задуман — вся неповторимая судьба героя от самых его корней...
Часть первая ПРЕДТЕЧА
...что за прелесть «Бабушкин кот»! я прочёл
два раза и одним духом всю повесть, теперь
только и брежу Трифоном Фалалеевичем
Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза,
повёртывая голову и выгибая спину. Погорельский
ведь Перовский, не правда ли?[2]
А. С. ПушкинПогорельский... был... лучшим из худших, то
есть, если угодно, очень хороший писателем.
Н. Г. Чернышевский1
два лишь показались деревянные пригороды столицы, сердце предчувственно сжалось и затрепетало. Да нет, ещё ранее, должно быть, уже на последней у границы России маленькой немецкой почтовой станции — аккуратной, чисто прибранной, с цветочными горшками в плетёных корзинах перед окнами, — будоражаще вошла в сознание мысль: впереди — дом!
Что ж говорить о душевном настрое, когда по сторонам дорожной кареты замелькали гранитные парапеты Фонтанки, дородные и затейливые дворцы, на задах которых то там, то здесь виднелись только что распустившиеся сады, и он переступил порог особняка, приметно выделяющегося в линии строений между Обуховским и Семёновским мостами.
От волнения ещё больше стал припадать на правую ногу, когда узрел наверху парадной лестницы матушку и спускавшихся следом за нею девиц.
Сразу даже не сообразил, что это сёстры, за его отсутствие не только выросшие издёвочек, но ставшие совсем невестами.
— Алёша! Живой! — Матушка обняла сына, и он, целуя её, ощутил привкус слёз, которых она не скрывала, хотя счастливо улыбалась.
Он тут же подхватил на руки Ольгу, потом, кажется, Анну, но матушка его остановила и поворотом всё ещё красивой, гордо посаженной головы указала на начинающуюся от лестницы анфиладу:
— К нему, к нему! Давеча спрашивал, когда проездом был князь Репнин[3]: скоро ли тебя ожидать? Так что с нами ещё успеется... А уж его, коли он настроился, не искушай. Ступай, ступай к нему. Всё обойдётся, я чувствую: встал нынче, как говорится, с правильной ноги...
Не заметил, как пролетел одну за другой комнаты и оказался перед резными дверями кабинета.
И как раз здесь, у этих дверей, радостное возбуждение души вдруг сменилось чем-то таким, чему сразу и не подберёшь названия. Оробел? Да нет, тут другое...
Слуга в красной ливрее, почтительно склонившись, уже распахнул дверь, и Алексей Перовский, усилием воли взяв себя в руки, чтобы окончательно не стушеваться, не броситься назад, шагнул, как входят в воду, в полумрак огромного кабинета.
Граф Алексей Кириллович[4] сидел в дальнем конце с краю большого стола — во фраке со звездой, сухой и жилистый. На его тонком и строгом стареющем лице, казалось, не дрогнула ни одна жилка — и только неожиданным блеском вспыхнули умные глаза, когда Алексей, чуть склонившись, припал к узкой, унизанной перстнями руке.
— Будет, будет! — отдёрнул руку граф. — Садись насупротив, к свету. Дай тебя разглядеть.
Взгляд скользнул по стройной двадцатидевятилетней фигуре штабс-ротмистра, затянутого в мундир лейб-гвардейского уланского полка, задержался на Владимире четвёртой степени, Анне второй с алмазными знаками к ней и на зелёном кресте — ордене, особо установленном для саксонцев, отличившихся усердием к России, и для русских, служивших в Саксонском королевстве.
— Ведаю по твоим письмам, и князь Николай Григорьевич сказывал: служил исправно, отмечен самим государем. Однако не смысл жизни — внимание двора. Превыше всех властей человеку должно почитать власть собственного ума и талантов. Остальное — преходяще.
Густо-янтарный огонь в глазах остыл, лицо приняло выражение надменности.
Таким точно, холодным и жёстким, увёз лик графа в своей памяти Алексей, когда четыре года назад покидал этот дом.
Нет, тогда лицо графа было не просто надменным, оно выражало гнев.
А всего-то и явилось причиной неудержного расстройства желание Алексея зачислиться в военную службу.
Не юнцом неоперившимся круто менял судьбу Алексей — вышел из Московского университета доктором философии и словесных наук, начал службу в департаменте Сената с довольно высокого для молодых лет чина коллежского асессора, уже занял место чиновника по особым поручениям — и нате! — эполеты офицера казачьего полка!
Узнав, что дело сделано, граф не сдержал себя:
— Так-то вы платите мне за мою заботу о вас! — Он перешёл на французский язык — как ему казалось, несравненно более выразительный и приличествующий предмету разговора. — В угоду порыву слепого честолюбия вы хотите пуститься в глупую авантюру! Вы неблагодарны, бесчувственны! Всё ваше прежнее послушание — сплошное лицемерие, подсказанное желанием получить от меня имение... Что ж, попробуйте, но в таком случае не попадайтесь мне на глаза и не рассчитывайте на вашу мать...
Алексей вылетел тогда из кабинета пулей — бледный, оскорблённый несправедливостью. Но прежде чем покинуть дом, оставил такое же категорическое по тону, как слова графа, письмо:
«Неужели изъявлением желания переменить род службы заслужил я от Вас столь несправедливую и для меня уничтожительную угрозу, что Вы меня выкинете из дому и лишите навсегда помощи, которую я мог ожидать? Можете ли Вы думать, граф, что сердце моё столь низко, чувства столь подлы, что я решусь оставить своё намерение не от опасности потерять Вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей памяти.
Я думаю, что, вступая в военную службу в то время, когда отечество может иметь во мне нужду, я исполняю долг верного сына оного, долг тем не менее священный, что он некоторым кажется смешным и презрительным...
Я не прошу у Вас ни денег, ни какой-нибудь другой помощи; пускай нужда и нищета меня настигнут, я буду уметь их переносить; одно лишение Вашего благословения может меня погубить безвозвратно...»
И — ни слова о перемене намерения.
Да и как он мог отказаться от своего решения, когда в пределы отечества вот-вот должен был вступить со своими войсками Наполеон? Все споры теперь могло решить лишь время, и посему только что испечённый ротмистр с учёным дипломом занёс ногу в стремя и со своим Третьим Украинским казачьим полком умчался навстречу уже разыгравшейся войне.
Колонны французов осаждали Смоленск, штурмовали редуты у Бородина, затем из сожжённой Москвы устремлялись к Малоярославцу, а неуловимые и быстрые как ветер казачьи эскадроны в партизанских рейдах громили тылы доселе непобедимой армии.
Так с боями полк, в котором служил Алексей Перовский, прошёл по земле Польши, потом вступил в Германию, особо проявив себя в конце восемьсот двенадцатого и летом восемьсот тринадцатого года в сражениях под местечками Морунген и Лосецы, под Дрезденом и при Кульме.
Личным мужеством и храбростью отличился молодой штабс-ротмистр. Но кроме ратных дел навсегда вошло к нему в душу как самое яркое впечатление славное людское содружество воинской семьи.
Ему сразу же пришлись по нраву старая казачья вольность и лихое удальство, храбрость, взаимовыручка и лукавая природная хитрость его новых друзей, окрашенная мягким малороссийским юмором. Так и казалось, что эти свойства — из песен и легенд, от их общего народного корня, от тех предков, что жили когда-то в вольной Запорожской Сечи.
Подражая старым казакам, Алексей поймал себя на том, что и сам стал ходить по земле особенно, вразвалку, избочась, часто сощуривался, как, по его мнению, прилично было вести себя истому степному воину, проводящему большую часть своей жизни в седле.
Нравились кочевой бивуачный быт, пахнущий горьковатым дымком, ловкая смётка, позволявшая казаку в любых условиях чувствовать себя на походе как дома — из пригоршни напиться, если надо, из ладони пообедать.
А какой пронзительной нотой трогала душу подхваченная сотнями голосов песня, когда снимались с ночлега, а впереди стелились неизвестные вёрсты: «Как на грече белый цвет опадае, любил казак дивчину — покидае...»
В такие минуты чудилось, что это вслед ему, юному, статному, голубоглазому кавалеристу, машут платочками и шлют воздушные поцелуи русские и белорусские, польские и немецкие девушки.
Много раз Алексей мог быть убит, особенно под Лейпцигом, когда он оказался в адъютантах начальника Главного штаба князя Петра Михайловича Волконского[5]. С его приказами и распоряжениями он метался с одного фланга на другой, от полка к полку, под градом пуль и в грохоте бомб. А когда смолкла война, его, блестяще владеющего среди прочих языков и немецким, определили старшим адъютантом к князю Николаю Григорьевичу Репнину, назначенному генерал-губернатором королевства Саксонского.
Граф внимал рассказу, казалось, рассеянно, время от времени беря со стола табакерку, на крышке которой с искусной миниатюры глядел амур, вертел её в пальцах, капризно поджав губы.
Лишь снова вспыхнул в глазах янтарь, когда Алексей, перескакивая с пятого на десятое, дошёл до своей поездки в Вену.
— Был перед тем удостоен звания члена российской императорской комиссии для сдачи дел по Саксонскому королевству и для приведения в порядок денежных счетов по сему королевству между Россиею и союзными державами? — спросил граф.
И когда Алексей утвердительно кивнул, уточнил:
— С докладом по сим заботам и посылал тебя князь Репнин в Вену к императору Александру?
— По сему поводу, а более, чтобы спасти доброе имя саксонского королевского банкира Фрегеля.
— Перестаньте насмешничать, Алексис, — оборвал граф. — Высочайшая аудиенция — и судьба какого-то немецкого или, того хуже, жидовского ростовщика... Какое отношение может иметь российский государь император к внутренним делам одного из германских королевств, тем более к чести или бесчестию иноземного банкира?
— Представьте, граф, сей как бы незначительный предмет и оказался причиной аудиенции у государя, — едва заметно ухмыльнулся рассказчик. — Дело в том, что у банкира Фрегеля был обнаружен целый миллион фальшивых русских банкнот, коими, как вы знаете, Наполеон наводнил Европу. Но миллион этот принадлежал не Фрегелю, а саксонскому королю Фридриху Августу. Банкир же как верный его слуга был оставлен сокровища стеречь.
— А за укрывательство мошеннических денег — Сибирь! Не так ли? — вставил граф.
— То-то и оно! Поди докажи попавший в беду, что он выполнял приказание короля, хотя того и след простыл после поражения французов. Единственный, кто мог спасти беднягу, как рассудил князь Николай Григорьевич, — император Александр. Это ведь он, наш государь, подписал вердикт: за сокрытие фальшивых ассигнаций — ссылка. Ну и пришлось мне с бумагами князя мчаться сломя голову из Дрездена в Вену, чтобы получить всемилостивейшее прощение саксонскому финансисту. Но государь не только соизволил помиловать нарушителя закона, а просил передать ему похвалу за верность, с которою тот служил своему монарху.
— Видать, очень приятно Александру сохранять так полюбившийся его сердцу образ императора-ангела. Да и князь Репнин — известный либерал, — капризно произнёс граф. — Однако — Европа! Не у себя в России-матушке приходится бисер метать — перед своими не след расшаркиваться. Важно, что подумает и что скажет заграница. — И без перехода: — Граф Андрей как? Вот кто Европу покорил! Да не прекраснодушными жестами, а свершениями подлинного широкого сердца. Небось и сам Александр не пропускал балов, что давал граф Андрей. Вся Вена, чай, кружилась в его доме?
Видно было: знал и от князя Николая Григорьевича, и от других, что настоящим центром внимания и восхищения русского императорского двора и гостей из союзных держав, собравшихся после войны в столице Австрии, стал в дни открывшегося там конгресса дворец бывшего русского посла Андрея Кирилловича Разумовского[6]. Но приятно было в который раз услышать о заграничном житье-бытье родного брата, которого давно уже вся Вена чтила как своего и величала эрцгерцогом Андреасом.
Только подумать — целых четыре десятка лет стеной стали между ними, братьями! Один — здесь, в столице Российской империи, в зените могущества, действительный тайный советник и камергер, министр народного просвещения, другой — там, за кордоном, отставленный, казалось, напрочь от русской службы, но сохранивший наперекор судьбе на новой родине всё своё влияние и могущество.
А ведь будто вчера это было — граф Алексей Кириллович вспомнил себя и Андрея в окружении других четырёх братьев в учебных классах на Десятой линии Васильевского острова, что открыл для своих детей и ближайших их сверстников из знатных семей отец — президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский.
То была «малая академия», как называли этот домашний институт, учинённый президентом, где обучение вели лучшие умы России во главе с действительным членом Академии наук Августом Людвигом Шлёцером. Два с половиной года длилась учёба в домашнем институте, а затем — пополнение знаний в университетах Франции, Германии и Англии.
После окончания университета в Страсбурге граф Андрей выбрал морскую карьеру и командиром фрегата «Екатерина» под начальством Алексея Орлова участвовал в знаменитом Чесменском бою[7].
Но самая важная, как оказалось, отметина жизни — дружба с юных лет с наследником престола Павлом.
Так они были близки — будущий российский император и образованный, утончённый, красавец юный граф Разумовский, что Павел никому иному, лишь самому близкому другу доверил сопровождать из Германии собственную невесту — Гессен-Дармштадтскую принцессу Вильгельмину, в будущем великую княгиню Наталью Алексеевну. Но только ступила будущая супруга наследника на палубу русского фрегата, как безошибочно поняла, что отныне и навсегда сердце её принадлежит красавцу графу, с царскими почестями принявшему её на свой корабль.
Лишь внезапная смерть великой княгини обнаружила тайну — любовную связь жены наследника престола и самого сердечного его друга.
Тайну эту коварно открыла Екатерина, вручив своему нелюбимому сыну перехваченные ею письма Андрея Разумовского к Наталье Алексеевне.
Императрица направила президенту академии письмо: «Я принуждена была велеть сыну Вашему графу Андрею ехать в Ревель до дальнейшего о нём определения. Екатерина».
То случилось в 1776 году, ровно четыре десятилетия назад. За Ревелем последовала, по сути, почётная высылка за пределы России — назначение полномочным министром и чрезвычайным посланником в Неаполь, затем в Копенгаген, Стокгольм и, наконец, в Вену. Воцарившийся к тому времени Павел вспомнил своего бывшего друга и повелел вернуть того в Россию с приказанием находиться ему безотлучно в имении отца своего, в малороссийском городе Батурине.
Лишь Александр, взойдя на престол, возвратил графа в Вену, восстановив его в прежней должности посла. Но через пять лет, в 1806 году, русский дипломат, непримиримо разоблачавший захватническую политику Наполеона, по настоятельной просьбе самого французского императора вновь получил отставку. Однако Вену на сей раз не покинул, остался в ней частным лицом и, как говорили венцы, обрёл в их городе славу самой заметной достопримечательности.
Алексей не однажды за свою службу в Саксонии наезжал в австрийскую столицу и всякий раз был принимаем радушно, по-родственному Андреем Кирилловичем. И всю минувшую зиму он вместе с Репниным и его семейством провёл у графа. Впрочем, уже у светлейшего князя — этим титулом император Александр вознаградил Андрея Кирилловича Разумовского за его многолетнюю службу и деятельное участие в Венском конгрессе держав-победительниц.
В те дни, вспоминал сейчас Алексей, дворец «эрцгерцога Андреаса» оказался действительно в центре внимания всей Вены. Двери его и днём и ночью были распахнуты настежь, из окон лилась музыка, экипажи занимали всю улицу, которая вместе с прилегающим к ней мостом носила имя Андрея Кирилловича. И мост, и улица были построены на его деньги.
Впрочем, русский вельможа был известен в австрийской столице не только как баснословный богач, но и как отлично разбирающийся в искусствах меценат. Собранная им картинная галерея считалась чуть ли не лучшей в Европе, в его гостиных играли самые знаменитые музыканты. Он гордился своей дружбой с Бетховеном, и гениальный композитор посвятил русскому графу две своих симфонии.
Какая гроза разражалась над головой Андрея Разумовского, как горька и несправедлива была немилость, но ничто не могло сломить его независимую, ни перед кем не заискивающую натуру. В итоге не забвение, а признание и любовь стали ему наградой.
Правильна говаривал когда-то отец, президент академии и гетман Малороссии, один из самых могущественных и влиятельнейших людей при дворе[8]: «Знай наших!»
Но будет, будет об этом! Лучше вспомнить что-нибудь эдакое, с закавыкой.
Не скрывая удовлетворения, переспросил Алексея: то правда ли, что в доме у брата Андрея, когда бал или какой-либо иной раут, одних свечей сгорает на двадцать тысяч?
То-то, не во всяком королевском, а то и царском дворце такой размах!
Однако пустое и это — вдруг оборвал себя. Надо жить не ради утех тебя окружающих, не для молвы людской, хотя и приятной, а для праздника собственной души. А она, душа, с годами всё более бежит всяческой суеты. Да и гордость врождённая велит не растрачивать сокровищ ума и сердца.
— Намерился просить отставки, — сказал как о давно решённом.
От неожиданности Алексей переспросил:
— Это как же? Право, в ваши годы и с вашими ещё силами...
— Уговорить намерен? Полагаешь, что теперь твой черёд определять мою судьбу? — Жёсткость вновь собралась в лице, да тут же отступила. — Ныне тебе мешать не стану. Определишься, куда надумаешь. Об одном лишь хочу желать — чтобы был рядом.
2
— И не упирайся, ты даже представить себе не можешь, какой сюрприз ожидает тебя в моём доме, — Уваров держал Алексея под локоть и настойчиво подталкивал к экипажу.
На Карповке, когда приехали и вошли в гостиную, глазам не поверил: Жуковский, Вяземский, Александр и Николай Тургеневы собственными персонами!
— Батюшки! Да это настоящее чудо!
И они — гурьбой, тоже обрадованно — бросились навстречу:
— Перовский! Какими судьбами? Прямо из Германии? Ну наконец-то. Нашего полку, как говорится, прибыло.
Слово за слово — и не успокоиться до утра, если б не Уваров на правах хозяина:
— Господа, господа! Пора начинать заседание нашего «Арзамаса»[9]. Кого облечём правами председателя?
— Конечно, нашего милого князя, — предложил Александр Тургенев. — Пётр Андреевич нынче из Белокаменной — так что прямо с корабля па бал.
— Спору нет, Вяземского, — поддержал Жуковский. — Он грозился ещё в письме ко мне новые стихи привезти, вот и послушаем.
Вяземский встал с кресла — песочного цвета чуб дыбом, нос насмешливо вздёрнут. А тут ещё надвинул на голову откуда-то взявшийся пёстрый колпак — ну чистый петух, изготовившийся к бою.
Оглядел всех из-под очков — и грянул:
В комедиях, сатирах Шутовского Находим мы весёлость словаря, Затейливость месяцеслова И соль и едкость букваря. Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь. За неудачами от неудач спешишь; Комедией друзей ты плакать заставляешь, Трагедией ты зрителя смешишь.Не успел закончить чтение Вяземский, грянули рукоплескания, возгласы одобрения и дружный смех.
Нетрудно оказалось догадаться, что эта острая эпиграмма — ловкая проделка.
Да, они не переменились, друзья, подумал Алексей Перовский, так же горазды на розыгрыши и шутки, как в юные годы в Москве. В ту пору и он слыл насмешником отменным — готов был высмеивать кого и что ни попало. Однажды пришёл к ректору Московского университета и председателю Общества любителей российской словесности[10] Антонскому и с самым серьёзным видом вручил стихи:
Абдул-визирь На лбу пузырь Свой холит и лелеет... А Бонапарт С колодой карт В Россию поспешает... А в море кит На них глядит И в ноздрях ковыряет...«Трижды Антон», как звали студенты ректора, поскольку он был Антон Антонович Прокопович-Антонский, старался объяснить молодому поэту, что на листке — чушь, чепуха, чтобы именоваться произведением изящной словесности. Но Перовский настаивал на том, чтобы прочесть своё сочинение на первом же заседании общества.
Ректору посмеяться бы или, наконец, выставить назойливого проказника, но он, должно быть, целых полчаса продолжал смущаться, краснеть и запинаться. Видно, не в последнюю очередь его испугало соображение — как бы не вызвать гнева самого министра просвещения: ведь министр не просто высокий покровитель Перовского, а лицо ему кровно близкое...
Но то — студенческие проделки. А что означает нынешнее шутейство?
Вяземский прочёл ещё несколько стихотворений-эпиграмм — как он выразился, целый «поэтический венок Шутовскому за многие его подвиги».
Перовский понял, что высмеивался известный драматург и театральный деятель Шаховской Александр Александрович. Но за что?
Уваров[11] сидел рядом, объяснил:
— Прошедшей осенью на театре давали комедию этого драмодела «Урок кокеткам, или Липецкие воды». И вот представь: является на сцену какой-то шут по имени Фиалкин и что-то лепечет насчёт баллад, гробов и привидений. Ну, публика не дура: да это же высмеивается наш первый и славный поэт Жуковский Василий Андреевич! Тут мы и решили дать бой и Шаховскому, и всей «Беседе любителей русского слова»[12], которая вместе с этим комедиографом составляет супротив нас целый лагерь.
Вяземский — разгорячённый, раскрасневшийся — подхватил:
— Вот он, Жуковский, был против, заскромничал: а стоит ли? Так ведь?
Застенчивая улыбка появилась на лице Василия Андреевича:
— Боже упаси, не делайте из меня идола. Разве только во мне дело?
— Вот тут ты прав! — подхватил Вяземский и оборотился от Жуковского к Перовскому: — Поначалу стрелы наших супротивников летели в сторону Карамзина: и слог у того не тот, и вместо древних славянских какие-то заморские слова употребляет. Наступление начал первым адмирал Шишков — ты, Алексей, помнишь. А затем пошло-поехало — целый сонм «очистителей русской словесности» против нас, карамзинистов. Я и скажи тогда: поглядите, други, на членов «Беседы» — как лошади, всегда в одной конюшне, по чести, даже завидно, на них глядя. Когда же мы заживём по-братски: и душа в душу и рука в руку? Тогда-то и объединились в пику «Беседе» в своё общество, на заседании коего ты и присутствуешь, мил друг.
Сергий Уваров откинулся на спинку кресла — лицо значительное, с глубоко посаженными глазами.
— А я, представь, предложил наречь общество наше именем «Арзамаса».
Что-то, видимо, хотел вставить Жуковский — подался вперёд, слегка улыбаясь, — но его опередил Тургенев Александр:
— Название скорее пошло от Блудова[13], если быть точным... Блудов как-то застрял на почтовой станции в городке Арзамасе, и там, коротая ночь, пришла ему на ум сатира против членов «Беседы». Ну а назваться «арзамасцами» после прочтения блудовской эпиграммы, это верно, предложил Сергий...
Оказалось, сегодня собрались не все члены «Арзамаса». Их куда больше. Зачислены в общество и проявляют отменное служение общему делу поэты Батюшков и Пушкин Василий Львович, генерал Михаил Орлов, Денис Давыдов, Никита Муравьёв... Так что если все соберутся — то-то будет!
А колпак на голове председателя — это, знать, атрибут ритуала? Конечно! А ещё подаётся на собраниях жареный гусь, обязательно арзамасский!
Как раз приглашают к столу — вот он, румяный, обложенный яблоками, — пальчики оближешь.
Когда уселись за стол, открылась ещё одна особенность — у каждого члена «Арзамаса» своя кличка. Жуковский прозывается Светланой, Вяземский — Асмодей, Уваров — Старушка, Орлов — Рейн, Блудов — Кассандра, братья Тургеневы так: Александр — Эолова Арфа, а Николай — Варвик...
Знакомые имена? Ну да, все они из баллад Жуковского. Кроме, пожалуй, одного — прозвания Вот, которым окрещён Василий Львович. Почему? Всякий раз, когда кончал, бывало, на собраниях свою речь очередной оратор, Пушкин, до этого мирно дремавший, вскакивал и громко произносил: «Вот!» Дескать, и он точно такие же слова хотел высказать, мол, полностью с выступающим согласен.
За столом Перовского усадили между Жуковским и Вяземским, и друзья о многом всласть наговорились.
Как обрадовался Алексей, когда узнал, что Василий — отныне тоже петербуржец! С прошлого года он определён не куда-нибудь, а ко двору. Сначала был чтецом при императрице Марии Фёдоровне, а с недавнего времени — наставник в российском языке при великой княгине Александре Фёдоровне.
— Пора и мне перебираться к вам в столицу да обосновываться на службе, — сказал Вяземский. — Не житьё в Москве — денег нет. В младые лета, как вам известно, я уже успел на одних картах «прокипятить» полмиллиона отцовских средств. Так что слёзно молю дражайших Тургеневых, чтобы и мне какую-никакую службицу приискали. Сам, право, не ведаю, куда приткнуть свой страннический посох — от политики до дипломатики и от Архангельска до Мадрида бродит моё воображение. Нынче же решил с моим наставником Николаем Михайловичем совет держать по сему поводу. Ба, да ты, Алексей, верно, не ведаешь, что Карамзин здесь, в столице? Я ведь у него и остановился. Обрадуется тебе несказанно, если объявишься у нас днями.
3
Во второй половине мая 1816 года, когда пропылённый дорожный дормез Алексея Перовского пересекал Нарвскую заставу, с другой стороны, московской, в столицу въезжал поезд Карамзиных.
Так и хочется написать: «в тот самый день». Но сохранилась дата приезда Карамзиных, об Алексее же известно, что он вернулся из-за границы весной, скорее всего в том же мае — следовало пускаться в путь, когда подсохнут дороги...
Поезд Николая Михайловича составлял карету, в которой двигался он с семейством, и обоз, состоявший из нескольких телег с поклажей. То был домашний скарб — кое-что из фамильной мебели, узлы с одеждой и посудой, отдельно — провизия на весь вояж и самое драгоценное, за чем хозяин особо держал глаз, — ящики с тетрадями и плотными кипами исписанных бумаг. Имущество, которому, собственно, и не было цены, — рукописные восемь томов «Истории государства Российского».
Тринадцать лет потратил писатель на свой тяжёлый затворнический труд, и вот пришла пора явить его людям.
Петербург оказался ему непривычен и даже чужд. Прикинул: по самым скромным подсчётам — не менее четырёх тысяч рублей за наем квартиры, за карету в месяц — ещё пятьсот да семьдесят — лакей и шестьдесят рублей — «на пищу двум человекам»... Разор. А доходов — почти никаких.
Но надо всё превозмочь, лишь бы устроить в печать своё детище, а там — назад, в любимую и дорогую сердцу Москву.
Дни потянулись друг за другом, потом — недели.
Царь, когда-то сам благословивший писателя на сей патриотический подвиг духа и определивший ему казённое место историографа с жалованьем, чтобы хотя бы о пропитании не беспокоиться, — не принимает.
Страшно, если придётся возвращаться ни с чем. И уже приготовлено решение: «продать часть имения и жить по-мещански».
Александр же меж тем устраивает дело так, что сначала пропускает историографа через Аракчеева[14], будто щупает его змеиными глазами всесильного солдафона. Наконец и сам удостаивает... Шестьсот тысяч рублей выделяет на печатание «Истории» в военной типографии и официальную цензуру заменяет личным царским доглядом. А кроме того, жалует историографа чином статского советника и Анной первой степени.
При всём соблюдении придворного этикета Карамзин не скрывает своего безразличия к происходящему в Царском Селе: «Не моё дело умножать число аннинских кавалеров...» Но главным доволен — будет издана «История»!
Отныне он весь — в распоряжениях по типографии и держании корректур.
И как предыдущие долгие годы затворнического летописания — во имя этого же летописания, — строго размеренные дни.
Утром непременный час прогулки — в городе пешком, в Царском Селе — верхом. В любую погоду. Если, к примеру, ветер или дождь — под сюртук на грудь толстую тетрадь, чтобы не просквозило.
После прогулки чашка кофею — и до обеда, который в четвёртом часу, корпение над бумагой.
Вечером лишь можно отойти от времён минувших, что в звуках, красках, в ярких картинах, вызванных точным знанием и художническим воображением, теснятся в голове.
Вечером даже очень необходимо отойти от дорогих и мучительных видений, чтобы себя раньше срока не изнурить, дотянуть до томов, которые уже наметил.
Читают с женою Екатериной Андреевной вслух что-либо для отвлечения, принимают редких гостей.
А самые заветные мысли тем не менее — о Москве, которую и покинул ради того, чтобы вывести в люди труд жизни, как выводят в свет любезное дитя.
Москва мнится, не отпускает.
Потому и пишет друзьям, оставшимся в Белокаменной:
«Скажут, что я ветрен, что мне худо при дворе: улыбнёмся или пожмём плечами. Двор мил как ангел, но мы философы: так ли? Оставляя всё другое другим, будем усердно заниматься корректурами и воображать, как года через два купим себе в Москве домик, а близ Москвы дачу, где насадим гряд десять капусты, огурцов, душистых трав, от времени до времени спрашивая, что делается у вас в Петербурге, у двора, где и мы в старину бывали, как ворона в высоких хоромах! Весело, весело; а для этого надобно было съездить в прекрасное Царское Село!..»
Помимо зимней квартиры, которую Карамзины наняли близ Литейного двора и Невы, в Царском Селе по распоряжению царя для Николая Михайловича с семьёй специально отделан летний китайский домик в парке и во флигеле рядом — крохотный кабинет.
Тут и нашли Вяземский с Перовским анахорета[15].
Перовский огляделся в маленькой комнатке: окно, стол, несколько стульев и всюду — на стульях, на полу, на подоконнике — исписанные листы и книги.
— Вот здесь и обрела приют вся многовековая история государства Российского! — по своему обыкновению пошутил Вяземский.
— Почти такая же «келья», как и в подмосковном Остафьеве, где история зарождалась, — в тон добавил Перовский.
— Не забыли? Помните? — живо отозвался Карамзин, причём лицо его так по-молодому озарилось, будто это не ему совсем недавно стукнуло полвека.
Да и впрямь разве уж так давно было — Москва, Остафьево и они, горячие и совсем юные, в спорах и рассуждениях о путях русской словесности? И с ними рядом — он. Патриарх. Кумир. Живая слава литературы российской.
Пожалуй, никому ещё до Карамзина не выпадала такая судьба — однажды утром проснуться всероссийски знаменитым.
И свершилось это, когда к читателям вышла «Бедная Лиза».
До той поры русский человек — всё едино: образованный барин или мало-мальски грамотный простолюдин — читал на родном языке о головокружительных авантюрах непонятно к какой жизни принадлежащих героев, смаковал вслед за автором дурно пахнущие любовные истории, спешил за сюжетным хитроумием анекдота, выдаваемого за действительные случаи из жизни.
«Бедная Лиза» открыла бытие чистой и светлой человеческой души, напомнила вдруг об истине, о которой доселе даже и не задумывались: самое сильное в человеке — человеческое, что роднит всех людей.
Иными словами, трагедия простой крестьянской девушки, способной на любовь самоотверженную, впервые вызвала слёзы сочувствия и сострадания, заставила многих спросить себя: а не принёс ли ты своим жестокосердием кому-то зла, довольно ли сам знаешь свою душу, всегда ли можешь отвечать за собственные поступки и всегда ли рассудок есть царь твоих чувств?
Мало сказать, что повесть вывела на сцену нового героя, она явила и новый, чистый и свежий язык, которым до этого почему-то не писали, но который — суть язык жизни народной.
Сразу Карамзин сделался кумиром целого поколения: ему начали подражать в прозе и стихах, писали продолжения якобы его собственных сочинений.
Не миновал сего искушения и Перовский. Восемнадцати лет, поступив в Московский университет, он влился в поток студентов, щедро и самонадеянно испытующих свои безгранично молодецкие силы в сочинении всевозможных идиллий под Карамзина.
Но вскоре взялся за дело серьёзное — за перевод «Бедной Лизы» на немецкий язык.
Вместо робкого скольжения по поверхности — решительный нырок вглубь, чтобы достичь самых донных ключей, питающих реку!
Не так ли из подмастерий становятся мастерами — трудно, по шажкам повторяя виртуозные движения тех, для кого они привычны, уже давно освоены?
Во всяком случае, убеждённо считал, что «Бедная Лиза» — лучшее, что есть сейчас в литературе, на чём можно учиться и что должно с гордостью показать иностранцам. Иначе, с его знаниями языков, наоборот, взялся бы перекладывать на русский что-либо с германского или французского...
С чем можно сравнить радость от того, что в твоих руках книжка, каждая строчка, каждая буква которой, прежде чем стать оттиском литеры, выведена твоим пером?
Шершавая бумага ещё не разрезанных страниц пахнет типографской краской, но сладостней нет для тебя запаха, от которого счастливо кружится голова.
И пусть на титуле значится: «Сочинение господина Карамзина», — твои знания, ум и талант в сей книге.
И — твои ночи без сна, долгие часы дневных — не разгибаясь — бдений.
Не просто — слово к слову — повторял творца. Вслед за автором ты, его сотоварищ, глубоко прочувствовал всё, им первоначально изведанное, и комок не раз подступал к горлу, когда ты вслед за писателем переживал страдания бедной Лизы.
С детства не был избалован лаской. Да что там — не приучен подчас слышать даже простой благодарности или даже поощрения от тех, от кого ждал. А тут вдруг захотелось — хоть словечко по поводу свершённого труда!
Но чтобы гласно, открыто, а не так, как все годы в его жизни.
Снова раскрыл книжку. На титуле типографской затейливой вязью — посвящение: «Его превосходительству г-ну тайному советнику и действительному камергеру графу Алексею Разумовскому».
Господи, когда писал ещё на черновике, обливался слезами, думая о том, кому посвящал сей труд, кого обстоятельно величал всеми титулами.
А надобно было всего одно слово — «отец» — вместо этих громыхающих, как железные листы, казённых званий!
Но — не мог. Не имел вроде бы никакого права гак естественно и просто назвать человека, которого любил и который дал ему жизнь.
Так что ж, всегда так — носить в себе и никогда не выразить, чем полна твоя душа, какие чувства зреют в её недрах?
Хоть ему-то, Карамзину, сказать, с каким волнением и страстью переводил его шедевр, как благодарен за высокие чувства, что вызвал он, писатель, своим чудесным творением.
До того дня он встречал Карамзина, должно быть, не раз — у дяди, графа Льва Кирилловича.
С какими именитыми людьми не водил знакомства известный на Москве владелец Петровского-Разумовского! И конечно, сам гордился тем, что коротко знаком с сочинителем Карамзиным и с ним в дружбе.
Говорун и хлебосол, добрейшей души человек, Лев Кириллович признал и открыто принимал у себя племянника. Надо думать, и Карамзину представил молодого, подающего надежды в науках, особенно в словесных, человека.
Но как могли установиться отношения между восемнадцати- или девятнадцатилетним студентом и сорокалетним маститым писателем?
Потому, надо думать, через каких-нибудь два года, в начале 1808-го, когда вышел перевод «Бедной Лизы», знакомство состоялось как бы заново.
Конечно, не в летах тут было дело, не в возрастной разнице. Просто робость схлынула. Но не самонадеянности — надежде уступила место: для пользы российской словесности сойтись...
Николай Михайлович с благодарностью принял подносной экземпляр. Сам отменно искусный в немецком, с ходу пробежал страницу-другую. Не мог не похвалить. И когда заметил, что коллега залился пунцовым цветом, взял под руку, мерно прошёлся по гостиной, так, вроде о разных пустяках болтая, и только уж затем дал возможность высказаться юноше о его литературных взглядах.
Оказалось, у молодого человека обширные знания и вкус отменный, недаром вышел из университета с учёной степенью.
— Ведома вам квартира Антонского при университете? — как-то даже по-дружески, не чинясь, подмигнул. — Не возражаете, если заглянем туда на неделе, познакомлю с Жуковским. Читали?
— Да это ж чудо — «Сельское кладбище» и всё другое! Так и кажется: от вас, от ваших «Писем русского путешественника» поэт пошёл...
— Ну, скажете! — пожевал губами Николай Михайлович. — А впрочем, о том и поспорим...
Высокий, с мягкими манерами, круглое, чуть шафранового оттенка лицо с едва заметным восточным разрезом глаз — Жуковский. На четыре года старше Алексея, в 1800 году закончил университетский благородный пансион, а теперь — редактор «Вестника Европы»[16].
— Николай Михайлович передал своё детище, покинув журналистику ради новой возлюбленной — Клио. Но сумею ли я заменить в журнале Николая Михайловича?
— Если не в журнале, то в литературе наверняка. И не замените, а превзойдёте, мой милый друг! — серьёзно произнёс Карамзин.
Стали часто встречаться, и компания разрослась — объявились — тоже недавние питомцы университетского пансиона — братья Тургеневы.
А затем присоединился брат карамзинской жены, Екатерины Андреевны, — князь Пётр Андреевич Вяземский.
Князю шёл семнадцатый год. Был он жердеобразен, в очках, на слово колюч, так и пытался сыпать каламбурами.
В трёхкомнатной квартире Жуковского, которая служила и редакцией журнала, допоздна пили чай, добавляя в него красное вино, и болтали о литературе до самых, считай, петухов.
Сам Карамзин стал появляться всё реже — не отпускала Клио, которая оказалась дамой властной и однолюбой.
Тогда поднимались и ехали в Остафьево, где в родовом доме Вяземских, в комнатке на втором этаже, сидел Нестором-летописцем шурин молодого князя.
Шурин был одет с иголочки, как на парад — камзол, башмаки, волосы причёсаны будто у самого модного парикмахера. Ждал гостей?
Лишь застенчивая, летучая улыбка на лице выдавала: помешали, но не гнать же вас, чертей, очень любы вы мне, молодые...
Ну вот, почти такая же, как в Остафьеве, комнатушка и здесь, в Царском.
И, как в Остафьеве, Николай Михайлович — при полном параде.
У Перовского даже готова была сорваться фраза:
«Ой, простите, если ради нас, то напрасно. Мы, право, минут на пяток, не более...»
Но вовремя себя предостерёг, подумав: парад не для них, это давняя привычка, ставшая натурой, — подходить к письменной конторке одетым как на праздник.
От кого-то слышал Алексей — так всегда поступал и немецкий музыкант Иоганн Себастьян Бах. Он садился за клавикорды или за орган обязательно в парике с буклями и в камзоле с блестящими пуговицами. Считал, что малейшая небрежность в одежде, неряшливость, с которой приступаешь к делу, может оскорбить искусство. А искусство надо уважать, как святыню, благоговеть перед ним, как перед женщиной.
Не так ли полагал и Карамзин?
Но с утра сделано за столом, видно, немало, поскольку искренне обрадовался приезду Перовского, жадно засыпал вопросами, и все — о загранице.
Когда-то сам двадцатитрёхлетним отправился в вояж, объехав Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, и воротился с «Письмами русского путешественника». Потому — и настойчивый совет:
— Всё, что увидели сами, — передайте людям. А способ один — бумага, перо, чернила. И — не лениться! Прочь, прочь эту мерзкую русскую манеру! Так можно дотянуть до той поры, когда всё уже окажется в давно прошедшем. Жизнь человека, как известно, делится на две эпохи — первую проводим в будущем, а вторую в прошедшем, когда огонь молодости уже погас. Это мне в мои годы простительно жить прошлым, ибо и в первой жизни своей я не дремал, огонь жёг не зря. Потому и вторую эпоху начал закономерно. Кстати, знаете, где я ныне обретаюсь? Во временах жестоких и, не приведи Господи, кровавых — во временах Иоанновых.
Вскочил со стула, крутанулся на каблуках, поднёс к глазам подхваченные со стола листы:
— Вот — Казань уже взята, Астрахань наша, орден меченосцев издыхает. Но ещё остаётся много дела, и тяжёлого: надобно говорить о злодействах почти неслыханных. Калигула и Нерон были младенцами в сравнении с Грозным Иоанном[17]!..
Отложил листы, так же стремительно кинулся к окну, распахнул створки, выглянул в парк:
— Хе-хе... Посмотрел, не гуляет ли царь Александр. Только и видим его здесь летом. Мы существуем для него вместе с мухами, комарами и прочими атрибутами природы. При встречах на дорожках разговариваем иногда. Зимой я сам, как крот, забиваюсь в нору. Знакомые даже числят меня в гордецах — бегу, бегу всяческих визитов. И во дворец ни ногой. А тут — иногда нос к носу... Так и подмывает спросить: разрешит ли он печатать обо всех ужасах Иоанновых? Но — рано, рано! Надо всё выложить на бумагу, а тогда — пан или пропал! Но ведь история служит не для ласкательства уха. Правители, законодатели обязаны действовать по указаниям истории и смотреть на её листы, как мореплаватели на чертежи морей. А время Грозного как рифы, как скалы на мореходном пути — гляди в оба! Деяние Иоанново — зрелище удивительное, навек достопамятное для самого отдалённейшего потомства, для всех народов и властителей земли. Оно — разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве... Так что это прошлое — вон куда, в самое будущее метит!
Попросили почитать из того, что уже сложилось, что легло на бумагу. И потёк рассказ об изверге вне правил и вероятностей рассудка, о шести эпохах душегубства, когда царь, в очередной раз казнив своих сподвижников, набирал новых: «сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем».
Всё казни, казни и казни... Мурашки пробегали по телу, когда читал Карамзин, излагая всякий раз подлинные свидетельства о том, как лютый царь, получив известие о гибели Малюты, своего жестокого приспешника, приказал изжарить живьём на кострах пленных, как однажды уничтожил даже слона только за то, что животное не опустилось перед ним на колени...
В голове Перовского как отчеканенные укладывались слова историографа о том, зачем он всё это описывает, зачем кошмарами отягощает ум будущего читателя.
— Жизнь тирана, — объяснял Карамзин, — есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели, — и слава времени, когда вооружённый истиною дееписатель может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления.
Сама тишина звенела в стенах, когда кончил чтение историограф.
Какими словами выразить удивление перед его талантом?
— Государь вас оценит, — вырвалось у Вяземского.
— Да-да, он вас поймёт! — произнёс Перовский.
Карамзин уже вертел в пальцах какой-то листок.
— Иные привязываются ко двору, а я — к типографиям. А и в типографиях — что проку? Вот, отписывают: бумаги нет, печатные станы не те... А я уже им восемьсот рублёв ссудил... Господи помилуй, как можно жить в этом мире? Нет, прав я, утверждая: поэт счастлив тем, что имеет две жизни. Если ему надоедает быть в мире реальном, сущем, он уходит в тот, что создаёт своим воображением, и живёт там согласно своему сердцу и вкусу...
Только так и можно стать настоящим писателем — подчинив свою суетную и отсюда никчёмную жизнь большой цели, подумал Перовский.
Обретёт ли он, подобно Карамзину, свою страну воображения, сможет ли в ней существовать наперекор всему мелочному, ненужному, мешающему человеку, до дна, до самых глубинных истоков отдать свою душу людям? Чтобы всё, что познал ты сам, чем обогатил своё сердце и ум, помогло им стать чище, лучше, добрее.
4
Сразу после Рождества определилась планида Алексея: службу военную сменил на гражданскую, звание штабс-ротмистра — на чин надворного советника.
Коротко — определён был чиновником особых поручений в департаменте духовных дел иностранных исповеданий.
От названия попахивает ладаном, но ведала сия канцелярия делами скорее гражданскими — опекала судьбы национальных меньшинств европейского происхождения, сиречь чужих, неправославных верований.
С незапамятных времён, а с царствования Петра Великого особенно, селились в России иноземцы семьями и колониями, присоединялись к государству с новыми землями целые народы. И следовало могучему отечеству эти народы опекать, дабы ощущать в них не недругов своих, а подкрепу.
Для сих целей в департамент стремились подбирать не просто знающих иностранные языки, но особливо тех, кто на собственном опыте, пребывая за кордоном на учёбе или на царской службе, отменно был знаком с особенностями иноземных нравов.
Перовскому и карты в руки — только что из центра Европы, из русской администрации в Саксонии!
И другая причина, что склонила к решению, — идти следовало под начало директора департамента Тургенева Александра Ивановича[18].
Когда впервые познакомились в Москве, Александр успел не только закончить московский пансион, но и Гёттингенский университет.
С братом его, Николаем[19], Перовский слушал лекции на Моховой, а вскоре и тот отправился в Гёттинген, в Германию.
Там же, в Германии, вновь пересеклись дороги Перовского и братьев Тургеневых: Николай после разгрома Наполеона был назначен русским комиссаром Центрального административного департамента союзных правительств по объединению германских земель, а Александр к нему наезжал. Не раз встречались в немецких городах Тургеневы и Перовский, вели разговоры, как с пользой способствовать созданию единого отечества для германского народа.
«Имя Николая Тургенева равносильно имени честности и чести», — сказал о нём то ли германский министр Генрих Фридрих Карл Штейн, то ли сам император Александр.
Даже если русский царь всего-навсего повторил оценку деятельного, энергического объединителя германских герцогств, человека умнейшего и понимающего толк в людях, — значит, не случайной оказалась слава молодого русского администратора. И в ту пору, в которую началась наша повесть, Николай Иванович уже получил в России высокую должность — помощника статс-секретаря Государственного совета. Разнёсся слух: новоявленный Сперанский[20]!
Теперь, в России, помыслы братьев, всегда стремившихся к благородному служению отечеству, как бы сошлись в одном фокусе: старший, тридцатидвухлетний Александр, и младший, двадцатисемилетний Николай, оказались у кормила административных учреждений, предназначенных для упорядочения общественной жизни государства.
Всякий раз, когда Перовский слушал Николая Ивановича, он не мог не восхищаться его умом.
— Я вижу целый план преобразования России, — говорил младший Тургенев, расхаживая по комнате и приволакивая при этом с малолетства больную ногу. — Но претворение сего прожекта займёт четверть века. Первые пять лет, по моему твёрдому убеждению, должно посвятить обучению молодёжи, способной в дальнейшем правильно поставить финансы и экономические начала. Далее ещё пять лет на полное обновление чиновничества во всех департаментах и министерствах, засим — такие же изменения в губерниях...
Не случайно сравнивался со Сперанским! Но это-то и пугало: Сперанский вон уже где — в ссылке...
Брат Александр — полноватый, но тоже с живыми манерами — темпераментно останавливал:
— Кто же не желает основательных перемен? В первую очередь их ожидает наш государь. Весь вопрос в постепенности, продуманности каждого шага.
— Словеса! — обрывал брата Николай. — Наш прекраснодушный монарх желает цели, но не желает средств, к гой цели ведущих. Все замыслы отлагаются, иначе замораживаются вовсе. А время меж тем приносит с собою не только доброе, но злое и вредное. Так что же делать таким, как я: молчать, ждать, почитать себя лишь исполнительскою машиной? Но зачем душа всегда желает перемен, желает лучшего и видит даже возможности достижения сего лучшего?
Оторопь возникала от таких слов: все были образованны и знали, с какого брожения умов начиналась в конце века революция во Франции.
А разве не приходили подобные мысли тебе самому, когда даже там, в Саксонии, в чужой стране, на твоих же глазах возрожденье страны начиналось именно с гражданских преобразований?
Всем учреждениям, начиная с канцелярии самого генерал-губернатора Репнина, по его же предписанию, строго вменялось в обязанность принимать каждого посетителя, независимо от сословия и звания, дабы ни одна жалоба не осталась неразобранной.
Но здесь, в России, возможно хотя бы такое? Хоть нечто похожее на действительное равенство всех и каждого перед законом? А ведь об этом и рассуждал Тургенев, к этой цели и направлял свой прожект.
Ах, этот проклятый озноб в душе, эта веками воспитанная трусость... Как с ней совладать, чтобы научиться не на площади звать — не нужно это в России! — но чтобы лишь внимать друг другу и обращать благородные порывы души на благо отечества?
А всё же огонь от тургеневских слов — как жаркий ток крови в жилах у каждого. Ведь так сладко думать и согревать себя тайною мыслью, повторяя вслед за воинствующим Тургеневым: «Зачем сердце не довольствуется собственным благополучием? Зачем оно предпочитает сему благополучие иных, даже тебе неведомых?»
Всё чаще и чаще притягивал Алексея по вечерам дом под нумером двадцать на набережной Фонтанки. Благо было недалеко от родительского дворца: как завидишь шпиль Михайловского замка, тут, в доме насупротив, в третьем ярусе, и есть тургеневская квартира.
Замок, что виделся из каждого окна, будто обострял суть разговоров в доме у братьев: здесь, в замке, не так давно, на переломе века, был убит российский император Павел Первый.
Злодей пал от руки возмездия? Или трон вероломно захвачен новым тираном?
От этих мыслей ещё более, чем от республиканских высказываний Николая Ивановича, стыла кровь.
Дальше, право, думать не хотелось — совсем уж становилось боязно.
Поёживался, видно, не один Перовский. Потому хозяин дома Александр переводил беседу на предмет всем более близкий — на разговор литературный.
С недавних пор всю компанию будто завели одним ключиком — Пушкин, Пушкин!
Он влетал каждый вечер к Тургеневым — изящный, вёрткий как ртуть, смуглый лицом, выражение которого могло меняться мгновенно, — и все преображались, словно воспламеняясь непосредственностью его манер и юношескою энергией.
Он весь был, как его собственные вирши, — задорный, взрывчатый. И непредсказуемый. Мог часами читать стихи — свои и чужие. Мог мгновенно загрустить и, отойдя к окну, глядеть в полутьму, где высился замок-пугало.
Но мог, ворвавшись в дом, тут же счастливо заявить:
— Еду в театр! Ах, вы не представляете, кто меня там ждёт — сама Екатерина Семёнова. Её игра на сцене — благородство одушевлённых движений, порыв истинного вдохновения!
Семёнову в сердце юного поэта вскоре сменила Александра Колосова, надежда русской сцены, её — княгиня Евдокия Ивановна Голицына, Пифия — новое увлечение...
Как был понятен и мил Перовскому этот проказник-повеса, полный нерастраченной энергии!
Таким, точно таким был, казалось, совсем недавно и он, Алексей Перовский. Модный франт и выдумщик, он вскружил голову не одной московской красавице и сколько в альбомах оставил влюблённых признаний. Вздыхал, притворялся, клялся и врал, влюблялся, однажды даже в присутствии предмета воздыханий бросился в пруд... Недаром граф, прослышав о сих проделках, перевёл его в Петербург. До Тверской заставы провожали друзья. И когда прямо у экипажей в воздух взлетели пробки от шампанского, князь Пётр Вяземский выдал экспромт:
Прости, проказник милый! Ты едешь, добрый путь! Твой гений златокрылый Тебе попутчик будь... Не замышляй идиллий. Мой нежный пастушок: Ни Геспер, ни Вергилий Теперь тебе не впрок.Многое виделось Перовскому сходным в поведении молодого пиита. Но угадывалось и что-то иное...
Сверчок, как прозвали арзамасцы племянника Василия Львовича Пушкина, совсем недавно закончил Царскосельский лицей и начал службу в Коллегии иностранных дел. Но не блистательная судьба раскрывала объятия восемнадцатилетнему лицеисту — он жил в мире придуманном, поэтическом, сулящем не выгоды карьеры, а скорее бедность. Посему дома не ладилось — ссоры, скандалы с отцом, считавшим каждую копейку...
Маска повесы помогала скрывать невзгоды. И она же, маска безалаберного ветреника, надёжно прикрывала от стороннего ока сокровенную жизнь души, бегущей в горние выси поэзии.
Ещё до того, как Тургеневы представили Перовскому их молодого друга, Вяземский сообщил:
— Вот познакомим тебя с чертёнком — какие стихи, какая бестия! Я всё отдал бы за него, движимое и недвижимое... А надобно его посадить в жёлтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Ха-ха! Василий же Львович не поддаётся: прочитает стихи племянника, потом — свои. А по стихам — он сам ему племянник!
Жуковский ронял благоговейно:
— Чудесный талант! Он мучает меня своим даром — милое живое творение. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому гиганту.
Слышал и от Уварова: он как попечитель Петербургского учебного округа два года назад сидел на экзамене в лицее за столом рядом с графом Алексеем Кирилловичем Разумовским и Державиным. Тогда этот отрок прочёл «Воспоминания в Царском Селе», которые проняли до слёз Гаврилу Романовича.
— Между прочим, мы с графом после экзаменов советовали Сергею Львовичу, отцу Александра, образовать своего сына в прозе. Всё ж совет министра. Можно было и прислушаться. К тому ж проза как таковая приучает к соразмерности мысли и чувства, образует сдержанность.
Взрывался Тургенев Николай:
— Не того желать надобно — не охлаждения, а воспитания чувств! Они, они — основа гражданственности! Да ещё — критический разум, который вам, просвещенцам, только бы пригладить да замутить в молодом сознании.
— Ну, меня ты, Николя, не заподозришь, надеюсь, в гасительстве мысли и чувств, — Уваров брал под руку республиканца. Тот криво ухмылялся и, извинившись, ковылял к себе в кабинет. Все знали: пишет исследование по финансам. Тревожить его в эти минуты было не след. Только для Александра Пушкина делал исключение: впускал к себе в любом часу и мог говорить с ним допоздна.
Перовский готов был без конца слушать и слушать всё, что выходило из-под пера Александра. Млел, восхищался. А вот серьёзного разговора вроде не получалось — всё сворачивалось на шутки.
В полушутливой манере вырвалось у Александра однажды:
— После того экзамена в лицее с Державиным я мечтал: всё отдал бы, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения в Царском Селе. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать в жизни. Уверяю тебя: уединение, о котором говорят философы как о благе для творца, — вещь очень глупая...
Но бесовский, с вызовом, огонёк вдруг затухал во взоре, когда поэт подходил к окну.
Стоял словно оцепенев, грыз ногти. Потом срывался и убегал в кабинет Николая Ивановича, где в отсутствие хозяина любил развлечься с бумагой и пером прямо на крышке стола.
Однажды из этого же кабинета вбежал в гостиную:
— Хотите? Ода «Вольность». Только закончил.
Чуть откинул курчавую голову, рука застыла во взмахе:
Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица! Где ты, где ты, гроза царей, Свободы гордая певица?.. Приди, сорви с меня венок, Разбей изнеженную лиру... Хочу воспеть Свободу миру, На тронах поразить порок...Оцепенение передалось каждому, и все невольно переглянулись, как иногда от слов младшего Тургенева. А поэт продолжал:
Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу. Читают на твоём челе Печать проклятия народы, Ты ужас мира, стыд природы, Упрёк ты Богу на земле. Когда на мрачную Неву Звезда полуночи сверкает И беззаботную главу Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана. Забвенью брошенный дворец — И слышит Клип страшный глас За сими страшными стенами, Калигулы последний час Он видит живо пред очами, Он видит — в лентах и звёздах, Вином и злобой упоенны. Идут убийцы потаённы. На лицах дерзость, в сердце страх. Молчит неверный часовой. Опущен молча мост подъёмный, Врага отверсты в тьме ночной Рукой предательства наёмной... О стыд! о ужас наших дней! Как звери, вторглись янычары!.. Падут бесславные удары... Погиб увенчанный злодей. И днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни шарады. Ни кров темниц, ни алтари Не верные для вас ограды. Склонитесь первые главой Под сень падежную Закона, И станут вечной стражей трона Народов вольность и покой.5
Славно заладилась петербургская жизнь! Ощущение возникало такое, будто изо дня в день — праздник.
Будоражили встречи с друзьями и новые знакомства, сшибки мнений и вкусов, разноликость талантов.
Но ловил себя на мысли: радует всё более и более то, что зарождается в собственной душе.
Обзавёлся набором перьев и карандашей, пачкой лучшей писчей бумаги и взял за непременное правило — хоть страничку, хоть полстранички в ночь.
Не давали покоя, теснились в воображении персоны и целые людские толпы, они двигались, громко спорили друг с другом, однако все вокруг замирали и куда-то прятались, едва он склонялся над чистым листом.
Господи, но как же удавалось ему когда-то останавливать движение мысли и переносить его на письмо, и как играючи, весело творит этот сорванец Саша Пушкин!
Когда отчаивался, что не напишет и строчки, возникала в воспоминании келья Карамзина и испещрённые его летучим почерком листы, не столько разбросанные по стульям, сколько кидаемые им в камин. Да, и стиль, и целые тома великого мастера — оттуда, из печного, пожирающего всё незрелое, всё неудачное огня...
Он тоже комкал и бросал под стол несостоявшиеся перлы, и постепенно, исподволь начала вырисовываться прелюбопытная вещица, подобных которой он ни у кого прежде не читал, — смесь реального человеческого быта с нереальным фантастическим волшебством. Даже сам от неожиданности удивился такому началу, пожал плечами, хмыкнул не то растерянно, не то, наоборот, как-то уж приподнято и даже азартно и стал быстренько продолжать это своё первое прозаическое повествование.
Написался уже пяток, десяток страниц, росла стопка исписанных гладких листов, коими за недешёвую плату снабжал многих сочинителей и даже канцелярии двора его императорского величества поставщик писчебумажных принадлежностей господин Ольхин.
Теперь со счастливым смыслом можно было повторить: заладилось!
Однако человек предполагает, а кто-то там располагает...
Граф Алексей Кириллович вдруг объявил: государь принял его отставку и он, теперь уже бывший министр, навсегда покидает Петербург, уезжает сначала в Москву, а затем в Почеп, в милую сердцу Малороссию. На Алексея отныне возлагались заботы отправить обозы с имуществом и почти всею нажитой обстановкою вслед за поездом самого графа и найти покупателя на опустевший дом. Для себя же и на тот случай, если графу заблагорассудится приехать на короткое время в столицу, следует начать постройкой другой, меньшего размера особняк.
Шесть лет тому назад, когда граф получил назначение на пост министра, вместе они долго выбирали жильё.
Непременным условием Алексей Кириллович поставил, чтобы дом был не каменным, а деревянным, с фруктовым садом вокруг, с оранжереями, как на Гороховом поле в Москве и в подмосковных Горенках.
В деревянных домах, не без основания считал он, жить полезнее, хотя строительство выходило дороже — выбирались особые породы дуба и лиственницы, всё это везли за тридевять земель. Ну а садовое хозяйство являлось главным увлечением графа, живые растительные коллекции которого, разводимые им с превеликим увлечением и искусством, славились в обеих столицах и даже в иноземных державах.
Хлопоты предстояли Алексею немалые. Но выходило — выгоды личной свободы перевешивали. Её, эту свободу, можно было целиком посвятить собственным занятиям.
Однако иное, чего он никак не ожидал, сокрушило всё то, что так многообещающе зародилось, что влекло, становилось страстью.
Однажды поздним октябрьским вечером, уже дождливым и стылым, в опустевшем гулком доме на Фонтанке объявилась Анна. Она стремительно вошла в комнату Алексея и остановилась перед ним, переводя дыхание. На ней была нарядная шляпка из серой тафты, с полями, подбитыми чёрным бархатом, вокруг тульи розовая муаровая лента. Подобным образом она одевалась в театр или в гости. Но дорожного вида пальто и то, что за ней в дверях остановилась кормилица с ребёнком на руках, а гувернантки и другие люди уже вносили в соседние комнаты баулы и корзины, красноречиво говорило, что Анна приехала сюда не на час-другой, а намерена остановиться на продолжительное время.
— Вот я и дома, Алексис. Навсегда! — произнесла она, сняв шляпку и быстрым, изящным движением руки поправив сбившийся курчавый локон. В её больших красивых глазах готова была возникнуть улыбка, но они вдруг наполнились слезами.
— Аннет, родная, ради Бога, разъясни, что произошло! — Алексей бросился к сестре, но тут же его обожгла догадка: — Ты ушла от него?
Всё закипело внутри Алексея: да что же она, в самом деле, выкинула, как же теперь без мужа, без матушки, без семьи, без поддержки хотя бы одной-единствеиной родственной души?
Но Алексей тут же подумал: а кто же он Анне, как не самое близкое существо, к помощи которого так доверчиво она прибегла?
— Ну-ну, всё обойдётся, Аннет, всё будет хорошо, — произнёс он, стараясь сам успокоиться и успокоить сестру. — Я всё сделаю для тебя, чтобы только ты была счастлива.
Без малого год назад, вот в такую же осеннюю погоду, он стоял на мокрых и скользких ступенях Симеоновской церкви, и взор его был обращён на Анну, входившую в храм в подвенечном платье под руку с женихом, и все мысли его были самым горячим, самым искренним пожеланием ей настоящего большого счастья.
Они были тогда, тринадцатого ноября восемьсот шестнадцатого года, у Симеония все вместе — поручители по невесте граф Алексей Кириллович Разумовский и он, Алексей, а также его и Анны братья, молодые гвардейские офицеры Василий и Лев, стоявшие рядом с матушкой, статной красавицей Марией Михайловной.
Все они, сестра и трое братьев, — стройные, с вьющимися волосами — поразительно походили на мать. Но особенно в тот знаменательный день конечно же выделялась Анна — большеглазая, державшаяся с гордым достоинством невеста, которой только недавно исполнилось двадцать лет.
По сравнению с ней плотный, среднего роста жених казался неприметным.
Огненные язычки свечей трепетали, густой бас дьякона возглашал:
— Миром Господу помолимся-а-а... о рабе Божии Константине и рабыни Божией Анне-е... О еже сложите им добре в единомыслии... да Господь Бог дарует им брак честен и ложе нескверное-е-е...
Алексей хорошо знал свою сестру — умную, острую на слово, порывистую и решительную. Но теплилась надежда: вдруг порыв угаснет и всё образуется? Сын ведь у них — вот он, уже полуторамесячный, здоровенький, розовощёкий крепыш Алёшенька, Алеханчик, Ханочка...
Он осторожно и неумело развернул кружевную накидку, в которую был завернут младенец, близко наклонился к его наморщенному личику:
— Агу! Агу, Алеханчик, ну, засмейся, мой маленький. Вот гак, вот так, Алёшенька... Всё будет у тебя в жизни прелестно!.. И мамочка твоя тебе этого желает...
— Алексис, нам следует не мешкая собираться в дорогу. А тебя я попрошу нас сопровождать. Да, в Москву, к матушке... В Москве же осмотримся, определимся...
Всю дальнюю дорогу он прежде всего заботился о том, чтобы не застудить племянника и чтобы тяготы и горести неудобного, в мокрень и в стынь, путешествия не больно докучали Анне.
Посему он старался развлекать сестру всевозможными удивительными историями, которые якобы приключались с ним за границей и какие уже успели случиться здесь, в России. Он не заметил, что пересказывает то, что вчера ещё легло или только просилось на бумагу, что составляло его тайную — по Карамзину, вторую, вымышленную — жизнь, в которой, в отличие от сущей, будничной, он был полновластный и счастливый хозяин.
Анна благодарно слушала, звонко хохотала и не замечала почти, как скучна и однообразна дорога, расстилавшаяся перед ними.
Лишь время от времени брат, рассказывавший смешное, на мгновение замолкал и выглядывал за чёрный, весь в ошмётках и комьях грязи полог кареты. За пологом, впереди, виднелся кучерок, высившийся на облучке, тройка пегих лошадок с заплетёнными чёрными гривами и хвостами. А по сторонам то тут, то там мелькали дрянные домишки с продавленными крышами, с тусклыми пятнами света в перекривлённых окошках.
Изредка попадались трактиры, из раскрытых дверей которых било грязным теплом, едким запахом сивухи и разносились гнусливые звуки гармоник.
А навстречу, теряясь в густой сетке дождя, утопая в вязких хлябях грязи, двигались мужики в зипунах и свесившихся набок зимних малахаях и бабы, крест-накрест перетянутые платками. Многие вели за рукав испуганных, посиневших от холода детишек.
И их, этих странников, куда-то гнала своя несложившаяся горемычная судьба, и они устремлялись к своему счастью.
Но есть ли оно, счастье, на этой земле и где и как его можно найти?
Это только так говорилось — «к матушке», а ехать надо было к нему, к графу. И когда ещё с дороги показалась на высоком холме колокольня церкви в Горенках, дворец и длинный ряд оранжерей, возникло так хорошо знакомое с самых ранних лет острое волнение: как примет?..
Сначала они, братья, потом Анна с сёстрами, подрастая друг за дружкой, лишь по редким праздничным дням представлялись графу, которого называли меж собой воспитателем и благодетелем.
К дням этим готовились заранее: детям шили новые наряды, их мыли, причёсывали, пудрили, опрыскивали разными ароматическими настоями. Потом открывались двери, и к нему, восседавшему в кресле, по старшинству гуськом подводили «к ручке».
В такие дни выдавались подарки — столичные конфекты. Все десятеро ни в чём не ведали ущемления — были одеты, обуты, всегда вкусно кормлены, их обучали лучшие домашние учителя иностранным языкам и множеству наук. И только скупая слеза матушки, которую она украдкой смахивала в торжественные дни, напоминала детям, что они, богатые и ухоженные, лишены чего-то такого, что есть у их сверстников, самых последних дворовых ребятишек, с которыми им иногда разрешалось играть...
Теперь он и сестра давно были взрослыми, Анна — графиня. Но крепко сидело в них вот это чувство униженности и обделённости, занозившее сердце с самого детства.
Граф принял хмуро. Скривив губу, выкрикнул:
— Дура! Сумасбродка!
Но, заметив, как вспыхнуло лицо Анны и она рванулась к двери, обратился к Алексею:
— Останови её. — И уже к ней: — Садись, коли приехала...
Господи, подумал Алексей Кириллович, и за что я её так? Моя ведь кровь...
Он тоже вспомнил прошлогодний ноябрь и непрезентабельную фигуру в полковничьем мундире и с Анной на шее — графа Константина Петровича.
Толстые! Род не из самых видных, но ведётся ещё с Ивана Третьего. Надеялся, недурная партия. А вышло — полный разлад, соломенная вдова при живом муже.
Впрочем, уже со сватовства было ясно — не пара они. Даже родственники жениха говаривали: не заладится. Константин хотя и добр, но характером слаб, податлив, Анна же — волевая и своенравная. С ней он сам, отец, не знал, как и сладить...
Э, да он, верно, всё и запутал! То решился пристроить в Аничков дворец фрейлиной, то, спохватившись, толкнул в объятия Гименея... Теперь же случилось — сам чёрт не разберёт!
Он чувствовал: попятного не будет. Так ведь произошло и у него тому уже более трёх десятков лет — выгнал напрочь из дома законную жену Варвару свет Петровну, урождённую графиню Шереметеву. И тоже не по нутру вышла — робкая, униженная, недалёкая умом. Прогнал и приказал ей же выплачивать содержание ежегодно на двух дочерей, Варвару и Екатерину, и сыновей Петра и Кирилла, коих оставил у себя, не слушая ничьих осуждений и пересудов.
Вот уж воистину — как отрезал... Теперь же, что и говорить, — яблоко от яблони...
Что-то вроде лёгкого раскаяния поднялось в душе: зачем так её — дурой? Но не совладал вновь:
— На что рассчитываешь? Оставила мужа — и мальчонку за собой, а где и на что жить станешь? Не дворовая девка, чай, — графиня!
Лицо Анны побледнело, и она мигом выпрямилась в кресле.
— Не прыгай, остынь! — Граф встал и отошёл к окну. Отозвался оттуда: — Напишу на тебя Блистову, имение в триста с лишком душ. Смотри не промотай разом на шпильки и булавки — более не выделю. Аты, — повернулся к Алексею, — бери Погорельцы и Красный Рог. Не перечь! Рядом обоснуетесь. Одной ей с мальчонком не управиться. — И снова к Анне: — Покажешь мне сына. Алексеем нарекла?
6
Древняя столица готовилась торжественно отпраздновать пятую годовщину изгнания Наполеона из России. Жесточайший пожар, казалось, нанёс непоправимый урон Москве. Не говоря уже о целых кварталах деревянных строений, превращённых в пепел и прах, редкие каменные особняки и дворцы остались неповреждёнными.
Чёрным, обуглившимся пугалом встречал каждого перед Тверской заставой дворец в Петровском-Разумовском, где, спасаясь бегством из запылавшего Кремля, нашёл своё последнее пристанище в Первопрестольной готовящийся к бесславной ретираде Бонапарт. Дотла выгорели Пречистенка, Пятницкая, Мясницкая, Маросейка, Басманная и другие некогда богатые улицы. Среди же строений, которых не коснулось пламя, оказался и дом, построенный когда-то Алексеем Кирилловичем для Марии Михайловны Соболевской с детьми. Своим спасением особняк этот был обязан младшему из Перовских, Василию. Однако какой же тяжёлой ценой заплатил он за спасение родительского очага...
Теперь в Москве вновь из небытия поднималась усадьба за усадьбой, бурно разросшиеся сады и рощи закрывали места пожарищ, город становился ещё чище и краше, чем был.
Распахнули двери многочисленные лавки, крестьяне из окрестных и дальних деревень везли муку, окорока, масло и всяческую иную снедь, тянулись обозы купцов с мануфактурой и другими товарами, спешили из своих подмосковных вотчин помещики с семействами, чтобы с истинно московским размахом и хлебосольством встретить предстоящие торжества.
Во второй половине августа пожаловал императорский двор и с ним два пехотных и два кавалерийских полка, составленные из первых батальонов всех гвардейских частей, а также гвардейская артиллерийская рота и дивизион казаков.
Со дня на день ожидался приезд Александра — двенадцатого октября намечалась закладка на Воробьёвых горах величественного памятника победы — храма Христа Спасителя.
С церемониальным отрядом гвардейцев прибыли офицеры Генерального штаба Лев и Василий Перовские.
Воспитанники Московского университета, оба брата в самый канун Отечественной войны окончили Муравьёвскую школу колонновожатых и вступили прапорщиками в армию. Они участвовали в Бородинском сражении.
После сей славной битвы двадцатилетний Лев вместе с войсками оказался в Тарутинском лагере, прошёл всю Европу и завершил войну гвардейского Генерального штаба штабс-капитаном и начальником личного конвоя его императорского величества.
Иной — трагический — жребий выпал на долю совсем юного, семнадцатилетнего Василия Перовского.
Русская армия после Бородина оставляла Москву, а следом за нею в город входили французские войска.
По договорённости неприятель обязан был пропустить все русские полки, до последнего солдата, прежде чем овладеть столицей, иначе командующий арьергардом Второй армии генерал Милорадович грозился сжечь Москву на глазах врага.
Требование русского командования было передано французам первого сентября, и тогда же установилось временное перемирие.
В тот именно день штабной, или, как он именовался, квартирмейстерский, офицер арьергарда Второй армии Василий Перовский въехал верхом в город с двумя казаками.
Левая рука продолжала ныть — несколько дней назад, при Бородине, пуля оторвала указательный палец, но ни тогда в горячке боя, ни теперь он почти не обращал внимания на свою рану. Даже если его слегка лихорадило, он объяснял это возбуждением, воспламенявшим всё его существо перед встречей с опасностью.
Приказав вестовым не отставать, Василий поскакал Покровкою к Басманной. У церкви Иоанна Предтечи его задержал казачий полк, и Перовский передал его командиру приказание Милорадовича ни в коем случае не вступать в бой с противником и в точности соблюдать условия перемирия.
Также он направил движение какого-то отставшего обоза и отряда драгун, спешившего из города.
Смеркалось быстро, и переночевать он решил дома, на Новой Басманной. Граф, матушка и сёстры, как оказалось, заблаговременно отбыли в Ярославль, и в усадьбе осталась дворня, которая ни в какую не хотела покидать город и клялась всё сохранить в доме, как оно есть.
Грустно было покидать родное гнездо, но на следующий день поутру Василий был уже в седле. Переезжая от улицы к улице, от переулка к переулку, он наблюдал, как последние солдаты и толпы жителей уходили из Москвы.
К Лефортовскому мосту через Яузу он добрался уже в пятом часу.
Через мост, тесня и сбивая друг друга, двигались ряды казаков и драгун.
— Откуда идёте? — окликнул он солдат.
— От Сокольников. За нами уже никого немае.
— Живее, ребята, поторапливайтесь! Сбор за Рогожской заставой! — крикнул им Перовский.
Однако конница, перешедшая мост, почему-то остановилась. Велев своему конвою подождать, он переехал мост и у леса встретил русского офицера и рядом с ним, к своему удивлению, французских офицеров и даже генерала.
— Вот, — ответствовал кругленький, с быстрыми движениями офицер, — наша бригада отрезана, и эти господа не думают её пропускать. Поговорите с ним, — указал он на желчного, сухого генерала, — если умеете по-ихнему. Как я мог понять, это сам начальник французских аванпостов генерал Себастиани.
Василий легко и быстро заговорил с генералом, напомнив ему о том, что перемирие действительно и на сегодняшний день, и потребовал, чтобы бригаду пропустили.
Тотчас была отдана команда, и французская конница, образовав интервал, пропустила вперёд наших кавалеристов.
Перовский кинулся к тому месту, где оставил вестовых, но их нигде не было. Меж тем уже стемнело. Направив лошадь к лесу, где он только что говорил с генералом, Василий увидел, как между мостом и опушкой цепочкой вытянулись французские солдаты.
— Кто идёт? — окликнули его по-французски.
— Русский, — ответил Перовский. — Вон наши полки, только что прошедшие через наш строй. Я направляюсь к ним.
— Не велено никого пропускать без позволения нашего генерала.
Себастиани, к которому подскакал Перовский, узнал его и приказал пропустить через оцепление. Василий дал шпоры, радуясь тому, что через минуту догонит своих. Но не проехал он и сотни шагов, как услышал, что генерал просит его вернуться.
— Простите, господин офицер, но здесь невдалеке Неаполитанский король. Вы отлично знаете французский, и королю будет приятно с вами поговорить. Сделайте одолжение, задержитесь немного. Я уже послал адъютанта сказать ему о вас.
Они подъехали к большой избе. Себастиани спустился с коня, велел принять лошадь Перовского и пригласил его подождать в комнате. Вскоре воротился адъютант и доложил, что Мюрат занят и принять не может. Перовский тотчас встал, изъявил генералу сожаление, что не мог исполнить его пожелание, и попросил проводить его через аванпосты.
— Король нынче вас видеть не может, — ответил генерал, — но завтра утром наверняка решится с вами говорить. Останьтесь до утра.
Перовский ответствовал, что воинский долг требует от него быть немедля у своих, товарищи, видимо, уже обеспокоены его отсутствием.
— Право, несколько часов не сделают вам никакой разницы, — улыбнулся Себастиани. — Даю вам слово, что поутру вы будете между своими.
В ту ночь шинель служила Перовскому подушкой и пол постелью. Заснуть сразу он не мог — возникла мысль немедленно спастись бегством. Но для этого надлежало пробраться мимо нескольких часовых в избе и вокруг неё, потом через многолюдные биваки, где в ту ночь многие из оцепления не спали, а сидели вокруг огней. Его обязательно бы остановили, привели вновь к Себастиани и тогда непременно сочли бы за шпиона и могли расстрелять без всякого суда. Благоразумней всего в создавшейся обстановке оставалось ждать — не был же он пленным, при нём была сабля и боевой конь, на нём полная офицерская форма.
Утром, как и обещал, генерал отослал Перовского со своим адъютантом в Москву, к Мюрату. Узнав же, что родные Василия имеют в городе большой собственный дом, Себастиани тут же отрядил несколько солдат для охранения усадьбы.
Хотя неприятель уже занял столицу с вечера, за Серпуховской заставой и в Немецкой слободе не было французов, и первыми из них оказались те, которых выделил генерал.
Они сразу вошли в дом на правах хозяев, громко распоряжаясь, обследовали жилые комнаты и погреба, выволокли во двор мебель, всё, что осталось в гардеробах и сундуках из одежды, съестные припасы и нагрузили трофеями повозки, которые с ними пришли. Сами же принялись поглощать вино и снедь, обнаруженные в доме в больших количествах.
Во многих местах города уже начались сильные пожары, приближавшиеся с каждым часом и к Новой Басманной. Посреди ночи пламя вот-вот грозило перекинуться на усадьбу. В эти часы Перовскому очень хотелось, чтобы запылал и его дом и вся вражеская шайка, которая в нём обосновалась. Но адъютант генерала, приставленный к нему, бражничавший с солдатами всю ночь, убеждал, что они строго выполняют приказ своего патрона и не дадут погибнуть такому прекрасному особняку.
И впрямь, вокруг и совсем рядом пылали крыши, из соседних окон выбивалось пламя, а солдаты, хотя и были пьяны, избавляли себя и здание от огня.
Когда Перовского через день наконец доставили к Мюрату, тот готовился куда-то ехать. На нём были красные сафьяновые сапоги с короткими голенищами, золотые шпоры, белые панталоны, камзол из парчи и шляпа с разноцветными перьями. Сбоку в ножнах торчал короткий римский меч с перламутровой рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Таков был сын трактирщика, король Неаполитанский, самый любимый маршал Наполеона.
— Вы участвовали в деле при Бородине? — спросил он. — О, как бы мне хотелось с вами поговорить! Мы, воины императора, дрались как львы, но и вы, русские, проявили завидную храбрость, хотя, бесспорно, уступили нашему непобедимому мужеству. Случится у меня свободное время, я обязательно велю привести вас к себе.
— Но мне надо быть уже у своих, — настойчиво напомнил Перовский.
— Как, разве вы не пленный? О да, охотно верю, что Себастиани обещал вас отпустить. Но это теперь зависит не от меня. Вам надобно непременно снестись с маршалом Бертье, я прикажу проводить вас к нему.
На дворе уже не оказалось ни лошади Перовского, ни адъютанта, который его привёл сюда. Пешком с сопровождающим он направился в Кремль. На всём пути улицы были завалены выброшенными из окон вещами, в стенах домов то тут, то там бушевало пламя, дым ел глаза.
Во дворе Кремля несколько солдат окружили нашего полицейского пристава. Через переводчика его грозно спрашивали: кто поджигает город и почему недостаёт противопожарного инвентаря. Перовский тотчас вмешался и объяснил, что чиновник не может отвечать за беспорядки, в которых, может быть, повинны и их, французские, солдаты. В ответ ему были слова:
— Этот полицейский чиновник будет повешен или расстрелян. Так великая армия станет поступать с каждым русским, которого найдёт на свободе и в форменном мундире.
Бертье не взялся решать судьбу Перовского и направил его к принцу Экмюльскому, как величали маршала Даву. Тот встретил Василия разъярённо:
— Вам меня не обмануть! Вы уже были раз взяты в плен под Смоленском и бежали. И вы увидите теперь, как мы поступаем с людьми, которые стараются нас провести. — И, обращаясь к адъютанту: — Прикажите призвать унтер-офицера и четырёх рядовых, чтобы расстрелять этого негодяя.
— Уверяю вас честью, — твёрдо заявил Перовский, — что в первый раз нахожусь в вашей армии, и вижу, что и одного раза для меня слишком много.
— Ах так! — ещё более взвинтил себя Даву. — Сейчас я вас уличу. — Он крикнул второго адъютанта: — Посмотрите на этого человека: не тот ли он, что был взят в плен под Смоленском и ночью бежал?
Боже, неужели я кого-то им напоминаю, подумал Перовский, и так нелепо, по ошибке оборвётся моя жизнь?!
— Нет, — ответил адъютант, — тот был немного выше и старее.
— Вы обязаны жизнью моему адъютанту, — сказал Даву. — Без него, право, не миновать бы вам пули. Теперь ступайте — вас отведут к вашим товарищам.
Унтер-офицер взял у Перовского саблю и, нагло обыскав карманы, отобрал несколько червонцев.
Тут же, на Девичьем поле, где размещался штаб маршала, Василия втолкнули в дверь церкви Спаса на Бору — и за ним с лязгом закрылся тяжёлый засов.
Теперь он оказался пленным среди сотен таких же несчастных, как он сам.
Через несколько дней утром им было объявлено: быть готовыми к походу. Колонна состояла более чем из тысячи человек — и военных, и штатских.
Конвой отобрал у Перовского сапоги, и он босой двинулся по уже крепко прихваченной морозом земле.
Всё дальше и дальше оставалась Москва. Ноги распухли, приходилось часто садиться, чтобы отдохнуть. Но удар прикладом тут же заставлял встать.
Неожиданно сзади грянул выстрел. Оглянувшись, Перовский увидел распростёртое на земле тело.
— За что? — бросился к конвоиру Василий.
— Мы имеем повеление пристреливать каждого, кто отстаёт. — И, глянув на мундир пленного: — Но вы не волнуйтесь: расстрелянных офицеров нам приказано хоронить, а не бросать на дороге, как рядовых, — кивнул он на труп.
В продолжение лишь первого дня пристрелено было семеро. На ночь всех согнали в круг на открытом поле и заставили лечь на стылую землю, оцепив местопребывание постами часовых.
Так шёл день за днём. Ноги кровоточили. На Бородинском поле всё ещё лежали тысячи неубранных трупов, многие из которых были уже раздеты донага. Однако кое на ком ещё имелись сапоги, и конвойные бросились снимать с бесчувственных тел то, что ещё уцелело от мародёров. Василию сапог не досталось. Он нашёл кусок холста и обернул свои уже почти бесчувственные ступни...
Как они прошли всю Европу — полураздетые, голодные, — Перовский долго вспоминал с содроганием. В первых числах февраля восемьсот четырнадцатого года их колонна, несказанно поредевшая, оказалась во Франции, в городе Орлеане. Но их гнали дальше — в городок Божанси. Только тут они узнали, что русские близко, — и возникла мысль бежать.
Ночью Перовский с группой товарищей подговорил подростка-пастуха, чтобы тот проводил их ближе к русским постам. Теперь оставалось несколько миль до встречи со своими. Но чтобы их случайно не обнаружили, следовало в пути ни слова не произносить по-русски. Если кто их заметит и окликнет, за всех говорить по-французски будет Перовский: они-де новобранцы, идут на сборный пункт.
В первый раз попытка сорвалась — отличный выговор Перовского не подвёл, остановившие солдаты приняли их за своих и они уже прошли мимо часовых, но кто-то из них решил проверить документы.
Так они вновь были возвращены в свою колонну, и им грозило наказание. Но мысль о том, чтобы вырваться на свободу, оказалась сильнее всех препятствий, и вскоре Перовский и его товарищи достигли своих.
Завершились полтора долгих и тяжёлых года. Весной в Париже он уже встретился с братом Львом, а затем с Алексеем в Вене. Там, в главной квартире русских войск, перенёсший неслыханные муки и мужеством своим доказавший верность и преданность отчизне, Василий Перовский был снова с радостью принят в семью офицеров гвардейского Генерального штаба.
В Москве трое братьев и Анна впервые за много лет вновь встретились под родительским кровом на Новой Басманной.
Дом уцелел от огня, но изрядно пострадал от бесчинства варваров-завоевателей. Однако особняк уже успели привести в порядок, и всем четверым радостно было оказаться в стенах, где они провели свои детские и отроческие годы.
Как ни торопился Алексей быстрее отвезти сестру в Малороссию, не мог устоять от соблазна задержаться в Москве, хотя бы накоротке свидеться с давними знакомыми. Визиты, визиты — с раннего утра до позднего вечера. Тут не только нары дней, на которые решил задержаться, — двух месяцев оказалось бы мало!
Братья тоже день за днём на ногах, если не сказать точнее — в седле: то на учениях, на плацу в Хамовнических казармах, то в Кремле на смотрах.
На второй уж день, к ночи, нагрянули они с сослуживцами — дом огласился возбуждёнными голосами, звоном шпор, а затем и хлопаньем пробок.
Батюшки, да ведь почти все гости — и Алексея давние знакомцы!
Расцеловался с Михаилом Орловым[21], Никитой Муравьёвым и оказался в объятиях Муравьёва Александра и Муравьёвых же, только Апостолов — Матвея и Сергея.
Как это у них было заведено при встречах? Ага, вспомнил! Надо взяться правой рукой за шею, топнуть ногой, потом пожать товарищу руку и при этом шепнуть на ухо: «Чока».
— Посмотри, Базиль, твой брат, оказывается, не забыл нашего ритуального приветствия! — рассмеялся Александр.
— А что, не из зависти ли к «Чоке» пошёл Алексей в армию? — заметил Сергей Апостол.
— Положим, в строй позвала война, — отозвался Алексей, — но в вашем братстве, не скрою, немало было притягательного. Взять хотя бы стремление к справедливости, желание быть полезными друг другу, во всех случаях жизни бороться за правду.
— «За правду»! Слышишь, полковник, чем запомнилось наше первое юношеское сообщество? — Василий обнял Александра Муравьёва. — Так что хвала нам всем за то, что этот девиз и отныне мы выбрали своей путеводной звездой...
Ах, как приятно было вспомнить, глядя сейчас на этих полковников, капитанов, ротмистров, довоенных горячих и чистых мальчишек, державших в тайне свою загадочную «Чоку». А всего и было в ней непонятного для непосвящённых — вот эти ритуалы при встрече единомышленников да придуманные ими же костюмы, в которые они облачались при сборах то у Муравьёвых, то у Апостолов, то здесь, на Новой Басманной. Надевали они тогда синие шаровары, такие же свободного покроя куртки и пояс с кинжалом, а на груди — две параллельные линейки из меди. Позже Алексей узнал, что медные полоски, напоминающие математический знак равенства, и есть символ братства всех людей на земле, и этому братству и равенству каждый член общества клялся тогда служить до конца своей жизни.
Далеко в прошлом осталось то время. Но почему же так возбуждённо вспыхнули их глаза, когда вслед за Василием каждый вдохновенно произнёс: «За правду!» Выходит, ничто не минуло, не ушло в небытие... А может, то пламя, зажжённое в отрочестве, вспыхнуло с новой силой, взбодрённое свежим ветром?
В гостиной, после ужина, когда задымили трубками то в одном, то в другом уголке, до Алексея донеслось:
— Власть есть выражение волевой равнодействующей всего народа. Если народ безмолвен, то власть деспотична!
— М-да, в сущности, всякая власть — тирания, заслуженная массой глупцов. Властвуют умные негодяи над стадом тупоголовых баранов. Всякий народ заслуживает своё правительство. Сатрапы так же необходимы и так же естественны, как следствие, необходимо вытекающее из причины...
Гостей было человек двадцать, и все военные. Иных, как, например, тех, чей разговор уловил, Алексей не знал. Но тут увидел, как к незнакомцам, молодым офицерам, подошёл Александр Муравьёв:
— Значит, всё предопределено раз и навсегда и ничего нельзя переиначить? А если вспомнить общественный договор Руссо, по которому он предлагает построить общество будущего?
— Общественный договор — эго наивная легенда, которую французы развенчали уже в дни Конвента. Я лично не верю ни в разумное общество, ни в благородство властей, — пожал плечами совсем молодой прапорщик, видно недавно произведённый в офицеры.
На разговор подошёл Никита Муравьёв:
— Последнюю вашу фразу я поддержу, но вывод из сей сентенции сделаю совершенно иной: потому и следует стремиться переустроить общество, что во главе его — безнравственная власть! И сие переустройство будет не только плодотворно, но, смею сказать, законно. Да-да! Опыт всех народов и всех времён доказал, что власть самодержавная равно гибельна и для правителей, и для общества, что она нс согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Посему нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека — сиречь самодержца.
Заметно стало, что из дальних углов сюда стянулись любопытствующие. Оказался рядом и Апостол Сергей:
— Нам следует во главу угла своих рассуждений поставить ту самую мысль, которую высказал сейчас Никита: действовать, опираясь именно на силу закона, попираемого ныне властью. Верховная власть безнравственна уже потому, что она полагает: все права — на её стороне, а все обязанности — на стороне противоположной, где находятся остальные члены общества, включая и самые низшие классы, которые и за людей-то властями не почитаются.
Молодой прапорщик, начавший разговор, произнёс:
— Страх — вот объяснение того, почему народ безмолвен, а власть деспотична...
Лицо брата Василия мгновенно вспыхнуло.
— Больше всего в жизни презираю страх и слепое повиновение. Эти оба чувства недостойны ни разумных повелителей, ни разумных исполнителей.
Встал с кресла и, заложа руки за спину, сделал несколько шагов вперёд и назад Михаил Орлов. Сказал твёрдо, с некоей даже самоуверенностью, как и подобает генералу:
— Ставя себя выше законов, государи забывают, что они тем самым ставят себя вне законов человечества! Да-с, господа, таков вывод, к коему нельзя не прийти.
Из дальнего конца гостиной донеслось:
— Иными словами, генерал, вы полагаете: ежели деспот нарушает законы, сама история определяет нам путь к его устранению?
Другой голос вызывающе перебил:
— Нет! Только не это! Моя рука никогда не подымется, чтобы пролить кровь.
— Хорошо! — отозвался вновь Сергей Муравьёв-Апостол. — Тогда другая рука может в итоге пролить нашу кровь.
Орлов остановился возле кресла, но не сел:
— Я закончу свою мысль. Если государи, как я сказал, ставят себя выше законов, невольно получается одно из двух: или сии законы справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным? — или они несправедливы — тогда зачем они хотят подчинить им других?
«Не похожа ли сия мысль на «Вольность», что уже пошла гулять по обеим столицам?» — подумал. Алексей. Подобное уже не раз высказывалось самим Рейном-Орловым в тесном кружке «Арзамаса». Да раньше, раньше, ещё за границей, когда впервые встретился с ним, своим ровесником, первым вступившим в Париж и за это получившим генеральское звание. Ещё с тех самых пор запомнились Михайловы же слова: «Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех народ русский заслуживает и то и другое».
Впрочем, похожее тогда, в самом конце войны, высказывали и Тургенев Николай, и брат Николая Григорьевича Репнина, тоже молодой генерал Сергей Волконский.
Но тогда говорилось как о вожделенной мечте: вот если бы создать в России такое единение, такое политическое общество!..
А нынче, в этих стенах, что, как не тайное собрание? Да нет, откуда? Кто-кто, а Василий бы сказал...
7
На редкость невероятными совпадениями одаряет иногда быстротекущая жизнь, подумал Жуковский. Ещё вчера новый адъютант великого князя Николая Павловича был ему совершенно незнаком. Но стоило только услышать его фамилию — Перовский, как тут же выяснилось, что он родной брат Алексея. А дальше — уж совсем неожиданные и удивительные сочетания с его, Жуковского, собственной судьбой.
Во-первых, оказалось, что они тёзки, во-вторых, из одного, так сказать, гнезда — из Московского университетского пансиона, в-третьих, оба были в сражении при Бородине. И все эти переплетения несмотря на существенную разницу в возрасте на целых двенадцать лет.
Не понаслышке, не с чужих слов создавался знаменитый «Певец во стане русских воинов». Двадцатидевятилетний поручик вместе с воинами московского ополчения находился на левом фланге сражающихся. Вокруг летали ядра, пули, всё грохотало и гремело, охваченное тучами порохового дыма. Но то было не самое пекло, не самое грозное испытание. И даже приключения юного Петра Вяземского в той битве, когда под ним убили одну и ранили другую лошадь, не шли ни в какое сравнение с тем, что выпало в военной судьбе Перовскому Василию и что не могло не задеть впечатлительной натуры Жуковского-поэта.
Но более всего, вероятно, удивила Василия Андреевича общность их судьбы. Конечно, он знал от Алексея о графе Разумовском и о них, Перовских, его «незаконнорождённых».
И сам, разумеется, поведал о собственном родном отце, тульском помещике Афанасии Ивановиче Бунине, и о своей матери — бывшей пленной турчанке Сальхи, принявшей на русской земле имя Елизаветы Дементьевны. Записан же он был в управе как усыновлённый соседским помещиком, от которого и получил фамилию и отчество.
Не любили бередить свои душевные раны ни Жуковский, ни братья Перовские, но коль заходила речь о детстве — могла невольно выплеснуться и боль. И как ни прятали её за шуткой, за деланным вроде бы равнодушием, а беспокойное чувство нет-нет да неожиданно царапало сердце.
Отныне в Петербурге поэт, преподававший русский язык и словесность жене великого князя Николая Павловича — великой княгине Александре Фёдоровне, и адъютант этого князя жили в Анйчковом дворце и постоянно встречались друг с другом.
Молодой офицер, оказалось, любил и тонко понимал поэзию, с увлечением слушал стихи старшего товарища, столь знаменитого по всей России сочинителя.
И сам офицер знал наизусть немало баллад Жуковского и декламировал их с чувством.
Однажды, когда они, по обыкновению, вечером вдвоём сидели в комнате поэта, Перовский вызвался рассказать историю, которую он будто бы недавно прочёл в переводе с китайского.
— Одна из провинций китайского государства, — начал вполне серьёзно Василий Перовский, — известна странным обычаем родителей, которые почти всегда оставляют детей своих с некоторого возраста совершенно на произвол судьбы, дают им какое-либо выдуманное имя и находят удовольствие в том, что через несколько лет сами узнать их не могут... В Китае общее имя сим несчастным: Василий. Два таких Василия, оставленные родными, встретившись, почувствовали, по сходству участи, один к другому некоторую дружбу... ну как, продолжать?
— Прелюбопытная история, — попытался изобразить улыбку Жуковский. — Что же произошло с этими героями дальше?
— Дальше, — подхватил Перовский, — случилось вот что. Оба Василия попали ко двору и были приняты в службу одного из принцев высокой крови китайских императоров, и один Василий, который был немного чернее и умнее своего товарища, воспользовался малыми сими преимуществами, и ему поручили обучать молодую принцессу (которая была монгольского поколения) китайскому языку. Несколько лет исполнял он поручение сие, а товарищ его, не примечая гордости чёрного Василия, и не знал даже, чем мог бы он противу него гордиться, старался поддерживать по-прежнему старинную связь их и дружбу. Но чёрный Василий, мало-помалу отдаляясь от него, воспользовался первою разлукою, забыл его, не писал ему, а писал только принцессе, уверяя её на китайском диалекте в искренней приверженности и привязанности. Принцесса, которая начинала уже понимать и говорить по-китайски и не знала, как зовут Василия чёрного по отцу, отвечала ему: «Су-Кин-Сын Василий! Не верю я твоим уверениям! Кто изменил дружбе, тот не заслуживает веры ни в каком другом чувстве...»
— А ты, Су-Кин-Сын Василий, — смеясь, в манере друга повторил Жуковский, — право, мог бы оказаться неплохим сочинителем. Но к чему же такой грустный конец у сего «перевода с китайского»?
— Затем, чтобы ты, известный поэт, в будущем не надумал бы задрать нос перед безвестным военным.
А у него есть похвальное чувство весёлого и смешного, и он по натуре своей честен и добр, подумал Жуковский. Однако несколько болезненно самолюбив и одновременно горд в самом хорошем, уважительном смысле. И он, хочется верить, никогда сам не предаст ни дружбы, ни собственных убеждений. Да разве начало его службы у великого князя не убедительный пример прямоты и достоинства, ни в какое сравнение не идущих с пресмыкательством и корыстолюбием, которыми насквозь поражены очень многие при дворе, стремящиеся любой ценой пробиться наверх, сделать карьеру?
Как и намечалось организаторами церемоний, закладка памятника-храма на Воробьёвых горах в Москве состоялась 12 октября 1817 года. В тот день гвардия, выстроившаяся от Кремля вдоль Остоженки до самого Девичьего поля, неумолчными криками «ура!» сопровождала проезд императора в окружении многочисленной свиты к месту торжества.
Однако для войска тот день был не окончанием, а лишь началом беспрерывных парадов и смотров.
Через полтора месяца последовало открытие манежа почти у самого Кремля, в феврале следующего, 1818 года — памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.
К каждому достославному событию полкам следовало ревностно готовиться, потому с подъёма до отбоя — барабаны, песни, команды и — под линеечку, по строжайшему ранжиру, чтобы всем, как единому живому механизму, разом, дружно — ать-два, ать!..
В белых, плотно облегающих икры ног лосинах, в тёмно-зелёном, почти чёрном, кавалергардском мундире, с лучистоласковыми глазами — Александр.
Он, покоритель Европы, ни разу самолично не водивший в атаку полки и корпуса, теперь вдохновенно, с упоением управляет экзерсисами каждого рядового и каждого командира в послушном его воле строю.
Меж тем сияющий, излучающий ангельскую доброту взгляд мгновенно туманится и стекленеет, едва встречается с малейшим, даже едва уловимым диссонансом в созданной его императорской волей гармонии. И — тогда уж оглушающая, от которой дрожь по всему телу, барабанная дробь, и только мелькание, мелькание, мелькание окровавленной солдатской спины протаскиваемого сквозь строй нарушителя...
Никому, ни единой душе не позволено ломать то, что сложилось в голове монарха, — ни-ни! Ни рядовому, ни генералу.
Даже старшему офицеру, которого когда-то сам отличил, полковнику Муравьёву Александру Николаевичу — разнос. Да какой — с унижением, как мальчишке, перед всем строем за то, в чём он, начальник штаба сводного гвардейского отряда, как говорится, — ни сном, ни чохом.
Но не рассчитал, не учёл того, на что может решиться этот двадцатичетырёхлетний полковник.
— Ваше императорское величество, — лишь побелел лицом, — извольте тотчас принять мою отставку!
О, этот либерализм, который мне с детства пытались внушить последователи и почитатели французских энциклопедистов, взявшиеся меня обучать, остро, как осколок, возникла в мозгу императора обидная мысль. О, эта наполненная просветительской заразой Европа, куда я привёл свои доблестные войска! Говорили же мне умные и осторожные люди, предупреждали: игра с огнём!.. Чего же ждать от них, иных моих офицеров, почитающих дерзкие мысли о свободе и независимости каждого живого существа выше священной любви и преданности власти монарха, предопределённой самим Господом Богом!
И, чувствуя, как неожиданно противно занемело сухожилие и как будто иголочные уколы побежали по спине, дал шпоры коню и с места галопом — вон, вон из манежа, который с таким нетерпением ожидал и давеча радостно открывал...
В тот раз отставки Муравьёва царь не принял. И учения продолжались прежним порядком — от зари до зари, до изнеможения, до потери сознания...
Но, наверное, ревнивее самого государя почитал строй его брат, великий князь Николай Павлович. Совсем недавно вступивший в должность инспектора по инженерной части, этот двадцатидвухлетний генерал, казалось, специально был создан для казарм, плацев и манежей. Высокий, с осанкой и фигурой чуть ли не Аполлона, он весь преображался, когда с раннего утра облачался в военный мундир. Слегка удлинённое, холёное лицо его, которое можно было принять в иных условиях за приятное и даже красивое, на службе становилось маской — непроницаемой и неподвижной. Но самыми значительными в этой предназначенной для беспрекословного повиновения ему маске были тяжело смотревшие, нет, не в лицо, а в самую душу подчинённого, неподвижные, точно оловянные глаза. Немногие могли выдержать такой взгляд, и это сознание своего превосходства над другими давало великому князю убеждение в его власти над вверенными ему полками.
Когда он, молодой и цветущий атлет, входил в приёмную императора, где в ожидании высочайшей аудиенции находились настоящие боевые генералы, побывавшие не в одном сражении, не только оживление, даже безобидные, ничего не значащие светские разговоры внезапно замолкали.
Как можно быть такими несерьёзными, такими пустыми в часы, когда всё должно напоминать лишь о службе? — читали присутствующие на холодном и надменном лице великого князя. Своё служебное рвение великий князь мог подкрепить разносом любого командира. И многие это качество воспринимали как непреклонное следование уставам и дисциплине, без чего, дескать, армия существовать не может. А где страх, там непременно ищи почитание, даже раболепие перед тем, кто тебя выше и сильнее.
Армия трепетала и в страхе делала вид, что обожает. А гвардия не боялась и не любила. Зато он, великий князь, боялся её, гвардии, потому что не любил.
Но в душе надеялся когда-нибудь и её завоевать. Только не страхом, не окриком, не разносом — иным, до поры до времени политесным, что ли, расположением...
Многим было ведомо: после случая с Муравьёвым, когда, прервав учения, ошеломлённым удалился государь, из строя вышли Сергей и Матвей Апостолы, кто-то ещё, в том числе Василий Перовский, и с чувством пожали руку полковнику Муравьёву. Император правильно угадал: из похода в Европу вернулись офицеры, превыше всего наряду с верностью отечеству уважающие в себе и каждом человеческое достоинство.
А спустя несколько дней Перовский стоял перед Николаем Павловичем в покоях Кремлёвского дворца.
Толстый ворс ковра скрадывал шаги, свечи горели неярко, создавая приятный полумрак, голос великого князя звучал чётко, но негромко.
Хотя вызов был по службе, но с первых же слов хозяин кабинета придал разговору характер полуинтимный.
Как будто речь шла о делах незначительных, приватных, он объявил, что только сегодня передал на подпись государю приказ о переводе Перовского из лейб-гвардии Егерского полка в лейб-гвардии Измайловский и одновременно почтил честью быть его, великого князя, личным адъютантом.
Только теперь, после этих самых слов, Перовский заметил, как лицо Николая Павловича остановилось, точно покрылось тонким, невидимым слоем гипса, и глаза налились свинцом.
Перовский вспыхнул, но не отвёл взгляда:
— Ваше императорское высочество, моей ещё юношеской мечтой всегда являлось желание стать настоящим строевым командиром.
Маска вновь обрела человеческие черты. Великий князь даже слегка повёл головой, отчего тихо затрепетала канитель эполет.
— Хвалю, что превыше всего почитаешь скромность, хотя со связями твоего отца и благоволением к нему нашей императорской фамилии ты мог бы уже давно рассчитывать на многое... Кстати, как граф Алексей Кириллович, здоров?.. Да, между прочим, Аннет, твоя сестра, говорят, недавно была проездом на Москве, и одна, без мужа, с ребёнком? Что так?.. Впрочем, понимаю: нескромно в чужую жизнь... Однако, заметь, трудно удержаться от любопытства, когда речь идёт о такой восхитительной красавице, как графиня Аннет...
В блёклых оловянных глазах вдруг прорезались искорки, затем взгляд стал масленым. Зато лицо Перовского мгновенно побледнело, и он потупился.
Николай Павлович подошёл ближе и взял под руку молодого офицера:
— Я давно приглядываюсь к тебе и скажу, не лукавя: мне по душе твои прямота и достоинство. Такие мне нужны...
Так началась новая служба.
Летели дни, недели. Наступила ночь на 17 апреля 1818 года, когда в Кремлёвском дворце, наверное, никто не спал — рожала великая княгиня Александра Фёдоровна.
И когда появился на свет мальчик, тут же наречённый Александром, и началось неописуемое ликование, к отцу новорождённого, великому князю Николаю Павловичу, был спешно вызван его новый адъютант.
Во дворце все гадали с недоумением и неприкрытой завистью: отчего честь скакать к императору с радостною вестью выпала именно Перовскому, а не иному другому адъютанту или же ещё кому из приближённых к августейшей фамилии?
Перовский же между тем как был в мундире, так и бросился к себе на кровать.
К нему вошёл Жуковский.
— Никак, захворал? — спросил он, ничем не выдавая своей озабоченности.
— Саднит в груди, должно быть, просквозило. — И с болью душевной, нежели телесной: — Не поскачу, откажусь! Не мальчишка я на побегушках, чтобы сломя голову через всю Россию — к монарху с вестью о рождении племянника, а за спиной — ропот: «Как выслуживается!» Это ты за ночь уже настрочил оду в честь своей ученицы, разродившейся августейшим принцем. И пожелание ему верноподданнически высказал: «Жить для веков в величии народном, для блага всех — своё позабывать».
Жуковский не произнёс ни слова, и Перовский вскочил с постели:
— Прости... Не думал я тебя обидеть. Но как поступить мне, если такая служба не согласуется с моими принципами? Как поступать мне в сих положениях? Научи!
Мягкая ладонь Василия Андреевича легла на плечо друга:
— Я знаю, о чём шепчутся сейчас в коридорах: «Счастливчик! Вернётся обязательно полковником и с орденом в петличке...» И то, что они, блюдолизы и завистники, тебя на одну доску с собою — для тебя хуже смерти... Тебя это злит и бесит... Но службу можно исполнять по-разному. Для одного она — жить только для себя, для других — долг, который надо исполнять честно, именно — своё позабыв. И я горжусь тем, что в первый день жизни человека, кем бы он впоследствии ни оказался, моим пожеланием ему стали слова о служении людскому благу. Разве этого мало, если каждый сущий на земле будет отходить ко сну и вставать с одной лишь мыслью: что он принёс другому, чем осчастливил его, с кем разделил радость, а если потребуется, и горе?..
8
Самые различные понятия, возникающие в головах разных людей, закрепляются на бумаге одинаковым для всех способом — словами и посредством же оных передаются другим.
Но случается, и слова на одно лицо, а понятия противоположные. Да вот, к примеру: «царь», «тиран», «злодей»... Подобные выражения есть, скажем, в «Истории государства Российского» и у молодого Пушкина в «Вольности». Но автор оды — в ссылке, историограф же на вершине почёта и славы. И произошли оба события по времени близко друг к дружке — одно в мае, другое в январе одного и того же, восемьсот двадцатого, года.
В январе, в разгар зимы, — собрание Российской Академии.
Не мог пропустить сие заседание Алексей Перовский — доктор словесных наук да ещё недавно к тому ж избранный членом Вольного общества любителей российской словесности.
А собрание — каких не бывало: чтение из нового тома «Истории». Допусти — весь Петербург привалил бы слушать знаменитость!
А как иначе назвать сего автора, если «История» его разошлась тому уже два года назад в двадцать пять дней! Да в каком количестве — три тысячи экземпляров! Столько штук книг не печатали ни одному русскому сочинителю. «Не равняемся с Англией, но, однако ж, это замечательно», — вырвалось у самого историографа, не ожидавшего такого триумфа.
Алексей, как только увидел в «Сыне отечества»[22] объявление, — тут же к дому Баженова в Захарьевской улице, близ Литейного, где во флигеле комиссионер Косматой начал продажу издания. Оплатил покупку и велел сегодня же доставить.
За все восемь томов полагалось полёта рублей. В Москве же — цена на восемь рублей дороже, а в провинции — ещё более.
Захоти приобрести сочинение простой мужик, книжки обошлись бы ему чуть ли не в два годовых оброка. А ведь наряду с литераторами, чиновниками, придворными и военными встречались во дворе лавки армяки и тулупы. Николай Михайлович, узнав о сём примечательном факте, не постеснялся, что обидит нежные ушки салонных дам и паркетных шаркунов, возрадовался: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева».
Все накинулись на «Историю» — даже девицы! Спрашивали друг друга, как раньше справлялись о здоровье: «Читали?»
Николай Михайлович рассказывал Алексею и другим: в Варшаве император Александр спросил Петра Вяземского об этом же. Тот: «Не успел ещё». Царь же с чувством нескрытого превосходства: «А я — от начала и до конца».
Однако откликнулся читатель и незаворожённый. И что примечательно — в их, арзамасско-карамзинском литераторском кругу.
Николай Тургенев, признав, что почувствовал прелесть в чтении, тут же — из ушата холодной водой: главный изъян сочинения в том, что автор плохой философ, он видит, что рассуждать об иных событиях опасно, потому объяснений избегает.
У Тургенева вышла и своя книга — «Опыт теории налогов», — над которой он немало трудился и где пытался честно ответить на вопрос о том, как быстрее преодолеть народную нужду. А коли не сошлись мыслями, решил не посылать своё произведение тому, кого знал и обожал с детства... Кстати, весь доход от книги Николай Иванович отдал за не уплаченный крестьянами оброк.
Вострили перья против историографа Никита Муравьёв и Михайло Орлов, впорхнула птицей чуть ли не в каждый дом, наделав переполоха, эпиграмма, приписываемая молодому Пушкину: «В его «Истории» изящность, простота доказывают нам, без всякого пристрастья, необходимость самовластья и прелести кнута».
Чего ж хотели от писателя, который со всею верностью историка, везде ссылаясь на летописи, нарисовал правдивые картины подлинных событий и не только не унизил, но возвысил деяния родного народа?
Со всей горячностью и страстью Алексей Перовский в изустных баталиях держал сторону своего кумира. Да он ли один? И подлинным взлётом славы историографа явилось то собрание академическое.
Целых полтора часа читал писатель в присутствии своих собратьев. И академики, дыханье затаив, внимали. А чтение то — об ужасах Иоанновых!
Боялись накануне устроители: как царь Александр? Сам Карамзин не пошёл за разрешением — вызвались другие. И небывалое случилось: противу всяких правил учёного политеса впервые за всю историю академических собраний — всеобщее рукоплескание.
Шишков — длинный, сухой как жердь — почтительно склонился перед историографом, вручая ему большую золотую медаль с изображением Екатерины Великой.
В том акте — как бы двойной триумф: признание читающей публики и президента академии, с которым, считалось, были на ножах по различию приятия нормативов словесности. Но вона чья взяла! И как ни делал Николай Михайлович меланхолическим и равнодушным выражение лица, как ни пожимал плечами, дескать, главное дело не получать, а заслуживать и что, мол, не писатели, а маратели всего более мечтают о патентах, многие отмечали: рад!
Однако при чём здесь возвеличивание одного и наказание другого и как сложились, как переплелись судьбы Пушкина и Карамзина?
При чём здесь слова о властителях, царях и злодеях? Сказать: «Что положено Юпитеру...» — значит ничего не сказать. Никакие рукоплескания в академии не заглушили воплей, которые за её стенами поднялись: а надо ли в «Истории» о жестокостях царей, не лучше ль всё внимание — возвышенному?
Но надо было и размыслить: а кто цензор, кто разрешил? К тому ж о самодержцах давно в Бозе почивших велась в «Истории» речь.
А тут мальчишка, шалопай. Да страшно молвить — на живого!.. «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу...»
А далее — язык не повернётся повторить за этим якобинцем...
Да за такое!..
Маячили уже за неслыханную крамолу, что со времени Радищева и не мнилось, Соловецкий монастырь или Сибирь-матушка.
Однако не кто иной, как Карамзин, и спас: замолвил слово.
Лишь ему да ещё Жуковскому оказалось по силам убедить царя отослать «беспутную головушку» в иные, южные, пределы отечества.
Хлопотал, если не перед царём, то у Нессельроде, и Тургенев Александр.
Это ведь он когда-то настойчиво рекомендовал Сергею Львовичу определить сына в лицей. И вот теперь — забота о вынужденном повороте жизни своего крестника.
Пушкин уезжал к новому, вынужденному месту службы и под присмотр надёжных государственных мужей в весёлом расположении духа.
А что надо молодости, если казна соблаговолила ссудить на дорогу тысячу рублей да в «Невском зрителе» и «Сыне отечества» тиснуты первые отрывки «Руслана и Людмилы» и вот-вот поэма выйдет отдельной книжкой!
Первое большое сочинение, задуманное и начатое ещё в лицее!..
Благородный Карамзин сделал для юного поэта всё, что мог. Настойчиво просил царя: «Из уважения к таланту». Но надо ли ему, заступнику, так — в письмах и беседах с друзьями — о его, Пушкина, как он выражался, «поэмке»: «В ней есть живость, лёгкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса: всё смётано на живую нитку»?
Нет, тут со своим кумиром Перовский никак не мог согласиться!
Алексей не провожал изгнанника — в мае пребывал в краях малороссийских.
И не был в Петербурге в марте, когда на своём портрете работы гравёра Эстеррейха Жуковский написал: «Победителю-ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820. Марта 26». Такое не выскажешь, если стихи — «на живую нитку».
Завидовал Василию, брату, — тот не раз у Жуковского слушал, как читал поэму автор. Алексей же наизусть затвердил почти все строчки, когда в июле обзавёлся книгой.
Господи, что за прелесть оказалось сочинение! В нём и душа народной сказки, и занимательность рыцарских приключений, и аромат русской древней истории, которая будто сошла с недавних страниц Карамзина!..
Что же скажет публика, что — критика? Если уж на самого Николая Михайловича ополчались, тут юному, начинающему всего можно ждать.
К тому ж и сам историограф хотя не в печати, но плеснул уже масла в костерок...
Пожалуй, Алексей нашёл бы места, где стих хромает, слог не до конца отшлифован. Ждал, что кто-то в этом духе в печати и заговорит. Никто ведь ещё из соотечественников в таких молодых летах не подавал надежды, как Пушкин, сей гигант в словесности. И посему всё, что пойдёт ему на пользу, следует тактично и учтиво высказать.
Однако первые же отзывы — точно строгий допрос, который взялись учинять почтенные критики юному таланту.
Перовский получил свежий нумер «Сына отечества» и ахнул — не статья, а полная котомка вопросов, из которых один хитрее другого! Все — «зачем» и «почему». Зачем один герой поэмы сделал то-то, а другой — иное. Как, на каком, мол, основании? И в каждом вопросе — подвох, желание уличить поэта в невежестве и стремление его прилюдно высмеять.
Но вышел следующий нумер журнала — в нём ещё одна критика. Та, первая, подписана была: «г-н В», эта же: «NN». Но статьи словно близнецы по смыслу — тот же допрос с пристрастием, намерение посмеяться над поэтом.
А не хотите ли, господа учёные критики, сесть в лужу?
Нельзя не пожалеть, что в Петербурге нет самого автора, который мог бы удовлетворить излишнему и неумному любопытству вопрошателей. Что ж, он, Перовский, готов взять эту миссию на себя и постоять за сочинителя.
Ах, до чего Же «остроумный» вопрос задаёт критик поэту: «Зачем Финн рассказывал Руслану свою историю?» Хм, нетрудно догадаться — затем, чтобы Руслан знал, с кем имеет дело. Впрочем, старики обыкновенно бывают словоохотливы. А вы не согласны, господин критик, скрывшийся за двумя литерами «NN»?
Дальше — ещё «глубокомысленнее» вопросик: «Зачем Руслан присвистывает, отправляясь в путь?» Дурная привычка, господин критик, не более того. Не забудьте, пожалуйста, что вы читаете сказку, к тому ж ещё шуточную. Вот если бы автор сказал, что Руслан просвистывал арию из какой-нибудь оперы, то это, конечно, показалось бы странным, но просто присвистнуть, право, можно ему позволить...
Только к утру, исчеркав десяток листов, перебелил свою антикритику и не удержался, показал начальству.
Тургенев Александр склонился над сочинением, прыснул:
— А здорово ты его!.. Однако вот и следующий вопрос. Любопытно, каким манером наш уважаемый доктор словесности на него отвечает? «Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить с колдуна шапку (впрочем, в испуге чего не наделаешь!)?» — «Так точно, господин критик! Другой причины не было, и нам очень приятно видеть, что вы сами собою успели разрешить сей важный вопрос!»
Тургенев поднял глаза и обнаружил, что в кабинете стоят Воейков[23] и другие сотрудники и что листы, которые он уже прочитал, ходят по рукам.
— Твой ответ, Алексей, непременно надо напечатать как отповедь критику «господину В» и этому «NN». Не возражаешь? Тогда я передам статью в редакцию «Сына», — произнёс Тургенев.
— Не знаю... не знаю... Поэмка и в самом деле не лишена погрешностей. Стоит ли из-за неё ломать копья? — принимая учительский вид, сипло проговорил Воейков.
Александр Фёдорович не так давно был зачислен в департамент иностранных вероисповеданий, до этого же числился ординарным профессором русского языка и словесности в Дерптском университете, где и получил степень доктора. По годам он был лет на пять-семь постарше Перовского и Тургенева, но выглядел значительно старее. Тому причиной, может быть, была некоторая одутловатость в лице и неряшливость в одежде, исходивший от него запах крепкого табака и нередко — водочки.
— Представьте, господа, что я не нахожу ничего смешного в вопросах критика и ничего очень уж остроумного в ответах многоуважаемого Алексея Алексеевича, — прочистив горло, продолжал Воейков. — Я сам не постигаю отдельных мест в поэме Пушкина, к примеру выражения «могильный голос». Не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?
— Голубчик Александр Фёдорович, — не сдержал смеха Перовский, — признайтесь, что вы воображаете, будто сказали острое словцо. Да как можно сего выражения не понять, если оно давно существует не только в нашем разговорном, но также в немецком и французском! Да вот вам из иностранных языков...
— А такие пассажи, — перебил Воейков, — как «сладко продремав» вместо, наверное, «всё утро продремав» или «рыцарские перчатки»? Существовали ли они у рыцарей в ту пору?
— Э, да вы, однако, не только профессор словесности, но и искусный антиквар, понимающий толк в древностях! — не сдержал иронии Тургенев. — В таком случае, будьте добры, объясните нам, если вам о том помнится, когда впервые возникли сии предметы не только мужского, но и дамского туалета, как перчатки?
Перовский тем временем состроил умилительную рожу за спиной Воейкова и, выйдя вперёд, воскликнул:
— А я, милейший господин Воейков, сделал сейчас прелюбопытное открытие: критик, спрятавшийся за буквою «В», с коим солидаризируется и «NN», —это вы! Не отпирайтесь! Полное тождество я легко установил по вашим теперешним вопросам — как две капли воды они из статьи в «Сыне отечества». Посему вам, учёный критик, я отвечу во второй своей статье, как только напечатают мою первую. Идёт? Причём наперёд долгом своим считаю объявить, что личности я не имею никакой ни против «господина В», ни против вас.
9
Только теперь, оказавшись на берегу тихой Судости, за добрую тысячу вёрст от Петербурга и за полтысячи от Москвы, граф Алексей Кириллович впервые отчётливо понял, что жизнь не просто остановилась, но обрела крутой обратный ход.
Здесь, в любезном сердцу Почепе, впервые за многие годы без страха подумал он, в давно желанном покое и одиночестве ему надлежит провести последние свои дни и здесь же лечь в мать сырую землю.
Из окон родового, ещё отцовской постройки, дворца, в два этажа возвышавшегося на высоком холме, виделся огромный, сбегавший террасами вниз к реке парк, а за ним — синее крыло неохватно протянувшегося Брянского леса.
Лес этот в водоразделе среднего течения Десны, сестры Днепра, издавна являлся границей между Украиной и Великороссией. К югу от могучих хвойных и дубовых рощ расстилались бескрайние, уходящие к жаркой Таврии, радующие душу вольностью и ширью малороссийские степи, а в северной стороне оставалась шумная, чуждая жизнь столиц, в которую он то лениво, с нехотью до сего времени погружался, то, ожесточаясь, её покидал.
Ныне — последний уход от той жизни. Это теплило, тешило сознание. Всякий раз он принимал добросклонность и ласки двора, лишь милостиво позволяя монархам себя уговорить. Зато всегда их покидал — хлопая дверью.
И самоуверенная Екатерина, и вероломный Павел, и коварный Александр — ничего, терпели!
А кто, собственно, они такие против них, Разумовских? Это ведь ещё надлежит крепко поразмыслить, прежде чем определить, кто из них более «в случае». И если уж на то пошло, кто законнее и ближе к трону Петра: потомки простого казацкого рода, но плоть от плоти своего, славянского, корня да законным церковным браком соединённого с родною дщерью великого российского императора — или, скажем, чужих, немецких, кровей нищая бесприданница?..
От то-то, Панове! — как любил говаривать отец Кирилл Григорьевич, малороссийский гетман и президент Петербургской Академии наук, — родной брат Алексея Григорьевича[24], бывшего украинского парубка, а затем супруга российской императрицы Елизаветы Петровны. Так-то, Панове!..
Однако последний расчёт со двором не выходил из головы, горел хоть и слабым, но каким-то противным крапивным зудом.
Никто и на сей раз не гнал, упаси Боже! Просился в отставку сам, и давно уж. Но вот как её получил — это и ущемило.
Александр пригласил, когда граф, право, и забыл о своей настойчивости. Обласкал лучистостью глаз, выражал одни приятности и, уже вставая, вручил на пергаментном листе писанное отменной каллиграфиею личное к нему императора обращение: «Граф Алексей Кириллович! Приемля в уважение принесённую Вами просьбу и расстроенное здоровье, я увольняю Вас от службы, назначая Вам пансион по десяти тысяч рублей в год. Пребываю Вам благосклонный Александр».
Будто выставил вон... А не так втайне мечтал проститься! Чтобы с задранной вверх головой да ни на кого не глядя через порог — и дверь не они, а сам бы наотмашь...
Собственно, так он от двора самой Екатерины ушёл — не по нраву, и всё тут!
Как все сыновья гетмана и президента академии, он, Алексей Кириллович, старший средь братьев, образование получил отменное. Сначала в том домашнем институте, или «малой академии», на Десятой линии Васильевского острова, где занятия вели лучшие учёные Петербурга и Европы, затем — диплом Страсбургского университета.
Отец их, сам в отрочестве пастух и брат пастуха, на себе испытал: случай случаем, да и себя надобно тянуть за уши наверх. Восемнадцать годков всего было ему, когда уже возвратился из Германии, где по распоряжению Елизаветы постиг многие научные премудрости и иноземные языки не где-нибудь, а в Гёттингене и Берлине. Посему с малолетства и сыновей наставил на ту же стезю.
В одну из годовщин своего восшествия на престол Екатерина произвела старшего сына гетмана в тайные советники и назначила сенатором. Но вот какие письма вскоре начал он направлять отцу, когда тот по гетманским заботам выезжал из столицы всея Руси в Батурин, свой стольный малороссийский град: «Мне кажется, что всякий капрал нужнее меня отечеству и несравненно более имеет случая оному делать заслуги. Сии мысли, весьма нередко мне воображающиеся, может быть, отчасти являются причиною тому, что я не только ни малой по сие время склонности не чувствую ко двору, но, напротив, чрезмерное во мне к оному отвращение повседневно прибавляется. Сил моих более недостаёт продолжать столь противную мыслям моим службу. Следствия же сего принуждённого моего состояния те, что и нрав мой час от часу переменяется, и здоровье моё совсем от того истребляется...» И — куда уж откровеннее: «Все пути к достижению чести и похвалы молодому человеку закрыты, кроме одного: худые или хорошие свойства души в людях не уважаются, а поставляют в достоинство одни преимущества телесные. Вы представить себе не можете теперь, в каком развратном состоянии найдёте двор по возвращении Вашем в Петербург. Три фаворита вдруг сильны и велики; один другого давит и старается более возвыситься унижением своих соперников...»
Видно, не скрывал своей презрительности и перед матушкой государыней — при обсуждении дел в Сенате вдруг капризно возражал, упрямо не давал своего голоса при принятии того или иного закона, выгодного, по его убеждению, лишь фаворитам и всевозможным приспешникам.
Однажды, когда к нему прямо изволила обратиться императрица с укором на его строптивость, ответствовал: «Нехотя повинуюсь...»
А что потом? Известно — прошение об отставке. Однако — с гордо вскинутой головой...
Росла гордыня непомерная: коль вы такие, то мы вам не слуги.
Когда принял трон Павел, возвращавший на службу тех, с кем по разным причинам не поладила мать, надменно отказался Алексей Разумовский от его предложения вернуться в Сенат.
Образованный, утончённый ум искал точку приложения и нашёл: ботаника. В полученных от отца имениях — сначала в подмосковных Горенках и Перове, затем в малороссийском Почепе и вокруг него — всерьёз занялся садоводством и парковым искусством. Не жалел денег — выписывал учёных, различные экзотические сорта декоративных и плодовых деревьев, кустарников, трав... И преуспел: ботанические сады и оранжереи удивляли соотечественников и иноземцев. Объединил вокруг себя единомышленников и основал первое в России общество испытателей природы.
Наверное, и мимо Александровых предложений вернуться к государственным деяниям прошёл, если бы не мелькнувшая мысль: выпросить для природоиспытательского общества титул императорского. Но для этого пришлось принять предложение молодого императора стать попечителем Московского университета.
Злые языки болтали: Разумовского оторвали от теплиц, чтобы поставить во главе рассадника просвещения.
Ладно, брешите что ни попало, думал он про себя тогда, а только у царствующей династии свой интерес, у него, Разумовского, — тож.
При всём же при том — удовлетворение самолюбия: на поклон — не сам, а он — внук Екатерины...
Собственно, с неё, самозваной государыни, вся эта сумятица и началась в душе и уме: если бы не отец, гетман и президент академии, не видать бы развратной чужеземной бабе российского престола и неизвестно, на каком монастырском подворье, где из кельи — лишь краешек неба, могла бы окончить она, заговорщица, свои дни...
Однако гетман — и великая княгиня, ставшая императрицей... Даже теперь поставь имена рядом, произнеси вслух связанную с ними тайную мысль, сочтут сумасшедшим. Но — было! Тут уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить...
В ту пору, когда Ангальт-Цербстская принцесса с тремя заношенными платьями в сундуке и матерью-побирушкой прикатила в Петербург, на неё, тьфу, стыдно было смотреть. Гусыня щипаная, а туда ж — невеста внука Петра Великого, наполовину тоже, прости Господи, немчика, наследника российского престола... Но поди ж — Елизавете Петровне, взявшей на себя патронаж над племянником, сыном старшей сестры Анны, невеста приглянулась — не дура оказалась принцесса, поняла, что всё поставлено на карту. Такая фортуна одной из миллионов не выпадает, только в сказках встречается, а тут с ней — всё наяву.
Коротко, хитрая и смышлёная гостья из германского города Штеттина обворожила и ненаглядного супруга императрицы Елизаветы — Алексея Григорьевича.
Эх, дядя, родной дядя Алёша, можно сказать, некоронованный монарх, куда ж ты глядел, кого подпускал к престолу? Ай не чуял своим природным хохлацким умом, куда скакнёт эта неуклюжая девчонка-подросток по имени София Августа Фредерика, или просто Фике, как звали её там, у себя, в Германии?..
Но ладно бы один дядя приложил руку к её возвышению. На трон-то её возвёл отец — гетман и президент, он же командир лейб-гвардии Измайловского полка!
То было ранним июньским утром семьсот шестьдесят второго года, когда в слободе Измайловского полка граф Кирилл Григорьевич обратился к дрожавшей от возбуждения и от несхлынувшей ночной прохлады пока ещё просто императорской супруге:
— У меня в Петербурге две силы — Академия наук и Измайловский полк. Наука сейчас бессильна, зато верная опора твоя, матушка, — солдаты и штыки... С Богом!..
И через мосты Сарский и Новый — в столицу, ко дворцу.
Но и вторая сила, наука, проявила себя. Пока гвардия во главе со своим командиром и без пяти минут самодержицей российской Екатериной Алексеевной скакала по Невскому, в городе, в подвалах академии, печатный станок уже оттискивал слова манифеста: «...Промысл Божий», «избрание всенародное...».
Да, если бы не он, батюшка, гетман и президент, неизвестно, как завершилось бы противостояние Екатерины и её муженька, внука великого деда, императора Петра Третьего, убиенного, можно сказать, если не собственными руками бывшей Фике, то уж точно — руками её фаворитов Орловых.
Однако тех, кто знает их сокровенное, тираны не забывают. Уже томились в темницах претенденты мнимые и законные. Ждала: вдруг заявят свои права Разумовские? Всегда ведь те, кто совершает вероломство, полагают эту черту прежде всего не в себе, а в других.
К Разумовскому Алексею Григорьевичу, вдовому императорскому супругу, тишайшему и всё ещё красивому в старости сиятельнейшему графу, государыня прислала доверенного человека. Хотела одного — хотя бы глазком взглянуть на бумагу, удостоверяющую августейший брак. Если бумага-де сохранилась — мало ли что её могло ожидать в треволнениях века, — она готова обнародовать манифест о принадлежности графа к императорской фамилии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Аничковом дворце, в кабинете Алексея Григорьевича, горел камин. Но, глядя на его яркое пламя, красавец старик видел себя молодым и рослым рядом с чернобровой, круглолицей, с ямочками на щеках, весёлой нравом Елизаветой. Вот так же ярко пылали свечи и в гулкой пустоте церкви Самсония, что в Перове, звучал голос дьякона: «Нарекаю вас мужем и женою...»
Не хотелось расставаться с видением, но красавец граф открыл заветную шкатулку, пробежал сам драгоценные строки свитка и повторил их вслух, слово в слово, при посланце государыни.
Рука облечённого доверием самой Екатерины протянулась к свитку. Но в тот же миг свиток этот выскользнул из разомкнутых перстов Разумовского и угодил в камин.
Ярким столбом, будто устремляясь к самому небу, вспыхнула ещё раз необыкновенная судьба двух когда-то безоглядно любивших друг друга сердец.
И снова перед его глазами воскресли воспоминания. Он, парубок Алексей, стоит на клиросе в своих родных Лемешах, и голос его разносится окрест — громкий и чистый. Как заворожённый слушает необычной силы и красоты пение придворный полковник, оказавшийся на хуторе проездом. А вскоре красавец пастух в Петербурге предстаёт перед очами цесаревны Елизаветы, будущей всероссийской императрицы...
Боже, неужели всё это осталось только в воспоминаниях? Но пусть это сохранится только при нём. Это его жизнь и его судьба, к ней никто на свете не имеет и не должен иметь никакого касательства.
Граф встал — всё ещё рослый, с прямой спиной.
— Вы все видели и слышали? — обратил он свой голос к посланцу государыни. — А теперь извольте передать её императорскому величеству, в чём вы сами убедились: у Разумовского нет никаких свидетельств, её интересующих.
Как она, всемогущая государыня, могла поступить, если не осыпать проявлением благосклонности того, кто мудро разгадал её тайный замысел?
Но оставалась угроза и иного свойства, теперь уже от младшего брата — гетмана: тот лелеял мечту сделать свою должность наследственной. Это же как — второй престол рядом с её, всероссийским?..
Н-да, не раскинь она своим жёстким мужским умом, быть бы сейчас ему, графу Алексею Кирилловичу, наследником дел и замыслов родного отца, сидеть на законном малороссийском троне.
Да вот обошла, обскакала на вороных самозванка-бесприданница. Но не с простаками схлестнулся её род: коли вы такие, то и мы вам не слуги.
Брат Андрей напрочь отделил себя от двора, поселившись навечно в Вене. Вот и он, старший теперь из всех Разумовских, тоже вроде бы эмигрант, хотя и у себя в России. Но то ж эмигрант по своей воле...
Вспомнил недавний список с оды, невесть как к нему попавший. Называется сия ода «Вольность», а сказывают, бывший лицеист Пушкин её автор.
Не подвела память: курчавый, с арапчатым лицом, перевернувший на экзамене душу Державина. Помнится, с отцом его на торжественном обеде потом разговорились — боялся тот за необузданный норов юнца. Так вот этот сорванец-вольтерианец вызвал в сих стихах тень убиенного в замке императора Павла!
От бабки, от хитрой Фике, бывшей захудалой немецкой принцессы, протянулась к российскому трону костлявая удушающая рука: при ней — мужа, при её внуке — родного отца... Про себя-то да с глазу на глаз — вся Россия о том ведает. А тут этот пострел — да на всеобщее обозрение, во весь голос прилюдно! Ясно, что мальчишке грозило. Однако шила в мешке не утаишь, и всё незаконное, да ещё обагрённое кровью, не иначе как только боком и выйдет...
С сей мыслью словно облегчение наступило, словно реванш взял наконец. Будто ту дверь — снова наотмашь!..
И ещё для успокоения пришло: не Александру служил — России. А как уж вышло — не время ещё для итогов. Другие подведут, если добрые дела сумел оставить.
Одно пока всё видят: нрав — не сахар. Сие и ему о себе известно. Наверное, и в шпильках, которыми иные хотят уязвить, есть резон: к оранжереям был более привязан, чем к кущам наук и просвещения.
Э, в деревьях свой смысл, подчас более высокий, чем в образе людском.
Нашёптывали в ухо, а иные осмеливались учить, когда принял министерский пост, как путём просвещения влиять в лучших видах на человеческую природу.
Ему-то было ведомо другое: лишь природе можно привить определённые человеческие идеи, заставить её путём искусственного вмешательства передавать не только мрачные, но и элегические, торжественные, печальные и радостные чувства.
И разве его сады и парки не свидетельство его убеждений? Натуры же человеческие — суть смятенные внутренним разладом, ищущие и не находящие покоя и гармонии в себе самих.
10
— Явился? А я полагал за тобой в Петербург эстафету слать. Но коли прибыл, вели снаряжать обозы в Баклань: сбираюсь слушать тамошних соловьёв.
Так он, уже тому почти четыре года назад, тронулся из Петербурга в Горенки, оттуда сюда, в Почеп, — обозы загодя. Да ещё ранее в столицу направлялся к министерскому посту — за полгода, если не более, наперёд собственной персоны выслал возы со столами, стульями, шкапами, перинами, горшками, стаканами и стаканчиками, ложками и плошками, шляпками и тряпками, со всей, как говорится, пакостью, принадлежащей человеческой жизни. А кроме того, тащилось до сотни душ прислуги разной, не менее дюжины лакеев и полдюжины кучеров, свои настройщики рояля, пирожник, кондитер, мальчики-казачки и для хорового пения люди с собственными же оркестрантами.
Почепский дворец во всякое время года был содержим, как снаружи, так и внутри, в наилучшей исправности и порядке, снабжён всякою мебелью и прочими обиходными вещами в полном достатке. Одной постоянной прислуги здесь числилось триста человек. Но тем не менее и сюда, предваряя приезд самого, из Белокаменной поскакали служащие, потянулись обозы с ложками-плошками и шляпками-тряпками в таком количестве, что платёж наёмным извозчикам составлял до семи и более тысяч рублей в каждый месяц.
Сей порядок вёлся от отца-гетмана. Тот, прежде чем сняться с места, рассылал управляющим поместий, бурмистрам деревень, казацким полковникам в городах целые приказы-реестры: «По получении сего предписывается тебе отправить туда-то и туда-то столько-то крестьянских подвод, по лошади со двора (или по стольку-то коней с эскадрона), нагрузив их таким-то количеством четвертей овса, пшеницы, ржи, а также курами, гусями, утками, которые должны быть убиты ещё зимою, хорошо заморожены, хорошо упакованы и препровождены при описи с верными людьми...»
Сам трогался вслед в карете, запряжённой восьмёркою лошадей, в сопровождении эскадрона гусар. В каждом уезде — по всей дороге, к примеру от Петербурга до Глухова, — его встречали по-царски: помещики в пышных париках, праздничных кафтанах и шёлковых чулках. К ужину, зная вкусы гетмана-президента, готовился обильный французско-украинский стол.
Алексею Кирилловичу, в отличие от отца, не полагались триумфальные почести, да он никого, кроме собственной персоны, не полагал достойным своего общества, потому встреч даже с соседями-помещиками высокомерно избегал. Но подчеркнуть при случае свою принадлежность к одной из самых богатых и знатных фамилий в России любил.
В день открытия лицея — его детища — в Царское Село им был снаряжен обоз, растянувшийся на целую версту. На телегах — свиные туши, кады с маслом, окорока, вина... На двухчасовой фриштык[25] министр просвещения не пожалел собственных одиннадцати тысяч рублей, зато в лоск уложил за столами родителей и учителей.
В Баклани, где в английском саду возвышался почти такой же по своей грандиозности, как в Почепе, родовой дворец палладинской архитектуры, с портиками и венчающим куполом, никого не следовало удивлять пышностью и ублажать показной щедростью. Удовольствие в собственном имении надо было доставить лишь собственной персоне. И для того следовало снаряжать телеги и возы, чтобы каждая прихотливая мелочь, коей отродясь он не пользовался, тут, в нескольких десятках вёрст от дома, на всякий случай имелась под рукой.
Перовский Алексей вопросительно взглянул на отца: соловьи засвищут в самом начале лета, сейчас же март, излом санного пути, с недели на неделю жди буйного разлива Судости, вдоль которой должен пролечь путь. Как пройти обозам?
— Я в Чернигове уже сменил полозья, на колеса, — намекнул он.
Граф — на выточенной целиком из агата и усыпанной алмазами и рубинами изящной трости маленькие, высохшие, с коричневой старческой кожей руки — всё, оказывается, предвидел, посему и бровью не повёл:
— Вели управляющему и бурмистрам: на всём пути строить гати, чтоб согнали мужиков со всех деревень — с пилами и топорами.
Находившийся тут же, в кабинете, доктор француз Бонгарде привстал:
— Позвольте, ваше сиятельство, уверить вас, что сие многотрудное путешествие может оказаться в плачевном несоответствии с состоянием вашего здоровья. Вены ног ваших, как я уже давно изволил вам заметить, мне внушают определённые опасения.
— Пустое! — остановил врача Алексей Кириллович. — Лета мои ещё не принадлежат ко времени глубокой старости — семьдесят четвёртый пошёл. А Бог часто за семь десятков продлевает человеку его ещё рассудительные дела.
Но доктора — пророки. Алексей прочёл в глазах отцова эскулапа приговор более скорый, чем обещали слова: считанные дни отпустил Господь графу.
Уже много лет спазмы стягивали икры ног как железным обручем. Ныне стало нестерпимее — антонов огонь отдавался уж в бедре. Граф слёг, и Мария Михайловна перепугалась не на шутку. Алексей послал эстафетами сообщения о несчастье в Петербург и Полтаву дочерям отца, в Одессу — его сыну да собственным братьям Василию и Льву.
Княгиня Варвара Репнина прибыла первой, привезла с собой доктора. Из кибитки — прямо к отцу, но остановлена была на пороге секретарём графа, стариком Сорокой:
— Ваше сиятельство княгиня, милая Варвара Алексеевна... Граф-с не велели никого-с допускать... Только одна Мария Михайловна ухаживают за ними-с. Да ещё господин Перовский, Алексей Алексеевич, удостоен-с...
Алексей как раз выбежал встретить прибывшую, и она кинулась к нему на грудь:
— Алексис... Алёша... Что ж это: я — и чужая?..
Не только своих «воспитанников», как именовались Перовские, законных чад лишил детства Алексей Кириллович.
Когда простился с женой, старшей дочери, Варваре, было шесть, младшей, Екатерине, — год. «Воспитанники» появились на свет позже. И старший из них, Алексей, помнил уже взрослых барышень, живущих в противоположном от них флигеле. Граф и с ними, по своему обыкновению, виделся считанные разы в году, а гувернантке дочерей мадемуазель Калам, обитавшей во дворце всего через несколько комнат от графских покоев, отсылал свои распоряжения лишь в письменном виде.
Кого хорошо знал Алексей, так это Екатерину, что жила в пору их детства и здесь, в Почепе, и в Москве, и в петербургском доме до самой своей свадьбы с Сергием Уваровым.
Сей блестящий молодой человек, вернувшийся из Вены с дипломатической службы в пору, когда граф только что принял пост министра, появился в их доме с рекомендательными письмами «эрцгерцога Андреаса». Преуспевший юный дипломат, сделавший карьеру с помощью своего дяди канцлера Куракина в одной из самых первых столиц Европы, теперь рассчитывал на завидное место в Петербурге. Помогли не только письма. Он влюбился в дщерь графа-министра и сделал ей, уже изрядно засидевшейся, настойчивое предложение. Невеста была старше жениха, и, как круги по воде, поднялся в салонах шёпот: никак, объявился ловец чинов.
Но ни жених, ни граф нс придали значения пересудам — к свадьбе министр преподнёс своему будущему зятю завидный подарок: выхлопотал для него у императора чин действительного статского советника и должность попечителя Петербургского учебного округа.
Ещё были у графа наследники — сыновья Пётр и Кирилл. Петра ранее Варвары отец отставил от дома — определил в военную службу. Дослужившись до полковника, тот, по несчастью, окружил себя проходимцами, которые заставляли его подписывать самые невозможные обязательства. При сдаче полка образовался долг в семь тысяч, который нехотя погасил отец, после чего связь между ними оборвалась. Жил Пётр Алексеевич в Одессе и, когда заимодавцы подступали с ножом к горлу, обращался более к матушке, сёстрам и их мужьям.
С Кириллом лишь однажды свела судьба Алексея, но об этом свидании он не мог вспоминать без волнения. Ещё когда сам обучался в Московском университете, доставлен был графу рескрипт императора Александра. «Граф Алексей Кириллович, — писал царь, — с крайним сожалением известился я, что меньшой сын Ваш, проезжая из Москвы в пензенские деревни, везде почти по дороге производил беспорядки и насилия, совершенно расстроенное состояние здоровья его доказывающие. Чтобы отвратить дальнейшие последствия в таковом положении, во вред как другим, так и самому ему обратиться могущие, признал я нужным повелеть взять его до выздоровления под присмотр в Шлиссельбургскую крепость».
Отец сделал лишь одно — попросил перевода в больничный корпус при Спасо-Евфимиевом монастыре. И на близкого человека положился, чтобы съездил в Суздаль, узнал, как сын и что. Выбор пал на Алексея, благо после университета надо было его определять, так почему бы не к сенатору Обрезкову Петру Алексеевичу, ревизовавшему как раз Владимирскую губернию?
То оказалась жуткая картина, которую Алексей вместе с Петром Вяземским, также прикомандированным к комиссии Обрезкова, увидели в монастыре, этой русской Бастилии, где когда-то царь Пётр содержал свою первую жену.
Их пригласил на завтрак архимандрит, и в трапезную ввели молодого ещё человека прекрасной, но суровой наружности. Одет он был в серый халат, пальцы на руках обвиты толстою проволокой вместо колец. За столом с жадностью набросился на предложенную рюмку водки, которая ему полагалась по праздникам. Алексей знал, что из домовой конторы графа несчастному перечисляется ежемесячно двести рублей, а также чай и кофей. Жалоб у узника ни на что не имелось, лишь нечеловеческая тоска и неземная отрешённость виделись в красивых, похожих на Алексеевы, глазах...
Только с самой старшей сводной сестрой Алексей по-настоящему познакомился и сошёлся в последнюю очередь. Произошло это, когда был определён к князю Репнину в Дрездене. Поначалу решение мужа принять на службу человека из семьи отца, явившейся причиной её собственного несчастья, оскорбило княгиню. Но разве не был таким же несчастным и обделённым судьбой этот молодой человек, к тому же её брат? И не из милости привлёк муж отменно образованного и знающего языки офицера, а в первую очередь для государственной пользы. Конечно, князю выгодно было иметь в ближайших помощниках не случайного человека, который мог оказаться мошенником, интриганом или, не дай Бог, доносчиком, каких всегда хватало в штабах и различных канцеляриях, а человека заведомо ему известного.
В сердце Варвары предубеждения уступили место привязанности. Её обрадовало, что она нашла в брате душу чистую и открытую. Она сама была в высшей степени натурой преданной, деятельной и милосердной, стремящейся всегда делать людям добро.
Поразительно, но через три года после свадьбы она, молодая светская женщина, уже сблизившаяся с императрицей Елизаветой Алексеевной и великой княгиней Марией Павловной, пришедшаяся в буквальном смысле ко двору, бросает все прелести и выгоды столичной жизни и, оставив двух малолетних детей на попечение свекрови, отправляется вслед за мужем на войну. Она неотступно следует по пятам за кавалергардом-полковником до самой Австрии. Здесь под Аустерлицем в грандиозном сражении четвёртый эскадрон, который вёл в бой князь Репнин, смял, остановил натиск французской кавалерии, но от эскадрона осталось в живых лишь восемнадцать человек. Сам командир, раненный и контуженный, был подобран в беспамятстве и по личному распоряжению Наполеона отправлен на излечение в лазарет.
Никто, кроме французского императора, не мог разрешить молодой княгине ухаживать за мужем, и она, добившись свидания с Наполеоном, уговорила его позволить ей это сделать.
Варвара выходила, вынянчила супруга. Наполеон пригласил к себе выздоровевшего русского полковника и предложил ему свободу в обмен на обещание никогда не участвовать в битвах против французских войск. Репнин отверг это предложение. Вскоре Бонапарт его освободил без всяких условий — и возвратившийся в Россию герой был удостоен Георгия четвёртой степени и чина генерал-майора.
Аустерлиц оказался прелюдией Отечественной войны, и князь Репнин нёс службу сначала чрезвычайным посланником при Вестфальском короле Жероме, брате французского императора, затем был определён в Мадрид при другом Наполеоновом брате, короле Жозефе. С благословения Александра это был, по сути дела, второй плен у Наполеона, который, заигрывая с русским дипломатом, пытался через него повлиять на внешнюю политику России. Однако и на этих, казалось бы, сугубо штатских постах генерал Репнин проявил себя человеком высочайшего долга и немало сделал перед войной для изучения ценных сведений о французской армии.
С начала Отечественной войны Варвара вновь находилась в походах с мужем, который был назначен сначала начальником Девятой кавалерийской дивизии, затем командующим авангардом армии. Войска Репнина заняли Берлин, сражались при Дрездене, под Лейпцигом и Кульмом. Во всех местах, где проходили воины мужа, Варвара учреждала лазареты, сама самоотверженно ухаживала за ранеными. В Дрездене же вместе с ним она помогала возрождению знаменитой картинной галереи, открытию клиник и больниц, оказывала помощь жителям, пострадавшим от войны.
Собственно, эти заботы были главным делом самого генерал-губернатора и его старшего адъютанта. Потому в общем добродетельном деянии ещё более крепли родственные чувства брата и сестры.
Однако чего дочь графа не могла даже и представить — эго примирения с невенчанной женой отца, которая, как ей представлялось, была главной причиной страданий её родной матери.
Теперь в доме умирающего отца Мария Михайловна оказалась непреодолимой и оскорбительной преградой.
— Ты хочешь, чтобы я сказал ему о тебе? — Алексей посмотрел в лицо сестры.
— Нет, Алексис, — подняла она заплаканные глаза, — я должна всего добиться сама. Передай своей матушке, что я с ней намерена непременно объясниться.
Мария Михайловна вышла из дверей прямая, строгая.
— Чем обязана?..
Варвара сделала к ней несколько быстрых шагов:
— Простите, но мне трудно начать... Впрочем, лучше всё сразу и без обиняков. Я вас, Мария Михайловна, до сих пор ненавидела, потому что вы принесли моей матери горе. Но я вас прощаю, если вы уговорите отца дозволить мне вместе с вами ухаживать за ним.
Что-то похожее на растерянность или смущение пробежало по лицу Марии Михайловны, но вновь оно обрело выражение достоинства и уверенности.
— Варвара Алексеевна, если не возражаете, пройдёмте ко мне. — И, оборотившись к сыну: — Пройди в спальню. Твой отец хочет видеть тебя.
Жидкий малиновый свет лампады едва выхватывал из полутьмы лицо графа, резко осунувшееся и заострённое страданиями.
— Бери перо... бумагу, — едва разомкнув высохшие губы, произнёс он. — Пиши: «Моя, камергера и действительного тайного советника, последняя воля...»
Перо Алексея споткнулось и оставило кляксу.
— Увольте, не могу! Вам — ещё жить. Не гневите Господа Бога.
Из горла графа вышло сдавленно, с придыханием:
— Не успокаивай меня — Господь меня уже призвал. Хотя, надо признаться, более почитаю себя вольтерианцем. Однако ты прав: Создателя, существует он или нет, гневать не годится. ...Итак, пиши: «Похоронить меня просто, по христианскому обряду. Сумму же, которая потребовалась бы на пышное моё погребение, исчислив, — раздать нищим... Отпустить на свободу сих крепостных людей, список которых хранится в моей ореховой шкатулке и в полном здравии и рассудке мною лично составлен...»
Перевёл дыхание, сделав лёгкое движение рукой, словно поясняя, что это не для письма:
— Гангрена поднялась уже к груди — жжёт. Ну-ну, без слёз! Знаю, что жалко. Мне и самому себя жаль — не так прожил, как мог бы... Ну да ладно... Заноси на бумагу: «Княгине Варваре Алексеевне Репниной — имения Яготин, Баклань, Почеп... Уваровой Екатерине Алексеевне — волости Шептаковскую, Андреевскую...»
Не удивился, что Варвара уже здесь, — знал, видимо, от Сороки или протоиерея отца Крыловского. Произнёс лишь:
— Князя Николая Григорьевича напоследок хотел бы зрить. Уваров Сергий — вот кто не опоздает. Да не к погребению — когда начнут растаскивать наследство. Тут он свои права предъявит... Но Бог ему судья. Моя же воля — как хочу я! Посему пиши себе. Пиши всё, что пожелаешь, — я подпишу.
От поспешности, с какой Алексей встал из-за бюро, листы разлетелись, но он не стал их подбирать.
— Ничего не возьму! — произнёс, подходя к кровати. — Я доволен тем, что получил от вас ранее. Того более, можете и уже имеющееся у меня забрать, но почитаю долгом просить вас: не обделяйте Петра и Кирилла. Для меня же самое ценное благодарение ваше — быть в эти минуты рядом.
Знал: напоминание о тех, кого граф словно отрезал от себя, вызовет раздражение. Но, опустившись па колени и взяв руку отца, прильнул к ней губами и не переставал говорить о несчастных...
Малиновый свет лежал кровавым сгустком на жёлтом восковом лице графа. Оно неожиданно исказилось гримасами, и рука, которую продолжал сжимать Алексей, стала деревенеть, точно всё тепло из неё ушло и объединилось с испепеляющим огнём, что по сим вздувшимся, но уже неживым жилам устремился к сердцу, пронзая его последней, которой отныне уже никогда не суждено повториться, болью.
11
Мальчик был крупный, но на редкость подвижный и резвый. Лицо его с высоким белым лбом, с нежным румянцем на щеках то озарялось живостью, то вдруг становилось не по летам задумчивым и серьёзным. К пяти годам он уже бегло говорил и читал по-французски и по-немецки, и мама, раскрывая у себя на коленях какую-нибудь толстенную книгу, звала брата:
— Алексис, подойди, дружочек, сюда. Право, ты не поверишь, какая необыкновенная память у нашего малыша.
Анна Алексеевна, не очень торопясь, но и не так чтобы врастяжку, прочитывала вслух целую страницу иноземного сочинения, потом захлопывала его, и сын слово в слово повторял без запинки всё только что услышанное. Мама вскакивала с кресла, обвивала руками своё сокровище и, страстно целуя его лицо, руки, шею, раскрасневшаяся, прелестная, пылко выговаривала:
— Солнце моей жизни, светлая моя радость, счастьице несравненное моё!.. Ну иди, иди к папочке, он тебя тоже приласкает и поцелует.
Алексей подхватывал племянника на руки и, чмокнув в лобик, подбрасывал вверх, почти к самому потолку. Алёшенька, заливаясь, громко смеялся и выкрикивал:
— Ещё, ещё! Выше, выше, папочка миленький, я ни капелечки не боюсь!
— Ой, Алеханчик, будет. У тебя может закружиться голова. К тому же ты, мой Ханочка, настоящий богатырь, и я, признаться, устал, поднимая тебя кверху.
— Вы это находите, папа? О, как я рад, что расту очень сильным, настоящим казаком. И когда совсем-совсем вырасту, смогу всегда защитить и вас, мама и папа, и мою няню, и нашего доктора, и моих гувернёров Рубера и Пети, и особенно моих любимых собачек Вичку и Скампера — всех-всех, кто живёт в нашем доме и вокруг него и кому потребуется моё покровительство.
И мальчик, сорвавшись с места, выскакивал из маменькиной комнаты, пробегал розовую и голубую гостиные, столовую, распахивал дверь в сени и оказывался в просторной девичьей или в шумной, всегда набитой говорливым народом людской.
Пахло в этих помещениях чуть горьковатым дымком берёзовой лучины и сладким мёдом, терпким настоем мяты и дёгтем. И сочно, округло и совсем необычно после французских и немецких книжных слов звучали в девичьих, няниных или мужицких устах живые, полные потаённого и радостного смысла слова: «Либр дождик, либо снег, либо будет, либо нет», «Беда не по лесу ходит, а по людям», «Без соли, без хлеба худая беседа», «Плохо не клади — вора в грех не вводи», «Лучше попросить ради Христа, чем отнять из-за куста», «Если есть корова да курочка, то состряпает и дурочка...». Говорилось это походя, то в разговоре друг с другом, то в споре с хитроватыми мужиками, приехавшими с дальних хуторов и пытавшимися всучить лежалый товар, то в перебранке старого с малым. Алёша же думал: в памяти зацепилось острое словцо — сохранится навсегда.
Но и здесь, в девичьей или в людской, его не удержать — уже во дворе. Всё и тут знакомо, и всё каждый раз будто внове: кузница, из которой доносится, точно из огромной музыкальной шкатулки, звонкий и мелодичный металлический перестук, птичник с кудахтаньем и гоготом хохлаток и гусей, каретные и дровяные сараи, каменная погребница, ледники. И всюду скопище самых разных людей — садовники, шорники, горничные, псари, истопники... Каждый спешит будто по неотложному делу и в то же время не прочь остановиться, подмигнуть встречному и начать разговор, или, как любит говорить няня, почесать языком.
Остановился Алёшенька, прислушался — и вновь вперёд. Вот уж миновал загон для овец и коз, лужайку, где щиплют траву коровы, опушку леса с конным табуном. Быстро осмотрелся по сторонам и запустил руку в заветное дупло старого дуба. Ага, здесь она, его любимая читаная-перечитаная книжка в грязновато-красном переплёте со стихами всех-всех самых именитых русских поэтов.
Господи, да как же так можно искусно сочинять, чтобы в стихах говорили звери, а мысли после их слов рождались человеческие, чистые и светлые — например, про верность и дружбу, честность и чувство долга! Вот же рядом, перебирая стройными, как струны, ногами, мотая длинной красивой шеей, хрумкают сочную траву кони, а здесь, в басне, они — люди-богатыри и мудрецы.
А что, если самому попробовать сложить басню о сильных и умных животных, и чтобы она непременно пришлась по душе маменьке и папеньке? А ну быстрее в дом, к перу и бумаге!..
Здесь, в Погорельцах, у пего много облюбованных мест, самых заветных. Помимо двора, лугов и дальнего леса — сам дом. Он старый, большой, наверное, из двух десятков комнат — голубых, бордовых, палевых и розовых кабинетов и гостиных, спален, людских, чуланчиков, уголков и закоулков. И всюду — стулья и кресла, зеркала, гобелены, ширмы и ширмочки, столики и пузатые комоды, бронзовые массивные шандалы и старинные бюро на тонких гнутых ножках.
Но самая волшебная комната — библиотека. Во все стены — шкафы домашней работы со стеклянными дверцами, за которыми плотными рядами книги, книги, книги. Одни — в кожаных новеньких и старых, иссохшихся переплётах, другие — в деревянных досках, где листы из пергамента, иные и вовсе без переплётов, но, как говорит папочка, самые ценные, потому что в них заключена мудрость многих людей и даже целых народов.
Осторожными шажками, чтобы не нарушить торжественность и таинство обстановки и чтобы не спугнуть уже возникшие в голове картины и образы, Алёшенька пробирается к круглому, с мраморной крышкой столику, на котором папа предусмотрительно оставил стопку бумаги — плотной, желтоватой на вид, покрытой по всей поверхности водяными знаками.
Алёша уже знает: бумага эта носит название вержированной. Папочка сам её не использует для своих писаний, она для торжественных посланий. Но разве теперь не тот случай — записать возникшие в его голове строчки и преподнести их маменьке и папеньке?
Перовский останавливается у дверей библиотеки и на цыпочках отходит прочь: тс-с, ни в коем случае нельзя помешать Алеханочке!
Думал ли Алексей в тот день, когда вместе с Аннет увозил малыша из Петербурга, что отныне станет ему вместо отца, возьмёт в свои руки его судьбу?
Все годы, что вернулся из Дрездена, в воспоминаниях возникала она, легко и грациозно, точно ангел по небу, летящая над сценой Венской оперы, его любовь, предмет его тайных сердечных воздыханий. Уезжал — дал слово себе вернуться и забрать её к себе, в Россию. И с Гофманом сидели в кабачке «Зелёный жёлудь» — разговор только о ней, актрисе.
Эрнст Теодор Амадей — горящие как уголь глаза и крючковатый нос Мефистофеля — сатанински ухмылялся, потягивая золотой лафит:
— Я вижу вас, сударь, насквозь. В России все рабы. Как, впрочем, и у нас в Германии. Работник на поле гнёт спину на своего хозяина, помещика или барона, сиятельный же вельможа изгибается в лести перед тем, кто хоть на ступеньку выше его... Как жить, как жить, да ещё с той, которую хочешь взять в жёны? Вы доктор наук, как изволили представиться. Но вам платят сегодня не за вашу умную голову, а за твёрдую руку рубаки-гусара, или кто вы там по вашему офицерскому мундиру. Я тоже закончил университет с дипломом юриста. Но мне за моё знание законов ничего не платят. Спасибо, что сегодня, как и вчера, вы любезно пригласили меня к этому столу, чтобы насытить моё чрево. Извините, что я, романтик, и — столь груб! Но — се ля ви. Я однажды — то ли в родном Кёнигсберге, толи в Лейпциге или Берлине, — чтобы пообедать, вынужден был продать свой старый сюртук...
Знал бы нищий немецкий гений, как нынче богат его бывший сотрапезник по дрезденским трактирам! Однако прошлое безвозвратно ушло... Ещё в позапрошлом, восемьсот двадцать втором году, когда скончался отец и сам вскоре подал в отставку, мелькнула мысль: уехать из Петербурга не одному. И было из кого выбирать — сам недурен, даже привлекателен наружностью... И уже представил, как у себя в Погорельцах или в Красном Роге сидит в малиновом бархатном халате, визави — она, прелесть, а рядом — кудрявые или русые, или совсем уж льняного цвета детские головки...
Да есть же, есть у меня это уютное домашнее счастье, когда рядом крепыш карапуз и нежное любимое существо — сестра, которая нуждается и в моей помощи, и в моей ласке! — взамен желанной фантастической картины пришла реальная, которую и не надо было воображать...
Почему-то вновь припомнился сейчас Дрезден и Варенька, дочь Варвары. Ей ведь тоже было тогда столько же, шесть лет, когда с сестрой Варварой однажды они поехали в Вену к дяде графу Андрею и привезли много игрушек, и среди них — пожарную трубу. Тотчас в столовой зажгли бумагу, и он с племянницей заливал пожар настоящей струёй воды из игрушечного шланга. Потом с Варенькой они придумали игру в море. Стулья были кораблями, а железные листы перед печью — громом сражения. Помнится, листы эти принёс другой дядя Вареньки — Сергей Волконский, и они вдвоём — генерал-майор и штабс-ротмистр — производили настоящий морской бой, грохоча железом, а в это время племянница их переворачивала стулья, изображая кораблекрушение.
Но верхом счастья для Вареньки оказался, конечно, настоящий казацкий мундир, который дядя Алексей заказал ей у лучшего дрезденского портного и преподнёс в день ангела. Девочка тут же сбросила с себя платьице с воланами и рюшами и вышла к отцу, генерал-губернатору, и его свите в парадной форме заправского кавалериста.
— Теперь подавай ей лошадь, — не совсем одобрительно произнесла Варвара.
— Придётся мне расстаться с моим любимым Кумберленом, — усмехнулся князь Репнин.
— А что? Отличная будет из Вареньки амазонка, — подхватил Алексей. — Ребёнок только открывает мир, наполненный для него новым и неизведанным. И следует способствовать тому, чтобы этот мир был многоцветным и многозвучным, ярким, разнообразным.
Так же, как Варвара, совсем недавно растерялась и Анна, когда он из очередной поездки прислал Алеханчику живого лося. В письме, адресованном «Милому Алёшеньке в собственные ручки», предупредил: «Помни же, мой милый Алехаша, и сам близко не подходи, и маму не пускай».
А когда поехал в Крым, оттуда прислал письмо: «Я нашёл здесь для тебя маленького верблюжонка, ослёнка и также маленькую дикую козу, но жаль, что мне нельзя будет взять их с собой в бричку, а надобно будет после послать за ними. Маленького татарника я ещё не отыскал, который бы согласен был к тебе ехать».
В письмах папочка всегда чуть-чуть улыбался. Но Алёша знал, что он очень серьёзно относится ко всем его делам. И если что-то следует высказать прямо, то папочка никогда не спрячется за смешок.
Не понравилась, оказалась слабой басня Алеханчика про льва и мышку, и папа не скрыл своего разочарования, но тут же пообещал в точности разузнать все повадки зверей и рассказать о них Алёшеньке. Как же можно передавать чувства персонажей басни, если тебе доподлинно неизвестен характер и особенности поведения, положим, льва или слона?
Ах, как было увлекательно слушать рассказ папочки, когда, возвратившись из Петербурга и раздав подарки Алёше и маме, он вечером зазвал их к себе в кабинет и начал:
— Я нарочно ездил в Петербург смотреть зверей, чтобы сегодня рассказать о них. Они очень хороши, и я желал, чтобы ты, Алеханчик, их видел. Там есть два льва...
Алёша сидел неподвижно, широко раскрыв глаза, пытаясь не пропустить ни слова. Оказалось, львы эти — один старый, другой молодой. У старого льва в клетке сидит маленькая собачка, беленький шпиц, которого лев очень любит. Когда льву принесут кушать, так собачка всегда бросается на кушанье, и лев ни до чего не дотрагивается, пока она не наестся. Недавно лев был очень болен, и собачка его караулила и никого к нему не допускала.
— На эту пару очень весело смотреть, — сказал папа. — Ещё там есть несколько тигров и леопардов, которые очень сердиты, и белый медведь, который совсем не похож на нашего медведя. Он очень зол, и ему досадно, что в комнате слишком для него тепло, потому что он привык жить на ледовитом море, где всегда холодно и где он беспрестанно сидит на льду. Здесь он всё качается из угла в угол.
Петербургский зверинец, как сказал папа, представляет собой дом, в котором четыре комнаты. В первой комнате львы, тигры, леопарды, белый медведь и гиена, которая чрезвычайно зла и беспрестанно бросается на решётку и хочет кусать людей. Во второй комнате множество разного рода обезьян. Они пресмешные, всё коверкаются и делают гримасы. Ещё есть в той комнате шакал, маленький зверь с большую кошку, который тоже очень сердит. В третьей комнате в большом стеклянном ящике две змеи. Когда они не голодны, то очень смирны, их можно даже взять в руки.
— В самом деле? — вырвалось у мальчика.
— Конечно, — ответил рассказчик. — Представь себе, что я самую большую змею хватал за голову и вытаскивал из ящика, и она мне ничего не сделала. Однако надо тебе сказать, Ханочка, что это не такие змеи, которые водятся в нашем лесу. Наши, кроме ужа и полоза, ядовиты, укус их может оказаться смертельным, если немедля не обратиться к доктору. Те же змеи, коих я брал в руки, безвредны. Они крупные и называются удавы. Впрочем, удав, если он голоден, может обвиться кольцами вокруг быка и его задушить, чтобы затем проглотить и насытиться на несколько месяцев... Ну-с, тут же в комнате четыре молоденьких крокодила, которые не более четверти аршина каждый. Я тоже их брал на руки. В четвёртой комнате есть страус и очень много разных попугаев, которые все очень шумят, кричат, свистят и болтают так, что иногда уши зажать надобно. Но лучше я расскажу о слоне, которого я видел в другом месте...
Это оказался удивительный рассказ, в который прямо трудно было поначалу поверить. Представьте себе огромного, высотой почти с целый дом, слона, который настолько умный, что если ему прикажут, так он станет на колени или ляжет на спину и ноги кверху подымет. Дадут ему ружьё заряженное — он схватит его хоботом и выстрелит. Если бросить платок, то он его подымет и принесёт. Подле него стоит кружка, он берёт из рук посетителей деньги и кладёт их в кружку.
— У меня, — закончил папа, — слон запросто вынул хоботом гривенник из жилета.
— Уф! — только и смог вымолвить Алёша. — Хоть бы одним глазком взглянуть мне самому на проделки этого слона!
— Что ж, подрастёшь ещё немного, и мы все втроём поедем в столицу. Но пока, я полагаю, мой рассказ о животных может принести тебе пользу.
— Конечно, папочка, я больше не буду спешить заканчивать свои стихотворения, а лучше буду стараться их прилежно отделывать. — И открыто, доверчиво посмотрел на папа: — А можно будет напечатать мои стихи в книжке?
— Хм! — улыбнулся папа. — А ты не обидишься, если кто-либо тебя раскритикует? Я, признаться, пуще всего боюсь выйти к публике самонадеянным и незрелым.
12
Увы, не одним педагогическим, нравоучительным пассажем выглядело признание Перовского племяннику — вёз в бауле в столицу первую свою повесть и сгорал от стыда и неуверенности. Ладно бы отвергли, не напечатали, а то засмеют, пальцами станут показывать: «Гляди, с суконным рылом, а туда же, в калашный ряд!»
Приехав в Петербург, никому не показался, а нанял переписчиков, засадил их под замок, велев поставить перед каждым хлеб, лук и соль. Из штофа приказал дворецкому наливать лишь по маленькой, чтобы не захмелели, а лишь для сугреву и поощрительности ради. Сам за эти дни издёргался до того, что, когда взял в руки чистые, беловые копии, всякая чувствительность и способность к переживанию его уже начисто покинули, как говорится, перегорели, и он махнул рукой: э, была не была!..
По лестничным маршам Аничкова дворца кинулся вверх стремглав, как мальчишка, ощущая спиной укоризненные взгляды стоящих на часах гвардейцев и трёхаршинных лакеев в ливреях с галунами по всем швам.
В комнату брата даже не заглянул, а прямо к Василию другому, Жуковскому.
Из-за высокой конторки глянуло задумчиво-приветливое и несколько изумлённое лицо поэта:
— Не часто же ты, Алексей, балуешь меня своими посещениями. Ну, проходи, располагайся. Сейчас прикажу чаю. А я, видишь, готовлюсь к уроку с моей любезной ученицей...
Алексей знал, как прилежно, даже влюблённо относится Жуковский к своим обязанностям преподавателя. И особенно теперь, когда сам стал, по сути дела, воспитателем племянника, вполне понимал и разделял его увлечённость.
Да, бывшая принцесса Шарлотта, а ныне великая княгиня Александра Фёдоровна, говорил Жуковский, особа высокопоставленная, она молода и пытлива. Что ж, тем лучше. Сделать из неё человека высоких мыслей и стремлений — разве не великая задача? Труды окупятся вполне. Может быть, ей представится возможность воздействовать на общество, и тогда добрые семена, посеянные на уроках словесности, отзовутся добрыми делами.
Однако не все понимали увлечённость Жуковского. Брат Василий утверждал, что, на его взгляд, Жуковский теперь полностью потерян не только как поэт, но и как некогда душевный друг.
Однажды чистый пустяк в их придворной жизни едва не привёл к разрыву. В семье великого князя Николая Павловича был танцевальный вечер, на который съехалось немало приглашённых, в том числе детей, для которых и было устроено торжество. Великая княгиня по нездоровью отсутствовала, но через несколько дней на уроке спросила своего учителя, как, по его мнению, прошёл вечер. Жуковский сказал, что все очень веселились, однако в танцах он не участвовал, а вот Перовский много плясал и корячился с детьми, то есть выделывал такие па, которые смешили детей до упаду. Александра Фёдоровна, встретив адъютанта своего мужа и ещё недостаточно хорошо зная русский язык, спросила, как это он, по словам Жуковского, был на вечере «раскорякой». Перовский тотчас кинулся к другу и, не дав ему возможности объясниться, резко выкрикнул: «Дурак!» Жуковский тоже вспылил и показал рукою на дверь: «Пошёл вон!» Лишь через некоторое время обоюдно огорчённые друзья пришли к примирению, по поводу которого поэт даже сочинил растроганные стихи: «Товарищ, вот тебе рука!..»
Алексей не разделял тревоги брата по поводу судьбы Жуковского-поэта. На его взгляд, он не только не перестал быть сочинителем, но создал за последнее время истинные шедевры — баллады «Лесной царь», «Граф Габсбургский», «Рыцарь Тогенбург», стихи «Горная песня». В основе их были произведения Гёте, Шиллера и других больших немецких поэтов, которые в оригинале, конечно, хорошо знала и любила бывшая принцесса Шарлотта. И поначалу лишь для неё поэт-учитель сделал русские переводы, но оказалось — создал прекрасные образцы отечественной поэзии.
— Прости, — присаживаясь на краешек кушетки и тем делая вид, что спешит и не хочет отвлекать друга от важных дел, начал Алексей. — Уже давно преследовал меня один назойливый полуфантастический сюжет, и вот в деревенской тиши, от нечего делать, я осмелился перенести его на бумагу. Однако, Василий, дай слово, что об этом — никому, ни единой душе! Взгляни сам на досуге и, если не приглянется, верни.
Жуковский распрямил на пюпитре конторки заглавный лист рукописи, прочитал: «Лафертовская маковница. Сочинение Антония Погорельского».
— Не догадался в своё время, — летуче усмехнулся, — избрать себе литературное имя по собственным пенатам — Белёвский, Орловский или Тульский. У тебя же отменно звучит: По-го-рельский! Итак, с рождением нового, доселе неизвестного автора в отечественной словесности!
— Погоди. Цыплят, как говорится, по осени... — остановил его вконец смущённый Перовский.
— Извини, Алёша, извини, в самом деле... Так ты мне, любезная душа, оставь своё творение. Днями обещаю прочесть — и, как условились, никому ни словечком... — Рука потянулась к рукописи, но коснулась не листов, а как-то растерянно замерла рядом, на пюпитре, губы на полувосточном лице пришли в движение:
«Лет за пятнадцать перед сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею».
И он залпом прочёл далее:
«Посреди маленького дворика, окружённого ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укреплённую поперёк анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты чёрной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца вкопан был в землю небольшой погреб для хранения съестных припасов. В сей убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею».
Листок перевёртывался за листком, брегет уже позвонил раз и другой, а читавший не мог заставить себя оторваться.
— Постой, постой! Да как же ты смел такое прятать в своих Погорельцах? Прямо картины, писание словом! Так и видишь всё вокруг. А язык-то, язык каков!.. Ну знаешь, моя Шарлотта устроит мне сегодня головомойку за опоздание на урок! А всё ты, моя душа, виною! Ах, если бы каждый день дарил меня таким счастьем, как сегодня это сделал ты! — Жуковский обнял Алексея и взял со стола сафьяновый портфель. — Завтра же, завтра непременно приходи — я нынче же дочту... Ах, какую же ты прелесть написал!..
На следующее утро он застал Василия Андреевича не одного — на софе вразвалку сидел Воейков и держал на коленях его, Перовского, рукопись, нетерпеливо переворачивая страницу за страницей и осыпая почти каждую из них пеплом из своей пыхтящей и сопящей трубки.
Так-то ты держишь слово, хотел Алексей укорить Жуковского, но Воейков, прочистив горло, вскочил, рассыпая по страницам уже не пепел, а целый сноп искр:
— Беру, Перовский, твою повесть в третий, мартовский, нумер «Новостей литературы». Отменно написано! Только...
— Вспомнилась наша дуэль в «Сыне отечества» и захотелось поставить какие-нибудь условия? — иронически глянул на собеседника Перовский. — Но я никаких условий не приму и ничего исправлять в соответствии с вашим, Александр Фёдорович, вкусом не стану.
Мягкими, неслышными шагами по ковру — Жуковский:
— Успокойся, Алексей, не о поправках речь. Александр в восторге от твоей повести. Поэтому прости, что я, не удержавшись, передал ему рукопись. Тут речь о редакторском, что ли, послесловии.
— Именно так! — Воейковская сиплость сменилась громогласностью, которая более шла к его крупной фигуре. — Да вот, я набросал, чтобы тебе прочесть. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать, до какой степени разгорячённое и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде». Ну и далее — в таком же духе, чтобы убедить мало знакомых с просвещением читателей в пагубных последствиях суеверий. Ты не возражаешь?
— Да разве сия повесть — дань верованиям в колдовство? — не сдержался Перовский. — Для суеверных людей, если на то пошло, никаких сочинённых тобою разъяснений не напасёшься! А мысль моя в повести проста: ни на какое злато, ни на какие богатства волшебные, которые сулит девушке Маше её бабушка, нельзя променять чистые и радостные чувства, и в первую очередь — любовь. Однако валяй, господин редактор, вставляй свою концовку, а я её, не обессудь, буде повесть издана затем отдельной книгой, вымараю.
— Ну-ну, Алексей, Саша! Что вы, право слово, как петухи! — примирительно промолвил Жуковский.
Непростая судьба с давних пор связывала Жуковского и Воейкова. Однокашники по университетскому пансиону, они в юности увлеклись поэзией и философией, основали известный в Москве литературный кружок, который собирался в ветхом домике на Девичьем поле, принадлежавшем Александру Фёдоровичу.
Позже, уже после войны, Жуковский ввёл приятеля в семью своей сводной сестры Протасовой, младшей дочери которой, Александре, Воейков вскоре сделал предложение. Был он, тридцатишестилетний холостяк, явно ей не пара: пристрастен к вину, с характером тяжёлым, к тому же, имевший внебрачного ребёнка. И юная, милая, рассудительная Саша не питала к нему нежных чувств. Однако мать усиленно толкала дочь в бездну — свадьба состоялась.
Жуковский был крепко привязан к Протасовым: в старшую дочь, Машу, он был безнадёжно влюблён, в Саше не чаял души. Чтобы сделать её счастливой, обеспечить достойным приданым, продал своё единственное имение и все вырученные деньги — одиннадцать тысяч — передал Саше.
Брак вышел неудачным — сердце Саши часто сжималось в комок от выкрутасов мужа, нередко кончавшихся скандалами. Лишь общество Жуковского и затем Александра Тургенева да Василия Перовского, с которыми подружилась Саша, было её единственной радостью.
Несчастной оказалась любовь Василия Андреевича к его ангелу, милой Маше. И во многом пытался разлучить влюблённых не кто иной, как давний друг, а теперь и родственник Воейков. Но душа Василия Андреевича не ожесточилась и не могла ответить подлостью на вероломство и невоспитанность этого человека.
Он, наоборот, старался подмечать в нём не тяжёлые и дурные черты, а то стоящее и светлое, что в нём ещё оставалось. С надеждой он передал Воейкову рукопись Перовского, потому что считал: есть в нём вкус литературный, не может не усмотреть и не поддержать талант.
Ещё буквочка к буквочке составлялся в типографии «Русского инвалида»[26], где выходили в качестве приложения «Новости литературы», текст «Лафертовской маковницы», а Петербург уже чествовал рождение нового сочинителя — Погорельского Антония.
Первыми, конечно, о повести прослышали члены Вольного общества любителей российской словесности[27] во главе с его председателем Фёдором Глинкой и чуть ли не в полном своём составе — братья Александр и Николай Бестужевы и Вильгельм Кюхельбекер, Кондратий Рылеев и Дельвиг Антон — нагрянули к Алексею домой. Заставили прочитать всю повесть, не раз громко прерывая автора возгласами одобрения. А потом взялись горячо обсуждать.
— Воейкову, значит, не по нутру пришлась вся твоя фантастическая канва? — воскликнул Вильгельм. — Так он же не признает ничего романтического. А я, право, позавидовал, как у тебя вся эта чертовщина с колдовством выписана прелестно! Ну-ка передай мне листы, я ещё раз прочту.
И Кюхельбекер вслух повторил только что читанное автором:
— «Старуха подвинула стол на середину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла её и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Всё пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свёртывались в клуб, то опять развивались, как змеи... Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал чёрный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки всё ещё растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на чёрного кота, она увидела, что на нём зелёный мундирный сюртук; а на месте прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на неё...»
— Кот, бабушкин кот — вот кто тут главный персонаж! — вскочил с места Александр Бестужев. Был он уже известен и как критик, и как писатель, выдавший впервые свои сочинения под именем Марлинского. — Недавно я пришёл к убеждению: у нас есть критика, но нет литературы. Сейчас здесь вынужден признать: есть литература! И есть новый, подающий надежды русский писатель Антоний Погорельский!.. Ещё раз не удержусь: как славно выписан кот, вдруг волшебно обернувшийся титулярным советником Аристархом Фалалеичем Мурлыкиным.
Еле заметная усмешка появилась на губах хозяина дома:
— Хм! А вот некоторые просвещённые люди, даже являющиеся издателями, серьёзно уверяют публику, что колдовства нет и быть не может. А вы, господа, неужто не верите гаданию на картах и на кофейной гуще?
Раскуривая трубку, худощавый лицом и телом Фёдор Глинка добродушно захохотал:
— Что мудреного, если, часто гадая, что-нибудь да отгадаешь? Самому записному вралю, как вы знаете, иногда случается сказать правду, однако за то он не перестаёт быть вралём.
— Хм, да, — снова загадочно протянул Перовский, — значит, вам, верно, не случалось встречать настоящих ворожеек, а потому вы и не верите гаданию. Что, например, вы скажете о госпоже Норман, которая, говорят, предсказала судьбу первой супруге Наполеона, императрице Жозефине, тогда, когда Наполеон и не помышлял ещё о разводе? Между тем я имел честь лично быть знакомым с мадам Норман, воспоминания о посещении которой до сих пор свежи в моей памяти...
Все подсели поближе к рассказчику, не скрывая, однако, недоумения по поводу неожиданного поворота, который принял разговор, а Глинка громко произнёс:
— Нет уж, милейший Перовский, ты меня не одурачишь! Ну-с, слушаем тебя.
— Как вы догадываетесь, дело происходило в Париже, — начал серьёзно рассказчик. — В одно утро я на площади Лудовика Пятнадцатого взял фиакр и приказал ему ехать к мадам Норман. Жилище её известно всем извозчикам в Париже, и потому фиакр привёз меня прямо к её квартире. При входе в переднюю горничная встретила меня с таинственным видом и спросила, что мне угодно. Я отвечал, что желаю посоветоваться со знаменитою её госпожою.
Слушающие переглянулись. Глинка же пожал плечами. Перовский между тем продолжал повествование.
Его довольно долго продержали в приёмной, прежде чем отворили стеклянную дверь и он вступил в храм Пифии. Она оказалась женщиной лет за сорок, среднего роста, довольно дородной, с большими чёрными глазами и такими же бровями. На столе, среди комнаты, стояли небесные глобусы и лежали разные математические инструменты, а между ними набитые чучела: небольшой крокодил, ящерица и змея. По стенам развешаны были картины, представляющие разные магические фигуры. В одном углу стоял человеческий скелет, завешенный чёрным флёром, в другом — три или четыре банки с уродами в спирте.
— На просьбу мою открыть мне будущую судьбу, — продолжал Перовский, — мадам отвечала вопросом: на каких картах я хочу, чтоб она загадала, на больших или маленьких? «Какая между ними разница?» — спросил я. Она ответила, что гадание на маленьких стоит пять франков, а на больших — десять. Я попросил загадать на больших. Волшебница взяла колоду карт, которые действительно оказались весьма большого размера, со странными изображениями и магическими знаками, помешала их, пошептала над ними так же, как и у нас в России это делается, и потом разложила их на столе.
После гадания волшебница милостиво приняла от посетителя десять франков и спросила: не хочет ли он, чтобы она написала его гороскоп, в котором означено будет всё, что должно случиться в течение жизни. «Какой гороскоп прикажете, большой или маленький?» — осведомилась она. «А какая между ними разница?» — «Большой стоит два луидора, а маленький — один. Но зато в большом гораздо более подробностей», — «Ну гак напишите мне большой, я люблю подробности».
— Дней через несколько я заехал опять к гадалке, получил подробный гороскоп и заплатил два луидора. Гороскоп как гороскоп. В нём весьма подробно описано всё, что должно было со мною случиться. Но, к несчастью, волшебница на письме так же ошиблась, как на картах, то есть ни одно из предсказаний её не сбылось!
Все не удержались и дружно зарукоплескали, а Глинка вновь расхохотался:
— Я ж говорил: не удастся нас одурачить!
Александр же Бестужев вскочил, глаза его загорелись.
— Бьюсь об заклад: Перовский пишет новые повести, нечто необычное в русской литературе, и теперь на нас проверяет. Признайся, Алексей, я угадал?
— Ну не совсем то, о чём сейчас вам поведал. Но много затеял и фантастического. Вернее, по форме, по оболочке немыслимое, а по содержанию — сама реальность.
— Я же говорил, что он — превосходный рассказчик — и на бумаге, и в изустной беседе, — обрадованно произнёс Дельвиг. — Жаль, Саши Пушкина нет среди нас — то-то восторгался бы...
— Ба, совершенно вылетело из головы, — сказал Рылеев, — кто-то намедни мне передал письмецо нашего ссыльного поэта. Писано ещё из Кишинёва[28]. Да вот отрывок: «В лето пятое от Липецкого потопа — мы, превосходительный Рейн и жалобный сверчок, на лужице города Кишинёва, именуемой быком, сидели и плакали, вспоминая тебя, Арзамас, ибо благородные гуси величественно барахтались перед нашими глазами в мутных водах упомянутой речки. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов прославленного братства, украшающих берега Мойки и Фонтанки...»
— Говорят, Орлов во вверенной ему в Бессарабии дивизии целые школы для обучения солдат открыл, — вставил Дельвиг.
— Что школы! — перебил Николай Бестужев. — Приказ по дивизии издал: «Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат». Приказы Орлова доводятся до сведения солдат в каждой роте. Не случайно нижние чины шестнадцатой дивизии называют её по имени своего командира — Орловщиной, как у нас принято называть свою родимую, к примеру, местность.
— Был у Михаила и ещё более решительный приказ по дивизии, — сказал Рылеев. — В Охотском пехотном полку майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Орлов по жалобе нижних чинов тут же учинил расследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трёх офицеров он представил к военному суду. В приказе своём по этому случаю превосходительный Рейн написал: «Да испытают они—то есть мучители-офицеры, разжалованные в нижние чины, — какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания...»
Алексей, казалось, внимательно слушал разговоры друзей, но в душе жила, полнила всё его существо мысль и о уже созданной им вещи, и о тех, что были начаты дома, в Погорельцах. И вдвойне радостно было от сознания, что друзья нынче у него в гостях, что они всецело разделяют его счастье. А что может быть выше их общего участия в занятиях литературных? Да вот действительно, Пушкина бы в их компанию, умного и резкого Мишу Рейна... Право, если бы Воейков не взял рукопись к изданию в своём «Приложении», обязательно отдал бы Кондратию Рылееву с Бестужевым в их «Полярную звезду». А что? Очень даже приличный альманах. Погодите, господа издатели, он ещё наберёт силу и не раз прославит нашу изящную словесность.
13
В маленьком, в два окошка, оклеенном голубыми обоями домашнем кабинете — собственный домик в Фурштатском переулке, с Литейного, против лютеранской церкви — Александр Семёнович принял Алексея по-домашнему. Одет в шёлковый полосатый шлафрок с поясом, на ногах — кожаные, изрядно истасканные ичиги.
— Ну-ка, дай себя лицезреть, новоявленный российский сочинитель! Только намедни разжился нумером «Новостей литературы» — опричь для ознакомления с твоим опусом. Сам ведаешь — современных бойких писак не жалую. Тебя же прочёл.
Для своих семидесяти с гаком адмирал Шишков выглядел, как сам он говаривал, ещё молодцом. Хотя волосы торчат седым, с желтизной, хохолком, но фигурой подтянут и сух. Лицо, кажущееся в обыденности аскетическим и холодным, имеет обыкновение враз воспламеняться одушевлённою, приятною и добродушною улыбкой.
— Литавр, литавр тебе ещё в слоге недостаёт! Ну да дело наживное. — Встал, налил из ковшика водицы в клетку, где будто с отчеканенным для монеты профилем застыл любимый попугай какаду по прозвищу Попинька. — Сейчас у всех на языке Жуковский, Пушкин!.. Слыхал, и ты водился с ними, арзамасцами. Тьфу, Господи, у них стих что рассыпанный горох. А ты Державина вспомни — каждая строчка как возведённый в небо храм! Такого пиита теперь сыщи-ка. Да вот тебе и моя ода, коею более двух десятков лет тому слагал славу заступившему на царствование Александру: «На троне Александр! Велик Российский Бог! Ликует весь народ, и церковь, и чертог...»
— Чертог, чертог, чертог! — каркающе передразнил Попинька, и Алексей, не удержавшись, прыснул.
Тут лицо старика и воспламенилось — улыбка пополам с лукавством:
— Не вздумай соврать: не попка-дурак — я тебя своими допотопными виршами вогнал во смех. Ну да я давно уже для всех пересмешников — сущий клад. То скорчат рожу от моих церковно-славянских речений, то проедутся насчёт рассеянности старика — зван был в один дом, зашёл же в другой, иль встреченного друга не признал, зато бросился в душевные воспоминания с совсем уж незнакомым.
Молва утверждала: когда Павел Первый сделал его генерал-адъютантом, он боялся сесть на лошадь, поскольку отродясь не ездил верхом. Зато и добродетели водились за ним, каких не у каждого сыщешь.
Павел подарил ему триста душ в Тверской губернии. Шишков не брал с них ни копейки. Выборные от села не утерпели, приехали к нему: «Батюшка барин, на мирском сходе мы положили — ехать к тебе и сказать: не берёшь с нас уже десять лет оброку, а потому не угодно ли положить за все льготные годы хоть по тысяче рублей — жалованье твоё небольшое...» Он пришёл в умиление. Но не от доброты мужиков, от того, что речи их — язык старых грамот. Усадил за стол, угощал, но когда они вновь завели речь о деньгах, взять их наотрез отказался.
Во дни войны от имени Александра Первого писал все приказы по армии и зажигательные манифесты к народу: «...не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам об их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая победами кровь Славы».
Наверное, с юных мичманских лет, равно как и кормление птиц в клетках и за окном, звонкое, чеканное великолепие древнего российского языка стало предметом его страсти. Никак не мог примириться с тем, что начиная с Петра Великого язык наш засорили такие иноземные названия, как авантаж, вояж, кураж, асессор, канцлер, министр, полицеймейстер... Поначалу накинулся и на Карамзина за его нововведения и слишком лёгкий, как чудилось, стиль. Но сам же и предложил избрать историографа в члены Российской Академии, когда узрел в его «Истории» слог Нестора-летописца да Сокольничих приказов Алексея Михайловича...
Подали чай с вареньями, которые особливо адмирал обожал, и жена Дарья Алексеевна, голландка по рождению, пригласила к столу.
— Разговор о словесности, предмете всё ж эфемерном, требует подкрепы пищей насущной. Но беседу за чаепитием продолжим, хотя повернём её на иную, не литературную, стезю. Как тебе ведомо, заступил я высокое государственное место, твоим батюшкой в своё время оставленное, — год уже, как народного просвещения министерство под моим управлением. И пришла мысль: хорошо бы иметь в сотоварищах-сотрудниках сына незабвенного Алексея Кирилловича, светлая ему память. Коротко, открывается вакансия попечителя Харьковского учебного округа. С государем о тебе уже речь вёл: он согласен.
Если уж начистоту, мысль о службе не раз приходила и ему, особенно последнее время. Да, да, деревеньками править не умел, того и гляди вылетишь в трубу. Но надобно ведь было просить, и не у кого-то — у государя. А тут вдруг такой оборот! Но Перовский не подал виду, что предложение министра и его желание удивительно совпадают.
Наоборот, хотелось произнести: три года минуло, как освободился от упряжи, и снова, пожалуйте, залезай в хомут! Но вслух сказал иное. Тоже в шутливой вроде форме, но по существу серьёзное и даже дерзкое:
— В основу всех наук, как выразился, сказывают, граф Аракчеев, следовало бы положить Священное Писание. Даже математику и ту преподавать на религиозный манер. К примеру, гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви через ходатая Бога и человеков, соединившее горнее с дольним, небесное с земным.
Жёлто-грязный хохолок на голове министра дёрнулся, кустистые брови сошлись к переносью:
— Вижу, ты насмешник из насмешников! А пора бы из мальчиков в мужи переходить. Отец твой, помнится, говорил о тебе: на Алексея громадную надежду имею, ум — от рождения, да и науками огранён. Хихикать же над верой — делу не помогать. Только на себя вызывать огонь, как в баталиях. Вон молодой Пушкин. Согласен, талант. Но сочинил пару-другую эпиграммок, поглумился над тем, что есть власти опора, — и где он теперь? Зато Жуковский Василий, он не только музам — добрым делам служит...
Сказанное о Жуковском упало как семя на благодатную почву: воспитать одного лишь человека — уже благо, а если способствовать образованию десятков персон?
Однако решил сдаться не сразу — пустил ещё один шар, так сказать, чтобы проверить главную мысль: а как быть с белль-летр?
— Изящная словесность, она ведь тоже камертон, на который можно настраивать людские души...
— А спорит-то кто ж? Я, по-твоему, лишь дремлю на заседаниях в своём министерстве да в Государственном совете? Вон все шкафы в кабинете забиты толстыми тетрадями: сочиняю и сочиняю всё, что на потребу собственной и вообще человеческой душе, — «Корнеслов» да «Сравнительный словарь». Так что и ты прометеев огонь в себе не гаси — сочинительствуй. От тесного сближения с учащими и учащимися больше ясности прибавится, на какие ноты потребно твоему камертону отзываться.
Едва успел возвратиться в свои Погорельцы, чуть ли не вдогон — письмо: «Милостивый Государь Алексей Алексеевич, Его Императорское Величество высочайшим указом своим, в 3-й день мая сего, 1825 года Правительствующему Сенату данным, всемилостивейше уволив г-на действительного статского советника Корнеева от должности попечителя Харьковского учебного округа, высочайше повелел быть Вам исправляющим должность попечителя сего округа с производством Вам столовых денег по 3.600 рублей в год из государственного казначейства.
Посему, препровождая к Вам, Милостивый Государь мой, копию с полученного мною о сём из Правительствующего Сената указа, предлагаю Вам вступить в должность по новому званию Вашему и вместе с тем уведомить Вас, что я отнёсся к бывшему г-ну попечителю об учинении распоряжения, чтобы все дела по Харьковскому учебному округу и по гимназии высших наук князя Безбородко, в канцелярии попечителя находящиеся, были препровождены по почте в Харьковский университет, которому предложено от меня, по получении сих дел, доставить оные к Вам. Равным образом предложил я как университету, так и гимназии высших наук князя Безбородко отныне и во всех случаях относиться и делать представления к Вам. Посему остаётся Вам уведомить сии учебные заведения, куда они должны адресовать свои представления, дабы оные могли беспрепятственно доходить до Вас.
С совершенным почтением Министр народного просвещения и Главноуправляющий делами иностранных вероисповеданий А. Шишков».
Только и надо было в ответном письме сообщить, что июня сего 28 дня вступил в должность, да указать ректору Харьковского университета, куда ему, новому попечителю, выслать канцелярию попечителя-предшественника.
Через несколько недель, к неописуемой радости Алеханчика, в Погорельцы прибыла крытая рогожей подвода — и с неё один за другим в чулан снесли двадцать два тюка бумаг. За этой повозкой — другая, на которой уже было четырнадцать тюков.
Папочка вышел на крыльцо в халате, прищурившись глянул, как мужики, стараясь не натаскать грязи в дом, стащили у приступка сапоги и босиком, на цыпочках стали затаскивать пыльные, перетянутые бечёвкой кули, и, зевнув, удалился к себе в кабинет.
Описания каких достопамятных, самых что ни на есть важных событий хранились в канцелярских делах, спешно прибывших из Харькова, сколько разных людей — от писарей и мелких чиновников до коллежских асессоров, статских, а может быть, и тайных советников — имели прикосновение к сим государственным бумагам, Алёшенька мог только догадываться и терпеливо ждать, когда папочка прикажет вспороть верёвки и толстенные, завязанные разноцветными тесёмками папки, на которых золотой двуглавый орёл, люди внесут в кабинет. Однако проходил день за днём, а папочка таких указаний не давал, он то просиживал долгие часы за столом, макая перо в чернила, то, что-то мурлыча себе под нос, ходил по кабинету, думал.
Если бы Алёша обладал свойством читать чужие мысли, он бы узнал, что думы папочки — и на бумаге, и в его слегка кудлатой голове — направлены были на цель более существенную, чем постижение тайны хранящихся в пыльных мешках канцелярских бумаг. Размышления папочки были посвящены постижению тех воспитательных задач, которые он принял на себя, став попечителем, а точнее, воспитателем не только его, Алёшеньки, но многих других не известных никому молодых людей, обучающихся на юге Российской империи.
Эх, не было сейчас рядом с ним, Алексеем Перовским, того собеседника по дрезденским кофейням — музыканта и поэта в длинной феске, с мефистофельскими глазами и мефистофельским же крючкообразным носом, в споре с которым он и его визави нередко достигали истины.
Впрочем, Гофман был не просто спорщик, неутомимый и настойчивый, но всякий раз непредсказуемый оракул. Он был бесподобен в своём умении любые жизненные явления облекать в волшебные тона и опёнки, отчего явления эти не переставали быть узнаваемы, привычны, хотя все герои его рассказов носили черты волшебства и фантазии. Так, говорил он, ему лучше высказать людям правду о них. К примеру, чтобы разобраться в сложных мотивациях человеческого поведения, в его добродетелях и пороках, великий немецкий выдумщик избрал в своих беседах с гостем из далёкой Московии главным героем учёного кота по имени Мур, от лица которого он виртуозно вёл самые разнообразные разговоры на философские темы.
Теперь же, в деревне, кресло против Перовского было пусто. Не было его собеседника ни в одном, ни в другом углу комнаты. И за окнами — ничего и никого, только большой, с раскидистыми кронами сад в английском вкусе, к которому с северной стороны примыкал просторный двор, обнесённый каменною оградою, а за нею зеленели конопляники, виднелись крестьянские избы, выстроенные в порядки и украшенные — на редкость в здешней стороне — каменными трубами.
Что ж, значит, не судьба столковаться с двойником по духу и образу мыслей. Однако сокрушение о том, что не дано тебе теперь, ничему не служит. Сокрушением своим ты не достигнешь того, чего желаешь, а только потеряешь вкус к тому, что имеешь. Человека, пренебрегающего этим правилом, сравнить можно с солдатом, который во время похода вздумал бы крушиться о том, что у него вместо щей да каши нет сладких пирогов.
Не заметил, как сам же занёс плод своих размышлений на бумажный лист, лежащий на столе, снова макнул перо в склянку и машинально поворотился к зеркалу. Прямо перед ним находился мужчина средних лет и росту повыше среднего. Волосы его были кудрявые, глаза голубые, губы довольно толстые и нос вздёрнутый немного кверху. Он поклонился весьма ласково, и, когда тронулся, видно стало, что он немного прихрамывает на правую ногу.
Откуда появился этот незнакомец и как он подошёл незаметно к дому?
Лукавая улыбка заиграла на припухлых губах Перовского, и незнакомец точь-в-точь её повторил.
А вот тебе и собеседник, которого недоставало, твой форменный двойник, с кем можешь обсуждать вопросы, занимающие твой ум, а потом сложить из этих разговоров целую книгу и назвать её, к примеру, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».
Окажись сейчас рядом Эрнст Теодор Амадей, тот бы одобрил сей замысел. Положим, так: усаживаются друг против друга автор и его двойник и каждый рассказывает свою новеллу, а затем — спор или согласие. «Лафертовская маковница» уже обнародована, близки к окончанию необыкновенные по своим приключениям «Пагубные последствия необузданного воображения» и «Путешествие в дилижансе», перебеливается уже готовый рассказ из Отечественной войны «Изидор и Анюта».
Такого, сказал бы великий немецкий романтик, в России ещё не бывало, чтобы в книжке — повествование, в сущности, от двух лиц.
Но от двух ли? Не один ли это человек, лишь с двумя сторонами единого сознания, как едины и оригинал, и его изображение в зеркале? В жизни ведь любой человек не ординарен, а многообразен: человек высказывает, как ему кажется, совершенно абсолютную истину, но подумает и тут же придёт к иному, иногда даже к прямо противоположному выводу, ибо действительность — разнообразна и противоречива. Посему двоякость воззрения на мир — не отступничество от познания, а лишь постижение новых и новых глубин бытия. Отсюда вывод: ум человеческий и вообще всё, что относится к душевным способностям людей, есть такая загадка, которую совершенно разрешить нам удастся разве в будущей жизни.
Двойник снова учтиво посмотрел на владельца кабинета: так что же, по-вашему, человеческий ум? И поддаётся ли он анатомии — иными словами, строго научному подразделению?
А как же? — с готовностью отозвался хозяин. Он, видимо, только и ждал подобного вопроса. Ум есть понятие общее, его можно разделить на большое число родов, совершенно между собою различных и один от другого не зависящих. Так, например, остроумие, проницательность, здравый рассудок, понятливость и прочее суть различные роды ума, из которых человек может обладать одними, не имея в себе ни малейшего признака других.
Вы, верно, встречали людей, например, очень острых, но которые совершенно лишены здравого — иначе, делового — рассудка, или, напротив, таких, которые с избытком наделены сим последним, но зато не имеют ни малейшей остроты. Иногда случается также, что качества, приобретаемые воспитанием, как, допустим, учёность — которая, к слову сказать, сама по себе не даёт ещё права на название умного человека, — в свете принимаются за ум. Бывает и то, что такие свойства, которые назвать можно второстепенными — ибо они сами собою не составляют ещё ума, как, например, хитрость, — доставляют человеку славу умного только потому, что они более других способностей бросаются в глаза.
Ну вот и завязался узелок, который одно удовольствие распутывать в тиши, всё дальше и дальше проникая за черту таинственности, поставленную перед человеком природой: почему так, а не иначе устроен людской разум, почему в нём иногда преобладают одни, а подчас иные свойства?
Должно быть, он не случайно клюнул на предложение старика Шишкова — давно зародилось в его сознании стремление проникнуть в тайну человеческих характеров, помочь многим из тех, кто не искушён в жизни, счастливо миновать пагубность соблазнов и искушений, выйти на дорогу служения идеалам добра и справедливости, а не мелким эгоистическим чувствам.
Вот же история, положенная в основу, казалось бы, неправдоподобного, только что оконченного им повествования «Пагубные последствия необузданного воображения»: молодой человек влюбляется в красивую девушку, которая оказывается не чем иным, как просто-напросто неодушевлённой механической игрушкой, созданной учёными-авантюристами для обмана легковерных. «Может ли произойти такое — влюбиться в куклу?» — спрашивает автор. И двойник, другая ипостась автора, отвечает: «Взгляните на свет: сколько встретите вы кукол обоего пола, которые совершенно ничего иного не делают и делать не умеют, как только гуляют по улицам, пляшут на балах, приседают и улыбаются. Несмотря на то, частёхонько в них влюбляются и даже предпочитают их людям, несравненно достойнейшим!»
Однако в этих словах — вывод, сентенция. А надобно прочитать, как безо всякой дидактики, увлекательно, с приключениями, от которых захватывает дух и замирает сердце, развёртывается шаг за шагом роман юного повесы и куклы, как в искусно расставленные плутовские сети мошенников попадает легковерный и неокрепший ум.
Автор и сам, подмигивая своему двойнику в зеркале, хохочет и волей-неволей громко выражает одобрение по поводу своих сочинительских способностей, так что на шум, производимый им, в комнату вбегают Алеханчик и Аннет.
Двойник исчез, потому что автор повернулся к вошедшим:
— Присаживайтесь, друзья мои. Давненько я вам не читал мною написанного, потому начну сей же час новое, захватывающее произведение, которое, вы слышали, распирает меня и рвётся наружу. Я хочу, чтобы и вы вместе со мною отправились теперь в далёкую-далёкую страну, где в мае одна тысяча семьсот... уточнять не буду, в каком точно году, случились необыкновенные, удивительные события. Итак... «В мае 17** года предпринял я путешествие в Германию с молодым графом N, которого отправил туда отец для окончания учения в славном Лейпцигском университете. Наши родители служили долгое время вместе на поле чести и сохранили тесную связь дружбы в преклонных летах; а потому я не мог отказать в неотступной просьбе старому графу, который единственного наследника своего имени и богатства желал вверить сыну испытанного и неизменного друга...»
Поднял глаза от листа, искоса глянул на сестру и племянника, обрадовался, что слушают, и стал читать дальше.
Тут, в писаниях, он, без ложной скромности, мастер. Конечно, не достиг всего, чего хотел бы, но сочинитель, может даже статься, с будущим. Тут он умеет овладевать душами, внушать им благие чувства и мысли. А что общего у него с той пыльной, завёрнутой в мешковину и перевитой бечёвками канцелярской рухлядью, сваленной в чулане?
Однако надобно на неделе... Нет, послезавтра! Решено — завтра же, вот только дочитать повесть, тут же — в путь!
Непорядочно и совестно исправно получать столовые деньги, принимать из казны средства на меблировку казённой квартиры в Харькове и не появиться там хотя бы ради приличия.
— Завтра же — в Харьков!
Но ехать вдруг выпало через Харьков и далее — в Таганрог. И не ехать в обычном смысле — мчаться сломя голову по осенним, расквашенным ненастьем южным российским просёлочным дорогам, ещё не схваченным заморозками.
Наверное, и сам император отложил бы этот спешный свой вояж, если бы не грудная болезнь императрицы Елизаветы Алексеевны. Только юг в это слякотное время года, советовали доктора, способен продлить благословенные дни августейшей особы.
Как ни спешил новоиспечённый попечитель, в Таганрог влетел в один день с императором — двадцатого сентября. Государь остановился в каменном одноэтажном доме — посредине сквозная зала, направо кабинет и туалетная, налево несколько небольших комнат для государыни. Тут же, в доме, устроили и церковь. Через двор, в соседних строениях, разместились Дибич, князь Пётр Волконский, генерал-адъютант Чернышев, генерал-губернатор Новороссийского края граф Воронцов, начальники двух караульных эскадронов лейб-казаков.
С дороги только успел Перовский облачиться в синий профессорский сюртук при белом атласном шарфе, как направил стопы свои в местную коммерческую гимназию, которую нашёл в довольно сносном порядке. Разве только бросились в глаза ветхость строения и скудость в меблировке и в учебных пособиях, что, собственно, он и ожидал увидеть.
И без его распоряжений все уже успели выскоблить, вычистить и вымыть в случае высочайшего посещения. Город уже знал: царь ходит по улицам пешком в лейб-гусарском сюртуке, сапогах и фуражке, приветливо здоровается с встречными, взгляд хотя и утомлённый, должно быть с дороги, но ласковый. Вдруг вот так, собственнолично, прогуливаясь, переступит и порог единственного светоча науки и просвещения в этом доселе Богом забытом купеческом, полурусском, полугреческом и полутурецком городке?
Но до визита в гимназию не дошло. На другой день по прибытии император дал ужин. Генералы — в башмаках и лентах, офицеры в белых панталонах и ботфортах. Государь же как ходил по городу — в лейб-гусарском сюртуке, и Перовский тож — в синем с атласным шарфом.
Не составило трудов представиться и, как положил ещё при осмотре гимназии, обрисовать состояние училища и заодно Харьковского университета, который по дороге тоже нашёл в состоянии, желающем много лучшего.
Александр, поворотившись ухом, которое у него слышало лучше, мило и кротко улыбнулся:
— Похвально, Перовский, что ты всегда просишь не за себя, а за других. — Государь, несомненно, припомнил Вену и дело о помиловании саксонского банкира. — Сие похвально, иные же просят только за себя.
— Ваше величество, моя служба — это и есть моя личная судьба. Так что, прося за дело, я как бы прошу и за себя, — сказал, как этого требовал момент, и сам внутренне усмехнулся над собою: эк, с какой ревностной стороны себя ухитрился показать!
Александр сделал несколько шагов, Алексей почтительно тронулся чуть сзади.
— Тут, Перовский, нужны не единовременные вспомоществования на училища и университеты, а реформы по всем учебным округам. Реформы же надо готовить. А кто нынче помышляет о сём в государстве? Однако отпишу Шишкову — пусть и тебя имеет в виду, готовясь к преобразованиям. Мне же, вероятно, в сих делах вряд ли будет суждено принять участие.
В памяти Алексея тотчас возникло услышанное ещё вдень прибытия, кажется, от самого Волконского: проезжая в Петербурге через мост Каменного острова, Александр вдруг встал в пролётке и так, стоя, долго смотрел на Неву. «Что с вами, ваше величество, вам что-нибудь угодно?» — осведомились ехавшие рядом.
«Ничего особенного, — ответствовал император. — Только мне почему-то показалось, что я всего этого отныне никогда больше не увижу».
Нечто из области предчувствий в духе моих собственных сочинений? — отметил про себя тогда же Перовский. Но сейчас обратил внимание, какое серое, нездоровое лицо у государя. Намедни толковали: ездил в Крым, в Георгиевский монастырь, верхом, без шинели, простыл. Но и простуде, как и предчувствиям, не придали значения.
Уже когда Алексей уехал из Таганрога, настигла весть: император скончался и тело его в Петербург будут провозить через Харьков.
По всему пути следования траурной процессии постановлено встречать и провожать поезд со всеми почестями. У харьковского губернатора Муратова составлялся подробный реестр — кому, в каком порядке и вслед за кем шествовать.
Предводитель губернского дворянства Квитка настаивал записать: шествие открывают помещики. Они — цвет здешнего дворянства.
— А господа университетские профессора, они не цвет губернии? — обратился к Квитке Перовский, не полагая в себе до сей минуты ни малейшего намёка на драчливость.
У Квитки отвисла челюсть — заезжий петербургский чиновник да со своим уставом в их монастырь!
— Не бывать тому, чтобы цифиркины да Грамматиковы шли в первых рядах, где положено лишь столбовым и потомственным! — распалялся предводитель.
— А вот бывать! — раззадоривал себя и Перовский. Ему показалось, что наконец-то он нашёл дело в этом провинциальном, заштатном, хотя и университетском городе. Как ни печален был повод поднять роль науки, но и его не следовало упускать. Однако как перешибить этого упрямого хохла? Ха, он и сам хохлацких, казацких кровей — не взять ли хитростью, этим второстепенным, но в данном случае важным качеством ума? — А если пойти попарно? — миролюбиво глянул в глаза Квитки. — Положим, представитель помещичьего сословия — и университетский преподаватель, тоже ведь дворянин?
Густые, как опахало, ресницы на широком, толстом и красном лице предводителя растерянно заморгали:
— Чтобы рядышком, рука об руку?.. Как же не можно? Це дуже гарно буде, кажу...
14
Великий князь Николай Павлович до сего, четырнадцатого, дня декабря 1825 года в царском семействе лишь один из трёх братьев почившего государя, отныне, волею народа и Божией, как сказано в манифесте, — император всея России...
Первыми ему присягнули члены августейшей фамилии, личные адъютанты полковники Адлерберг, Перовский и Кавелин, а также министры и генералы, оказавшиеся этой ночью в Зимнем дворце.
Но в Зимний уже просочилось: в гвардейских полках брожение — две недели тому назад присягали Константину, а теперь — вона! — новый царь. Как сие понять, чем объяснить? — требуют служивые в ротах и батальонах.
А выйдет из подчинения гвардия — зашатается опора, на коей весь трон.
Василий Перовский, как и другие двое императорских первых слуг, — на коня и к полковым командирам: быть во дворце, невзирая на полночь, тотчас.
Высокий, поджарый, с широкой грудью и решительным, но бледным лицом молодой император вперил в каждого полкового начальника холодный взгляд.
— Сегодня я вас ещё прошу — завтра буду приказывать. Головой ответите за порядок в войсках: чтобы к рассвету все были приведены к присяге...
Не спал новый монарх, не спали его адъютанты, не спали казармы. И казалось, бодрствовала вся столица.
Жуковского, только тот успел протереть глаза и сунуть ноги в башмаки да набросить на плечи мундир, Перовский почти силком вытолкал из Аничкова дворца и, втиснув в возок, привёз в Зимний:
— Василий, государь не в себе. Посему — спешно в дворцовую церковь и присягай!
Над каменными громадами домов ещё не обозначился слабый, мутный, как бывает середь зимы в Петербурге, рассвет, а в Зимнем уже столпотворение. В коридорах сенаторы в мундирах с золотым шитьём, фрейлины и статс-дамы, высшее духовенство. Одни спешили в дворцовую церковь, другие, как и Жуковский, совершив уже присягу, растекались по комнатам, образуя в потоке движения воронки и омутки, какие встречаются на реках в бурное половодье.
Лавируя между людскими омутками, Жуковский пробился к парадным дверям. Не решаясь выйти из них на снег в башмаках и без шубы, краешком глаза в распахиваемой пасти дверей ухватил необычную, потрясшую его картину. Вся площадь перед дворцом кишела народом — кто в чиновничьих шинелях, поддёвках и тулупах, а кто в сермягах и армяках — чернь.
Толком во дворце никто ничего не знал. Лишь ползли один другого невероятнее и страшнее слухи: такого-то генерала уже застрелили, иного растерзали живьём, а толпа, вооружённая кольями, топорами и вилами, сгрудившаяся у подъездов, вот-вот ворвётся в покои дворца, подмяв под себя стражу.
Одно только, многократно повторенное, казалось похожим на правду: войска взбунтовались.
Не все, конечно, полки вышли из повиновения. Присягнули Измайловский, Преображенский и Финляндский, конная гвардия, зато в лейб-гвардии Московском и лейб-гренадерском полках, в гвардейском морском экипаже нижние чины, возбуждённые некоторыми офицерами, разобрали в казармах ружья и патроны, с развёрнутыми знамёнами двинулись на Петровскую площадь, к Сенату, отказываясь присягать новому царю.
Снаружи в дверь, в клубе морозном, в одном лёгком мундирчике — Карамзин. Увидев Жуковского, обрадованно протянул руку:
— Выбегаю уже второй раз. Это ещё не мороз — заморозок. Всего восемь градусов на термометре. Но может обернуться и похлеще — стихия, она ведь непредсказуема! Помнишь, осенью прошлого года Нева неожиданно вышла из берегов. Небывалое за многие лета наводнение! Газеты писали: река унесла с собою в залив шесть сот утопших, наделав неисчислимые убытки.
В кофейного оттенка глазах Жуковского — неприкрытое беспокойство:
— Так вы полагаете преднамеренность событий?
Николай Михайлович прищурился, понизил голос:
— Память некстати подсказала сейчас, дорогой Василий Андреевич, ведомые и тебе некоторые речи в «Арзамасе». Да-с... Немало горячих, но заблуждающихся голов хотели бы уронить троны, чтобы на их место навалить кучи журналов.
— Воплощение благородства — и вдруг способность к такому? Да я за каждого из них готов...
— Не поручайся. Заблуждения нынешних молодых людей, увы, суть заблуждения нашего века. Вот в чём вопрос!.. Ну-с, я к императрице-матери. Долг христианина укрепить сердце страдающего.
— И я с вами, Николай Михайлович. В такой час нельзя сложа руки, хоть одну боль, да утишим.
Вниз по лестничному маршу — быстрым шагом, чуть не вскачь — в мундире Преображенского полка молодой император, а за ним Адлерберг, Кавелин, Перовский, свитские генералы, тоже налегке, без шинелей. Мимо почтительно расступившихся — в дверь, наружу.
Жуковский чуть не бросился вдогон, подумав вдруг: а не скажет что и на сей раз Василий Перовский? Но кто в такой сумятице может ведать определённое?
Положение и впрямь складывалось такое, что ни адъютант Перовский, ни даже сам император со всем его ближайшим окружением не в состоянии были теперь определить, что происходит. Известно было одно: у Сената Московский полк сомкнул каре, ощетинился штыками и дулами ружей. К ним, мятежникам, и следовало сейчас идти императору и свите.
Всё пространство от Зимнего до Адмиралтейства — людское море.
Царь выпятил грудь, выхватив из-за обшлага манифест.
— Я, Николай... волею Божией... — Голос его, обычно зычный, звучал невнятно, слова заглушались выкриками толпы.
Генерал Бенкендорф осторожно прикоснулся к руке государя:
— Ваше величество, соблаговолите приказать разойтись...
Лицо государя дёрнулось, он недовольно повёл плечом, но мягко и настойчиво предложил собравшимся покинуть площадь.
Перовский стоял рядом и видел, каких усилий стоило Николаю Павловичу взять себя в руки, и он внутренне про себя восхитился волею императора, тем, как тог сдержал себя, даже не повысил голоса. Да, теперь, когда всё так серьёзно, не приказы и повеления, а сердечное обращение может свершить многое, чего не сделать никакой силой.
Толпа поредела, и в образовавшемся прогале Перовский увидел солдат-преображенцев, идущих строем. Николай тут же обратился к ним:
— Готовы ли вы идти за мной, куда велю?
— Рады стараться! — ответили молодцы.
Бледное, со следами синевы то ли от бессонницы, то ли от стужи лицо императора преобразилось.
— Левое плечо, вперёд марш! — привычно, сам весь подтягиваясь, скомандовал он и во главе целого батальона двинулся к Адмиралтейству.
От стрелки Адмиралтейского бульвара как на ладони открылась заполненная войсками Петровская и вся запруженная народом Исаакиевская площадь, в центре которой поднималась церковь-новостройка, обнесённая забором. Дальше идти было рискованно.
Неожиданно шагах в трёх от государя, вздымая снежную крупку, шмякнулся камень величиной с кулак, и Перовский, глянув вверх, увидел на лесах стройки фигуры мастеровых. Они что-то возбуждённо выкрикивали, размахивая руками, в которых были зажаты обрезки досок и, вероятно, новые каменья. Василий, сделав выпад, заслонил собою императора, и тут же тяжёлый, тупой удар поразил его в спину. Он поскользнулся и упал на одно колено. Рядом с ним валялся обрезок доски с вколоченным в него огромным гвоздём.
Ещё немного, отирая невольно проступившую на лбу испарину, подумал он, — не стало бы меня, а может, и его, государя.
Василий поднял лицо и встретился со взглядом императора, в котором стояли ужас и растерянность. Вдруг что-то похожее на человеческое участие отразилось на скованном лице, и Николай протянул белоснежный батистовый платок:
— Нате перевяжите, если у него... у тебя...
— Не извольте беспокоиться, ваше величество, раны нет, — раздалось сразу несколько голосов.
— Право, ничего страшного, — засмущался Перовский, косясь на четырёхгранное, иссиня блестящее жало гвоздя, вколоченного в доску, и стараясь тут же выбросить это видение из головы.
Преображенцы бросились к ограде. С лесов вниз попадало несколько мастеровых, тут же давших деру, но из-за забора успело вылететь ещё два-три булыжника и столько же, наверное, чурбаков. А с Петровской площади враз бабахнули выстрелы.
— Патроны с собой? Заряжай! — раздалась команда императора, обращённая к преображенцам.
Да, да, глянув на солдат, заряжавших ружья, подумал Перовский, мера предосторожности. Надо быть готовыми к любой неожиданности, уж коли войска, опора власти, грозятся пальбой. Эго куда серьёзнее швырков из-за ограды!
Послышался голос Бенкендорфа:
— Ваше величество, я предусмотрительно подготовил экипажи для императорского семейства. Если в том явится нужда, под присмотром кавалергардов двор можно будет, ради полного спокойствия, направить в Царское Село.
— Благодарю, генерал, — сухо ответил Николай.
— В таком случае, ваше величество, — настаивал Бенкендорф, — соблаговолите приказать кому-либо скакать во дворец, чтобы подготовить к отъезду августейшее семейство.
Лицо императора оборотилось чуть назад, попеременно останавливая взгляд то на одном, то на другом своём адъютанте.
Только бы не на меня пал выбор, с внезапной тревогой подумал Перовский. Самый повод для моего удаления с поля чести — я контужен, мне теперь и поручить второстепенное дело. Но я боевой офицер, и моё место в час крайней опасности должно быть здесь, на линии, где может властвовать смерть. Ведь сказал же нынче император, услышав о бунте: «Сегодня, может быть, нас не будет более на свете, но мы умрём, исполнив долг».
Неужели теперь, вот сейчас человек, произнёсший эти славные слова и сам себя обрёкший на крайнюю опасность, лишит меня чести быть с ним рядом?
— Кавелин, — наконец произнёс Николай, — поручаю тебе попечение над моим семейством.
Горячая волна счастья охватила Василия: он не мог поступить иначе по отношению ко мне, ведь я сегодня спас его от увечья, а может, и гибели.
Послышалось ещё несколько ружейных хлопков со стороны Сената, и всадник, спешившись, прокричал:
— Ваше величество... там, на площади, убит... смертельно ранен генерал-губернатор... граф Милорадович!
Спазмы сдавили горло Василия: Господи, Михаила Андреевича, героя двенадцатого года, храбрейшего из храбрых, да за что?.. И кто же, кто они там, поднявшие руку на власть, отвергающие существующий порядок, стремящиеся на злобе, на крови утвердить кажущиеся им законными добродетель и правду?
Последнее слово пронзило остро, будто тот гвоздь у Исаакия. Да, и я когда-то клялся не щадить себя в борьбе за правду. Этот призыв «За правду!» в наши юные годы мы, молодые офицеры, только надевшие погоны, выгравировали на клинках своих шпаг. Но разве когда-либо давали клятву обагрить священную сталь кровью даже тех, кто попирал справедливость, был нашим непримиримым врагом? И мои давние друзья, с кем я вступал в юношеское общество, а затем и в общество военное, братья Муравьёвы, братья Апостолы, разве они могли бы так — в сердце, навылет, насмерть, как закоренелые преступники, как презренные исчадия ада?
От кого он слышал эти слова, начисто отрицающие насилие в достижении самых, казалось бы, праведных форм правления? Никита Муравьёв или Сергей Муравьёв-Апостол это когда-то произнесли? А может, здесь, в Петербурге, говорили об этом братья Бестужевы, Кондратий Рылеев?
Слава Богу, что Александр Муравьёв, когда-то основатель целых двух тайных обществ, как и он, Василий Перовский, давно отошёл от сих заговорщицких устремлений. Александра Муравьёва, кажется, сейчас нет в столице. На счастье, нет в Петербурге и братьев Муравьёвых-Апостолов, хорошо, если бы не было и других, коротко ему знакомых.
Нет, те, кого он близко знал, с кем пылко мечтал о торжестве правды и справедливости, не выкажут себя презренными заговорщиками и преступниками, посягающими на законные государственные установления. Вот же сам нынешний император показал истинно незабываемое, истинно благородное отношение к священному праву на высшую власть. То было вдень, когда получилось известие о кончине Александра. Великий князь, зная, что существует отречение следующего по старшинству брата императора, Константина, и что, по закону, он может являться наследником престола, тем не менее не принял этой власти.
Василий в тот день видел, как великий князь, стоя во дворцовой церкви, потребовал у духовника присяжный лист и, проглатывая слёзы, преодолевая рыдания, почти один, без приличествующих этой минуте свидетелей и без увлекающего душу людского одобрения, произнёс клятву старшему брату.
История в основе своей — летопись властолюбия. Приобретение власти, сохранение её — вот главные события исторические. Все жаждут права быть над другими именем патриотизма, любви к человечеству, именем высшего блага для народа. Подлинное же название этой жажды — своекорыстие. И всякие средства — обман, клевета, измена, хищничество, междоусобица, мятеж — кажутся позволенными для приобретения такого великого блага. Здесь же — чистое, бескорыстное отвержение власти, полнейшее исключение даже малого намёка на соперничество и борьбу за своё право на главенство.
Император занял трон лишь тогда, когда Константин ещё раз категорически отказался от престола, и Николаю Павловичу ничего не оставалось, как воспринять власть, чтобы теперь её до конца отстаивать и защищать...
А площади всё ещё шумели, и не было конца разбушевавшейся стихии.
Чем же можно было её укротить? Против вышедших из повиновения войск — войска верные. И против безответственного, братоубийственного огня — одно лишь превосходство в силах и твёрдость. Ничего нельзя построить на крови, ибо насилие неминуемо приведёт к ещё более горшему насилию. Это знает он, полковник Перовский, с юных лет смотревший смерти в лицо и испытавший на себе, как бесценна, как дорога человеческая жизнь.
— Скоро сумерки. Полагаю стянуть вокруг Петровской, Исаакиевской и Адмиралтейской площадей верные мне войска, — произносит Николай, обращаясь к обступившим его генералам. — Прикажите дать команды... А ты, Перовский, скачи к кавалергардам и передай Алексею Орлову: конную гвардию ко мне!
Вот его незабвенный час, его звёздное предопределение — помочь пресечь могущее завершиться кровопролитием противостояние. Да, только окружить мятежное каре, предложить сложить ружья, решительным словом остудить помутившиеся головы...
На белом арабских кровей скакуне генерал Орлов перед императором выхватывает из ножен палаш:
— По вашему повелению... Велите, ваше императорское... всего в одну атаку! Обещаю всех изрубить, как капусту!..
Но на пути конницы — залп.
Такого треска ружей Перовский не слыхал со времён войны. И — в пороховом дыму, всё в клубах пены, гвардейские кони — назад...
Ещё атака, ещё... Неужто они вошли в раж и всерьёз?..
А по мостовой цокот копыт других лошадей — битюгов и грохот орудийных колёс.
— Ваше императорское... снаряды не привезли...
— Раззявы! Срочно послать за зарядными ящиками!
И вот уже тугой удар, и там, над крышей Сената, тонкий, как флейта, визг: пью, пью... Ещё удары, и визгливые, с присвистом, звуки — по самой брусчатке Петровской.
Это — шрапнель, самая страшная для пехоты артиллерийская пальба.
Разрывы густо, веером сыплют на головы, в грудь, по ногам, убегающим в спины круглые свинцовые пули, от которых нет спасения. Крики, стоны, вопль между выстрелами орудий.
И это — тоже по-настоящему, как давеча палаши конницы?
Перовский лихорадочно переводит взгляд с одной фигуры на другую, ища императора. Уж смерклось, и только при очередной орудийной вспышке можно различить, кто есть кто. Отсвет падает на высокую тень: царь стоит, прижав ладони к голове, чтобы не слышать грохота и воя.
Так почему же он не даст команды немедля прекратить расстрел, если даже его нервы не выдерживают, сдают?
Ах да, он ведь ещё с юности, когда с братом Мишелем обучался военному делу, боялся ружейных и пушечных выстрелов — убегал, прятался в кусты, трусил, вызывая насмешки брата.
15
Анну словно какая муха укусила: в одночасье переменила свою жизнь — оставила Малороссию и переселилась в столицу.
По правде говоря, Алексей давно успокоился: вот и минуло сумасбродство, деревенское житьё сгладило резкие манеры сестры, сделало её уравновешеннее. Шутка ли, девятый год пошёл, как покинула Петербург, за это время все воспоминания стёрлись, все связи нарушились, куда теперь деревенской помещице да в великосветские салоны! Ан нет, вдруг в один день проявился прежний нрав, да так, что он, брат, лишь руками развёл — вновь оказался в плену сестринских причуд.
Сразу после Рождества сломя голову кинуться в Петербург — это ещё цветочки. Ягодки — когда в столице заявила: хочу быть приставленной ко двору, да чтоб не одна, а с сыном Алёшенькой! Ну прямо как принцесса какая из волшебной сказки — стоит топнуть ножкой, как отворятся пред нею чертоги...
Алексей подтрунивать стал: губа у тебя, сестрица, не дура! Глянула из-под ресниц — чуть не молнии, таким огнём полыхнуло:
— А чем они там, в Аничковом дворце, выше меня? Да и дворец-то не их, нашему двоюродному деду по-первости принадлежавший. Это ныне — собственность Николая Павловича... Но мне одно лишь надобно — предстать перед ним. Не забыл ведь, когда ещё великим князем был, теперь — всемогущ!..
Так и вспомнился отец с его необузданными, без всяких границ, замашками. Однако припомнилось и другое. Года два тому назад столкнулся в покоях Аничкова дворца с великим князем Николаем Павловичем. Как раз оба Василия — Жуковский и брат — его, Алексея, провожают от себя, а тут — он.
— Кажется, брат твой? — повернул чуть назад великолепно посаженную голову.
— Так точно — старший. Однако, в отличие от меня, жителя столичного, — отшельник в каких-то там Погорельцах и Красном Роге, — ответил Василий.
— Заточить себя в глуши — дело добровольное. Но прятать от глаз людских редкой красоты молодую женщину — поступок, прямо сказать, непростительный. — По лицу Николая Павловича пробежало нечто похожее на улыбку. — Как она там, Аннет?
— Ваше императорское высочество, — только на мгновение смутившись, тут же нашёлся Алексей, — осмелюсь заметить, что у женщин, даже самых очаровательных, существуют обязанности, которые иногда вынужденно отлучают их от большого света, но тем не менее придают им ещё более привлекательности и одухотворённости.
— Ты, верно, имеешь в виду материнство, воспитание сына? Кстати, как он, карапуз?
— Алёшенька? — радостно вырвалось у Алексея. — Смею уверить вас, мальчик — сущий ангел и в то же время Геркулес.
— Что так?
— Добрейшая душа и необыкновенной физической силы. Намедни попытался скрутить винтом серебряную вилку и, если бы не Аннет, которая испугалась, что он повредит себе руки, полагаю, добился бы успеха.
Великий князь глянул на Перовского Василия:
— Насчёт сгибания вилок и подков это, кажется, по твоей части. Фамильная гетманская черта, а лучше сказать, казацкая... А я, передай сестре, — вновь обратился к Алексею, — нередко вспоминаю, как мы с нею вальсировали вот в этом самом дворце и как она музицировала на фортепианах. Верно, ей в отшельнической глуши будет приятно, если я через тебя пошлю ей ноты одного-двух менуэтов?..
Ах, Господи, надо было видеть глаза Аннет, когда она взяла в руки эти самые ноты! Такой живой огонь зажёгся в её взоре, так вспыхнуло лицо, и она, оставив подарок на рояле, выбежала из гостиной, успев приказать мадемуазель Лизетт: «Играйте! Я буду вас слушать у себя», — и разрыдалась.
Восемь лет... Господи, восемь лет без яркого блеска петербургских салонов, без сверкания зеркал и паркета, без множества одухотворённых прекрасных лиц и утончённых разговоров, без всего, что так дорого! Как же не полететь на крыльях в манящий Петербург, узнав, что тот, кто совсем недавно сам вспомнил её, отныне император, который может всё и которому теперь принадлежит весь мир.
Правда, в Петербурге, как только приехала, отовсюду слышала: «...из самых лучших семейств... в железа... в крепость... и — ни малейшего сострадания к несчастным...»
Да что вы знаете об этом человеке, который само воплощение ангельской кротости и нежности! Да, строг. Но к тем, кто, не думая о нём, о его собственных страданиях, решил покуситься на самое святое...
По-первости Алексей сидел в петербургском доме, охватив голову руками, печалясь о погубленных жизнях вчерашних друзей, и, слушая Анну, пытался сам во всём разобраться. Но разбора не выходило: в голове — одно за другим — всплывали лица. Братья Бестужевы... Александр, восторженный и тонко чувствующий романтик Бестужев-Марлинский, оказывается, с братом Михаилом вывели к Сенату роты Московского взбунтовавшегося полка и вместе с нижними чинами стояли под градом картечи. Там же находился и брат Николай, пришедший на площадь вместе с гвардейским морским экипажем... А Рылеев, Рылеев, выходит, и он, штатский, плечо к плечу с офицерами, да ещё, говорят, один из заговорщицкой головки!..
Ещё в Харькове узнал о восстании Черниговского полка и аресте поднявших полк Сергея и Матвея Муравьёвых-Апостолов, по дороге же в Петербург услышал о взятии под стражу генералов Орлова Михаила и Сергея Волконского. А брат-то, брат родной Михаила, Алёшка[29], рассказывал Василий, с обнажённым палашом — в кровавое месиво на Петровской...
Кто же из них праведники, кто преступники?.. Впрочем, всё так в человеческих судьбах перемешалось, что очевидное стало невероятным, а невероятное — самым что ни на есть сбыточным, сущим.
Давно ли подсмеивался над Аннет Топни Ножкой, а ничего не скажешь — свершилось: графиня Толстая с сыном приглашаются во дворец!
А ты ещё хочешь досконально исследовать связь событий и судеб, получить ответы на вопросы, которые и задавать-то самому себе страшно!..
Возведение же Алеханчика и Анны в число самого ближайшего окружения императорской фамилии, оказывается, обставилось проще простого.
Они уже с сестрой и племянником тут обустроились, в Петербурге, когда появилось высочайшее намерение образовать и воспитать императорского наследника в качестве будущего восприемника трона. Выбор пал на Жуковского — лучшего преподавателя и воспитателя трудно было представить.
Василия Андреевича надобно знать — скрупулёзно и дотошно, не упуская никаких мелочей, а, наоборот, широко охватывая все предметы, все виды и способы воспитания цесаревича, он составил самый подробный план занятий и представил его государю. Царь план одобрил. Жуковский же, проявляя глубину своих педагогических способностей, высказал мысль: для гармонического развития личности, для проявления в ней всей гаммы душевных качеств, так необходимых первому лицу в государстве, будущему отцу своих многочисленных подданных, наследнику хорошо бы смолоду иметь общество сверстников, иначе — товарищей для прогулок и игр.
— Похвально! — поддержал император, вспомнив, что сам рос вместе с братом Мишелем. — Однако ты прав, надо подобрать наиболее достойных, чтобы влияние их было только облагораживающим. Занеси в свой план: сына Адлерберга[30] — Александра. Помню, он родился спустя месяц после моего, посему Владимир Фёдорович не преминул дать своему первенцу то же святое для нас имя — Александр. Кто ещё подойдёт?
Жуковский с самого начала доклада держал в уме не так чтобы давний разговор нынешнего государя с братьями Перовскими об их племяннике, потому тут же и предложил:
— Графа Толстого Алексея осмелился бы вам напомнить.
— Одобряю, Жуковский, — с готовностью согласился Николай. — Гм, «ангел и Геркулес»? Поглядим. — У нового императора была превосходная память.
Анна измучила приказчиков самых модных магазинов и всех известных петербургских портных. Перебирала материи, отшвыривая их, примеряла уже сметанные по её фигуре платья и кидала их в лицо модельерам... Наконец выбрала то, что шло, что оказалось по вкусу, — и во дворец.
Всего на полгода постарше, Алёшенька учтиво поклонился наследнику, и лица обоих рослых крепышей тотчас открыто озарились, выражая обоюдно вспыхнувшую симпатию.
— А у тебя есть духовое ружьё? — Взяв нового приятеля за руку, наследник потянул его за собою в комнату для игр. — Ты только посмотри: это редут, который надо брать штурмом, это флеши, где я устанавливаю пушки, которые палят настоящими зарядами, только крохотными, чтобы не наделать вреда. Военный лагерь в этой комнате приказал построить мой папа, император.
Алеханчик с неподдельным интересом осмотрел все устройства в игральной зале, вежливо похвалил и откровенно признался:
— Ваше императорское высочество, я привык играть на воздухе, где много простора и света, где можно бегать куда захочешь. У нас в деревне огромный парк и пруд...
— Ой, хорошо как! И я более всего люблю играть в саду. Побежали?.. Только давай сразу условимся: если тебя определили в мои товарищи для игр, а ты к тому же мне понравился с первого взгляда, зови меня просто Александр или Саша, как называет меня иногда мама — и мне это очень приятно.
— Простите, ваше императорское высочество, но моя мама и дядя мне говорили, чтобы я не забывался: между нами немалая разница в положениях.
— Для искренних друзей не может быть различий. Итак, договорились: ты — Алёша, я — Саша. Хотя бы когда мы без посторонних, когда мы вдвоём?
На конец лета в Белокаменной было намечено коронование императора, и графиня Толстая с сыном перебралась из одной столицы в другую, поселившись в доме матушки на Новой Басманной.
После смерти графа Мария Михайловна вышла замуж за генерал-майора Денисьева и стала дворянкой. Наконец осуществилась её давняя мечта, на достижение которой она в своё время затратила немало усилий.
Не о себе только думала — о детях. При рождении первенца, Николая, граф, долго раздумывая, определил: дать вымышленное отчество — Иванович, а фамилию, тоже придуманную, но со значением: Перовский. Значит, в память о том месте, где произошло венчание русской императрицы, дочери Петра Великого, и основателя их рода, дяди Алексея Григорьевича.
Позже граф стал записывать Перовскими всех появлявшихся на свет от него и мещанки Марии Соболевской. Но уже со второго, Алексея, вместо Иванович велел проставлять Алексеевич, давая им если уж не свою графскую фамилию, так хотя бы собственное имя в отчестве.
Матушка подкупила крючкотворов, чтобы вписали в дворянскую книгу детей как сирот некоего погибшего поручика Перовского. Не удался обман. И когда уже старший, Николай, получив образование, ушёл из семьи, а Алексею пришла пора поступать в университет, за хлопоты о приобретении дворянства взялся сам Алексей Кириллович. Ничего не поделаешь, пришлось просить у Александра! Дворянство получили все дети, но не матушка. Но пришёл, как говорится, и её черёд...
Теперь и Аннет не просительницей прибыла в отчий дом, как несколько лет назад, — графиня Толстая, с почестями принятая при дворе, стала желанной гостьей во всех московских дворцах, начиная с первого здесь дома московского генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына.
И Алёшенька был введён в общество тех же детей Голицыных, князя Мещёрского, графа Виельгорского... Давно уже он сам стал называться графом Толстым, а не Перовским, как думалось ему вначале. И «папочка» на самом деле оказался горячо любимым дядей, который с ранних дней всё сделал для того, чтобы детство племянника не оказалось ущербным и обделённым.
В увеселениях, балах, маскарадах и затейливых детских играх не заметили, как подошла пора коронационных торжеств. Объявился двор, в Первопрестольную, как всегда в ожидании императора, стянулись войска. И всюду начались гуляния с фейерверками, салютами, праздничными угощениями прямо на улицах и площадях.
Так уж устроен человек — зло он помнит меньше, чем проявление радости. Было бы иначе — жизнь могла бы превратиться в сущий ад, без малейшего просвета и надежд на будущее. Об этом свойстве преднамеренно позаботилась сама природа, размышлял, гуляя с племянником по Москве, Алексей Перовский, чтобы человек не отчаивался, а всегда стремился к светлому, веря, что оно обязательно к нему придёт. Но иные люди, зная об этих особенностях человеческой натуры, нередко ими корыстно пользуются...
Нет, нет, ни с сестрой, ни с племянником, ни с какой иной, даже очень близкой ему, душой он не вёл таких разговоров. Но память не отпускала: пять виселиц для пяти казнённых на кронверке Петропавловской крепости и десятки несчастных после казематов — в рудники Сибири...
Сам он не поступил бы так, как, положим, Кондратий Рылеев, как Саша Бестужев. Да и не во всём был с ними согласен, проще сказать — поначалу разделял лишь литературные взгляды, а далее, не соглашаясь в воззрениях на переустройство, выставлял свой резон: если не можешь смириться с мерзостями, обрати взор на себя, постарайся, чтобы сам ты оказался выше упрёков. А для сего надобно самую малость — облагородить своё сердце и вложить хотя бы частицу оного в того, кто рядом с тобою.
Стоял мысленно пред глазами Жуковский с его убеждённостью в безграничное совершенствование человеческой души. Да он и по себе знал, сколько уже успел сделать доброго для Алёшеньки. А разве для изменения мира мало того, чтобы изменился сначала ты,, учитель, а следом за тобою — и твой ученик, твой последователь? И не важно, что процесс начинается с небольшого — обязательно завершится он результатом значительным. Пусть у него последователь пока мальчик, Алёшенька, но у Жуковского — уже Пушкин!..
Каждый жаждущий изменений выбирает свою стезю — ошибаясь и даже заблуждаясь, но искренне веруя. Однако никому не дано силой ломать чужую жизнь, чтобы, убивая душу, беспокойную человеческую мысль, изничтожить вместе с нею и её оболочку — тело.
Не один он — пусть не в голос, пусть самому лишь себе — говорил: преступление совершено не теми, кто первыми вышли, к Сенату, а теми, кто их, уже безоружных, закованных в железа, предал жестокому суду. Вот потому теперь, когда ещё у всех на памяти пятеро вздёрнутых на верёвках, — триумфальное празднество в Москве. Боль и зло скоро забудутся — радость будет помниться долго. Так почему ж не заглушить содеянное зло вселенской триумфальностью, от которой всем вроде бы целые моря милостей? Одним — звания, чины, должности, ордена, тем же, кому ни того, ни другого, ни третьего, — кружка хмельного вина да краюха хлеба с сальцем прямо на площадях, под колокольный звон. Кто там, охальник, про какие-то царёвы зверства брехать надумал? Вона каков наш государь-батюшка — всех дарами да милостями осыпал!..
Не обойдены и они, Перовские: Василий пожалован флигель-адъютантом, Лев получил должность вице-директора департамента уделов, он, Алексей, — чин действительного статского советника, равный, как известно, генерал-майору, Анна же возведена в статс-дамы.
Грешно, грешно, Алексей Алексеевич, эдаким манером да о царских благодеяниях! К тому ж в рассуждениях ваших всё будто в одну, простите, кучу — и заблуждающиеся, и идущие праведным путём к благим целям. Сами ж изволили заметить: не просто во всём вот так, вдруг, разобраться. Да и надо ли, если сам убеждён в правоте своей стези, если веришь, что служение воспитанию благородных чувств — твоя судьба? По существу, только ведь начато то огромное деяние, что затеял, размышляя над собственным предназначением на сей грешной земле. Так что, любезный доктор словесных наук в чине генерала, но ещё от литературы не генерал — тут не цари, публика и время вынесут свой вердикт — за дело! И право, не стоит бередить душу рассуждениями, которые бессильны что-либо изменить в уже свершившемся. Иное в твоих руках — помочь определиться судьбам будущим, в первую очередь — судьбе милого Алёшеньки.
Пока Аннет пляшет на балах, в самый раз показать Алёшеньке Москву. Помнишь, как самого впервые ввели в Кремль, и ты, задрав голову, зрил колокольню Ивана Великого, шёл от соборов к палатам, и древняя седая история многих и многих веков сопровождала тебя в том благоговейном шествии.
Глаза Алёши — широко раскрытые, возбуждённые и доверчивые, как и сама его распахнутая добру, нежная и отзывчивая душа. Надо помочь ему, маленькому, запастись счастьем и добром, радостью и неподдельной искренностью на всю долгую жизнь. А она, жизнь, бывает разной, и часто — горькой, несправедливой и даже жестокой. Ты же, Алёша, всегда помни о главном — о том добре, которое можешь принести людям. Людям близким и тем, кто тебе сейчас даже неведом, но кому твоё деяние, твоя помощь окажутся насущно необходимыми, настоятельно нужными...
Куда только ни ездили они, оба Алёши, большой и ещё только подрастающий, на какие нарядные улицы, в какие дальние уголки ни забирались — всюду им было интересно.
Так — жадно, восторженно — совсем недавно открывал Алёшенька Петербург. Красивый, строгий, торжественный Петербург, поскольку он увидел сей город впервые, его ошеломил. Наверное, если бы он от рождения жил здесь всё время, столица распахивалась бы пред его глазами медленно, по маленьким долям. Он хорошо узнал бы сначала свою, затем соседние улицы, потом места, где проживали знакомые и друзья, потом — постепенно — и уголки более удалённые. Конечно, всякий раз в душе откладывались бы впечатления новые, яркие, но не было бы такого ощущения, какое появилось теперь, — всё вдруг и всё сразу!
Москва не похожа на Петербург, но это даже хорошо — один за другим открылись для него два самых огромных города во всей империи. Словно две чудные волшебные сказки, а лучше — две прекрасные поэмы разом вошли в его жизнь.
Поездки с дядей по Москве не утомляли, потому что всё было неповторимо и хотелось новых и новых впечатлений. Особенно поразился Алёшенька, когда прямо из Кремля, с Красной площади, Остоженкой, только что замощённой камнем для праздничных торжеств, они поехали к Новодевичьему монастырю, а оттуда переправились на пароме на противоположный берег Москвы-реки и оказались на Воробьёвых горах.
— Ну-ка взгляни, где мы недавно были с тобою? Видишь там, почти на самом горизонте, золотое сияние? Это башни Кремля и его соборы, — показывал вниз, на панораму города, дядя.
И впрямь вся Москва расстилалась перед ними как на ладони. Такой картины они не видели в Петербурге, разве если бы только вообразить себя на самой вершине шпиля Адмиралтейства, можно, наверное, было охватить весь город. Здесь же не надо было ничего мысленно представлять, всё было в натуре, на самом деле пред твоим взором.
Дядю Васю и дядю Леву, с которыми Алёшенька впервые увиделся в Петербурге, в доме бабушки, на Новой Басманной застать можно было редко. Зато они участвовали в таких неповторимых торжествах и находились там, где был сам император, что им можно было лишь позавидовать. Алёша, урывками слушая их рассказы, чувствовал, как сильно начинало стучать его сердце, и от волнения он даже зажмуривал глаза: вот бы и ему хоть на полчасика, хоть на единственное мгновение оказаться там, где были главные центры торжества!
Однажды дядя Вася приехал на Басманную в особенно приподнятом настроении. В руке у него был большой конверт какого-то небесно-голубого цвета.
— А ну, Алеханчик, пляши! — воскликнул дядя. — Или лучше давай с тобою мериться силами.
Дядя Вася сел к столу, согнул правую руку в локте и предложил племяннику её прижать книзу. Алеханчик весь покраснел от натуги, стараясь победить, но это ему не удалось. Лишь с третьей попытки дядя Вася сдался.
— Ага, это вы нарочно мне поддались! — вскричал Алеханчик. — Признайтесь, так?
Но дядя встал и сделал низкий полупоклон, протягивая письмо:
— Графу Алексею Толстому — в собственные руки!
В голубом конверте оказался лист тоже голубой бумаги, на котором по карандашным линейкам крупными буквами, похожими на вязь, значились слова: «Его Императорское Высочество Великий Князь Александр Николаевич будет почтён Вашей любезностью, граф, если Вы посетите Его Императорское Высочество в день Его ангела. Торжество имеет место быть августа 30 дня 1826 года в доме, принадлежащем графине Орловой-Чесменской, по Большой Калужской улице в Москве, близ Нескучного сада...»
— Ура! Меня пригласил наследник! — Алёша обвил руками шею дяди, поцеловал его в щёку и выбежал из комнаты, чтобы сообщить радостную весть мама, бабушке и дяде Алёше.
Большой жёлто-белый по фасаду дворец, не уступающий по размерам и своей внушительности царскосельскому, со всех сторон окружён пышным садом. У въезда — экипажи, из которых вместе со взрослыми выходят дети. Это все Алёшины знакомые — дети князя Голицына, графа Виельгорского, князя Гагарина... Все мальчики и девочки, с которыми он не однажды играл.
На дорожке сада — небольшого роста, в полной парадной форме лейб-гвардии гусарского полка офицер. Ба, да это же Саша, то бишь его императорское высочество великий князь!..
Ах, как захотелось кинуться в объятия, прижать его к груди. Но, во-первых, имениннику, да ещё такому, следует, как велит этикет, принять каждого гостя, пожать всем руки, учтиво осведомляясь о здоровье и о погоде, о том, как доехали — от Кремля ведь не менее пяти вёрст.
В просторной гостиной всем приготовлен чай. Но именинник и его гости-сверстники не дожевали ещё пирожных, задвигали стульями и бросились из залы играть в зайцев — кто кого успеет нагнать.
Наследник лишь на короткое время удалился, чтобы сменить парадную военную форму на лёгкий, удобный костюм, в котором сподручнее бегать, бороться и даже падать. Затем компания разделилась — девочки во главе с графиней Анной Алексеевной, хозяйкой дома, забрались в беседку слушать чтение интересной книги, мальчики побежали в Нескучный стрелять из духового ружья в цель под присмотром воспитателя цесаревича, генерал-адъютанта Карла Карловича Мердера.
В разгар соревнования, когда стало ясно, что великий князь в стрельбе всех превзошёл, он схватил Алёшу за руку и увлёк за собой по тропинке к каменному гроту. Хотя бы на минуту здесь можно было остаться вдвоём, без присмотра.
— Ты где намерен провести зиму — в Москве или Петербурге? — спросил наследник, забравшись на высокий карниз и подавая оттуда руку Толстому.
— Дядя обещает взять меня с собою в поездку по Германии, — ответил Алёша, усаживаясь на высоком каменном выступе рядом с наследником.
— Запомни, Алёша, когда бы ты ни оказался в Петербурге, по воскресеньям — в мой свободный от учёбы день — ты можешь ко мне являться. Тебе я всегда буду очень-очень рад.
16
В комнату Алексея Василий влетел весь светящийся изнутри — и прямо с порога:
— Пушкин в Москве! Вчера он был спешно доставлен из ссылки во дворец и принят государем. Целый час, если не больше, они разговаривали с глазу на глаз — и в итоге поэт прощён!
Всегда сдержанный и, исключая Алёшеньку, на нежности не расточительный, Алексей на сей раз порывисто обнял брата:
— Ах, какую, право, радостную весть ты принёс! — И тут же: — От императора ничего не слышал об этой аудиенции?
— Государя вечером на бал сопровождал Адлерберг. Однако мне пора назад, в Кремль.
— И я с тобою. Может, что вызнаю...
Не успел въехать во двор Кремля — навстречу Вяземский.
— Что я могу тебе, Алексей, о сей важной встрече сказать? Она — доброе знамение! — По началу разговора стало ясно: кое-что сорвавшееся с чужих уст дошло до князя. — Говорят: начало славных перемен и в судьбе нашего поэта, и, возможно, в судьбе России. Помнишь, что о нём говорил Жуковский: «На всё, что до сего дня было с Пушкиным, что он сам на себя навлёк, один ответ: шелуха. Я-де ему внушал: ты обязан быть выше несчастий, потому что у тебя не дарование, а гений». Жуковский, будь он сегодня дома, а не в отпуске за границей, добавил бы: «Отныне вершины, коих обязан достичь Сверчок, ему указаны монаршей дланью, умеющей не только карать, но главное — прощать и благословлять». По мне же — пророчествовать рано. Но ежели наш пиит правильно оценит благосклонность, коснувшуюся его, он по достоинству и праву сможет заместить место, оставшееся совсем недавно, по несчастию, свободным.
Вяземский замедлил шаг и вдруг вскинул трость над головой:
— Да что я тут разбалабонился? Бегу к нему, к Пушкину! Сегодня зову его к себе. Так что непременно будь и ты у меня. Вот тогда всё и вызнаётся — как и что...
Вроде ничего толком не узнал, но слова Вяземского запали. Разве мало сумел сообщить на бегу? Один намёк на монаршую указующую длань и возможное замещение места недавно ушедшего из жизни Карамзина чего стоит! Значит, царь не только простил поэта, но показал ему достойный путь, на котором хотел бы его видеть, иначе говоря, желал бы употребить все его способности на служение величию и славе отечества.
А по Москве уже ходили слухи, один другого дополняющие то ли домыслом, то ли тем, что было действительно при сём секретном разговоре или, скорее, должно было быть.
Если собрать все сообщения воедино, получалось: якобы сам Пушкин кому-то говорил — а тот передал другому, другой третьему и так далее — такую речь: «Фельдъегерь внезапно извлёк меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввёл меня в кабинет императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращён?» Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял бы ты участие в четырнадцатом декабря?» — «Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за это Небо», — «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».
Передавали друг другу новость в первых дворянских домах Белокаменной и при этом, конечно, пожимали плечами: дескать, за что купил — за то продаю, ничего от себя не прибавляя — как можно?.. Но не менее, чем содержание беседы, волновал, а иных просто обескураживал сам беспрецедентный, небывалый в дворцовой жизни случай, никак не укладывающийся в сознание: император вызывает из какой-то затерянной в псковской глуши деревеньки не сенатора, не министра или генерал-губернатора, а всего-навсего чиновника десятого класса и ведёт с ним конфиденциальный, без единого свидетеля, разговор!
Сей год, без сомнения, давал похожие примеры: прямо из кибитки, с дороги, невыспавшихся и небритых, к нему — в залу Эрмитажа. Но тех — тут же в железа и в казематы.
Кое-кто полагал: и с этим, пусть под занавес, когда другие уже приговорены, поступят так же. Шутка ли, те, кого осудили, сами признавались, что его стихи подстрекали их на преступление... Ан вон как обернулось — сухим из воды! Да ещё дерзкие речи перед государем осмелился держать... Или сам государь умыслил брать новый в государстве курс, чтоб всех воедино, кто смел и остёр на язык, скор на всякого рода прожекты и реформации, под свою руку и — на благо преуспеяния отечества?
Возникла эта мысль и у Перовского Алексея, честно говоря, ещё ранее события в Кремле — когда его в мае высочайше утвердили членом спешно созданной комиссии по устройству учебных заведений. Теперь же догадка более укрепилась: обещаются перемены.
Было ведомо: намечаются комиссии по изучению крестьянского вопроса, сиречь о подготовке к отмене рабства, по соблюдению законности, по развитию мануфактур... Вызволен из опалы Сперанский и вновь приставлен к прокладке курса, по которому предстоит плыть государственному кораблю... И в преобразовании просвещения первые ростки, обещающие весну, — в прибавление к шести российским университетам открываются в Санкт-Петербурге Технологический и Лесной институты...
И впрямь разумно создана Господом Богом человеческая натура — не скверное, с чего началось царствование, надо в уме держать, а вперёд устремлять свой взор, где, по всем признакам, должно проглянуть солнце...
Вяземский Пётр принимал гостей радушно, как и надлежит истому московскому хлебосолу — и двери нараспашку, и столы ломятся. А гости всё валят. Но где же он-то, самый именитый, ради кого весь сыр-бор?
Углядел: в окружении хозяина дома и любезнейшей Веры Фёдоровны, хозяйки, — он. Такой же вёрткий, изящный, живой, с характерной курчавой арапской головой, только уже, конечно, повзрослевший...
Ну что я, право, набиваюсь в приятели, когда мало знакомы, подумал Алексей. Ещё узнает, что это я критику в его защиту сочинил, выйдет совсем уж неприлично — словно я благодарности какой заискиваю!
За чью-то спину удачно запрятался, а Пушкин уже перед ним:
— Перовский? Ну наконец! Дай я тебя, душа моя, обниму. И знаешь, за что? За бабушкиного кота! Что за прелесть ты написал! Я в деревне два раза и одним духом прочёл всю твою повесть и не сдержался, тут же черкнул брату своему Льву: брежу Мурлыкиным! Выступаю плавно, зажмуря глаза, повёртываю голову и выгибаю спину в точности, как твой герой Трифон, то бишь Аристарх, Фалалеич... Не помню, сообщил ли кто, то ли догадка пришла: Погорельский — это ты.
Бывает, похвала — комплимент, случается — лесть. Тут же сразу поверилось — от сердца, да ещё какого! Стиснул протянутую руку, ответно радостно засмеялся:
— Мне уже про кота почти такими же словами... — Хотел сказать о Бестужеве-Марлинском, но вовремя остановил себя: тут уж или разговору края не будет, или лучше не касаться святых имён на бегу. Но Пушкин расспрашивать не стал, кто ещё подобное мнение высказал, наоборот, обрадовался:
— Вот видишь, значит, я не ошибся. Что пишешь нового? Впрочем, ещё поговорим. Сейчас я хочу вам, давним друзьям, своего «Бориса Годунова» представить. Драма! Меньше чем за год создал. Когда седьмого ноября прошлого года — точно помню! — поставил последнюю точку, вскочил — и от счастья сам себе: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!..» Ну, сейчас читать стану...
Прошли дни, но восхищение, что испытал Перовский на вечере у Вяземского, не исчезало, вспоминались вновь то целые сцены, то слова персонажей, каждый из которых — точно живой, словно бы твой давний знакомец. Надо же так вывести характеры Отрепьева Гришки с его кривым подмигом, Пимена — летописца, зрящего сквозь толщу столетий, и конечно же самого царя Бориса.
Вспомнил, как были описаны у Карамзина смерть Фёдора Иоанновича и восшествие на престол Годунова: «Эти слёзы, эта тоска народа...» И вдруг у него, у Пушкина: «Народ безмолвствует». Можно ли так и надо ли?
И пришла мысль: Годунов, каким он показан у Пушкина, — преступник, проложивший путь к трону убийством. И забота его о народе — средство оправдания неправедного пути к власти, чтобы хоть перед собственной совестью загладить свой грех.
Мысль сия обожгла нестерпимо, будто прикоснулись чем-то огненным, раскалённым. Сказал о своём чувстве Вяземскому, когда встретились. Князь Пётр глянул поверх очков:
— А помнишь, что я тебе говорил перед твоим знакомством с Сашкой? «Надобно его упрятать в жёлтый дом...» И вновь повторю: вернее и спокойнее держать его на привязи и подалее! — И раскатисто, басовито рассыпал заразительный смех. И затем: — Замыслов у него, шалопая, — во, с колокольч ню Ивана Великого. Он ещё такие шедевры создаст — что твои Шекспир или Байрон! Одного боюсь: не изловчились бы этот золотой да на медные пятаки разменять...
Александр Семёнович пригласил во дворец, где состоял в свите, как и все члены кабинета министров. Выложил поверх стола с золотым двуглавым орлом пухлую папку, сдержанно — должно быть, чтобы подчеркнуть важность происходящего — произнёс:
— От самого... Государь соизволил передать — на твой просвещённый отзыв. Магницкого Михаила Леонтьевича доклад о некоих предлагаемых им реформах в университетах. Так что его императорское величество изволили высказать пожелание, чтобы ты — обстоятельно и с толком...
— Снова небось о том, как рассадники науки, «заражённые противным религии духом деизма[31], должны быть уничтожены, и уничтожение сие должно быть проведено либо в виде приостановления в них преподавания, либо в виде публичного разрушения». Ничего не напутал, его слова?
Губы Шишкова старчески вытянулись в ниточку, на лице будто враз прибавилось морщин.
— Никак не научусь определять, где ты смешком, а где суриозно. Однако яд твой почти завсегда и чрез смешинку отдаёт горчинкой... Суть же полезную и в записке Михаила Леонтьевича, поданной на высочайшее, отыскать следует. Науки, они, видишь ли, как соль, коию употреблять надо в меру. Излишества их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению.
Эх, знакомые песни! Сменяют друг друга министры, а почерк, как в каллиграфическом, витиеватом письме, будто одним писарем выведенный... Вспомнилось, как рьяно, с азартом, у него и неподозреваемым, взялся в своё время отец-министр за составление прожекта об учреждении Царскосельского лицея. Поначалу пришла мысль создать нечто вроде игрушечной академии, что открыл для своих сыновей гетман-президент. Но Александр, император, требовал нечто похожее на школу Аристотеля, где, гуляя, беседуя и споря со своими учениками, великий учёный древности создавал новую породу людей. И здесь, в лицее под Петербургом, близ царского двора, хотелось тоже готовить людей новых, предназначенных для управления государством. Посему задумывалось: обучать и воспитывать в разлуке с домашними, в обществе ровесников, где нет различий в столе и одежде, где царит общий дух равенства. Государь даже был намерен отдать в новое учебное заведение своих младших братьев — Николая и Михаила.
Министр Разумовский разработал не только программу: изящная словесность, языки, история, география, логика и красноречие, физика и химия, право естественное, философия, — но собственноручно даже начертал правила относительно наблюдения за температурой в помещении, для чего два раза в день — настаивал министр — следует производить обновление воздуха в комнатах. Всё касательно форточек осталось, сохранились языки, словесность, красноречие, исчезли лишь при дальнейшем рассмотрении прожекта химия с физикой и географией.
Был у Алексея Кирилловича советчик, который на многие дисциплины в русской школе имел своё, резко отрицающее воззрение, — человек в чёрном камзоле со старческим лицом и длинными, ниспадающими на плечи, грязно крашенными волосами — граф де Местр. Посланник загадочного сардинского короля и сам лицо в русской столице во многом таинственное, этот иностранец учил русского министра, что для России нужно и что не нужно, как управлять русскими и чему их учить или, точнее, чему их не учить. Выходило, что все подлинные науки для недорослей Московии вредны или, по крайней мере, бесполезны, воспитывать же в юношестве следует лишь уважение к родителям, власти и Богу. Ещё неизвестно, завораживающе нашёптывал он министру, созданы ли русские для науки, а раз так, надобно воздержаться от их обучения. Ваш Пётр Великий, продолжал советчик, скорее остановил, чем подвинул дело, воображая, что наука — это растение, которое можно искусственно вывести, как персик в теплице...
Заслышав о любимом поприще — теплицах и диковинных деревьях — и понимая в них более толка, чем в умножении общественных знаний, граф Разумовский согласно кивал, совершенно забыв о том, что постижение наук когда-то из него, сына и племянника украинского пастуха, сделало одного из образованнейших людей империи. Только, увы, алмаз этот не был в своё время огранён и отшлифован усилием собственной воли и выбором цели, достойной обильных знаний.
Не обошёлся, выяснилось, и нынешний глава российского просвещения без своего поводыря, на сей раз уже отечественного, не заёмного в чужих королевствах.
Алексей представил себе Михаила Леонтьевича, своего коллегу — попечителя Казанского учебного округа. Высокая, с брюшком фигура, тоже чёрный сюртук и узкие чёрные же панталоны. Над пышным белым жабо — гладко выбритый остренький подбородок.
Некоторое время назад, приехав впервые обследовать Казанский университет, Магницкий был чуть ли не намертво сражён картиной, которую там узрел.
— Представьте, — рассказывал он, выставив вперёд козлиный подбородочек и посредством хватания за пуговицу приближая к себе собеседника, — в факультете нравственно-политических наук не нашёл я главной науки — Закона Божия. В студенческой библиотеке я обнаружил Дидро, Вольтера, Руссо, но там не оказалось священной Библии. Вам же, сударь, должно быть известно, что слово человеческое есть проповедник адской силы, книгопечатание же — орудие этой силы. Безбожием профессоры передают несчастному юношеству тонкую отраву неверия и ненависти к законным властям. Посему мы, ответственные за состояние дел в храмах знания, обязаны исторгать всеми способами из обращения подобные книги, сии ядовитые стрелы диавола. Надобно немедленно приостановить преподавание философии, ибо нет никакого способа излагать эту науку не только согласно с учением веры, ниже безвредно для него. Отсюда университеты, заражённые противным религии духом...
Ну да, вот эти самые слова и в докладе на высочайшее имя, отметил про себя Перовский. Чтобы сразу не раздражать вас, высокочтимый радетель о благонамеренном воспитании юношества, допустим, что учение философии часто было во зло употребляемо и что не основанные на истинах христианской религии умствования некоторых писателей и наставников имели вредное влияние на незрелые умы, не умевшие различить лжемудрие от любомудрия.
Хорошо для начала? Пойдём далее в своём отзыве. «Однако таковые заблуждения незрелых умов несправедливо б было приписывать философии, которой одно уже этимологическое значение показывает благодетельную цель и пользу, могущую произойти от преподавания оной. Человеческому уму свойственно заблуждаться, и потому нет науки, которая при превратном толковании не могла бы обратиться во вред. Математика, например...»
Что там у нашего мудреца по поводу французских философов, произведения которых он, к своему ужасу, обнаружил в университетской библиотеке? Ага, вот... Тогда так и продолжим о математике... «Математика, например, необходимость которой никогда ещё не была оспариваема, послужила Декарту к изобретению сумасбродной системы о вихрях. Деламберт, один из первейших математиков своего века, был вместе одним из упорнейших атеистов, Вольтер, сей неутомимый противник христианского закона, не основывает ли разрушительного учения своего во многих местах своих сочинений на математике? Но надлежит ли, опираясь на то, что математика неоднократно была во зло употребляема, запретить науку сию в учебных наших заведениях?»
Усмехнулся, как когда-то сражаясь на бумаге с критиками Пушкина, и с увлечением пошёл излагать свои ядовитые, как подметил старик Шишков, мысли дальше... «Если мы позволим себе смешивать самые науки с заблуждениями, которые или неприметно вкрались в преподавание оных, или злоумышленными людьми нарочно посеяны, то полезнейшие и необходимейшие познания должно будет изгнать из университетов; и тогда грубое невежество заступит у нас на место просвещения».
Узнал от самого Пушкина, что и ему чрез Бенкендорфа высочайше поручено составить записку о народном воспитании.
— Не моя муза, сам понимаешь. Но, коль требуют и моего мнения, надобно сказать, что думаю по сему предмету, — произнёс поэт. — Главная мысль моя: воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Просвещение же — благо. У нас, однако, первое понимают превратно, второго вовсе боятся, и чуть что — виноваты науки сами по себе. Коротко говоря, стремятся наказывать пажа за шалости принца.
— Отлично сказано, Александр. В моей записке как раз об этом, — обрадовался Перовский и тут же припомнил слова Карамзина, которые не раз доводилось слышать. Великий писатель говаривал, что без свободы в деле просвещения нельзя быть успеху. Покровительствуя исключительно одной системе, одному образу мыслей и воспрещая все другие, нельзя дать правде обнаружиться и защитить себя от возражений тайных. Не стесняя никого, должно дозволить каждому идти своей дорогой, преподавая между тем народу всевозможные средства к образованию.
Неужто новый государь и впрямь всё задумал широко? Жаль, Николай Михайлович не дожил до сих долгожданных перемен.
17
Перед глазами всех троих, выглядывавших из экипажа, открывалась одна и та же картина: аккуратные небольшие дома с островерхими черепичными крышами красного цвета то с одной, то с другой стороны дороги, среди домов — непременно острый шпиль ратуши или кирхи и такие же аккуратные, словно нарисованные в детской тетрадке, ровнёхонькие квадратики полей, полукружья садов и парков, гривки жидких, но чистых, ухоженных лесов, а на улочках, когда въезжали в дорф или штадт, — в разноцветных, ярких одеяниях молодые люди, чопорно прибранные дамы и старики, мастеровые в кожаных или брезентовых фартуках, пасторы в длинных сутанах с глухими стоячими воротниками, лекари или чиновники в жабо и других немыслимых костюмах — короче, все спешащие по своим делам или просто так прогуливающиеся бюргеры, а находящимся за окнами дилижанса представляющиеся попросту праздной публикой, вышедшей будто специально встречать и приветствовать пассажиров...
Алёша всё старался углядеть, запомнить, сравнить с тем, что успел узнать дома — в Петербурге и Москве. Но Германия до того оказалась непохожей на всё ранее виденное, что только успевал поворачивать голову слева направо, чуть не крутить ею на все триста шестьдесят градусов и задавать мамочке и дяде бесконечные «почему» и «зачем».
Аннет поначалу, когда проехали полосатый пограничный шлагбаум и покатили не по пыльным и грязным, а мощёным дорогам Европы, надменно поглядывала по сторонам, ничуть не прельщаясь ничем иноземным, а в кёнигсбергской гостинице, брезгливо потрогав постельное бельё и найдя его недостаточно сухим, тут же властно, как и подобает истой русской барыне, потребовала его заменить, а заодно и розовые гардины — на любимые ею голубые. Однако вскоре и сама не заметила, как суровая надменность уступила место восхищению, словно на германских дорогах утрамбовалась, а то и подрастерялась её российская спесь. Мама вместе с Алёшенькой то хлопала в ладоши и заразительно смеялась, увидев на одной из площадей какого-то городка старого шарманщика с весёлым петрушкой, то, встретив поутру женщин, мывших мокрой щёткой с мылом мостовую у дверей своих домов, удивлённо округляла глаза, совсем уже не думая о том, что о ней скажут эти самые женщины-немки.
В Берлине же, в дорогом отеле, на неё вдруг снова «нашло»:
— Алексис, куда ты меня привёз? Здесь каждая последняя гувернантка или, того хуже, шлюха выглядит нарядней нашей императрицы!
И все туалеты, которыми были набиты сундуки, она приказала выбросить вон. Гардеробы же гостиницы в несколько дней были заполнены платьями и шляпками, блузками и туфлями, доставляемыми на её, графини, имя от самых модных портных и из самых фешенебельных лавок и магазинов. И вновь сияющей, гордой улыбкой Аннет как ни в чём не бывало одаривала всех встречных из окна кареты, наслаждаясь жизнью и — она ни минуты в том не сомневалась — своим успехом.
Ах, как мало — в смысле изобретательности, но не денег! — надо было для того, чтобы тридцатилетняя красавица статс-дама русского императорского двора почувствовала себя, как говорится, в своей тарелке.
Целью поездки, которую имел в виду Алексей Перовский, был, собственно говоря, Карлсбад. Только стукнуло сорок лет, как юбилей тут же ознаменовался камнями в печени. И Алёше требовалось попить целебной воды — ангина мучила мальчика всю весну. Посему дядя исхлопотал сразу трёхмесячный отпуск, как написал в прошении, для поправления здоровья собственного и в видах лечения племянника.
Однако воды водами, но влекла тайная мысль: после более чем десятилетней разлуки очень хотелось пройтись по улочкам Дрездена, снова увидеть Цвингер, тихо войти в наполненную тишиной и музейной значительностью картинную галерею, постоять у Рафаэлевой Мадонны...
И ещё была надежда: а вдруг в толчее между столиками в «Зелёном жёлуде» мелькнёт длинная красная феска и мефистофельский глаз весело и загадочно подмигнёт: «Ну, так на чём мы с вами, сударь, остановились в прошлую нашу встречу?..» Эрнст Теодор Амадей Гофман уже покинул сей мир. Но разве с его уходом таинственное перестало быть таинственным, волшебство — волшебством?.. Ну ладно, не он сам — хоть бы кот Мур встретил гостя. Кстати, умнейший и образованнейший на свете кот, я вам охотно представлю вашего русского тёзку, который обладает одним удивительным свойством — может превращаться в Аристарха Фалалеевича Мурлыкина, господина титулярного советника...
— Алексис, ты, надеюсь, не забыл, что нас ждут в Веймаре при дворе? — отрезвляла Анна брата, когда он с Алеханчиком, еле волоча ноги, но такой же радостный и возбуждённый, как десятилетний неутомимый племянник, возвращался с экскурсий в гостиницу.
От кого только не запаслась Аннет рекомендательными письмами! От таких же, как она, придворных дам, уже не раз выезжавших за границу, от сенаторов и послов, с коими успела коротко сойтись, и, конечно, от самого императора — к Карлу Августу, великому герцогу Саксен-Веймарскому и Эйзенахскому.
Впрочем, и не рекомендательным в прямом смысле слова значилось сие августейшее послание — всего несколько дружественных братских слов великому герцогу и генералу русской службы, а также его сыну Карлу Фридриху и супруге его — родной сестре российского императора Марии Павловне. Уж с Марией-то Павловной и её супругом Аннет встречалась в Петербурге и Москве, так что и не было нужды её представлять. Но как избежать соблазна — из рук его величества да через её, красавицы графини, в собственные руки герцогского величества и их герцогских высочеств!
Веймар — святилище муз, столица просвещённая и процветающая, обогнавшая все иные германские земли и герцогства, — встретил отменной чистотой, искусно подстриженными газонами, музыкой на площадях и красочными, зазывающими афишами у помпезного, недавно законченного перестройкой придворного театра. Дядя Алексей только успел прочесть вслух: «Шиллер. «Орлеанская дева» и «Гёте. «Вильгельммейстер», — и хотел приказать остановиться, чтобы хотя на пару минут задержаться с Алёшенькой у театральных колонн, а то и войти в помещение, всё рассмотреть, как Аннет нетерпеливо взмахнула красивой пухловатой рукой, затянутой, несмотря на июньскую жару, в белую лайковую перчатку:
— Туда, туда, во дворец!
Великий герцог принял их в Эттерсбурге, в охотничьем замке на окраине Веймара. Роскошный загородный дом, конечно, уступал дворцу, не случайно названному «немецкими Афинами» и служившему зимней резиденцией, но всё равно производил великолепное впечатление: высокое строение с пышным бельведером на живописных лесистых холмах.
— О, какой для меня восхитительный подарок из Северной Пальмиры! — уже не молодой, но с явными следами былой мужской красоты и утончённости, воскликнул Карл Август, поднося к губам обтянутую лайкой, чуть влажную от жары и духов руку графини Толстой.
Алёша тут же был представлен Карлу Александру, будущему великому герцогу Веймарскому, а ныне внуку великого герцога, ещё здравствующего и мило принимающего русских гостей у себя. Августейший наследник — второй уже в жизни юного графа Алексея Толстого — живо увлёк гостя в свои покои, к оловянным солдатикам, а затем в парк...
Перовский несколько раз проезжал мимо двухэтажного дома на Фрауэнплан. Там обитал первый министр великого герцогства, тайный советник и великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте. Теперь он был нездоров и не появлялся при дворе, но герцог велел ему передать желание гостей посетить мировую знаменитость.
В кармане у Перовского лежало письмо, адресованное Гёте и написанное Жуковским: «Для меня было большой и неожиданной радостью получить драгоценное письмо Вашего превосходительства... Я Вам скажу просто, что при чтении Вашего письма у меня на глазах навернулись слёзы. Ту доброту, с которой Вы говорите о нашем свидании, я живо ощущал и в Вашем присутствии и после того, как я Вас покинул. Эта встреча, которой я желал и ожидал с такой горячностью, длилась всего лишь одну минуту, но эта минута была богата волнующими впечатлениями; я ничего не мог сказать Вам отчётливо и ясно, потому что мне хотелось сказать об очень многом; но я Вас видел, и этого было достаточно, чтобы во мне мгновенно ожили самые лучшие воспоминания о моём прошлом... Примите же, милый великий человек, мою признательность и за это прошлое, которое столь часто скрашивалось влиянием Вашего гения, и за то мгновение, когда я почувствовал благотворную силу личной с Вами встречи, завершившейся таким дружеским и отеческим рукопожатием, и за это трогательное письмо, которое будет благоговейно сохранено как священный дар любимой руки...»
Здесь, в гостях у поэта, Василий Андреевич побывал лет пять назад, путешествуя с семьёй великого князя Николая Павловича. Теперь сюда, в обитель муз, по скрипучим ступенькам крутой деревянной лестницы поднимался другой русский путешественник. За ним шествовал розовощёкий, спокойный и добропорядочный мальчик.
Посреди комнаты в кресле с высокой спинкой сидел, запахнувшись в толстый пёстрый восточный халат, старик с крупной античной головой, римским точёным носом, высоким лбом и пронзительными чёрными глазами. Он не встал, но приветливо повёл рукой, приглашая вошедших располагаться.
Вдоль стен кабинета тянулись шкафы с книгами, на стеллажах располагались коллекции камней, растений, за стёклами — фарфор, фаянс, керамика, бронза...
Взгляд Перовского оценивающе окинул сокровища: ожидал увидеть большее, ибо у него в Погорельцах и Красном Роге и библиотека, и собрания скульптуры и живописи, пожалуй, и по размерам, а главное, по ценности превышают здесь имеющееся.
Хозяин, от которого не укрылась некая мина превосходства на лице пришельца, также несколько иронично разглядывал его самого. Лёгок и энергичен, несмотря на то что уже не так молод, чуть прихрамывающий, с отличным немецким выговором — видимо, весьма образованный русский вельможа. Однако мягкая линия рта, мягкие и мелкие черты лица. Вероятно, не очень сильная воля. Впрочем, зачем им в Московии крепкий, волевой характер? Это здесь ему, чтобы стать сначала известным поэтом, а затем вторым лицом в Веймарском государстве, нужны были и ум, и талант, и воля, и, если угодно, определённые тщеславие и самолюбие. У них же там все средства к жизни и даже земные утехи доставляют рабы — такие, говорят, угрюмые, с большими корявыми и огрубелыми руками и долгими, по пояс, бородами. Как они называются? Ага, «му-ши-ки-с». О нет, это не для немецкого уха, хотя тоже привычного к грубым звукам и выражениям.
Однако, вероятно, я не совсем справедлив к этому русскому вельможе, другу, помнится, приятного господина Жуковского, кажется, главного их придворного поэта или что-то в этом роде. Если человек дал себе труд так блестяще знать язык другого народа — я же не знаю русского! — вряд ли его можно признать изнеженным сибаритом, этаким восточным падишахом. И мальчик настоящая прелесть, гоже с отличным, будто чистым берлинским, произношением смело разговаривает со мною и со своим дядей. Так что же, кроме любезного письма, привело вас в царство муз, господин... о, вы тоже писатель, как это неожиданно и прекрасно...
Перовскому хотелось сразу спросить, зачем, собственно, и стремился сюда: ваше превосходительство, вот уже почти полвека, как вы, после герцога, по существу, правитель целого государства и в то же время вы — великий поэт. Как это можно совместить — нежные волшебные музы и холодный, расчётливый, подчас казённый административный рассудок?.. Однако фраза как-то не клеилась — разговор всё ещё вертелся вокруг погоды, особенностей жизни в новой Германии, которую, оказывается, хорошо знал гость, о сочинениях немецких, французских и даже английских авторов.
Гёте только что закончил лирический цикл «Западно-восточный диван», в котором причудливо переплелись самые реальные и вымышленные мотивы. Ему явно хотелось соскользнуть на восточные философские мотивы:
— Недавно я вычитал у одного индусского мудреца, что раскаяние, страх и надежда — величайшие враги крепости сил человека. Не находите ли вы, что сия сентенция противна христианскому духу и кодексу добрых нравов?
— Напротив, — возразил гость, — сентенция сия — руководство при создании себя человеком и гражданином Спарты. Раскаяние, страх и надежда, как мне представляется, — слагаемые усилий, посредством которых человек шлифует свою натуру, не даёт гордыне завладеть всем своим существом и считать себя уже сложившейся до конца дней, довольной собою и окружающей жизнью личностью.
Античное лицо Гёте обрело домашние черты, будто был это уже не олимпиец и громовержец, а дедушка из русской деревни, кабы, конечно, не немецкие слова и витиеватый предмет разговора.
— Индусы, — с живостью подхватил старик, — вообще много внимания уделяют совершенствованию собственной личности. У них, между прочим, в почёте две любопытные теории: совершенствование своей личности и жертва личности для совершенствования других.
На протяжении разговора Алёша воспитанно сидел на краешке стула, разглядывая под стеклом крупный изжелта-белый бивень мамонта. Перовский ласково взглянул на племянника, повторив про себя слова, только что сейчас высказанные сидящим перед ним немецким мудрецом, и подумал: совершенствовать собственную личность и, не жалея себя, принося в жертву, отдавать все накопленные богатства души другим — это и есть единственно достойная человека жизнь. Только, пожалуй, здесь не две, а одна идея: оба процесса совершаются одновременно. Так живу я для Алёшеньки, а когда-нибудь он сам станет так же жить для других...
Это-то просто и понятно совмещается в человеческом уме и сердце — жизнь для людей через собственное совершенство. Но надо ли поэту, который привык манипулировать выдуманными его воображением человеческими характерами, вдруг браться управлять живыми людьми? Теперь вопрос вроде бы возник естественно, как продолжение и углубление беседы.
— И здесь, в обители муз, и во дворце у меня одна цель — маленький незащищённый человек, его судьба и счастье, — ответил поэт и первый министр государства.
«Ага, цель! — подхватил про себя собеседник. — Судьбу самых незаметных, самых обычных людей — почтальона Онуфрича и его бедной дочери Маши — я тоже имел в виду, когда сочинял свою «Лафертовскую маковницу». Ради того я и создал сию повесть, чтобы сказать людям: цените истинные чувства выше всех сокровищ мира. Только чувства эти, а не злато и серебро принесут вам богатства, которыми обязана быть довольна человеческая душа: любовь и дружбу, счастье сопричастности человека к человеку. Но как не в книге, а в реальной жизни сделать всех обделённых счастливыми? Какими государственными актами и установлениями?»
Меж тем великий поэт и великий государственный муж подозвал к себе Алёшу. Рядом на стеллаже лежал другой бивень мамонта — поменьше, на котором был чем-то острым нацарапан рисунок: морской фрегат вздымается на волне.
— Это вам, маленький русский граф, в подарок от меня, — сказал Гёте и посадил Алёшу к себе на колени.
— Ваше превосходительство, здесь фрегат, видимо, символ будущего моего племянника?
— Конечно. Вы видите, как легко и воздушно корабль устремляется вперёд?
— А сама древняя кость мамонта?..
— Ну да, она — опора, на которой только и возможна устремлённость человека в будущее. Когда водились на земле мамонты и сколько тысяч, а может быть, миллионов лет человечеству? Но каждое поколение, чтобы свершить свои открытия, обязательно должно опереться на опыт тех, кто жил и творил до него. Как видите, то, что я сейчас сказал, полностью сходится и с вашими выводами, не так ли?
Это-то сходилось. Но так и не было ответа на то, с чем сюда шёл: жизнь уходит, тает как воск — и надо ли её так неразумно и расточительно расходовать — не творить, а служить? А может, для гения нет такого вопроса, лишь для меня — с небольшим талантом, с расхлябанной волей? Может, этот мудрый человек настолько силён и независим, что может твёрдо стоять над обстоятельствами, не только не дать себя подчинить, но, наоборот, заставить других, даже сильных мира сего, быть исполнителем его воли?
Когда уже встал, чтобы откланяться, обратил внимание на висящую на стене красивую рамку. Подошёл ближе, прочитал на пергаменте острую готическую вязь: «Когда было объявлено о продаже дома Хельмерсхаузена, того, что у внутренних ворог на Фрауэнплане, я — за отсутствием других возможностей — дал казначейству распоряжение сей дом купить и предоставил его тайному советнику фон Гёте на свободное проживание. Позже названный советник по моему желанию и из одной только истинной привязанности согласился сопровождать меня в военном походе во Францию, где переносил тяготы и лишения кампании с риском для жизни и ущербом для здоровья, что не входит в его служебные обязанности, доказав тем самым большое ко мне расположение. Испытывая за это особую признательность к советнику, а также принимая во внимание его прочие многолетние предо мной заслуги, я решил отблагодарить его за старания и по собственному свободному побуждению пожаловал ему упомянутый хельмерсхаузенский дом в вечную собственность, о чём 17 июня 1794 года составлена дарственная грамота и вручена господину советнику... Карл Август...»
М-да, «советник», а не «поэт», «многолетние предо мной заслуги»... «Гёте, как этот дом, сам собственность герцога», — вдруг возникла мысль.
18
С ним всегда так бывало, когда уезжал из Москвы от Веры Фёдоровны, — срывался. Но с кем бы и куда ни забредал в Петербурге, обязательно урывал время то вечером, если загул был не столь крепок, то утром на гудевшую голову всё с ним происшедшее описать жене.
О нём говорили: Вяземский с женщинами любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей — русский гуляка.
Ишь, всё по полочкам, будто в нём три человека, и каждому — отведённую ему роль! А в нём все добродетели и изъяны так перемешались, что мог перепутать, с кем и как себя вести, и потому с кем вроде должен быть нежен и утончён — вдруг оборачивался колючкой и задирой.
Но как на духу всё описать жене, княгине Верочке, — тут он был постоянен.
И теперь, после бессонной ночи, когда напролёт до утра слушали блестящие импровизации Адама Мицкевича, он проснулся в гостиничном номере и начал письмо домой. Но в коридоре — голос Пушкина, объяснявшегося с половым.
На Александре ни следа усталости, будто не полуночничали вместе. Не сняв даже цилиндра, предложил:
— На Неве нынче — прелесть! Только прошёл ладожский лёд, на стрелке Васильевского острова — гуляние. А в бирже — устрицы, сыры и всякие сладости, в клетках же — по всем этажам кораблей — поют птицы. Одевайся скорее — полдень уже на дворе...
Когда в ресторации отвалились от стола, вспомнили: ба, да их сегодня к обеду ждёт Перовский Алексей!
Заехали за Жуковским, и втроём — на Фонтанку, в один из знатнейших в столице особняков, с садом, птичником и оранжереями.
— Что ж, Алёшка — государственный муж, председатель комиссии при государе по подготовке учебных пособий. Без пяти минут — министр, не чета нам с тобою, неприкаянным, только из милости допущенным в столицу, — с ехидцей обронил Вяземский, облапив Пушкина.
Только год назад, в мае 1827 года, Бенкендорф разрешил Пушкину приехать в столицу, взяв с поэта слово, что станет «вести себя благородно и пристойно». Князя Петра никуда не ссылали, наоборот, выслали в Москву из Варшавы, где ещё в 1818 году, по протекции Карамзина, определили ему место в особой комиссии. Та комиссия, возглавляемая министром юстиции Новосильцевым Николаем Николаевичем, создана была Александром. Говорили: тайно готовится в её недрах конституция, которую император намерен ввести в России, после того как даровал таковую Польше. Речь, в которой Александр прозрачным намёком об этом сказал при открытии сейма в Варшаве, князь Вяземский тут же, в зале польского парламента, переводил с императорского французского на русский.
В гору подвигалась карьера молодого чиновника, да неожиданно, примерно в ту пору, когда Пушкина отправили в южные края, фортуна изменила и Вяземскому. Пришлось без должности, без места возвращаться восвояси.
Ломали головы: за что? Лишь Карамзин, пожёвывая губами, вслух вспоминал среди домочадцев и близких друзей письма шурина из царства Польского: «Мир начинает узнавать, что не народы для царей, а цари для народов...» На сии выражения Николай Михайлович отвечал: «Дать России конституцию — нарядить какого-нибудь человека в гаерское платье... Россия не Англия, даже и не царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели ещё более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь её, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе...»
Вот-вот, казалось, князь Пётр готов был сойтись с теми, кто вынашивал нетерпеливые планы переустройства, после того как император Александр своими посулами всех обманул. И к «Полярной звезде» уж примкнул, и на тайные собрания заглядывал. Да соскользнул от членства в тайном обществе, как рыба с крючка. Да мало что соскользнул — высказался в споре определённо и, если всё взвесить, довольно трезво: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя и если набожная душа отречься от неё не может, но Промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа».
Так, по собственному определению, за ним и приклеилось после двадцать пятого года: «декабрист без декабря». Но, как когда-то налитое в мехи и без употребления изрядно перебродившее вино, Пётр Андреевич продолжал пузыриться: «Полно истощевать мне силы в праздных и неопределённых шатаниях!»
За столом у Перовского Пушкин его «подцепил»:
— Это я тебя сбил на стезю шатанья: гляди, у Алексея — устрицы! Да какие — крупные, со льда. А мы в бирже одну гниль глотали.
— Святая правда, Александр. А всему виной — твоё нетерпение. — Поверх стёкол очков — два острых буравчика.
И у Пушкина глаза чуть прищурились и похолодели — не на моллюсков заморских у Вяземского был намёк. С нынешнего января, как только в «Московском вестнике» появились «Стансы», то слева, то справа — уколы: как ты, Пушкин, мог? А что, сказать в стихах, чтобы нынешний император во всём был подобен пращуру — Петру Великому: «Как он, неутомим и твёрд, и памятью, как он, незлобен», — это, говорите, лесть?
Стычки такие вспыхивали и гасли. Но на душе — как накипь серым жёстким камнем. С Булгарина и Греча какой спрос[32]? Те любую дохлую кошку станут таскать из подворотни в подворотню, лишь бы тошнотно несло падалью. Обидно, когда укоры — от самых близких. И не потому, что они по праву друзей должны соглашаться со всем, что он напишет. Им другое известно, что нигде не напечатано, а отправлено в Сибирь: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье...»
— Вот здесь — то! Здесь — каким когда-то начинал. В «Стансах» же...
Вскакивал, ероша волосы:
— Да что ж я — Вяземский, что ли: для дам — талант, с мужланами — лёд? Я всюду — един! Понимаете? И — там, и — там!..
И здесь сейчас, за устрицами у Перовского, как-то ненароком Вяземский вновь соскользнул на сию стезю, вслух продекламировав:
Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.И, сделав паузу:
— Братья — кто? И — он?
Алексей перевёл взгляд с Вяземского на Пушкина — бледность выступила на его лице.
— Да, да, и он! Нельзя в человеке, даже если он монарх и так начал, видеть одно низменное, злое и чёрное! В нём, как в тебе, во мне, — всё. И долг наш — помочь ему проявить лучшее, чистое, светлое, что надобно от него людям. И когда мне твердят: «льстец», я отвечаю: это вы — лжецы, желающие озлобить его, увидеть в нём только страшное и мрачное. А я хочу правдой разбудить правду — и помочь правде выжить и вернуться к жизни...
Чуть припухлое шафрановое лицо Василия Андреевича слегка лучилось в продолжение перепалки — он явно был на стороне Пушкина. Но при последних словах Александра свет в глазах точно погас. Алексей догадался: вспомнил, как недавно добивался этой правды перед императором, подавая ему свою записку.
В той записке было сказано: «Тургенев осуждён за то, что был членом тайного общества, что участвовал в учреждении, восстановлении, в распространении оного принятием членов, в умысле ввести в России республиканское правление и, наконец, за то, что, удалясь за границу, по призыву правительства к оправданию не явился, чем подтвердил сделанные на него показания... Для осуждения нужны несомненные доказательства вины. Для несомненного доказательства нужны факты... Итак, если по обстоятельствам нельзя уже снять с него приговора (по крайней мере теперь нельзя), то самая справедливость требует облегчить его положение. Он болен, пребывание в Англии будет для него убийственно. Если государь окажет ему милость, повелев миссиям не тревожить его нигде в Европе, то сия милость будет в то же время и справедливостью...»
Достала царская рука и за границей Николая Ивановича: статс-секретарь выехал на лечение, а тут, в Петербурге, загорелось то, что он исподволь готовил. А что готовил? В письме императору Николаю, переданном через того же Жуковского, Тургенев всё сказал прямо: «Уже скоро год, как я ношу на себе имя изменника против отечества и государя. Я сам навлёк на себя это несчастие. Своею неявкою лишил я себя средств доказать свою невинность. Не оправдываю себя в сей настоящей вине моей. Но, государь, за сию единственную мою вину, за которую в наших законах не положено и наказания, мне назначена казнь выше уличённых изменников.
Думая только об одном освобождении от рабства крестьян, занятый исключительно сею мыслию, мыслию, любимою и покойным государем, я всегда был и мнениями, и поступками врагом беспорядка и убийства. Но предубеждение существовало... само правительство, прежде нежели суд решил, злодей я или нет, уже некоторым образом признало меня преступником; ибо мне сказано было, именем вашего императорского величества, что я буду немедленно объявлен государственным изменником, если не явлюсь к ответу...
Приношу, государь, к вашему трону мою исповедь; в ней всё сказано. Если бы с нею в руках явился я пред суд, то она опровергнула бы неосновательные показания моих обвинителей и спасла меня от осуждения. Судьи мои, те, кои могли поставить меня наряду с изменниками и убийцами, не примут её. Но вы, государь, судья моих судей, обратите на неё взгляд внимательный. Именем вашим погублена моя честь пред лицом моего отечества. Вы бы спасли её, когда бы мой голос дошёл до вас прежде приговора! Но и после приговора этот голос будет до вас доступен. Екатерина сказала: лучше простить десять виновных, чем наказать одного невинного... Я невинен, а вы на престоле Екатерины...»
На лице Жуковского сейчас написаны все унижения, какие испытал он в сим заступничестве. «А кто поручится мне за тебя?» — услышит он от императора. Ну что ж, опустить руки и не делать боле ни одной попытки? Надо не отступать и не уставать звать к добру даже того, кто волею судьбы пока далёк от сострадания и милосердия, иначе истинные льстецы и царедворцы, ослеплённые лишь собственной выгодой и своими понятиями чести, вытопчут всех честных, всех, в ком бьётся в груди совестливое сердце. Злость вызывает ответную злобу, кровь — ещё большую кровь... Значит, добро непременно должно породить добро. И пусть оно явится не сразу, не вдруг — приход его неминуем, если каждый будет стремиться его совершать и подвигать на такой же поступок другого.
И впрямь, кто ж теперь помог вызволить Пушкина, продолжал думать Перовский, как не тот же Василий Андреевич вместе с Карамзиным? А сравни его с тем же князем Петром — тот кипит, Жуковский же — голубиная душа. Чего ж принялись Василий, брат, да Вяземский укорять Василия Андреевича: загубит его придворная судьба?.. Теперь для иных — и Пушкин «льстец»...
Перешли в кабинет. Пушкин — по обуявшей его весёлости после обеда — будто забыл, о чём спорил. Присел к столу, стал чертить на бумаге какие-то загогулины, потом выписывать и вслед зачёркивать пришедшие на ум слова. И тут взгляд его упал на лежащую на столе же миниатюру: молодая женщина с ребёнком на руках.
— Волконская Мария? — живо обернулся к хозяину дома.
— Она, страдалица, — отозвался Перовский. — И сын её, Николинька. Недавно схоронили малыша...
Ладони охватили кудрявую голову, пригнули её к столу. Вспомнил, как в декабре 1826 года в Москве, в доме Зинаиды Волконской, провожали Марию к мужу[33], генералу Сергею Григорьевичу, осуждённому на каторгу в сибирские рудники. Не успел ей передать своё стихотворное послание — через месяц вручил направлявшейся следом в Иркутск и далее в Читу Александрине Муравьёвой... А ещё вдруг припомнилась девочка на берегу тёплого моря[34], её радостный смех, когда она убегала от догонявшей её волны, а он влюблённо и нежно смотрел на её лицо в брызгах солёной воды и не знал, что когда-то будет посвящать ей свои стихи и вместе с другими благословлять её на мужество и подвиг. Где же теперь она, Мария?
Она несла своё сердце мужу, оторвав его от родного дитя, подумал он. И вслух произнёс, внезапно выпрямляясь и вставая из-за стола:
— Вот она, первая жертва, — сын Волконского. Не считая тех, пятерых... — И спазма перехватила горло.
Перовский сказал, обращаясь к Жуковскому:
— Миниатюру передала мне племянница Сергея Волконского и моя — Варенька Репнина, чтобы я подыскал живописца и отдал портреты увеличить. Не подскажешь ли стоящего? За ценою не постою: единственное личико ребёнка, которое надобно бы переслать туда... Николиньку, уезжая, Мария оставила ведь в семье брата мужа, князя Николая Григорьевича...
Десять лет разницы насчитывалось между двумя братьями-генералами — старшим Николаем и младшим Сергеем. Когда пресёкся их дедовский, по матери, род, Павел Первый специальным указом решил передать прославленную фамилию фельдмаршала-деда — Репнин — его внуку, Николаю. А так — одна кровь: Волконские. Только отныне фамилия эта — с той окраской, которую лучше прятать. Но, странное дело, генерал-губернатор Малороссии не скрывает своих воззрений, которые проявлял ещё там, в Саксонии, — о равенстве всех сословий. От своих, украинских, помещиков требует: «Пусть корыстолюбие будет изгнано из сердец ваших...» Да, да, вот так, ещё только заступая на свой пост, в Полтаве и Чернигове, при открытии дворянских собраний, излагал программу, которую хотел видеть воплощённой в дела: «...вы не будете изыскивать всё, что может дать вам крестьянин доходу, а то, что вы можете от него требовать, не уменьшая благоденствия его, напротив, вы изыщете способ увеличить оное; вы пожертвуете для сего из доходов ваших; вы устроите училища для малолетних, больницы для недугующих; вы улучшите хижины крестьян ваших; вы снабдите неимущих скотом и плугами для возделывания земли; вы займётесь нравственностью подвластных вам и отвлечёте их от порока, сколь между простолюдинами здесь обыкновенного, и не будете на нём основывать дохода вашего».
Жуковский назвал нескольких живописцев, которые могли бы сделать копии медальона, — он сам был отменным гравёром и рисовальщиком и понимал толк в художестве.
— А знаете, — вспомнил Перовский, — нейдут у меня из головы слова её, Вареньки. Ей двадцать лет, умная, утончённая барышня. Я её знал ещё девочкой, когда вместе с Сержем Волконским играли с ней в Германии... Так вот, передавая этот медальон, она призналась, имея в виду дядю Сергея; «Как страждет сердце моё, как пожелала бы соединиться с ним в печальном пристанище его. Если бы я была его дочь, то меня б здесь не было...»
Опять засиделись почти до петухов, и, уходя, Вяземский подумал, что теперь уж днём составит письменный отчёт жене.
Но, чуть вздремнув, вышел на улицу. Экипажи и пешие направлялись к Петропавловской крепости. Оказывается, праздник Преполовения, иначе — третий день Пасхи... Оглянулся, а Пушкин — навстречу.
— Поглядим, как народ гуляет?
— А мы что, не народ? Я страсть как люблю ярмарки и прочие увеселения. Не помню, писал ли тебе из Михайловского, как ходил я там по базару в красной рубахе навыпуск и с цыганской серьгой в ушах? Медведя не хватало на поводу... А что? И с ним бы пошёл — гуляй душа!..
Как и давеча, Нева вся во флагах и по её глади снуют ботики, ялики и катера, перевозя народ. И если бы не пестрота людская и флажная, подумалось бы: не весна, а осень — так холодно от ветра и ещё стылой воды, на которой хотя уже не льды, а льдинки, если хотите, леденцы.
Друзья прыгнули в лодочку, а за ними — откуда только взялись? — две милые дамы. Одна из них, младшая, в розовом капоре, по-французски просит позволения ехать вместе — одним им, женщинам, признается, страшно.
В пути подруги были настолько оживлены и словоохотливы, что невольно выдали себя: та, что постарше, оказалась сводней, лопотавшая по-французски недавно приехала из Франкфурта и, видите ли, ищет занятия.
Вяземского сразу от них отворотило, хотя сводня признала Пушкина по портретам. На берегу Пушкин развеселился:
— Не откажете в позволении когда-нибудь при случае заглянуть к вам в гости?
— Да мы хоть сейчас со всем нашим расположением... Такие люди...
— Мерси, — откланялся Пушкин. — Однако теперь у нас с приятелем другое на уме...
С толпою тронулись во двор крепости, мимо царских гробниц. Остановились у свежей, Александровой, над которой две барельефные медали — в память двенадцатого года и за взятие Парижа.
Что-то беспокойное завладело Пушкиным — не узнать только что заигрывавшего с сомнительными девицами.
— Туда! — коротко произнёс спутнику и зашагал к восточным воротам, а от них через канавку — к кронверку.
Здесь, поднявшись ввысь, перевёл дух, но и Вяземскому ничего не надо было объяснять. Перед глазами обоих как бы всплыла картина, которую каждый вообразил себе по рассказам, ещё недавно передававшимся полушёпотом.
Тут, на кронверке, или на валу тет-де-пона, то есть на предмостном укреплении, против небольшой и ветхой церквушки, где стояли они сейчас, 13 июля 1826 года, в белой, жидкой петербургской ночи стучали топоры — из отдельных, спешно доставленных сюда деревянных плах собрали эшафот и пять виселиц. Двенадцать солдат Павловского полка с заряженными ружьями и примкнутыми к ним штыками расположились вкруг эшафота. Ровно в два пополуночи, едва переступая связанными ногами, пятеро взошли на помост. В последний раз глянули друг на друга и стали кружком, спинами внутрь, чтобы связанными руками коснуться друг друга. Прощание было коротким — им тут же на головы накинули чёрные мешки, а поверх — верёвочные петли. Помост двинулся, трое, оборвавшись, слетели вниз, на землю, корчась в судорогах, крича и громко стоная.
— Подлые опричники, даже не умеете делать своего низкого дела, — раздался, как говорили потом, голос Рылеева...
Что-то белело под ногами в пожухлой прошлогодней траве, и Пушкин, наклонившись, поднял сосновую щепочку, рубленную когда-то топором.
— Кажется, от их сооружения, — высказал догадку Вяземский и тоже подобрал с земли несколько затёсин.
— Надо бы отобрать ровно пять, — тут же предложил Пушкин. — Вели дома заказать чёрный деревянный ящичек и спрячь нашу находку в укромном месте.
— Есть такое, — сказал Вяземский, — где я хранил кое-какие твои стихи.
Спустились вниз. Пушкин сунул руку в карман — должно быть, вспомнил, что там имеется клочок бумаги, взятый из дома Перовского. Хотел предложить князю Петру завернуть находку, но в глаза бросился его же собственный почерк:
Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю: Я смело чувства выражаю, Языком сердца говорю... Его я просто полюбил: Он бодро, честно правит нами; Россию вдруг он оживил Войной, надеждами, трудами. О нет! хоть юность в нём кипит, Но не жесток в нём дух державный; Тому, кого карает явно, Он втайне милости творит.Пальцы судорожно скомкали листок, но тут же разомкнулись. Нет, надобно закончить это послание друзьям, как и задумал, остановил он себя. Я обязан быть честным и стоять на своём до конца. Это, если угодно, моё четырнадцатое декабря. А если не поймёт и не примет он моих чистых намерений, как не понял их открытости и чистоты, не моя вина, а его беда.
19
Огромный конь огненно-рыжей масти, с такой же пламенной, переходящей в чистое золото гривой рванулся из ворот на простор и тут же замер как вкопанный. Сначала передние его ноги погрузились по самые бабки во что-то вязкое, затем медленно стали тонуть задние, и вот уже грязная, булькающая жижа дошла до лошадиного брюха.
Ай, ай! — захотелось ему, сидящему в седле, закричать, но крика не получилось, только острая сквозная боль пронизала грудь, а от неё разлилась по всему телу.
Господи, только успел он подумать, боль в сердце! Значит, оно разорвалось, и я уже умер. И вовсе не конь подо мною, которого засасывает чёрная, живая грязь, а нестерпимо обжигающее пламя, рассыпающее золотисто-огненные искры, бушует вокруг, и земля внизу раскрыла свои хляби, чтобы навечно поглотить меня в тёмных, бездонных недрах.
Ему захотелось снова крикнуть, но из его губ не вырвалось ни звука. Зато рядом раздался милый женский голос:
— Василий Алексеевич! Ваше превосходительство! Да очнитесь вы, миленький. Всё уже окончилось, всё позади, и вы будете теперь жить.
Сонный дурман медленно развеивался, будто с тела его кто-то огромный и сильный стягивал тяжёлое свинцовое покрывало. Больной захотел открыть глаза, но кроваво-красное пламя вновь опалило его. Он всё же с усилием размежил веки и увидел перед собою женское лицо, обрамленное белой косынкой, а за женской фигурой — два высоких окна, ярко освещённых солнцем.
Ещё одно лицо — теперь уже мужское, заросшее кустистой бородой, склонилось над ним:
— Пробудились? Теперь можно дать больному немножко морса. Вернее, чуть смочить губы... А вы, господин генерал-майор, позвольте вам заметить, удивительно отменного здоровья. Целый час с четвертью мы старались извлечь у вас пулю со стороны лопатки, и вы хоть бы единым стоном выдали нестерпимую боль! Зато теперь проспали без малого двенадцать часов, а это — к непременному выздоровлению.
Машинально он попытался повернуться с левого бока на спину, но тут же острая огненная игла снова пронзила грудь, и страдания исказили его бледное, осунувшееся лицо.
— Нет, нет, никаких движений, слушаться только сестёр милосердия, ваших сиделок...
Пуля, вспомнил он слова доктора, когда тот вышел. Так, значит, не пламя в виде огненного коня угрожало мне, а роковой свинцовый шарик, выпущенный из раскалённого ствола ружья, пройдя через грудь почти навылет, хотел оборвать мою жизнь. Но где и как это случилось?.. Да, я бежал впереди войска, за мною мои солдаты, вокруг — грохот и пальба, а там, на вершине каменной стены, — люди в синих мундирах с длинными ружьями в руках... Кто из них выбрал мишенью меня?
Голова закружилась, и он снова провалился в полудрёму, пытаясь всё же связать в целое обрывки видений.
И всё же конь мне не приснился, подумал он. Конь был.
Теперь он действительно отчётливо вспомнил, как верхом на рослом коне выехал за ворота дома, где ночевал, но лошадь, сделав всего несколько шагов, чуть ли не провалилась на дороге по брюхо.
То было в самом конце 1827 года, ещё за четыре месяца до войны[35], когда он прибыл в Екатеринодар, далёкий южный город, и с грустью подумал, куда занесла его судьба: из всех даров Екатерины этот городишко, знать, самый пакостный. Он даже представился ему не городом и не селом — домов мало, хотя улиц много, но по ним, оказывается, никто не ходит, потому что ни двигаться пешком, ни ездить в это время года нельзя, в чём он действительно убедился сам.
Но ещё непролазнее оказались дела, в которые необходимо было погрузиться, чтобы выволочь на свет Божий все мерзопакостные ухищрения правителей здешнего края.
«Ты хочешь, чтобы я писал тебе, любезный мой Василий, но, право, не пишется... — начал он своё письмо Жуковскому 1 января 1828 года. — Дел пропасть; почти каждый день сижу над ними часов до двух ночи; но — дела все мерзкие, отвратительные: грабительства, притеснения бедных и тому подобное. Я хотел избежать в жизни производства следственных дел — и попал сюда как кур в ощип... Теперь у меня четыре дела, каждое листов по 600 и более, а это только начало дел, и каждое из них я непременно должен прочитать от листа до листа, сделать выписки, запросы и всякую дьявольщину, и при том ещё читать бумаги, писанные на малороссийском диалекте, где, например, Фома зовётся Хомою, а хутор — футором и т. п. Скука смертельная!.. Одно только и утешает меня, что пребывание моё здесь непременно должно принести пользу — если не такую, которая бы была заметна в Петербурге, то уж, наверное, чувствительную для угнетённого здешнего края. Ты не поверишь, до какой степени черноморские аристократы притесняли народ! Турецкие паши никогда не налагали таких тяжестей на бедных греков, — и греки к тому же всегда находили себе защитников, а черноморский казак — безгласен: его бьют, сосут, а жаловаться запрещают! Зато в них так мало осталось удальства и молодечества их предков-запорожцев; это настоящие мухи в лапах у пауков... В любой русской губернии, даже в самой глухой и тёмной, можно всё-таки найти с кем поговорить — если не с местным уроженцем и обывателем, то с заезжим или отставным; а здесь — поверишь ли? — в целой губернии не с кем слова вымолвить; и сущая беда, если набредёшь на черноморского учёного: точно попал на заднюю скамейку низшего класса уездного училища!.. Ни к селу ни к городу начнёт рассказывать анекдоты про царя Македонского и тому подобные новости: врёт — и божится, и уверяет, что он читал всё это в какой-то хорошей истории.
Теперь здесь сменяется через день или грязь непролазная и непроходимая, или глубокий снег, из которого на следующий день опять грязь... Говорят, что это прекрасное время года, а весны и лета даже и старожилы боятся — тогда от лихорадок нет спасенья и ничем нельзя от них защититься и избавиться.
Надеюсь окончить поручение прежде, чем получу лихорадку; а если к тому времени не кончу, то поминай как звали!.. Кстати, «как звали»: нынче, любезный мой Василий, твои и мои именины... Позволь мне поздравить и тебя, и себя и пожелать тебе счастья более, чем себе желаю; а я себе его желаю довольно, да что-то не идёт... Всё равно, авось к тебе придёт, тогда половину уступишь мне; разумеется, половину не такую, как приобретает себе Кавелин: на этакие «половины» я не имею претензий... А каков, в самом деле, наш Кавелин! сколько счастья вдруг привалило: и жених, и генерал, — начиная с плеч и нисходя до...! Прощай! не забывай твоего Перовского».
Как осторожно ни оценивал свои следовательские возможности, но и маленькой толики облегчений, наверное, не принёс сирым и забитым. Конечно, переворошил десятки дел и слёзных прошений, по возвращении доложил императору о всех злоупотреблениях в крае, однако не месяцы, а годы потребовались бы на то, чтобы всех притеснителей и угнетателей — к ответу. А тут в апреле уж началась с Турцией война...
В тот памятный зимний день, когда слепая и жестокая картечь разметала у Сената остатки восставших, Николай сказал во дворце, что сокрушил главу революционной гидры, которую молодые и безрассудные сыны России вскормили на гибель себе.
А кто же выкормил другую гидру — самоуправство администрации и развращённость чиновничества, подкупность судов? Россия стонет в тисках этой гидры — поборов, насилия, грабежа, гидра эта, уверовав в свою безнаказанность, издевается даже над верховной властью. На всём пространстве огромного государства нет такого места, куда бы не досягнуло это чудовище, и утонувший в грязи Екатеринодар — лишь капля в море лжи, обмана, издевательств над собственным же народом, из которого выдавливают все соки, а грянула война — их, безответных, обобранных и забитых, в самое пекло.
И разве удивительно, что нашлись люди, решившие свергнуть такую несправедливость? Они, возмущённые зрелищем униженного и страдающего отечества, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех.
Можно осудить незаконность средств к осуществлению сих целей, дерзость предпринятого, но нельзя отринуть попытку этого благородного и чистого порыва.
Я здесь о целях замысла, продолжал рассуждать сам с собою Василий Перовский, не о том, во что он, замысел этот, вылился. Если бы я разделял средства, я не отошёл бы от тайного военного общества, был бы у Сената с ними, а не 6 государем.
Кто же теперь исцелит недуги державы, кто вызволит многострадальное отечество наше из грязного болота, в котором всё светлое, честное и неподкупное поглощается более и более своекорыстием, развратом и воровством екатеринодарских, харьковских, курских, сибирских и тому подобных правящих аристократов, коим несть числа?
Надежда теперь на него, императора. Многое, что в продолжение года можно было свершить без крутых переворотов, им проводится в жизнь. Злоупотребления, слава Богу, понемногу выводятся и наказываются, коль скоро их открывают, и те, коим должно бояться, сделались уже гораздо осторожнее. Надобно надеяться, что осторожность эта со временем обратится в добродетель; притом же, покуда мы наживём бескорыстных судей и беспристрастных начальников, можно будет довольствоваться и плутами, если они, хотя от страха, будут исправно играть роль честных.
Невесело становилось от таких размышлений. Что, в самом деле, может достичь один человек, даже если он и государь, которому все подчинены? Лихорадочная его деятельность ведь и вызвана-то порочностью наших учреждений. Однако и один пример может быть прекрасен, если не будет забыт теми, кои должны ему подражать. А вокруг трона и начинаются те порочные круги, которые затем, как на водной поверхности, расходятся всё дальше и дальше...
Грудь пекло, прожигало насквозь, как калёным железом, малейшее движение рукой отзывалось болью во всём теле. И тогда мысли путались, сбивались — и он снова проваливался куда-то вниз, где со всех сторон свирепо гудело нестерпимо палящее пламя.
Наверное, это вспоминалась война, последний штурм Варны, когда он, точно налетев на огромный железный кол, выставленный перед ним, обливаясь горячей кровью, упал на каменистую и знойную землю.
Однако почему, очнувшись после тяжёлой операции, он вспомнил сразу не войну, а Екатеринодар? Должно быть, не только в коне дело, который приснился.
И в Екатеринодар, и следом на войну его позвали обстоятельства, которым он должен был отдаться всею душой, не как иные из того же императорского окружения.
Что ж, он ныне тоже генерал. Только эполеты ему вручили не в парадной зале, а на поле боя, где властвовали огонь и смерть.
Да что там Кавелин с его жалким счастьем! Бенкендорф, Орлов Алексей, Адлерберг, давно уже графы и генерал-адъютанты, как вдохновенно провожали государя на театр войны! И только один он, флигель-адъютант императора полковник Перовский, не просто выехал с ним, но как о величайшей милости испросил позволения самому быть зачисленным в действующие войска.
Разве не императором были произнесены сии великие слова: «В эту торжественную минуту, когда, быть может, на небесах начертано, что я должен найти смерть в этой войне, я покину жизнь с сознанием того, что исполнил свой долг как честный человек, и с сожалением, что не мог быть более полезным дорогому отечеству»?
Так думал и он, Василий Перовский, став начальником штаба корпуса, выступившего на штурм турецкой крепости Анапа.
Жестокие разыгрались бои. Но к середине июня укреплённый форпост этот пал, а с ним в течение всего трёх недель сдались ещё шесть первоклассных крепостей.
В этих кровопролитных и неусыпных сражениях он заслужил генеральские эполеты и Георгиевский крест. И эти отличия он снова, теперь уже собственной кровью, оправдал на поле брани, штурмуя во главе войск последний оплот турок — Варну.
Василий опять открыл глаза и оглядел палату, в которой лежал. У изголовья кровати — столик, на котором склянки с микстурами и ещё какими-то снадобиями, в углу, в деревянном кресле, прикорнула сестра милосердия.
Солнце, должно быть, уже перевалило зенит, потому что не слепило глаза. Такое же послеполуденное время было и недавно, девятого августа. Четыре тысячи русских солдат плотным кольцом охватили Варну, но турецкий гарнизон не сдавался. Наоборот, собрав силы, неприятель выпустил из крепости отряд, который решил нанести урон нашим передовым батальонам. Однако вылазка не удалась: турки потеряли много убитыми и ранеными, нашим достались трофеи, среди которых два знамени.
Казалось, можно было поздравить друг друга с удачей. Начальник штаба генерал-майор Перовский направился к палатке командира корпуса генерал-адъютанта князя Меншикова, когда ядро, неожиданно выпущенное из крепости, просвистев над головой, ударилось в самой гуще коновязи и убило двух лошадей.
— Князь ранен! — послышались голоса.
Высокий и прямой князь Меншиков стоял опираясь на своих адъютантов, из сапог его хлестала кровь.
Тут же появились санитары, носилки и фура, и вышедший из строя командующий был спешно отправлен в лазарет.
Теперь во главе корпуса остался он, недавно получивший свои эполеты тридцатитрёхлетний генерал. Штурм начался с новой силой. Вот-вот крепость должна была выбросить белый флаг — так нажимали русские, но в очередной атаке, первого сентября, пуля ударила в грудь Перовскому и почти прошла навылет.
Что ж, подумал теперь Перовский, если хирурги вынули свинец и я продолжаю жить, значит, не всё потеряно. Однако тяжело дышать, с каждым вдохом и выдохом горлом поднимается кровь, вновь и вновь наваливается забытье. Боже, только бы теперь не умереть! Только бы пройти все круги ада, которые приготовила мне судьба.
20
В тонкой, как яичная скорлупа, чашке старинного мейсенского фарфора кофе был особенно душист и крепок. Странно, что Аннет, пробыв в Германии целых три месяца, так и не привыкла к сему напитку. Ах, эти извечные её заботы о цвете лица и изяществе фигуры! Что же до него, то несколько глотков поутру равносильны тому, что родишься заново.
Ну-с, что там давеча сочинил о моём «Двойнике» господин Булгарин? Ах вот: «...русские повести, рассказанные умно, легко, приятно, слогом живым, натуральным, языком чистым и правильным».
Хм, «Северная пчела»[36] могла бы и ужалить! Однако, кажется, вот и скрытый укол: «Содержание их может быть названо правдоподобными небылицами. Автор искусно воспользовался разными поверьями, тёмными слухами и суеверными рассказами о несбыточных происшествиях, будто бы случавшихся с людьми в разных местах и в разные времена, и передал нам их ещё искуснее, умея возбуждать любопытство и поддерживать оное до самой развязки».
Даже некое похлопывание по плечу: «А ты недурен, братец!» — хотя мы с ним, разумеется, не пили на брудершафт.
Однако разве в небылицах суть, господин критик? Эк упёрлись лбами в чертовщину и не соизволят разглядеть за нею самую что ни есть живёхонькую жизнь!
Отложил булгаринское изданьице, глубже запахнулся в халат, отхлебнул из изящной чашечки и ухмыльнулся: нет, не годитесь вы, господин критик, в собеседники, с коим можно вести спор на равных, как ведут его двойники в моей только что увидевшей свет книжке. Иное дело — мой давний дрезденский собеседник.
Не всегда и с ним разговоры наши строились в согласии, но он хотя бы изволил меня понимать! Вспомнить лишь ту встречу не в «Зелёном жёлуде», как обычно, а у маэстро дома.
Господи, что за чулан представляло тогда его жильё! — холодное, с щелями в стенах и потолке, грязное и замызганное. Однако, видимо, права поговорка: гении ютятся на чердаках и в нищете.
— Нуте-с, нуте-с, — сказал в тот вечер великий сказочник и вытянул свои длинные и тощие, как у паука, ноги.
Обвислый нос и колпак с кисточкой делали его похожим на ведьму из сказки. Конечно, из немецкой сказки. Он так и думал, наверное, что собеседником уже от одного взгляда на его облик овладевает мистическое состояние. Но тот лишь прищуривал свой глаз и усмехался. Хозяин не выдержал:
— Так вы не верите в подсознание и сверхъестественное? Конечно, не верите, потому что не понимаете. Вот вы и переложили кое-какие мотивы из моего «Песочного человека» в свою повесть «Пагубные последствия необузданного воображения», выкинув из моего же замысла самое ценное.
— Что вы, маэстро, осмелюсь спросить, считаете самым ценным?
— Второй план, фатальность.
— Ах вот вы о чём! Вы без труда могли это заметить — я в самой отдалённой мере воспользовался только канвой вашей повести, а герои, обстоятельства, их сближающие, фабула и основная идея — мои. И у меня — самые человеческие мотивы: люди ведут себя как в жизни. И главное, без этого — подсознательного... — Собеседник, казалось, смешно оглядел и феску, и крючковатый нос, и паучьи ноги.
— Понятно! — вскочил Гофман. — Вы стремитесь изображать то, от чего я бегу, — жизнь. Но выгляните хотя бы в окно моей мансарды — эти солдаты, хаос, голод, дымящиеся головешки на улицах... Разве этого жаждет душа подлинного романтика и это ли является предметом, достойным пера художника? Впрочем, может быть, у вас там, в России, всё идеальнее и божественнее?.. Я вспомнил ваши рассказы о том, как вы занимались в юности мистификациями и даже, кажется, сделали попытку вступить в масонскую ложу. Так, если не ошибаюсь?
Собеседник опять прищурился и подмигнул:
— Посвящение в ложу обставлено такой дьявольщиной, что, простите, маэстро, подобное вряд ли может возникнуть и в вашем зело изощрённом воображении... Представьте, вас, как когда-то меня в Москве, вводят в помещение, где сплошной мрак — окна занавешены. Только при свете лампады вы начинаете различать изображение каких-то циркулей и геометрических фигур. Потом во тьме появляется человеческий череп — и вы, дрожа, повторяете за мастером ложи слова священной клятвы. Всё перед вами плывёт, и вы ощущаете, что приобщаетесь к иному, как бы потустороннему, миру.
— Вот видите, а вы — всё о реальном! Подлинно глубокие человеческие мысли можно выразить только через посредство потустороннего... Только так! Чему вы ухмыляетесь? Не верите?..
Велик был немецкий волшебник, однако и он не понимал, что влечёт меня за внешним покровом таинственности. Жизнь, господа, живая — с её невзгодами и радостями, страданиями и мечтами — людская жизнь!
Впрочем, погодите: уже начат роман, в котором не будет ни грана волшебства, одна лишь тихая малороссийская провинция, яркие и весёлые ярманки, милые тётушки и дядюшки, а рядом с ними — алчные, злые людишки, норовящие ухватить чужое счастье...
Однако — чур! — всему своё время. Теперь же подразню моего критика из «Северной пчелы» ещё одною волшебною повестью — «Чёрная курица, или Подземные жители».
Ну конечно, правильно вы догадываетесь, господин Булгарин, — это сказка. Причём преимущественно для детей. Потому в ней — целый рой несбыточных, как вы изволили выразиться, происшествий. А смысл — самый понятный и необходимый людям, особливо тем, кто только учится жить.
Батюшки! Да что же это я так безудержно разболтался, когда меня и Алеханчика ждут во дворце наследник и Жуковский!
— Алёшенька!.. Ты где, мой дружочек? Быстро одеваться, голубчик...
В прошедшее воскресенье Алексей Перовский начал читать во дворце свою новую волшебную повесть наследнику и его товарищам по играм, но соизволила явиться на чтение императрица Александра Фёдоровна с фрейлинами.
То, что загорятся глаза у двенадцатилетнего великого князя, Алёшеньки и их сверстников, предугадывал. Но чтобы, затаив дыхание, внимали взрослые...
Господи, так и читалось на лицах слушающих: что же дальше произойдёт с мальчиком Алёшей, который однажды, гуляя во дворе пансиона, спас от ножа кухарки курицу Чернушку? Алёша был умненький, хорошо учился, все его любили, но однажды... «Алёша, Алёша», — услышал он в своей спальне. Удивительно — человеческим голосом говорила Чернушка. «Если ты меня не боишься, — сказала она, — так поди за мною». Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша вынужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам стояли у стен рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. В одно мгновение комната сделалась светлее — и в неё вошёл человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.
Алёша тотчас догадался, что это должен быть король. «Мне давно стало известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик. Третьего же дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донёс мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти». Тут только Алёша заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу. Тут подошёл министр ближе, и Алёша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. «Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твоё требование». Алёша задумался и поспешил с ответом: «Я бы желал, чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали», — «Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего: я должен исполнить своё обещание». Он махнул рукою, и паж поднёс золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко. «Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
— Что же станет дальше с Алёшей, как воспользуется он драгоценным подарком — во вред или на пользу себе и другим? — не удержавшись, спросили после окончания чтения и дети, и взрослые, не в силах скрыть своего интереса.
Писатель загадочно улыбнулся и закрыл своё сочинение:
— Об этом вы узнаете в следующий раз.
В нынешнее воскресенье Жуковский встретил своего друга в зале:
— Сам император соизволил изъявить желание присутствовать на твоём чтении. Он скоро должен возвратиться с послеобеденной прогулки. Дети же теперь в саду. Пройдём и мы к ним.
Василий Андреевич взял Перовского под руку, и они медленно, наслаждаясь предвечерней негой, разлившейся в тёплом воздухе ранней осени, тронулись по тропинке, усыпанной мелким белёсым и приятно похрустывающим под ногами речным песком.
Жуковский сочинял хорошие баллады, в которых проявляли добрые сердечные чувства мужественные и благородные герои. Но все они будто были взяты напрокат из чужой, немецкой жизни. Пробовал он писать и прозу, одну повесть назвал даже «Марьина роща», тем не менее и там действовали люди совсем не похожие на тех, что встречаются повседневно. У Перовского же, даже в фантастических сочинениях, жили, двигались, разговаривали самые обыкновенные персонажи. В «Лафертовской маковнице» — Маша и её отец почтальон Онуфрич, в «Чёрной курице» — мальчик Алёша. И даже всё таинственное, что окружало героев в сказке, было так узнаваемо.
Да возьмите вы, рассуждал сейчас сам с собою Жуковский, хотя бы описание одной-единственной сцены в доме учителя, где готовятся дать обед директору училищ. Здесь всё на редкость зримо, осязаемо — и всё на изумительно чистом родном языке!
«В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах... и ещё накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство над буклями, тупеем[37] и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на её голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовых перстня, когда-то подаренные её мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтобы как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока...»
— Ах, как чудно! Так всё и видишь, — вслух повторил своё восхищение Жуковский. — Нет, нет, и не отрицай — ты подлинный волшебник, писатель Погорельский! Такой дар рассказчика, как у тебя, редко у кого есть. А сказку твою, душа моя, я у тебя заберу и передам Дельвигу для его альманаха «Северные цветы». В сём букете твоя прекрасная повесть станет главным украшением...
Так они шли, разговаривая, когда на открытой поляне услышали смех и радостные клики детей.
Наследник, весь в поту, Саша Адлерберг с оторванным воротником, Паткуль Саня, растрёпанный более чем когда-либо, и Алёша Толстой, красный, как индейский петух, словно сумасшедшие носились друг за другом. Тот, кому повезло, догнав соперника, обхватывал его руками и, громко выражая своё ликование, старался повалить на землю, обязательно по всем правилам борьбы положив на лопатки.
Все здесь были одинаково возбуждены и одинаково равны — и великий князь, и его товарищи. Они барахтались, кувыркались в траве, мчались взапуски, ставили друг другу подножки, падали и, тут же вскочив, начинали всё сызнова.
Однако было заметно, что в сей дружной и равной компании Алёша Толстой обладал неслыханной силой. Он безо всякого напряжения поднимал у себя над головой каждого из своих товарищей, перебрасывал их по очереди через плечо и даже галопировал с кем-нибудь из них у себя на закорках, подражая ржанию лошади.
Кто при звёздах и при луне Так поздно едет на коне? Чей это конь неутомимый Бежит в степи необозримой? Казак на север держит путь, Казак не хочет отдохнуть Ни в чистом поле, ни в дубраве, Ни при опасной переправе, —разносился над поляной его звонкий, упоенный голос, когда он скакал кругами с хохочущим Адлербергом Сашей у себя на спине.
Но — стоп! Прямо перед «конём» — рослая фигура императора, вышедшего на полянку из-за подстриженной куртины.
— Никак, ты декламируешь Пушкина, Алёша? — подошёл ближе государь.
— Так точно, стихи Пушкина, ваше величество. Из новой его поэмы «Полтава». Я ведь тоже казак!
— Вижу, — улыбнулся император, — и притом казак-богатырь.
— Спасибо, ваше величество, за комплимент, но я могу свою силу и доказать. Если вам будет угодно, я готов с вами побороться, — неожиданно произнёс Алеханчик.
— Со мной? — искренне удивился Николай Павлович. — Но ты забываешь, милый, что я взрослый и гораздо сильнее и выше тебя. Впрочем, если ты настаиваешь, я готов. Однако чтобы поединок был честным, бороться я всё же буду одной рукой.
Государь снял мундир, кинул его на руки неведомо откуда появившемуся камердинеру и принял позицию.
Алёша, раскинув руки, бросился на соперника.
— Ого! — воскликнул император. — Да ты и впрямь Геркулес — налетел на меня, точно ядро из жерла пушки. Если бы я замешкался, мог бы меня свалить. А ну давай сойдёмся теперь в кулачном бою.
— А я могу вас бить больно, взаправду?
— Конечно, нисколько не стесняясь, — весело ответил Николай Павлович и, увидев уже стоявших рядом Жуковского и Перовского, обратился к ним: — Попрошу вас быть нашими рефери. Итак, начинаем!
Алёша раскраснелся и совершенно взмок, но и император порозовел и несколько раз вытер со лба капельки пота, защищаясь от ударов Алёши. Затем государь поднял руку, давая знак, что поединок окончен, и, обняв Алеханчика, поцеловал его в лоб:
— Молодец! А теперь отдохни — я вызываю на поединок остальных. Великий князь, Саша, а ну наступай!..
По дороге ко дворцу, отправив детей вперёд, император попридержал Перовского с Жуковским:
— Говорят, ты, Алексей Алексеевич, сочинил прелюбопытную сказку для своего племянника и моего сына. После чая приду, послушаю сам. Но тут вот какой к тебе разговор... Ты давно не бывал в Нежине, в гимназии князя Безбородко? Князь Ливен мне намедни докладывал: там нелады. Что-то опять с этой самой, уже изрядно мне опостылевшей философией.
— Ничего из ряда вон выходящего, осмелюсь уверить ваше величество, — ответил Перовский. — Предмет сей читают там профессора весьма серьёзные и образованные. Кстати, преподаётся курс по учебникам, кои опробированы в лекциях, читанных в Царскосельском лицее.
— Ну, ты известный либерал, как и мой Жуковский, — остановил его император. — Я знаю, кто автор царскосельских лекций — Куницын[38], который за неимением учебной книги на русском языке, изволил составить философский свой курс, пользуясь сочинениями так называемых западных просветителей — известных тебе Вольтера и Жан-Жака Руссо. Правда, ты, помнится, в своей записке на моё имя утверждал, что несчастья произрастают не из дисциплин учебных, а лишь по недомыслию и преднамеренности людей.
— Совершенно верно изволили меня понять, ваше величество, — в полупоклоне склонил голову Перовский.
— А коли я тебя, говоришь, правильно понял, вели разузнать, кто сии люди, расплодившие яд вольнодумства в гимназии высших наук. На философию я поднимать руку не намерен — тут я с тобою могу согласиться. Но с теми, кто из сего предмета стремится сделать рассадник революционной французской заразы, разговор у меня будет короток: тех профессоров, кои нерусские, выслать за границу, русских же выслать на места родины, отдав под присмотр полиции...
21
На столе у дяди Алёши лежала толстенная, в кожаном переплёте книга, которую он раскрыл и придвинул поближе к Алеханчику.
Под тонкой и трепетной папиросной прокладкой открылась большая, во весь лист, гравюра, изображавшая огромную, раскинувшуюся на горизонте гору, из которой мощно струился дым.
— Бьюсь об заклад, что это Везувий! — воскликнул Алёшенька. — Я не ошибся?
— Нисколько, душа моя. Действительно, это тот самый легендарный вулкан в Италии, о котором ты много читал и о котором так красочно любит рассказывать дядя Василий, самолично поднимавшийся к самому его кратеру.
Дядя Василий побывал в Италии в ту ещё пору, когда Алеханчик с маменькой и дядей Алёшей жили в Малороссии. Но и теперь, спустя годы, дядя-генерал частенько вспоминал о своём незабываемом путешествии в страну солнца. Воспоминания его жили не только в устных рассказах — уехавший в отпуск тогда ещё молодой адъютант великого князя почти каждый день слал письма с описанием красот далёкой земли своему другу Жуковскому. А письма так пришлись Василию Андреевичу по душе, что он передал их Дельвигу — и тот напечатал их в своём альманахе «Северные цветы» на 1825 год.
Алеханчик знал наизусть многие места из дядиных описаний, и они сейчас пришлись совсем кстати. «Гора, которую обыкновенно называют Везувием, — приходили на ум слова из писем, — состоит, собственно, из двух гор, у коих вершины отделены, а основание общее... Везувий при каждом извержении изменяет вид свой, иногда вырастая от выбрасываемых им камней, иногда делаясь ниже, по причине обрушивающихся стен кратера. По целым дням и неделям бывает он спокоен, вдруг задымится, и дым то подымается, то тихо стелется по скату горы... Колебания земли, волнение моря, глухой, но ужасный подземный шум обыкновенно предшествует извержению. Столб чёрного дыма выходит из жерла, поднимается отвесно на чрезмерную высоту и расстилается по всему небосклону. Итальянцы называют его пино, потому что в самом деле в большом виде походит он на сей род деревьев, украшающих сады Неаполя и Рима... Желающие подняться на Везувий обыкновенно из Портичи едут верхами, на лошадках или ослах; местами хорошая, усаженная фруктовыми деревьями дорога приводит к так называемому Эрмитажу. Отсюда по извилистой тропинке, чрез застывшую неровную лаву, доезжают до подошвы огромного конуса, где надобно непременно спешиться. Крутая пепельная насыпь представляет вид самый печальный и однообразный; она усеяна обгорелыми камнями; на ней нет ни одной травки. Здесь можно различать все лавы, вышедшие в разное время из горы; иные частью обратились уже в землю и покрыты растениями, другие чёрными полосами простираются до самого моря и сохранили ужасную наружность. Тут начинается самая трудная, самая утомительная часть сего путешествия: не имея опоры, нога беспрестанно скользит и погружается в зыбкую золу, сделав с величайшим усилием несколько шагов в гору, сползаешь назад вместе с камнями, за которые хочешь удержаться, и находишься опять на прежнем месте; горячая зола жжёт подошвы и препятствует останавливаться для отдохновения... Признаюсь, что я не раз чувствовал в себе более охоты к обратному пути, нежели к продолжению его. Наконец, выбившись совершенно из сил, добрался я до кратера и лёг на краю его. Представь себе яму в несколько сот футов глубины, более версты в поперечнике, с неровными, то отвесными, то менее крутыми, берегами — вот теперешний кратер; дна его не видно, из него выходит жаркий пар, а по краям зола так горяча, что, лежа, чувствуешь мгновенно тёплую сырость, проникающую сквозь одежду. Несмотря на это, я и товарищи решились тут провести ночь...»
— Неужели я сам никогда не увижу ни эту огненную гору, ни море, ни прочие прелести Италии? — с огорчением произнёс Алёша.
— Потому я и приобрёл сию книгу, что хочу предложить тебе и маменьке совершить будущей весной путешествие и к Везувию, и к Неаполитанскому заливу. — Дядя хитро глянул на племянника: — А где твоё, мальчик Алёша, волшебное конопляное семечко? Будь добр, дружок, верни мне его на время.
— Ах, это затем, чтобы я перед поездкой, как в вашей повести, не пользовался волшебным зёрнышком, а сам по-настоящему приложил труд и проштудировал сию книгу о стране, в которую мы поедем?
— Совершенно верно, душа моя, — согласился дядя. — Лишь те знания прочны, которые человек добывает с определёнными усилиями сердца и разума. Велик, конечно, соблазн, не прилагая труда, закончить и мне свой роман. Но, боюсь, как и в сказочной моей повести о чёрной курице, мальчик Алёша, я потерплю фиаско. Посему, Алеханушка, давай условимся: оба используем оставшийся до путешествия почти целый год с определённой пользой. Ты, кроме своих обычных ежедневных занятий с учителями и гувернёрами, проработаешь эту книгу и к тому же изучишь итальянский язык, я же обязуюсь продвинуться в сочинении «Монастырки». Благо с нынешнего дня свободен как птица.
— О Боже! Ты подал в отставку с поста попечителя? — подошла Анна.
— И с должности председателя училищного комитета, — прибавил, почему-то улыбаясь, дядя Алёша.
— Но как же ты... как же мы все втроём сможем существовать? — всполошилась сестра.
— Видишь ли, — сказал дядя и посмотрел в сторону Алёши. — Каждый человек имеет потребности необходимые, которые следует удовлетворять в первую очередь, и те, которые совсем не следует поощрять, ибо они ему вредны. А на полезные заботы у нас средств хватит. Что же до моего отказа от службы, то и он означает, что я отказываюсь не просто от лишних, ненужных денег, но и от ненужных хлопот и забот.
Сестра вскинула свою изящную, чуть полноватую руку и смешно повертела пальцами у виска:
— Ну, знаем мы твои сумасбродные причуды!
Как тут можно было брату не рассмеяться! Уж кто бы мог такие слова произнести, только не Аннет. Но возражать не стал — знал, как можно наверняка уйти от обвинений сестры:
— В Италию мы поедем в самом начале марта — здесь, в России, ещё будет зима, а там разгар весны. Так что следует продумать, что взять с собой из одежды...
Конец фразы брата потонул в громких восклицаниях:
— Ах, Алексис, не беспокойся. Я тотчас же еду к придворному модельеру. Ты знаешь, я ему заказала точно такой же бальный наряд, как и сама императрица. Я обязательно появлюсь в нём на новогоднем бале, когда Александра Фёдоровна там будет с императором. Пусть все видят, чего стою я, статс-дама! А к Италии я закажу такие туалеты, что вся Европа будет у моих ног! Ну, дорогие мои, я спешу к модельеру... Какие хлопоты ты, Алексис, обрушил на мою голову...
Эх, вот кому бы волшебное зёрнышко с заветным желанием: всё, что захочу, — моё!.. — ухмыльнулся дядя Алексей про себя. Но для того он и написал свою повесть-сказку, чтобы люди с малолетства строго подходили к своим хотениям и учились видеть в жизни не одни лишь безграничные удовольствия, но и обязанности перед другими. Не просто будет научить этому умению Алёшеньку, ибо лучший учитель, как известно, жизнь. Хуже, если станет меж жизнью и Алёшей Аннет: не всегда любовь, даже безграничная и самоотверженная, как у неё к сыну, может быть благом...
Впрочем, что за чушь лезет в вашу голову, господин сочинитель? Какое право у вас, создателя вымышленных людских душ, влезать в души живые? Или вы, как и великий Гёте, полагаете, что стоит вам захотеть, и вы измените судьбы тех, о ком печётесь? Дудки, господин действительный статский советник! Может быть, достань у вас терпения, вы в будущем смогли бы подняться ещё на одну очередную ступеньку в табели о рангах и стать, как и великий немецкий поэт и премьер-министр, господином тайным советником. Только от сего вашего возвышения не воспоследовало бы никаких изменений в той сфере, которой вы взялись руководить. Истинно так, несостоявшийся ни товарищ министра, ни в будущем министр! Будь всё иначе, вам бы не стоило покидать свою службу.
Конечно, можно сказать, что всему виною тот, кто вначале сулил златые, так сказать, горы, а вышел пшик, и что, дескать, ваше учёное сердце не нашло в себе решимости подстроиться к казарменной прямолинейности во взглядах на науку и обучение юношества. Но разве не вы ли совсем недавно полагали, что не от кого-то, даже самого могущественного, стоящего наверху, а от каждого на своём — большом ли, малом — посту зависит судьба улучшений? Вон братья, Василий и Лев, впряглись в заботы государства без рассуждений. Василий — даже не щадя крови...
А может, как раз твоё поле брани и чести — вот за этим столом в тиши кабинета, за рукописью — листок за листком?
Но почему же тогда и великие гении Гёте и Пушкин не ведают своего края? Что же муза не укажет им их единственный, предуказанный Богом, путь в сей многотрудной жизни?
Тайна сия — проста есть. Помнишь рамочку с грамотой, писанную острой готической вязью? Чтобы жить и творить, Гёте был вынужден продать свою свободу. Ты же по сравнению с ним, особенно сейчас, — сам себе голова. Так спеши же, и в самом деле, пока у тебя есть средства, подарить тому, кого ты числишь в наследниках своего духа, своих свершённых и несбывшихся стремлений, все богатства мира, которые он возьмёт с собою в путь. Кто знает, может, поездка в страну Везувия станет для него той вершиной, с которой ему откроется подлинная красота, выше которой ничего нет и не может быть в целом мире.
22
Как ни подготавливаешь себя к встрече с неведомым, действительность тем не менее превосходит твои представления. И дело не только в том, что Италия оказалась во много раз ярче, восхитительнее, роскошнее, чем мог себе представить Алёша по книгам, но, кроме всего прочего, в некотором смысле предстала вовсе не такой, как думалось.
К примеру, Венеция. К ней Алёша с маменькой и дядюшкой подъезжали рано поутру. Гондола легко скользила по морской глади, освещённой щедрым весенним солнцем. Казалось, сам воздух был напоен запахом цветов и моря, пронизан искрящимися серебристыми и золотистыми нитями света — так отражались солнечные лучи от изумрудной, слегка колышущейся поверхности воды.
Вдруг на горизонте показалось что-то ослепительно белое. Затем белый цвет как бы растаял, и его место заступили терракотовые, розовые, фисташковые, жёлтые, малиновые оттенки. Это из общей массы строений стали отчётливо проявляться дворцы и виллы Венеции, одетые в мрамор и гранит чуть ли не всех цветов радуги.
Гребцы искусно направили гондолу в один из каналов — довольно узкий и длинный, который наконец привёл в канал Гранде. Парадные двери многих домов выходили прямо к воде. Что ж, Алёша был уже готов к принятию такой особенности города — вся Венеция стоит на каналах, и здесь, чтобы попасть из дома в дом, обязательно требуется лодка. Но какова же оказалась неожиданность, когда Алёша увидел, как люди проходят с улицы на улицу по узким пешеходным дорожкам, проложенным вдоль домов! Конечно, не к каждому зданию можно добраться посуху, к иным — только на вёслах, однако открытие это явилось первой поправкой к знаниям Алёши.
Другое, что поразило его и что он не мог почерпнуть из книг, был способ посадки в гондолу.
Узкая и длинная лодка, посредине которой маленькая будочка, обитая чёрным сукном, причалила к месту, где вы её ожидали. Что же теперь? Как и подобает настоящему мужчине, надо проворно спрыгнуть в лодку и тут же подать руку даме, помогая ей сойти вниз. И снова — нет! Пол гондолы сделан из очень тонких досок, и ваш прыжок, увы, может окончиться печально — вы пулей пойдёте в воду, проломив днище.
Входить в лодку поэтому следует осторожно — словно пятясь. И задом, потому что в противном случае нельзя будет обернуться, чтобы сесть на скамейку, оттого что будка очень узка. В ней могут разместиться четыре человека: двое — на скамейке против гребня и двое — на боковых сиденьях; сверх того, есть ещё довольно места и вне будки.
Все эти неожиданные премудрости в первый же день пребывания гостям разъяснил чичероне Антонио Ре, оказавшийся весьма словоохотливым, расторопным и предупредительным гидом. Алёша тут же подумал, что при случае он обязательно именно его порекомендует путешественникам как одного из опытнейших и учёнейших путеводителей, коль скоро зайдёт с кем-либо речь о поездке по городу.
Антонио действительно много знал, умел образно и красочно обо всём рассказать, ибо он страстно был влюблён в свой город.
— Смотрите, смотрите, синьора и синьоры! Прямо перед вами — площадь Святого Марка, — живо и восхищённо произносил он, поворачивая свою красивую голову из стороны в сторону, — Обратите внимание на дома знати. Они увенчаны красивыми колоннами. За ними же возвышается неповторимый, изумительный Дворец дожей и богатая церковь святого Марка.
Несмотря на то что Антонио говорил быстро-быстро, Алёша почти всё понимал без труда и успевал переводить его речь маменьке и дяде.
Неужели всё это въяве, думал Алёша, поднимаясь по огромной мраморной лестнице, ведущей во Дворец дожей. Да, да, я читал: это Лестница великанов, получившая своё имя от статуй Марса и Нептуна. Теперь сии великаны — передо мною во всю свою колоссальную величину.
Бойкий чичероне Антонио куда-то неожиданно исчез и возвратился с высоким стройным и весьма молодым синьором:
— Хочу представить вас друг другу: знатные русские господа-граф Гримани.
— О, ваши предки, значит, были венецианскими дожами? — не сдержала своего изумлённого восхищения Аннет. — А мы из фамилии, которая некогда играла первую роль при императорском дворе.
— О! — в свою очередь изумился молодой граф, кстати не совсем уразумев туманные намёки знатной синьоры. — В таком случае буду польщён пригласить вас в мой палаццо.
Комнаты, куда ввёл гостей радушный хозяин, представляли собой подлинный музей. Дядя и Алёша только успевали переводить глаза с картин на скульптуру и со скульптуры на полотна. Здесь были произведения Тициана, Тинторетто, Леонардо да Винчи...
Одна скульптура особенно привлекла внимание — бюст смеющегося фавна.
— Работа великого Микеланджело, — так широко и открыто улыбнулся сам граф Гримани, что по его молодому лицу побежали морщинки, неожиданно сделавшие и его похожим на древние произведения ваятелей. Однако, в отличие от находившихся в покоях дворца многочисленных произведений искусства, это произведение природы было единственным, которое нельзя было купить. Всё же остальное — даже целиком свой дворец — наследник дожей предложил синьору Алексису Перовски приобрести по сходной цене.
— Жаль, очень жаль, что вы, отпрыск императорской фамилии, — переводил Алёша странную речь синьора, — не хотите приобрести это чудо на берегу Гранде-канала. Вы стали бы ещё более знамениты в своей далёкой северной стране как обладатель самой древней в мире красоты. Ну что ж, в таком случае гостям из России можно предложить каждый шедевр в отдельности.
Синьор Гримани не мог не заметить, как жадно впились глазами в скульптуру фавна Перовский и его племянник, и он тут же выудил из какого-то ящичка пергамент.
— Не извольте сомневаться, высокочтимые синьоры, сей документ удостоверяет подлинность резца Микеланджело, — развернул он свиток.
Голова фавна, молодого лесного бога, была чуть более натуральной величины, и сколько подлинного чувства, экспрессии было в этой скульптуре!
Дядя тут же заключил торг. Кроме фавна, он приобрёл много других произведений — между прочим, среди них портрет дожа Антония Гримани во весь рост, писанный бесподобным Тицианом.
— Однако прошу вас соблюсти одно маленькое условие, — провожая гостей до дверей, произнёс продавец-граф. — Хотелось, чтобы вы, досточтимые синьоры, распорядились перевезти от меня покупки в гостиницу ночью. Я, между нами говоря, не очень расположен к тому, чтобы о моей бедности распространялась вся Венеция...
Алёша не мог дождаться того момента, когда фавн окажется в отеле, где они остановились. Когда мраморную голову установили на полу в его комнате, он стал плясать вокруг неё от восторга, бить в ладоши, а потом лёг рядом, не в силах оторвать взора от шедевра, равного которому orf не видел даже в Зимнем дворце в Петербурге.
«Неужели это я вместе с дядей теперь обладатель бесценного сокровища!» — не мог успокоиться Алёша. Но вместе с восторгом возникало какое-то другое, прежде незнакомое ему чувство тревоги и вспоминалось лицо молодого Гримани, распродающего фамильные ценности. Но он, Алёша, ещё не мог определить своё новое состояние, не знал, как назвать ту тёмную тучку, что пробежала по лучезарному небосводу.
Где только не побывали они в Италии и наконец приехали в Рим.
Ватикан, Дворец кесарей, Коллосей, как в ту пору именовали Колизей, — всё это надо было осмотреть, впитать в себя на всю жизнь. Но особенно — это заметил Алёша — дядя однажды несказанно обрадовался, когда знакомые русские сказали, что здесь, на виа Сан-Клавдио, живёт и работает Карл Брюллов.
Коренастый и белокурый, быстро переходящий из одного состояния в другое, Брюллов принял соотечественников радостно. Ещё бы — брат и сестра Василия Перовского в Риме!
Невольно ему вспомнился далёкий уже 1824 год, когда молодой и общительный русский полковник впервые появился в его студии. Лицо офицера, исполненное мужества и вместе с тем глубоких чувств и раздумий, тут же привлекло внимание живописца:
— Моё воображение видит вас на коне и в эполетах генерала.
— Полно, Карл, — открыто рассмеялся Василий Алексеевич. — Эполеты пока мне не дали и, может статься, вовсе не дадут. Я — как бы вам это объяснить? — в душе карбонарий. Так что лучше писать меня в штатском. К примеру, в широкополой крестьянской шляпе и такой же простой рубахе на фоне виноградников.
Так и написал тогда Перовского Карл Павлович. А затем, после поездки в Неаполь, Василий вновь появился в мастерской, и не один — с графиней Марией Григорьевной Разумовской, вдовой своего дяди графа Льва Кирилловича. Вместе они ездили в Помпею, и графиня готова была заказать живописцу картину о той трагедии, которая много веков назад разыгралась у подножия Везувия.
Вслед за Марией Григорьевной Василий Перовский так красочно и талантливо рассказывал о посещении остатков древнего города, что Карл невольно заслушался.
— Понимаете, прошло семнадцать столетий, — вдохновенно говорил гость, — а я вновь хожу по безлюдным храмам, театрам, площадям, где ходили они, жертвы катастрофы. На сохранившейся стене — табличка: дом Марка Ария Диомеда. Двор, навес, мозаика. Вместо штукатурки — гладкость мрамора. И — всюду скульптуры. Они — искусство для всех! Общественные деяния в древнем мире всегда ценились выше личных, и каждый член общества принадлежал более обществу, нежели себе. Потому храмы, театры, ту же скульптуру на площадях воздвигали раньше своих, частных домов...
Карл мерил пространство студии нервными шагами, лицо его будто окаменело, внимая необычным мыслям русского друга. А ведь в самом деле можно создать полотно о величайшей трагедии и одновременно о великом триумфе человека, думал он. Молнии, грохот, падающие дома... А на переднем плане, к примеру, фигуры сыновей, в этот страшный момент спасающие своего отца. И тут же молодой человек, на руках которого невеста. В центре огромной группы — знатная особа, упавшая с колесницы. Вокруг — драгоценности, которые сейчас уже не дороже пепла...
Картину ему заказал другой вельможа — Демидов, когда окончательно созрело решение. Художник быстро расставил на полотне фигуры и пропачкал холст в два тона. Но за те две недели он так истощил свою нервную систему, что силы его окончательно оставили и он надолго уехал из Рима в Милан — лечиться. Теперь он вновь вернулся в свою мастерскую и собирался приняться за работу.
Чуть ли не целых десять лет прошло с той поры, как Карл с братом Александром, рисовальщиком и архитектором, после окончания Петербургской академии художеств выехали в Италию для совершенствования мастерства. Теперь их тянуло домой, в Северную Пальмиру. И братья считали праздником, когда оттуда приходили письма от близких друзей, в том числе от Василия Перовского. Он писал Карлу: «Ты и он — такие ребята, что мне жаль, что я не отец ваш или, по крайней мере, не общество... Целую тебя и люблю по-прежнему, то есть очень...»
Братья Брюлловы жили на крохотные пожертвования общества поощрения художников. Но от Василия Алексеевича шли в Рим денежные посылки — как сыновьям от отца или, лучше, от старшего брата.
Русские в Риме уже знали о тяжёлом ранении Василия Перовского и о том, что он стал генералом.
— Обнимите, Алексей Алексеевич, горячо вашего славного брата и моего друга, когда возвратитесь домой, — сияли глаза Карла. — И передайте: теперь-то я обязательно напишу его на коне, как когда-то обещал! Скоро ведь мы с Александром возвратимся домой.
Аннет держала на руках крохотного мопса, которого недавно купила — ей чуть ли не каждый день приводили в отель собачек по её объявлениям.
— А как вы напишете меня? — обратилась она к живописцу. — Я покажу вам платья, которые я недавно приобрела, и надеюсь, что мы с вами выберем из них достойный меня антураж. Кстати, прошу запросто бывать у нас здесь, в Риме. Мы будем ждать вас к обеду и ужину.
Однажды за чаем в гостинице Брюллов взял Алёшин альбом и оставил в нём свой карандашный рисунок.
Дядя Алёша похвалил набросок и сказал:
— Приедете в Россию — милости прошу к нам, всё равно, будете ли вы в Петербурге или в Москве. Не хочу быть назойливым, но считайте три наших портрета вам заказанными.
23
Перо споткнулось, и там, где он только что вывел слова «Ваше императорское величество», растеклась чёрная клякса. На лбу мгновенно выступила испарина, во рту ощутилась жёсткая, наждачная сухость, и так мелко, трусливо задрожали руки, что он в изнеможении откинулся на спинку кресла.
Тут взгляд его острых, как буравчики, глаз узрел, какую бумагу он использовал для письма, и ахнул.
Боже праведный! Прости мне великое святотатство — начал послание на высочайшее не на гербовом, как положено, листе, а на самом что ни есть захудалом типографском срыве! И как оказался на конторке этот несчастный клочок? Вестимо, писался черновик, но всё едино — как на такой шершавой, грязно-серой бумаге, которую в типографиях используют лишь для пробного тисканья набора, он осмелился выводить священную вязь слов: «Ваше императорское величество, верноподданнически имею честь донести...»?
Огромным фуляровым платком промокнул лоб, затем розовую лысину. Мысленно повторил последнее слово... Да разве ж то донос, о чём он хотел поставить в известность верховную власть? Лишь преданно, из-за одной любви к судьбам российской словесности и особливо в видах процветания государства Российского, довести до высочайшего внимания...
Стиль! Надо тщательнее обдумывать стиль, когда берёшься за перо. Как говорится, семь раз в уме обкатать словесный оборот, прежде чем вынести мысль свою на бумагу. Я же в усердии высказать правду в глаза, выразить дельную и нужную сентенцию иногда пренебрегаю плавностью речи и выбором наиточнейших слов.
Но надо ж, этот придворный счастливец Жуковский, сказывают, посмел кому-то из своих друзей написать в письме: «Булгарин — это какой-то восковой человек, на которого разные обстоятельства жизни положили несколько разных печатей, разных гербов, и он носится с ними, не имея ничего своего».
Каково, а? Однако дальше-то, дальше: «У него что-то похожее на слог — и, однако, нет слога, что-то похожее на талант — и нет таланта, что-то — на сведения, но и сведений нет».
И сии слова обо мне, авторе «Ивана Выжигина», кем зачитывается вся Россия — от чиновников больших городов до купцов и станционных смотрителей, кои вчера лишь научились грамоте?
С одним могу лишь сравниться — с Карамзиным. И то имея в виду «Историю», а не слезливую «Бедную Лизу». Нет уж — таких, в прежнем духе, сентиментальных героев нам, русским людям, и задаром не нужно! Прежние герои — приторны. Отчего? От совершенства, в котором их представляли. Это ангелы, а не живые человеки. Я же впервые вывел на сцену персону живую, как она есть в действительности. Люди несовершенны, не надо и рисовать их благонамеренными. К тому ж обыкновенная жизнь, она не богата событиями выдающимися, посему и не след насиловать правды. Человека со всеми его пороками — вот что нужно иметь предметом литературы, а не девическую чувствительность.
Ни одно сочинение не могло с моим «Выжигиным» поспорить, а тут вышла «Монастырка». Будто в насмешку над моим героем во плоти — кисейная барышня, институтка. Сочинение господина Антония Погорельского, то бишь Перовского Алексея. Ну, ясное дело, роман этот на щит — и против меня. Сразу по выходе так и пропечатано: «Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов...» И вслед за тем на разные лады пошёл автор это произведение склонять: «В романе его, истинном романе нравов и общежития, мы не хотим нидеть китайских теней, которые проскользят и пропадут без вести...»
Известно, у кого «китайские тени», и ясно, почему автор сей статейки в «Литературной газете» князь Вяземский Пётр Андреевич защищает Алексея Перовского — одна шайка, то бишь одна сплочённая супротив меня партия вкупе с её вдохновителем, всесильным ныне Жуковским.
Разгорячился. Даже почувствовал, как жар проступил на щеках и темени, отороченном вокруг пушком-венчиком. Это оттого, что мысль от Жуковского вдруг скакнула к фигуре, которую держал напоследок, в запасе, как бы вдали, как резервное войско за некими холмами.
Что перед сей фигурой сам Жуковский — так, тряпица слюнявая! А он — ого! — Феофилакт Косичкин!
Неведома сия персона? Погодите, открою секрет, кто в «Телескопе»[39] скрывает свой мерзкий лик за балаганным прозванием. А пока — образчик его ядовитого красноречия: «В самом деле, любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений г-на Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картёжной игре и тому подобному. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него — Ножевым, взяточник - Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч.».
Пушкин, Пушкин сокрыл свою физиономию за разудалым именем Феофилакта Косичкина! Что-что, а уж это он, Булгарин, точнейшим образом определённо разузнал...
Согласен, у каждого литератора могут быть огрехи, что-то — художественно, а что-то — слабо. Так ты — открыто, по-дружески, а не так — чтобы подло, из-за угла!
Разве я сам когда-нибудь кривил душою? Заповедь моя: всё — гласно, всё честно! И о Перовском-Погорельском — одни благожелательные слова. Да вот, вслед за лестным мнением о его книге «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», в той же «Северной пчеле» — о его романе: «В «Монастырке» представлены обыкновенные случаи жизни, характеры, кажется, знакомые, рассуждения, слышимые ежедневно; но всё это так мило сложено, так искусно распределено, так живо нарисовано, что читатель невольно увлекается».
К тому же в моих словах — никакого противопоставления «Монастырке» моего «Выжигина» или, положим, «Фёдоры» Сумарокова. Пусть все эти сочинения существуют рядом и вместе составляют по праву гордость нашей словесности. Ан нет, оказывается, имеются критики, которые и мои, и других писателей сочинения и на порог беллетристики готовы не пустить! Вот Сомов в «Северных цветах» — с издёвочкой и иронией сделал следующее замечание на различие в воспитании лиц в наших русских романах. «Монастырка», — сообщил он, — воспитана в обществе благородных девиц, Фёдора — в кабаке, а Иван Выжигин — в собачьей конуре».
Тьфу! И это литераторы российские, готовые впрямь по-собачьи вгрызться собрату в горло! Где ж благородство, служение идеалам добра и совести, где, скажите, самая малая людская порядочность?..
Белизна чистого и гладкого, как слоновая кость, с гербовыми знаками листа звала, манила. Однако стоило опустить перо в чернильницу, как боязнь разливалась по телу противной дрожью — казалось, ни в жизнь ему, Фаддею Венедиктовичу, не вывести тех высочайших слов, что сверлили мозг.
А может, вовсе не на высочайшее? — обожгла мысль. Вдруг да не под настроение? Это такое может произойти!..
И услужливый мозг тут же подсказал адресат, по которому только и следовало доносить, то бишь сообщать то, что считал первоочередным и необходимым, — его превосходительству генерал-адъютанту Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
Перо побежало по бумаге: «Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: Жуковский и Алексей Перовский — за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии».
О Пушкине — пока цыц! Достоверно известно: император недавно поручил ему создать историю Петра Великого и за то велел положить новоявленному историографу шесть тысяч Рублёв годовых. Правильно ещё в пору его прощения государем поговаривали: второй Карамзин. Так что пока повременим, выждем с Феофилактом — как его там? — Косичкиным. Не уйдёт, дотянемся! Как говорится, за ушко — вернее, за косичку — да на солнышко...
А впрочем, сдаётся по всему — не жалует Александр Христофорович сего шалопая, из коего всякие Жуковские с Перовскими сотворили себе кумира. Так что по обстоятельствам, по обстоятельствам, Фаддей Венедиктович... Можно и его, сердечного, присовокупить...
Рука у Булгарина была вялая и потная. Это Александр Христофорович ощутил, принимая протянутую бумагу, и потому тут же, незаметно для посетителя, вытер под крышкой стола каждый палец специально имеющимся для сих целей носовым платком.
Шеф Третьего отделения его императорского величества канцелярии был человеком с убеждениями и отменного воспитания и уважал в людях, в том числе в сочинителях, в первую очередь благородство и высокое понимание чести.
Впрочем, на сих постулатах — чести, совести и высочайшей нравственности — он, ещё при императоре Александре, предложил учредить в России по французскому образцу жандармскую службу как мозг и сердце нации. Да, да, убеждал он государя, для внедрения этой, на честных началах основанной, отрасли соглядатаев следует подбирать людей совестливых, смышлёных, почитающих превыше всего интересы народные, выгоды граждан беззащитных, человеков обделённых и страждущих.
Александр Христофорович так умел внушать разработанную им программу, что многие сперва далёкие от его идей люди вскоре начинали считать его внушения мыслями уже своими собственными.
Да вот, к примеру, полковник Дубельт Леонтий Васильевич. После четырнадцатого декабря он чуть не загремел в кандалах в рудники, но был высочайше прощён. Однако слушал излияния Александра Христофоровича и млел. А выйдя от него, тут же написал жене о своей решимости посвятить жизнь служению новоявленным высоким целям.
Знал: даже родная жена может отвернуться брезгливо от одного упоминания мужем его связей с жандармерией, посему каждую фразу письма к ней насыщал высокостью мыслей, внушённых другом-генералом.
«Ежели я, — спешил уведомить жену будущий начальник штаба корпуса жандармов, правая рука Бенкендорфа, — вступая в сие предприятие, сделаюсь сам доносчиком и наушником, тогда доброе моё имя будет конечно же запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорою бедных, защитою несчастных, ежели я, действуя открыто, буду заставлять себя отдавать справедливость угнетённым, тогда я на деле стану тем, кем и помышляю быть, — государственным мужем, пекущимся о благе отечества и государя».
Сию программу нового учреждения Александр Христофорович рисовал когда-то перед Сергеем Волконским, надеясь его видеть в своём кругу, позже разворачивал перед многими умными и достойными офицерами.
Александр не понял затеи Бенкендорфа, зато Николай её принял, подарив шефу жандармов в качестве символа голубой платок, коим следовало утирать слёзы обиженных, просящих защиты у нового учреждения...
Гм, хорошо прошение — форменный донос, дочитав до конца протянутую бумагу, брезгливо подумал Александр Христофорович и снова нервными аристократическими пальцами нащупал в ящике стола платок. Однако Фаддей Венедиктович — фигура известная. Начал, кажется, с того, что выдал Кюхельбекера или кого там ещё из тех, декабристов? Ему же, Александру Христофоровичу, памятен тем, что услужливо взялся секретно цензуровать привезённого Пушкиным из ссылки и представленного для передачи царю «Бориса Годунова». Ловко, шельмец, постиг пагубную суть драмы, помог наложить на неё запрет. Да и теперь проницатель не из последних. Во всяком случае, если внимательно читать издаваемую им «Северную пчелу», можно по одним лишь статейкам выписывать распоряжения на арест иных литераторов.
Меж тем не похвально так вот: со всякими личными неладами — да в крик... Как недавно о нём высказался Жуковский в разговоре с самим государем императором? «Не одобряю того торгового духа и той непристойности, какие господин Булгарин ввёл в литературу. Таков и его роман «Выжигин», который я не мог дочитать до конца из чувства отвращения. О сих качествах романа и самого, с позволения сказать, сочинителя я прямо и без обиняков высказал самому Булгарину в лицо, за что он, до этого передо мною расстилавшийся, стал меня ненавидеть».
Изящную словесность Александр Христофорович, честно говоря, не почитал. Знал, что не очень ценил сей предмет и Николай Павлович, особенно в свои юношеские годы. Правда, с некоторых пор, как говорят, после сердечной беседы с братом-императором, который сравнил поэзию с зовом полковой трубы, он несколько изменил своё мнение. Что ж, верно, способствовал тому и Жуковский, взращивающий чувство прекрасного в сердце супруги-императрицы, а ныне и в душе наследника престола.
Касательно же сочинений господина Булгарина и господина Алексея Перовского, подписывающегося именем Антония Погорельского, генерал, по наущению окружающих, в сии издания заглянул и даже прочёл отдельные места. «Выжигин» поразил, откровенно надобно сознаться, грубостью и непристойностью — тут, наверное, прав Жуковский. В «Монастырке» же некоторые описания, наоборот, показались приятственными.
Генерал встал, чтобы пройтись к окну и что-либо припомнить из сего сочинения. Однако когда он поднялся, угодливо тотчас вскочил со своего места посетитель — крупноголовый, крепко сбитый в фигуре, но в то же время напоминавший что-то рыхлое и сдобное. Жестом генерал остановил Булгарина и глянул на небо, затянувшееся к дождю. В памяти в сей миг и возникло подобное место, которым, кажется, и начинается роман: «Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый чёрными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтоб затормозить колесо...»
Как там было дальше, Александр Христофорович не помнил, да и не в слоге было дело, а в том, что в сём сочинении юная, благородная героиня, воспитанница Смольного монастыря или, иначе, института, возвращается после окончания своего образования из Петербурга в родные малороссийские края, где её ожидают многие неприятности и ухищрения нечестных людей, но люди добрые, совестливые её выручают.
Мотив был близок мыслям самого шефа жандармов и начальника Третьего отделения, ибо он был руководящим, пронизывающим всю его многотрудную деятельность. Чего же хочет доноситель от человека порядочного и добродетельного, всегда брезгливо подающего руку тем, кто намеревается свести личные счёты с соперниками, прикрываясь высокими целями? Я знаю Перовского Алексея, хотел возразить генерал, но вовремя себя остановил. А что, если к фамилии этой да приставить другое имя, Василий, например? — почему-то подумал он.
Гм, «партия», сообщает Булгарин. А разве не считает этот, увы, любимец государя, новоиспечённый генерал Перовский, что он — иной, чем мы, «партии»? Зазнайство, высокомерие, презрительность к тем, кто служит государю не за страх, а за совесть, так и начертаны на его лице. И разве не в пику иным, преданным императору, он кинулся в огонь, под пулю? Ныне же, снова бросая всем вызов, требует себе дело, отличное от службы дворцовой...
Впрочем, не следует одно имя подменять другим — яблоко от яблочка... — переиначил пословицу Александр Христофорович. Один — фрачный, второй — фрунтовой генерал, но тоже, как старший братец, балуется сочинительством. Так что о яблоках — верно. Правда, сии яблочки ещё на ветках... Но кто ведает, не сорвутся ли?
— Фаддей Венедиктович? — Бенкендорф всмотрелся в круглое, лоснящееся, чуть склонённое набок в предусмотрительности ожидания лицо посетителя. — Сия бумага будет оставлена для сведения. Вы же, смею думать, весьма правильно поняли главный принцип нашего учреждения — служить не тайным, всеми презираемым целям, а иметь заслуженное почитание и уважение общества именно своею открытостью, благими намерениями и бескорыстной помощью граждан содействовать распространению блага в государстве.
Фраза показалась Бенкендорфу длинной и витиеватой. Но он тут же подумал: пусть те, сочинители, пекутся об изяществе слога. Его предназначение — дело. А дело может и завязаться. Только с ним, делом этим, не суетиться, не спешить.
24
Коляска подкатила к самому приметному во всём Оренбурге дому, занимаемому военным губернатором, и из неё не вышел, а скорее проворно выскочил худощавый, среднего роста, налицо смуглый, с тёмными курчавыми волосами пассажир. Он тут же взбежал на крыльцо, повелительно отстранив стоявшего на часах солдата, и прошёл по коридору в приёмную. Осмотрелся: бархатный диван с золочёными ножками, чистые, строгого рисунка обои, белая дверь в генеральский кабинет, а возле неё за огромным письменным столом — показавшийся на миг то ли растерянным, то ли смущённым стремительностью гостя долговязый, носатый чиновник.
— Батюшки, да неужто вы, Александр Сергеевич, так нежданно-негаданно? — встал навстречу. — Вот уж, как говорится, счастье — на крыльях...
— Даль? Владимир Иванович? — теперь изумился Пушкин. — Ну конечно, это вы — Казак Луганский.
Всего каких-нибудь четыре месяца назад не успел известный собиратель старины, писатель и языковед, а по первой своей профессии врач выпустить книжку «Русские сказки Казака Луганского», как тотчас угодил в застенок Третьего отделения. Булгарин свершил то дело — доложил Бенкендорфу: «Насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат...»
Случайно узнали об аресте автора, а заодно и книги, уже поступившей в продажу, Жуковский с Пушкиным и Алексей Перовский, а через них — Василий Перовский, три недели тому назад назначенный оренбургским военным губернатором. Как уж действовал он, генерал-адъютант, — ясно, не через Бенкендорфа, а через самого императора, но в течение одного дня доктор Даль был вызволен из каталажки и тут же, с его согласия, переименован в коллежские советники и назначен чиновником особых поручений при канцелярии оренбургского военного губернатора.
Губернатор тронулся к новому месту службы в мае, Владимир Иванович же испросил позволения задержаться на полмесяца — женился...
Белая, с узорчатой резьбой дверь растворилась, и красавец генерал раскрыл объятия:
— Саша!..
Как тесен мир, наверное, подумал каждый из них в сей волнующий момент. Помнится, провожали друга-генерала, обещались: приедем в гости. Пушкин завидовал: Жуковский уже в Европе побывал, Алексей Перовский — тоже, у Василия — с юных лет Франция, потом Германия, Австрия, Италия, недавно на турецкой войне — чуть ли не Константинополь... В двадцать пятом году из Михайловского написал Жуковскому: «Вижу по газетам, что Перовский у вас. Счастливец! он видел и Рим и Везувий». Сам же до сего дня, считай, передвигался на казённый счёт только внутри России. Нет, весной двадцать девятого на собственный страх и риск приневолил себя к поездке в Арзрум, чем вызвал недовольство Бенкендорфа и государя. И вот теперь, с их благословения, на законных основаниях — вдоль по матушке по Волге и далее за реку Урал собирать сведения для написания истории Пугачёвского бунта.
В Симбирске глянул на ту сторону Волги — сухие пески и степи, на которых пасутся табуны лошадей. Среди речей заезжих москвичей и ярославцев — языки татарский, чувашский, киргизский... И уже здесь впервые в жизни увидел длинный и пыльный караван верблюдов, на улицах толпы людей в ярких азиатских халатах, тюбетейках и чалмах. Джигиты — в шапках с длинными перьями, молодые девушки в камзолах невиданной небесной голубизны, расшитых позументами, на головах — сооружения из кораллов и золотых блях, девичьи косы змейками, разукрашенные серебряной чешуёй монет...
— Если Петербург — окно в Европу, то Оренбург — в Среднюю Азию, — говорил, потчуя гостя за столом восточными сладостями и казацким обедом, генерал Перовский.
Далю не терпелось заполучить поэта в своё распоряжение, чтобы показать всё, что пожелает.
Перовский подшучивал:
— Александр, ты не поверишь, что Владимир Иванович здесь за какую-нибудь пару месяцев успел обскакать почти весь край. А сколько собрал пословиц для своего словаря! Говорят, что их у вас, Владимир Иванович, несколько тюков, так что впору возить целому верблюжьему каравану.
Чувствовалось: военный губернатор был доволен своим чиновником, лучшего помощника себе он и не мог бы сыскать в столице. Сразу же по приезде Василий Алексеевич вручил Далю бумагу за своею подписью: «Состоящему при мне чиновнику особых поручений коллежскому советнику Далю... Предписываю исправникам, городничим, кантонным, дистаночным, султанам и прочим частным начальникам, горнозаводским, гражданским и земским полициям и сельским начальствам оказывать всякое содействие, по требованию его доставлять без замедления все необходимые сведения, давать потребное число лошадей и в случае нужды из башкирских и казачьих селений рабочие и конвойные команды».
Ещё из Казани 8 сентября 1833 года Пушкин писал жене: «Здесь я возился со стариками, современниками моего героя; объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. Погода стоит прекрасная...»
Теперь, спустя десять дней, он с утра ехал с Далем по городу, который когда-то Пугач хотел взять штурмом, а затем измором.
С двух сторон Оренбург опоясан реками: с севера Сакмарой, с юга Уралом. Крестьянский вождь рвался к крепости с северо-восточной стороны — между Орскими и Сакмарскими воротами. Даже теперь, спустя шестьдесят лет, здесь можно было углядеть подкопы, которые пугачёвцы вели к городским стенам.
Коляска повернула к Форштадту — предместью, где возвышалась Георгиевская церковь. Владимир Иванович, показывая на колокольню, пояснил, что сюда по приказанию Пугачёва была поднята пушка, чтобы стрелять из неё по городу.
— Недавно помер священник, который рассказывал мне, как мальчонкой бегал по улицам собирать медные пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов вместо картечи, — сказал Владимир Иванович.
Вдали показалась так называемая Зауральская роща. Оттуда самозваный царь направил по льду своё войско, чтобы ворваться в город.
История повсюду обступала поэта, он то и дело поворачивал голову в указываемом Далем направлении, несколько раз выскакивал из экипажа, чтобы пройти по земле, помнящей тяжёлый топот народных полков, слышавшей клики казачьего и крестьянского гнева.
Страсть как хотелось самому Перовскому отправиться в поездку с петербургским другом, но какая, скажите на милость, окажется та экскурсия, если перед ним, генералом, все встречные и поперечные будут тянуться навытяжку и никто не посмеет раскрыть рта, чтобы произнести человеческое слово. Пушкину же надо, чтобы людская душа раскрывалась перед ним без оглядки на царские чины, чтобы острым и смачным словом проступала натура, характер собеседника. Тут Даль с его пословицами и прибаутками — бесценный сотоварищ. В Уральск же послана эстафета казачьему атаману Василию Осиповичу Покотилову — на возвратном пути принять поэта по-народному: угостить обедом и свежей икрой, свести с людьми звания простого...
Теперь же правили в Бердскую слободу — бывшую столицу самозваного батюшки государя, что отстояла за семь вёрст от города. Но, ещё не выезжая за заставу, остановились у крепкого, крутобокого дома на прочном каменном фундаменте.
— Вперёд людей не забегай, а от людей не отставай, — промолвил Даль, в своей манере объясняя причину остановки, и подвёл гостя к крыльцу, на котором стоял круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях офицер в эполетах инженер-капитана. — Знакомьтесь, Александр Сергеевич, это директор военного училища Артюхов Константин Демьянович. Как говорится, пар костей не ломит, посему милости просим в казацкую баньку.
В бане, куда вошли, все стены были увешаны литографиями на охотничьи сюжеты — хозяин оказался страстным стрелком. И даже талантливо представил, как ведёт себя иная птица, когда её поражает ружьё.
— Самая благородная дичь — вальдшнеп. И представьте себе, даже умирает красиво, не то что утка. Та, будучи подстрелена, свалится боком, как топор с полки, бьётся, валяется в грязи, кувыркается через голову — и жалость, и срам смотреть. Вальдшнеп же только раскинет крылья, голову набок — замрёт на воздухе, умирая, как какой-нибудь Брут или сам кесарь.
Чего он тут не узнал, о чём не наслышался за короткую остановку в парилке! И о российском бездорожье заговорили, которое испытал поэт, добираясь сюда, и о верблюдах — владыках здешних песков, и о местных народах, в гуще которых смешались, должно быть, все восточные языки.
Инженер-капитан знал немало об истории и обычаях здешних людей, но Даль, местный житель без году неделя, и его превзошёл — так и сыпал восточными словесами.
Пушкин вынул записную книжку, карандашик. Аманат — записывал на всякий случай — означает: заложник, бешмет — стёганка, буран — вьюга, бязь — азиатская ткань, камча — нагайка, майдан — площадь, малахай — шапка, мурза — князь... Халат, халва, хан... — рука устала заносить на страницы слова. Но знал: где-то вынырнет какое-то речение в будущих повествованиях, которые задумал, из-за которых и предпринял путешествие на край света. Но дальше, дальше надобно ехать! Айда! Так, кажется, звучит на одном из местных наречий призыв подняться и направиться в путь?..
В Берде остановились возле «Золотого дворца». Изба просторная, на шесть окон, со двора вид на Сакмару. А называлась изба когда-то по-царски потому, что в ней жил сам Пугачёв, а стены внутри были обиты золотого цвета бумагой.
Пушкин — сюртук на всех пуговицах, сверху шинель суконная с бархатным воротником, сам чёрен, на пальцах перстни, а ногти длинные, острые — вошёл в избу не сняв поярковой шапки, не перекрестившись на образа. Мужики и бабы переглянулись — не антихрист ли? А когда каждому старику и каждой старухе подал по серебряной монете и спросил, помнят ли они Пугачёва, многие растерянно переглянулись и побелели: неужто на смуту пришёл подбивать?
Одна, лет семидесяти пяти, казачка Бунтова, на вопрос ответила уклончиво:
— Видала. Нечего греха таить, моя вина.
— Какая же это вина, что знала Пугачёва? — засмеялся гость.
— А и правда твоя, батюшка, вины никакой нету. Как теперь на него гляжу, — ободрилась старуха. — Мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода русская, окладистая. Бывало, он сидит — на колени положит платок, на платок руку, по сторонам его енералы. Один держит серебряный топор, того и гляди, что срубит тебе голову. Супротив — виселица, а около — мы на коленях. Присягаем, да по очереди — он перекрестит тебя, ты ему ручку поцелуешь. А тем временем на виселице беспрестанно вздёргивают тех, кто не хочет в нём царя-батюшку признать...
Разохотилась казачка, вспоминала разное, что с девичьих лет запало в сердечко.
— В бою, баяли, Пугачёв был бесстрашный. Казак стал, помнится, его остерегать: «Ваше царское величество, не подъезжайте, не равно из пушки убьют», — «Старый ты человек, а не ведаешь, разве на царей льются ядра, которые их могут жизни решить?»
Постепенно, осмелев, в разговор вступили другие. Вспомнился бой под Татищевой — кровавое побоище. Вскоре после сражения разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина каждый день, прибредши к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: «Ты ли, Стёпушка, ты ли, моё детище? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?..»
По дороге в город Пушкин говорил Далю:
— Эх, Владимир Иванович, засесть бы вам за роман — какие вещи можно создать!
— Не моя планида, — ответствовал Даль. — Мои романы — словарь живого великорусского языка. А вот вы, вижу, с серьёзными намерениями. Гляжу на вас в избе: ноздри расширились, глаз остёр — точно коршуном на каждое меткое слово.
— Вы правы. Уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю, что ж будет в постели? Это моё обыкновение: проснулся — и тут же за карандаш... Эх, быстрее бы за работу!
Утром его разбудил громкий хохот:
— Александр, Саша! Ты только послушай, что пишет мне из Нижнего военный губернатор Бутурлин. Сейчас обнаружил на своём столе: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об Пугачёвском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете моё к Вам расположение; я почёл долгом Вам посоветовать, чтоб Вы были осторожнее...»
Теперь рассмеялся Пушкин, да так, что едва смог выговорить:
— И это он, Михаил Петрович, который меня по-отечески принимал? Ну, Василий, ты меня уморил!..
— Погоди. Слушай, какую резолюцию я наложил на сей бумаге: «Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г-на Пушкина отсюда, и потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моём доме, то тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических исканий...» Пусть бумага отлежится, а затем пойдёт по канцеляриям — к самому Бенкендорфу. Ручаюсь, его намёк — учредить за тобою и здесь полицейское око.
Пушкин вскочил с постели, босиком прошёлся по мохнатому ковру, отвесил шутовской поклон в сторону:
— Сердечная моя благодарность вам, ваше превосходительство Александр Христофорович, за то, что и на краю земли чувствую вашу заботу обо мне, недостойном рабе Божием Алексашке. — И, обращаясь к Перовскому: — А знаешь, Василий, это ж сюжет для повести или театра о нашем тупом чиновничьем мире! Возвращусь в Петербург, обязательно расскажу твоему брату Алёшке или ещё кому — пусть напишут. Понимаешь: всё настолько прогнило, разложилось, что каждый, будучи сам замаран, предполагает в другом одни лишь пороки и гнусности. Смешно можно расписать! Но как подумаешь — не до смеху. Не из-за лихоимства ли чиновников в губерниях — и возмущения крестьян против помещиков? Не из-за этого ль — и народная война Пугача?
Генерал — мускулы под белоснежной сорочкой налитые, стан гибок, волосы волнистые и усы как у молодца-гусара — ухмыльнулся:
— Байку одну тебе поведаю, слышанную от отца моего, а к нему перешедшую от его батьки — гетмана малороссийского, моего деда. Управляющий гетманских имений докладывает ему: «Ваше сиятельство, можно ли быть крестьянам вашим до такой степени неблагодарными — сотнями бегут в Новороссийский край! А вы ж к ним — как отец родной...» Гетман посмотрел на управляющего и усмехнулся: «Батько — хорош. Да матушка воля ещё лучше. Умные хлопцы — на их месте я бы тоже утёк...»
Вспомнилась вчерашняя старуха Бунтова. Нет, не всегда народ безмолвствует! Покорность его — с виду, как бы зола поверх углей. Да и безмолвие — не что иное, как отрицание власти. А уж налетит ветерок, раздует угли — и тогда, как здесь, под Оренбургом, не унять пламени... Догадался Василий Алексеевич, о чём задумался гость — сам подвёл его к сим раздумьям, которые и у него не выходили из головы. Сказал:
— Кажется, здесь я нашёл для себя настоящее дело — край с превеликим будущим. Однако чтобы развернулась настоящая жизнь, чтобы искоренить обман, воровство и мздоимство, пустившие корни и тут, следует приложить силы и таланты. Многие в Петербурге считают: в степи нужны лишь солдаты. Неверно! Край надо заселять, осваивать, изучать. Даль — первый из учёной команды, которую мечтаю набрать. Мне нужны инженеры и моряки для исследования Аральского моря, историки тюркских культур, знатоки восточных языков, художники. Может, поживёшь у меня — напишешь поэму? Что ж так — завтра и в обратный путь? Четыре месяца ведь отпустили тебе на поездку.
— Хочу выгадать, посочинять на свободе в Болдине. Осень — моя пора.
— А то оставайся. Хочешь — насовсем.
Прищуренный острый взгляд остановился на лице друга-генерала:
— Это — когда меня сюда царь-батюшка изволит сослать.
Вновь оба рассмеялись. Потом Василий Алексеевич — серьёзно:
— Когда я сюда направлялся, император подписал несколько чистых листов и вручил мне: «Будешь писать приказы моим именем...» Высокое доверие. Но мне бы хотелось — своим именем и своими замыслами... Между нами, я попросил у него позволения перевести из Кавказского корпуса в мой, Оренбургский, Александра Бестужева-Марлинского, с тем чтобы тот своим пером мог бы описать красоты и особенности здешнего края. Знаешь, что ответил мне император: «Я повелел его содержать не там, где перо его будет что-то описывать, а где он перестанет вовсе сочинять».
25
«4 апреля 1835 г. С.-Петербург
Могу писать к тебе только несколько строчек, любезное дитя. Тебе надобно будет непременно будущею зимою экзаменоваться в университете на степень кандидата. Узнай... подробно, в чём состоит этот экзамен, какие науки требуются по отделению словесных наук, какие в оном профессора и проч. Все эти сведения приготовь к моему приезду. Прощай, мысленно тебя обнимаю тысячу раз. Поцелуй у маминьки ручку...»
В дверях застыл одетый в новую малиновую ливрею камердинер, держа перед собою выходной, поутру лишь присланный от портного костюм.
Ах да, нынче понедельник, присутственный день в Архиве — сим старинном каменном шкапе, куда год назад совершенно поспешно его определила мама.
Хорошо хоть милый и добродушный старикан Алексей Фёдорович Малиновский[40] отвёл в неделю всего два обязательных дня — понедельник и четверг — и то, даже в оные священные дни, смотрит на посещение своих сослуживцев сквозь пальцы. Однако не станешь же манкировать подряд, вот и приходится вспоминать о своих обязанностях.
Малиновский же — душка, а не директор! К тому ж знающий русскую историю как самого себя, недаром был другом Карамзина, снабжая его списками редчайших документов из нашего прошлого.
Что же до старинных бумаг, право, увлекательное занятие — проникать в таинственные пласты древности, следовать за свершениями и подвигами достославных мужей отечества, становиться современником их раздумий и деяний. Приедешь подчас с неохотой, передёрнешь в неудовольствии плечами, проходя длинными и мрачными коридорами, от толстенных каменных стен которых веет холодком, пораскроешь какой-либо фолиант — и забудешь и этот холодок, и узкие окна, из которых слабо падает уличный свет, и запах слежалой пыли, идущий от папок и стеллажей. Но стоит вновь выйти из «каменного шкапа», проскочить глухим и кривым переулком на соседнюю Покровку, где давно уже ожидает тебя экипаж, — как живая жизнь обступит со всех сторон, и вновь чужой и постылой обернётся казённая служба.
Рассказывали, будто бы Пушкин метко окрестил зачисляемую сюда молодёжь «архивными юношами», которые одарены убийственной памятью, все знают и все читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтобы из них полилась всемирная учёность.
Обычно в Архив министерства иностранных дел, как именовалось это учреждение на окраине Москвы, зачисляли тех, кто кончал университет. Графа Алексея Толстого приняли сюда ещё до сдачи университетских экзаменов, которые он был намерен держать экстерном. Но что он должен сдавать — о сём в доме велись длительные споры. Дядя Алексей хотел, чтобы племянник готовил себя к экзамену на кандидата словесных наук, матушка же настаивала лишь на экзаменах, дающих право на получение служебного чина первого разряда.
Матушка совершенно была убеждена, что карьера Алёшеньки пойдёт в гору сама по себе после первого формального шага в университете и на плечах её сына засверкают позументами и орденами мундиры, один другого именитее и значимее.
Алёша же предпочитал вицмундирам одежду, которую уже сам заказывал себе на Кузнецком мосту у самых лучших французских, немецких и английских портных.
— Что, пора одеваться? — оторвался он от дядюшкина письма и, сбросив тонкий шёлковый халат, облачился в поданный ему костюм и оглядел себя в зеркало.
Сюртук серого цвета, сшитый слегка в обтяжку и с перехватом, сидел как влитой. Отлично выглядели и серые же с искрой, в тон, панталоны.
Он взял со стола тёмный галстук и повязал его вокруг шеи. Руки его были белы, с крепкими, как слоновая кость, ногтями, тончайшая белая кожа на лице отливала нежным румянцем.
Оставалось надеть чёрную высокую глянцевитую шляпу — и туалет следовало считать законченным.
Граф Алексей Толстой слегка улыбнулся своему отражению и изящным жестом снял с левого плеча едва приметную пушинку.
Ну-с, теперь он окончательно был готов к отъезду на службу. Ах, ещё тонкий лёгкий стек, и портрет молодого щёголя будет совсем закончен, добродушно, но всё же с определённой долей иронии подумал он о себе.
Ему шёл уже восемнадцатый год, и всё в нём носило печать отменного приличия и изобличало особу высшего общества. Но кроме всего, была в нём какая-то спокойная уравновешенность и открытое расположение к людям, что отличало его от многих сверстников.
Тем не менее юные годы брали своё. Посему, вспомнив ещё раз о письме дяди Алёши, он не мог не пошутить хотя бы про себя над дотошностью и настойчивостью родных. Ах, эта маминькина и дядюшкина заботливость и руководство! Ну разве нельзя, право, заменить кандидатский экзамен на экзамены на чин или вообще их не сдавать? Ну а коль это весьма необходимо, то лучше всего хлопоты перенести на следующий год — опять дала о себе знать надоевшая почти каждую весну лихорадка и ангина, из-за которых придётся, наверное, съездить в Карлсбад.
Впрочем, и заграница некстати. Отличная подобралась компания, с которой прямо на следующей неделе собрались ехать на боровую дичь. Куплены уже породистые собаки, выписаны призовые орловские рысаки, которые днями будут доставлены в Москву и за которых пришлось заплатить кругленькую сумму в несколько тысяч рублей.
Следом же — поездка под Петербург с наследником: егеря обложили берлогу с матерой медведицей, которую великий князь и он, Алёша, решили непременно взять вдвоём, без какой-либо помощи других охотников.
Наследник написал, что завершает экипировку, отдал приказание даже сыскать в столице лучших мастеров по выделке шкур. Но говорить «гоп» следует, когда перепрыгнешь. Меж тем заказать удобный и лёгкий костюм для схватки с сильным и лютым зверем необходимо, и как можно скорее. А тут, как назло, растрачены все деньги, которые выдали мама и дядя, осталась какая-то тысяча, если не меньше. Но из неё следует заплатить и за сегодняшние сюртук и панталоны, и парикмахеру за ежедневные завивки, ещё учителям — живописцу, флейтисту и тому, кто обучает игре на мандолине.
Он как раз проезжал по Кузнецкому мосту и, глядя на вывески, с неудовольствием вспомнил, что следовало бы вперёд внести плату за обучение бальным танцам. Не просить же снова у маминьки, которая днями сама собралась в Петербург и уже наделала массу покупок. Одна надежда на скорое возвращение дяди Алёши. Но как научиться самому разумно распоряжаться деньгами, чтобы их всегда хватало на всё?
Припомнились дядюшкины наставления на сей счёт, и особенно история с медалями, за которые он лет пять назад решил выручить деньги на карманные расходы. Дядя Алёша как раз уезжал в Петербург, и он попросил его продать там коллекцию. Дядя ответил длинным-предлинным письмом, вспомнить которое — и сейчас уши горят.
«Благодарю тебя, любезный Алёшка, за твои письма, — писал в тот раз дядя, — я чаще бы тебе отвечал, если б было у меня более времени; но я так занят, что едва нахожу время писать. Я просил маминьку, чтобы она тебе дала десять рублей в счёт медалей... До сих пор я не успел ещё их продать, потому что живу на даче; я тебе больше бы прислал денег... но у меня самого мало. Ты видишь, милый Ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги, оттого-то и говорится пословица: береги копейку на чёрный день! Когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам, а как пришёл чёрный день, т. е. нужда в деньгах, так у тебя их и не было! Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту: ты сам уже испытал, и не один раз, что когда ты купишь что-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдёт, и деньги истрачены по-пустому. Хорошо ещё, что случайно у тебя есть медали, а если бы их не было, ты бы и оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что ещё с тобою случиться могло бы! Например, ты истратишь свои деньги на пустячки, которые надоедят тебе на другой же день: вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которою нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтоб согреться в холодную зиму, и к тому ещё дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль — и Бог велит помогать ближнему, — но у тебя нет ни копейки! Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог бы избавить его от несчастия, когда бы накануне не истратил деньги на пустяки!.. Прощай, поцелуй у маминьки ручку и будь умник. Стихи, которые ты сочинил на день рождения маминьки, я получил, но они не хороши, хуже всех других, которые ты писал».
Теперь ему, слава Богу, не двенадцать, а уже полных семнадцать лет! Не мальчик. Меж тем для дяди — всё ещё «любезное дитя».
Ныне, когда навсегда оставлена служба, можно с определённостью признаться, что просвещенческая жилка прорезалась в нём, Алексее Перовском, во многом под влиянием забот, связанных с воспитанием Алёшеньки.
Не его, Перовского, вина, что не сошлись взгляды государя и его собственные на развитие школ и университетов, как, впрочем, далёкой от воззрения Николая Павловича оказалась и пушкинская записка «О народном воспитании».
Собственная оценка философии, а главное, явное нежелание принять участие в расправе над преподавателями сего предмета в Нежинской гимназии высших наук явились началом охлаждения служебного пыла у харьковского попечителя и председателя училищного комитета. Дальше — больше.
После щедрых обещаний перемен Шишков получил от императора рескрипт, который следовало положить в основу реформ в народном просвещении: «Александр Семёнович. Вам известно, что, почитая народное воспитание одним из главнейших оснований благосостояния державы, от Бога мне вручённой, я желаю, чтоб для оного были постановлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению государства. Для сего необходимо, чтоб повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим предназначением обучающихся, чтоб каждый вместе с здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности приобретай познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем по обыкновенному течению дел суждено оставаться... Я нахожу нужным повелеть: чтобы в университеты и другие высшие учебные заведения, а равно в гимназии принимались в классы и допускались к слушанию лекций только люди свободных состояний... чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди могли обучаться в приходских и уездных училищах... чтобы избежать приучания к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию...»
Тень де Местра возникла уже не в кабинете министра, а в самом Зимнем. Тут и Шишков счёл за благо ретироваться и уступить место генералу от инфантерии Ливену Карлу Андреевичу.
Нельзя переломить свою натуру человеку с совестью, коль цель, ставленная перед ним, — карьерная, исключающая пользу дела.
С давних пор запали в душу мысли, не раз слышанные от великого историографа в его, карамзинском, кругу: «Жить — есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душой к его источнику; всё другое есть шелуха... Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте что и как можете: только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести. Быть статс-секретарём, министром или автором, учёным: всё одно...»
Не в достижении чина смысл существования — в непрестанном возвышении души. Однако понять эту истину умом легче, чем следовать ею в жизни, ибо постижение сих заветов есть и борьба с собственными обольщениями и ошибками, провалами и заблуждениями. Важен конечный результат, к которому ты придёшь сам. Так сказать, точка в конце. Но тогда кому она нужна?
Тем, кто идёт следом!
Не с пустого места начинает разбег свой любой, даже гениальный ум, любое чувствующее сердце. Именно — с точки, являющейся итогом предшественника. Значит, прав он был тогда у Гёте, когда решил: жить, жертвуя собою для других. Не по такому же закону создана сама природа: на почве, где когда-то вздымались леса, шумят злаки?..
В Петербурге теперь, весной 1835 года, Алексея Перовского держали дела, связанные с выпуском романа отдельной книгой. Как ни были заняты друзья, они вызвались наново прочитать весь текст до посылки его в типографию, и он, автор, отправлял каждому по главам, как только они выходили из-под пера переписчиков или его собственного.
Пушкину в те дни он писал: «Вот тебе, моя прелесть, две главы «Монастырки», которые прошу всепокорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы желалось, буде можно, завтра отвезть их в типографию. Продолжение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, две переписываются, а последняя сочиняется. Вот и всё! Посылаю и напечатанное начало 2-й части, чтоб мог ты видеть связь. Прощай до свиданья: нежно целую тебя в мыслях. А. Перовский».
Сестру, которая примчалась в столицу, почти не видел: и сам был замотан, и она кружилась на балах. Потому хотя бы с помощью почты пытался разговаривать с племянником: «Я не отвечал ещё на вопрос твой, любезный Хашка, должен ли ты приготовляться на русскую историю и будешь ли держать экзамен? Что касается до последнего, то не могу ничего сказать определённого; ибо перемена узаконений относительно этого предмета ещё не совершилась окончательно, и потому я нахожусь в недоумении, как и что делать? Но к русской истории, во всяком случае, необходимо приготовляться: какого роду бы ни был экзамен, русскую историю всегда спрашивать будут. Итак, приготовляйся сколько можешь... Жуковского ещё не видал: теперь идут экзамены у великого князя, и он очень занят; однако он сегодня назвался ко мне обедать...»
«Жуковского я видел, любезный Карапузик. Он апробует последнюю твою пиэсу... греческие пиэсы твои он предпочитает...»
«Третьего дня я ездил смотреть картину Брюллова, которая меня изумила. В самом деле — удивительное произведение! Я более часу её рассматривал и часто вспоминал о тебе, жалея, что ты её не видишь...»
«Брюллова картину считаю я самою первоклассною и полагаю, что она ничем не уступает отличнейшим произведениям, а может быть, и превосходит лучшие картины всех времён без исключения...»
Не зря ль погубил он в себе деятеля просвещения? Вдруг бы достало в нём таланта, которого хватило б не только на Алёшку, но и на тех, кому потребно умное слово?
Его всегда восхищало, с каким упорством достигал поставленных перед собою целей Жуковский. А ведь имел дело с необузданной нолей и тяжёлым нравом императора. Да и предмет, который отстаивал перед ним Василий Андреевич, был особенно близок государю — образование и воспитание наследника престола.
Не могло быть сомнений — император хотел видеть наследника трона и наследником своих верований, убеждений и вкусов. Только железное сердце, железный ум и железная рука могли, по его мнению, украшать личность обладателя верховной власти. Но Жуковский настойчиво убеждал императора и императрицу, что целью воспитания будущего государя должно быть «не одно знание фрунта, механически приобретаемое, но и деятельное пробуждение высоких человеческих качеств — смелости, терпения, расторопности, присутствия духа, осторожности, решительности, хладнокровия...».
Он не уставал внушать своему ученику, как должен тот понимать своё будущее предназначение: «Великому князю надлежит привыкать видеть в исполнении своих обязанностей простую необходимость, не заслуживающую никакого особенного одобрения: такая привычка образует твёрдость характера. Каждый отдельный хороший поступок весьма маловажен: одно только продолжительное постоянство в добре заслуживает внимание и хвалу...»
Отойти от дела несправедливого, видимо, важный долг человека добродетельного. Но не большая ли доблесть дать делу праведный ход, убедить в своей истине тех, кому она чужда и кто её пока не приемлет? Однако не каждому дано скрепить свою решимость мужеством, способным повлиять на самых сильных мира сего.
26
— Узник твой отыскался! — Перемахивая по лестнице вверх сразу через две ступеньки, Пушкин влетел в кабинет и обнял Алексея Перовского. — Представляешь, где нашёл я Карла Брюллова? У скульптора. Как его? Ну, того, что затеял Триумфальную арку...
— У Витали, Ивана Петровича? — подсказал Алексей. — Фью! Ищи ветра в поле — от него он к Дурнову, своему однокашнику по академии, переселился, а теперь, говорят, обитает у Василия Андреевича Тропинина или в Кремле у Егора Маковского. Одна шайка эти живописцы: полотно закончил — в разгул.
Пушкин рассмеялся:
— Потому ты и запер его у себя под ключ, чтоб денно и нощно корпел и корпел?
— Его не под замок — на цепь, как каторжника, следовало бы посадить, — возразил Перовский, пряча ухмылку под напускной свирепостью. — Да как в кандалах водил бы он кистью?..
В Белокаменной Карл Брюллов объявился под Рождество 1835 года, проделав путь из Константинополя в Одессу, хотя высочайше было повелено явиться в столицу спешно и занять место профессора в Академии художеств. Однако московские объятия не пускали — слава намного опередила великого живописца.
Ещё в прошлом году Анатолий Николаевич Демидов, наследник знаменитых уральских заводчиков, приобретя в Риме «Последний день Помпеи», отправил картину на пароходе «Царь Пётр» императору Николаю Павловичу. Царь благосклонно принял подарок и распорядился выставить полотно в Эрмитаже.
Столица была потрясена увиденным. Пушкин не удержался и перевёл сюжет художника в стихи:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя Широко развилось, как боевое знамя. Земля волнуется — с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, Под каменным дождём, под воспалённым прахом Толпами, стар и млад, бежит из града вон.Но, пожалуй, удачнее о шедевре Брюллова выразился Евгений Баратынский:
Искусства мирные трофеи Ты внёс в отеческую сень, И был последний день Помпеи Для русской кисти первый день.Москва не видела картины, но приём оказала её творцу триумфальный — Брюллова передавали с рук на руки, с одного приёма на другой. Сам генерал-губернатор Голицын собирался заказать прославленному живописцу полотно из истории войны двенадцатого года.
Однажды, воротясь под утро с очередного обеда в гостиницу Чашникова, что на Тверской, Карл Павлович не нашёл в нумере своих чемоданов.
— Их превосходительство господин Перовский распорядились вещи ваши перевезти к себе, — робко начал половой. — Вам же велено передать: ожидают вас у себя. Они-с изволят проживать тут же рядом, на Тверской, в доме Олсуфьева.
Да как же он сразу не воспользовался приглашением Алексея Алексеевича, сделанным ему ещё в Риме? Так — таскайся из конца в конец по всему городу, а к нему, Перовскому, сама Москва будет валом валить!
И правда, генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын прибыл к Перовскому незамедлительно и тут же предложил художнику написать картину о пожаре Москвы.
Знал Брюллов, что хозяин, снимавший в центре древней столицы целый особняк, умён и всезнающ. Но Перовский, казалось, превзошёл себя: такую выказал глубину познаний в истории отечества и всемирной, что уже пять месяцев кряду не державший в руках кисти художник тут же к ней потянулся.
Сначала не полотна — просто пошли наброски карандашом на разные исторические сюжеты, потом распустились на палитрах краски, натянуты были на подрамники холсты.
Карл Павлович весь подсобрался и на фигуру даже стал поджар, глаза зорко, с прищуром оглядывали лицо Алексея Алексеевича:
— Так... Пересядьте-ка вот сюда... Нет, нет, никаких парадных костюмов — только в халате, по-домашнему я намерен вас написать.
В левой руке табакерка, правая покоится на крышке стола, лицо чуть усталое, и где-то в уголках губ прячется ироническая усмешка.
Облик схвачен. Теперь не дать бы собственному настроению уйти, испариться, такое, увы, с ним часто случается, поэтому, если Алексей Алексеевич не возражает, сеансы будут продолжительные и каждый день.
— Затемнил! — поморщился он, отойдя от холста. — Как теперь, после «Помпеи», трудно писать! Так и кажется, не сумеешь оправдать надежд.
Почти каждый день толпами валили художники — бывшие приятели по академии, почитатели и даже незнакомые вообще персоны. Но в Брюллова вселился сам чёрт — не мог оторваться от палитры.
За портретом Перовского последовало полотно с изображением Алёши Толстого: продолговатое лицо, взгляд устремлён куда-то вдаль, в руках охотничье ружьё и рядом — голова спаниеля...
Брюллов, казалось, настолько прижился, что сам считал себя чуть ли не членом семьи. Аннет бесцеремонно обращалась к нему за советами, в каких нарядах ей лучше позировать и надо ли, чтобы и на её портрете оказалась собачка.
Однако в одно прекрасное утро обнаружилось: постоялец исчез. Все холсты, подрамники, ящики с красками и вазы с кистями были на месте, а его самого простыл и след.
В ту пору как раз из Петербурга прибыл Пушкин, и Нащокин, у которого он по обыкновению остановился, тут же начал с разговора о знаменитости.
— Представь, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека, — не мог сдержать восхищения Павел Войнович. — У нас на Москве, где привыкли к чинопочитанию, даже забыли, что он, Брюллов, сам чину никакого, даже не коллежский асессор! Что он гений, нам это нипочём! Важно, что картина его — у царя... А тебя, то есть твои творения, понимает и удивляется равнодушию русских относительно тебя. Он сказал мне, что очень желал бы с тобою познакомиться, и просил у меня к тебе рекомендательного письма. А ты — и сам здесь! Так что, думаю, теперь сойдётесь...
У Витали и встретились. Оба невысокого роста, живые, ловкие, как сказал бы Павел Воинович. Только, в отличие от поэта в строгом сюртуке, художник — в сюртуке свободного покроя, ворот тонкой батистовой рубахи повязан чёрным широким бантом.
Хозяин мастерской — толстощёкий, глаза щёлочками — сразу обратил внимание на характерное лицо поэта:
— Хочу вас лепить!
Пушкин только рукой махнул, захохотав: куда, дескать, вам моя образина? Вот дома, в Петербурге, у меня жена — настоящая мадонна, которую — хоть на холст в красках, хоть — в мрамор...
Ах, как бы вышло славно, если бы её, Натали, изобразила кисть Карла Павловича! А что он сейчас, после «Помпеи», будет писать? Слово за слово, и завертелся разговор вокруг фигуры Петра Великого. Да так славно в нём стал говорить художник, что поэт заслушался. Выяснилось, что и другие сюжеты интересуют живописца: Москва и Кремль с соборами, где можно поселить в воображении и Годунова, и Самозванца, и Наполеона, и то, что задумал ещё в Италии, — разгром Рима гуннами.
— У Перовского оставил уже готовые наброски к сей картине. Ах, вы друзья с Алексеем Алексеевичем? Изумительный человек и умница, но, знаете, решил меня, как птицу, — в золотую клетку. А мне крылья не для того даны, чтобы их обломать о прутья... Бр-р! Как вспомню, так страх берёт! — белозубо рассмеялся...
— Ах, что за прелесть и твой, и племянников портреты! — прохаживался Пушкин перед полотнами, бросая взгляды на холсты и оригиналы.
Алёшка-старший был в том же халате, что и на картине, только лицо почему-то серее и более осунувшееся. Алёшка-младший, наоборот, сиял жарким румянцем, под тонкой тканью домашней куртки перекатывались бугры мышц.
Кажется, ему Алёшка показывал стихи племянника. Многие неуверенно начинают, даже он сам на первых порах в лицее. Важно, как пойдёт дальше, какие мускулы нарастишь каждодневной работой...
Алёшка-младший поставил на каминную полку небольшой холст — девушка с открытым, типично русским, лицом перед зеркалом.
— «Гадающая Светлана»? — определил поэт, знавший от самого Брюллова, что на квартире Перовского он написал и девицу в духе баллад Жуковского.
Вот красавица одна: К зеркалу садится; С тайной робостью она В зеркало глядится; Темно в зеркале; кругом Мёртвое молчанье; Свечка трепетным огнём Чуть лиёт сиянье...Светлану сменил эскиз — рыжебородый гунн на вороном коне, с чёрным султаном из конского волоса на золотом шлеме. А вокруг всадника — воины, творящие разбой. Вот огромный негр уносит молодую женщину, а ему вдогонку простирает руки то ли возлюбленный, то ли супруг...
Рыжий гунн — король Гензерих — прославился тем, что когда-то разграбил всю Европу. Корабли свои он наполнял пленниками, вывез из Рима в Африку множество артистов и художников, увёз даже супругу императора, наконец, сорвал и утащил золотой купол с Капитолия...
— Ты заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал всадника, мошенник такой! Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как изобразил он эту группу, пьяница он, мошенник... — Лишь ухмылка, спрятавшаяся в уголках губ, как на портрете, говорила о том, что, произнося сии бранные слова, Перовский не мог скрыть своего восхищения.
— Умора! — только и сумел произнести Пушкин, изрядно отсмеявшись. — Ах, Алёшка, Алёшка, какой талант в тебе пропадает — под стать Гоголю! Смех так и брызжет у вас, хохлов. Знаешь, Гоголь рассказывал мне, что когда наборщикам роздали его листы «Вечеров на хуторе близ Диканьки», они стали прыскать, а вскоре вся типография начала неудержимо смеяться. Мастер он! Не зря я ему историю с письмом Бутурлина отдал для «Ревизора». Ты б, наверное, смог, да — ленив, батенька, не взялся. А у меня самого — кишка тонка. Да-с, не льсти: что могу — то могу, а на нет, как говорится, и суда нет. Не в вас, пересмешников, уродился...
Перовский помнил нервного, с долгим прямым носом и длинными, гладкими волосами юношу — одного из воспитанников Нежинской гимназии высших наук. Кажется, и говорил с ним однажды — был у них театр, где учащиеся упражнялись в лицедействе. Гоголь-Яновский уже тогда отличался отменным умением пересмешничать, но не думалось, что так быстро вымахает в первейшего автора.
Как возликовал, когда прочитал его малороссийские повести! Сразу в глаза бросилось: у него «Вечера в Малороссии» и у Гоголя «Вечера на хуторе...». Значит, читал своего предтечу! Но тут же пришла мысль: теперь не угнаться самому! Не оттого ль словно решил: после своей «Монастырки» и его, Гоголя, повестей ему далее не пойти.
Видно, у каждого своя «Помпея». Одна. Другой не бывает, как бы ты ни подхлёстывал себя. Будто гири привешены у ног и сам запеленут, связан. Вот и Александр в тисках, из которых никак не может освободиться: средь смеха одолевает вдруг мрачность, словно и вправду не верит в свой талант.
А может, другое одолевает: как дальше жить?
Сразу и не скажешь, с чего у него, Пушкина, всё пошло вкось. Можно ответить: долги. И ещё: над каждой строкою, что, казалось, сдавай в печать, — карандаш Бенкендорфа, а то самого Николая. В общем, клетка, из каковой впору бежать. Только куда и к кому? Не баловень судьбы, как Брюллов, — один сам-перст, а человек уже семейный...
Как обычно по осени, год назад решил запереть себя в Михайловском — ни строчки не написал! С яростью обгрызал ногти, жаловался жене: «Чем нам жить будет?»
Одну втайне надежду лелеял — «История Пугачёвского бунта». Просил у царя на печатание двадцать тысяч, подсчитал: сам получит сорок тысяч прибыли. Вот когда вырвется из долгов!
Число отпечатанных книжек было для него невиданное — три тысячи штук! Как когда-то у Карамзина его «История».
Из первых, ещё отдающих запахом краски экземпляров четыре отослал в Оренбург Перовскому Василию: «Посылаю тебе Историю Пугачёва в память прогулки нашей в Берды; и ещё три экземпляра Далю, Покотилову и тому охотнику, что вальдшнепов сравнивал с Валленштейном и кесарем. Жалею, что в Петербурге удалось нам встретиться только на бале. До свидания в степях или над Уралом».
Гром грянул страшный — не покупают! Господи, да почему же? Неужто публике безразлично, как и какая беда нависала над её головами более полувека назад? Ей подавайте, видите ли, героя в духе Вальтера Скотта, а Емелька у него — мужик.
Но ладно бы только сваленная за дверью в кабинете горка непроданного «Пугачёва» и такая же первой книжки «Современника», на которую также уповал. Следом — обвинение политическое: «История Пугачёвского бунта» — сочинение возмутительное.
И кто ж сие бросил в публику, чтобы дошло до Бенкендорфа, а то и до самого императора? Сергий Уваров — бывший друг-арзамасец! Мало сего доноса — потребовал, кроме царской, учредить для поэта и его, министерства просвещения, цензуру.
Угодником начал он службу, готовым лизать сапоги всесильных вельмож, тем и продолжил.
Одно время зашаталась уваровская карьера по линии просвещения — вынужден был довольствоваться скромным местом у Канкрина, в министерстве финансов. Там дошёл до того, что нянчил его детей, крал казённые дрова.
Прав оказался граф Разумовский, когда полагал: начнёт после его смерти тяжбу за наследство. И начал-таки! Подбил челядь стряпать доносы на Перовских, на то якобы, что Алексей у одра отца всё себе отписал. Вскрыли завещание — клевета не подтвердилась. И тогда Уваров стал оттягивать наследство у Варвары Рецниной, родной сестры жены...
Казалось, зачем ему? Стал товарищем министра просвещения, а когда вышел в отставку князь Ливен, удостоился должности управляющего — то есть без пяти минут министра. Ан алчные руки не могли не тянуться к чужому добру — на сей раз к богатству двоюродного брата жены, графа Дмитрия Николаевича Шереметева.
Прошёл слух, что не на шутку занемог граф, а прямых наследников у него нет. Уваров тут же, нисколько не стыдясь, опечатал петербургские шереметевские дома. Но надо ж — воскрес российский Крезус!
Подлецу перестали подавать руку не одни братья Перовские. Дашков, бывший арзамасец, однажды встретив Жуковского на прогулке с Уваровым, отвёл его в сторону: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?..»
Когда разразился шереметевский скандал, Пушкин был занят журнальными заботами, но бросил всё и принялся за оду «На выздоровление Лукулла». Писал долго — недели три. Было время остыть, если б предмет задевал неглубоко. Тут же речь шла о деле чести — вывести на суд бесчестного негодяя, по воле случая исправляющего нравственную должность воспитателя.
В начале января сего, 1836 года петербургские подписчики раскрыли только что полученный нумер «Московского наблюдателя»[41] с пушкинскими стихами:
...А между тем наследник твой, Как ворон, к мертвечине падкий. Бледнел и трясся над тобой, Знобим стяжанья лихорадкой. Уже скупой его сургуч Пятнал замки твоей конторы; И мнил загресть он злата горы В пыли бумажных куч. Он мнил: «Теперь уж у вельмож Не стану нянчить ребятишек; Я сам вельможа буду тож; В подвалах, благо, есть излишек. Теперь мне честность — трын-трава! Жену обсчитывать не буду, И воровать уже забуду Казённые дрова!Всё в сей оде было так прозрачно, что Уваров взвился, как укушенный, и подал жалобу Бенкендорфу. Тот призвал Пушкина: «На кого вы написали?» Не долго думая, поэт ответил: «На вас, ваше превосходительство, разве вы себя не узнаете?» Даже Александр Христофорович не сдержал ухмылку: личность Уварова, видно, и шефу жандармов втайне была омерзительна.
Прощать Уваров не собирался: цензурный комитет, бывший в его подчинении, начал травлю поэта.
И всё же Пушкин, сдавленный петлёй долгов и преследований, не сдавался.
Рассказывая сейчас Перовскому, как он хотел, чтобы Брюллов написал портрет его Натали, он будто вновь бросал вызов недругам.
Он воспринимал сейчас облик своей жены как воплощение своего гордого достоинства: «Если не понимаете цену мне как стихотворцу, то это-то вы в состоянии понять: моя жена — первая красавица Петербурга!..»
«А может, так и должно жить истинному честному человеку — поднимать своё личное достоинство как знамя?» — думал Перовский, слушая Пушкина.
Сам он этого не умел. Вернее, у него не было для сего нужды. И он не был гением, хотя, наверное, понимал, что это такое, ибо много лет дружил с таковым.
Однако ни сам гений, ни его друг в тот день, 11 мая 1836 года, не ведали, что их земной путь уже подошёл, по сути, к последней черте.
Менее чем через два месяца, 9 июля, в Варшаве, по дороге в Италию, гонимый на юг грудною болезнью, окончит свою жизнь на руках любимого племянника Алексей Перовский, не дожив до пятидесяти лишь одного года. Ну а Пушкин...
За несколько дней до дуэли оренбургский военный губернатор и его чиновник по особым поручениям прикатят по своим надобностям в столицу. Василий Перовский всю ночь просидит у Вяземских, обдумывая с Верой Фёдоровной и князем, как предотвратить непоправимое, не допустить дуэли... Снова они сойдутся уже у холодеющего тела, и генерал-адъютант вместе с другом своим Жуковским будет стоять с поникшей головой и глазами полными слёз у гроба на панихиде в Конюшенной церкви. А Даль... На его руках поэт сделает свой последний вздох...
В Михайловское же, к вечному пристанищу, Пушкина повезёт тог, кто когда-то помогал определять его в лицей. — Александр Иванович Тургенев...
Но до той поры есть время — всё ещё по крайней мере длящийся день 11 мая на Тверской, в квартире Перовского.
День, который всю жизнь непременно будет помнить пока Алёша, а вскоре — Алексей Константинович Толстой, тоже оставивший свой след в русской литературе.
Но ему также, прежде чем стать известным русским писателем и настоящим человеком, предстоит сделать свой непростой и нелёгкий выбор.
Часть вторая ОТШЕЛЬНИК КРАСНОГО РОГА
...Положение в обществе, его связи открывали ему широкий путь
ко всему тому, что так ценится большинством людей; но он
остался верен своему призванию — поэзии, литературе; он не мог
быть ничем иным, как именно тем, чем создала его природа; он
имел все качества, свойства, весь пошиб литератора в лучшем
значении слова... Он оставил в наследство своим соотечественникам
прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений,
которые — в течение долгих лет — стыдно будет не знать всякому
образованному русскому; он был создателем баллады, легенды;
на этом поприще он не имеет соперников... Наконец — и как бы
в подтверждение сказанного выше о многосторонности его дарования,
кто же не знает, что в его строго идеальной и стройной натуре
била свежим ключом струя неподдельного юмора — и что
граф А. К. Толстой, автор «Смерти Иоанна Грозного» и «Князя Серебряного»,
был в то же время одним из творцов бессмертного «Козьмы Пруткова»?
И. С. ТургеневГр. А. К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей
и писателей, ещё и доселе недостаточно оценённый, недостаточно
понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и
помнить подобных ему надо в наши дни особенно. Ведь
существование нации определяется всё-таки не материальным
(так что восхищаться, например, тем, что Россия «будет «мужицкой»,
по меньшей мере странно). Россия и русское слово (как проявление
её души, её нравственного строя) есть нечто нераздельное.
И. А. Бунин1
мператор Николай Павлович знал, что сотни людей неотрывно следят за выражением его лица и готовы тут же, согласно еле заметному движению брови, губ или просто лёгкому повороту шеи и головы, все как один — от чопорного, разодетого и раздушенного партера до голодной и всегда возбуждённой студенческой галёрки — в едином порыве взорваться овацией или, начав со зловещего шиканья, перейти на дружный топот ног, выражая полное единение с его настроением и волей.
Однако царь медленно обвёл зал непроницаемым взглядом, картинно откинул фалды мундира и спокойно опустился в кресло рядом с женой, императрицей Александрой Фёдоровной.
И тотчас в установившейся тишине возникли сначала слабые, затем всё нарастающие звуки оркестра — и тяжело колышущийся занавес открыл сцену. Спектакль начался.
На сцене справа от зрителей показался дом с крыльцом, а посреди сада — обвитая плющом беседка с цветником и фонтаном, возле которых прогуливались относительно молодые люди мужского пола. С первых же реплик обнаружилось, что это женихи, претендующие получить руку Лизаветы Платоновны. Но, как во всяком водевиле, на пути соперников неожиданно возникло препятствие. Капризная и самолюбивая старуха Аграфена Панкратьевна Чупурлина, воспитательница Лизы, охладила пыл собравшихся:
— Тише, мой батюшка, тише! Вишь, какой вострый, как приступает!.. Моя Лизанька не какая-нибудь такая, чтоб я её вот так взяла и отдала первому встречному! Я своей Лизанькой дорожу! Она мне лучше дочери... Я не отдам её какому-нибудь фанфарону! Небось ты, батюшка, всё на балах разные антраша выкидывал да какие-нибудь труфели жевал под сахаром; а теперь спустил денежки да и востришь зубы на Лизанькино приданое? Нет, батюшка, тпрру!! Пусть-ка прежде каждый из вас скажет: какие у него есть средства, чтобы составить её счастье? А без этого не видать вам Лизаньки, как своей поясницы.
Произнося эти слова, Чупурлина глаз не сводила с моськи, сидевшей у неё на руках, и всё время её нежно поглаживала. Впечатление такое, будто её воспитанница не Лизанька, а болонка и не девушку, а собачонку сватает она за женихов.
Однако псина и впрямь — самое любимое существо старой барыни, а речь она ведёт, конечно, о Лизаньке и, выговаривая своё требование, большею частью посматривает на Фирса Евгеньевича Миловидова, человека прямого, как он характеризуется в театральной афишке.
— Средства будут! — подхватывает Миловидов слова Чупурлиной. — А приданое-то? Как получу его, так будут и средства! И чем больше приданое, тем больше средства!
Ну ют! Так она и знала, что он фанфарон. А другие что ж, тоже небось зарятся на приданое, не имея ничего своего?
Мартын Мартынович Кутило-Завалдайский спешит уверить:
— У меня, сударыня, более нравственный капитал! Вы на это не смотрите, что моё такое имя: Кутило-Завалдайский. Иной подумает и Бог знает что; а я совсем не то! Это мой батюшка был такой, и вот дядя есть ещё; а я нет! Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером.
— Фу-ты, фанфарон! право, фанфарон! фанфарон, фанфарон, да и только!.. Авось ты, батюшка, посолиднее. Посмотрим, чем ты составишь счастье Лизаньки?
— Большею частью мылом! — Князь Касьян Родионович Батог-Батыев вынимает из кармана куски мыла. — У меня здесь для всех. Вам, сударыня, для рук; а этим господам бритвенное...
Несколько человек в зале не сдержались — сначала на галёрке, затем в амфитеатре кто-то прыснул, а следом покатился от ряда к ряду смешок за смешком. И тут, зажав вдруг рот, то один, то другой в страхе вскинули глаза к царской ложе: что он?
Кто сидел ближе, мигом успокоились: обычно матового оттенка лицо императора выглядело порозовевшим и в водянисто-голубых, слегка выпуклых глазах пряталась сдержанная усмешка.
В одном месте Николай Павлович даже склонился к императрице и что-то соизволил ей, видимо, сказать, отчего и её скорбно-отрешённое лицо заметно оживилось.
Что ж, водевиль — не героическая драма или, чего больше, трагедия. Император и ехал в театр, чтобы развлечься.
Обычно для него средством душевной разрядки, способствующей снятию нервного напряжения от каждодневных государственных дел, служила итальянская опера или лёгкая французская оперетта. Первая не то чтобы помогала забыться, но, попросту говоря, сразу навевала дрёму, вторая же, наоборот, взбадривала и сразу же обращала к теперь уж не таким близким, бурным и победительным годам молодости, когда сам он не на сцене, не в условной игре, а в жизни слыл первым любовником Петербурга.
Однако и итальянскому, и французскому театрам царь предпочитал свой, русский, со спектаклями из хорошо знакомой российской жизни, где броско, грубо выставлены напоказ сцены и характеры, одни из которых он повелевал ставить в образец, другие же считал весьма поучительными для выведения на свет Божий всевозможных людских пороков, с коими вёл непримиримую борьбу.
Вот здесь, на этой самой сцене императорского Александрийского театра, в 1836 году он с наслаждением смотрел «Ревизора», помирая со смеху и не скрывая своих чувств от сидевших в зале. И зал, битком набитый преимущественно высшей публикой, по его примеру хохотал над представлением до слёз.
Прошло пятнадцать лет с того дня, а ощущение весёлости осталось. Хотя если отвлечься от выведенных на сцене житейских коллизий и отменной игры артистов — время заставило несколько по-иному расценить творение Гоголя. Как оказалось теперь, не в городок уездный метил автор — выше! Да и в последующем своём сочинении — «Мёртвых душах» — полностью уж выдал себя как мастер свалить все мерзости России в одну кучу. Прав оказался Фаддей Булгарин, тоже писака, когда доносил Бенкендорфу Александру Христофоровичу, светлая ему память, по поводу «Ревизора»: «Клевета-с!»
Впрочем, что такое комедия, сатира? Стремление выставить в парадоксальном, смешном виде те неприглядные жизненные явления, которые нас окружают. Но можно ли в действительности отделить мерзкое, достойное осмеяния от положительного и примерного, что требует не насмешки, но, напротив, поддержания и укрепления?
Все эти Кутило-Завалдайские, Батог-Батыевы, Разорваки, один за другим представляющие сейчас на сцене стяжательство, алчность, зависть, хитрость и наглость, конечно, должны быть осмеяны. Но как оказываются подчас коварны иные пассажи писак, за благопристойным с виду намерением скрывающие свои ядовитые и убийственные стрелы! И как ловко, используя и остроумие, и тонкость всевозможных манер и приёмов, эти люди могут выставить на всесветский позор всё то, что для других свято, что является убеждением честных людей. И тогда не какие-то человеческие слабости и пороки — оклеветанными и оплёванными могут оказаться обычаи целых наций и народов, основы веры и славы государств и государей.
В памяти предстала книга «Россия в 1839 году», сочинённая маркизом Астольфом де Кюстином.
Сочинение сие замыслено было не сатирою, а правдивым отображением мыслей и впечатлений французского путешественника. Однако явилось же, увы, самым что ни на есть зловредным и издевательским пасквилем на тех, кто принял автора в своём доме с открытым сердцем и ждал от него такого же справедливого отзвука.
Три года держал злосчастный сочинитель манускрипт в уже готовом виде, не решаясь его опубликовать, как он признался в своём предисловии, дабы «в тайниках своей совести согласить обязанности, налагающие на меня служением истине».
Вот она, ахиллесова пята сего пасквилянта, в существовании которой он признался — терзался сомнениями, крупицы совести ему напоминали: удержись, не солги. Куда там! Взялся, как говорится, за гуж... Такие ради красного словца не пощадят и родного отца. А тут — чужая, холодная, к тому же «варварская страна»...
Ещё не проскакав и десятка, наверное, вёрст по незнакомой земле, путешественник этот уже вооружил себя выбранным местом из воспоминаний своего предшественника, немца Иоганна Барклая, годов чуть ли не двести назад совершившего вояж по Руси. «Московиты, — оставил он потомкам своё наблюдение, — народ, рождённый для рабства и свирепо относящийся ко всякому проявлению свободы; они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига... Даже у турок нет такого унижения и столь отвратительного преклонения перед скипетром своих оттоманов».
Держа перед глазами это изречение, маркиз французский и начал глядеть сквозь него, как через стеклянную призму, на всё, что мелькало по сторонам его экипажа.
Первая встреча с русскими произошла у него в Энее, ещё на немецкой земле. Там он встретил приехавшего для лечения наследника нашего священного престола Александра Николаевича. Представьте: двадцатилетний юноша царских кровей, красавец, богатырского сложения и изысканнейших манер. Э, да с кем не сталкивала судьба сына, все были от него без ума! И этот пустышка-щелкопёр, надо отдать справедливость, не преминул отметить приятное впечатление, которое произвёл на него цесаревич. Но тут же за ложкой мёда — бочка дёгтя. В свите наследника, оказывается, бросились в глаза рабская угодливость в присутствии великого князя и заносчивость без него. Отмечен к тому же неизящный вид экипажей, беспорядок в багаже наследника и плохое платье прислуги. И тут же — свидетельство хозяина гостиницы в Любеке: «Русские по пути в Европу — веселы, довольны. Это — лошади, вырвавшиеся на волю, птицы из клетки, мужчины, женщины, старики — счастливы, как школьники. На возвратном пути — вытянутые, мрачные, беспокойные лица, речи коротки, отрывисты, лоб нахмурен. Из этого я заключил: их страна — плохая страна».
Но вот и сама Россия в показе негодяя автора. Пароход священного для каждого русского имени «Николай Первый», совершающий рейсы на линии Любек — Петербург, приближается к Кронштадту. И что же видится путешественнику-европейцу? Будто лампа, излучающая ровный алебастровый свет, подвешена между небом и землёю. Тусклый, меланхолический свет! Жуткое чувство: свет карабкается вверх по земному шару, как по куполу, на самую верхушку, откуда взору открываются замерзшие моря, сверкающие как кристаллические поля. Считаешь себя перенесённым в жилища блаженных, в среду ангелов, неизменяющихся обитателей неизменного мира.
Кажется, ещё никто так талантливо не передал впечатление от белых ночей, нависающих летом над русской столицей. Но — чу! Разве не видятся вам в сей монументальной картине знаки апокалипсиса и разве в этих бравурных звуках сатанинской симфонии не слышатся ноты реквиема?
Вот в какую холодную, безжизненную пустыню вступил я, о други, будто говорит читателям автор. А далее — каждая строка и впрямь в лыко.
Постройки Петербурга в представлении сочинителя — неуклюжие копии античных образцов. В Зимнем — клопы, вши. Накануне во дворце случился пожар, теперь же здание отстраивается. Силы согнаны несметные. Когда на улице мороз тридцать градусов, в только что оштукатуренные помещения дворца для просушки стен приводится до шести тысяч рабочих, и температура здесь поднимается до тридцати градусов тепла. Смертность среди строителей ужасная — за двенадцать месяцев погибло от голода, холода и болезней несколько тысяч крепостных. Зато — самый огромный в мире дворец! И — ни слова протеста со стороны мучеников.
«Притворная безропотность, по-моему, — последняя степень унижения, до какой может пасть порабощённая нация; возмущение, отчаяние были бы, конечно, более ужасны, но менее низки; слабость, настолько лишённая достоинства, что может отказаться даже от жалобы, этого утешения скотины; страх, подавленный избытком страха, это — нравственный феномен, который нельзя наблюдать, не проливая кровавых слёз».
Все классы общества, делает далее свои наблюдения сочинитель, изменили самим себе. Угнетённый народ заслуживает кару, тирания — это дело рук самой нации. Дворянство занимает высшие посты. Что сделало оно, чтобы выполнить свою роль? Угнетает народ, обожая монарха. Дворянство в России пользуется административными усовершенствованиями наций, чтобы править по-восточному. Полицейский строй здесь существует, чтобы утверждать, а не подавлять варварство. А правосудие? Здесь не потерпевший, а должностное лицо ограждается от жалобы.
Автору не откажешь в способностях: язык остёр. «Весь смысл жизни в России, — сообщает он, — исполнение приказов начальства. Русское правление — осадное положение, ставшее нормальным состоянием общества».
Но далее — ещё хлеще. «В странах, изобилующих машинами, дерево и металл кажутся одарёнными душой, в странах с деспотическим правлением люди кажутся деревянными; является вопрос: что им делать с ненужною мыслью? И нехорошо становится на душе, когда подумаешь о силе, которую понадобилось проявить по отношению к разумным созданиям, чтобы сделать из них вещи...»
Впрочем, у этих «вещей», сиречь людей, есть и натура, которую допускает автор. Но какая? Русский народ, утверждает он, насмешлив, как раб, который утешается в неволе, издеваясь втихомолку над ней, он к тому ж суеверен, хвастлив, храбр и ленив, как солдат, поэтичен, музыкален и мечтателен, как пастух, — привычки кочующих племён останутся в нём надолго. И ещё характерная черта народа: русские-де высказывают свою сметливость более в приёмах пользования плохою утварью, чем в заботах об улучшении той, какая у них есть. Их ум всему подражает, но ничего не изобретает.
«Обыкновенно первым действием цивилизации является облегчение материальной жизни; здесь всё затруднено; апатия и коварство — вот тайный смысл жизни большинства».
И — выводы. Сначала — собственный: «Цивилизация — не плод работы нации, она — наносное, без корней». Засим — суждения бывших «друзей» России. Вольтера: «Русские сгнили, не дозрев». И — такого же ехидного вольнодумца Руссо: «Русские никогда не будут действительно цивилизованны, потому что они были цивилизованы слишком рано... Пётр Великий хотел сразу создать у себя немцев, англичан, тогда как следовало прежде всего создать русских: он помешал своим подданным стать когда-либо тем, чем они могли бы быть, убеждая их в том, что они уже то, чем они были. Так учитель-француз готовит своего воспитанника к тому, чтобы он на минуту блеснул в детстве, а потом навсегда остался ничтожеством».
Оскорбление целого народа? Само собой. Однако по сю пору более жгла обида, нанесённая ему, императору.
Николай Павлович не умел прощать тем, кто не желал понять его собственную душу, его священных намерений и действий. В тот день, когда к нему в кабинет вошла эта обезьяна, это ничтожество, сосулька, тряпка, если вспомнить выражение Гоголя, в вертлявости и угодливости гостя он почувствовал: наврёт, опозорит на всю Европу! Но он знал силу своего влияния на людские сердца и потому всё же решился победить своего собеседника открытостью души.
То-то и досаждало сейчас, что перехитрил его французишка! Так всегда происходит, когда благородство наталкивается на подлость и низость презренной душонки. До конца раскусить его сразу было нельзя — отпрыск отца и деда, верных короне и окончивших свои дни на республиканском эшафоте. Но, видно, злые семена революции и в нём, по крови аристократе, пустили крепкие ростки. Вот почему он, Николай Первый, только вступив на трон, безжалостно растоптал в своей стране эту чужеземную рассаду вольномыслия и безбожия и теперь готов не только у себя, в любом углу Европы достать и строго покарать гидру смуты и вселенского несчастья. И не дай Господь встретить карающему мечу вас, господин санкюлот, предавший и свою, и нашу российскую веру в незыблемость трона и самодержавной власти...
Пусть до поры остаётся на совести сочинителя портрет российского монарха, который он набросал на бумагу, хотя кто бы стерпел сей абрис, более похожий на шарж и карикатуру? Высокий рост, стройный стан, слегка обезображенный туго стянутым выше поясницы кушаком, над которым желудок некрасиво выдался в виде острого выступа.
«Русский царь не может ни на мгновение забыть, кто он есть. На лице нет выражения простой доброты, лишь строгость, торжественность, иногда вежливость. Проскальзывают и грациозные оттенки. Это — смена декораций: или одно, или другое состояние души. Без перехода от одного к другому. Точно снимается одна и надевается следующая маска. У него много масок, но нет лица. Вы ищете человека, но всегда находите императора. Ему не чужда искренность, ему чужда естественность».
А что же здесь плохого, если император и есть император, а не играет, как бы хотелось маркизу, ему лишь приятную роль? Но он, оставаясь всегда императором, прям и правдив и не скрывает своих мыслей перед чужеземцем. Вот же и в своём сочинении собеседник пытался предельно точно изложить императорскую мысль: «Я понимаю республику. Это образ правления прямой и искренний или могущий быть таковым. Но я понимаю абсолютную монархию, потому что стою во главе подобного порядка вещей. И я не понимаю представительной монархии. Это — правление лжи, обмана и коррупции, и я скорее удалился бы в самый Китай, чем когда-либо допустил бы эту форму правления. Это — ненавистная политическая машина, конституционная монархия. Покупать голоса, совращая совести, обольщать одних, чтобы обманывать других. Это унижает равно и тех, кто повинуется, и тех, кто повелевает... Я должен говорить, что думаю, и не хочу царствовать над народом при помощи хитрости и интриги».
Кто из сильных мира сего мог так откровенно излагать свои взгляды? И он смело, ничего не боясь, мог ответить Руссо: «В отличие от Петра Великого, я хочу цивилизации не поверхностной, скороспелой, а глубокой, согласованной с национальным духом... Я докажу, что создам не колоннады из оштукатуренного наспех кирпича. У меня будет всё солидно, прочно, видимость будет заменена реальностью. При Петре русских занимали мелочами, я же лучше всех своих предшественников постиг истину: вернуть страну к национальным началам. Вы заметили, при дворе говорят только по-русски, на приёмах меж высших сословий — представители народа...»
Ах, как он надеялся, что чёткость, ясность мысли и действий, открытость натуры будут постигнуты умом и чувством заезжего иностранца, аристократическое имя которого могло бы сулить высокую степень доверенности. В итоге же ядовитые и злонамеренные пассажи, возведённые в степень сарказма и глумления!
«Россия — царство каталогов. Посмотришь на коллекцию этикеток — всё великолепно. Но не думайте искать что-либо, кроме заголовков. Правительство, которое ничего не стыдится, потому что оно силится всё скрывать и добивается этого, более страшно, чем прочно. В России страх заменяет мысль. Это — не порядок, а завеса хаоса. Где нет свободы — нет души и правды...»
Теперь, в театре, при воспоминании об Астольфе де Кюстине Николаю Павловичу захотелось вдруг встать и возвысить голос, обращаясь в полутьму зала: «Эй ты, щелкопёр и сосулька, пытавшийся меня опозорить на весь мир! Книгу я твою запретил для ввоза, и на русский язык её не осмелится никто переложить, пока существую на свете я, а после меня — мои царствующие наследники. Европа же, которую ты хотел одурачить, трепещет при одном моём имени. Давно бы революционная чума заразила все страны, если бы на востоке не стояли русские войска, всегда готовые выступить в защиту тронов и народов. Да, это те самые русские, которых ты порицал, о которых наговорил столько мерзостей и небылиц. Дай только время, и штыки моих солдат, воистину храбрых и отважных, сметут с лица земли все остатки свободомыслия и неповиновения силе, и тогда ты, презренная душонка, предавший когда-то веру своего отца, не сыщешь нигде защиты от карающего меча правосудия. Единственным пристанищем для тебя могут лишь оказаться — и то, если я соблаговолю найти это возможным, — обширные просторы Сибири, которые скрыли, упрятали по моей монаршей воле твоих братьев по духу и супостатской вере — государственных преступников четырнадцатого декабря. Но моё око не дремлет — любой подданный в моём государстве, кто не только выскажет, но и просто подумает о том, что могло прийти тебе на ум, вмиг окажется за решёткой или в железах в Сибири. Да, страх сковал Россию по моей монаршей воле, но он, страх, а не гнилая свобода Запада — основа могущества, порядка и сплочённости империи...»
Однако Николай Павлович усилием железной воли сдержал себя и, наоборот, удобнее устроившись в кресле, окинул взглядом зал и сцену.
Как раз в этот момент на сцене завершились объяснения в любви. Впрочем, чувства героев скорее всего заслонили разговоры о выгоде предприятий, которые намеревается открыть каждый жених, когда получит руку и наследство Лизаветы Платоновны. И у всех у них — размах, умопомрачительные прожекты! Фемистокл Мильтиадович Разорваки, человек отчасти лукавый и вероломный, как объявлено о нём в программке комедии, строит планы открыть после свадьбы... мозольную лечебницу, а его соперник — молодой немец Адам Карлович Либенталь, — не строя никаких сногсшибательных прожектов, откровенно льстит и невесте, и её воспитательнице.
Но что это? Среди собравшихся в саду — переполох. Горничная в отчаянии объявляет гостям: «Хвантазия!.. Хвантазия!.. Ведь у барыни моська пропала! Вы не видали?..»
Отныне старая барыня решает вопрос о сватовстве просто: «Кто принесёт мне мою Фантазию, тот в награду получит и приданое и Лизавету!»
Как и подобает в водевилях, звучат остроумные куплеты, изображающие душевное состояние влюблённых, то бишь ловких ловцов богатства, раздаются споры, готовые перейти в скандал.
Наконец со сцены после неожиданно разразившейся грозы слышится натуральный собачий лай, и один за другим в сопровождении женихов появляются огромный бульдог, затем такой же живой пудель, какая-то моська, похожая на пропавшую любимицу барыни, Фантазию, следом собака датской породы в наморднике, наконец, большой игрушечный пёс в шерсти и с механикой. Всё это — взамен любимой Фантазии...
— Дичь, дичь!.. На что мне этакая собака?.. — возмущается Чупурлина.
Но уже кто-то из гостей предупреждает, указывая на игрушку:
— Подберите фалды!.. Смотрите издали!.. Он зол до чрезвычайности!..
Николай Павлович уже минуту назад изменился в лице, когда сцену объяла тьма, ударили молния и гром, а оркестр заиграл мотив из «Севильского цирюльника». Император поморщился и обратился к жене. Та испуганно потупила глаза. Он ещё раздумывал мгновение, но, услышав со сцены: «Фалды... Говорю вам: подберите фалды!..» — решительно выпрямился и подал руку императрице:
— Идёмте!
Что это за намёки, о чьих фалдах речь? — император расправил полы мундира. И потом, что за мысль в этой «шутке»: собака, скотина — дороже и важнее человека?
Щёки задрожали и налились нездоровым румянцем, и он сквозь строй испуганно расступившихся придворных, ни на кого не глядя, ринулся вперёд. На лестнице, не оборачиваясь, но чувствуя, что за ним семенит директор императорских театров Гедеонов, произнёс, почти не размыкая рта:
— Много я видел на своём веку глупостей, но такой ещё никогда...
— Ваше императорское!.. Ваше-с!.. Осмелюсь доложить, пьеса рассмотрена положенным образом две недели назад, декабря двадцать третьего дня, цензором Гедерштерном, действительным статским советником, и разрешена к постановке... И я, как директор императорских театров, самоличнейше...
Директор тяжело дышал, весь красный, не смея поднять глаз на императора.
— И кроме того, авторы сей «Фантазии», смею верноподданнически напомнить, хорошо известные вашему величеству персоны, пожелавшие скромно скрыть собственные имена под литерами «Y» и «Z». Это, как вы, должно быть, уже извещены, — граф Толстой Алексей Константинович и старший сын сенатора и тайного советника Михаила Николаевича Жемчужникова — Алексей же...
На плечах императора уже была его знаменитая — грубого солдатского сукна, изрядно потёртая и лоснящаяся по бокам и у бортов — шинель.
— Объявить труппе, — натягивая перчатку, бросил император, — представление сей пьесы...
— Так точно, ваше величество! Немедленно, тотчас, без дальнейшего когда-либо возобновления, по вашему высочайшему повелению — спектакль отменить! — подхватил Гедеонов.
2
Поздним вечером восьмого января 1851 года во многих аристократических домах Петербурга уже было известно о скандале, разразившемся в Александрийском театре. Графиня Анна Алексеевна Толстая после спектакля даже не поехала к себе, а вместе с мужем своей сестры Михаилом Николаевичем Жемчужниковым и его сыновьями, а её племянниками Львом, Владимиром и Александром, также бывшими на премьере, направилась к ним, чтобы обсудить случившееся и предугадать и упредить его последствия.
Лишь виновники переполоха — двоюродные братья Алексей Толстой и Алексей Жемчужников, — не подозревая о том, что произошло, весь вечер с удовольствием развлекались на маскараде, устроенном в Большом театре. Только однажды, ещё проезжая на маскарад мимо тумбы с афишами, они случайно натолкнулись на извещение о постановке «Фантазии» и, подмигнув друг другу, рассмеялись. Но тут же их мысли перебились яркими, праздничными картинами, открывшимися на подъезде к театру.
Вся площадь у Большого театра была уставлена экипажами. Блестевшие чёрным лаком кареты, украшенные всевозможными родовыми гербами и запряжённые четвёркой или шестерней, вместительные рыдваны с двумя клячами, а то лёгкие, изящные сани скрипели полозьями, грохотали колёсами среди сугробов плохо разметённого снега.
А какое великолепие окружило обоих Алексеев, едва они ступили в обширный вестибюль, сверкавший огромными хрустальными люстрами, с роскошными красными занавесями на окнах, заполненный всё прибывающей и прибывающей публикой! Вот пропорхнула стайка девиц в белых тарлатановых платьях, с веточками небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, следом за ними важно прошествовала дама в шёлковом платье-шине старого покроя и, раскланиваясь налево и направо, просеменил знакомый пожилой князь — завитой, в белом модном галстуке и в чёрном полинялом фраке с владимирскою лентою в петлице.
Наконец раздались звуки штраусовского вальса и замелькали, закружились пары — кавалеры и дамы в масках, как и подобает на новогоднем бале.
В глубине зала, в окружении свиты генералов и высших офицеров, а также кое-кого из статских, высилась красивая и представительная фигура великого князя Александра Николаевича. И хотя его лицо скрывала маска, вряд ли нашёлся бы кто-либо из присутствующих, кто не узнал бы наследника престола. Толстой тут же направился к нему, и стоявшие вокруг расступились, уступая ему место рядом с императорским высочеством.
Четверть века назад — в детских играх и шалостях, в совместных прогулках и поездках, в обмене сердечными отроческими тайнами — зародилась дружба сына царствующего императора с узким, но тесным кругом товарищей и, всё время укрепляясь, продолжалась до сих пор. Алёша Толстой, Саша Адлерберг, Саша Паткуль и ещё несколько близких лиц — всё это теперь составляло постоянное окружение великого князя, с которым он редко расставался.
Однако все эти люди давно уже были не мальчики — почти каждому исполнилось по тридцать три года, большинство, как и сам Александр Николаевич, стали отцами семейств. Многие состояли на государственной службе, лучше сказать, значились на немалых государственных должностях. Кружок же их, образовавшийся так много времени назад, составлял теперь своеобразный двор наследника престола, и двор этот обязан был, по негласному правилу, сопровождать его на разных приёмах и балах, на выездах в театры и, если случалось, в поездках по стране и за границу.
Обязанности составлявших негласный двор были, конечно, условные — каждый преимущественно участвовал в тех предприятиях, которые ему самому были, так сказать, по душе. Поэтому, когда составлялась чисто мужская компания для того, чтобы по-холостяцки попировать, лучшего организатора, чем добряк и рубаха-парень Паткуль, было не сыскать. И сутки, и другие он способен был насыщать своё огромное тело всевозможными горячительными напитками, составляя тем самым отменное кумпанство своему августейшему тёзке.
Для более интимных дел подходил другой Александр — Адлерберг, сын бывшего адъютанта Николая Павловича, а ныне министра двора его императорского величества. Мама его была начальницей Смольнинского института благородных девиц. Последнее обстоятельство играло особую роль — мадам Адлерберг когда-то с готовностью предоставляла императору все условия для тайных свиданий со своими воспитанницами. Ныне же это право широко предоставлялось Адлербергу-младшему и его другу — великому князю.
И у Толстого имелась своя роль, в исполнении которой не было ему равных. Сия обязанность — участие во всех видах охоты, особливо же в медвежьей. Тут два богатыря — он и великий князь — способны были идти с рогатиной на дикого зверя и валить его с ног, как бы тот ни был разъярён и могуч, вызывая после каждой победы восхищение и восторг всех приближённых ко двору.
Нетрудно сделать разницу между преданным завсегдатаем пиршественного стола и тем, кто плечом к плечу стоит с тобой в смертельной схватке со зверем, от чьей ловкости, отваги, находчивости и подлинного благородства подчас может зависеть и твоя собственная жизнь. А если этот человек исполнен благородства во всей своей жизни, если он предан не из-за выгоды, если правдив и лишён всякого намёка на искательство, органически не способен на малейшую интригу, такому человеку нельзя не отвести в своём сердце поистине первого места. Ну а прибавить сюда дружеские отношения к Алёше жены Александра Николаевича, великой княгини Марии Александровны, для которой истинным праздником было, когда Толстой приходил к ней, чтобы прочесть свои новые стихи, поговорить о поэзии, которой они оба были преданны, — тесные дружеские связи будут, вероятно, достаточно объяснены.
Анна Алексеевна Толстая и её брат, министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, не могли не нарадоваться отношениям, которые сложились у Алёши с наследником престола и его семьёй. И всячески огорчались, когда сын и племянник предпочитал сей дружбе иные связи и занятия. Занятия эти были поэтическими влечениями, которым молодой граф с каждым годом всё более отдавал свои досуги. А ближайшими друзьями, с кем делил он свою страсть, являлись его двоюродные братья Жемчужниковы.
Ближе всех из этого семейства он сошёлся с Алексеем — острословом и поэтом, окончившим училище правоведения и служившим помощником статс-секретаря Государственного совета.
Впрочем, если всё по порядку, сначала не стихотворчество сблизило их. Однажды Алексей Толстой, выходя из дверей театра, был поражён необычным зрелищем. На его глазах в четырёхместную карету один за другим влезли по крайней мере... пятнадцать генералов! Подойдя ближе к экипажу вместе с другой ошарашенной публикой, он вдруг узнал в «генералах» Алёшку Жемчужникова с его братьями Александром и Владимиром. Оказывается, они входили в одну дверцу, захлопывали её за собою и, выйдя с противоположной стороны, снова залезали в карету.
Розыгрышами братья увлеклись с тех пор, как после смерти матери, Ольги Алексеевны, мальчиками оказались в Первом кадетском корпусе. Но, миновав отроческий возраст, они не забыли своих проделок. Ходили слухи, что молодые Жемчужниковы зимою, садясь в сани, брали с собой длинный шест и, проезжая по какому-либо проспекту столицы, высовывали его так далеко, что шедшие по тротуару люди вынуждены были этот шест перепрыгивать.
Ещё говорили, что кто-то из братьев сыграл остроумную, хотя и злую шутку с одним из всесильных царских министров прямо в центре города, на Невском проспекте. По сей улице этот вельможа гулял каждый день в строго определённый час, шествуя важно, ни на кого не глядя, подняв голову куда-то поверх встречных. Шутник притворился, будто что-то обронил на тротуаре, и присел на корточки в тот самый момент, когда к нему приблизился министр, совершающий свой моцион. Не чувствуя подвоха, вельможа с ходу налетел на пригнувшегося шутника и перекувырнулся через него.
Любили они и ночные розыгрыши. Прочитали однажды в «Северной пчеле» объявление о том, что некто, собираясь ехать в Париж, приглашает к себе в компанионы, в целях обоюдной экономии средств, попутчика, желательно владеющего иностранными языками. В четвёртом часу утра, когда сон особенно сладок, податель объявления был поднят с постели. «В чём дело?» — вышел он навстречу незваным гостям, кутаясь в халат. Перед ним стояли незнакомцы — один в мундире с золотым шитьём и двое в щегольских фраках. «Жемчужников! Жемчужников! Жемчужников!» — представился каждый из них по очереди. «Чему обязан, господа?» — пролепетал ничего не понимающий хозяин. «Простите, но, кажется, вы подавали объявление в «Северной пчеле» о совместной поездке? Так вот мы приехали известить вас, что ехать с вами в Париж мы, к сожалению, не сможем...» С тем и откланялись.
Однако этим всё не кончилось. Следующей ночью поднятый спросонок господин вновь увидел перед собой вчерашних визитёров, явившихся с извинениями за столь позднее вчерашнее вторжение...
Алёша Толстой был без малого на четыре года старше Алексея, другие же братья — значительно моложе. Но, сам склонный к весёлым мистификациям и остроумным забавам, он вскоре присоединился к их компании.
Очередная забава, кажется, произошла в театре, когда давался «Гамлет», где в заглавной роли выступал знаменитый немецкий артист, специально прибывший на гастроли в Петербург. Естественно, свою партию он вёл на родном языке. Друзья договорились, что публично прервут его монолог в самый патетический момент. Они уселись в партере, почти перед самой сценой, и когда трагик произнёс: «Быть или не быть?» — Алексей Жемчужников громко, на весь зал, попросил актёра по-немецки: «Погодите!» — и стал рыться в огромном словаре, якобы пытаясь перевести на русский предыдущие слова актёра. Так же, вслух повторяя немецкие слова, шелестели страницами толстенных словарей остальные братья и Алексей Толстой.
На спектакле присутствовал петербургский генерал-губернатор Суворов. Он, возмутившись, подошёл к нарушителям спокойствия и, спросив их фамилии, приказал адъютанту: «Запиши: Толстой и Жемчужниковы». Александр Жемчужников, также обратившись к Толстому, бросил через плечо: «Запиши: Суворов».
Проказы проказами, но в каждой из них проглядывала выдумка одарённых натур. И то один, то другой наряду с проделками вдруг разражался какой-нибудь задиристой эпиграммой или привязчивым куплетцем. Оказалось, что все они пописывают стихи, многие из которых не стыдно прочесть знакомым.
Толстой к тому времени уже не просто писал, но в 1841 году издал повесть «Упырь», снабдив её подписью «Краснорогский» — по примеру дяди Алёши, Антония Погорельского, взяв своё литературное имя также по одному из фамильных поместий — Красному Рогу. И надо же, сочинение это не прошло мимо критика Белинского, который о молодом авторе написал, что у него «есть решительное дарование».
Алексея Жемчужникова также потянуло сочинить что-либо эдакое, чтобы о нём заговорили, и он стал писать пьесу. Однако не трагедию, не драму, не фантастическое произведение в духе Гофмана и Антония Погорельского, как «Упырь», а комедию, в которой решил высмеять идущие на сцене напыщенные водевили. Сочинил шутку и назвал её «Сердечные похождения Дмитриева и Галюши, или Недоросль XIX столетия». Цензор Гедерштерн, которому была представлена пьеса, не одобрил её к постановке: «Сюжет не заключает в себе ничего подлежащего запрещению, но вообще пиэса обращает на себя внимание тем, что автор, как бы следуя натуральной школе, вывел на сцену быт и слабости людей средних состояний в России, без всякой драматической прикраски, заставляя действующих лиц говорить языком низким».
Тут возвратился из Калуги Толстой, куда некоторое время назад был направлен в составе сенатской комиссии проводить ревизию губернских дел, и оба Алексея сели за новую пьесу — «Фантазию».
Писали так: одна комната, но разные столы. Каждый сочинял свою сцену, а когда потом читали вслух, получалось, что у одного в конце герои уходят, у другого, наоборот, собираются вместе. Но это и хорошо, в духе их юношеских розыгрышей! Конечно, в итоге явления подгонялись друг к другу, язык редактировался, чтобы комедия была стройной. И вдруг — победа: пьеса принята!
Сегодня как раз был тот торжественный день — день премьеры. Но разве можно было даже по такому случаю отказаться от приглашения на бал-маскарад, исходящего от самого великого князя? Впрочем, авторы, наверное, сами — зная, какую чепуху на вкус великосветской публики они сочинили, — намеренно решили не появляться на спектакле.
Хорошо, когда в театре они высмеивают кого-то, а если — их? Нет уж, дудки!
Будем лучше от души веселиться на маскараде, авось удастся и здесь одурачить какую-либо маску, за которой может оказаться надувшийся, как клоп, вельможа или битком набитая дурью и предрассудками старая, но молодящаяся барынька, а то такая же глупая и ветреная девица, падкая до романтических и таинственных встреч.
— Простите, уважаемая маска, не были ли мы ранее представлены друг другу? Сдаётся мне, что мы с вами коротко знакомы, и мне было бы крайне неловко не поздороваться с вами. Видите ли, я отменно воспитан, и всякая невежливость заставляет меня глубоко переживать...
Старый шаркун, высокомерно вскинув голову и выпятив тощую, как у цыплёнка, грудь, отшатнулся от Жемчужникова:
— Молодой человек! Вы оскорбляете особу, полезная деятельность которой на государственной ниве столь известна, что обращение ко мне таким бесцеремонным образом есть с вашей стороны дерзость! И я, милостивый государь, если вы не прекратите свои мальчишеские выходки, вынужден буду...
— Ещё раз покорнейше прошу меня простить, но у меня к вам дело как раз наиважнейшего государственного смысла, — не замечая гнева распалившегося вельможи, как ни в чём не бывало продолжил Алексей Жемчужников. — Суть в том, милостивый государь, что, проезжая тому час назад мимо Исаакия, я вдруг услышал, как какой-то чудовищно огромный всадник с тяжёлым грохотом выкатился на площадь и...
На лице собеседника толстые, набухшие жилы стали синими, его дряблая челюсть отвисла, и рот произвёл несколько шамкающих усилий, не в состоянии выдавить из себя ни одного членораздельного человеческого звука. Алексей же, приблизив к ошеломлённому господину лицо, громким шёпотом, который оказался слышным всем, кто был в тот момент вблизи, продолжил:
— Так вот, я, опасаясь за прочность, а значит, дальнейшую судьбу столь величественного в Петербурге собора, могущего понести урон от тяжёлого шага огромного коня, счёл необходимым первому вам, уважаемый милостивый государь, конфиденциально сообщить сию государственной важности новость.
Тут кстати оказался рядом Толстой и, крепко стиснув руку брата повыше локтя и отвесив учтивый поклон вельможе, всё ещё пребывающему в состоянии близком к столбняку, отвёл Алексея в сторону:
— Заткни фонтан своего красноречия!
Жемчужников, едва сдерживая хохот, схватился за голову и проговорил:
— Алёшка! А ведь жив, жив наш сюжет с Исаакием! Смотри, как долго этим сообщением можно дурачить важных индюков!
Толстому вспомнилось, как однажды ночью они вчетвером объехали петербургских архитекторов и приказали всем им поутру явиться в Зимний дворец — по случаю того, что сквозь землю провалился Исаакиевский собор.
Жемчужников, продолжая смеяться, так резко обернулся, что задел проходившую у него за спиной даму в чёрной узкой маске с веером в руке.
— Ах, экскьюз ми! — произнёс он по-английски, обращаясь к даме.
— Донт меншенд, — ответила она тоже по-английски на его извинения — «не стоит беспокоиться!» — и продолжила: — Вы не будете на меня в особой претензии, если я признаюсь, что минуту назад, проходя мимо вас, я невольно оказалась свидетельницей вашего конфиденциального разговора и таким образом узнала страшную тайну, что «тяжело-медное скаканье по потрясённой мостовой» может привести к провалу в тартарары Исаакиевского собора, который, кстати, однажды уже по вашей воле проваливался, не так ли?
— Значит, вы наслышаны о той истории? — опешил Жемчужников.
— Знаю и о той истории и знаю, кто вы и ваш приятель, граф.
— О, да кто же вы сами, прелестная маска?
Дама была среднего роста, её изящная фигура с тонким станом и пышные волосы, красивый и сочный грудной голос делали её и впрямь прекрасной. Особенно же поразила её манера вести беседу — интригующая, слегка лукавая и в то же время изобличающая острый и глубокий ум.
Толстой, чувствуя, что не может отвести от неё зачарованного взора, густо покраснел, что не ускользнуло от внимания маски.
— Вы, граф, должно быть, смутились оттого, что я сказала, что я вас знаю? — умело вывела она его из неловкого состояния. — Надеюсь, ваша превосходная память, если вы её спросите на досуге, подскажет вам нашу мимолётную встречу, хотя она была столь мгновенной, как набег морской волны на полоску песка.
— Ба! — ударил себя ладонью по лбу Толстой. — В петербургском яхт-клубе, в разгар сезона... Не правда ли? Но тогда, мне помнится, вы были не одни, а в сопровождении конногвардейского полковника, с которым вы так быстро уехали, что я не успел вас разглядеть, если не говорить о вашей восхитительной фигуре, которая сейчас перед нами.
Теперь чуть зарделась незнакомка:
— Сегодня позволительно говорить друг другу всё: и комплименты, и дерзости, не правда ли, господин Жемчужников?
— Простите, но от кого вы слышали историю с Исаакием? — спросил он.
— Хотя никому не дано объять необъятное, но, живя в Петербурге, можно знать многое, — последовал молниеносный ответ.
— О Алексис, запиши о необъятном, — повернулся Толстой к брату.
— Слушаюсь, ваше сиятельство! — сделал Жемчужников полупоклон. — Но чтобы запечатлеть сие заслуживающее бессмертия изречение, мне непременно надобно сыскать бумагу и перо с чернилами. Посему я вынужден просить позволения вас на время покинуть.
Незнакомка и Толстой расхохотались и, взглянув друг на друга, почувствовали, что, по крайней мере в этот вечер, они не смогут расстаться.
3
Естественно, он и до этого влюблялся. Однако на сей раз всё было не похоже.
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты. Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты; Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звон отдалённой свирели, Как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий И весь твой задумчивый вид, А смех твой, и грустный и звонкий, С тех пор в моём сердце звучит. В часы одинокие ночи Люблю я, усталый, прилечь — Я вижу печальные очи, Я слышу весёлую речь, И грустно я так засыпаю, И в грёзах неведомых сплю... Люблю ли тебя — я не знаю, Но кажется мне, что люблю!С замиранием сердца шёл Толстой через несколько дней к незнакомке. Широкая мраморная лестница, как во многих петербургских аристократических домах, двухсветная гостиная с высокими окнами... Всё та же восхитительная грациозная фигура, пышные пепельные волосы — и лицо, теперь уже без маски: несколько широкие скулы, невыразительные, смазанного рисунка брови, очень высокий для женщины лоб, нечёткое очертание носа. Но чувствительный, красивый рот очаровательно улыбается, и в узких серых глазах, светящихся поразительным умом, восторг и радость. И тот же, что несколько дней назад, чарующий голос:
— Сегодня, как видите, я такая, как есть...
Ах, Боже, да какая самая расчудесная в мире красавица может сравниться с этой женщиной! Разве можно вообще отдельно рассматривать женщину — лицо, фигура, ум, нежность, обаяние?.. Все вместе в ней — неповторимая прелесть!
— Вы не поверите, как я в эту минуту счастлив! — только и сумел произнести.
Они сели в кресла друг против друга у маленького, накрытого тут же для двоих чайного столика.
— Я очень много думала о вас все эти дни, — произнесла она просто.
Звалась таинственная незнакомка Софьей Андреевной Миллер, урождённая Бахметева. С мужем, тем самым полковником Львом Фёдоровичем Миллером, с которым, как уже узнал Алексей Константинович, он сам значился в отдалённом родстве по толстовской линии, Софья Андреевна была с некоторых пор в неофициальном разводе. Собственно говоря, она собиралась вскоре покинуть столицу и поселиться в Смалькове Пензенской губернии, в родовом семейном доме.
Рассказала она о своих планах опять же просто, не жеманничая, без мелодраматических ноток, как об обыкновенном, что ли, житейском факте.
— А знаете, какая у меня библиотека там, в деревне? Комната, все стены которой уставлены полками с книгами, в которой я и живу. Это мой единственно близкий и желанный мир.
Искусство и литература! С каким трепетом он ждал перехода к этой теме! Ему всегда казалось, когда он читает стихи — Пушкина, Лермонтова или какого-то иного настоящего поэта, — когда он стоит подле полотен живописцев, он чувствует подлинную дрожь, похожую на лёгкую лихорадку. Но редко с кем в разговоре он так волновался, как в тот вечер, на маскараде, когда они лишь слегка коснулись литературы и Софья Андреевна проявила такую начитанность, такую глубину суждений, что он прямо-таки ахнул!
Господи, она легко, естественно переходила с одного языка на другой, произносила на память целые отрывки из иностранных авторов, когда он просил её напомнить ему то-то и то-то.
Он сам свободно знал основные европейские языки, но Софья Андреевна, оказалось, владела более чем дюжиной — современных, конечно, и древних.
Теперь, сидя с нею рядом, он не мог не признаться ей, как мало он рождён для служебной жизни, которой все живут вокруг изо дня в день, почитая это главной своей заботой и устремлённостью, а основная его цель и призвание — быть писателем, художником.
— Я ещё ничего не сделал, — впервые в жизни так откровенно, так свободно признавался он другому существу, — только я чувствую, что мог бы сделать что-нибудь хорошее, лишь бы мне быть уверенном, что я найду артистическое эхо... И мне кажется, что я — о Боже, не осуждайте меня! — мне кажется: теперь я это эхо нашёл! Это — вы!
Он отставил чашечку с чаем, смущённо глянул в лицо собеседницы и увидел в её глазах необыкновенный, неподдельный интерес и безграничное понимание того, о чём он только что сказал.
— Говорите, говорите, прошу вас! Я так отлично понимаю и чувствую всё, что накопилось у вас в душе, — взяла она тонкими, красивыми пальцами его руку.
— Я не знаю, — продолжил он, — как это делается, но большею частью всё, что я ощущаю, я ощущаю художественно. Откуда такое у меня? Не ведаю. Тем не менее могу вам признаться, что есть эпоха моей жизни — это мой шестнадцатый век. Да, да, та пора, когда я, тринадцатилетний, в сопровождении моего любимого дяди и матушки впервые попал в Италию и открыл через неё такое огромное богатство, как искусство. Вы не можете себе представить, с какою жадностью и с каким чутьём я набрасывался на все произведения искусства. В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, я выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и их биографии, и я почти что мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний.
Он слегка, как бы виновато улыбнулся:
— Вы не смеётесь надо мною? Так вот, при виде картины я всегда мог назвать живописца и почти никогда не ошибался. Не Зная ещё никаких интересов жизни, которые впоследствии наполнили её хорошо или дурно, я сосредоточил все свои мысли и все чувства на любви к искусству. И эта любовь превратилась во мне в сильную и исключительную страсть. Я жил всецело в веке Медичи, и я принимал к сердцу произведения этого столетия так же, как мог это сделать современник Бенвенуто Челлини.
Серые, необыкновенно выразительные глаза, ещё недавно скрываемые маской, теперь казались ему давно знакомыми и родными. В них было столько понимания, поддержки его настроениям и мыслям, столько настоящей преданности, что он не мог не признаться до конца:
— С тех пор я сильно изменился... Ну разве есть возможность остаться художником при той жизни, которую мы ведём? Я думаю, что нельзя быть художником одному, самому по себе, когда нет художников среди окружающих вас...
Её рука вновь коснулась руки Толстого.
— Смысл и идеалы жизни вашей семьи и вашего окружения, — сказала она, — лежат несколько в иной плоскости, если не сказать — в прямо противоположной.
— В том — вся суть! — подхватил он. — Я со всех сторон только и слышу: «служба», «чин», «вицмундир», «начальство» и тому подобное. А я, представьте, не могу органически восторгаться вицмундиром, так что же мне делать?
Софья Андреевна чуть опустила голову, словно задумалась на миг, и затем сказала:
— Однажды мне надо было принять серьёзное решение в своей судьбе. И тогда я, помнится, записала у себя в дневнике такие слова: «Для достижения истины надо раз в жизни освободиться от всех усвоенных взглядов и заново построить всю систему своих знаний». Однако я — женщина, слабое существо, и мне сложнее, чем вам, делать крутые повороты. Но, увы, без них можно навсегда лишиться собственной индивидуальности.
— О, мне бы хоть часть вашей внутренней силы, энергии и убеждённости! — подхватил он. — Я понимаю, о какой индивидуальности вы говорите. Но я, как это ни странно, думаю сейчас вот о чём. Наша индивидуальность есть нечто приобретённое нами, естественное же и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, однородно и безраздельно. Ложь, зло имеют тысячи форм и видов, а истина — или добро — может быть только единой. Поэтому, если несколько личностей возвращаются в своё естественное состояние, они неизбежно сливаются друг с другом, и в этом слиянии нет ничего ни прискорбного, ни огорчительного, поскольку оно приближает нас к Богу, то есть к самой сущей для каждого человека и необходимой ему истине...
Теперь они не могли порознь провести ни дня. И чем становились ближе, необходимее друг другу, тем сложнее, тревожнее складывались отношения Алексея с матушкой.
Наверное, ещё многие в Москве и Петербурге помнят, какой писаной красавицей слыла в ранней молодости дочь графа Разумовского — Аннет Перовская. Даже после своего добровольного, чуть ли не десятилетнего заточения в деревенской глуши её появление при дворе наделало немало шума. Все обратили внимание, с каким сознанием собственного достоинства и подлинного женского превосходства она появлялась на приёмах во дворце, одетая точь-в-точь как сама императрица Александра Фёдоровна, и становилась рядом с нею и Николаем Павловичем. Да захоти она!.. Но все, все свои возможности и планы она принесла в жертву одной, самой пламенной, как ей казалось, страсти — любви к сыну.
По-матерински она любила его безмерно. Это ради него она лучшие свои годы провела вдали от света, отдавая все силы, время и жар сердца Алёшеньке. Соперничество статс-дамы с императрицей — она-то знала! — было скорее всего блажью, фамильной склонностью ко всяческим своенравностям, которые были не чужды ни отцу-министру, ни деду-гетману и президенту академии...
Как же короток век женского очарования! Как вражеское нашествие, сулящее поражение и несчастье, наседали годы, недомогания и болезни. А с ними тревога: неужели у Алёшеньки появится кто-то способный затмить в его сердце мать? Ещё в юности он увлёкся княжной Еленой Мещёрской. Ей бы, матери, так много заботящейся о карьере сына, благословить этот брак. Куда гам! Буря в материнском сердце выплеснулась из берегов и смела наметившиеся отношения. А графиня Клари, другое серьёзное увлечение Алёши?.. Матушка сама пускалась в объяснения с возможными невестами, а то насильно увозила сына за границу под предлогом её или его настоятельного лечения.
Должно быть, проживи ещё Алексей Алексеевич Перовский, развитие семейных событий могло принять другие повороты. Дядюшка умел смягчать строптивость сестры, и она при любимом брате не чувствовала бы так остро надвигающиеся на неё старость и одиночество.
Ныне Анна Алексеевна изрядно сдала. Тело её — особенно руки и ноги — набухло; она часто снимала с кровати тюфячок и, расстелив его на полу, пробовала заснуть: наверное, так, в более вольном положении, сердцу легче было справиться со своей уже затруднённой работой. Впрочем, стоило сыну отбыть в Москву или иной какой город, задержаться в театре или у знакомых, она вовсе не ложилась и задрёмывала лишь к утру.
Что ж говорить о том, как она восприняла весть, что в жизнь Алёши вновь вошла женщина, на сей раз замужняя, собой не красавица, готовая, по всей видимости, — тут и причин других не сыщешь! — позариться на богатства и графский титул и, коли всё тайком, — отнять и увести Алёшу от матери!
Узнав, кто такая, искала возможности хотя бы издали рассмотреть претендентку, разузнать всё о её прошлой жизни. О, ужас, что открыла Анна Алексеевна! Слов не найдёшь, чтобы всё передать. Теперешние шашни при живом-то муже — игрушки. А вот в девичестве-то, в девичестве!..
Алексей не поверил тому, о чём сообщила мать. Но словно сталь вонзилась в сердце: если хоть доля правды, почему ничего не объяснила, почему скрыла? А может, и впрямь то было потрясением, горем, трагедией, о которых потребно в первую очередь не осведомляться, а им сострадать? Что ж теперь — поймёт ли он её или осудит? Вот что, наверное, мучило её самое, чем она терзалась, отдавая ему свою душу, а он здесь, вдали от неё, готов вместе с матушкой, у которой — свои резоны, всё свести к подлой и низкой истории. Нет, ехать к ней — и немедленно!
А матушка — другое страдающее существо, как оставить её, одинокую, безутешную и оскорблённую? Пусть пока истина будет укрыта условностями, которые для каждого в сложившихся обстоятельствах — бальзам.
Но ты ведь сам всегда ненавидел ложь и презирал её, ты ни в чём никогда не был способен солгать.
А это — не ложь, это, наоборот, единственное теперь средство поберечь и самолюбие, и здоровье матушки. Для сего только и надобно сообщить: еду в Оренбург, к дяде Василию; и сам отвлекусь, и для него, одинокого, радость...
Тракт, ведущий к Оренбургу, пролегал через пензенские земли. Пролетел Саранск, а за ним вскоре — одна, другая деревенька, церковь с колокольней и приметный, в два этажа, дом Бахметевых, утопающий в диком, буйно разросшемся и плохо ухоженном парке.
Смальково! И — дробный перестук каблучков из деревенской гостиной.
— Ты? И в такую метель, в заледенелом башлыке...
Как долго потом, «в часы одинокие ночи», ему будет видеться домик, полускрытый деревьями, слышаться звуки рояля и её неповторимый, берущий за сердце чудный голос и отдаваться в груди её слова: «Вся сутолока света, честолюбие, тщеславие, всё, что противоречит единственно святому и ценному на земле — спокойной и благостной жизни, пусть отныне минует и не тревожит нас... Я навсегда отказываюсь от всего этого ради любви к тебе».
Да это же подлинное счастье — слышать такие слова! Они точно уверение, что отныне никто не сможет причинить ей зла. И даже среди мирской суеты они оба могут теперь быть счастливы, потому что её сердце поёт, а его — это сердце слушает.
А ведь сердце это, с тех пор как было брошено в жизнь, знало только бури и грозы. Да, с ней действительно когда-то, на самой заре жизни, произошло несчастье. Её, юную, чистую, обольстил человек холодный и низкий. За честь сестры вступился брат Юрий и был убит на дуэли.
Не смыла пролитая кровь в глазах семьи её позора — горе родило новое горе. Куда было деться? Тут как раз объявился конногвардеец Миллер — как оказалось, давно в неё влюблённый. Она вышла замуж, надеясь когда-нибудь расторгнуть постылый брак.
Как же хотел теперь Толстой, чтобы она отдохнула от той её жизни, забыла её навсегда. Он был прав — ей, как и ему, необходима помощь родной души, полное понимание и сострадание. А этой помощью, этой силой может стать только их обоюдная вечная любовь.
Едва на время успев расстаться, он уже шлёт ей письмо: «Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи ей причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй её. Бери её, какая она есть, бери не вникая, я не могу дать тебе ничего лучшего, я дал тебе всё, что у меня было самого драгоценного, ничего лучшего у меня нет... Ты мне говоришь, что я не смогу любить тебя так всегда. Я это знаю и сам; это не новость, это в порядке вещей, что такое восторженное возбуждение проходит: так оно есть и так должно быть. Цветок исчезает, но остаётся плод, остаётся растение; поверь мне, то, что останется, будет ещё достаточно прекрасно... Мы знаем, что любовь не есть вечное чувство. Но должно ли нас это пугать? Пойдём же смело навстречу, не заглядывая вперёд и не оглядываясь назад, или лучше будем смотреть вперёд, встретим лицом к лицу кроткую братскую дружбу, протягивающую к нам руки, и благословим Бога за то, что он посылает её нам... Я в гораздо большей мере — ты, чем — я сам».
4
Впервые Алексей Толстой подъезжал к городу, который был российским окном в Среднюю Азию, — Оренбургу десять лет назад. Тогда дорога так ошеломила юного путешественника, более привыкшего к европейским шоссе, что он, добравшись до места, не преминул тут же сообщить в письме петербургским знакомым: «Вы не можете себе представить всех треволнений и превратностей нашего путешествия! От Москвы до Нижнего — ни одной почтовой лошади; дороги, превосходящие всё самое чудовищное, что может создать самое горячечное воображение: до Владимира — якобы шоссейная дорога, каждый камешек которой по объёму соответствует булыжнику петербургских мостовых, а по своей форме — артишоку; провалившиеся мосты, насыпи, размытые весной во время ледохода... беспрерывные дожди и грозы, а для переправы через Волгу и Каму — какие-то жалчайшие лодчонки, и, наконец, в довершение бедствий — прочно слаженный экипаж, который ломается 11 раз в течение 20 дней, — такова история наших злоключений...»
Нелегко досталась дорога за реку Урал когда-то и Александру Сергеевичу Пушкину в пору ещё более рисковую — когда «уж небо осенью дышало».
Теперь стояла зима, снег на тысячу вёрст усеял и утрамбовал бесконечные колдобины, сковал ещё недавно непроезжие колеи. Однако наряду со стужей подстерегала путников и другая «прелесть» здешних мест — бураны. У многих скакавших по белой целине не выходили из головы сцены из «Капитанской дочки». Это куда ни шло, крестились с испугу иные, если метель, а вот как из белой мути возникнет вдруг разбойное лицо вроде Емельки Пугачёва, как когда-то перед Петрушей Гриневым и его верным дядькой Савельичем!
Наверное, шалили где-то на трактах удалые и лихие головы, не без того на Руси. Толстой же не мог забыть, как в первой поездке его поразили колонны закованных в колодки людей, которых гнали по степи солдаты. Кто были эти каторжники — уголовные убийцы или строптивые ослушники барского или чиновничьего своеволия, желавшие лишь себе одному вожделенной воли, чтобы всласть поесть и попить, или радетели за общую, народную долю?
Сейчас, проезжая снежной целиной, он будто въяве отчётливо видел печальное шествие по выгоревшей, бурой степи, и сами собой, наверное, слагались строки:
Спускается солнце за степи. Вдали золотится ковыль, — Колодников звонкие цепи Взметают дорожную пыль. Идут они с бритыми лбами, Шагают вперёд тяжело, Угрюмые сдвинули брови, На сердце раздумье легло. Идут с ними длинные тени, Две клячи телегу везут, Лениво сгибая колени, Конвойные с ними идут. «Что, братцы, затянемте песню, Забудем лихую беду! Уж, видно, такая невзгода Написана нам на роду!» И вот повели, затянули, Поют, заливаясь, они Про Волги широкой раздолье, Про даром минувшие дни, Поют про свободные степи, Про дикую волю поют, День меркнет всё боле, — а цепи Дорогу метут да метут...Дядя Василий встретил Толстого радостный, поздоровевший, с лицом покрытым смуглым, степным загаром. Несмотря на то что перевалило ему уже за пятьдесят пять, он всё ещё был красив и статен.
— По-прежнему не унялся, чудишь? — заключил он Алексея в могучие объятья и сам тотчас почувствовал, как словно обручем стиснули его руки племянника. — Весь Петербург потрясён «Фантазией»! Жаль, что не попал я на вашу премьеру — как раз готовился к отъезду сюда. Но мне говорили, комедия ваша — и смех и слёзы. Писали мне уже сюда, государь как-то встретил Алёшку Жемчужникова: «Ну, братец, не ожидал, что ты сочинишь такую...» — «Что, чепуху, ваше величество?» — «Я слишком воспитан, чтобы так выражаться!» — ответил Николай Павлович. Так было? Ну а с тебя, как говорится, как с гуся вода! Не прошло и нескольких месяцев — пожалован в церемониймейстеры двора его величества... Ну а у меня здесь свой артист, от которого хоть вешайся, хоть стреляйся...
В кабинет влетел Саша Жемчужников и кинулся к кузену.
— О твоих проделках я Алёшке начал говорить, — пряча ухмылку в лихо закрученные усы, произнёс Василий Алексеевич. — Нет, ты, Алёша, представь, вызываю я этого артиста, то есть моего чиновника для особых поручений, и приказываю срочно составить бумагу для отсылки в Петербург. При этом прошу: «Только постарайтесь, господин Жемчужников, как-нибудь поцветистее!» Через какое-то время кладёт мне на стол реляцию: «Ваше превосходительство, как и просили...» Гляжу, а перед глазами разноцветные круги, да что там — целая радуга! Оказывается, в каждом слове одна буковка выведена чёрными чернилами, другая — синими, третья — красными, четвёртая — зелёными — так до конца! «Сашка! — не стерпел я. — Да за такое я тебя куда Макар телят не гонял зашлю!» Да вспомнил: куда ж дальше Оренбурга? — и махнул рукой...
Десять лет назад, в свой первый приезд, Толстой нашёл дядю едва живым. Старая рана от турецкой пули, часто досаждавшая ему, сильно загноилась, и докторам пришлось вновь прибегнуть к хирургическому вмешательству. Бравый генерал сдал, как-то вдруг осунулся и постарел, даже лихие усы, подзавитые колечками, опустились вниз.
Причиной оказалась не только напомнившая о себе рана физическая, но, не в меньшей мере, нравственная, исполненная страданий за десятки и сотни своих боевых товарищей, кто остался навечно в степях, убитый стужей и голодом, сражённый болезнями или пулей в жестоком походе по безлюдной степи в Хиву.
Генералу Перовскому до конца своих дней не забыть той ужасной зимы 1839 года, когда более чем пятитысячный отряд под его командою вышел из Оренбурга и начал свой путь по безоглядной, схваченной лёгким ноябрьским морозцем степи. Погода при выступлении была — лучше не надо. Но на первой же днёвке, в Илецке, ударила более чем двадцатиградусная стужа. Первая колонна, вышедшая из города несколькими неделями раньше, ещё в октябре, состоявшая из трёхсот пятидесяти человек при четырёх орудиях и более тысячи верблюдов, нагруженных всем необходимым для дальнего похода, достигла Эмбы вполне благополучно. В степи снега и мороза тогда ещё не было, и потому везде находился подножный корм для верблюдов и лошадей, и в воде для животных и людей не ощущалось недостатка.
Однако двум другим колоннам, и особенно четвёртой, замыкавшей, которую возглавлял сам Перовский, пришлось туго. Если первый отряд замышлялся лёгким, своего рода разведывательным, то остальные были массивные, тяжёлые, двигавшиеся черепашьим шагом. Колонны имели по три тысячи, а четвёртая даже четыре тысячи верблюдов, много конского поголовья, артиллерии. Перед выступлением с днёвок и ночлегов и при остановках всё это огромное количество верблюдов приходилось навьючивать и развьючивать, с чем не всегда справлялись ни нанятые погонщики-киргизы, ни тем более не приученные к этому солдаты. Животные заболевали от неправильного ухода, на теле у них образовывались потёртости вплоть до костей, и, значит, на долю здоровых верблюдов ложилась дополнительная поклажа, которая очень скоро выводила их из строя.
Двадцать четвёртого ноября неожиданно выпал глубокий, выше колена, снег, а через три дня поднялся свирепый степной буран при двадцатишестиградусном морозе. Продрогшие от сильной стужи и ветра лошади в ночь на двадцать восьмое сорвались с коновязей и побежали в степь, ища укрытия от напасти. Все часовые в ту ночь обморозили себе лица, руки и ноги, пальцы пришлось у многих ампутировать в холодных войлочных кибитках, на морозе, продолжавшем держаться около двадцати пяти градусов.
Декабрь разразился ещё более невиданными снегопадами, метелями и стужей, которых не могли припомнить не только солдаты, служившие в степях по нескольку лет, но и аксакалы и старожилы здешних мест. Стало непросто приготовить горячую пищу, устроить ночлег, уберечься от простуды и наступавшей уже дизентерии. Беда подобралась и к верблюдам: двигаясь по степи, они резали в снегу, покрытом ледяной коркой, ноги в кровь выше колен и, обессиленные, падали и не могли подняться. Таких животных оставляли в степи, а казаки делили снятую с них поклажу — муку, сухари, сахар, спирт и другое продовольствие, распихивая его по своим торбам. Топлива не было нигде в округе, и тогда для костров пошли в ход разрубленные на дрова лодки, взятые с собой для предполагавшейся переправы через Аральское море. Но и лодки, и всё иное, способное гореть, оказалось уничтоженным в считанные дни. И тогда Перовский приказал объявить войскам, что солдаты и офицеры сами должны отыскивать для себя топливо, ибо выдать более нечего...
Девятнадцатого декабря отряд достиг наконец эмбинского укрепления, употребив на пятисотвёрстный переход тридцать четыре дня и оставляя за собою роковой и страшный след — невысокие снеговые холмы над умершими людьми и круглые горки нанесённого метелями снега над павшими верблюдами.
Поистине героическим явился этот переход. Обилие снега оказалось так велико, что положительно все овраги, даже самые глубокие, были занесены доверху, так что приходилось употреблять самые невероятные усилия для переправы тысяч верблюдов и лошадей с их вьюками и колёсными фурами. А чтобы перетащить через эти снеговые бездны пушки, солдаты настилали поверх сугробов понтонные мосты и по ним перевозили орудия.
А ведь поход проводился не с кондачка, к нему готовились, можно сказать, не месяцы — годы. Сам военный губернатор Перовский прослужил к тому времени в крае шесть лет и за этот срок хорошо изучил природные условия и людские возможности. И зимняя пора им и его помощниками — генералами и офицерами — была выбрана не случайно: летом через выжженную солнцем степь совершить полуторатысячевёрстный поход было решительно невозможно из-за нестерпимого азиатского зноя, бескормицы для животных и отсутствия воды. Многолетние наблюдения за погодой утверждали, что зимы в степи почти бесснежные, морозы слабые и достичь центра Хивинского ханства будет нетрудно.
Совершить же поход и принудить хана Алла-Кула к повиновению Перовский решил с тех пор, как вступил в права военного губернатора и командующего отдельным Оренбургским корпусом. На протяжении десятилетий жестокие и коварные орды вооружённых кочевников, как ветер из неоглядной степи, налетали на русские мирные селения и войсковые части и забирали с собой в полон женщин, детей и даже сильных мужчин, которых затем продавали в вечное рабство на невольничьих рынках Хивы.
Россия стала в оренбургских степях форпостом, чтобы торговать с азиатскими народами и охранять многие племена, принявшие её защиту и покровительство. От набегов хивинцев страдали местные татары, киргизы, казахи. Перовский, думая о безопасности края, распорядился возвести укрепления по всей пограничной линии. Быстро были сооружены укрепления Наследницкое, Константиновское, Николаевское и Михайловское с редутами между ними для помещения там кордонной стражи из казаков и башкир. Между редутами же были устроены частые пикеты из десяти или пятнадцати казаков с сигнальными шестами, обвитыми соломой. Стоило показаться в степи налётчикам, как запалённые шесты, точно маяки, извещали о тревоге все посты и укрепления. Однако и эти меры не гарантировали полного спокойствия — из-за Сырдарьи, из глубины степей каждодневно мирной жизни сотен людей угрожало вероломное, не идущее ни на какие переговоры Хивинское ханство.
Добиться разрешения идти в Хиву, чтобы освободить томящихся в неволе заложников и пленных и наказать коварных захватчиков, оказалось не так просто. Военное министерство и всё окружение императора, особенно так называемая «немецкая партия», противились предприятию. Тут сказывалась и присущая российской политике неповоротливость, и, как её следствие, осторожность и робость, нежелание и подчас неумение глядеть вперёд. А с другой стороны, имели значение личные отношения к Василию Алексеевичу.
Ещё в тот день, когда он, только что произведённый в адъютанты великого князя, на глазах у Жуковского выказал строптивость и нежелание пробавляться тем, что с барского стола, он отчётливо понял: карьера приближённого к трону не для него. Нет, он выполнил свой долг, помчался тогда по весенним размокшим дорогам в Молдавию, где при войске находился император Александр, чтобы сообщить ему о появлении на свет великого князя Александра Николаевича, племянника царя. И вовсе не полковничьи эполеты привёз от государя — произведён был спустя какое-то время в капитаны, иначе — просто получил очередное звание, хотя в глазах искательной и завистливой толпы он уже стал счастливчиком и фаворитом.
Никогда ни один человек, тем более группа, общество не прощают тому, кто поступает не так, как все. Хозяин, которому ты служишь, ещё не всё — есть целый сонм хозяйчиков вокруг, коих ты должен отличать, помнить, что и они что-то значат, ни в коем случае не говорить им своим поведением: «Я — сам по себе, я иду по жизни, лишь надеясь на собственные силы и способности», — «А мы, выходит, существуем и продвигаемся за чей-то чужой счёт, мы — не службой, а услужением, не умом, а хитростью?»
Первым подал знак, что Перовский будто чужой в их стае, генерал-адъютант Бенкендорф Александр Христофорович, человек с нюхом отменным, повадками лисьими. Сигнал был дан, когда на театре русско-турецкой войны полковник Перовский полез в пекло, всё иное окружение царя осталось же паркетными шаркунами. И тут уж наглядно вышло — кому и за что адъютантам императора генеральские эполеты: одному за рану и подвиг на поле боя, а иным?..
Сразу после войны Николай Павлович стал пристраивать послуживших ему личных адъютантов, так сказать, к самостоятельному поприщу. И выпало Владимиру Фёдоровичу Адлербергу занять пост директора канцелярии начальника Главного штаба, Перовскому — управляющего канцелярией морского министерства. Адлерберг воспринял назначение как высокую милость. Ещё одна-другая ступенька, и кто знает, куда вознесёт судьба, только не быть строптивым, а исполнительным, прилежным и — всегда на глазах.
Перовский оскорбился царской милостью, он вдруг решил, что государь таким приёмом отстраняет его от себя, отправляя под начало великого князя Михаила Павловича.
В сём деле, думается, свою роль сыграло многое. Наверное, и сам император считал такое продвижение наградой — ведь дал же он подобный пост и Адлербергу. Вероятно, и князь Ментиков, назначенный управляющим морским министерством, у которого под Варной Перовский был правой рукой — начальником штаба корпуса, да и сам «Рыжий Мишка» — шеф считали удачей заполучить в своё ведомство умного, прямодушного и к тому ж по-настоящему боевого молодого генерала. Василий же Алексеевич счёл такой ход оскорблением. Он вмиг выпросился в отпуск, уехал в Вену к дяде, Андрею Кирилловичу Разумовскому, и оттуда написал Жуковскому:
«Прежде, нежели направлю свои шаги в Петербург, хочу знать, на какой ноге придётся мне там стоять? Когда я уезжал из России, великий князь думал, что будет весьма трудно заменить меня в должности правителя канцелярии; я знал, что он ошибается и что скоро переменит мнение. Поэтому, если я теперь, возвратясь, сяду на своё место, не говоря ни слова и не объяснившись, великий князь может подумать, что я нахожусь на свой счёт в том заблуждении, из которого он уже вышел и в котором я никогда не был. Итак, я написал ему (текст моего письма, если хочешь, можешь видеть у Адлерберга): я подозреваю, что не гожусь более в правители канцелярии, и знаю наверное, что в таком случае не годен ни на что другое... Моё настоящее расположение и всегдашняя наклонность влекут меня из службы; а некоторые обстоятельства и некоторые люди понуждают и советуют ещё в ней остаться; но быть лишним, бесполезным я не соглашусь: я прошусь в отставку — и прошусь весьма убедительно; откажут — это будет мне лестно, но не весьма приятно; согласятся — будет приятно, но не так лестно. Но я предпочитаю приятность без лести, лесть — без приятности. Притом же двор я никогда не считал для себя надёжною пристанью; всегда был готов поднять якорь и распустить паруса, прежде чем морской ветер разобьёт меня о берег или же береговой выгонит насильно в море...»
Он настоял на том, чтобы оказаться на такой службе, где он будет не мальчиком для поручений, а где сможет принести пользу России. Не для того ведь он ещё в отрочестве выбрал себе карьеру офицера, чтобы прятаться от пуль и огня в тихих и укромных местах. Эти слова он высказал императору, и тот предложил ему дальнюю и дикую окраину империи, за что Перовский немедля ухватился — то было по нему, искавшему хотя тяжёлое, но настоящее дело.
Другому, наверное, подозрительный, никому до конца не доверявший Николай вряд ли бы вручил чистые листы для приказов со своей подписью, дабы в любых случаях, в коих окажется необходимость, военный губернатор края мог действовать его именем.
Но не о престиже думал генерал — о благе того забытого Богом огромного пространства державы, равного нескольким европейским государствам, где проживали разноязычные подданные России, жизнь и имущество которых он должен был отныне защищать. Посему, как уже сказано, замыслен был и поход в Хиву, чтобы тамошнему враждебному царству достойно напомнить о правах и силе Российской державы.
Не только «немецкая партия» Бенкендорфа, военный министр Чернышев стал поперёк намерений Перовского. И опять же граф Александр Иванович углядел в действиях боевого генерала некий намёк на то, что они с ним-де не одного поля ягода. Когда-то, ещё накануне войны двенадцатого года, русский атташе в Париже, блестящий щёголь, танцор и вертопрах Чернышев сделал карьеру тем, что, используя расположение французских дам, ловко выведывал секретные сведения о наполеоновских затеях. И другое — знал Чернышев — могло отвращать от него Перовского, что он, граф и военный министр, возглавлял следственный комитет по делам декабристов и в ночь казни гарцевал на коне у виселицы, ревностно следя за чётким исполнением всех распоряжений, лично начертанных рукой императора.
Василий Алексеевич выезжал в Петербург, чтобы добиться одобрения своего похода, однако военный министр не давал согласия. Тогда Перовский на одном из дворцовых приёмов специально выбрал момент, когда государь остановился с Чернышевым, и, подойдя к ним, изложил все свои резоны. «Государь, я принимаю экспедицию на свой страх и на свою личную ответственность», — сказал Перовский. «Когда так, то — с Богом!» — благословил его император.
И вот — жестокая неудача, за которую следовало держать ответ, не страшась никаких наказаний. Одно он только должен был доказать — свою невиновность и героическую преданность вверенных ему солдат и офицеров, в невероятных условиях проявивших образцы мужества.
Спешно выехав в столицу, Перовский, как и следовало, доложился о своём прибытии министру Чернышеву и попросил через него аудиенции у императора. Однако время шло, а государь его не приглашал. В конце четвёртой недели бесплодного ожидания Перовский появился в Михайловском манеже, но, гордый и самолюбивый, не присоединился к свите генералов во главе с Чернышевым, ожидавших прибытия государя, а стал от них отдельно.
Император тотчас заметил нарушение принятого этикета и тут же осведомился у министра, кто тот генерал, стоящий в отдалении. Когда Чернышев был вынужден ответить, Николай быстро подошёл к Перовскому и поцеловал его. «Почему же ты до сих пор не явился ко мне?» — «Так угодно было военному министру», — прямо ответил Перовский. Государь нахмурился и, взяв Василия Алексеевича под руку, попросил великого князя Михаила Павловича заменить его на смотре в манеже. Сам же немедля уехал с Перовским во дворец.
Два дня не отпускал император от себя оренбургского военного губернатора, подробно расспрашивая о всех перипетиях тяжёлого похода. И не успел генерал попросить о представлении к наградам всех офицеров и нижних чинов, участвовавших в экспедиции, как император сам распорядился подать на сей счёт все нужные бумаги военному министру.
Как склонились тогда перед Перовским все те, кто ещё недавно отворачивались от него, стараясь даже его не узнавать. И вот теперь, спустя без малого десять лет, он снова в своём Оренбурге. И снова все его мысли о том, чтобы очистить просторы края от бандитов, мешающих мирной жизни России. На сей раз намечается разгром вражеского оплота на берегах Сырдарьи, где обосновалось разбойное Кокандское ханство. И других много дел: следует строить в Оренбурге крепкие дома, мостить улицы, проложить водопровод, соорудить наконец гостиный двор для восточных купцов — роскошный караван-сарай. Его чертежи он заказал Александру Брюллову.
От умного и наблюдательного Василия Алексеевича нельзя было скрыть перемены, произошедшей в жизни Толстого. Да он и сам в первый же день поведал дяде и кузену о своём счастье. Но говорил о своей любви как-то не совсем привычно — речь шла не как подобает в подобных случаях о том, чтобы, положим, связать свою судьбу с избранницей, а о том, чтобы собственную жизнь резко переменить не в семейном, а скорее в служебном смысле.
Странно сложилась личная жизнь Василия Алексеевича — красавец, в высшей степени порядочный человек, с поразительно щепетильными понятиями чести, он до сих пор оставался холостяком. Многие близкие ему люди знали, как строго относится он к такому чувству, как любовь к женщине. Ещё в годы молодости он признавался своему, наверное, самому сердечному другу Василию Андреевичу Жуковскому: «Обман в любви принято светскими законодателями не считать обманом; оставить женщину не считается у них проступком... А по-моему, это — истинное преступление и против чести, и против сердца...» Однако немногие знали, что было у него когда-то сильное увлечение — любовь к одной замужней женщине, баронессе; даже где-то, говорили, воспитывался их общий сын, которого она не отдала Перовскому и сама не захотела связать жизнь с Василием Алексеевичем, как он на том ни настаивал. Вот почему этот, в сущности, несправедливо обделённый любовью человек так искренне позавидовал страстному чувству племянника. Однако рассуждения Алёши о том, что он готов бросить ненавистный ему образ жизни, насторожили Перовского.
— Видеть людей, которые жили и живут во имя искусства и которые относятся к нему серьёзно, — убеждённо говорил Алексей, — мне доставляет всегда большое удовольствие — потому что это так резко отделяется от так называемой службы и от всех людей, которые под предлогом, что они служат, живут интригами одна грязнее другой.
Уж кто-кто, а Перовский знал не просто художников — гениев, живших искусством. Пушкин, Брюллов, Жуковский... Да разве они были свободны от общества и его законов, разве они не служили?
— Ах, милый ты мой, тебе противна служба, ты презираешь людей за то, что они живут интригами одна грязнее другой. Так яви пример противоположный — противопоставь мерзости благородство!
— Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником... У нас — всё полезай в одну форму, в служебную! Однако известно, что один материал годен для постройки домов, другой — для делания бутылок, третий — для изделия одежд, четвёртый — для колоколов... но у нас камень или стекло, ткань или металл — всё в одну форму!
Сашка, растянувшийся на тахте, засмеялся:
— Здорово ты насчёт бутылок и колоколов! Из меня, увы, не изготовишь и убогого курка, а не то что ружья, коим мечтает меня видеть наш умный и целеустремлённый дядя-генерал.
Александр Жемчужников недавно окончил университет, и Перовский, помня о когда-то плодотворной дружбе с Далем, который теперь успешно служил в министерстве брата Льва, увлёк за собой в Оренбург молодого и образованного чиновника. Но оказалось, что у него ещё не весь ветер вышел из головы.
Между тем Василий Алексеевич хорошо понимал, к чему не лежала душа племянников — к чиновнизму. Да, прав Алёша Толстой: вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, — начиная с поэзии и до устройства улиц... Он понимал и то, что дружба племянника с цесаревичем — золотая клетка. Ведь он сам был из того теста, что и племяши, и сам не мог и не захотел стать чьей-то ходячей принадлежностью.
И всё же Перовский не мог согласиться, что служба как таковая противопоказана творческой личности.
— Всё бросить легче, чем попытаться что-то в существующих порядках изменить. Это, если хочешь, признак того же эгоистического чиновника, привыкшего думать лишь о своей выгоде: раз не по мне — буду искать, что лично меня устраивает! Я назвал это эгоизмом, сиречь себялюбием. Но следовало бы определить такое поползновение лучше малодушием и трусостью.
— В вас, дядя, говорит генерал, — возразил Толстой.
— Генерал — это человек, который привык не бояться никаких, даже самых отчаянных, положений и не покидать панически поле боя. И ещё генерал — прежде всего думающий о тех, кто вверил ему свои жизни. Согласен: ты вправе уйти! Но лишь тогда, когда проявишь себя на том поприще, которое сочтёшь делом всей жизни.
— Но я нашёл опору. Она — моя Софи.
— Опора для человека должна быть не вовне, а внутри его.
5
В Петербурге ставили пьесу «Безденежье» — молодого, но многообещающего литератора Тургенева. Его «Записки охотника», недавно увидевшие свет, имели успех в обществе — так естественно, правдиво и вместе с тем сострадательно русская литература, пожалуй, ещё не говорила о деревне и мужике. И вот уже автор — драматург.
Александра Осиповна Смирнова, известная когда-то фрейлина Россет, приятельница Пушкина, Лермонтова и других знаменитых писателей, не могла не воспользоваться пребыванием Тургенева в столице и не пригласить его к себе.
Гостей оказалось немного, и среди них — давний друг семьи Алексей Толстой.
Не прошло ещё и месяца с того дня, как Москва проводила в последний путь Гоголя, и посему разговор за обедом не мог не коснуться его памяти.
Толстой когда-то был довольно знаком с покойным. Первый раз они встретились, кажется, в 1837 году во Франкфурте-на-Майне, где в ту пору Алексей был приписан к русской миссии. И надо же такому случиться: в гостинице писатель принял своего юного соотечественника в странном наряде — завёрнутым в простыню и одеяло.
Всё объяснилось тут же: Гоголь, готовясь к отъезду, наказал служителю гостиницы к раннему утру упаковать все вещи, вплоть до мелочей, чтобы отправить багаж заранее, впереди экипажа, как обычно и делалось при дальних переездах. Ну лакей буквально выполнил приказание, уложив в сундуки весь гоголевский скарб, вплоть до костюма, в котором сам пассажир должен был ехать.
Не являлось ли это намеренным розыгрышем, рассчитанным на публику, затруднительно сказать. Автор «Сорочинской ярмарки» и «Ревизора» — со вздёрнутым хохолком на голове и смеющимися глазами — мог выкинуть любую шутку.
Через год в Риме Толстой его узнал с трудом: ничего напоминающего склонного к розыгрышам малоросса ни в речи, ни в жестах уже не осталось. Одет он был строго, по-европейски и, гуляя по великому городу, солидно рассказывал о достопримечательностях, словно не замечая, что и другие его знакомые не менее его сведущи в истории Рима.
В ту пору здесь как раз находились Александра Осиповна, знавшая Толстого с ранних лет, поскольку в молодости являлась подругой Анны Алексеевны Толстой, и Жуковский.
Тогда Толстой, чтобы не казаться нескромным, делал вид, что совершенно не прислушивается к разговору двух знаменитых писателей, но в то же время старался не пропустить ни слова из того, что вдохновенно говорил Гоголь Василию Андреевичу: «Мёртвые души» здесь, за границей, текут у меня живо, живее и бодрее, чем дома, и мне совершенно кажется, что будто я в России: передо мною все наши — наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь».
Жуковский напомнил, как Николай Васильевич два года назад писал ему, что львиную силу чувствует в душе своей и верит: обязательно сделает то, что не совершит обыкновенный человек. Пушкин ли возжёг такую уверенность в авторе? Да кто ж не вдохновится, не соберёт все свои возможности, услышав сердечное благословение гения!
Первые страницы поэмы набросал ещё в Петербурге, но закапризничал, закуксился, когда начались холода в стылой Северной Пальмире, и, схватив начатую рукопись, вырвался в Европу. Осень на юге Швейцарии, в городке Веве, где остановился Гоголь, стояла прекрасная. В комнатке у него было тепло, и он, вытащив из чемодана листы с набросками, вновь принялся за свой замысел. Всё начатое переделал, обдумал более весь план и теперь вёл его спокойно, как летопись. Всё в нём жило невиданно мощно, картины строились живые, яркие, и он, не скрывая высокости душевного озарения, писал тому же Василию Андреевичу: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то вся Русь явится в нём! Это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет моё имя...»
Всем хотелось послушать, что же ложится на бумагу в скромном уединении художника, но он уклонялся от чтения. Наконец вышел первый том долгожданной поэмы — и как предсказывал сам автор в начале своей работы: «...ещё восстанут против меня новые сословия и много разных господ», так, собственно, и произошло.
Если «Ревизор» оказался портретом тупого, алчного, погрязшего во взятках и истязающего, грабящего народ николаевского чиновничества, то в «Мёртвых душах» увидели портрет всей крепостнической России — с её обиралами-помещиками, с сонмом губернского и уездного бездарного дворянства.
Сам заколебался: а то ли получилось, что хотел? И лихорадочно принялся за второй том, в котором — как бы в противовес тому, что создал, — задумал вывести идеальных, с кого брать пример, положительных личностей. Рвал и сжигал целые главы. Решил издать что-то вроде откровенного объяснения с читателями — «Выбранные места из переписки с друзьями», но книгой сей восстановил против себя не только ретроградов, но и тех, кто ходил в радикалах. В ту нелёгкую, полную раздирающих душу сомнений пору, летом 1849 года Александра Осиповна и её муж Николай Михайлович Смирнов, калужский губернатор, упросили писателя приехать к ним развеяться и отдохнуть.
На губернаторской даче под Калугой Гоголь и впрямь стал заметно успокаиваться, отмякать и приходить в себя. Сначала бродил в одиночестве по полям, собирая гербарий из растении и цветов, затем увлёкся хороводами, что водили крестьянские девушки, стал записывать в книжечку слова народных песен. Вскоре в гостиной от него услышали: «Может, почитать что-либо из второй части поэмы?»
Обрадовался, увидев у Смирновых знакомого ещё по Германии и Италии юношу: «Бьюсь об заклад, что и вы не лишены этой страсти — сочинять! На грани отрочества и молодости я имел честь несколько раз видеть в Нежине, в нашей гимназии высших наук, вашего дядюшку — Алексея Алексеевича Перовского, известного в литературе Антония Погорельского. Не скажу, что прямо вышел из его попечительского профессорского сюртука, но, бесспорно, малороссийские повести, что он сочинял, не могли не подвигнуть и меня на первую пробу пера. А вы что изволите писать?»
Толстой почувствовал, как вспыхнули щёки, но Александра Осиповна приободрила: «Ну-ну, Алёша, не смущайся! Разве «Князь Серебряный», которого ты задумал, не настоящее сочинение? Аннет мне говорила, какие замечательные сцены ты изобразил из времён Иоанна Грозного. Прочти же Николаю Васильевичу и всем нам».
Сначала по привычке Гоголь морщил лоб, беспокойно поводил в стороны длинным, с тонким кончиком, носом, беспокойно покусывал навитую на нервные пальцы прядь волос. Но по мере того как Толстой читал наизусть, без рукописи, сцену царского пира, лик Николая Васильевича разглаживался. «О Господи, как же не только мрачна, но и ужасна Русь!.. — выдохнул он. — Эти пиры, на которых потоками лились вино и кровь, эти пытки и унижения... А может, всё-таки к добру, к добру надо звать, не потчуя читателя всеми мерзостями человеческих натур?» — прищурил он один глаз, спрашивая, должно быть, не столько молодого автора, сколько себя самого.
Сейчас, в своём петербургском доме, ещё на редкость подвижная, по-прежнему миниатюрная, напоминающая цыганку Александра Осиповна вместе с гостями вспоминала немало дорогих подробностей из встреч с прославленным создателем «Мёртвых душ».
— Удивительно мы черствы к своим гениям! Пушкин, Лермонтов, теперь — Гоголь... Сколько они страдали при жизни от безразличия к ним либо же вовсе из-за глухого непонимания! — вздохнула она.
— Хуже, когда и смерть не мирит их с обществом! — по обыкновению, очень высоким, так не гармонирующим с его маститой фигурой голосом воскликнул Тургенев. — Вспомните, ни одна столичная газета не пролила чистую, искреннюю слезу над прахом одного из самых больших сынов России, не возвысила его имя до истинных высот, на которые он поднял всю русскую литературу! А ведь этого человека мы имеем право — к сожалению, горькое право, данное нам смертью, — назвать великим!
— Так ведь это же, Иван Сергеевич, ваш долг — идущих за Гоголем — произнести и изустно, и печатно о нём слово! — Живое, смуглого оттенка лицо Александры Осиповны воспламенилось румянцем.
— Да запретили же — чтобы нигде ни строчки! — тонко пропел Тургенев. — Как только до меня дошла печальная весть из Москвы, кинулся в редакции. А там — от ворот-с поворот-с! Но я не сдался — отправил статью, назвав её «Письмом из Петербурга», друзьям в Первопрестольную, где они обещали попробовать тиснуть моё слово в «Московских ведомостях».
— Так и написали: Гоголь — великий? — Чёрные глаза Смирновой-Россет вспыхнули золотыми искорками.
— Это и высказал. И ещё то, что Гоголь своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, явился человеком, которым мы гордимся как одной из слав наших.
Чёрная, аккуратно причёсанная головка Александры Осиповны резко вскинулась вверх, вдохновенное выражение сменилось лукавством:
— Ой ли, Иван Сергеевич! Да вы знаете, о ком можно так: «великий», «одна из слав наших»? Вы, простите, или наивный, или очень смелый человек. А мы с Алёшей, — глянула на Толстого, — слишком хорошо знаем круг людей, которым ваши слова, мягко говоря, не совсем понравятся... Однако дай Бог, дай Бог!.. Кому-то ведь надо когда-нибудь говорить правду. А ежели вы, писатели, начнёте рассуждать, что угодно высочайшему уху, что — нет, не будет у нас никогда больше Пушкиных и Гоголей. И кто же тогда возвысит нашу словесность?..
Нумер «Московских ведомостей» от 13 марта 1852 года со статьёй Тургенева вскоре был доставлен в столицу. Поначалу казалось, что всё будто бы может обойтись. Но во второй половине апреля Толстой узнал, что Тургенев арестован и водворён на съезжую Второй Адмиралтейской части.
С Тургеневым, честно говоря, он был не очень близко знаком. Кажется, после восемьсот сорок третьего года, когда тот вернулся из Германии, видел его раз или два у дяди Льва Алексеевича. У него в министерстве внутренних дел Тургенев, прослушавший курс в Берлинском университете, начал служить под началом Владимира Ивановича Даля. Министр Перовский тогда многим говорил, что Даль и Тургенев принялись готовить под его руководством важную бумагу о положении крестьян, которая, видимо, будет представлена на высочайшее имя.
Насколько острым и солидным оказался сей труд, Толстой не мог, разумеется, знать. Но, судя по уже опубликованным рассказам из «Записок охотника», Тургенев хорошо изучил крестьянскую жизнь. Кроме того, вещи были так мастерски написаны, что Толстой признавался Софье Андреевне, что, читая их, он чувствовал, как энтузиазм поднимался к голове по спинному хребту, так же, как когда читаешь прекрасные стихи.
Софья Андреевна, оказалось, тоже встречалась где-то с Тургеневым и отзывалась о нём как об очень благородном и достойном человеке. Она даже находила, что у Ивана Сергеевича что-то юпитерское в лице, на что Толстой пожимал плечами и отвечал: «Просто хорошее лицо, довольно слабое и даже не очень красивое. Рот в особенности очень слаб. Форма лба хорошая, но череп покрыт жирными телесными слоями. Он весь мягкий, как мои ногти».
Впрочем, какое сейчас всё это имело значение, когда один замечательный художник сказал слова правды о другом художнике, да каком — поистине русском гении! — и за это — кутузка.
Сразу же в голове возникло решение — к наследнику! Что ж, права Александра Осиповна: она, бывшая блестящая фрейлина, и он, друг цесаревича, знают жизнь самых верхов изнутри, но это и давало Толстому право действовать смело и наверняка.
Великий князь, как всегда, встретил друга более чем радушно:
— Вот кстати, а я хотел к тебе посылать: сегодня ты обедаешь у меня. — И, выслушав сообщение, с которым Толстой пришёл: — Признаться, Алёша, я в сие дело не вникал, но слышал о нём от императора. Насколько я понял, к этому Тургеневу имеются претензии не только в связи со статьёй о Гоголе, но и по поводу его «Записок охотника».
Толстой был учтив, но настойчив:
— Вы сами, ваше высочество, помнится, читали эти рассказы, и надеюсь, и теперь вряд ли найдёте в них нечто предосудительное, как не нашёл в них ничего подобного и я.
Александр Николаевич мягко улыбнулся и взял друга под руку, направляясь с ним по длинной анфиладе Аничкова дворца к комнатам великой княгини.
— Мария Александровна на днях о тебе мило вспоминала. Надеюсь, ты что-нибудь новенькое приготовил из стихов, чтобы ей прочесть? Ну-ну, не стоит опережать события — пусть это будет твой маленький, но такой для всех нас дорогой сюрприз. — И, остановившись: — Насчёт же Тургенева... Ты ведь знаешь, как я ценю нашу дружбу и верю, что ты хотел бы облегчить судьбу литератора, хотя и не вполне осмотрительного, на мой взгляд, человека... Однако, Алёша, наперёд ничего твёрдо обещать не могу. Ты ведь знаешь: высочайшее повеление... Тем не менее попытаюсь... Итак, до обеда!..
В арестантскую к Тургеневу было запрещено допускать знакомых. Но Толстой всё же заручился у великого князя особым разрешением передать узнику хотя бы книги для чтения и свою записку. В ней он просил Ивана Сергеевича срочно написать письмо наследнику с просьбой разрешить вернуться на жительство в Петербург.
Или великий князь не отважился на разговор с отцом-императором, или же сам не счёл, в конце концов, проступок писателя достойным прощения, но по высочайшему повелению Тургенева выслали из столицы в его родовое имение Спасское-Лутовиново со строжайшим приказом сего места не покидать ни при каких обстоятельствах.
Ссылка затянулась до глухой осени, и окончания ей не предвиделось. А писатель намеревался ехать во Францию, где его ждали друзья, но перед этим следовало появиться в Петербурге, чтобы выправить заграничный паспорт. Только дороги — ни в столицу, ни даже в соседнюю деревню... И тогда Толстой сам решил обратиться к шефу Третьего отделения графу Орлову как бы от имени наследника.
Граф Алексей Фёдорович выслушал Толстого и представил доклад государю о разрешении литератору Тургеневу жить в столице, на котором царь начертал: «Согласен, но иметь под строгим здесь присмотром». Шеф жандармов был доволен, что исполнил просьбу великого князя, и во изъявление преданности счёл необходимым его об этом известить. Для этого он написал ему письмо и передал его для отправки начальнику штаба корпуса жандармов генералу Дубельту.
Узнав об этом от самого же Алексея Фёдоровича, Толстой опешил — с его стороны это подлог, который немедленно раскроется! Не думал он, что канцелярская машина, ржавая, малоподвижная, вдруг проявит такую прыть. Но мёртвой и ржавой, готовой похоронить любую дельную и важную бумагу, она могла быть во всех иных случаях, но не тогда, когда дело касалось самых влиятельных особ и их просьб. Тут уж — по всем инстанциям, навытяжку, с умилением и рабским почтением: «Так точно!.. Ваше повеление исполнено!..»
Конечно, поступок Толстого выглядел весьма нелестно, но разве то, что сотворили с русским литератором, упрятав его сначала в каталажку, потом в ссылку, было высокоморально, нравственно и честно? Впрочем, его, смело поступившего во имя высшей справедливости, пока никто ещё не обвинял, и надо было действовать, чтобы письмо не ушло к адресату. Для этого следовало не мешкая идти к Дубельту.
Дубельт слыл человеком Бенкендорфа, унаследовавшим вероломство и мстительность своего наставника. Когда-то он, как и братья Лев и Василий Перовские, попал в алфавит лиц, прикосновенных к четырнадцатому декабря. Но если со временем о том уже многие забыли, то сам Дубельт помнил, что действительно принадлежал к членам масонской ложи «Соединённых славян» в Киеве, числившейся тайным обществом.
Он об этом помнил, да ещё как! Когда ещё в 1816 году Леонтий Васильевич узнал, что его участие в ложе раскрыто лицом, служившим в одном с ним полку, он, штаб-офицер, стал всячески то лицо преследовать. А уж затем так ревностно сам начал выкорчёвывать революционную заразу, что опережал в рвении даже Бенкендорфа.
В Петербурге говорили, как в 1847 году, когда на Украине было раскрыто Кирилло-Мефодиевское славянское братство, члены которого всего-навсего мечтали лишь о процветании славянских культур, он, сам в прошлом член более опасной организации, из кожи вон лез, чтобы доказать свою преданность престолу, и из мухи сделал слона.
Император тогда болел, и Леонтий Васильевич, всецело взяв дело в свои руки, нарисовал перед наследником ужасающую картину заговора. Одного из кирилломефодиевцев, бывшего крепостного, а тогда вольноотпущенного, только недавно окончившего Академию художеств живописца и преподавателя Киевского университета Шевченко Тараса Григорьева он допрашивал лично. В ход шли угрозы пытками, самые площадные слова и надругательства. В конце же, обозвав арестованного извергом рода человеческого, генерал плюнул ему в лицо и тут же, как делал это Бенкендорф, брезгливо вытер пальцы шёлковым платком.
Два года назад не кто иной, как генерал Перовский, вновь напомнил Леонтию Васильевичу о судьбе Шевченко. Дело в том, что отправленный в ссылку рядовым оренбургских линейных батальонов Шевченко служил, по отзывам начальства, отменно — и не настало ли время изменить его судьбу? Предлог у Перовского был вроде бы служебный — генерал готовился после длительного перерыва снова принять командование Оренбургским отдельным корпусом и вступить в права генерал-губернатора сего обширного края. К тому же Василий Алексеевич обращался к Леонтию Васильевичу как бы и на правах давнего сослуживца по войне двенадцатого года — так сказать, как ветеран к ветерану.
«Зная, как у Вас мало времени, — писал Перовский, — я не намерен докучать Вам личными объяснениями и потому, прилагая при сем записку об одном деле, прошу покорнейше Ваше превосходительство прочесть её в свободную минуту, а потом уведомить меня: можно ли что-либо, по Вашему мнению, предпринять в облегчении участи Шевченко?»
Приложенная записка содержала рекомендацию отлично несущему службу рядовому и была заверена подписью командующего Оренбургским корпусом. Упоминался в записке и другой, для чутких людей важный мотив: Шевченко около сорока лет и он весьма слабого и ненадёжного сложения...
Ответ от Дубельта Перовскому был такой: «Вследствие записки Вашего превосходительства... я счёл обязанностью доложить г-ну генерал-адъютанту графу Орлову... Его сиятельство... изволили отозваться, что, при всём искреннем желании сделать в настоящем случае угодное Вашему высокопревосходительству, полагает рановременным входить со всеподданнейшим докладом...»
Граф Толстой, Дубельт знал, был племянником генерала Перовского, чью просьбу он не нашёл возможным удовлетворить, однако же племянник этот — ближайший друг наследника престола. По какому же такому случаю ко мне?
Леонтий Васильевич даже ножкою шаркнул:
— Какими судьбами, ваше сиятельство? Уж не по поручению ли вновь его императорского высочества?
Толстой свободно расположился в кресле — одна нога небрежно перекинута через другую, речь слегка замедленная:
— О да, ваше превосходительство, наследник, как вы знаете, весьма внимателен к каждому моему слову, но случается, что некоторые высокопоставленные и весьма уважаемые люди иногда могут истолковать мои, графа Толстого, слова — как бы вам это точнее сказать? — в качестве прямой просьбы или ходатайства великого князя, зная наши с ним отношения. Так, недавно граф Алексей Фёдорович, которому я поведал о своём разговоре с его императорским высочеством по поводу судьбы некоего Тургенева, вероятно, не совсем правильно меня понял и, как он сам теперь сообщил, якобы даже написал письмо цесаревичу.
Лицо Дубельта приняло сразу как бы два выражения — и лисье, перешедшее к нему, должно быть, от Бенкендорфа, и волчье, собственное.
— М-да, письмо графа Алексея Фёдоровича наследнику как раз у меня, приготовленное к отправке, — произнёс Дубельт, а про себя мучительно стал размышлять: так что же делать, как понять слова графа Толстого — как просьбу или указание? Или, не дай Бог, как уличение в нашей собственной ошибке?
Мучительность этой трудной мысли даже капельками пота проступила на генеральском челе.
— С вашего позволения я тотчас снесусь с Алексеем Фёдоровичем. Да, конечно же мы непременно изменим смысл бумаги. — И вдруг, как бы споткнувшись: — Однако, как мне сейчас показалось, вернее будет такое письме вовсе не посылать? Не так ли?
Толстой уже встал — тонкая трость играючи, небрежно вращалась в его изящных, унизанных дорогими перстнями пальцах.
— Я полагаю, генерал, вы меня правильно поняли.
У самого Цепного моста он не удержался и, оглянувшись на двери, из которых только что вышел, усмехнулся: «Где вы, братцы Жемчужниковы? Увидали бы меня сейчас — лопнули бы от зависти: так облапошить жандармских генералов!»
6
Тургенев снял дачу на лето у Финского залива, всего в двух вёрстах от Петергофа.
Над верхушками соснового леса из окон виднелось море, и так приятно было писать, глядя на его бескрайнюю, в вечном движении гладь, успокаивающую душу и навевающую хорошие мысли.
Устраивало Ивана Сергеевича и то, что невдалеке снимали жильё Некрасов и Панаев, часто могли наезжать знакомые из столицы.
Время для дачного сезона, скажем, было выбрано не самое расчудесное — в феврале этого, восемьсот пятьдесят четвёртого года Россия вступила в войну с Англией и Францией, и вражеский флот, войдя в Чёрное море, начал осаду Севастополя[42].
Конечно, война громыхала далеко. Но летом английская эскадра объявилась на Балтике. Петербуржцы, узнав о нависшей угрозе, двинулись в экипажах по дороге на Петергоф и Ораниенбаум, чтобы своими глазами увидеть неприятельские корабли.
Однажды, в середине июля, дачники и местные жители вздрогнули от громких залпов мощных крепостных пушек в Кронштадте и увидели, как врассыпную стали расходиться вражеские военные суда. Грозный предупредительный огонь вели орудия и в последующие сутки.
Как раз в один из таких тревожных дней к Ивану Сергеевичу приехал Толстой.
Тургенев оказался несказанно рад визиту — после возвращения из Спасского в Петербург они успели подружиться и не раз втроём — он, Толстой и Софья Андреевна — проводили вместе чуть ли не целые дни.
Иначе как о человеке сердечном, который достоин только большого уважения и благодарности, Тургенев не мог говорить с друзьями об Алексее Константиновиче. Ещё будучи в Спасском, он написал Софье Андреевне о том, как благородно проявил себя её избранник во время его, Тургенева, злополучного ареста и ссылки: «Он едва знал меня, когда случился мой неприятный случай, и, несмотря на это, никто мне не выказал столько сочувствия, как он, и сегодня ещё он, может быть, единственный человек в Петербурге, который меня не забыл, единственный, по крайней мере, который это доказывает. Какой-то жалкий субъект вздумал говорить, что благодарность — тяжёлая ноша; для меня же — я счастлив, что благодарен Толстому, — всю жизнь сохраню к нему это чувство».
Пожалуй, Тургенев, возвратившись в столицу, по-настоящему и ввёл своего нового друга в литературную среду — в частности, познакомил с Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Григоровичем, Писемским и другими литераторами, составлявшими круг сотрудников «Современника»[43].
Некрасов тут же предложил новому автору напечататься у них, и читатели «Современника» впервые встретили под стихотворениями имя Алексея Толстого.
По пятницам Николай Алексеевич приглашал на традиционные обеды немало писателей и журналистов, заманивая теперь в рассылаемых билетах не только, положим, именем Тургенева, но и новым поэтом — Алексеем Толстым.
Проторили дорогу в журнал и кузены Толстого — здесь в том же восемьсот пятьдесят четвёртом году, что и лирические толстовские произведения, в специально затеянном разделе «Ералаш», со стихотворным напутствием Некрасова, впервые появились опусы некоего Козьмы Пруткова. Это было коллективное творчество Толстого и его двоюродных братьев, положившее начало одной из самых знаменитых юмористических и пародийных мистификаций в русской литературе.
В то утро в Петергоф Толстой приехал не очень рано, чтобы не нарушить писательское вдохновение, но и не к самому обеду, чтобы не смутить холостяка, вряд ли озабоченного приготовлением для себя разнообразных блюд.
— А я ещё, Алексей Константинович, представьте, не завтракал, — встретил гостя хозяин. — Так что милости прошу со мной за компанию. Вы как, к примеру, относитесь к французской кухне? Ну, «кухня» сказано громко, моя приходящая кухарка вряд ли способна смастерить что-либо похожее на парижский стол, но чем-то средним между омлетом и русской глазуньей я вас попотчую.
На столе появилась горячая сковорода, и хозяин разложил по тарелкам угощение.
— Отменное блюдо! — воскликнул гость.
— Я так и подумал, что мой сегодняшний завтрак вам придётся по душе — как в доме Левы Жемчужникова, когда вы сами в кастрюле приготовляли вместе с любезной Софьей Андреевной замечательное жаркое или рыбу. До сих пор вспоминаю — пальчики оближешь!
Дружеские, на скорую руку обеды, которые вспомнил Тургенев, и впрямь были вкусны. Их взялся готовить Алексей Константинович, когда его двоюродный брат Лев, художник, снял в Петербурге домик в качестве мастерской и запасные ключи передал Толстому. Тут-то, сразу по возвращении из ссылки Ивана Сергеевича, и стали встречаться Софья Андреевна и двое писателей.
— Эх, приехали бы вы ко мне в Спасское — сразу бы вам салат из дичи, жареные рябчики, а то и фаршированный заяц! И все, представьте себе, из моих охотничьих угодий, заготовленное, так сказать, собственноручно.
На стене, на самом виду, красовались два отличных охотничьих ружья в соседстве с такими же роскошными кожаными патронташами и ягдташами.
— «Форсайт»? — встал со стула и подошёл к стене Алексей Константинович.
— Как вы угадали, что ружья английские? — удивился Иван Сергеевич. — Впрочем, я совершенно выпустил из головы, что мы с вами увлечены одною страстью — охотой! Правда, перед вами, медвежатником, я сущий ребёнок: вальдшнепы, куропатки — вот на что я способен. Даже на косого зимой иду, в отличие от моих егерей, с неохотой: я очень зябок... Всё намереваюсь как-нибудь подалее забраться в наши с вами родные Брянские леса. Я всё — по закраинкам, по опушечкам вроде, а у вас там, в самых дебрях, вокруг вашего Красного Рога, говорят, и медведи, и лоси, и для меня, конечно, любимая боровая птица — тетерев!
Лицо Толстого выразило счастливое умиление:
— Не бередите, голубчик, мне душу, а то брошу всё — и к себе в лес.
— Ну, тогда уж давайте вдвоём, но сначала — ко мне, в Спасское. Там у меня, признаюсь, всю зиму кормилось двенадцать куропаток — на развод. Егеря их в марте выпустили на волю. Ныне, считайте, имеется целый выводок. Зимой был у меня Некрасов, оставил своих собак. Значит, с моими — целая свора обученных псов — и на дичь, и на зверя. Ну и вот эти отменные ружья тогда в вашем распоряжении.
Толстой всё не выпускал из рук двустволку, которую снял со стены, поглаживая ладонью синюю воронёную сталь стволов, внимательно разглядывая инкрустированную серебром шейку приклада.
— Да, знаменитая фирма Форсайтов, — снял второе ружьё Тургенев. — В прошлом году, пользуясь спешным отъездом из Петербурга английского посла сэра Гамильтона Сайруса, мне посчастливилось их очень дёшево купить. До сих пор опомниться не могу, как повезло... Однако ружьишками из Англии, как видите, нынче дело не ограничивается — вон какие стволы с моря направили на Кронштадт и Петербург подданные её величества королевы Виктории. Как бы не началась здесь, у Петергофа, охота на двуногих!..
Залив из широко распахнутых окон был как на ладони, и далеко на горизонте рваной, но всё же отсюда различимой простым глазом ниточкой виднелись английские корабли. Толстой долго вглядывался в даль, затем отошёл от окна и улыбнулся:
— А что, Иван Сергеевич, нанять бы десяток-другой крепких и ладных молодцов, укрыть их на том, финском, берегу в шхерах, а с наступлением темноты — на вёсла и туда, к кораблям! Крюки с верёвками — за борт, на палубу и — бац, бац! Кого — в море, кого — в плен, на берег, а корветы и фрегаты со всеми их пушками — на дно.
— А что, — в тон подхватил Тургенев. — Вам — и титул храброго пиратского адмирала! Во-первых, охотник, во-вторых, знаменитый член петербургского яхт-клуба.
Но улыбка сошла с лица Алексея Константиновича:
— А вы бы пошли со мной?
Были они, можно сказать, ровесники: Толстому в августе исполнится тридцать семь, Ивану Сергеевичу осенью — тридцать шесть.
— Разговор, конечно, у нас шутейный, но если хотите мой настрой — я охотно пожертвовал бы своею правой рукой, лишь бы ни один из вторгшихся к нам врагов не остался безнаказанным. И если я о чём-нибудь сожалею, то лишь о том, что не избрал для себя военное поприще.
Голос Ивана Сергеевича, когда он произносил эти слова, сделался особенно высок и тонок, голова гордо запрокинулась, открывая породистое лицо, в котором и впрямь проявились вдруг значительные черты. Но нет, тут же сказал себе Толстой, он мягок; очень добр, порядочен — но всё же мягок.
Взгляд Тургенева тоже заскользил по физиономии собеседника, и только тут он заметил на ней небольшую, но резко изменившую общее выражение деталь — усы. Их ещё совсем недавно не было, а ныне они выглядели совершенно раскустившимися, как у настоящего воина.
А вдруг он и в самом деле не импровизировал насчёт морских нападений? Вдруг он всё это продумал, взвесил, поделился мыслью со сторонниками, а сюда приехал, чтобы лучше рассмотреть театр будущих боевых действий?
— Признайтесь, Алексей Константинович, вы и ко мне заехали не на чашечку кофе?
Толстой расхохотался:
— Куда нам с вами, сугубо статским, да в строй, милейший Тургенев? Вот как-нибудь и вправду закатимся однажды с вами в Брянские леса, то-то постреляем!..
Меж тем Тургенев был весьма близок в своей догадке к действительности: его гость объезжал берега залива который уже день, чтобы как следует изучить местность, где можно было бы разместить партизанские яхты. Он уже заказал в Туле у оружейников несколько десятков карабинов с нарезными стволами, чтобы на дальнее расстояние вести прицельный огонь, вёл переговоры в Петербурге о приобретении быстроходных катеров. Замысел держался в глубокой тайне, пока Толстой не убедился, что предприятие не только рискованное, но и трудновыполнимое.
Стремление же принести настоящую, ощутимую пользу родине, отражавшей натиск врага, не иссякало.
— А что, если создать боевую дружину из царских крестьян? — высказал он однажды пришедшую ему мысль дяде Льву.
— Опоздал! — ответил ему Лев Алексеевич. — Вот рескрипт, повелевающий мне образовать стрелковый полк императорского семейства из удельных крестьян.
Русская армия истекала кровью в осаждённом Севастополе, все силы державы были напряжены, и, казалось, не существовало никакой возможности как-то укрепить мощь войск, поднять их боевой и патриотический дух.
Лев Алексеевич Перовский, став с 1852 года министром уделов, то есть как бы главноуправляющим огромным, разбросанным почти по всей стране помещичьим хозяйством императорской фамилии, решил за счёт царских крестьян создать ударную силу войны. В полк записали ратников из Новгородской, Архангельской, Нижегородской и Вологодской губерний, преимущественно искусных охотников, мужиков крепких и выносливых. И награду им посулили — в месяц три рубля серебром.
Министр так преподнёс свою идею, что Николаю Первому представилось, будто до этого он додумался сам, и посему поручил, тоже как бы в качестве награды, стать Льву Алексеевичу шефом полка. Толстой загорелся дядюшкиным начинанием, взяв на себя обязанность создать рисунки новой, напоминающей экипировку былинных богатырей, формы.
Вскоре наряду с поражением в Севастополе Россию потрясла другая печальная весть — кончина императора Николая Павловича. Смерть его была так неожиданна и загадочна, что многие были склонны верить, что царь ушёл из жизни, оказавшись не в силах вынести тяжёлую и трагическую военную страду.
Толстой все траурные дни находился рядом с великим князем, который стал уже императором Александром Вторым. И, выражая верность и преданность другу детства, человеку, который в нелёгкий час принял верховную власть, выразил горячее желание вместе с царским полком выступить в поход к театру войны. Так из младшего чиновника Второго отделения его императорского величества канцелярии он стал майором.
В селе Медведь, где когда-то размещались военные поселения, созданные Аракчеевым, полк завершил формирование и после высочайшего смотра в Царском Селе двинулся на юг.
Новый император был несказанно восхищен бравым видом отобранных молодцов, а когда сотни песенников грянули: «Слава на небе солнцу высокому! Слава! На земле государю великому слава!» и «Уж как молодцы пируют...», глаза Александра Николаевича увлажнились. Он никогда не слыхал этих песен и тут же осведомился, кто и когда их создал.
После парада майор граф Толстой был вызван к императору. Его величество обнял друга:
— Алёша, благодарю! Ты не представляешь, какие окрыляющие душу гимны ты сложил. Это как когда-то у Жуковского «Певец во стане русских воинов». Как там во второй твоей песне?
Толстой напомнил и тут же вручил его величеству переписанный текст:
Уж как молодцы пирую! Вкруг дубового стола; Их кафтаны нараспашку. Их беседа весела. По столу-то ходят чарки, Золочёные звенят. Что же чарки говорят? Вот что чарки говорят: Нет! Нет! Не бывать, Не бывать тому, Чтобы мог француз Нашу Русь завоевать! Нет!К концу года стрелки достигли Одессы. Для стоянки полка были назначены три больших селения, где накануне свирепствовал тиф. В только что расквартированных батальонах открылась зараза.
Второго марта 1856 года министр Перовский получил из Одессы от проживавшего там графа Строганова послание: «Я адресую Вам эти строки, г-н граф, чтобы сообщить Вам новости о Вашем племяннике Алексее Толстом — сегодня ему несколько лучше, хотя ещё он не вполне вне опасности. Врач, который его лечит... это человек с талантом и опытом, в этом отношении Вы можете быть спокойны. Ваш племянник заболел тифом... Многие его товарищи также больны... Я думаю, что Вы не должны сообщать о моём письме г-же Вашей сестре — возможно, она не знает о его болезни, зачем тогда ей говорить об этом...»
Лев Алексеевич положил сообщение на стол императору.
— Как? Несчастье с Алёшей? Немедленно передать, чтобы все меры, какие только возможны...
— Ваше величество, я уже заготовил телеграмму в Одессу о том, чтобы ежедневно вам доносили о состоянии здоровья графа Толстого.
— Да, да, я сейчас подпишу депешу. Буду с нетерпением ожидать известий по телеграфу. Дай Бог, чтобы они были удовлетворительны.
А в это время на перекладных, чуть ли не через половину России, почти не тратя время на еду и сокращая остановки и ночлеги — только бы успеть! — мчалась в Одессу Софья Андреевна.
7
Солнце слепило, мириадами золотых и серебряных искр отражаясь от морской глади. Ветер нёс запах йода, белые чайки, качаясь на чёрно-зелёных волнах, увенчанных пенными, вскипающими на глазах гребешками, вдруг взмывали вверх и с гортанным криком низко опускались к воде.
Он радостно жмурился на солнце, ощущая его тепло и ласку, вдыхая всей грудью свежий, бодрящий воздух, и думал, какое же это блаженство и счастье — вбирать в себя праздничную радость мира! Неужели к нему снова возвратилась жизнь, которую он всегда так любил и которой постоянно радовался?
Он сделал ещё несколько шагов по направлению к берегу и вдруг опёрся о плечо Льва Жемчужникова.
— Слегка закружилась голова, — слабо улыбнулся. — Знать, с непривычки. Но я уже сегодня прошёл восемьдесят семь шагов! Надо бы сто, как и задумал. Погоди, передохну.
Минула всего какая-нибудь неделя с тех пор, как Толстой вслед за Владимиром Жемчужниковым вышел после болезни из дома.
Дом, который они снимали в Одессе — большой, каменный, в два этажа, с просторным двором, — долгое время являлся для них и ещё нескольких офицеров полка и госпиталем, и тюрьмой, куда заточил их коварный и беспощадный тиф. И только благодаря внимательному уходу доктора Меринга, профессора Киевского университета, да железному здоровью больных им удалось пересилить недуг.
Толстой заразился не сразу. Как только появились первые признаки эпидемии, он на собственные деньги закупил продовольствие для усиленного питания заболевших, сам ухаживал за ними, подыскал здание, чтобы устроить в нём лазарет сразу на четыреста человек.
Тиф, который свалил его самого, был в острой, тяжёлой форме. Толстой часто терял сознание, и когда открывал глаза — ему казалось, что он уже умер.
Однажды ему почудилось, что над ним склонилось чьё-то знакомое лицо. Не Софи ли? Но как она может оказаться здесь, в этой заражённой смертью степи?
Когда вновь вернулось сознание, он увидел её, и слёзы наполнили его глаза.
Да разве могла она, Софи, оставить его в беде, если и минувшим летом она не смогла усидеть в своём Смалькове и примчалась в село Медведь, где формировался их полк.
Софи нельзя было испугать ни самыми утомительными поездками по расхристанным российским дорогам, ни убогим бытом на станциях или в бедных деревенских избах.
Толстой, помнится, крайне изумился, впервые увидев свою любимую верхом на коне, скакавшую по смальковским полям. На ней были брюки, грубая, надёжно защищавшая от ветра суконная куртка, на ногах маленькие, аккуратные сапожки, ловко вдетые в стремена. Всадница грациозно и умело перелетала на лошади через глубокие овраги, мчалась по пашне, пересекала речку вброд. И это была его Софи — казалось, только и способная на то, чтобы часами, до рези в глазах, читать запоем книгу за книгой.
Летом, в селе Медведь, проделав путь почти от самой Волги через Москву, Петербург и Новгород, она — стройная, очаровательно улыбающаяся — бодро вышла из экипажа к нему навстречу.
— О, да ты как былинный витязь! — воскликнула она.
Толстой стоял перед ней облачённый в красную русскую рубаху, поверх которой окаймлённый галунами полукафтан с густыми эполетами, широкие шаровары, на голове шапка из меха, украшенная вместо эмблемы позолоченным православным крестом.
— Не правда ли, необычная для русского войска форма? — повернулся, показывая себя, Толстой. — Представь, это я и Володя Жемчужников набросали эскизы экипировки на бумаге, а дядя Лев и государь наши старания одобрили.
В сельском доме, куда он её тогда ввёл, Софи увидела на столе, заваленном книгами, свой портрет и букет ландышей и лесного жасмина.
Эти цветы он рано поутру сорвал в Княжьем Дворе, на окраине села. Там была пропасть ландышей, и они вдвоём с Софи ходили туда каждый день, пока она жила в селе.
Сейчас Софи снова оказалась с ним, и он был счастлив, хотя болезнь ещё цепко держала его в своих когтях.
Встав первым, Жемчужников Володя раздобыл где-то кресло-коляску, чтобы провезти хотя бы по двору слабого, давно не видевшего белого света и не вдыхавшего свежего воздуха Алёшу. Тут неожиданно объявился Лева и бросился к братьям:
— Живы! Хотя оба — кожа да кости. А Алёша-то, Алёша стал выше нас, Жемчужниковых! Это болезнь тебя так вытянула? Ну, теперь я — подмога Софье Андреевне, теперь мы вдвоём вас быстро поставим на ноги!
В октябре прошлого, 1855 года Лев встретил полк на юге Украины, на марше. Алёши среди стрелков не было — он задержался в Москве и должен был прибыть прямо в Одессу.
Лев ехал рядом с полком на сильном и стройном башкирце — скакуне, которого подарил Толстому Василий Алексеевич Перовский. Лев тоже спешил в Крым, в Севастополь, чтобы прямо на натуре написать героическую картину, которую задумал.
До Севастополя художник добрался. Но на военных дорогах увидел столько страданий, несчастий и неразберихи, что никак не решался взять в руки кисти или карандаш. Уже на подъезде к Крыму его поразило, как подводы, запряжённые волами, везли к фронту так необходимые гам порох, бомбы и ядра, делая в сутки всего двадцать пять вёрст, а не сто, как расписывало в своих реляциях военное министерство.
Недостаток снабжения ратными припасами был одной из главных причин падения крепости — русские артиллеристы, засыпаемые бомбами и ядрами неприятеля, вынуждены были на каждые его пятьдесят выстрелов отвечать только пятью.
Сколько ни ехал Лев по степи, всюду видел массу воловьих и конских трупов, переполненные ранеными солдатами и офицерами санитарные фуры, а то и простые телеги, в которых наваленные, как дрова, окровавленные, изуродованные солдатушки тряслись головами на голых досках — никто не позаботился даже подстелить им охапку сена или соломы.
Рассказывая теперь братьям об ужасах войны, а главное — о полной неподготовленности к ней в штабах, министерствах и ведомствах, Лев делал вывод:
— Мы, русские, — хвастуны ужасные и воображаем, что у нас всё лучше, а на деле изнурённые лошадёнки и войска, словом, всё — от стеснённой жизни безграмотного крестьянина до художника и науки, — всё не то, что следует, всё иначе, и между многими причинами несчастного состояния России — наше самохвальство, которое постоянно нас усыпляло и наконец усыпило.
Толстой медленно шагал вдоль полосы прибоя и думал, как же началась эта неудачная война, неужели при российской отсталости её нельзя было избежать?
Наше противостояние Турции продолжалось уже не один век. И Николай Павлович вступил с ней в войну в самом начале своего царствования, использовав в качестве предлога стремление греков избавиться от турецких притеснений. Ныне русский царь предъявлял свои претензии на святые для православия места — Константинополь и другие области.
При дворе Толстой не раз слышал и восторженные одобрения упорству и твёрдости Николая, и произносившиеся шёпотом порицания, что действует-де царь неосмотрительно. Пренебрегая истинными связями западных держав, он не скрывал, например, своего презрительного отношения к Наполеону Третьему и другим правителям Франции. Когда же его предупреждали дружески расположенные к России послы иностранных государств, что такая политика опасна, что рассерженная Франция станет непременно искать себе союзника в лице Англии, Николай Первый самоуверенно заявлял: даже если британский парламент будет против России, английская королева Виктория не позволит предпринять какие-либо серьёзные шаги против него, великого российского самодержца.
Самонадеянность царя дорого обошлась России: Франция и Англия объединились и пришли на помощь Турции. В результате Россия не только не получила права на новые земли, но потеряла для своего флота Чёрное море.
Лев, рослый, розовощёкий, шагавший рядом с бледными, обритыми наголо братьями, продолжал:
— Император Николай, вступивший на престол при громе пушек и при громе же орудий сошедший в могилу, наследовал безумие отца и мстительность и лицемерие своей бабки. До чего же неуклюжа и в то же время без конца повторяема российская история.
Владимир и Алексей, в отличие от Льва, хотели видеть войну не со стороны, а принять в ней живое участие. Пламя патриотического душевного подъёма не погасло в них и теперь. Но всё, о чём говорил Лев, было правдой. И правдой было, увы, и то, что из-за чьей-то преступной халатности, беззаботности и вечной российской привычки полагаться на авось их полк, так и не вступивший в бой с неприятелем, потерял более полутора тысяч человек от жестокой болезни, которой легко можно было избежать.
— Ты прав, Лева, история российская как началась, так и продолжается вот уже тысячу лет с одним, если можно так сказать, рефреном: «Земля наша обильна, порядка только нет», — произнёс Толстой.
— Однако, может, нынешняя трагедия кое-кого вразумит? — выразил надежду Владимир. Был он на тринадцать лет моложе Толстого и на два года — Льва и посему старался более слушать, чем высказывать своё мнение.
— Алёша знает нового царя с детства, — ответил Лев. — Но полагаю, дело не столько в том, что Александра Николаевича воспитал поэт Жуковский и он, положим, добрее и человечнее, чем его почивший в Бозе родитель. Что-то в нас есть такое — российское, твердолобое, негнущееся, презирающее всякое проявление светлого и разумного. Как проблеснуло у кого-либо что-то непохожее на общепринятую идею — в рот кляп, на руки и ноги кандалы!..
Весна только вступила в свои права, но в воздухе уже разлилась теплынь. Толстой радостно жмурился на солнце, и ему казалось, что нет, жизнь не возвращается, а начинается новая, другая жизнь — чистая, светлая, в которой уже не будет лжи и притворства и к которой он всегда стремился. Только надо не спасовать перед ней, не испугаться всего того, что ей противостоит, что ей враждебно и чуждо. Осилил же он болезнь и даже надвигавшуюся за нею следом смерть, не дал им победить себя. Теперь же...
— Теперь война и смерть позади, и мы должны радоваться каждому дню — свету, морю, деревьям... А что, если нам всей компанией взять и отправиться в путешествие по Крыму? Сейчас там — алые маки, яблони и абрикосы в белом цвету, — предложил Толстой.
Глаза Софи заблестели:
— Как это будет прелестно!
И Володя не сдержал радости:
— Ура! И я с вами.
— Ах, — произнёс Лев, — с каким бы наслаждением раскрыл я где-нибудь у подножия Аю-Дага или Ай-Петри свой этюдник! Руки так и просятся к холсту. Но меня ждёт Ольга.
Софья Андреевна восхищённо посмотрела на славного здоровяка:
— Непременно спешите к своей любимой, Лева!
8
Огромный, в четыре тысячи медноголосых пудов, Успенский колокол сотряс воздух, и ему тотчас отозвались колокола на Иване Великом, на всех церквах и соборах, и над Москвой поплыл густой, бархатно-тяжёлый и торжественный благовест.
— Едет, едет! — вдруг раздалось в толпе, и все — напирающие друг на друга, возбуждённые, потные, ликующие, жадные до любого зрелища, что ж говорить о таком, всенародном! — уставились на царский поезд.
Наконец на ступенях собора показался он — красивый, статный тридцативосьмилетний император, и рядом с ним — уставшая и бледная, с приветливым лицом и умными глазами, хрупкая императрица.
Толстой и ещё несколько старших офицеров — новые флигель-адъютанты нового царя — позади августейшей четы готовились к участию в обряде коронации.
Ровно тридцать лет назад мальчиком, которому только что исполнилось девять лет, он вместе с дядей Алёшей метался по Москве, чтобы увидеть самое интересное и важное в дни коронации Николая Первого. В Кремль в самый момент торжества они тогда не попали, но зато видели похожие на столпотворение народные гуляния на улицах и площадях, долго любовались в разных местах Первопрестольной небом, расцвеченным фейерверком, и главное — он, Алексей Толстой, присутствовал на именинах великого князя во дворце графини Орловой на Большой Калужской, близ Москвы-реки.
Кто бы мог предсказать, что пройдут три десятилетия и в Кремле бывший великий князь, тоже тогда ещё мальчик, наденет корону русских царей, а товарищ по его детским играм будет на этой торжественной церемонии среди самых приближённых к монарху.
С сегодняшнего августа, двадцать шестого дня 1856 года он, граф Толстой, произведён в подполковники и флигель-адъютанты его величества императора Александра Второго.
На лице — подобающая празднику улыбка, в душе — ощущение несчастья и крушения всех надежд: его судьба решилась помимо его воли, с этим ничего уже нельзя поделать.
Небо над Москвой, как когда-то в детскую далёкую пору, — сплошной фейерверк. Огненные фонтаны, бьющие из превеликого множества швармеров и кугелей, изображают нечто напоминающее или огромный, в полнеба, хвост павлина, или извержение Везувия. Тут же залпы орудий — по триста выстрелов на каждый ствол: гром несусветный и новые вспышки огней. Невольно вспомнились слова кузена Льва: в Севастополе не хватало пороха, а здесь готовы зажечь всю темень Вселенной.
Но в душе его — тьма. И только один луч света является перед ним слабой, единственной надеждой: может быть, он сумеет из этой придворной ночи, в которую он теперь погружен и в которой все должны ходить с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, вывести на свет Божий какую-нибудь правду...
Ненавистная служба, от которой он всю жизнь пытается бежать, которую презирает и ненавидит, всё-таки настигла его и, не спросясь с его желанием, подчинила себе.
Ещё накануне коронации он узнал о решении императора облагодетельствовать его высочайшим назначением. Он прямо высказал царю своё несогласие, но тот лишь мило улыбнулся:
— Послужи, Толстой, послужи.
— Ваше величество, существует выражение: «Надобно, чтобы каждый приносил пользу государству по мере сил». Формула предполагает, в первую очередь, способность, предрасположенность, определённое умение — иными словами, вышеозначенную меру сил. Ничего из этих качеств у меня нет, особенно способностей к военной службе. И вообще я никогда не мог бы стать ни министром, ни директором департамента, ни губернатором.
— Ах, Алёша, ну зачем так о собственных достоинствах, которые я вижу у тебя лучше, чем ты сам! — взял его под руку Александр Николаевич. — Ты ведь знаешь, что мне, особенно теперь, в самом начале царствования, нужны преданные, честные и искренние люди — не сочти за комплимент, а прими как должное, — такие, как ты. И эти твои качества, поверь, в моих глазах превышают многие иные, чисто службистские, особенно те, к которым и у меня, как и у тебя, не лежит душа.
— Прекрасно, ваше величество! Коль вы цените мою искренность и стремление говорить правду, назначьте меня в таком случае всего на одну-единственную должность, которая, кстати, совсем не обременит казну, — вашим первым другом! — воскликнул Толстой.
— В этом качестве ты уже давно пребываешь здесь. — Александр Николаевич дотронулся до своей груди. — Теперь же, когда я стал во главе России, я хотел бы, чтобы и на государственном поприще со мною рядом всегда был мой первый друг. Иначе что же получается, Алёша? Ты отходишь в сторону и уступаешь место льстецам. Но, кажется, ещё Карамзин изрёк: монарх, лишающий себя умных, впадает в руки хитрых...
Три десятилетия назад здесь, в Первопрестольной, от него ждали участия в игре, теперь — участия в делах державных.
Какие возражения он может ещё привести, чтобы доказать свою неспособность к делу, которое ему предлагают? Видимо, остаётся одно — идти напролом с мыслью: пан или пропал!
В Петербурге Толстого ждало назначение делопроизводителем Секретного комитета по делам о раскольниках, который высочайше утвердил сам царь. Господи, этого ещё не хватало! И он кинулся к дяде Льву Алексеевичу, без совета с которым вряд ли могло состояться это определение.
После смерти Алексея Алексеевича, который заменил ему отца, из двух других матушкиных братьев Толстому, наверное, ближе был Василий Алексеевич — прямодушный и смелый, сам не лишённый литераторского дара и тонко понимающий поэзию. Однако он находился большей частью далеко от Петербурга, и потому выходило — чаще племянник общался с дядей Львом.
Впрочем, и Лев Алексеевич не был лишён артистической — что называется, художнической — жилки: считался отменным ценителем и собирателем живописи, коллекций старинных монет, сам участвовал в археологических раскопках под Новгородом, в Суздале и Крыму и составил богатейшие собрания ценностей, которые завещал Эрмитажу. Подбирая полотна художников, он охотно советовался с Толстым и сам был в этой области его надёжным наставником. Это по его, например, совету Алексей приобрёл у живописца, приятеля Шевченко по Академии художеств, Андрея Гороновича его полотно «Адонис и Венера» и подарил его маменьке ко дню ангела, чему она была очень рада. Он же для дядиной галереи привёз однажды из Оренбурга вид Аральского моря, написанный Тарасом Шевченко.
И тем не менее старший Перовский в глазах Толстого был человеком, что называется, с головой погруженным в службу, преданным ей всеми клеточками души и тела. Это-то и создавало своеобразную дистанцию между племянником и дядей, мешало Алёше быть с ним предельно открытым.
Кабинет министра уделов был огромен и помпезен — белая гладь стен, тяжёлая лепка карнизов, высокие дубовые рамы окон с зеркальными стёклами. И в кресле, обитом красной, почти алой, кожей, с высокой спинкой, под портретом царя в массивной, сияющей золотом раме, — он, министр: густые чёрные, слегка завитые волосы, красивые, с поволокой глаза, гордо посаженная голова уже немолодого вельможи, тем не менее умевшего казаться моложавым.
Всё это — и кабинет, и его владелец — всякий раз напоминало Алексею музей, когда он сюда приходил.
Да нет, не всё описание обители и её хозяина нами сделано! Как же можно не упомянуть бесчисленные чучела животных и птиц, редкие минералы, среди которых на видном месте — перовскит, минерал из класса окислов, специально названный рудознатцами в его, министра и мецената, честь.
Одиннадцать лет до получения нынешнего поста Перовский пробыл в должности министра внутренних дел — проще говоря, управлял обширнейшей державой, держа её в повиновении через свою администрацию на местах, через собственную полицию, через многочисленный штат собирателей налогов и всевозможных пошлин, сам почти никогда и не выезжавший вглубь державы. Но зато в его коллекциях оказывались наглядно и полно представленными почти каждая обширная российская губерния, многие уезды и даже волости.
Дядя-министр всегда по-родственному встречал Алексея, для чего вставал с роскошного кресла — тоже, вероятно, своеобразного экспоната, присланного из какого-либо края империи, — и легко делал несколько шагов навстречу, протягивая руку и полуобнимая племянника за плечи.
Однако Толстой не мог не отмечать про себя всякий раз, что дядя смотрел на него глазами разочарованного педагога или, точнее говоря, умного покровителя дурно складывающейся карьеры.
Сам он за свои шестьдесят четыре года достиг всего, на что был способен и о чём мог мечтать, — стал генералом от инфантерии, пожалован генерал-адъютантом и возведён в графское, Российской империи, достоинство. И стой высоты, на которой теперь стоял сам, он мог видеть не только теперешнее положение племянника, но главным образом те недостигнутые им самим высоты, которые Алексей, по рассуждению высокообразованного и тонкого Льва Алексеевича, мог взять без всякого труда.
Ему, незаконнорождённому сыну графа Разумовского, безусловно, способствовал случай — эфемерный, хрупкий счастливый момент в жизни, которого могло и не быть. В основном же карьеру, как и брату Василию, пришлось подкреплять личными достоинствами и трудом. Судьба же племянника с самого начала — везение ни с чем не сравнимое, похожее скорее на предопределённость, чем на случайность. И никаких усилий не надо предпринимать, чтобы продвигаться всё вверх и вверх. Это как в стремительном потоке, где одно лишь требуется — не делать лишних, ненужных движений, а положиться на бег воды. Однако поди же: счастье, само идущее в руки, племянником отвергается. Из-за каприза, из-за забалованности, из-за не изжитого всё ещё юношеского максимализма.
Понял, зачем пожаловал, и потому, усадив супротив себя, начал без предисловий:
— Опять «не хочу», как давеча упрашивал вычеркнуть себя из списка военных? «Делопроизводитель»! Или должность мала? Или, скорее, для твоего уха звучит как «лакей»? «Министр», конечно, солиднее. Но ведь тучная нива начинается с колоса, а он — с зерна!
— Да я не о высокости или малости веду речь, — пожал плечами Толстой. — Какие раскольники? С чем всё это едят, мне неведомо, и никогда в сих премудростях я не разберусь. Служба как таковая, дядюшка, — поприще не по мне!
— А что ты знаешь о службе, Алёша? — неожиданно переменил тон Лев Алексеевич. — Крючкотворство, чиновничество, взяточничество, так? Каждый — ну, может, девять из десяти — прогнившая насквозь душонка, которую вздёрнуть на первом суку, и вся недолга? А ведь служба — и те, кто этим лихоимцам противостоит, кто поставлен на то, чтобы их как раз и вздёргивать на паршивой осине — во всяком случае, чтобы казнокрадства и прочих чиновных преступлений становилось всё меньше и меньше.
Лев Алексеевич встал и подошёл к книжному шкафу, из которого вынул фолиант в кожаном переплёте с закладкой.
— Послушай любопытную запись Екатерины Второй. — Дядя раскрыл том, — «Король французский никогда не знает в точности размеров своих расходов; ничто не упорядочивается и не устанавливается заранее. Мой же план, напротив, заключается в следующем: я устанавливаю ежегодную сумму, всегда одну и ту же, на расходы, связанные с моим столом, мебелью, театрами и празднествами, моими конюшнями — короче, со всем моим хозяйством. Я приказываю, чтобы на разные столы в моём дворце подавалось такое-то количество вина и такое-то число блюд. То же самое и во всех других областях управления. Покуда мне поставляют, качественно и количественно, то, что я приказала, и никто не жалуется, что его обошли, я считаю себя удовлетворённой; я мало беспокоюсь о том, что помимо установленной суммы от меня утаят хитростью или бережливостью».
Толстой усмехнулся:
— Хитрость и бережливость есть дозволенное свыше лихоимство и взяточничество?
— Вот именно! — подхватил дядя-министр. — А теперь слушай меня. В мире повелось: взяточничество — черта русского народа. Ан нет, не порождение какой-то особой славянской души, а порождение правительства, которое не платило издавна положенного жалованья тем, кто у него на службе, а прямо рекомендовало «кормиться отдел». Пётр Великий первым у нас решил всех служащих, сиречь чиновников, посадить на жалованье. Не удалось — не сдюжила государственная казна. Екатерина отвела для этих целей четверть бюджета, а жалованье всё равно выглядело мизерным — лишь бы ноги не протянуть. При Александре Первом придумали фокус — ввели ассигнации, которые по стоимости — пятая часть серебра. Но цифра-то в рублях, и немалая! Коротко говоря, как ни крути, а во все времена получалось: Россия не в состоянии законным путём содержать свой управленческий аппарат. Да вот пример из петровских времён. В какой-нибудь Ливонии, когда ею управляла ещё Швеция, территория равнялась пятидесяти тысячам квадратных вёрст, Россия же распласталась на пятнадцати миллионах квадратных вёрст! Значит, и чиновного люду у нас во много раз поболее. Однако и крохотная Ливония, и огромная Россия на прокормление чиновничества расходовали одну и ту же сумму.
По лицу министра пробежала улыбка:
— Кажется, князь Вяземский мне однажды передал забавную остроту, высказанную Карамзиным: если одним словом определить, что каждодневно происходит в России, можно с исчерпывающей точностью ответить: крадут! Неплохо? Только нищета государства и отсюда широко расплодившееся воровство — не вся наша беда. Взять законность. Она у нас — самарская и орловская, калужская и олонецкая... Если же в разрезе, снизу вверх, — помещичья и губернаторская, церковная и царская, когда, положим, речь о государственных преступлениях... Иначе говоря, у нас до сих пор законы не юридические, не правовые, а административные: различные декреты, указы, распоряжения, уложения, поправки к законам, принятым ещё в средние века, а то и вовсе секретные циркуляры. Недаром в народе говорится: «Закон — что дышло, куда повернул — то и вышло». А кто может повернуть? Да тот, кто самый сильный в своей вотчине и в своём ведомстве. А в Англии — суд присяжных! Там, если невиновен, — и королева с тобою ничего не сделает. Да что Англия? В Древнем Риме, как ты, наверное, знаешь, ещё во втором веке до нашей эры судопроизводство было отделено от администрации... Так к чему это я тебе всё говорю? Только с одною целью: разве не благородно призвание мужей, состоящих на службе, которую ты презираешь, в меру сил своих способствовать приведению державы нашей в достойный цивилизованного государства облик? Кто же, по-твоему, этим должен заниматься? Жулики, рвачи, взяточники, хотя и занимающие подчас высокие должности, или истинно честные и бескорыстные люди, для которых весь смысл их жизни — благоденствие и преуспеяние отечества? Нет уж, тут без сильных и смелых личностей не обойтись!
Дядя заметно разволновался, его холёное, значительное лицо вельможи даже покрылось красноватыми нездоровыми пятнами. Да и что удивительного — говорил будто отвлечённо о государственных мужьях, а в уме держал, конечно, свои собственные действия и поступки. Это он, в своё время министр внутренних дел, являлся одним из главных администраторов России, от умелых и продуманных распоряжений которого зависел успешный ход дел во всех городах и весях обширной империи.
Чему-то улыбнувшись в своих мыслях, дядя вдруг вспомнил, как в восемьсот сорок пятом году он представил императору Николаю Павловичу записку «Об уничтожении крепостного состояния в России». Ту, над которой трудились Даль и Тургенев.
— И знаешь, какая на меня появилась карикатура в Москве? Может, встречал — тень Пугачёва идёт, опираясь рукой на плечо министра внутренних дел Перовского! Литератор Белинский скорее, чем иные государственные деятели, разобрался, в чём суть предлагаемых мною мер. Перовский, писал он, думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные, по их существу, отношения господ к крестьянам и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых. Правда, кончил он так: «Мысль, достойная человека благонамеренного, но ограниченного». Ну, ясное дело, Белинский к революции звал, для него всё было просто. А как можно было провести в жизнь без всяких потрясений мою мысль: освободить крестьян с землёю, если и по сей день — ни тпру ни ну? Верю: реформа будет проведена, несмотря на то что одни запугивают тенью Пугачёва, другие обвиняют таких, как я, в ограниченности. А я дальше многих, даже так называемых радикалов, вперёд смотрю — что надо сделать, прежде чем волю крестьянам объявить? Это ведь не просто — жили век за веком эдак, а ныне — так. Государство — не дышло: тут сто раз отмерь, прежде чем повернуть, а то вмиг Россия с сумой пойдёт.
Лев Алексеевич, отбросив красивую голову чуть назад, стал загибать на руке один палец за другим, перечисляя меры, которые он настойчиво советовал перво-наперво провести в России, предваряя ими ликвидацию крепостного права:
— Первое — улучшение системы местного управления. Второе — создание повсеместно полиции и судов, куда ставшие свободными и полноправными крестьяне могли бы обращаться для защиты своих прав и нахождения справедливости. Третье — устройство и управление налоговой системой и повинностями, денежными и натуральными. Четвёртое — меры по обеспечению занятости той части крестьянства, которая не способна заняться землепашеством, — разные дворовые, лакеи, казачки, белошвейки и тому подобное. Чтобы пристроить их, дать полезные занятия, следует озаботиться развитием самых разных производств, торговли и промышленных отраслей...
Пожалуй, никогда ещё Толстой не слушал с таким вниманием дядю Льва. Пришёл к нему, казалось, с ясным ощущением своего превосходства, с убеждённостью, которой, думал он, ничего нельзя было противопоставить, а туз — строгая логика и выводы, с которыми нельзя не согласиться. Да нет, не нравоучения исходили от дяди-министра. Он свободно и легко рассуждал вслух, как, наверное, делал не часто, поскольку, видно, и он по-своему был одинок в своём окружении и не каждому мог открыть душу.
— Государь поведал мне о твоём с ним разговоре, — сказал Лев Алексеевич. — Тут вот я с чего начну. Бенкендорф, Нессельроде... Ну, Дубельта ты знаешь не просто по фамилии... Каждый из них — хитрая бестия, норовящая всегда в обход, а вместе — силища. Как повелось, должно быть, ещё при Анне Иоанновне, если не ранее, — вокруг трона засилие немцев. Не в науке, искусстве, где талант — истинное достояние, а в администрации, где, считается, ничего не надо знать, а лишь иметь гибкую спину для бессчётных поклонов... Так вот, чтобы таких никчемушек, которым лишь бы всё наше давить да прижимать, оттеснить от православного трона — тоже ведь и сила, и ум, и упорство, и даже хитрость были необходимы... Не хочу хвастать и преувеличивать своих заслуг, но с «немецкой партией» я немало посоперничал. Губернаторы на местах, сенаторы здесь были моей опорой. И не думай, что кичлив, но негласным званием «вождя русской партии», что мне присвоили единомышленники, горжусь не менее графского титула, полученного мною — не в укор тебе — не в пелёнках, а уж на излёте, считай, жизни за верную службу России. Так вот — к словам императора, сказанным тебе: кто окажется рядом с ним, если те, на которых он хочет положиться, да к тому ж из числа русских, не немчиков загребастых, сыграют ретираду?..
Наверное, всё, что говорил дядя, было правильным, выстраданным им, ставшим делом его жизни. Но являлся ли его путь единственной стезей служения отечеству? Когда-то и Василий, и Лев Перовские принадлежали к военному обществу — одному из первых тайных объединений, в которых зародились идеи, приведшие их тогдашних товарищей под картечь на Петровскую площадь. Почему братья оказались по другую сторону в тот роковой день?
Не потому ли, что ещё до восстания они были уже при дворе, рядом с царём, и знали: не перешибить? На их глазах рухнул декабризм — один из путей к свободе. Но самый ли верный и достижимый? Не вернее ли другой — каждому стремиться стать свободным в условиях несвободы?
А может, их вела и другая мысль: тайное общество — не ход. Тайна и останется тайной, поскольку ты, боясь себя обнаружить, станешь скрывать образ своих мыслей перед друзьями, перед обществом, перед тем же государем. И что проку, если обо всём — лишь между собою? Правду надо передавать тому, кто всеми управляет. Правду надо говорить царю. И чем эта правда горше — тем необходимее ему о ней говорить. Но для сего надо самому стать внутренне свободным и независимым, чтобы не выгоду свою искать — преследовать пользу отечеству.
Должно быть, так выстроили свои линии жизни братья Перовские, размышлял сейчас Толстой. Но разве и он не преследует тех же высоких и благородных целей? Он лишь не желает, чтобы где следует — хитростью, где необходимо — осторожно мимо подводных камней и скрытых опасностей. Он хочет так, как умеет, как велит ему сердце — по-рыцарски прямо.
И всё же у него иной род служения — искусство, что бы ни говорили о его личных качествах государь и другие, даже самые близкие ему, люди.
А может, и он всё же способен принести пользу тем, кого, например, притесняют за раскольничью веру?
9
Далее Курска, если бы лёг снег, ничего лучше, практичнее санного пути и нельзя было вообразить.
Но, несмотря на декабрь, снег здесь ещё не выпадал, и до самого Кременчуга — считай, вёрст на пятьсот — лежала непролазная топь.
— Ваше сиятельство, куды ж в такую непролазь? — кручинились ямщики. — Да, знать, дело ваше важнеющее, если неделю-другую не можно вам переждать.
А пережидать было никак нельзя даже ни дня, ни часа — в Крыму умирал дядя Василий Алексеевич.
Тяжёлым — горше не придумаешь — выдался для Толстого последний год: 10 ноября прошлого, 1856 года умер дядя Лев Алексеевич, 2 июня нынешнего скончалась матушка, и вот, знать, впереди могила ещё одного родного человека.
У гроба матери он провёл целую ночь. И не один, вместе с отцом Константином Петровичем.
Так уж случилось: Анна Алексеевна, порвав с мужем, навсегда уехала от него, и сын более не встречался с отцом.
С дядей, братом отца, талантливейшим художником-модельером Фёдором Петровичем, он сохранит родственные связи, и они станут добрыми друзьями. Но не так с отцом. Видимо, тут сказалась воля властной матушки. Однако у её гроба и произошло свидание с родителем, уже дряхлым, тоже заканчивавшим, увы, свой земной путь.
Теперь зовёт дядя, любимый дядя Василий, самая последняя связь с родной кровью.
Проскочили Николаев, дальше пошёл сносный, сухой путь, а уже к Симферополю и от него к морю экипаж летел птицей, как только позволял горный серпантин.
Вокруг стояли деревья, почти сплошь зелёные, кусты, покрытые цветами, а морская гладь, мелькавшая внизу, среди скал, сверкала на солнце изумрудом. И казалось невероятным, что где-то здесь, среди этой пышной природы, угасает некогда сильная и могучая человеческая жизнь.
Высокий и стройный кипарис за окном был почти сплошь покрыт молодыми, только что созревшими шишками и потому выглядел очень браво и нарядно. Как солдат-новобранец, подумал Василий Алексеевич.
Дом, в котором он лежал, был дворец графа Михаила Семёновича Воронцова, построенный сразу как бы в двух стилях. Фасад, обращённый к морю, с башенками-минаретами и причудливой резьбой у входа напоминал роскошную обитель какого-нибудь восточного султана. Другая же, обратная сторона была стилизованной копией древних шотландских замков.
Новороссийский генерал-губернатор Воронцов ранние свои годы провёл с отцом в Англии, впитал в себя, что называется, дух Альбиона и потому всю жизнь не мог с ним расстаться. Восточный же облик парадной стороне своей летней обители граф придал, вероятно, затем, чтобы напоминать о собственной власти в Таврическом крае, у самого Чёрного моря.
В редкие годы, когда генерал Перовский навещал Крым, он непременно останавливался здесь, в Апупке, во дворце Михаила Семёновича. Владелец замка вообще слыл хозяином хлебосольным, потому при строительстве специально предусмотрел покои для гостей, как раз выходившие окнами на море.
Год назад граф скончался, но дворец по-прежнему был открыт для близких друзей. Однако Василий Алексеевич на этот раз вспомнил об Алупке не намеренно — он спешил в имение Мелас, тоже на берегу Чёрного моря, но дальше к Севастополю, которое отошло к нему после смерти брата Льва.
Известно, как даже самые дряхлые наши вельможи изо всех ничтожных уже сил держатся за свои служебные кресла, чтобы если и помереть, то только на службе. Перовский же, почувствовав, что состояние его здоровья становится «борьбой сил душевных с физическими», прямо попросил отставки: «Я употребил свою энергию, к которой был способен, и держался до последней крайности, но «невозможное — невозможно», особенно когда совесть говорит, что дальнейшая борьба была бы вредна для службы и особенно для блага страны, которой я управляю и которую больше всего люблю. Я мог бы ещё обманывать зрителей, но обманывать самого себя невозможно: пора уступить место другому...» Александр Второй, до этого удостоивший Василия Алексеевича графским титулом и алмазными знаками ордена Андрея Первозванного, с душевным соболезнованием, как написал в письме, согласился с просьбой ещё и нестарого, шестидесятидвухлетнего генерала.
С апреля нынешнего года он был свободен и по совету врачей, всю жизнь после Варны мучившийся грудью, к осени отправился в Крым. Сопровождала его в поездке, как в последние годы в кочевье за рекой Уралом, Александрина — графиня Александра Андреевна Толстая. Фрейлина великой княгини Марии Николаевны, она являлась родной тётей писателя Льва Николаевича Толстого и давно уже стала очень близким другом Василия Алексеевича.
То ли нелёгкая осенняя дорога истомила, то ли перепад климата так повлиял, но при въезде в Крым Перовскому стало плохо, и он решил остановиться в Алупке и по пути, из Ялты, послал в Петербург семье младшего брата Бориса депешу: «Будьте на мой счёт покойны. Болезнь идёт своим порядком: в правом лёгком вода возвышается, но не быстро, в левом не прибавилась. Слаб. Ожидаю приезда их — и жду смерти. Кого Господь пошлёт прежде, того и приму радостно».
Видно, перед поездкой условился с Борисом, молодым генералом при дворе, с Алёшей Толстым да с племянниками Жемчужниковыми, что, случись с ним что, они прибудут. В послании же остался верен себе — лёгкая усмешка над собой и твёрдое понимание того, к чему себя уже безбоязненно приготовил.
Стройный кипарис за окном настолько напоминал ему солдата, что он невольно обратился мыслью к своей любимой стране — Оренбуржью. Возникли в памяти даже слова песни: «Дай нам Бог, казачёнкам, пожить да послужить, на своей сторонушке головушки сложить...»
Нет, не доведётся уже ему упокоиться в родной степи, как он говорил Николаю Первому, когда просил позволения во второй раз отправиться за Урал-реку. Что ж, видно, не каждому суждено лечь в ту землю, которая особенно дорога. Вот и самый близкий друг Жуковский не под Орлом или Тулой, где родился и жил мальцом, не в милых сердцу Москве или Петербурге — окончил свои дни в чужих германских краях.
Александрина сидела у изголовья, и Перовский попросил подать сафьяновый портфель, в котором хранил самые драгоценные бумаги, в том числе письма Василия Андреевича.
Сверху лежало последнее письмо, высланное другом из Бадена, которое и взяла графиня.
«Мой милый Перовский! Всё, что графиня Толстая рассказала мне о последнем времени твоей жизни, наполнило благоговением моё сердце. Оказывается, несколько мгновений переменили направление твоей жизни... Понимаю вполне, что с тобою было, — и если бы можно было в подобных случаях завидовать, я сказал бы, что завидую тебе. Кто провёл несколько ночей, как ты, в чтении Евангелия в виду приступающей уже смерти, в переборе всего своего прошедшего и кто сдружился так, как ты, в эти минуты со смертью, тот получил самое желанное — то, чего мы никакими усилиями воли своей получить не можем, — получил опыт сердца. Вера есть не что иное, как опыт над нашим собственным сердцем. С тобою случилось то великое, которое даётся немногим, — и, судя по словам Александрины, я нахожу, что ты своим здравым умом выбрал именно тот путь, по которому ты наилучшим, наиболее свойственным тебе образом дойдёшь к той цели, которая так чудно была тебе указана самою смертью, бывшей в этом случае лишь временным посланником... Это возвращение в Оренбург, на прежний театр действий, с новым чувством, с новым взглядом свыше на землю, с новыми понятиями о жизни, взятыми в изустном наставлении смерти, это смирение христианина и стремление исполнять волю Спасителя там, где прежде действовало одно житейское честолюбие, — лучшей дороги ты выбрать не мог...»
Каждую строчку он, наверное, знал наизусть, но захотелось вновь услышать письмо до конца: «Я еду скоро, то есть через неделю, в Россию. Пишу тебе с закрытыми глазами, которые у меня разболелись. В отечестве, может быть, увидимся, — хотя мне трудно вообразить, чтобы ты мог оставить то место, которое теперь сам себе выбрал, и нельзя желать, чтобы ты его оставил. Наша жизнь давно развела нас. Теперь, на старости, разными путями попали мы на одну дорогу. Заведём в России переписку — раз в месяц, страницу или две; кажется, дело сбыточное. Правда? А увидишь, что не сбудется...»
Не сбылось — в апреле 1852 года из того же Бадена пришла весть о кончине друга, так и не ступившего на землю России. Будто сам он исповедовался и сам с собою рассуждал о жизни и смерти, предчувствуя собственный конец. Другой же Василий тогда выжил... Но снова пришёл тот самый час, когда подобает спросить себя о том опыте сердца, который ниспослала судьба: так ли он жил, как наметил, и много ли совершил из того, чему решил посвятить себя до конца?
Александрина перевернула листок и дочитала письмо, которое ещё продолжала держать в руках: «Не подумай, чтобы я принимал роль твоего наставника. Нет! А говорить о таком предмете именно с тобой — будет мне к добру: самого себя лучше узнаешь. А знать самого себя — значит бить себя по щекам ежеминутно».
Не сообщил Жуковский, как перебирал он в свою последнюю пору собственную жизнь. Видно, этот в высшей степени святой и благороднейший человек нещадно бил себя по щекам за самый малейший, порой даже кажущийся ему проступок. Знал бы Пушкин, как смиренный Василий Андреевич поставил на место Бенкендорфа, когда тот вздумал опечатать посмертные бумаги поэта! А бесконечные заступничества перед императором Николаем за судьбу осуждённых и сосланных в Сибирь, просьбы даровать им прощение! Он и наследника повёз в Сибирь, с заездом в Оренбуржье, чтобы показать не просто просторы империи, но и жизнь сосланных на российские окраины. И ведь не испугался он, царедворец, на глазах у великого князя встречаться и обниматься с государственными преступниками, а затем, в коляске, всю дорогу упрашивал повлиять на монаршего отца, чтобы тот смягчил удел наказанных!.. Что ж, в конце концов и сам оказался в ссылке вынужденной, в Германии, — несчастный и одинокий, лишённый родины и друзей, принуждённый почти на склоне лет вить своё позднее семейное гнездо в чужих палестинах[44]...
Нет, дорогой друг, нечем тебе было упрекать себя в последний час. Впрочем, каждый должен отвечать за себя и, прежде чем предстать перед Всевышним, строго спросить себя за тебе только ведомое: всегда ли и во всём был верен ты себе и людям, не оступился ли, не поставил ли собственную выгоду выше чужих страданий и несчастий?
Рука Александрины дотронулась до его лба и ощутила холодную испарину. Она вытерла ему лоб, затем поднесла к губам фруктовый отвар.
Он размежил веки и попытался слабой улыбкой ободрить её:
— Ну же, Александрина, друг мой, будет — не плачь. Видишь, мне легко. Видно, Господь за что-то не посылает мне страданий, хотя, я знаю, при моём состоянии груди они неизбежны. Но я, наверное, самонадеян — нельзя обмануть Того, Который читает всю твою жизнь. А в моей книге бытия есть чёрные страницы, которые я бы вырвал навсегда, чтобы их никто не видел. Но нет, не упряткой можно избавиться от когда-то содеянного — только полным и искренним покаянием. Вот сейчас мне в полудрёме пригрезилось одно лицо...
Он встретил это лицо всего лишь однажды — уставшая после дороги, в ботах, покрытых коркою грязи, в пропылённом платье женщина со скорбным, погасшим лицом появилась на пороге его оренбургского кабинета. В руках она держала конверт, который тут же передала Перовскому, и в этот момент, лишь на какую-то долю секунды, лицо её чуть осветилось выражением надежды, и она произнесла по-французски: «Мой генерал, в этом пакете — рекомендательное письмо. Люди, имеющие честь близко знать вас по Петербургу и высоко ценящие ваше доброе сердце, просят вас... Не за себя — за моего сына, волею судьбы оказавшегося под вашим, генерал, началом...»
Больше всего в жизни он ненавидел унизительных прошений и льстивых просьб что-либо предпринять, опираясь лишь на какие-то связи, знакомства и рекомендации, и потому, вскрыв конверт и увидев в письме фамилию рядового Плещеева, не сдержал себя: «Мадам, не мне, солдату, объяснять вам, женщине, что значит военная служба. Её тяготы — тяготы долга перед отечеством и государем. И не о милостях к солдату, несущему царскую службу, прошу прощения, вам и вашим покровителям следовало вести речь, а о том, чтобы сын ваш, зачисленный рядовым в оренбургский линейный батальон, был верен присяге и российскому престолу в любых, сниспосланных ему судьбою, условиях».
Проблеск надежды погас, и глаза женщины, с таким превеликим трудом более недели добиравшейся до Оренбурга, пережившей до этого арест сына, заточение его в каземат, следствие и суд, наконец, смертный приговор ему, в последний момент заменённый ссылкой в солдаты, наполнились слезами.
Теперь он знает: стыд, горький стыд перед этим несчастным лицом вызвал взрыв его гнева. Больше всего в жизни он боялся когда-нибудь взглянуть в глаза матери ли Плещеева или матерям, жёнам, близким других двадцати жертв, которых сам же, выполняя волю императора, обрёк на позор и муки. Но так уж устроен человек: ему легче скрыть содеянное когда-то, чем раскаянием, а ещё лучше — поступком зачеркнуть, смыть своё прежнее прегрешение.
До того самого дня, когда Елена Александровна Плещеева вошла в его кабинет, храбрый, не раз смотревший смерти в лицо генерал старался уйти от своей вины и от расплаты.
А полагалась ли ему она, расплата, и была ли его личная вина в том, что, выполняя повеление царя, он, генерал-адъютант, осенью 1849 года вынужден был возглавлять военно-судебную комиссию, которой вменялось вынести приговор группе молодых людей, замешанных в противозаконных сборищах?
В канун тех событий генерал Перовский находился как бы не у дел — значился членом Государственного совета, хотя душа его рвалась в зауральские края. И надо же так случиться — в руках брата, министра внутренних дел, оказались бумаги о подозрительных сходках у некоего титулярного советника Буташевича-Петрашевского Михаила Васильевича. Молодые люди, оказывается, постоянно встречаются, предаются чтению запрещённой литературы, содержащей социалистические идеи, ведут беседы, угрожающие самим основам существующего строя.
Министр Перовский сначала подумал о никчёмности доноса: почти желторотые, по-настоящему не оперившиеся юнцы, среди которых не гвардейцы, не князья, как когда-то четырнадцатого декабря, а мелкие чиновники, учителя, люди заурядных, совершенно незнатных фамилий.
Однако человек, который принёс ему подробные донесения, был лучший его чиновник Иван Петрович Липранди — высокообразованный, опытный, знающий толк во всякого рода социалистических учениях и тем более в незаконных сборищах. Когда-то он, блестящий офицер и бретёр, был другом юного Пушкина и, как уверяют, послужил прообразом героя «Выстрела» — загадочного и романтического Сильвио. И к декабристам оказался в своё время прикосновенным, но, как и Перовские, не был наказан, хотя по-первости даже арестован.
Лев Алексеевич умел окружать себя талантливыми, умными и трудолюбивыми людьми. Один Даль чего стоил! Это ведь он, Владимир Иванович, собиратель народных речений, подарил министру словесный перл, который тот ввёл в свой графский герб: «Не слыть, а быть». За такого чиновника брат Лев был бесконечно признателен открывшему Даля брату Василию.
Липранди министр нашёл сам и очень оказался доволен его хваткой, глубоким проникновением в существо любого дела, за которое тот брался. Можно ли было сомневаться в его новом расследовании?
Два обстоятельства решили судьбу молодых и пылких людей, не ведавших, что за ними следят и что они уже обречены. Первое — не тайные жандармы Третьего отделения открыли сей заговор, а полиция гражданская, недремлющее око министерства внутренних дел. А второе — деталь вроде бы мелкая, в ином случае и вовсе плёвая, но тут как раз и решившая всё: Буташевич-Петрашевский оказался чиновником министерства иностранных дел! Шеф же этого ведомства — Нессельроде. Если соединить его фамилию с другой — Дубельта, то вот вам и удар по «немецкой партии», в соперничестве с которой никогда не забывал пребывать Лев Алексеевич.
Донос на петрашевцев оказался у Николая Первого, который изволил на нём начертать: «Я всё прочёл, дело важно... приступить к арестованию».
Нет, наверное, не думалось не гадалось братьям Перовским, что ценой жизни, по сути дела, неповинных людей окажется купленной победа «партии русской» над «партией немецкой». И менее всего, конечно, полагал попасть в сомнительную историю Перовский-генерал.
Как и в случае с декабристами, Николай Павлович, по существу, сам руководил и следствием и сам же определил меру наказания: расстреляние. Он предусмотрел всё: и как разместить эшафот, и сколько воинских полков и жандармов вывести на площадь, и как нарядить участников позорища — смертников в белые рубахи, священника — в погребальное облачение. Но было одно отличие от казни восемьсот двадцать шестого года — в последний момент, уже после прочтения приговора и приготовления преступников к смерти, Семёновский плац оглашался чтением царской милости: расстреляние заменялось каторгой, поселениями, ссылкой в солдатчину...
Лоб Перовского снова покрылся испариной, и Александрина вытерла его полотенцем. Пот был липкий, холодный, и графиня Толстая перепугалась.
От Василия Алексеевича не укрылась её тревога, и он, как и подобает человеку мужественному, ещё раз отметил про себя: конец его близок, и встретил это ощущение спокойно и без страха. Он только молил сейчас Всевышнего об одном: сделать так, чтобы он успел сейчас, в эту минуту, совершить то, что не успел, не сумел тогда, в Оренбурге.
Тогда он, увидев слёзы в глазах не только потерявшей надежду, но и оскорблённой им женщины, не смог пересилить себя и, как повелевала его чистая и пылкая натура, попросить у неё прощения хотя бы за свой нравоучительный и ледяной тон.
А мог ли он, боевой генерал, вдруг сказать ей тогда о том, что одним своим появлением она принесла ему столько боли, что боль эта прожгла ему сердце? Он, честный и прямой человек, мог совершить этот поступок. Но генерал и царский слуга — никогда.
Уж коль бы он начал с ней говорить, непременно высказал бы и то, что много лет скрывал даже от самого себя, что хотел и не мог забыть: не только её сын, Алексей Плещеев, но и он, изрядно поживший и немало повидавший на своём веку, был жертвой того самого строя, которому он был обязан служить, не щадя своего самолюбия и даже собственной жизни. Но разве возможно было высказать всё это раздавленной горем и униженной бесправием одинокой женщине?
Лишь когда она вышла, генерал тут же вызвал дежурного офицера и приказал тому немедленно донести командиру батальона: отпустить рядового Плещеева из казармы в город на столько суток, на сколько тот пожелает, и для него и его матери на время её пребывания в Оренбурге тотчас сыскать квартиру поприличнее.
После свидания с матерью Плещеев прямых послаблений по службе не получал, но зато его по распоряжению штабных офицеров частенько стали посылать с какими-то поручениями на Кочёвку, где находилась дача генерал-губернатора. Генерал принимал у него пакеты, но не отпускал назад. Однажды даже пригласил за стол и попросил прочитать стихи, которые тот писал. Стихи понравились, и генерал провёл смущающегося худого солдата в свою библиотеку. Там были книги, в которых ему позволено было рыться.
О чём думал в такие встречи генерал? Наверное, о Пушкине, который когда-то сидел в этих креслах, о Бестужеве-Марлинском, которого хотел перевести с Кавказа. И вновь перед ним сидел поэт, попавший в беду, потерявший, казалось, все за свои убеждения и мысли: дворянство, свободу, честь. Что он мог сделать для него и заметил бы он несчастного поэта сам, без визита матери?
В степи тянул ненавистную солдатскую лямку немолодой, со слабым здоровьем Шевченко, выслуживался до первого офицерского чина отправленный сюда под ружьё по лживому доносу Зыгмунт Сераковский, человек отважного и нежного сердца... И каждый из этих несчастных был под особым надзором самого императора.
И всё же нельзя было упустить хотя бы малейшую возможность что-либо сделать для попавших сюда не по своей воле. За Шевченко он попробовал просить ещё находясь в Петербурге. Прибыв сюда, намеренно послал в новопетровское укрепление, куда до него загнали Шевченко, нового командира, на которого мог положиться как на человека порядочного. Плещееву — правдами и неправдами — мог бы тоже скрасить несчастное житьё. Но открывалась перед молодым солдатом возможность, которую получали отдельные счастливцы, — в бою или сложить голову, или получить производство в офицеры.
Батальоны готовились к полуторатысячевёрстному походу в степь и штурму кокандской крепости Ак-Мечеть. Плещеев подал рапорт и был зачислен в передовой отряд.
Двадцать пятого мая восемьсот пятьдесят третьего года Алексей Плещеев, двадцативосьмилетний поэт, в числе солдат четвёртого батальона выступил из уральского укрепления. Две тысячи пехотинцев и четыре тысячи конных двинулись вглубь киргизской степи. Шестьдесят семь суток длился поход мёртвой пустыней. Солнце жгло нещадно, ветер перегонял жёлто-бурые барханы, песок скрипел на зубах, а живительную воду приходилось беречь как крупицы золота. Перед Каракумами разразилась настоящая песчаная буря, поднимавшая к небу гигантские жёлтые столбы. Но самое страшное ожидало впереди — почти месячный штурм сильно укреплённой вражеской крепости, огрызавшейся залпами из ружей и пушек.
Число убитых и раненых росло с каждым днём, с каждой новой вылазкой отчаянных храбрецов.
Алексей Плещеев уже давно мысленно распрощался с жизнью, но смерть пролетала мимо. И даже тогда, когда кучка отчаянных охотников ворвалась в пролом крепости и закрепилась там, развивая успех атаки, Плещеев, бывший в самом пекле, не пострадал.
Реляция Перовского о победе ушла в столицу. Генерал был уверен, что Плещеев, которого он представил к получению офицерского чина за проявленную храбрость, получит эполеты, а с ними и свободу. Пришёл же ответ: отказать...
Кипарис за окном стоял весь облитый солнцем, и чешуя новеньких шишек блестела на нём, как только что вручённые погоны. Когда же рядовой стал офицером?
В голове Василия Алексеевича, теперь часто впадавшего в забытье, картины сменяли друг друга. Но все они казались неясными, смазанными. Лишь одна отчётливо вспыхнула в памяти: он весной восемьсот пятьдесят шестого года, перед самой отставкой, стоит во дворце перед императором и протягивает ему прошение:
— Ваше величество... Александр Николаевич... соизвольте рассмотреть представление к офицерскому званию... Плещеев... отличился в бою и по службе... Я лично и настоятельно...
Это не протекция, которую он не выносил, — долг. Это то, что он в числе многих и многих дел обязан был свершить в первую очередь.
Дышать становилось всё труднее. Воздух, клокоча и свистя в горле, уже слабо вздымал грудь.
Со вчерашнего дня брат Борис был уже здесь. Теперь с часу на час мог появиться Алёша Толстой, который, по расчётам Бориса, должен быть уже рядом. Но Василий Алексеевич помнил страшные топи под Екатеринодаром и знал, что дорога может сыграть с путником коварную штуку.
А разве когда-то весной он сам не опоздал в Почеп к отцу? Влетел, когда уже графа отпевали в домашней церкви, и, как был с дороги, припал уже к холодному восковому челу...
Он не хотел, чтобы теперь опоздал Алёша Толстой. Особенно сейчас, когда в голове вдруг возникла мысль, которую ему вздумалось непременно высказать племяннику. И мысль эта была такая: человеку мало иметь опору в самом себе и быть внутренне независимым и свободным. Власть, которая над ним и над всем государством, всё равно окажется сильнее. Посему следует стремиться к тому, чтобы оказаться от сей власти независимым и внешне. Но как, как?..
Графиня и Борис склонились над постелью умирающего, и Александрина громко вскрикнула.
Заострившееся лицо того, в ком минуту назад ещё теплилась жизнь, было неподвижно.
10
Когда только переехали Дворцовый мост, возле университета, у бывших Двенадцати петровских коллегий, он расплатился с ванькой и зашагал вдоль Невы.
На той стороне летел к реке Медный всадник, с другой — нестерпимо сверкал на первом весеннем солнце шпиль Петропавловки, рядом, по набережной, гарцевали красавцы уланы, носились кареты, запряжённые сытыми рысаками. И то тут, то там мелькали широкие французские кринолины под коротенькими шубками барышень, дохи дам и шинели офицеров, шляпки, цилиндры и чепчики с разлетающимися по ветру лентами.
Приземистый, коренастый Шевченко шёл широким солдатским шагом, чётко печатая след крепких смазных сапог на уже подтаявшем мартовском снегу. Одет он был в длинную тёмно-серую чуйку с воротником из чёрных мерлушек, на голове чуть заломленная назад баранья шапка. Лишь вглядевшись в его несколько бледное, несмотря на свежий морозец, лицо с небольшими и несколько печальными серыми глазами, можно было догадаться, какой за ним непростой и суровый жизненный путь.
Но чем ближе он подходил к монументальному зданию Академии художеств, тем больше разглаживалось и даже розовело его лицо, взгляд из усталого и сосредоточенного становился ласковым, почти нежным.
Впервые в этом огромном северном городе он объявился семнадцатилетним парубком, а покинул его десять лет назад.
И повстречался и был разлучён с Петербургом он не по собственной воле. Привёз его сюда вместе с обозом, набитым домашней утварью, и тоже как какую-нибудь вещь, украинский помещик Павел Энгельгардт; уезжал — по воле жандармов Третьего его императорского величества отделения. Но сам Петербург навсегда в его жизни связался с порой душевного подъёма и умственного мужания — здесь он стал настоящим художником, здесь впитал в себя ещё живые, будто повсюду только и слышимые, звуки пушкинской лиры и сам стал самобытным поэтом.
— Да, никак, это ты, Тарасий? — встретил его у дверей академии совсем уж состарившийся сторож. — А мне велено вас, господин Шевченко, встренуть и туточки прямо препроводить на квартиру их сиятельства Фёдора Петровича. Не запамятовали его покои?
Оставив у дверей нехитрые пожитки — деревянный сундучок, в котором рядом со сменой белья находились краски, кисти, карандаши да тетрадь с сочинениями. — Тарас Григорьевич резво кинулся по академическому коридору.
У поворота остановился — бывшая обитель Карла Павловича Брюллова, вечная ему теперь память. Сюда почти каждый день весёлой, разношёрстной гурьбой на протяжении всего времени ученья в классах академии они ходили к своему учителю, чтобы услышать скупую похвалу, чаще резкий разнос или, что было крайне редко, увидеть его белозубую улыбку: «Гениально! Неподражаемо! Почти как моя «Помпея».
Но для Тараса «Карл Великий» был больше, чем академический учитель. Он был ему крестный отец. Именно здесь, в мастерской, Брюлловым был написан портрет Василия Андреевича Жуковского, разыгран в лотерею — и на вырученные деньги куплена вольная Тарасу. «Великий Карл» ещё раньше просил Энгельгардта, «эту свинью в торжковских туфлях», освободить талантливого юношу, убеждал, что грех держать за неодушевлённый предмет живописца волею Божией, — куда там! Клюнул только на две с половиной тысячи.
Два десятка лет минуло с того счастливого дня, но в последние, самые тяжёлые годы даже праздник тот не хотелось вспоминать. В куш, который получил крепостник, были вложены и щедроты царицы — приобрела четыре сторублёвых лотерейных билета из двадцати пяти. Хороша же оказалась, сердобольная, если потом её муженёк, император, надел на руки, освобождённые от ярма, арестантские кандалы!
Эх, зря себя здесь, у дверей Карла Павловича, разбередил, понапрасну ту обиду вспомнил — надо тех благодарить, кто всё же пересилил царёву жестокость, хлопот своих не пожалел, чтобы он, художник, вновь оказался в сих напоенных священным воздухом искусства стенах...
Тарас Григорьевич снял чуйку и шапку, пригладил на темени остатки жидких волос и невольно остановился, переступив порог: те же из полированного ясеня кресла и стулья в голубой гостиной, стол, инкрустированный красным деревом, — всё вплоть до шкатулочек изготовленное по рисункам графа-художника. Будто и не расставались с ним, вице-президентом академии Толстым, и его квартирой все эти годы. Ан нет, стоит внимательно вглядеться в лицо Анастасии Ивановны, чтобы отбросить от себя эту мысль. Да и хозяин, наверное, отошёл от своих медальонов, если не изменяет память, ему уже все семьдесят пять.
— Федюша, да глянь же, кто к нам пожаловал! — ввела Анастасия Ивановна гостя в кабинет.
Первое, что бросилось в глаза, — большая модель фрегата. Будто заплыл прямо с Невы через высокое венецианское окно военный корабль — память о далёкой юности, когда Фёдор Петрович был выпущен мичманом из морского корпуса. А вокруг, как и прежде, — гипсовые слепки, мозаика, стеклянные и терракотовые изделия, мраморные и гипсовые статуэтки и гордость художника и слава русского искусства — медальоны с аллегорическими изображениями событий войны двенадцатого года...
В ватном халате, о который, кажется, только сейчас граф вытирал кисти, с трубкою в зубах — он. Склонился над столом, где рядом с листом ватмана недопитый и остывший стакан чая. Выпрямился, недовольно смел рукавом на край стола недоконченный рисунок.
— Я же просил, Настя!.. — И тут же, скосив глаз, вскочил и бросился к гостю: — Родной вы мой!.. Что же ты, Настенька, сразу?.. А как все вас ждали! И квартира для вас уже готова при академии. Ну, об этом потом. А теперь — к столу, к столу!.. Значит, прямо из Нижнего — к нам? А туда — на временное поселение из Оренбурга? Рассказывайте, рассказывайте, Тарас Григорьевич, золотко вы моё...
Три года назад, весною восемьсот пятьдесят пятого, до Оренбурга докатилось: император Николай Первый почил в Бозе. И как электрический разряд — от нового царя ждите помилования.
Человек всегда надеется на лучшее. Тарас за свою солдатчину разуверился во всём: столько честных и благородных, даже вхожих в царский дворец людей брались ходатайствовать за него — от капитан-лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова, с кем хаживал в экспедицию на шхуне «Константин» по Аралу, до милой княжны Варвары Николаевны Репниной. Последним был, кажется, учёный-натуралист, академик Карл Максимович Бэр. Умный и добрый старик, встретивший художника и поэта в новопетровском укреплении, объявил, что немедленно начнёт хлопотать за него перед генерал-губернатором Перовским. Да где ему! Что цари, что Перовский — одно слово: сатрапы!..
И обернулась надежда ещё горшей обидой: отпустили на волю тех, кто тридцать лет назад вышел с ружьями против царя на Петровской площади и в Черниговском полку на Украине, друзей Петрашевского помиловали, повстанцев-поляков, а его — снова под замок.
Росло, тянулось к солнцу деревце, посаженное Тарасом на просоленной земле Мангышлака, где и былинки порой не прижиться, а он с каждым днём чахнул и мрачнел. Майор Ираклий Александрович Усков, присланный по приказу генерал-губернатора в Новопетровское, на редкость оказался человечен и добр — освободил пожилого солдата от нарядов, приглашал в свою семью, где можно поиграть с детишками, почитать им вслух книги, научить рисовать на бумаге и степь, и разных зверушек... Вот бы знал Перовский, как нарушает добрый майор его и царский приказ — содержать в строгости, с запрещением писать и рисовать, думалось в те дни Тарасу... Так что ж, и помирать здесь прикажете?
Отослал с надёжной оказией письмо в Петербург последнему в его памяти влиятельному человеку — графу Фёдору Петровичу Толстому: «Ваше сиятельство!.. До сих пор не осмеливался я беспокоить Вас о моём заступничестве, думая, что безукоризненной нравственностью и точным исполнением суровых обязанностей солдата возвращу потерянное звание художника, но всё моё старание до сих пор остаётся безуспешным. Обо мне забыли! Напомнить некому. И я остаюсь в безвыходном положении. После долгих и тяжких испытаний обращаюсь к Вашему сиятельству с моими горькими слезами и молю Вас, Вы, как великий художник и как представитель Академии художеств, ходатайствуйте обо мне у нашей высокой покровительницы. Умоляю Вас, Ваше сиятельство! Одно только представительство Ваше может возвратить мне потерянную свободу, другой надежды я не имею... Кроме всех испытаний, какие перенёс я в продолжение этих восьми лет, я вытерпел страшную нравственную пытку. Чувство страшное, которое вполне может постигнуть человек, посвятивший всю жизнь свою искусству. Мне запрещено рисовать, и, клянусь Богом, не знаю за что. Вот моё самое тяжкое испытание. Страшно! Бесчеловечно страшно мне связаны руки!..»
Долго ожидал результата. В мае прошлого, восемьсот пятьдесят седьмого года наконец-то было повелено рядового Шевченко «уволить от службы, с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности, с возвращением ему въезда в обе столицы и жительства в них».
Сидя сейчас за столом у вице-президента, казалось, совсем утративший способность к нежным чувствам Шевченко смахнул слезу:
— Не знаю, как и благодарить вас, Фёдор Петрович...
— Не меня, — встал со стула и взъерошил некогда непокорную шевелюру профессор медальерного и скульптурного классов. — Царь, поди, и президента академии, великую княгиню Марию Николаевну, свою родную сестру, не послушал.
Она мне в расстройстве: «И вы после этого намерены писать сами на высочайшее?.. Да вы с ума сошли!» Написал. Да только ответа не дождался — не удостоили... Спасибо племянник настойчиво вмешался: вхож к императору без доклада. Должно быть, его царь и послушал... Вот я вас днями с ним, Алёшей Толстым, у себя и сведу. Тоже, как и вы, смею утверждать, поэт. И братья его двоюродные, Жемчужниковы, тоже талантливые, черти. Да вы одного из них знаете по академии—Лев Жемчужников. Сейчас в Париже. Но это особь статья, зачем туда подался. А с другими братьями познакомлю — язычки как бритвы. С ними позлословите кое над кем, отведёте душу...
Они сразу приглянулись Тарасу Григорьевичу — четыре богатыря: Алексей, Александр и Владимир Жемчужниковы и — особенно — Алексей Толстой. За каждым его жестом, безусловно, угадывался человек аристократического воспитания. Но вот странно — не было в нём ничегошеньки барского! Шевченко приметил, что Алексей Толстой даже стеснительный человек, разом, как девица, вспыхивающий румянцем. Вот и теперь, когда они вдвоём отсели в дядиной голубой гостиной после общего застолья в укромный уголок, племянник, чуть смутившись, сказал:
— А я, представьте, знаю ваши стихи. Люблю, например, такие:
Думы мои молодые. Те, что в небе реют, Не вернутся с того света, Стен не обогреют. Покинули сиротою, С тобою одною — Сердцем моим, светом моим, Раем, тишиною! Никому мой рай не ведом, Ты сама не знала, Что звездою путеводной Надо мной сверкала. Я гляжу, не налюбуюсь... Вот сверкнула снова. Вот склонилась, уронила Ласковое слово, Вот мелькнула, улыбнулась. Гляжу — и не вижу; А проснусь — и плачет сердце, Из глаз — слёзы брызжут.— От кого вы узнали эти стихи? — изумился Шевченко.
— Читал в списках. И «Катерину» вашу помню, что вы посвятили Жуковскому.
На лицо Тараса набежала тень, его чуть огрубелые пальцы художника выдали нервную дрожь.
— Списки с моих виршей ходили среди многих. Но первой когда-то я прочитал свою поэму «Слепой» Варваре Николаевне Репниной, которой оставил на память список. Вы знакомы с нею?
— Она моя родственница — наши матери сводные сёстры, — ответил Толстой. — Кстати, вы знаете, что она говорила о том впечатлении, которое у неё осталось после вашей поэмы? «О, если бы я, — вспоминала она, — могла передать то, что пережила тогда, во время его чтения! Какие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Моё лицо было всё мокро от слёз, и это было счастьем, потому что я должна была бы кричать, если бы моё волнение не нашло себе этого выхода; я чувствовала мучительную боль в груди. После чтения я ничего не сказала — от волнения я обычно теряю способность речи... И какая мягкая, чарующая манера читать!..»
«Княжна Репнина, дорогая, бесценная Варвара Николаевна! Зачем же свела нас судьба, совершенно не подумав, на какую жестокую муку обрекла она вас, милое создание природы? — подумал вдруг Шевченко. — Мало вам было одного несчастного дяди, Сергея Григорьевича Волконского, томившегося в рудниках, так вы ещё взяли на себя, на свои хрупкие плечи, и мою несчастную долю...»
Он встретил эту уже немолодую, тридцатипятилетнюю, с большими выразительными глазами женщину в Яготине, куда после окончания первого года обучения приехал с приятелями-академистами на летние вакации. Князь Репнин принял молодого, двадцати пятилетнего, подающего большие надежды будущего живописца точно родной отец. Но особенное впечатление произвела она, его дочь. Ей, натуре очень впечатлительной, влюблённой в искусство, пытающейся сочинять, и не без успеха, повести, сразу понравились и этюды, и особенно стихи Тараса. Да, она часами готова была слушать его чтение, наслаждаясь мелодичной, мягкой и нежной украинской речью, которую отлично знала и очень любила. И, расставаясь с молодым поэтом до следующего лета, она обещала подарить ему золотое перо.
Тогда он не знал, какой след в сердце княжны оставят их встречи. Оказавшись уже в Оренбурге, он вдруг стал получать листы лучшей петергофской бумаги, парижские кисти, итальянские карандаши... Вместе с посылками стали приходить и письма — тончайшие листки источали тонкий запах духов и живых цветов родной Украины... И не ведал он, что шеф Третьего отделения строжайше выговаривал княжне Репниной: «Секретно. Милостивая государыня княжна Варвара Николаевна! У рядового оренбургского линейного № 5 батальона Тараса Шевченко оказались письма Вашего сиятельства; тогда как рядовому сему высочайше воспрещено писать; переписка же Ваша с Шевченко, равно и то, что Ваше сиятельство ещё прежде обращались и ко мне с ходатайствами об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что Вы принимаете в нём участие... По высочайшему государя императора разрешению имею честь предупредить Ваше сиятельство как о неуместности такового участия Вашего к рядовому Шевченко, так и о том, что вообще было бы для Вас полезно менее вмешиваться в дела Малороссии, и что в противном случае Вы сами будете причиною, может быть, неприятных для Вас последствий... Граф Орлов».
Как же устроен, Господи, Тобою свет? Те, кого от самого рождения он, Тарас, должен был ненавидеть и презирать, — графы, князья — не все, оказывается, на одно лицо, на одну мерку. А дворяне Жуковский, Карл Брюллов!.. Видно, в мире, наполненном страданиями и жестокостью, всё же больше добрых людей, если сейчас здесь, в графской гостиной, переплелись такие чистые помыслы, такие отзывчивые души...
— Если желаете, я прочту вам написанное мною совсем недавно, уже здесь, в Петербурге, — после некоторого молчания произнёс Тарас Григорьевич. — Вспомнилась доля женщины и милая Украина...
Она на барском поле жала И тихо побрела к снопам — Не оглохнуть, хоть и устала, А покормить ребёнка там. В тени лежал и плакал он. Она его распеленала. Кормила, нянчила, ласкала И незаметно впала в сон. И снится ей житьём довольный Её Иван. Пригож, богат. На вольной, кажется, женат И потому, что сам уж вольный. Они с лицом весёлым жнут На поле собственном пшеницу, А детки им обед несут. И тихо улыбнулась жница. Но тут проснулась... Тяжко ей! И, спеленав малютку быстро, Взялась за серн — дожать скорей Урочный сноп свой до бурмистра.Алексею Константиновичу на мгновение припомнился разговор с императором в те дни, когда дядя Фёдор Петрович отправил ему своё ходатайство.
— Что это наши с тобою родственники — сговорились? — встретил Толстого Александр Николаевич. — Сначала осмелилась просить за рядового Шевченко моя августейшая сестра, великая княгиня Мария Николаевна, теперь — твой дядя граф Толстой.
Алексей Константинович верно рассчитал свой визит — не пришлось самому напоминать.
— Ваше величество, их, покровителей искусства, священный долг — лелеять и пестовать таланты. А более высокого Божьего дара, чем создавать красоту, к чему призваны художники в этом мире, увы, не существует. Только красота способна преобразить душу человека, сделать её истинно великой и возвышенной, по-Божески справедливой и доброй, — облёк свою рассчитанную мысль в нужные слова Толстой.
— И этот, богомаз талантлив?
— Бесспорно, ваше величество. Я видел его картины, и одна из них украшала галерею вашего министра Льва Алексеевича Перовского, а уж он, вы сами, смею заметить, не раз убеждались в этом, знал толк в искусстве.
— Однако... — начал царь и смутился.
Толстой знал, что он сейчас вспомнил стихи Шевченко:
Сам по задам выступает, Высокий, сердитый. Прохаживается важно С тощей, тонконогой. Словно высохший опёнок, Царицей убогой, А к тому ж она, бедняжка, Трясёт головою. Это ты и есть богиня? Горюшко с тобою!Стихи были об императрице Александре Фёдоровне. И он, царь и её сын, хотел сейчас произнести: «Но ведь он оскорбил мою мать! Именно потому я не мог его простить даже в день моего коронования». Но сказать так вслух после слов Толстого о красоте, делающей человеческую душу высокой и благородной, значило бы показать себя не императором, занятым теперь подготовкой великих реформ, а мелким, вздорным и глупым человеком.
— Что ж, Толстой, если бы я не был христианином... Быть по-твоему!..
Алексей Константинович поднял лицо и встретился с глазами Шевченко. «И такого поэта — в солдаты, с запрещением писать и рисовать!» — подумал он и вслух произнёс:
— «Жница»... За одно это ваше стихотворение, Тарас Григорьевич, я не знаю, что бы отдал...
11
В конце восемьсот пятьдесят девятого года Толстой и Софи уехали в Париж.
Нет, ничего не вышло из его службы в Комитете о раскольниках. Как он ни заставлял себя подчиниться решению государя, никакими фокусами не мог добиться успеха.
Ну ладно, подчас думал он, вдруг употребили бы меня на дело освобождения крестьян, например. Я бы шёл своей дорогой, с чистою и ясною совестью, даже если бы пришлось идти против всех. Но на том поприще, на которое я поставлен, — тупик, и его, даже нарочно захотев, не смогли бы придумать хуже.
Порой отчаяние доходило до того, что положение, в котором находился, он уподоблял казни если не физической, то нравственной. Убить человека дурно, говорил он Софи, но убить мысль, ум — хуже.
Так уж водится, что самые яркие и сильные произведения рождаются, когда выходят из глубины страдающей души. Такой оказалась поэма «Иоанн Дамаскин», в которой слышатся стоны его собственного сердца.
...Твой щедрый дар, О, государь, певцу не нужен; С иною силою ом дружен; В его груди пылает жар, Которым зиждется созданье; Служить Творцу его призванье...Тайный смысл жития преподобного Иоанна, положенный в основу поэмы, первой, наверное, поняла императрица Мария Александровна и, зачарованная звучностью стиха и характером главного героя, вероятно, рассказала о своих чувствах государю. Даже, скорее всего, и прочитала ему некоторые места.
Царь сам стал перелистывать рукопись. А там были и такие слова:
Над вольной мыслью Богу неугодны Насилие и гнёт: Она, в душе рождённая свободно, В оковах не умрёт!Император поморщился: вряд ли так выражают простое нежелание служить. Не прославление ли здесь тех, кто был наказан за вольнодумство? Тут так и читается между строк: как ни истребляете вы, сильные мира сего, свободную мысль, как ни запрещаете выражать её пером или кистью — её вам не одолеть.
Александр Второй передёрнул плечами и брезгливо отодвинул от себя листы с поэмой. А тут из Третьего отделения прислали экземпляр с пометами красным карандашом и предложением: не показать ли духовной цензуре? Предложение выглядело благовоспитанно: дескать, известно, что первой читательницей оказалась её императорское величество, но нет ли в тексте чего-нибудь сокрытого, против Бога?
Ну ясно, встрепенулся с облегчением император, — не он инициатор запрета. А коль возникло сомнение, можно нумер журнала «Русская беседа», где уже завёрстана поэма, и попридержать, и строго цензуровать текст. И естественно, без всяких скидок...
И всё же поэму отстояли и в министерстве просвещения, и друзья-литераторы.
Алексей же Толстой, объявляясь на очередное дежурство во дворец в качестве флигель-адъютанта и зная, откуда подул ветер, старался не встречаться взглядом с другом детства.
— Ах, этот слякотный и гнилой климат Петербурга. — Как ни в чём не бывало царь взял, по своему обыкновению, заимствованному у отца, Алёшу под руку. — Не будь на мне тяжёлого бремени, ниспосланного свыше, давно бы закатился в Ниццу на всю зиму!
— Я, кстати, ваше величество, хотел как раз просить вашего соизволения предоставить мне отпуск, — поднял глаза Толстой.
— Именно во Францию и на всю зиму? О, как ты, Алёша, мудро рассудил! Конечно ж, какие могут быть с моей стороны возражения?..
В Париже Толстой, наверно, впервые понял, почему славно чувствовал себя Гоголь за границей: вместо мертвящей, лживой, двоедушной жизни там, на родине, — здесь воздух свободы.
А как писалось во Франции Тургеневу...
В те дни как раз в Париж приехал Иван Сергеевич, за ним — Павел Васильевич Анненков, Боткин Василий Петрович[45]...
Странно: когда-то Толстого с ними впервые, можно сказать, свёл «Современник», а ныне они ещё более стали ему симпатичны, когда все вместе порвали с сим журналом.
А как можно оставаться автором издания, если на его страницах стали отдавать предпочтение не чистому искусству, а произведениям с определёнными тенденциями?
Началась новая программа, когда критику в журнале возглавил некто Чернышевский — бывший саратовский учитель и на вид и по писаниям педант и схоласт. Его магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», изданная отдельной книгой, тут же оказалась поднятой на щит людьми «Современника» как новое слово материалистической философии.
Тургенев меж тем определил сей учёный труд одним словом: «Мертвечина». И добавил: «Это худо скрытая вражда к искусству».
А как следовало отзываться о сочинении, в котором главная мысль: искусство — только суррогат действительной жизни? Ну а Гамлет? Он есть или его нет в действительности? Шекспир открыл его и своим гением сделал достоянием всех. И Гамлет гак же живой, как какой-нибудь Иван Иванович или Иван Петрович, с кем мы знакомы и встречаемся на улице.
Увольте, господа, искусству, подчинённому каким-то там тенденциям, а не просто законам художества, он, Толстой, служить не будет! И очень хорошо, что так думают многие другие авторы...
Соотечественники застали Алексея Константиновича за письменным столом — шёл к завершению «Князь Серебряный».
А они — ничем не занятые, весёлые, беззаботные! Даже Иван Сергеевич, на что рвётся в Париж, чтобы работать и работать, и у того вид совершенно свободного человека.
— Август же на дворе — золотая пора! Здесь, в Париже, зной, духота — то ли дело свежий ветер Атлантики на берегах Альбиона! — сказали и хитро глянули на Толстого, зарывшегося в бумажных листах.
— К Герцену? — загремел он. — Сонечка, Софи, разреши мне всего на три-четыре дня прокатиться в Лондон. А ты, как и условились, тем временем переезжай в Карлсбад — я к тебе туда сразу же и приеду...
Пять лет назад, накануне отъезда в село Медведь к полку царских стрелков, Толстой прочёл «Кто виноват?». И не мог удержаться, чтобы не назвать роман замечательным и прелестным, одним из тех произведений, которые останутся навсегда и которые не могут пройти незамеченными, так как подобные вещи пишутся одним сердцем.
Конечно, у каждого писателя своя манера, и стиль Герцена ему показался поначалу даже очень плохим. Но всё — даже злоба, которая высказывается в книге, некоторые вульгарности и двусмысленности — окупается сердечною глубокостью. Несомненно, этот человек глубоко чувствует то, что пишет. И даже название, которое он взял для своего произведения, настолько осмысленно, что может быть применимо ко многим другим положениям жизни.
«В самом деле, отличная книга!.. — сообщил он туг же в письме Софи. — Насколько Писемский, Достоевский и все эти писатели натуральной школы скучны и утомительны сравнительно с этой книгой! Тургенев, который гораздо тоньше и обработаннее в своих произведениях, ничего не написал такого, что стоило бы этой повести. Что касается до нынешней натуральной школы, это — просто дурной хлам, инвентарий мебели и пустые разговоры; просто жалко! и я не могу присутствовать при таких чтениях, не зевая...»
Любой автор, вероятно, ставит перед собой задачу выразить ту или иную волнующую его мысль. Но в одном случае мысль, как пружина в дырявом матраце, вылезает наружу — и от неё одно неудобство, в другом — и мысли вроде не видишь, одно чувство и наслаждение испытываешь, а до сердца доходит и боль, и симпатии, и негодование автора...
В курортном городке Борнемуте, на побережье, Герцен нанял на лето большой дом и ожидал в нём возвращения детей, Саши и Таты, из Швейцарии. Можно было бы снимать жильё в Вентноре, на острове Уайте, как он делал ранее, но гам каждое лето обосновывалось столько русских, что он стал их даже избегать. В Вентнор тем не менее он приехал, чтобы встретиться с Тургеневым и его друзьями. Они сказали, что у них родилась одна любопытная идея, которая наверняка заинтересует и его, лондонского изгнанника.
Плотнотелый, с крупной головой, похожий на просоленного морского волка, Герцен отличался крепким рукопожатием. Многие чуть ли не вскрикивали от неожиданно причинённой боли. Однако, протянув руку графу Толстому, он с удовольствием ощутил его стальную силу и засмеялся:
— Ого! А я полагал, что в ваших стихах — просто поэтический образ: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж сплеча!» Рад познакомиться. Мне про вас Иван немало рассказывал.
С Тургеневым Александр Иванович был на «ты» — познакомились ещё в Москве в начале сороковых годов, а близко сошлись уже во Франции, в знаменательном восемьсот сорок восьмом году. Политические взгляды их тогда несколько разнились. Пережив поражение французской революции, Герцен разочаровался в социалистических идеалах Запада и всецело связал свои надежды с «русским крестьянским социализмом».
«Мы не западные люди, — утверждал Герцен, — мы не верим, что народы не могут идти вперёд иначе как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было».
Не повторять путь Запада, а искать свой — убеждал себя и своих читателей Герцен. Он писал: «Европейские гражданские формы были несравненно выше не только старинных русских, но и теперичных, в этом нет сомнения. И вопрос не в том, догнали ли мы Запад или нет, а в том, следует ли его догонять по длинному шоссе его, когда мы можем пуститься прямее. Нам кажется, что, пройдя западной дрессировкой, подкованные ею, мы можем стать на свои ноги и, вместо того чтоб твердить чужие зады и прилаживать стоптанные сапоги, нам следует подумать, нет ли в народном быту, в народном характере нашем, в нашей мысли, в нашем художестве чего-нибудь такого, что может иметь притязание на общественное устройство несравненно высшее западного. Хорошие ученики часто переводятся через класс».
Тургенев ему отвечал: «По моему понятию, ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь; мы сидим в одном мешке, и никакого за нами «специальнонового слова» не предвидится. Но дай Бог...»
Несмотря на разногласия, оба больших писателя продолжали, каждый по-своему, расшатывать крепостнические устои, отображать в своих произведениях тех передовых людей, которым, на их взгляд, история отвела будущее.
Пошёл уже четырнадцатый год, как Герцен с Огарёвым обосновались за границей, и восьмой, как здесь, в Англии, открыли Вольную русскую типографию. Их альманах «Полярная звезда», с обложки которого смотрели пятеро повешенных декабристов, поистине был звездой надежды, а выпуски «Колокола» звучали набатным призывом.
Листы «Колокола» нелегально переправлялись из Лондона в Петербург и Москву, их прятали и читали студенты университетов, интеллигенция, но к этой же газете тянулись министры, сенаторы, её ждали в Зимнем.
Толстой, часто бывая во дворце, не упускал случая просматривать «Колокол» чуть ли не из нумера в нумер, с удовольствием отмечая колкую, острую сатиру, с которой корреспонденты Герцена выставляли напоказ, клеймили позором мерзости российской жизни. Иные из заметок «Колокола», казалось многим, прямо напоминали Козьму Пруткова. Что ж, это только подтверждало, что лондонское вольное русское слово и прутковская сатира шли хотя своими самостоятельными, но в некотором смысле близкими путями.
Герцена живо интересовало всё, что происходило сейчас в России. Известно было: правительство готовило отмену крепостного права, заседали комиссии по выработке других реформ, которые могли в корне изменить общественную жизнь страны. Толстой в этом смысле представлял для него определённый источник новостей верных, а не просто слухов и сплетен. Но Александр Иванович не спешил с расспросами — ждал, что выложат сами гости.
— Помнишь, Александр, мы с тобою спорили об особом, российском, пути, — начал Тургенев. — Знаю, ты и теперь готов доказывать, что Россия хотя и приходит к жизни как народ последний в ряду других, но зато полный юности и деятельности.
— Нуда, — подхватил Герцен, — я не устану повторять: когда народы Европы мечтают о покое, народ русский, ещё полный юности, только приступает к жизни...
— Вот об этом «приступе к жизни» мы и намерены поговорить! — воскликнул Иван Сергеевич. — Однако разговор наш в том смысле, как этому полному скрытой энергии, но совершенно невежественному, неграмотному и сбитому с толку исполинскому юноше помочь.
Иван Сергеевич вскинул львиной гривой, продолжая вышагивать по золотистому песку пляжа.
— Погоди, Александр, я отнюдь не принижаю нашего мужика. Вспомни, не ты ли сам возмущался отсутствием у русского крестьянина всякого уважения к себе, клеймил его глупую выносливость и подчинение любым, даже самым неимоверным, притеснениям — словом, постоянную, веками бесправия выработанную готовность жить при любом порядке? Куда ж с таким народом, если вдруг выйдет воля? Посему и пришла мысль — поспособствовать народному образованию, для чего основать, скажем, Общество для распространения грамотности и первоначального обучения.
Лицо Герцена, особенно его сократовский лоб, в лучах солнца казалось красным, почти кирпичным, что и впрямь усиливало схожесть со шкипером или капитаном. Вдруг он остановился, рука потянулась к бородке, медленно её ощупала, и раздался его громкий заразительный смех:
— Ах вот зачем вы ко мне прикатили: закрой свои политические издания и шлёпай на печатных машинах буквари!
— Так, да не так! — возразил Павел Анненков, иначе — Тётка Полина, а ещё Петушиная Голова. — Изданий ваших не тронем, если только посоветуем кое-что приблизить к тому же мужику. А подумать вместе, какие классы или даже целые воскресные школы в России завести, — затем и приехали...
Да, усмехнулся про себя Герцен, слава Богу, что у него не петушиная голова, — мигом её снесли бы, так до него охочи не то что враги, но и иные друзья.
Вспомнил приезд к нему в Лондон «молодого старика» — Михаила Семёновича Щепкина, как он отрекомендовался сам, посланца настоящей, коренной России. «Твоё вольное слово, — говорил актёр, — обдало нас ужасом: ведь нас всех, твоих читателей, там, на родине, пересажают! Прекрати, Саша, свои революционные писания, нас пожалей. А сам садись на пароход, уезжай в Америку, года же через два-три, когда жар поостынет, просись обратно в Россию — царь должен простить. А так ты нас, ей-богу, придушишь. После твоих здешних писаний у нас дома даже имя Белинского упоминать нельзя!»
Были и другие визитёры — хотели, наоборот, драки, да с кровью. В один из приёмных дней, что дважды в неделю установил в своём лондонском Орсетт-Хаузе, на Вестбурн-Террас, объявился посетитель. Чёрное пальто не из самых модных, такая же затерханная шляпа. Нос крупный, очки, волосы закрывают уши. «Чернышевский Николай Гаврилович», — представился. Александру Ивановичу уже ранее передавали: новый ведущий критик «Современника» как-то в разговоре заявил, что уважает Герцена как никого из русских!
«Саша, Тата, — кликнул Александр Иванович сына и дочь, — знакомьтесь: тот самый!..» Нет, не просто долг платежом — то же восхищение хотя бы глубокими по мысли и смелости высказываниями в «Очерках гоголевского периода русской литературы».
Приём польстил гостю — не скрыл удовлетворения, хотя выглядел скованно, даже пройдя в гостиную и устроившись вроде бы удобно в кресле. И поскольку настороженность и несвобода не исчезали, начал как-то сразу и неловко: «Мы с вами хотя и на разных по отношению к некоторым, весьма существенным, вопросам полюсах...» Герцен не сдержался: «Куда уж рядом с вами нам, «либеральным пустозвонам», как недавно в «Современнике» окрестил меня и Огарёва, кажется, ваш последователь Добролюбов...» Тут бы гостю сбавить тон, ответить чем-то вроде: «Да и вы, батенька, изрядно на нас наскакиваете, так что кто дурное помянет...» Но гость точно на уроке в гимназии — мундир на все пуговицы и в манере, не допускающей никаких примирений: «Да, нас не устраивает линия вашего «Колокола»! Вы здесь, вдали от России, потеряли чутьё к революции, променяли его на мирный прогресс. А у нас там, кроме лишних людей, которые ни к чему действительно были не годны, появились революционные разночинцы. Так что вам отсюда к топорам надо звать Русь...»
Усидеть на месте во время разговора Герцен вообще не мог, а тогда словно под ним взорвалась пороховая мина — вскочил и быстрым шагом из угла в угол: «Простите, Николай Гаврилович, но коли уж выбрали наступательную манеру, в таковой и я вам отвечу: вы и ваши друзья вознесли себя на пьедестал из благородных негодований и сделали чуть ли не ремесло из мрачных сочувствий страждущим. Мы же хотим быть криком освобождения и боли, быть протестом России, обличителями злодеев... Посему не к топорам — к мётлам будем звать!»
Тогда они действительно оказались на противоположных полюсах. Чернышевский утверждал, что обличение уродств и язв русского правительства — мелочь, недостойная революционера, а прицел нужен — восстание! Герцен стоял на том, что разбудить политическое мышление общества, придавленного чугунной плитой самодержавия, нещадно разоблачать антинародную сущность правящих верхов — значит помочь прозреть народу.
Хороша мелочь, думал про себя Герцен, — сатира! Да если на то пошло, смех — оружие поострее топора! От смеха падают идолы!
И откуда такое стремление всё решать самим за весь народ — и одним махом? И не от глубокого разума это — от отчаяния.
Ну-с, а сегодняшние гости неужто тоже бескомпромиссно убеждены, что достаточно открыть воскресные школы да впустить в них скучных и строгих учителей с учебниками, как тёмный мужик вмиг научится понимать, кто его друзья, а кто недруги? Да подчас для него такие стихи, как «Спесь» Алексея Толстого, нужнее тысячи букварей!
Эту мысль он и высказал друзьям, а затем добавил:
— Поправьте меня, пожалуйста, Алексей Константинович, если в чём-нибудь совру... — И, сопровождая декламацию смешными и выразительными жестами, Герцен начал:
Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью, Шапка-то на нём во целу сажень, Пузо-то его всё в жемчуге, Сзади-то у него раззолочено. А и зашёл бы Спесь к отцу, к матери, Да ворота некрашены! А и помолился б Спесь во церкви Божией, Да пол нс метён! Идёт Спесь, видит: на небе радуга; Повернул Спесь во другую сторону: Непригоже-де мне нагибатися!— Всё верно — слово в слово! — ответил за автора Боткин. — А лучше ещё вот это вспомнить: «У приказных ворот собирался народ густо; говорит в простоте, что в его животе пусто...» Нет, тут явно без самого поэта нам не обойтись. Алексей Константинович, ну-тка!..
Толстой никогда не отказывался читать стихи, если просили. И теперь начал без лишних упрашиваний — строфу за строфой — расчудесную свою сатиру на мздоимцев-чиновников. Прямо с того места, где остановился Боткин:
«Дурачьё! — сказал дьяк. — Из вас должен быть всяк В теле: Ещё в думе вчера мы с трудом осётра Съели!» На базар мужик вёз через реку обоз Пакли; Мужичок-то, вишь, прост, знай везёт через мост, Так ли? «Вишь, дурак! — сказал дьяк. — Тебе мост, чай, пустяк, Дудки? Ты б его поберёг, ведь плыли ж поперёк Утки!» Как у Васьки Волчка вор стянул гусака, Вишь ты! В полотенце свернул, да поймал караул, Ништо! Дьяк сказал: «Дурачьё! Полотенце-то чьё? Васьки? Стало, Васька и тать! Стало, Ваське и дать Таску!»Взрывы смеха постоянно прерывали чтение, но Толстой всё же сумел закончить:
Пришёл к дьяку истец, говорит: «Ты отец Бедных; Кабы ты мне помог — видишь денег мешок Медных, — Я б те всыпал, ей-ей, в шапку десять рублей, Шутка!» — «Сыпь сейчас, — сказал дьяк, подставляя колпак, — Ну-тка!»Герцен смеялся что есть мочи:
— Удружили, дорогой Алексей Константинович, право слово. Вот что надобно мужикам в каждой деревне читать!..
Поручили Тургеневу разработать проект устава общества грамотности, а затем разослать его как можно большему числу заинтересованных людей.
Погода стояла отличная. Английский канал по уграм окутывала жемчужная дымка, но вскоре она исчезала — и открывалась необозримая морская гладь, жёлтые барханы песчаных дюн и скалистые меловые берега.
Пролетели незаметно не только три и четыре дня, но неделя, за ней — другая. Съездили, и не раз, компанией в Борнемут. Дом стоял пока ещё не заселённый сыном и дочерью Александра Ивановича. Зато на вилле часто появлялся тридцатитрёхлетний штабс-капитан русской армии Зыгмунт Сераковский.
Мир тесен: оказалось, что сосланный в солдаты по гнусному обвинению — будто бы студентом Петербургского университета пытался нелегально перейти границу — Зыгмунт служил в Оренбурге под началом генерала Перовского. Когда получил эполеты, Василий Алексеевич дал ему блестящую рекомендацию для поступления в Академию Генерального штаба. А ныне он оказался в Лондоне в служебной командировке — участвует в международном конгрессе по отмене телесных наказаний в армии. Приезжает к Герцену возбуждённый, с воодушевлением говорит, как по возвращении в Петербург будет докладывать свои выводы и предложения.
— Позор! — Глаза его вспыхивают. — Защитников отечества, солдат, — и по физиономии, а то — под палочные удары! Сам хорошо знаю, что такое бесправие, когда человек становится серой скотиной. В армии его императорского величества рукоприкладство — как взяточничество в чиновном мире: нет удержу! Отмена рабства в деревне и отмена бесправия в армии — всё следует проводить в жизнь, и немедля.
Обрадовался, когда узнал, что Толстой недавно виделся с Шевченко:
— Можно сказать, из одного котелка хлебали, хотя и содержались в разных батальонах. Тарас, уезжая, много своих рисунков оставил — я привёз их ему в Петербург... Вот вам пример бесправия — гения чуть до могилы не довели! Хорошо, что у нового императора добрые намерения.
Герцен слушал Зыгмунта и думал: может, когда-нибудь и мне, непримиримому борцу с самодержавием, придётся поднять тост за здоровье монарха Александра Николаевича, если он, сын Николая Палкина, замордовавшего и заковавшего в кандалы Россию, всерьёз думает и об освобождении крестьян, и об отмене в армии истязаний, и о введении справедливых судов присяжных? Вот ведь ещё вчера арестант оренбургских батальонов, а сегодня блестящий, образованный офицер послан изучать дело, которое может изменить судьбы тысяч и тысяч. А ведь он — только один из многих, кто и для свободы России, и для счастья своей родной Польши готов отдать все силы.
12
От Москвы на север — старинный тракт: к Ростову Великому, Ярославлю, Переславлю-Залесскому, Александрову... По сторонам — то слева, то справа — на горизонте лиственные или хвойные боры и рощи, а то вдруг к самой дороге подступят стройные корабельные сосны, могучие ели и даже дубы не в один обхват. Почему же — Залесье, когда дорога среди настоящего леса?
Для древних жителей Киевской Руси лес был один — Брянский. Как поднимешься вверх по Днепру, затем по Десне от матери городов русских, так и войдёшь в дебри, отчего и город, поставленный в самых чащах для охраны водного пути, сначала звался Дебрянском.
Переход через Брянские леса Владимиром Мономахом приравнивался к выигранной ратной битве — такая была непролазь, что нередко гибли кони и люди. Тем же путём — через чащу — ехал и его сын Юрий Долгорукий, чтобы независимо от Киева основать своё княжество — Владимиро-Суздальское. И нарёк, видно, земли новые, ему отныне подвластные, Залесьем.
Толстой глядел окрест и представлял, как в лето семь тысяч семьдесят третье от сотворения мира, иначе — по новому исчислению, в 1565 году, двигались этим путём от Москвы обозы иного великого князя — Иоанна Грозного.
В ту пору, разругавшись с боярством, которое взялось упрекать его в жестоких и бесконечных казнях, царь заявил, что оставляет государство и уезжает, куда Бог укажет ему путь. Путь же был от Кремля за восемьдесят с лишком вёрст — в Александровскую слободу. Сей уголок Русской земли, названный так в честь Невского Александра, грозный государь облюбовал в качестве своей вотчины.
Перепугались бояре, кинулись вслед бить царю челом и плакаться. А тому этого и надо. Вышел перед ними и объявил, что я-де с тем только и принимаю государство, как вы просите, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их достатки и животы и чтобы ни от митрополита, ни от властей, ни от вас не было мне бездельной докуки о милости. Но и того мало. Беру-де себе, сказал, опасную стражу и беру на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а всё остальное — то земщина. А боярам-де и митрополиту со властьми в мой домовой особный обиход не вступаться.
Как взвыл тогда народ от царёвой жестокости! По всей Руси расплодились дьявольские, кровоядные царёвы полки с мётлами да с пёсьими головами, притороченными к сёдлам. И принялись они выметать не измену, но честь русскую, грызть не врагов государевых, а верных слуг его, и не было нигде на них ни суда, ни расправы.
Уже на подъезде к городу открылся вид на монастырскую ограду, белостенный, увенчанный огромным куполом Троицкий собор и высокую стройную церковь Покрова.
Оба храма помнили, как под их своды входил высокий, одетый в длинные парчовые одежды, испещрённые узорами, жемчугом да дорогими каменьями, с удлинённым хищным лицом и острыми, пронзительными глазами царь. Все трепетали вокруг, гадая в страхе, твою ли жизнь он возьмёт сегодня или чью-нибудь ещё.
По древним планам и описаниям, что открылись Толстому ещё в юности в Московском архиве, он знал, что церковь Покрова считалась дворцовым храмом государя, а дворец его, отделённый от прочих зданий глубоким рвом и валом, стоял поодаль. Бывавшие там свидетельствовали в своих записках, оставленных потомству, что трудно было описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились, громоздились одна на другой. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?
Недалеко от дворца, говорили очевидцы, стоял печатный двор с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на любой обиход.
Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный Троицкий храм покрыт был снаружи яркою живописью, на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.
Именно такую великолепную картину узрел молодой князь Никита Серебряный, когда впервые попал в эту царскую обитель. По дороге в слободу наслышался он о царёвой жестокости, но увиденное потрясло и его мужественную душу. Проезжая ворота, он заметил несколько виселиц, стоявших одна подле другой, тут же оказались срубы с плахами и готовыми топорами. Вскоре и ему, храброму боярскому сыну, не жалевшему своих сил на благо отечества, пришлось самому изведать жестокость Грозного.
Теперь, шагая по широкой главной дороге, сворачивая на узкие тропинки, вьющиеся вокруг деревьев, Толстой снова и снова представлял залы и помещения царского дворца, где бывали Серебряный и другие герои его романа. И вставали перед ним, автором, сызнова кровавые картины мученических пыток и расправ государя и его подручных с преданными отечеству русскими людьми, которые пытались отстоять перед неслыханным изуверством царя-палача свою честь и правду.
Однако не только картины минувшего возникали в воображении — взор подмечал упадок и запустение в некогда хотя и страшной, но величественной Александровской слободе.
Сам дворец сгорел уже давно, ещё во времена польско-шведской интервенции, другие же здания не пощадили столетия. Но многое, видно, погибло и сейчас продолжает уничтожаться по нерадению и безразличию людскому. В каменных стенах — проломы, храмы в трещинах. Того и гляди, остатки исторической цитадели исчезнут без следа — что могут поделать с тленом слабые и неимущие монахини Успенского женского монастыря, ютящегося в хлипких и сырых приделах к храмам? Тут нужны меры общегосударственные, чтобы остановить беспримерный вандализм, принявший во многих краях России характер хронического неистовства по отношению к памятникам древности, увы, столь малочисленным у нас по сравнению с другими странами.
Года два назад именно об этом он писал Александру Второму. Профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил Толстого и рассказал ему, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которую она испортит. Во Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить её новой в псевдостаринном вкусе. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся к одиннадцатому веку, была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времён Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу.
В письме государю Толстой припомнил, как на его глазах в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую как поваленное дерево, гак что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на её месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николы Явленого на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного и построенная так прочно, что и с помощью железных ломов еле удавалось отделить кирпичи один от другого.
«Государь, я знаю, что Вашему величеству, — заканчивал письмо Толстой, — не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности... Обращая внимание на этот беспримерный вандализм... я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всём, наверное, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения...»
Теперь он поехал в подмосковный город Александров вовсе не потому, чтобы прибавить новые факты к тому, о чём уже писал императору. Хотя, конечно, не преминет при первой же встрече сказать и о том, что предстало его глазам в бывшей слободе. Завлёк его в поездку зов давний — время Иоанново.
Уже поставлена последняя точка в «Князе Серебряном», рукопись передана в редакцию «Русского вестника»[46].
Роман просили — между прочим, даже по главам — редакции «Библиотеки для чтения» и «Современника», Фёдор Михайлович Достоевский обещал напечатать его в своём журнале «Время». Толстой остановился на Каткове[47]. Дело в том, что Михаил Никифорович принял условия автора — приступить к печатанию первых глав как можно скорее.
«Это необходимо, — настаивал Толстой, — во-первых, из учтивости к императрице, которая не раз спрашивала, когда появится «Серебряный». Во-вторых, потому, что наши цензурные законы находятся, как Вы, вероятно, знаете, в колеблющемся состоянии, и может случиться, что сама императрица вынужденною найдётся взять своё позволение назад. Если же раз первые главы появятся с её именем, трудно будет запретить роман и они... должны будут дать ему ход. Надобно, так сказать, закрепить теперь же наше право печатанья. Полагая, что Вы будете с этим согласны, посылаю Вам «Серебряного» с предисловием, но ещё без посвящения. Последнее, по принятому правилу, отправлено к императрице на утверждение. Оно выходит из ряда обыкновенных пошлостей и может иметь хорошее действие, если будет принято. Императрица находится теперь в Гапсале; ответ получится дня через четыре, как я думаю. Между тем, не найдёте ли возможным приступить к набору самого романа?»
Толстой торопил издателя, используя все ходы: и желание императрицы быстрее увидеть понравившийся ей роман изданным, и её готовность разрешить посвятить «Серебряного» ей, и ссылки на переменчивость цензуры... Алексей Константинович хорошо помнил историю с «Иоанном Дамаскиным». Кто только не пытался его запретить! Посему, рассчитал он, надо напечатать хотя бы начало с посвящением царице, а тогда уж никто не будет в силах перечеркнуть сочинение красным карандашом.
С Катковым Толстой к тому же нашёл общее понимание во взгляде на стилистику романа. Автор напоминал: «Убедительнейше прошу Вас поручить корректуру человеку, знакомому с древнейшим русским языком и с археологией. Иначе я боюсь, что наборщики станут поправлять мне выражения, как то делали переписчики, которые ставили богатство вместо богачество, печалиться вместо печаловаться и так далее. Это может изменить не только характер речи, но и исказить смысл. Язык у меня строго современный действию, и его нельзя ни в коем случае изменять».
Роман ещё не был напечатан, но те, кто слушал его в отрывках или целиком в чтении автора, и даже те, кто не знал из него ни строчки, во всеуслышанье выражали своё к нему отношение. Говорили, что кое-кто из друзей пустил в публику: «Чтение для лакеев», — на что Толстой отозвался: «Я бы считал себя счастливым, если бы «Князя Серебряного» читали лакеи, которым у нас до сих пор и читать нечего». Некрасов съязвил: «И чего это всем дался этот Иван Грозный! Ещё и был ли Иван-то Грозный?..»
Сам автор знал изъяны сочинения, наверное, лучше любого критика. Ещё года четыре назад он писал Софи о своей работе:
«Как это ни глупо, но попробую поговорить с тобою о «Серебряном». Я не дотрагивался до него, но я его не покинул и очень его люблю...
Правда, что надо его переделать, и обделать неровности в стиле, и дать характер Серебряному, у которого никакого нет... Я часто думал о характере, который надо было бы ему дать, — я думал сделать его глупым и храбрым, дать хорошую глупость, но он слишком был бы похож на Митьку.
Нельзя ли было бы его сделать очень наивным... воспользоваться характером Л., то есть сделать человека очень благородного, но не понимающего зла, но который не видит дальше своего носа и который видит только одну вещь зараз и никогда не видит отношения между вещами. Если бы сделать это художественно, можно было бы заинтересовать читателя подобным характером...»
Характер главного героя проявлялся как человека благородного и верного, удавались лики и персонажей второстепенных, но тем не менее выписанных живо. И всё же что-то оставалось недотянутым, незавершённым.
Конечно, сказывалось и то, что писался роман долго — начал чуть ли не юношей, увлёкшимся «Историей государства Российского» Карамзина, кончил же совершенно взрослым, сорокатрёхлетним. Как портной на платье, он видел швы и даже, увы, заплаты, хотя поначалу в этом не решался признаваться и себе.
Но зрело и другое ощущение: не всё до конца сказал о времени и о Грозном, как стал их понимать в процессе завершения романа.
Теперь, когда «Серебряный» окончен, явилась мысль, которую он вдруг так чётко осознал, что не мог не сказать о ней в предисловии: «В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования».
Нет, не отпускал его Иоанн Грозный, не отпускало время и те люди, которые продолжали жить в нём, авторе, когда на последней странице уже поставлена точка...
День близился к закату, и потому в низких солнечных лучах купола церквей, башенки в углах ограды, стены и крыши монастырских сооружений стали менять свою форму и окраску, всё больше воскрешая в воображении и дворец, который когда-то стоял здесь, и даже сооружения Московского Кремля и его причудливые соборы.
Кремль ведь тоже хранил память о деяниях Грозного, и всякий раз, когда Толстой приезжал в Москву, он шёл в Кремль, чтобы сильнее проникнуться духом древности.
Глядя на старинные башни — круглые, четырёхугольные, с острыми шпицами, — на бойницы, всевозможные ограды, он всегда почему-то чувствовал какое-то содрогание, будто прикасался к чему-то тайному, чему нет и никогда не будет отгадки. И ему на какой-то миг становилось страшно.
Что же должен был чувствовать сам человек, носитель верховной власти, заточивший себя в этих сказочных, напоминающих драконов и жар-птиц башнях и теремах?
Да и для него, властелина-деспота, жизнь в Кремле, как и существование в царской слободе, была, наверное, наполнена страхом.
Собственно, страх испытывали все, он был постоянной силой, которая никогда не убывала, а бескрайне множилась и росла, подминая под себя всех подневольных и заставляя быть неспокойным самого царя. Тот, кто наверху, знал: его гнёт создаёт возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности, предосторожность же снова усиливает опасность. И тогда самая крутая, самая надёжная ответная мера — кровь.
Но опьянённому кровью властелину неведомо, что кровь вызовет новую кровь, и так — круг за кругом погоня за страхом и преследование тем же страхом...
Так как же могло существовать такое общество, которое не только смирилось с кровавой жестокостью царя-деспота, но даже смотрело на него без негодования?
13
Дарья Тютчева была не то чтобы очень хороша собой, но свежа тем очарованием молодости, которое нередко и с успехом может соперничать даже с подлинной красотой.
Правда, Дарья появилась при дворе, когда ей шёл уже двадцать четвёртый год, но тонкая фигурка в сочетании с непосредственностью манер и открытостью души делали её на редкость привлекательной. И теперь, спустя три года, эти её качества не поблекли.
А может, на симпатиях к юной фрейлине лежал отблеск чар её старшей сестры Анны — человека большого и доброго сердца и острого, проницательного ума?
Справедливость требует сказать, что скорее всего лишь благодаря своей старшей сестре она, Дарья, была принята во дворец, и вообще Анна с детских лет была для неё самой сильной привязанностью и идеалом.
Случилось так, что после смерти матери Дарья и ещё меньшая — Китти, совсем крошки, остались сиротами, и Анна, всего на пять лет взрослее, стала поневоле их воспитательницей. У отца уже появилась новая семья, он выехал в Петербург, а они, трое сестёр, оставались в Мюнхене, в королевском женском институте. И только потом младшие оказались в России, продолжив учёбу в Смольном.
В самом начале пятидесятых годов их отец, председатель Комитета цензуры иностранной Фёдор Иванович Тютчев, известный в высших кругах как непревзойдённый остроумец и к тому же поэт, а до того чиновник русской миссии в Мюнхене, попытался пристроить ко двору восемнадцатилетнюю Дарью и семнадцатилетнюю Екатерину, только что вышедших из института. Однако вместо двух младших великая княгиня Мария Александровна с одобрения императрицы Александры Фёдоровны на должность фрейлины выбрала Анну, за которую вроде бы и не просили. Два обстоятельства решили этот выбор: Анна некрасива, а значит, будет вне притязаний со стороны мужчин императорской фамилии, и к тому же старшая дочь бывшего дипломата удивительно образованна и умна.
Как молилась Дарья на сестру, как хотела оказаться с нею рядом в покоях великой княгини-цесаревны, а вскоре и императрицы! Затаив дыхание, она частенько пробиралась на четвёртый этаж Зимнего дворца, где находились комнаты фрейлин, слушала рассказы о бесчисленных приёмах и вечерах, о балах и парадных выходах. Даже сам запах платьев, в которые по нескольку раз в день надобно было переодеваться фрейлинам, чтобы сопровождать их величества и высочества, пьянил и кружил голову.
Но приходить во дворец — значит не раз видеть императрицу, статс-дам, окружающих её, встречать самого монарха.
Сердце Дарьи едва не выскочило из груди, когда однажды голубые, излучающие удивительную доброту глаза Марии Александровны остановились на ней, и тут же что-то очень милое и одобрительное изволил произнести император.
Дарья вспыхнула и, опустив взор, своим юным женским сердцем безошибочно почувствовала две вещи, которые отныне должны были круто изменить её судьбу. Во-первых, она поняла, что будет наконец-то принята ко двору и, во-вторых, что она с этого момента безумно и на всю жизнь, как говорится, с первого взгляда влюбилась в императора Александра Николаевича как в мужчину.
Первое вскоре исполнилось, и Дарья стала близкой и любимой фрейлиной императрицы, сменив на этой должности Анну, которой было поручено воспитание царских детей.
Второе навсегда, должно быть, осталось тайной. В неразделённое чувство Дарьи оказался посвящённым лишь отец. И в знак того, что он, человек тончайшего ума, понял жажду её неутолённой любви, посвятил ей одно из самых чудесных своих стихотворений с такой припиской: «Моя милая дочь, храни это на память о нашей вчерашней прогулке и разговоре, не показывая никому».
Когда на то нет Божьего согласья, Как ни страдай она, любя, — Душа, увы, не выстрадает счастья. Но может выстрадать себя... Душа, душа, которая всецело Одной заветной отдалась любви И ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови! Он, милосердный, всемогущий, Он, греющий своим лучом И пышный цвет, на воздухе цветущий, И чистый перл на дне морском.Листок со стихами в тесной келье на мансарде Зимнего вынимался из потаённой шкатулки и клался перед сном под полушку. И только Господь знал, сколько раз за ночь он орошался жгучими слезами. Но ранним утром начинался день забот, хлопот, суматохи, беготни и — неунывающего веселья.
Следовало с самого подъёма, как в казарме, быть на ногах, быть заведённой, как точнейший часовой механизм, предупредительной и учтивой, даже невзирая на то, что могла при этом адски разламываться голова. Но Дарье редко следовало притворяться — её очарование и душевная щедрость были нс маской, а качествами врождёнными, внутренними. Потому искренне помогать другим, проявлять непременное участие в чьей-то судьбе было её естественным свойством, потребностью сердечной, за что, собственно, особенно ценили Дарью Тютчеву императрица и её окружение.
С первого знакомства на балу в Гатчине Толстой и Дарья почувствовали уважение и симпатию друг к другу. Позже она призналась, что Алексей Константинович, такой милый и добрый, покорил её ещё и тем, что пользовался особым расположением императора и носил мундир флигель-адъютанта.
«Была бы причина восхищаться последним обстоятельством», — хотел ответить ей Толстой, но сдержался. Он видел, как она торжествует всякий раз, когда видит императора, и как, восхищаясь талантами своего отца, невольно сокрушается, что он, увы, не приближен к трону так, как того достоин и как ему самому того хотелось.
— Так вас не радует, что вы — рядом с государем, что служите его великому делу и всегда в меру своих сил и способностей можете оказать ему помощь? — стремилась она заглянуть Алексею Константиновичу в душу.
Ах, милое и нежное существо, да разве мог он ей, даже такой проницательной и сердечной, открыть свои заветные желания и мысли?
— Возможность бывать иногда рядом с вами во дворцах искупает любые неудобства моего придворного положения, — учтиво отвечал молодой фрейлине аристократически воспитанный граф.
Она не отводила от него своего испытующего взгляда:
— Простите, но я догадываюсь: у вас внутри — своя, принадлежащая только вашему рассудку и сердцу, жизнь. Я это чувствую, когда вы декламируете свои стихи и когда недавно читали императрице и нам «Князя Серебряного». И ещё — у вас много общего с Аксаковым[48]. Как и он, вы постоянно ищете дела, к которому готовы приложить все силы своей души. И всякий раз — дела справедливого, которое бы шло на пользу другим...
Иван Сергеевич Аксаков был другом Анны Тютчевой, ходил в её женихах, потому его хорошо знала Дарья. Толстой сошёлся с ним в Москве, в дни коронации. Собственно, сперва он встретился с его братом Константином, который восторженно бросился на шею: «В ваших стихах слышна русская струна и русское сочувствие, и как искренне звучат слова!» А уж потом они сошлись с Иваном Сергеевичем. В его журнале «Русская беседа» увидел свет «Иоанн Дамаскин» и многие другие толстовские стихи.
Между тем не во всём они сходились и были похожи. Толстой не принимал узких и ограниченных, на его взгляд, славянофильских убеждений Ивана Сергеевича, не допускавших проявления иных воззрений на русскую жизнь. Алексей Константинович с ним спорил о том, что любовь к России не может быть ограждена какими-либо групповыми, партийными рамками, это чувство, вбирающее в себя все взгляды и убеждения. Однако Дарье не хотелось вникать в их различия. Она ощущала широту их русских натур, восхищалась их любовью к родине и стремлением утверждать эту любовь неуёмной жаждой деятельности.
У Толстого, она понимала, этим видом деяния было искусство, у Аксакова — публицистическая и издательская работа. Но она, вращавшаяся каждый день в самых высших кругах, постоянно наблюдавшая императора и императрицу, многих других лиц, составлявших власть, и умом и сердцем осознавала, что такие люди, как Аксаков и Толстой, могли бы больше сделать полезного, если бы получили такую возможность от государя. Ивану Сергеевичу пока этот путь был заказан: отстаивая передовые, смелые взгляды в общественной жизни, он не знал меры в своих газетах и журналах и тем самым вызывал раздражение правительства. Толстому приходилось не раз выручать Аксакова из беды. Но разве не было бы справедливым, если бы граф Толстой, с его добротою и рассудительностью, с его горячим сердцем русского патриота, занял достойное его способностей государственное место? Как бы раскрылись все чудесные силы его души и как бы он сумел сплотить вокруг себя и повести на благие свершения таких честных людей, как Аксаков и ему подобные!..
В голове Дарьи крепко засела фраза, однажды оброненная Толстым: «Есть некоторые комиссии и следствия, которые я бы с счастием исполнил, если бы государь захотел мне их доверить. Такие, например, дела, в которых не требуются особенные знания специальные, но в которых нельзя допускать никаких снисхождений к высокопоставленным лицам...»
То было сказано в дни, когда Дарья только что появилась при дворе и, смущаясь от чувств, переполнявших её юное сердце, поведала государю желание его близкого друга.
Ах, эти тайные расчёты женского сердца! Не смея высказать терзавшего её чувства, она решается стать посредником между государем и его другом детства, тем самым как бы включая и себя в круг наиболее близких людей императора — предмета своей пламенной! страсти.
Но была ли душевная доброта в сём поступке? А как же, одно не исключало другое, лишь связывало воедино все страсти и все благородные устремления чистой души.
Государю тогда совет очаровательной молодой фрейлины показался вполне разумным, но не его и не её была вина, что последовавшее назначение Толстого в Комитет по раскольничьим делам не раскрыло всех способностей Алексея Константиновича. Главное, что осталось в памяти императора после ходатайства юной фрейлины и что, как и рассчитывала она сама, сблизило её и государя, было одинаково проявленное ими обоими стремление найти Толстому подобающее ему место в государственной службе.
Каким же счастьем осветилось лицо Дарьи, когда в один из вечеров она подошла к Алексею Константиновичу и отвела его в дальний угол, где их никто не мог услышать:
— Вы помните ваши слова о желании послужить в комиссиях, где нельзя допускать никаких снисхождений даже к высокопоставленным лицам, дабы восторжествовали справедливость и добро?.. У меня как раз на сей важный для вас предмет был конфиденциальный разговор с его величеством...
— И он предложил мне, его другу давних детских лет, напялить на себя мундир Третьего отделения? — засмеялся Толстой.
Лицо Дарьи моментально выразило растерянность:
— Так вы уже сами говорили с его императорским величеством?..
Теперь сошла улыбка с толстовского лица. Нет, он не говорил ни о чём подобном с государем. Слова о жандармской службе сейчас вырвались у него для примера, чтобы тут же доказать доброй и милой фее всю нелепость её действий и пресечь всяческие попытки навязать ему линию жизни, которая для него невозможна. Однако теперь уже предложение исходит не просто от Дарьи Фёдоровны. Через неё в самом деле Александр Николаевич решил передать что-то важное и, как Толстой решил, увы, донельзя нелепое.
Всю дорогу домой он не мог отделаться от возникшего в нём чувства раздражения, вызванного этим неожиданным разговором.
Господи, поднималось в нём негодование, совершенно не свойственное его натуре, неужели так трудно понять, что каждая личность призвана действовать в пределах своих дарований и что есть вещи, до такой степени находящиеся за пределами этих дарований, что речь может идти даже не о том, чтобы преодолеть своё отвращение, а просто-напросто о возможности или невозможности! И тут никто не может быть судьёй, кроме человека, которого призывают действовать, — при условии, что это будет человек искренний и что решение он примет не иначе как попробовав свои силы. Что касается меня, я себя уже испытал и могу ещё и ещё раз сказать: мои силы совершенно парализуются в той сфере, в которую меня бесконечно пытаются втянуть.
Ах, милая Дарья Фёдоровна, и что это вы пытались мне говорить о моей откровенности, которую, дескать, сумели оценить! Самое большее, её иногда терпели, но всегда это оставалось бесплодным. Две линии, из которых одна тянется на запад, а другая на восток, смогут ли когда-нибудь соединиться?..
Он не заметил, как перед его мысленным взором предстала уже не фрейлина, а тот, с кем он не раз пытался откровенно и предельно искренне объясниться. Но можно ли договориться в разговоре, если один из собеседников говорит: «Вот посередине дороги скала, мешающая пройти, — значит, надо убрать скалу», — а другой ему отвечает: «Вот дорога, из-за которой, может быть, придётся убрать скалу, — значит, надо закрыть дорогу»? Таковы отношения, в которых я нахожусь с моим собеседником, и даже не совсем таковы, потому что он никогда, никогда не вступал со мной в споры о значении идей, никогда!
Экипаж мягко покачивался на рессорах, за окном мелькали знакомые улицы столицы. Но все они сейчас казались на один манер, все олицетворяли собой жизнь России, выстроенной по ранжиру. Эх, с каким бы наслаждением он покинул и этот город, и эту страну! Но нет, нельзя было давать простор чувству, хотя и справедливому, следовало холодно и трезво во всём разобраться. Итак...
Итак, почему же мой собеседник, которого я знаю, можно сказать, всю жизнь, которого люблю и искренне уважаю как человека, избегает вступать со мной в споры? Разве у него нет своих идей, разве мысли его не содержат тонкого понимания человеческой души и лишены благородства? Нет, в его идеях есть благородство, душевность и даже доброта, но система его ошибочна, система его не может выдержать проверки спором! Я же, действуя по его системе, стал бы лгать самому себе.
Да вот теперь, в экипаже, по дороге домой, за город, Толстой вдруг отчётливо нашёл ответ, который искал, наверное, много лет. И он, откинувшись на мягкие подушки сиденья, поглаживая бороду, улыбнулся. В этом вся суть: не просто человек не хочет быть тем-то и тем-то, а не может потому, что ему предлагают при сем лгать, а он органически этого не умеет делать!
За окном мелькнула полосатая будка, затем такой же, различённый как зебра, шлагбаум, означавшие, что он подъехал к городской заставе. Выскочивший из будки солдат проворно подвысил преграду, и карета пересекла границу столицы и губернии.
И зачем здесь солдаты на часах, а в городах чуть не на каждом углу — казармы, полиция и жандармы? Что они оберегают и от кого? Всё это воплощение той самой лжи, которая становится движителем всех сфер нашей жизни. Ложь как маска, за которой удобно скрывать истинное и не во всём приглядное лицо.
Он выглянул из окошка и вновь увидел солдата, который ненужным пугалом торчал возле ненужного шлагбаума, и подумал: ну зачем принимать всё так близко к сердцу, почему не поступить и тебе, как этому солдату? Поставили к полосатому столбу, сказали, что так надо для блага государства, — и делай вид, что доволен, что и впрямь при деле, что служишь благородной цели.
Эхма! Да я хоть сейчас стану на колени перед тем, кто смог бы носить маску ради достижения благородных принципов, я готов даже руку поцеловать тому, кто сделался бы, например, жандармом ради ниспровержения жандармерии. Но увы, для этого потребовались бы дарования особенные, которых у меня нет. Хорош бы я был, если бы напялил на себя, к примеру, мундир Третьего отделения, дабы доказать его нелепость! Да разве есть у меня ловкость, необходимая для этого? Я бы только замарался, никому не принеся пользы.
Нет, чем бы меня ни завлекали, а я задыхаюсь в той сфере, которая зовётся службой, буквально задыхаюсь. Предложите-ка какому-нибудь знаменитому тенору или басу петь стоя по уши в воде... Так-то. Потому и эта стихия — не по мне. И если я в чём виноват, так только в том, что недостаточно решительно объяснялся на этот счёт. Однако если бы я от начала до конца высказал своё кредо, меня не только не стали бы удерживать, но ещё и плечами пожали бы с презрительным сожалением. На компромисс я согласился из деликатности, из уважения и, если угодно, из привязанности. Но, видно, тянуть дальше с компромиссом не удастся. Что ж, тогда пришло, выходит, время поступков. Но я поступлю иначе, чем представляет мадемуазель Тютчева. Надеюсь, она меня поймёт. И если бы мои чувства и мой образ мыслей могли стать известны и выше, я был бы счастлив. Итак, уж лучше поздно, чем никогда.
Так как же он должен был поступить теперь, как? Он знал, что в решительном поступке его поддержит Софи — сколько раз он говорил ей: «Помоги мне жить вне мундиров и парадов».
Он вспомнил тех, кто были его наставниками, — дядю Алёшу, открывшего ему мир прекрасного, дядю Василия, ценившего прямоту и полагавшегося всегда на собственные силы, дядю Льва, стремившегося и в тяжёлой, связывающей поступь колее выбирать дороги добра... Но каждому из этих умных и незаурядных людей, столько сил отдавших, чтобы пробиться наверх, так и не удалось сделать решительного шага в сторону от соблазнов и мишуры тронов, чтобы до конца остаться самими собой.
Однако был у него и ещё дядя — Фёдор Петрович Толстой. Граф по рождению, он отринул от себя сулившую блестящее будущее карьеру и стал художником, решился и себя, и семью отныне кормить делом собственных рук. Так разве и в его жилах, вместе с казацкой кровью Разумовских и Перовских, не течёт гордая кровь Толстых, умевших и царям говорить истину в лицо?
Несколько раз он порывался объясниться с государем, но понимал, что тот уйдёт от разговора. И когда в конце лета Александр Николаевич отбыл в Ливадию, он направил ему в Крым письмо:
«Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришёл к убеждению, что прямой путь и здесь, как и во всех других обстоятельствах, является самым лучшим. Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре...»
Начал легко и просто, будто пером его водил смелый гасконец д’Артаньян, готовый любому в лицо сказать правду. А впрочем, разве он, Толстой, не был сам по натуре человеком прямым, преданным и отважным, не терпевшим лжи?
«Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор... Ваше величество, моё положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом».
Перо легко бежало по бумаге, как бывает, когда каждое слово возникало и повторялось в душе не один раз, а было следствием долгих и мучительных раздумий.
«Благородное сердце Вашего величества простит меня, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того, чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путём и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить его Вам: это средство — говорить во что бы то ни стало правду, и это — единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира...»
Это было единственное честолюбивое желание, которое он, стоящий у самого трона, просил удовлетворить, единственная привилегия, которой добивался у всесильного монарха.
14
— Если не возражаешь, Софи, давай присядем.
— Опять нога или боль в пояснице?
— Не будем омрачать такой чудный день упоминаниями о хворостях, — улыбнулся Толстой и, опираясь на суковатую палку, инкрустированную тонкой серебряной нитью, грузно опустился на скамью. — Я намеренно остановился здесь, дорогая, чтобы ты могла насладиться видом, который открывается с этой точки Брюлевской террасы на Эльбу. Взгляни: мы на вершине, а внизу — гибкая голубая лента реки и неоглядные дали. И повсюду — медовый аромат липового цветенья. Ну, разве не напоминает тебе всё это дали Смалькова, Пустыньки или Красного Рога? Вот за что я люблю Дрезден и почему выбрал сей город для нашего с тобой обручения.
Толстой пытался быть лёгким, весёлым, но Софья Андреевна с тревогой замечала, как за последние месяцы стало отёчным его лицо, под глазами образовались мешки, появились частые головные боли и одышка. А может, это следствие временного переутомления? Он стал работать как никогда — ночами в кабинете не гасится свет, войдёшь — всё в густом слоистом сигарном дыму, и он, обхватив лоб ладонью, — над исписанными вдоль и поперёк листами. Нет, надо раз и навсегда распроститься с дурацкой манерой курить — он же дал слово! — и ночными бдениями за письменным столом. Впрочем, а она сама разве не проводит почти все ночи напролёт с книгой в руке, до рези в глазах?
Отныне им обоим следует серьёзно отнестись к своему здоровью: после двенадцати лет совместной жизни Софи наконец получила развод и они смогли обвенчаться. Это произошло всего несколько месяцев назад, третьего апреля 1863 года, в небольшой православной церкви рядом с вокзалом Нойштадт.
Толстой прав: он не мог для такого значительного события выбрать иной город, кроме любимого Дрездена.
— Помнишь Неаполь — шумный, набитый людьми, где мы с таким трудом смогли отыскать для себя квартиру? Залив — вот и вся тамошняя прелесть, — сказал Толстой. — Нет, ты не подумай, что я нечувствителен к прелестям Италии. Но с каких-то пор я перестал находить в итальянских городах ту моральную атмосферу, которую нахожу в Дрездене. Будто здесь в воздухе растворены своеобразные ингредиенты, необходимые для моих психических лёгких. Ты не находишь?
— А как же твоя артистическая эпоха, которую ты ещё четырнадцатилетним открыл для себя в Италии? — спросила Софи. — Может, ты всё это придумал, когда рассказывал мне в первые дни нашего знакомства, чтобы быстрее завлечь моё сердце?
— Ну какой же настоящий мужчина не прихвастнёт, приударяя за женщиной! — принял игру жены Толстой и тут же продолжил: — В Италии для меня, отрока, был самый пик познания прекрасного. А восхождение к красоте началось именно здесь, в Дрездене, за несколько лет до той самой поры.
В самом деле, первым заграничным путешествием для него в детстве явилась поездка по Германии. Дядя Алёша непременно хотел познакомить племянника и сестру с городом, где он прожил до этого несколько лет подряд, где возмужал и встретился с гениальным творцом Гофманом. С великим сказочником он уже не мог познакомить Алёшу, но с великой радостью представил ему рукотворный шедевр другого гения — Рафаэля.
Однажды Жуковский ему, Толстому, рассказывал, как в первый раз увидел «Сикстинскую Мадонну». Первое, что он заметил, когда вошёл в галерею, что висевшее перед ним полотно почему-то загнуто сверху. Затем бросилось в глаза, что картина давно не чищена и в пятнах и что она теряется между другими произведениями. Вокруг мешали сосредоточиться: то художник, который громко принялся порицать Рафаэля, то назойливый гид, как попугай повторявший вытверженный наизусть вздор, то какая-то дама, начавшая во всеуслышание громко нашёптывать на ухо своей спутнице, как видела перед «Мадонною» самого Наполеона и что её дочери как две капли воды похожи на Рафаэлевых ангелов.
Но вот он присел на небольшую софу перед картиной, и вдруг случилось невероятное: всё на полотне превратилось в движение. Сначала заколебался воздух в туманном свете и в небе возникли ангелы, затем небеса как бы уплотнились и босая женщина из глубины полотна несмело выдвинула вперёд сначала одну, следом вторую ногу и пошла, пошла навстречу зрителям!
Подобное произошло и с ним, Толстым, перед волшебной картиной. И ныне, сколько раз он ни останавливается перед нею, он смотрит на неё так, как увидел её впервые, придя в галерею ещё мальчиком, вместе с дядей.
Они тоже прошли тогда мимо гудевшей и что-то обсуждавшей толпы, отбились от назойливых чичероне и, присев на диванчик, замолчали. Дядя Алексей Алексеевич, видно, знал тот секрет, который позднее пришёл к Жуковскому: как суметь увидеть то, чего добивался художник, создавая свой шедевр.
Рафаэль потряс юного Толстого, и он, обернувшись к дяде, увидел, что и тот испытывает то же чувство — прикосновение к тайне великого мастера, заставившего краски, холст, сам воздух жить и двигаться. И не тогда ли он, десятилетний, впервые не только понял, но и физически ощутил, что искусство — не слепок, а сама жийая плоть жизни?..
Теперь, приезжая в Дрезден, Толстой всегда спешит к рафаэлевскому творению — один ли, с Софи, как в этот приезд, — и стоит перед картиною чуть ли не по целым часам.
Так и сам он, писатель, обязан создавать свои творения. Красота, рождённая в его душе, должна облагораживать, делать лучше, чище и возвышеннее людские души.
Но хватит ли у него таланта и сил, особенно теперь, когда он, чуть ли не с вызовом, написал в своём письме государю, а значит, признался всему обществу: «Путь, указанный мне, — моё литературное дарование... Как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».
На рабочем столе растёт и растёт гора исписанных страниц. Иоанн Грозный, уже другой, чем в романе, сложный, исполненный страсти и противоречивости, вершит государственные дела. Каков он сейчас перед ним, писателем, и перед своими сподвижниками — Салтыковым и Голицыным, Нагим и Шуйским, Мстиславским и Годуновым? Изверг и деспот? Да, в нём кипит безжалостный гнев. Но он не просто злодей или сумасшедший, как какой-нибудь Нерон. У него есть цель, он даже хочет блага России, разумеется, по-своему. Иными словами, первым благом государства он считает безграничное увеличение произвола для себя и своих наследников. Он верит своему призванию и своей непогрешимости в делах правления; он проникнут мыслью, что может ошибаться и грешить как человек, но как царь — никогда!
Толстой-писатель, силой своего таланта воссоздавая ту, прошедшую, жизнь, видит перед собою живого человека и хочет так его написать, чтобы читатели и зрители поняли главное: Иоанн глубоко несчастен; и если он предавался разврату, то разврат его не удовлетворял, а только заглушал в нём на время его душевные страдания, и что если Иоанн палач России, то он вместе с тем — и свой собственный палач.
Драма «Смерть Иоанна Грозного» ещё в работе, ещё ложатся на бумагу картина за картиной, но Толстой уже видит, как художник-актёр должен вылепить характер главного героя на сцене.
Артист, играющий Иоанна, обязан, на его взгляд, среди самых безумных проявлений этого характера давать просвечивать тем качествам, которые могли бы сделать из него великого человека, если бы не были подавлены страстями, раболепством его окружающих и раннею привычкою к неограниченной власти.
Качества эти: глубокий государственный ум, неутомимая деятельность, необыкновенная энергия, страшная сила воли и полная искренность в убеждениях. Но всё это испорчено, помрачено, подточено в корне пороками и произволом, и ничто не идёт ему впрок.
По плечу ли такой характер ему, поэту, справится ли он со своим творением, заставит ли жить на сцене тех, кто уже ушёл в небытие, но кого он, художник, как бы вновь обязан воскресить.
Только для редких прогулок к Эльбе он может оставить перо и бумагу, да ещё реже — для встреч, и то, пожалуй, лишь с единственным в этом городе посетителем, которого он нетерпеливо ждёт всякий раз в условленный день. Это — Каролина Павлова, поэтесса и переводчица.
Вот и сегодня её восторженный голос слышится из передней:
— Ну, как вы прожили эти дни без меня, сударь, сделавший своим обычаем выезжать на ваньках?
— Я только и вдохновляюсь, когда вы меня посещаете. Потому молю об одном: подталкивайте меня время от времени и вашими визитами, и вашими письмами ко мне, когда я не в Дрездене... А это, простите, что у вас в руках? Неужели уже два акта «Смерти Иоанна» в вашем восхитительном переводе?
Высокая и сухая, с несколько скорбным лицом, пожилая — далеко за пятьдесят — Каролина Карловна пытается присесть в реверансе:
— К вашим услугам — всё, что вы уже успели создать на русском, здесь переложено на немецкий. Однако стоит ли хвалить меня авансом? Как говорится, не зная броду, не суйся в воду.
Он уже углубился в рукопись, произносит на немецком фразу за фразой. Его лоб разгладился от морщин, кажется, даже мешки под глазами стали менее заметны.
— И это я — «не зная броду»? А «Дон Жуан» в вашем переложении? Это ведь уже не моё — ваше произведение, притом — шедевр!
Толстой не преувеличивал: «Дон Жуан», переведённый Павловой, был с восторгом воспринят знакомыми немецкими литераторами и лишь вслед за этим вышел в России. Теперь его новую драму начнут читать германские друзья, которые уже немало о ней наслышаны от Каролины Карловны.
Какой же замечательный слог у поэтессы — что по-русски, что по-немецки! Ах да, как же он запамятовал и не обрадовал её сразу?
— Простите, но вот вам некая сумма — в дополнение к векселю на девяносто шесть рублей, который я вам намедни выслал от Аксакова. Иван Сергеевич с восхищением принял новые ваши стихи и хочет их в самое ближайшее время поместить в своей газете «День».
Каролина Карловна поджала губы:
— Я бы не очень доверялась слову Ивана Сергеевича...
— Если вы в смысле его вкусов, то вы правы: Аксаков, которого я всем сердцем люблю и уважаю, скорее суровый гражданин, чем художник. Только с вами, Каролина Карловна, я могу погрузиться в искусство по самые уши, буде позволено так выразиться. И с «Дон Жуаном» такая же история: Аксаков проявил подлинное негодование по поводу поведения моего героя и начал его ругать, уверяя, что он — тройная перегонка подлеца. Только вы правильно поняли и оценили мой замысел. И отныне это произведение столько моё, сколько и ваше. Нет, нет, и не возражайте: немецкий «Дон Жуан» — это ваше произведение и, следовательно, ваша собственность. И не требуйте от меня, милостивая государыня, чтобы я прикарманил чужое добро, позвольте мне остаться порядочным человеком. Лучше вернёмся к Аксакову и к его слову, которому я тем не менее верю...
Снова лёгкая тень пробежала по лицу Каролины Карловны, и Толстой подумал: а ведь она действительно имеет право не очень-то доверять Ивану Сергеевичу. Знакомы они давно — чуть ли не четверть века, с тех пор как её литературный салон на Сретенском бульваре стал одним из притягательных мест Москвы. Гостями там были братья Киреевские и Погодин, Шевырев и Хомяков, Герцен и Огарёв, Тургенев Иван Сергеевич и Тургенев Александр Иванович, Фет, Загоскин, Грановский... Бывал там и Иван Аксаков. Позже, уезжая из Москвы, он всякий раз просил родных прислать ему новые стихи Каролины Павловой, которые ему несказанно нравились. Однако последняя их встреча здесь, в Дрездене, кажется в прошлом или позапрошлом году, не напоминала ничем его давнее дружеское отношение, наоборот, Каролина Карловна почувствовала скорее плохо скрытое неуважение.
И впрямь, Аксаков, вернувшись в Россию, рассказывал о встрече с бывшей известной поэтессой, не скрывая своего неудовольствия её теперешним образом жизни. Жилось ей туго. По его словам, она сделала себе строгий бюджет и вырабатывает в год тысячу талеров, участвуя в разных изданиях случайными стихами, статьями и даже маленькими комедийками для театров. Однако положение это непрочное, и у поэтессы подчас нет ни гроша в запасе. Так что сделайся она больна или откажи ей журналисты — и она погибла...
Но вот что всего более удивляло в сообщении Аксакова и чему не хотелось верить: «Павлова довольна собой в высшей степени и занята только собой. Казалось бы, катастрофа, её постигшая, истинное несчастье, испытанное ею, всё это должно сильно встрясти человека, оставить на нём следы. Ничуть не бывало. Всё случившееся с ней послужило только поводом и материалом для стихов. В этой исполненной талантов женщине всё вздор, нет ничего серьёзного, задушевного, глубокого, истинного и искреннего; там, на дне, какое-то страшное бессердечие, какая-то тупость, неразвитость. Душевная искренность у неё только в художественном представлении, вся она ушла в поэзию, в стихи... Вот уж про неё можно сказать, что она вся отравилась художеством и что поэтому в ней не осталось ни одного живого, здорового местечка, ни одного свободного человеческого чувства. Ни тоски по родине, ни даже интереса знать об ней, что и как делается в России, ни даже воспоминаний, кроме как разве в стихах... Ничего ей не надо, писались бы только стихи».
Чушь, вздор! Никак с мнением Аксакова не желал согласиться Толстой. Да разве может человек ничего не чувствующий, с мёртвым, ледяным сердцем, писать стихи, где каждая строчка — живое, неподдельное чувство?
Ты, уцелевший в сердце нищем, Привет тебе, мой грустный стих! Мой светлый луч над пепелищем Блаженств и радостей моих! Одно, чего и святотатство Коснуться в храме не могло; Моя напасть! моё богатство! Моё святое ремесло! Проснись же, смолкнувшее слово! Раздайся с уст моих опять; Сойди к избраннице ты снова, О, роковая благодать! Уйми безумное роптанье И обреки всё сердце вновь На безграничное страданье, На безграничную любовь!Как всякий истинный поэт, она беззаветно любила своё святое ремесло и, наверное, ради него и жила, влача порою нищенское существование. Такую безоглядную, всепоглощающую любовь к искусству дано испытать не каждому. Она — удел истинных художников. И наверное, судить о ней также не каждому дано. Как не каждому дано понять, почему в глазах художника не всегда видны слёзы — они высохли, перегорели, чтобы явиться такими, к примеру, строчками;
Бегут вдоль дороги всё ели густые Туда, к рубежу. Откуда я еду, туда, где Россия; Я вслед им гляжу...Нет, недаром, ещё живя в России, молодая, восемнадцатилетняя девушка покорила поэтические сердца Адама Мицкевича, Баратынского, Языкова, Вяземского и известного немецкого учёного Александра Гумбольдта. Писавшая стихи почти на всех европейских языках, она, ещё совсем юная, издала в Лейпциге переводы русских поэтов, заслужив одобрение Гёте. И как же не восхищаться тем, что вновь зазвучал её голос, проснулось смолкнувшее слово!
Наверное, года два назад здесь, в Дрездене, свёл их случай. Также летним днём, когда цвели липы, на Брюлевской террасе он и Софи приметили бедно одетую женщину, одиноко сидевшую на скамейке. Весь вид её говорил о том, что она — чужая в этом городе и никого в нём не знает, хотя всё, кажется, до неё доходило из того, что говорили прохожие.
Немка — чужая в своём отечестве? Прохаживаясь вдоль аллеи, они подошли поближе, и Толстой нарочно, перейдя с немецкого, заговорил с Софи сначала по-французски, потом по-итальянски, по-английски. Видно было, что все языки женщине одинаково известны — она чуть приподняла лицо, и оно заметно оживилось. Тогда Алексей Константинович заговорил по-русски. О Боже, что произошло с незнакомкой! Она встала и порывисто бросилась к Толстым: «Родная русская речь... Вы — из России?»
Тогда она жила в отеле «Полония», в крохотной комнатушке, сплошь заваленной книгами, альбомами и рукописями. Смущаясь своей бедности, она провела гостей в убогое жилище, и разговор, конечно, сразу зашёл о поэзии.
Только здесь до Толстого и Софьи Андреевны дошло, с кем они познакомились. Все, кто имел в России отношение к литературе, должны были знать историю Каролины Павловой. Совсем молодой она впервые появилась в салоне Зинаиды Волконской. Дочь профессора физики и химии Медико-хирургической академии в Москве Карла Ивановича Я ниша, Каролина с детства писала на двух родных языках — русском и немецком, потом легко овладела другими. Юная поэтесса познакомилась с Адамом Мицкевичем и брала у него уроки польского языка. Поэт сделал ей предложение, но родители, главным образом богатый дядюшка, завещавший своё состояние племяннице, отказали бедному поляку-изгнаннику.
Потом — роковой брак с Павловым. Николай Филиппович сам был известным и одарённым писателем, но погряз в карточных долгах, поставил жену и сына на грань разорения. Ещё хуже — втайне от жены жил с её же приятельницей и имел от неё детей.
В довершение всех бед у Павлова по чьему-то доносу обнаружили запрещённые произведения. Он угодил в ссылку.
Литературная Москва отвернулась от Каролины. Пошли в ход куплеты: от экспромта Соболевского: «Ах, куда ни взглянешь, всё любви могила! Мужа мамзель Яниш в яму посадила» — до ещё более грубого, сочинённого неким Померанцевым: «Каролина, ты причина, что детина стал скотина».
Она бежала из Москвы очертя голову. Сначала — Дерпт, затем Венеция, Рим, Неаполь, Константинополь, Берлин и наконец Дрезден. Почти без средств, без сочувствия друзей, без сына, которого муж, вскорости помилованный и вернувшийся в Москву, оставил у себя...
В один из дней Павлова пригласила Толстых на новую квартиру, которую она сняла в лесном местечке Пильниц под Дрезденом, в мезонине старого дома. В одной из крохотных комнат, где она работала, на столе стоял портрет Мицкевича и вазочка из жжёной глины, которую когда-то он также ей подарил.
— Я пригласила вас, чтобы сделать Алексею Константиновичу небольшой подарок. Вот он, — взяла она со стола листок и, прочитав, вручила его Толстому, вновь сделав старомодный книксен.
Спасибо вам! и это слово Будь вам всегдашний мой привет! Спасибо вам за то, что снова Я поняла, что я поэт; За то, что вновь мне есть светило, Что вновь восторг мне стал знаком И что я вновь заговорила Моим заветным языком; За дивный мир средь мира прозы. За вдохновенья благодать, За прежние, святые слёзы, В глазах сверкнувшие опять; За всё, что вдруг мне грудь согрело. За счастье предаваться снам, За трепет дум, за жажду дела. За жизнь души — спасибо вам!Софья Андреевна заметила, как муж и Каролина смутились — она от волнения, он же от неумения выслушивать подобные признания.
— Вы преувеличиваете моё участие в вас, дорогая госпожа Павлова, — произнёс Толстой. — Я ничегошеньки для вас не сделал, чтобы меня благодарить, да ещё в стихах... Кстати, пусть вас не очень удивит, если вскоре вы вдруг получите письмо от великой княгини Елены Павловны. Я недавно с нею встречался в Карлсбаде, и она выразила желание назначить вам пенсию как русскому поэту. Нет, нет, не думайте, что всё это я опять — я только ей рассказал о вас и высказал мысль, что хорошо бы...
Каролина Карловна не дала ему договорить и бросилась на шею:
— Позвольте мне забрать сейчас мои стихи — они и сотой доли благодарности не могут выразить... Господи, какое же у вас золотое сердце, любезный граф!
Софья Андреевна обняла счастливую женщину:
— Приглашаем вас в Россию. Будьте нашей гостьей.
— О, всё, что вы сейчас сказали, для меня неимоверная радость. И — особенно приглашение в страну, где я родилась, где впервые полюбила. Я сразу помолодею, оттаю и отдохну душой.
— Что касается отдыха в нашем доме, на многое не рассчитывайте: будем здорово работать, — рассмеялся Толстой. — Поедем и дальше на «Ваньках». Имя Иван — нечто вроде плодоносной почвы для меня: святой Иоанн-евангелист в «Грешнице», Иоанн Дамаскин, Иван Грозный, наконец, Дон Жуан и снова Грозный... Так что союз наш, дорогая Каролина Карловна, только берёт начало.
15
Ещё далеко было до того момента, когда поднятый собаками и егерями огромный, разъярённый тревогой матёрый зверь с седым, вставшим дыбом загривком выберется из берлоги и, привстав на мохнатых, толстых лапах, двинется на ощерившихся стволами ружей стрелков.
Но в каждом охотнике, кто во имя этого мига в полночь выехал из тёплого и уютного города и теперь прикорнул в течение двух-трёх часов в железнодорожном вагоне, — уже жил лихорадочный, пожирающий все другие желания и стремления азарт поединка.
Император Александр Николаевич — в шароварах и тёплых сапогах, но без нательной рубахи — быстро спустился по ступенькам вагона и, схватив полные пригоршни снега, стал быстро, с удовольствием растирать разом покрасневшее мускулистое тело.
Толстой тоже был здесь и, приняв снежную ванну, тёр спину, руки и грудь большим мохнатым полотенцем.
Рассвет только проступил, и над станцией Бологое, между Петербургом и Москвой, где стоял сверкающий синим лаком царский вагон, к небу поднимались белые паровозные дымы и изредка раздавались приглушённые расстоянием свистки маневровых локомотивов и звуки медных, похожих на охотничьи, рожков стрелочников и составителей поездов. А вокруг, насколько охватывает взор, лежала чистая снежная целина, отороченная на горизонте черневшей издали гривой леса. В сотне шагов от путей нетерпеливо вспенивали копытами снежный наст запряжённые в крытые возки кони, и царские кучера, одетые в длиннополые тулупы, важно прохаживались рядом.
Ах, как приятно бодрил колкий морозный воздух, как вкусно похрустывал снег под сапогами, как при одном виде впряжённых в сани и осёдланных верховых лошадей сердце наполнялось предчувствием движения, скачки, погони и острой, смертельной схватки и как душа наслаждалась полнотой жизни, вдруг разлившейся по всем мускулам!
Не слишком ли он усложнил своё недавнее положение придворного, не зря ли так настоятельно добивался отставки с должности флигель-адъютанта? Вот же и теперь, уже свободный как ветер, он тем не менее доволен, что вновь — рядом с государем. Что ж изменилось?
Если признаться честно, он не слишком был обременён служебными обязанностями, последнее время находился даже в бессрочном отпуске и дежурить как флигель-адъютант обязан был, когда находился в столице. Да и те редкие дежурства походили не на обузу, а скорее на подобие развлечений: можно было лишний раз переброситься приятными фразами с императрицей или сёстрами Тютчевыми, встретить иных, давно не попадавшихся на глаза знакомых, наконец, даже слегка подразнить кого-либо из падких на лесть вельмож, распустивших павлиньи хвосты и торчащих у дверей императорского кабинета.
И всё же отсиживание в приёмной, где на столе камер-фурьерский журнал[49], который он обязан заполнить, отточенная стопка карандашей, серебряная песочница на львиных лапах, у дверей подобострастный — на ушко — шёпот лакеев, важных, как генералы, и генералов, угодливых, как лакеи, — всё это было не по нём, всё раздражало.
Досужие умы подсчитывали: что выиграл и что проиграл граф, забалованный друг царя? И выходил один чистый проигрыш — ни с того ни с сего взял и отказался от дворцового жалованья, полагавшегося ему, можно сказать, ни за что.
Что ж, они были правы — от этого расчёта, расцениваемого ими как счастье, он и отказался. Он хотел быть именно чистым и совестливым в их жадных и всё подсчитывающих глазах, а более — хотел быть честным перед своею совестью, хотел стать не только нравственно; но и внешне свободным и независимым. И не потому ли нынче утром в его сердце — бескрайняя радость, ощущение простора и подлинной воли!
Кто-то из верховых, видно, чтобы дать движение нетерпеливому коню, поднял его с места в галоп, и конь, осыпая себя и ездока снежной пылью, понёсся по вычищенной накануне и уже накатанной дороге.
Они сидели в вагоне за столом, и Толстой, показав царю на всадника через стекло, задорно продекламировал:
В роскошном просторе пустынных лесов Ездок беззаботно несётся. Он весел душою, он телом здоров, Он трубит, поёт и смеётся... Привольно дышать на просторе ему, Блестят возрождением взоры. И душную он вспоминает тюрьму, И в лошадь вонзает он шпоры.— Романтические стихи, в духе былых сочинений Жуковского, — приятно грассируя и улыбаясь, произнёс император. — Если я не ошибаюсь, Алёша, перевод из Гейне — «Ричард Львиное Сердце»?
— Совершенно верно, ваше величество, — обрадовался Толстой. — Именно эту балладу об английском короле, вырвавшемся из австрийского плена когда-то в начале двенадцатого века, я и пытаюсь теперь переводить.
— Что ж, она вполне созвучна твоему нынешнему состоянию, — снова улыбнулся Александр Николаевич. — Полагаю, ты не можешь быть мною недоволен: я внял твоей логике художника и — ты знаешь об этом — всегда искренне буду рад твоим литературным успехам. А что сейчас вообще нового в нашей русской литературе? Как тебе известно, я по мере возможности слежу за новинками, но, может, что-то упустил?
— Появились новые романы Тургенева и Гончарова — вы с ними знакомы, конечно, затем мог бы упомянуть прелестные стихи Фета... Но если угодно знать моё искреннее мнение, которое я обещал всегда высказывать вам прямо и без обиняков, русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского.
Рука императора резко скомкала крахмальную салфетку:
— Я так и предполагал, что ты об этом мне рано или поздно напомнишь.
— Простите, ваше величество, но вы правы — я не мог смолчать. Процесс над литератором Чернышевским лишь оттолкнёт мыслящих людей.
Глаза царя, только недавно излучавшие доброту, подёрнулись стылостью, так напоминавшею взгляд Николая Первого.
— Ты прекрасно знаешь, Толстой, что не я его судил. Наоборот, я вручённой мне властью приговор Сената сократил наполовину. Но если судьи нашли в его действиях злоумышление, значит, наказан за дело.
— А разве было «дело»? Перехваченное письмо Герцена и Огарёва в Россию, в котором Чернышевский лишь упоминается? — осмелился возразить Толстой.
— А призывы к барским крестьянам бунтовать? И это — после того как вышел мой манифест о свободе! Зачем же так — под руку? Это, кроме всего, — непорядочно и невоспитанно. Впрочем, о какой воспитанности может идти речь у этих семинаристов и разночинцев? Обидно другое — как может становиться на их сторону граф, российский аристократ? Прошу тебя, Толстой, больше никогда не напоминать мне о Чернышевском...
Кажется, всего раза два или три они и встречались — то ли в самой конторе «Современника», толи на квартире у Некрасова. Запомнилось лишь, что и там, и там, в прихожих — чучела зверей, некрасовские охотничьи трофеи. Однажды в этой полутьме, пропахшей пылью и лежалыми бумажными тюками, они и столкнулись.
И впрямь в лице и во всей фигуре литературного критика было что-то семинаристское — постное и непривлекательное. Но когда он начинал говорить, угадывались резвый и резкий ум, глубокая начитанность и образованность.
Статьи его в «Современнике», как и диссертация об искусстве, содержали, на взгляд Толстого, немало схоластического, но попадались мысли, которым нельзя было не отдать должного. Так, можно было принять высказывание автора о том, например, что «человечество идёт к учреждению всеобщей ассоциации, основанной на любви». Сказано, конечно, не ясно и, скорее всего, по поводу «ассоциации» надуманно, но далее мысль была понятнее: «Человечество идёт к тому, чтобы каждый получал по своей способности, а каждая способность по своим делам».
Что ж, вывод был близок Толстому, но с тем, как этого добиться, он согласиться не мог. Чернышевский считал, например, что всех людей можно и нужно научить некоему гуманистическому принципу, на основании которого в обществе обязательно воцарится всеобщее взаимопонимание и благоденствие. Что-то тут шло не от жизни, а от придуманного за кабинетным столом.
Об аресте Чернышевского он услыхал, кажется, от Льва Жемчужникова в тот же день, когда это и произошло, седьмого июля 1862 года. Помнится, Лев, узнав от отца-сенатора о грозящей писателю опасности, хотя тоже шапочно был с критиком знаком, бросился к нему на квартиру, чтобы предупредить. Однако Чернышевский отнёсся к сообщению спокойно. Вернее, даже рассмеялся своим нервическим, дробным смехом: «Благодарю-с покорно за проявление заботы. Но я, сударь, всегда готов к подобному посещению. Только я — чист: в доме не держу ничего-с предосудительного и противозаконного».
Посажен он был в Петропавловку, в жестокий Алексеевский равелин. Следствие же велось так долго, что казалось, гроза не соберётся и вскоре тучи рассеются.
Спустя год узник сам дал знать о себе: в «Современнике», в трёх весенних книжках, появился его роман под названием «Что делать?».
Поступком нельзя было не восхититься: заточенный в каменном склепе, отторгнутый от самого воздуха, упрятанный даже от малого луча солнца, он обращался ко всем тем, кто остался на воле, с призывом думать о будущем и готовить его!
«...Будущее. Оно светло, оно прекрасно, — обращался он к каждому в своём романе, написанном там, в каземате. — Говори же всем: вот что в будущем... Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести...»
Да, слова звучали призывно, торжественно. И Толстой, вычитав их в конце романа, заглянул в начало. Но, Господи, как трудно, косноязычно потекло повествование, какие искусственные люди стали сходить со страниц!
А это что ж за мечта, которую следует изо всех сил приближать? «Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работой они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро у них идёт работа! Но ещё бы не идти ей быстро и ещё бы не петь им! Почти всё делают за них машины... Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда в наслаждении...»
«Но вот работа кончена, все идут к зданию... Половина его занята столами... Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше... Вошли работающие, все садятся за обед... У них это обыкновенный: кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчёт; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчёта. И все так: то, что могут по средствам своей компании всё, за то нет расчётов; за каждую особую вещь или прихоть — расчёт...»
Но вот «опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своём просторе и веселье... Люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, — они уходят танцевать, они приходят из танцующих... Здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды и горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только всё того же впереди... Счастливые люди!..».
Автор рассказывал о счастье, а отдавало казармой, где тысячи людей по команде — за стол, по команде — песни и танцы... И каждый на другого похож, как близнец. А ежели ты захотел что-либо по своему собственному вкусу, то — «прихоть», за которую — «особый расчёт», больше похожий на штраф или наказание... «Счастье», которое — по замыслу автора — может прийти ко всем сразу, а не к каждому в отдельности. «Счастье» по команде...
Где же он уже читал об этих «снах», выдававшихся за будущую счастливую явь? Конечно же в учениях о социализме и коммунизме Платона, Сен-Симона, Фурье и Роберта Оуэна. Это ведь он, утопист Сен-Симон, предложил проект общества, устроенного как один большой завод, на который согнано всё население страны для «объединённого воздействия на природу» и по «общему плану». Всё руководство — по науке, во благо; значит — правильно. Всё — на сознательности, для чего — новая религия, новая церковь: культ труда.
А как же быть с личностью в таком коммунистическом обществе? Она, как и у Чернышевского, увы, не предусмотрена. Платон прямо об этом писал: если человек таланта, «человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, а мы преклонимся перед ним как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что не дозволено здесь таким становиться, да и отошлём его в другое государство, а сами удовольствуемся по соображениям пользы более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чём он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами».
Такое общество будущего, наречённое коммунизмом или социализмом, хотят ввести и Чернышевский, и его учителя. А вводят тот же абсолютизм и деспотизм, против которого восстают!
Что рождает тот же деспотизм, известный нам хотя бы по времени Иоанна Грозного? Удушение личности, удушение мысли, которое и ведёт к единомыслию. И вот якобы для того, чтобы утвердить свободу, то есть разномыслие, — вводится то же единомыслие, единоповедение... «Делай только так, как все!..» Да как же можно выдавать всё это за новое направление, как можно к этому будущему звать народ, если путь сей — от удушающего абсолютизма самодержавия да к такой же удушающей атмосфере тоталитарного деспотизма?..
Хотелось остро поспорить с автором «Что делать?», сказать ему, что казарменный, построенный по ранжиру коммунизм — тот же деспотизм и насилие над личностью, как и самый коварный монархический строй. Но это бы оказалось непорядочно: он в тюрьме, ты — на воле. А девятнадцатого мая нынешнего, 1864 года на Мытнинской площади над несчастным проповедником был произведён обряд гражданской казни — над головой прикованного к позорному столбу Чернышевского сломали шпагу в знак лишения его прав состояния и отправили его на семь лет в Сибирь, на каторжные работы...
Да разве может быть более чудовищное надругательство над человеком, к тому же литератором, который только за то и наказан, что думает иначе, чем другие, верит в идеалы добра и справедливости, как эти идеалы создали его собственное сердце и разум?
Как же согласился император, человек тонко чувствующей души, на подобное осуждение? Ведь и он, царь, и тот, кто оказался его злейшим врагом, в конечном итоге шли хотя и с разных сторон, но к одной благой и вожделенной цели — отмене крепостного права.
Толстой помнит, как счастлив был Александр Николаевич в тот день, когда скреплял своею подписью манифест. Тогда он произнёс глубокую по смыслу фразу: «Может быть, я не подписал бы нынешний документ, если бы не сочинения господина Тургенева».
Тогда же царь вошёл к своей дочери Марии и, подняв её на руки, принялся целовать. Обернувшись к Анне Фёдоровне Тютчевой, воспитательнице великой княгини, он просиял: «Я хотел расцеловать свою дочь в лучший день моей жизни».
Так почему же не соединились сейчас в его душе оба чувства, которым отныне и полагалось быть рядом, — забота о великих реформах для блага России и милость к падшим? Нет, никогда не может оказаться воистину свободной страна, которая, отменяя рабство, заселяет остроги теми, кто тоже жаждет лучшей доли для родного народа, даже если пути к этой цели у него не до конца ещё выверены разумом и чувством.
Время до поездки в лес ещё оставалось — выслеженную в берлоге медведицу следовало поднимать днём, при полном свете, чтобы ненароком не наделать беды и справиться с нею наверняка, — поэтому император не спешил завершать завтрак. Однако удерживало его за столом и сознание, что он, наверное, несколько резко ответил любимому им человеку, с которым никогда не позволял себе обходиться грубо. Он откинулся на спинку кресла и вдруг попросил:
— Алёша, нет ли у тебя чего-либо новенького из Пруткова? Чего-нибудь этакого, с остринкой? — изящно прищёлкнул в воздухе пальцами и чуть заметно лукаво подмигнул.
Слушать Козьму Пруткова император любил, особенно когда они, как теперь, были вдвоём на охоте, и всякий раз откровенно смеялся удачным и острым шуткам.
— Я теперь, ваше величество, обдумываю собственную «Историю государства Российского», — ответил Толстой.
— После «Князя Серебряного» и «Смерти Иоанна Грозного» — совсем уж по стопам Николая Михайловича Карамзина? Что ж, буду рад послушать, если прочтёшь, что уже готово.
Толстой ухмыльнулся в бороду:
— Тогда начну со слов Несторовой летописи, которые намерен взять в качестве эпиграфа: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». А далее выражение это — как бы рефрен к разным историческим временам. Начнём же так:
Послушайте, ребята, Что вам расскажет дед. Земля наша богата, Порядка в ней лишь мет. А эту правду, детки, За тысячу уж лет Смекнули наши предки: Порядка-де, вишь, нет. И стали все под стягом И молвят: «Как нам быть? Давай пошлём к варягам: Пускай придут княжить...» Варягам стало жутко. Но думают: «Что ж тут? Попытка ведь не шутка — Пойдём, коли зовут!» И вот пришли три брата, Варяги средних лет, Глядят — земля богата. Порядка ж вовсе нет. «Ну, — думают, — команда! Здесь ногу сломит чёрт...»Громкий смех Александра Николаевича прервал чтение: — Ну удружил, Алёша! А ведь, наверное, похоже на то, как было... Ну-ка, ну-ка, как там дальше?
Но братец старший Рюрик «Постой», — сказал другим... И стал княжить он сильно, Княжил семнадцать лет, Земля была обильна, Порядка ж нет как нет!..Далее — строфа за строфою — пошли сказы о Владимире, спихнувшем Перуна и «сделавшем нам Иордань», то бишь крещение в Днепре, об Иване Третьем, «пославшем татарам шиш», об Иване Грозном, что был «приёмами не сладок», и о царе Петре, который «любил порядок, почти как царь Иван». Но вот...
Весёлая царица Была Елисавет: Поёт и веселится, Порядка только нет. Какая ж тут причина И где же корень зла, Сама Екатерина Постигнуть не могла...Поэма обрывалась на Александре Первом, у которого «слабы были нервы, но был он джентльмен» и при котором во время войны с Наполеоном, «казалося, ну, ниже нельзя сидеть в дыре, ан, глядь, уж мы в Париже...».
Император даже вынул платок и вытер глаза — так хохотал!
— А дальше? «Порядка тоже нет»?
Толстой пощипал бороду и ухмыльнулся:
Ходить бывает склизко По камешкам иным. Итак, о том, что близко, Мы лучше умолчим.Император встал, оправил охотничью куртку, в глазах ещё тлели искорки весёлости:
— Потешил, право слово. Марию Александровну следует тоже повеселить сей «Историей...». Однако, надеюсь, ты не очень широко её распространяешь?.. Кстати, давно хочу у тебя спросить: в журнале «Современник» в нынешнем году то твоё было сочинение под именем Козьмы Пруткова — «О введении единомыслия в России»?
— Ваше величество! Вся, я бы сказал, пикантность моего положения в том, что, в то время как так называемые прогрессисты клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером. Я же лишь держу в руках знамя искусства для искусства. Что же касается иногда шуток — такой уж у меня характер!.. «О введении единомыслия...», увы, сочинил не я, но был бы польщён поставить под «проектом» свою подпись. Полагаю, вы не будете настаивать на том, чтобы я назвал автора?
Имя Владимира Жемчужникова, конечно; знали там, куда стекались все доносы. Недоставало, чтобы в разговоре с царём оно было произнесено Толстым.
— Ты мог меня неправильно истолковать: не в моих правилах вести сыск. Пришлось к слову: шутка может и рассмешить, и больно задеть. К тому же сегодня — сатира, а завтра её адресат — мишень не для одних насмешек... Однако к твоим сочинениям это не имеет ни малейшего отношения. — Император, по своему обыкновению, восхитительно улыбаясь, взял под руку Алексея Константиновича.
Что-то очень похожее сказал когда-то Николай Первый Толстому после премьеры «Фантазии». Нет, он не выговаривал ему, как Алексею Жемчужникову, а как-то, спустя уже несколько месяцев после театра, встретил его и, будто к слову, рассказал несколько смешных историй, памятных ему, императору, ещё по годам юности. Один кавалергард, вспомнил император, слыл большим мастером всевозможных смешных и даже отчаянных выдумок. Однажды, например, он собрал своих однополчан, сели они в катер, на котором — гроб и они, певчие, в чёрном. Катер выехал на середину Черной речки, и вдруг крышка гроба — долой, из него — десятки бутылок шампанского, и пошла весёлая музыка и пляски. А то ещё этот выдумщик за одну ночь на Невском проспекте на пари поменял местами все вывески... Потом он, к сожалению, скверно кончил... Между прочим, фамилия у него была Лунин, Михаил, адъютант великого князя Константина Павловича, а впоследствии — смутьян, государственный преступник, из тех, кто четырнадцатого декабря...
16
Занавес, только что опустившийся, вновь открыл сцену. Актёры, не пряча возбуждения, благодарственно прижимали руки к груди и отвечали на шквал хлопков низкими поклонами.
Впереди других в костюме Иоанна Грозного стоял Васильев, приветственно поднимая вверх руку своей жены Струйской, играющей роль царицы, поодаль — Нильский в обличье Годунова. По-разному они сегодня, в день премьеры, проявили себя, Васильев, например, вёл спектакль совершенно больным и безголосым. Однако драматизм действия, роскошь декораций и одеяний, а главное, нерв самой исторической драмы не могли не передаться зрителям, и они неистово хлопали в ладоши, чествуя актёров и вызывая на сцену автора.
Алексей Константинович, во фраке и с яркой гвоздикой в петлице из огромного букета, который ему принесли прямо в директорскую ложу, встал, чтобы присоединиться к актёрам.
— Ваше сиятельство, на сцену вам нельзя ни под каким видом! — остановил его директор театра граф Борх. — Согласно этикету, вы, егермейстер двора его величества, не имеете права являться публике на сцене — только показаться изложи.
Всего лишь час назад, во время антракта, когда его пригласили император и императрица в свою ложу, он поймал себя на том, что одет не по правилам — не в мундир, а во фрак. Теперь — новая условность!
Толстой подошёл к барьеру, обитому сочным малиновым бархатом, и, обхватив огромный букет, спустил его вниз, публике — от автора, с благодарностью.
Царь и царица были в восторге от спектакля. С пьесой они познакомились уже давно, но так же, как и на присутствующую публику, на них ошеломляющее впечатление произвели пышность и подлинность постановки. Костюмы, обстановка кремлёвских палат, народные сцены, музыка, специально написанная к премьере, — всё переносило в эпоху Иоанна Грозного, всё восхищало, волновало, заставляло остро переживать происходящее на сцене.
Был бы он самонадеян, непременно явилась бы мысль: шестнадцать лет назад здесь, в Александринке, ничего не поняв, высокомерно освистали его «Фантазию» и, выполняя волю царя, выбросили её из репертуара, ныне же «Смерть Иоанна Грозного» принята на ура! Но ему и в голову не пришло это сравнение: там был кое-как сметанный на живую нитку насмешливый водевиль, здесь — плод его души, главное, наверное, дело всей его жизни.
Ещё перед прохождением драмы в цензуре возникали опасения — пропустят ли ужасы, творимые палачом-государем? Писатель Иван Александрович Гончаров, он же один из тех, кто сам недавно давал разрешения, даже всплеснул руками: «Какая же, с позволения сказать, трагедия, если в ней нет ужасов? Тогда и Шекспира надобно, господа, запрещать...»
И всё же сразу после первой постановки объявилась толпа злобствующих, сплотившихся вокруг петербургского полицмейстера. Стараясь быть, как говорится, святее Папы, то бишь прозорливее самого царя, они повсюду стали трубить, что пьеса графа Толстого — крамола, направленная на поругание власти и на то, чтобы научить народ строить баррикады. В ответ же им — сторонники спектакля: пьеса эта — протест против злоупотреблений властью и в то же время произведение, ратующее за монархию справедливую, каким-де и является правление Александра Второго.
Целый месяц в газетах — то похвала, то ругань; и любопытно, что чаще всего с нападками выступают или ярые обскуранты, готовые подавить даже малейший намёк на либерализм, или, наоборот, откровенные красные и нигилисты, чуть ли не призывающие к свержению тронов.
Но есть и критика неясная, путаная, ничего не проясняющая, кроме желания самого критика показать, как говорил Гоголь, собственную образованность. Такова, кстати говоря, статья Анненкова «Новейшая историческая сцена», тиснутая в «Вестнике Европы» ещё по выходе «Смерти Иоанна Грозного» в журнале «Отечественные записки».
Поначалу — будто панегирик: «Самая блестящая сторона нового произведения гр. Толстого есть, без сомнения, сценическая, и даже ошибки автора так же точно обнаруживают талант, как и созданное им лицо Ивана Грозного, как и вся эта драма с её смелой и оригинальной постройкой». А далее: «Мы, однако же, весьма склонны думать... что поучение в уме автора «Смерти Иоанна Грозного» было заготовлено ранее самого ядра драмы...»
Да лучше б он выругал пьесу, как сделал критик «Современника», чем это качание из стороны в сторону — и похвалить боится, и осуждает сквозь зубы! А главное — бросает упрёк в тенденции, которую он, Толстой, заготовил, мол, ранее замысла пьесы и что есть мочи решил её провести в своей драме. И это упрёк ему — певцу чистого искусства, у которого нет иных намерений, кроме создания характеров!
Тут уж он не стерпел, ответил тем, что у Анненкова — чухонский язык, да откуда же быть другому, если брат его был обер-полицмейстером. Понял после сам, что не стоило так «клепать» на критика, недостойная это полемика, но чего не сделаешь в азарте.
Определяло же отношение к пьесе мнение людей сведущих и талантливых. Тот же Гончаров высказался о драме: «Превосходная пьеса, по высоте строя и тона относящаяся к разряду шиллеровских, а по стихам — пушкинских созданий». Профессор Никитенко свой разбор пьесы окончил так: «Трагедия гр. Толстого принадлежит к тем серьёзным, капитальным, истинно художественным произведениям, каких в нашей литературе вообще немного, а в текущей и вообще не замечается. К этому мы не без удовольствия спешим прибавить, что, сколько нам известно, мыслящая, образованнейшая часть публики одного с нами мнения».
Александр Васильевич, профессор Петербургского университета, критик, цензор, действительно знал, что говорил, ссылаясь на мнение мыслящей публики. Успех трагедии в Петербурге был столь огромен, что ложи раскупали за две недели и ни разу не оставалось ни одного непроданного места. Дирекция театра исключительно на «Иоанна» подняла цены, и за него платили, как за оперу. Накануне представлений с 8 часов утра уже становились в очередь у кассы, открывавшейся только в 9. А барышники продавали по 25 рублей билеты в кресла, и это — не на первое представление, а на четырнадцатое! Из Москвы приезжали, чтоб посмотреть пьесу, отдельные лица и целые семьи и возвращались, не увидев её.
Премьера в столице состоялась в четверг, двенадцатого января 1867 года. Вслед за Петербургом спектакль стали готовить в Москве в Малом театре, постановку разрешили в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.
А Толстого уже ждал Веймар: здесь в январе следующего, 1868 года, одновременно с премьерой в московском театре, «Иоанн» должен был быть поставлен на немецком языке в переводе Павловой.
В окнах замка в Вартбурге — свинцовые рамочки, как медовые соты. Если сесть у дубового стола и смотреть вниз, откроются удивительные по красоте горы, покрытые лесом, а у больших старых деревьев, что растут под самым окном, видны лишь макушки.
Замок древний, так и кажется, что в его помещениях с гербами, старинной мебелью и посудой непременно столкнёшься с привидением.
Чу! В комнате рядом — чьи-то шаги. Толстой встал, взял со стола канделябр, в котором четыре тонких коротеньких свечи, и вошёл в дверь рядом.
Свет луны голубой дорожкой тянется по полу — и ни души вокруг. А ведь, кажется, именно здесь когда-то жила Святая Елизавета, поплатившаяся жизнью при странных обстоятельствах, как говорят, связанных с привидениями. Но это — в легендах. Теперь же, когда наступает день, замок выглядит уютно и гостеприимно, недаром сюда поселяют самых дорогих гостей великого герцога и он здесь даёт торжественные обеды.
Всё же загадочно и странно устроена человеческая душа — она постоянно тянется к тому, что когда-то знала в самую раннюю пору своего развития или что передала ей память далёких предков.
Софи, например, нередко говорила, что у неё сердце сильнее бьётся всякий раз, когда она выезжает куда-нибудь в заволжскую степь. Кажется, что и седой ковыль, и неоглядные дали — всё дышит далёкой и знакомой Азией, наполнено лавинами скачущих диких орд, свистом стрел и копий.
У него же — свой, рыцарский, мир, к которому он будто когда-то тоже принадлежал. И потому здесь, в замке, расположенном в центре Европы, где со стен смотрят картины средневековых рыцарей и хранятся музыкальные инструменты миннезингеров[50], он чувствует себя в родной стихии.
Впрочем, не только далёким чувством — реальной человеческой памятью он связан с Саксен-Веймар-Эйзенахской землёю в Германии. Здесь он когда-то был десятилетним мальчиком, сидел на коленях у великого Гёте, играл на дорожках парка со своим сверстником, сыном великого герцога Карла Фридриха и великой герцогини и русской великой княгини Марии Павловны — Карлом Александром.
Ныне великий герцог Карл Александр радушно принимает русского графа и своего давнего знакомого. Оба они уже приблизились к своему полувековому юбилею. Но походка герцога легка, лицо подвижно, оживлённо, он с удовольствием самолично показывает исторические достопримечательности в своих владениях, старается вставить в немецкую речь целые фразы на языке своей матери. Впрочем, русский гость отлично изъясняется по-немецки, даже, смеясь, вспоминает, как подданные герцога не раз делали ему замечания, почему он не пишет сразу на родном немецком, а употребляет для своих сочинений якобы выученный им варварский русский язык.
И Вартбург, и Веймар, и Эйзенах, как и любой иной город или селение, — ухожены, в них сохранены даже исторические камни, а не только дом или кирха. Толстой уже успел узнать от жителей, что сохранностью старины они обязаны своему великому и светлейшему герцогу.
— За эту похвалу я благодарен своим соотечественникам, — ответил Карл Александр, — но я знаю, что это относится не ко мне. Всё, что создано веками, — наследство, и я — его хранитель. Я просто стремлюсь как можно лучше и добросовестнее относиться к своим обязанностям и действую как, положим, портной, который всеми силами старается хорошо заштопать старое платье.
Каждый раз, когда они куда-либо отправляются вместе, «хозяин», как про себя Толстой стал называть великого герцога, приезжает в каком-нибудь новом одеянии. Это значит, предстоит какая-то заранее намеченная поездка, требующая определённой формы.
Так однажды светлейший явился в мундире с жёлтеньким околышком и сказал, что следует осмотреть казарму. Наверное, Толстой сделал при этом постное лицо, и Карл Александр догадался о настроениях графа и тут же, нисколько не обидевшись, сам вышел из затруднения:
— Я высажу вас, любезный граф, по дороге, чтобы вы вдоволь полюбовались нашими пейзажами, которые вам по душе. На обратном же пути я вас приму в свой экипаж — и мы поедем к вам читать пьесу.
На чтение он явился в статском и много говорил, с большим участием и большим артистическим чувством, о предстоящем спектакле, которому предрекает успех.
Наконец, новое платье — охотничье. И в самом деле, следует приглашение в лес. Там уже всё готово к завтраку. Вокруг — лесничие в серых кафтанах и шляпах с перьями. Старый егермейстер с седой бородкой вместо охотничьих историй угощает гостя историями о привидениях, и все собравшиеся делают вид, что рассказанному искренне верят.
Ах, какой же добрый, милый и тонко чувствующий великий герцог! Он всё старается сделать, чтобы русскому писателю и его другу было хорошо в его стране. А главное, ему очень хочется, чтобы премьера удалась и тем самым поддержала и успех пьесы в Петербурге, у его кузена — русского императора, и здесь, в Веймаре, укрепила бы славу столицы искусств.
Друг Гёте и Шиллера, дед нынешнего правителя Карл Август когда-то сделал Веймар жилищем муз. Теперь в театре, им основанном, где шли спектакли по пьесам великих немецких поэтов, внук ставит трагедию русского писателя. Об этом решении великого герцога первым Толстому сообщил Франц Лист, когда они года два назад встречались в Риме.
Все в Веймаре, особенно театр, напоминает о великом музыканте. Здесь он прожил некоторое время с 1848 года. Приехал сюда тридцатисемилетним, в расцвете сил, чтобы вдохнуть новую жизнь в город искусств. Он возглавил придворную капеллу, поставил оперу «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, когда тот за участие в революционных событиях был изгнан из Германии. Меж тем пребывание в «Новых Афинах» у великого герцога Карла Фридриха оказалось не таким продолжительным и плодотворным, как мечтал сам Лист.
Как раз перед самым приездом в Веймар великий пианист давал концерты в России. Толстой помнит, с каким восторгом посещала петербургская знать музыкальный салон в Петергофе. Виртуоз, которого знала уже почти вся Европа, покорил северную столицу. Но одновременно — и знатную русскую княгиню Каролину Сайн-Витгенштейн.
Двадцативосьмилетняя княгиня была женой сына русского фельдмаршала, брак с которым для неё оказался несчастливым. Замуж она вышла в пятнадцать лет, отец её, польский магнат Ивановский, оказался в Сибири за связь с повстанцами. Так она и жила в родовом имении Воронинцы на Украине, отрезанная от мира летом, весной и осенью непролазными дорогами, зимой — заснеженными полями, деля свой досуг между книгами и музыкой, когда муж её предавался кутежам в Петербурге.
Она была привлекательна, хотя довольно крупный нос несколько портил её внешность. Лист увидел её в Киеве и не мог миновать Воронинцев.
Большой свет не прощает людям, которые уже одним своим талантом и независимостью поведения бросают вызов. Рассказывали, что на одном из петербургских вечеров генерал из свиты императора, подойдя к Листу, спросил, откуда у него ордена на фраке. «Вы ведь не брали крепостей?» — «А у вас? — возразил музыкант. — Вы ведь не играли на фортепиано».
Как говорили тогда в Петербурге, Лист позволил себе бестактность даже по отношению к самому российскому императору. Когда он однажды начал свой концерт, Николай Первый обратился к сидевшему рядом Бенкендорфу с каким-то вопросом. Тотчас звуки музыки смолкли. Царь недоумённо поднял бровь и спросил, почему пианист прекратил игру.
Лист ответил: «Когда говорит император, все должны замолкнуть». — «Играйте!» — раздражённо бросил царь.
Не дожидаясь расторжения брака, княгиня вместе с дочерью покинула Россию и приехала к Листу в Веймар. У них была надежда, что супруга великого герцога Мария Павловна, родная сестра российского императора, убедит своего могущественного брата разрешить получить развод. Но царь, напротив, выразил неодобрение поступком княгини. Перед нею захлопнулись двери веймарского двора, и она осталась жить на птичьих правах в маленьком домике на улице Хофгертнерай, переделанном для Листа из жилья придворного садовника, где не было даже кухни и еда всякий раз доставлялась из ресторана.
Вскоре чета переселилась в Рим. Там в доме у собора святого Франциска Толстой и навестил Листа и княгиню. Дружба стала сердечной. Всякий раз, когда они виделись, Толстой с наслаждением внимал звукам музыки, рождавшейся из-под пальцев великого пианиста.
Лист никогда не позволял упрашивать себя сыграть, а садился за рояль и играл так, что совсем уносил слушателей из обыденной жизни в мир, который никто не был в силах покинуть весь вечер.
О каких приёмах мастерства можно было говорить, следя за его игрой, если даже те, к которым он прибегал, не замечались или не ощущались вовсе. Не было ни рояля, ни даже звуков, ибо никто из присутствующих, казалось, не воспринимал их слухом, а всем сердцем сразу.
Особенно поразило Толстого исполнение Листом «Лесного царя» Шуберта. В тот вечер Лист подошёл к пианино, остановился в задумчивости, рассеянно оглядел присутствующих, затем быстрым порывом бросился к инструменту и, встряхнув гривой, ударил размашистым жестом по клавишам. Бегство испуганного всадника от преследований лесного царя подняло в струнах бурю отчаянной скачки от настигающей гибели, а смерть ребёнка в заключительных аккордах пьесы вызвала в инструменте протяжный, жалобный и беспомощный стон. Мелодия оборвалась как срезанная, и, кажется, по комнате пронеслось само веяние смерти.
Те, кто слушал когда-то известного Паганини, говорили, что у него есть третья рука. О Листе можно было сказать, что у него каждый палец — рука.
И не только музыка. Толстому были близки мысли великого пианиста об искусстве и предназначении художника.
Видеть в искусстве не средство к достижению эгоистических наслаждений или бесполезной известности, но симпатическую силу, сближающую и соединяющую людей, — такова задача художника, убеждённо говорил Лист. Пусть художник, добавлял он, откажется от себялюбивой и суетной погони за успехом, пусть виртуозность будет ему средством, а не целью, и пусть он помнит всегда, что гений обязывает не менее, чем благородное происхождение.
Алексей Константинович, так же как самим Францем Листом, оказался восхищен княгиней Сайн-Витгенштейн. Как вы сумели, признавался он ей, вы, которой приходится так редко читать по-русски, слышать русскую речь, — понять столь хорошо, столь тонко и в таких подробностях весь замысел моих стихов, в том числе такой сложной вещи, как трагедия «Смерть Иоанна Грозного»? Язык архаический, есть и русские, которые не поймут. Каково же у вас должно быть чутьё!..
Давно уже отошёл, как говорят, в лучший мир супруг княгини. Можно было бы связать законным браком совместную жизнь — Толстой хорошо знал по себе и Софи, какая это мука — любить и не иметь возможности называть себя мужем и женой. Но Лист неожиданно дал обет безбрачия, став аббатом. Одно влечение теперь осталось у него — Веймар, куда отныне он собрался ехать уже не как музыкант-виртуоз, но как сочинитель, чтобы своим искусством способствовать развитию здесь оперной музыки.
Лист знал произведения Толстого, которые успела перевести на немецкий Павлова. И когда посетил великого герцога Карла Александра, рассказал ему о своём восхищении трагедией об Иване Грозном и посоветовал непременно поставить её в придворном театре.
Приготовления к постановке в Веймаре оказались в самом разгаре, когда туда, вслед за Толстым, приехала и Каролина Павлова.
Совсем недавно она целый месяц провела у Толстых в Пустыньке, где довела свой перевод драмы до такой степени совершенства, что, по признанию Алексея Константиновича, он мог бы назвать его шедевром, если бы не был сам автором оригинала.
То был действительно месяц не отдыха, а труда: Толстой, чувствовавший немецкий в такой степени, что писал на нём стихи, вникал в каждую фразу перевода и без конца советовал:
— Вычёркивайте-ка посмелее и не говорите в двух стихах то, что можете сказать в одном. Вы же художница с головы до пят, так пересмотрите все стих за стихом и черкайте, черкайте всюду, где только есть что черкать. В Веймаре и без того будут черкать, так оставим им как можно меньше работы. Аякс должен пасть только от руки Аякса, это и полезно и достойно. Вы не можете себе представить, как я беспощаден к «Фёдору» и как я зачёркиваю не только целые листы, но и целые тетради.
Живя в Пустыньке, Каролина Карловна, сама донельзя влюблённая в своё ремесло, поражалась, как Толстой работал над трагедией «Царь Фёдор Иоаннович», — если и в той, и в другой драмах было от двух с половиной до трёх тысяч стихов, а за время писания уничтожалось вдвое больше. Он упорно следовал установленному самим же правилу: «Заслуга не в том, чтобы создавать, — а черкать».
И здесь, в Веймаре, он встретил Павлову словами:
— Ну, что-нибудь осталось в ваших тетрадках, чтобы дать возможность порезвиться здешним режиссёрам и актёрам? Увидите, и они найдут длинноты в тексте и станут его кромсать.
Он опять при встрече забыл о самом главном, о чём писал недавно в письме: ещё раз поздравить с тем, что великая княгиня назначила ей пожизненную пенсию. Но Каролина Карловна с присущей ей чувствительностью сама бросилась к нему:
— Граф! Как же мне вас отблагодарить?..
Каждое утро они появлялись на репетициях. Толстой не без гордости говорил Каролине Карловне:
— Я уже в Петербурге выварился в театральной купели — как в чан с кипятком окунулся в актерские интриги и склоки. Лицедеи, это такая публика — куда нам, литераторам, до их амбиций! Со стороны кажется: вот артист для главной роли, вот для Годунова... А не знаешь, что они уже всё обдумали иначе, в соответствии со своими принципами, и скорее не чисто творческими, профессиональными, а теми, о которых ты и не подозреваешь... Ты же пришёл, высказал свои соображения и только внёс сумбур. Лучше бы и не вмешиваться! Полагаю, что и здесь такая же среда.
Но и оставаться в стороне от подготовки спектакля было нельзя. Вот Лефельд — великолепный, настоящий Иоанн и по характеру, и по внешним данным. Толстому казалось, что нет даже причин его гримировать — лицо от грима только бы потеряло. А как он поистине страшен, когда выходит из себя!
После репетиции посреди улицы, говоря с коллегой-актёром, он разразился такой бранью и угрозами по отношению к одному лицу, которое позволило себе несколько замечаний насчёт его игры в роли Макбета! Волны существующих и вновь импровизированных эпитетов лились из его уст сперва вполголоса, потом всё громче и громче, доходя до полного грома.
Во время репетиций Толстому несколько раз хотелось броситься Лефельду на шею, а один раз — его прибить: тот взялся спорить с автором по поводу самых важных мест в пьесе, не понимая их значения.
И с режиссёром вдруг сцепился этот артист так, что начал на него кричать, и режиссёр совсем притих.
Лефельд просил позволения в сцене приёма послов только раз замахнуться топором и сейчас же его отбросить подальше, говоря, что он за себя не отвечает, что он способен вправду разбить голову актёру, который играет роль польского посла Гарабурды. Ему нарочно дают тупой посох, чтобы он кого-нибудь не убил. Шьют на него костюм прочнее, чем на другого, потому что он их разрывает, когда сердится.
И всё же Лефельд в своей партии упустил немало нужных красок и оттенков, и произнёс на репетициях несколько фраз совсем фальшиво, и валялся на полу три-четыре раза без всяких причин, не по пьесе. Тщетно его утишали — он буйствовал за кулисами и снова продолжал играть фальшиво. Он сам это чувствовал, и его бешенство возобновлялось за кулисами.
Поначалу, когда стали только сыгрываться, Толстой чуть ли не пришёл в отчаяние: актёры, кроме Лефельда, показались ему посредственными, костюмы ужасными, декорации невозможными. Но вскоре понял, что у артистов много старания, и рвения, и серьёзности. В итоге не только один Лефельд, но и Годунов — Л’Аме — был отличен, и Григдрий Нагой — молодой серб Савич, и другие артисты, в том числе мадемуазель Шарль в маленькой роли царицы...
Нет, не зря он приехал перед премьерой и не пожалел времени, чтобы самому заняться с актёрами. И у светлейшего Карла Александра проявлялся неподдельный горячий интерес к спектаклю, и он также приходил на репетиции.
В четверг, 30 января, через год после Петербурга, состоялось представление. В письме Листу, написанном спустя два дня, Толстой сообщал: «Испытываю сейчас внутреннюю потребность написать Вам, чтобы сказать, что мне принесла счастье царящая в Веймаре духовная атмосфера, которая исходит от Вас. В течение недели, что я нахожусь здесь, я много думал о Вас, думал с чувством дружбы и благодарности (поверьте, что это не пустая фраза), и если я прежде всего Вам обязан принятием на веймарскую сцену моей трагедии «Смерть Иоанна», то мне также приятно думать, что той магнетической силе, которой Вы подкрепили Вашу рекомендацию, я обязан действительно неожиданным успехом этой пьесы при первом её представлении... Театр был переполнен, любопытных было больше, чем мест, и после окончания первого акта аплодисменты уже не прекращались. Меня несколько раз вызывали и оказали мне приём, который не могу назвать иначе как триумфом... Словом, всё замечательно удалось, и директор театра г-н фон Лон, а также все артисты в один голос говорят, что редкая пьеса встречала подобный приём...»
И в конце письма: «Моя переводчица г-жа Павлова выпускает в свет двенадцать моих стихотворений, переведённых ею на немецкий, и я поручаю Бобринскому доставить Вам экземпляр. Послезавтра я уезжаю к жене в Петербург. Не прошу Вас писать нам, Вы и так слишком заняты, но думайте иногда о нас, любящих Вас сильнее, чем это можно выразить словами.
Да хранит Вас Господь, дорогой господин Лист, от всей души обнимаю Вас. Напомните обо мне княгине Витгенштейн...»
17
На станции Брянск из вагона первого класса вышел пассажир в светлом макинтоше и с небольшим дорожным баулом в руке. Был он высок, крупен, с пышными бакенбардами на холёном и даже, можно сказать, несколько надменном лице.
Голову повернул манерно, будто и не оглядывая всё вокруг, а скорее привлекая к себе внимание. Тотчас к нему подбежал юркий и проворный носильщик в форменном фартуке и с бляхой на груди.
— Ступай, братец, узнать, где ожидает господина Маркевича экипаж от графа Толстого. Да отнеси в коляску багаж с моего места. Вот тебе, — выудил из жилетного кармана две монеты и ссыпал их на подставленную ковшиком заскорузлую ладонь носильщика.
Четвёрка прекрасных, упитанных лошадей, рванув с места, понесла сначала мимо свежих станционных строений только что открытой железной дороги, затем накатанным большаком, по сторонам которого сперва стали появляться отдельные деревья, потом рощи и целые боры.
Сверкнула слева речная гладь Десны, и вновь, наступая на редкие лоскутки полей, потянулись леса.
Невольно припомнились восторженные слова графа, которыми он давно уже заманивал к себе в Красный Рог: «Чёрт побери, Маркевич! Если бы я был Вы, я бы навестил нас весной, когда алый шиповник ц в е т ё т, и не считал бы время потерянным, так как увидел бы, готов душу прозакладывать, край, какого не увидишь в Петербурге. Этот мошенник Андрей, которого я всей душой люблю, за его дирслейеровскую честность, приедет и проведёт с нами Пасху. Я по-ребячески радуюсь, что смогу пригласить его участвовать в нашей ночной охоте на глухарей, которую даже и Вы, хоть Вы и не охотник, оценили бы за поэтичность обстановки. Представьте себе, Маркевич, весеннюю ночь, тёплую, чёрную, звёздную, кругом — лес, Вы сидите у пылающего костра из хвороста, в соседнем болоте кричит цапля — а потом, после пробежки, подкрадываешься к глухарю, который начинает свою загадочную и вызывающую песню. Что может быть во всём мире более поэтического, более прекрасного, более таинственного! А если светит луна и Вы видите, как этот глухарь красуется на еловой ветке, и если от Вашего выстрела он падает, ломая сучья, — я готов больше не ездить в Рим!..»
Право, большой ребёнок этот Толстой! Неужели трудно понять, что увлечения, свойственные ему, совершенно не подходят иным, как подчас и весь образ жизни, и склад мыслей одного не могут полностью соответствовать убеждениям другого. Однако не будем ломиться в открытую дверь и пытаться доказывать то, что, скорее всего, очевидно и самому графу. Если на протяжении более полутора десятков лет наши привязанности не ослабли, значит, каждый из нас нуждается друг в друге, отметил про себя Маркевич.
Граф по-своему прав, не уставая повторять: «Не стыдно ли, что Вы ни разу сюда не приехали?» Меж тем маршрут, который он чуть ли не в каждом письме педантично повторяет, — Петербург, Вильна, Витебск, Рославль, Брянск, да ещё к тридцати двум железнодорожным часам четыре в экипаже — не вояж в Пустыньку. Там что? Купил билет до Саблино, второй станции от столицы, — и дом в Пустыньке на высоком берегу Тосны распахивает вам объятья. Дом тот прелесть: мебель, начиная от шкафов и шкафчиков знаменитого мастера Буля и кончая стульями, точно отлитыми из чистого золота, кушанья на серебряных блюдах с расписными крышками, старинная портретная и пейзажная живопись... Всё пронизано аристократизмом и в то же время — к твоим услугам. И кого только там не встретишь! Не говоря уже о своём брате писателе, частенько наезжает с самыми близкими людьми двора дядя графа — по годам почти его ровесник и потому близкий приятель, — генерал и воспитатель царских детей Борис Алексеевич Перовский, а иногда — и гость, значительнее которого и нет в России!..
Впрочем, его императорскому величеству Маркевич представлен почти с самых первых дней знакомства с графом. Тогда их, кажется, Тургенев свёл, как и с другими литераторами, в редакции «Современника». Но вот из всех, куда более именитых, граф безошибочно выбрал его, Болеслава Михайловича, — рекомендовал в качестве чтеца императрице Марии Александровне.
Ну а что, Тургенева с его дискантом или Писемского, от которого разит луком, а то пухленького, растерянного Гончарова вводить в высшие круги? Как ни артистичен сам Алексей Константинович, передать все оттенки слова под стать лишь сочному, оснащённому самыми низкими и высокими модуляциями, бархатному баритону Маркевича. Недаром, с надеждой заглядывая в глаза, граф нередко справляется: «Не свободны ли вы на днях — её императорскому величеству что-нибудь моё прочитать?»
Впрочем, не занесло ли вас, любезный Иван Александрович, то бишь Болеслав Михайлович? Так и почудилось, что в стекле экипажа промелькнуло отражение физиономии гоголевского Хлестакова. Вроде бы и достиг, чего страстно желал, чего ж более-то привирать? Императрица и впрямь довольна вашими чтениями, а уж сравнения, право слово, ни к чему — как ни добр граф, а ненароком и его можно задеть...
Ещё раз взглянул в дорожное стекло, распушил лёгким жестом бакенбарды и вновь показался себе приятным и неотразимым.
Зря граф оставил Пустыньку, а главное — Петербург. Недавней зимой лучше литературного салона, чем у графини Софьи Андреевны, не было в столице. В доме, снимаемом Толстыми на Гагаринской набережной, по понедельникам собирался, можно сказать, весь цвет российской литературы. Друзья-недруги Тургенев с Гончаровым, блестящий острослов Тютчев, его соратники по цензурному комитету Полонский и Майков, Боткин Василий с неразлучным Павлом Анненковым, в последнее время издатель возобновлённого «Вестника Европы» Стасюлевич Михаил Матвеевич[51], прямо неводом мечтавший загребать в толстовской гостиной перлы, выходившие из-под пера именитых литераторов...
Маркевичу тут бы и далее утверждать себя в качестве милого, общительного и даже незаменимого вдохновителя чуть ли не всех вечеров, да неожиданно всё поломалось: граф объявил, что отныне выбирает для себя единственное постоянное убежище — родовое поместье Красный Рог.
Обнадёживала мысль: вернётся, не выдержит отшельничества в дремучих брянских дебрях. Но время шло, а в Петербург граф так и не возвращался. Переписка, конечно, велась, и, пожалуй, с ним, Маркевичем, самая обширная, но выгоды дружбы поддерживают и укрепляют не одним эпистолярием, тут важны личные встречи, чтобы не оборвалась, не истлела нить. Вот почему и трясёшься теперь, после полуторасуточной езды по железной дороге, ещё и по чёртовым лесным просёлкам, где каждая колдобина отдаётся во всём теле пудовыми тумаками.
Тут как раз тряска прекратилась, и колеса мягко покатились по широкой и ровной улице села, а вскоре впереди открылся и графский дом.
Вот он, охотничий замок, создание знаменитого Растрелли, сказал сам себе Болеслав Михайлович, разглядывая значительное по размерам здание, над крышей которого возвышался огромный барабан, увенчанный восьмигранной башенкой-бельведером.
Замок выглядел внушительно, но только когда подъехали ближе, оказалось, что здание — одноэтажное, значительность же и монументальность ему придавала круглая надстройка над крышей.
А всё же — по чертежам великого Растрелли, как шедевры столицы! — вновь с почтением отметил Маркевич. И не чья-нибудь в прошлом собственность — гетмана Украины графа Кирилла Разумовского, прадеда Алексея Константиновича!
Как и его кумир Катков, Маркевич благоговел перед всем аристократическим и потому тут же постарался забыть все свои неудовольствия по поводу долгого и утомительного путешествия в лесную глушь.
На носу лодки — мужик Тулумбас, наряженный в красную кумачовую рубаху и поярковую шляпу с лентами по случаю назначения его гребцом. Толстой и Софья Андреевна разместились на середине судна, а на корме с другим веслом взявшийся исполнять обязанности рулевого — Маркевич.
— Правее, барин, правее держите, а то в очерет[52] вскочим! — командует Тулумбас, ловко, глубоким гребком исправляя неверный манёвр кормчего.
Описав широкую дугу, лодка выезжает на стремнину Рожка. Кругом всё сияет, благоухает. Густыми стройными рядами, словно шпалеры войска, слева и справа поднимаются со дна реки тонкие стебли высокого тростника, тихо помахивая бледно-лиловыми перьями. Шильник и душистый аир несут вверх свои острые иглы и смелые, как лезвие шпаги, языки. Тёмными пятнами под ними — бесчисленные семьи кудрявых хвощей. На светлой же речной глади глянцевитыми блюдами лежат круглые листья купавок и белобархатные маковки лилий. Задетые веслом Тулумбаса, они исчезают в глубине и выплывают вновь, на миг раскрыв свою, точно золото, ярко-жёлтую сердцевину.
Толстой, грузно поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, возбуждённо восклицал, обращаясь к гостю:
— Обратите внимание, милый друг, на эту террасу, в которую входит лодка: берега сошлись близко, и древние дубы и ольха с обеих сторон густо сплели свои ветви.
Лодка и в самом деле будто вошла в шатёр — стало на несколько мгновений даже сумрачно, но тут же вновь открылся светлый и широкий плёс.
Удивительно, но, оказывается, Толстой знал все растения, которые встречались на пути, и называл каждое из них. Вот показалась молодая сочная зелень трифоля и пырея, а из неё выглянули тёмно-алые чашечки дикого герания, и милые колокольчики голубого погремка, и липовый змеинец, и сони-дрёма, красивый и яркий, как пурпур.
Показывая многие цветы и травы, Алексей Константинович не без гордости отметил, что некоторые из них, произрастающие в Красном Роге, нигде в России — да, может быть, и в Европе — более не встречаются. Взять орхидеи, по-простому — ятрышник. Здесь на лугах — все сорта этого цветка, но есть один сорт, который растёт лишь тут. Недаром за этим видом Петербургский ботанический сад в течение нескольких лет специально посылал экспедиции в Красный Рог.
Закладывал краснорогский парк в бытность гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского Вальдгейм фон Фишер, создатель Ботанического сада в Петербурге. Позже, уже дед Толстого, министр Алексей Кириллович, сам страстный ботаник, выписывал из-за границы и учёных садовников, и всевозможные заморские редкостные растения.
Обнаружилось в разговоре, что и сам Алексей Константинович ещё мальчиком сажал в парке вместе с дядей Алёшей, тоже увлекавшимся ботаникой, липы и клёны, ясень, каштан и тую, учился выращивать многие цветы, радующие глаз и яркой расцветкой, и формой. Отсюда у него такое внимание даже к дикому, невесть как выросшему полевому цветку: «Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, тёмно-голубые? И о чём звените вы в день весёлый мая, средь некошеной травы головой качая?..»
— А это, извольте взглянуть, певник, или ирис, — прообраз геральдической лилии, — обратился Толстой к гостю, срывая у воды прекрасный, с сине-жёлтыми лепестками цветок.
Но чу! Из камышей, встревоженные плеском весел, поднялись стрекочущими стаями чёрные дрозды и краснобровые курочки тетеревов. Очеретянки, синие, как яхонт, пролетели над головами с робким свистом, а следом за ними, воркуя, стремглав пронеслись кофейно-серые горлинки с чёрным ожерельем вокруг нежной шеи. А высоко над этим живым царством природы сияло голубое майское небо с бегущими по нему белыми дымчатыми облаками.
— Что ещё на свете может сравниться с этим очарованием! — теперь воскликнул Маркевич и даже прихлопнул себя ладонью выше колена по ноге, обтянутой модными кремовыми панталонами.
Хлопок среди торжества природной тишины вышел некстати, но гость ничуть не смутился, поскольку именно этим жестом привык выражать своё восхищение даже в петербургских гостиных, что считал шиком и чему у него безуспешно когда-то учился Катков.
— Очаровательно! — повторил гость. — Я непременно должен занести в свою записную книжку все названия трав и цветов, чтобы использовать в новом романе. И особенно не забыть бы о геральдической лилии — так благородно!.. — И вдруг без перехода громко хохотнул: — Здесь и русалки должны водиться?
— Об этом спросите нашего Тулумбаса, — сказала графиня. — Он реку знает с самого детства вдоль и поперёк. Не так ли, Тулумбас? Может, ты и русалок встречал?
— А это какие русалки будут? — отозвался гребец с носа лодки.
— Да майки, или мавки по-местному, — подсказал Толстой.
— А, то вы про мабки! Брешут всё бабы — что с них взять! — махнул рукой Тулумбас.
Софья Андреевна рассмеялась:
— Вот вам отношение русского мужчины к женщине — и русалок не признает, и баб слушать не желает. Выходит, и правда баба не человек? А я всё же задумала в Красном Роге бесплатную школу для девочек.
— Вы находите это необходимым, графиня? — поинтересовался Маркевич. — Впрочем, я как чиновник министерства народного просвещения полагаю, что образование для женщин из народа должно служить естественному и неизменному их призванию — быть матерью. Та, которая окажется в состоянии заменить своему сыну наставника, станет вдвойне матерью.
— Погодите, дайте образование русским женщинам — они министрами станут! — продолжая улыбаться, в то же время убеждённо произнесла Софья Андреевна.
— Ах, дождусь ли я этого счастливого времени? — жеманно воскликнул Маркевич. — Я знавал одного старика — он служил при Екатерине. Так он, бывало, как вспомнит, вздохнёт: «Золотой был век — бабье царство!» Так и я, дорогая Софья Андреевна, готов вслед за ним воскликнуть о временах, которые вы нам обещаете. Только вот какое, весьма маленькое, неудобство я при этом предвижу. Вообразите себе: в кабинете министров или там в Государственном совете внесено очень важное дело. Например, по военному министерству. А самого министра на заседании нет. «Где министр?» — спрашивают. Секретарь докладывает: «Госпожа министр извиняются: оне сегодня ночью изволили произвести на свет новую гражданку...» — «Тогда займёмся вопросом министерства юстиции», — предлагает председатель. Секретарь же опять: «Госпожа министр просят их немного обождать — оне изволят примерять новое платье от Ворта из Парижа...»
— Дамы, которыми восхищается Толстой, не похожи на тех, которых вы сейчас нам описали, хотя по уму и образованию — хоть сейчас в министры, — лукаво произнесла Софья Андреевна. — Я говорю о княгине Сайн-Витгенштейн, например, или о госпоже Павловой, или фрау Заген.
— Ой, не напоминай мне, милая Софочка, о фрау Заген! — поднял руки Алексей Константинович. — Эта милейшая супруга доктора в Карлсбаде, у которого я обыкновенно прохожу курсы лечения, вообразила себя писательницей, и стоит мне к ним прийти, как она бросается на колени, целуя мне руки, и требует, чтобы я слушал чтение её романа. А как хвалить сахарную водицу, да ещё с бантиком? Каролина Павлова, та — несравненный талант! Только за последнее время и у неё прорезалась эта манера. Бросаться на шею... Ну а Каролина другая, Витгенштейн... Честно говоря, Софи, я ей признался однажды: если я когда-либо буду обречён на то, чтобы не иметь ни одного слушателя и ни одного зрителя, я всё равно буду продолжать писать для двух людей — для неё и для моей жены, потому что ни от той, ни от другой не ускользает ни одно из моих авторских намерений...
Из камышей лодка выехала в прекрасный, округлый и со всех сторон обнесённый соснами залив. Вид окрестностей внезапно изменился — какою-то зловещею, стальной синевою отливала теперь водная гладь. Лишь в одном месте, по самой середине плёса, прорывалась сквозь чашу и бежала к противоположному берегу, трепеща и горя в струях, длинная и узкая полоса солнечного света. Веяло сумраком и смолистым настоем леса.
— Омут, а по-нашему — вир, — объяснил Тулумбас. — На дне его, сказывают, водное царство, в котором жила наша деревенская дивчина — царица.
— А ну-ка расскажи, что ты знаешь о том царстве, — встрепенулся Болеслав Михайлович. — Выходит, она русалка? А говорил: бабы врут.
— Тут так было, — словно не обращая внимания на высказывание заезжего человека, неторопливо начал свой рассказ лодочный кормчий. — Пришли как-то раз девчата из нашего села к реке, на тот самый бережок, где, видите, жёлтого певника так много. Сели на траву-мураву и говорят: какая дивчина о каком парне мечтает? Одна Фрося молчит — сиротинка бедная, но сама — загляденье. Видная, белолицая, а глаза синие, что соколиный перелёт — цветок такой есть...
А дальше, — продолжил Тулумбас, — пристали к ней подружки: «А у тебя чи есть, чи нету сердечного дружка? Да смазлив ли, богат?» — «Где мне, бедной, хорошего да богатого, — говорит, — уж — так и тот муж...» Захохотали и вдруг вскочили все разом: на красном платке, что расстелила на траве Фрося, и вправду уж.
Ну, подружки удрали, а уж ударил хвостом — и заместо него молодец-красавец, золотая шапочка на кудрях волнистых, полымем глаза горят. И говорит: «Правда ли слово твоё, что за ужа готова пойти?» А она молчит и только глаз не смеет отвести — откуда взялся? А он, словно отгадав её растерянность: «Царство моё тут, — отвечает, — близёхонько, в омуте глубоком». И увидел по её глазам, что согласна она идти за ним. Ухватил он её сильною рукой, и погрузились они оба в то водное царство.
Маркевич быстрым жестом вспушил баки, глаза цепко впились в деревенского гребца:
— У сказки должен быть конец. Счастливый или печальный?
— А это кому какой по душе придётся, — ответил рассказчик. — Знамо одно — принесла она молодому водяному князю потомство и жили они там, на дне, счастливо... Другие к этому концу свой приторачивают: дескать, как ни радостно было в царстве речном, всё домой тянуло. Взял слово с неё: «Ровно на три дня отпускаю тебя в село повидать родичей — и чтобы никому ни слова». Не сдержала обещания — и время проволынила, и тайну свою и мужа выдала. Бросились сельчане с неё золотые украшения рвать да грозятся в реке того ужа изловить, что сказочным царством владеет. «Так лети же ты теперь, жена, серою кукушкою за то, что променяла меня на злых людей, завистников на моё царство!..» Так что вы, барин, сами выбирайте, какое окончание вам по сердцу...
После обеда в кабинете Алексея Константиновича Маркевич, похлопывая себя по окорокам, восторгался:
— Вы не представляете себе, дорогой граф, каким одарили меня подарком! У меня уже созрел план романа, действие которого я определю здесь — в вашем замке и на реке, которую я назову Алый Рог. А центром повествования станет легенда о девушке, в судьбе которой — тайна!..
— У каждого своя фантазия, мой милый друг, о чём уже сказал вам сегодня наш кормчий. Для меня же Красный Рог — это прежде всего северная окраина древней Киевской Руси — поры нашей золотой и счастливой народной юности, когда мы, русские, не поворачивались к Западу спиной, а являлись частью общего с ним мира. Тенденций в своём творчестве я не придерживаюсь, это вам известно, но бывают тенденции невольные, а я собираюсь написать несколько баллад из нашего европейского периода — так туда моё сердце и тянет.
Маркевичу уже была известна первая историческая баллада Толстого, названная «Змей Тугарин». Начиналась она мажорно — картиной пира князя Владимира на холмах стольного града Киева. Пирует славный князь, и все по очереди слагают ему песни. Но вот выдвигается из среды гостей незнакомый певец:
Глаза словно щели, растянутый рог, Лицо на лицо не похоже, И выдались скулы углами вперёд, И ахнул от ужаса русский народ: «Ой рожа, ой страшная рожа!»О гибели Киева была его песнь. Певец предрекал времена, когда Киев обнимет пламя и дым, русские попадут в полон к чужеземным завоевателям, станут их рабами.
Но не это самое страшное, что ожидать будет внуков вольной и свободной Киевской Руси.
Певец продолжает: «И время придёт, Уступит наш хан христианам, И снова подымется русский народ, И землю единый из вас соберёт, Но сам же над ней станет ханом!..»И тогда-то настанет по-настоящему страшное время на Руси.
«Обычай вы наш переймёте, На честь вы поруху научитесь класть, И вот, наглотавшись татарщины всласть, Вы Русью её назовёте! И с честной поссоритесь вы стариной, И, предкам великим на сором, Не слушая голоса крови родной. Вы скажете: «Станем к варягам спиной. Лицом повернёмся к обдорам!»Вспомнив эти строки, Маркевич не сдержался:
— Значит, Киевская и Новгородская Русь как идеалы свободы — против московского периода нашей истории, который вы называете и татарским, и монгольским, то есть, иначе говоря, варварским?
— Именно так вы меня поняли, милый друг. Цель моя — передать в затеянных мною балладах колорит любимой мною эпохи, а главное, заявить нашу общность в те времена с остальною Европой, назло московским русопётам, избравшим самый подлый из наших периодов, период московский, явлением русского духа и русской свободной воли.
Гость вскочил:
— Но ведь то была воистину славная эпоха собирания Русской земли!
— «Собирания Русской земли»! — иронически повторил Толстой. — Собирать — это хорошо, но спрашивается — что собирать? Клочок земли — это лучше, чем куча дерьма. А при Иоанне Грозном, например, с яростью, достойной монголов, обрушившихся на Русь, как стая саранчи, происходило не объединение равных, а уничтожение тех, кто уже достиг в своём развитии истинной свободы, без которой-то и невозможно естественное становление и развитие государственности!
— Постойте, граф! — Дородная фигура Маркевича возвышалась как монумент. — Однако Москва как центр державы и создала могучую государственность!
— Вы полагаете? — склонил голову чуть набок и прищурился Толстой. — Есть люди, которые утверждают, что государственность нам принесли варяги, они же, скандинавы-де, одарили нас и свободой. Враки! Скандинавы не устанавливали, а нашли уже вполне установившееся вече. Заслуга их в том, что они его сохранили, в то время как гнусная Москва его уничтожила — вечный позор Москве. Не было нужды уничтожать свободу, чтобы победить татар, не стоило уничтожать деспотизм меньший, чтобы заменить его большим.
Рука Маркевича машинально потянулась к ляжке, но хлопка не совершила.
— Так вы считаете, царствование Грозного и иных правителей повернуло нас вспять, сделало хуже и слабее, чем мы были?
— Да, милейший, деспотизм никуда не годится, какими бы целями он ни прикрывался, как бы ни оправдывал свою жестокость!
— Однако позвольте всё же не согласиться, любезный граф, с вашим взглядом на наше прошлое. Вглядываясь в варварские черты истории, я, например, приветствую грубую, но могучую силу, создавшую наше государство, опираясь на которое Александр Первый устоял против целой Европы и вступил в Париж. Именно благодаря нашему московскому периоду Европа могла быть освобождена от корсиканского чудовища, и в более или менее близком будущем именно наша Россия, созданная сильными руками, принесёт освобождение и другим народам. Но для этого Россия должна прежде всего понять свои интересы и радеть о них, вопреки всяким посторонним соображениям, если таковые окажутся несовместимыми с её национальными целями.
— Ого, — воскликнул граф, — куда вы метите! К дальнейшему собиранию земель? И всех, так сказать, — под знамя российского деспотизма, даже тех, кто цивилизованнее нас по своему образу жизни, но в ином, грубом смысле, увы, слабее?
— Вам же отлично известна дарвинская теория — в борьбе за существование победителем выходит только ловкий и храбрый. Не тем же законам подчинена и история человечества? И я как истинный русский...
Толстой нетерпеливо перебил гостя:
— А я, представьте, в таком случае не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. Когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самое монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом!.. Иногда мне, право, представляется такая картина. Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне: «Граф! выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!» — я бы ответил ему: «Ваше величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России!»
Обхватив голову руками, Алексей Константинович откинулся на спинку кресла.
Ничего не скажешь — ловкость неописуемая: поляк по происхождению, Маркевич мало того что считает себя русским, в чём не было бы большой беды: и те и другие славяне, — но он защищает всем сердцем политику, направленную на подавление и подчинение других национальностей, населяющих нашу землю.
Но прилично ли так — пригласить в гости человека, к которому расположен и которого считаешь за единоверца в искусстве, и вдруг — по щекам? Ну ладно, не во всём сходство, но в главном-то, в главном, чему служим и преклоняемся, оно ведь налицо. И к чёрту всякие тенденции, которым не место в литературе! А Болеслав, право, один из немногих, кто проявляет стойкость в этой области, являющейся моей единственной, главной, истинной стихией. Искусство и так низвели до доказательства того или иного вопроса.
Жаль, что служебные обстоятельства не позволили Болеславу приехать в Веймар на премьеру «Иоанна». А ведь Толстой именно его, Маркевича, назвал великому герцогу Карлу Александру, когда тот поинтересовался, кто в России теперь замечательные прозаики.
«Я назвал их и сказал, что появился один новый прозаик по имени Маркевич и написал отличную вещь — «Типы прошлого». Герцог тотчас записал в бумажник название романа и автора, и, когда я ему сказал, что этот Маркевич хотел сюда приехать, он вскрикнул: «Прошу вас, любезный друг, телеграфируйте ему немедленно, что я приглашаю его приехать как можно скорее и что я буду очень доволен с ним познакомиться». Это сущая правда, я так и сделал — телеграфировал Болеславу и написал о моём разговоре с великим герцогом жене».
— Софи, Софочка! — позвал Толстой в полуоткрытую дверь. — Будь добра, зайди к нам. Помнишь, я тебе писал из Веймара, как великодушен оказался Карл Александр к Болеславу Михайловичу. Я как раз сейчас вспомнил об этом и решил рассказать о разговоре с великим герцогом нашему дорогому гостю, зная, как ему будет лестно это услышать.
18
Предрассветный час — сумрачен и зябок. Но как приятно распахнуть дверь на балкон и вдохнуть терпкого настоя трав, хвои, грибов и Бог знает каких ещё ароматов, которыми наполнены окрестные леса и луга!
По ту сторону, за озером, один за другим зажигаются огни в деревне, вовсю поют петухи, будто они обязаны это делать по контракту с неустойкой. А на кухне повар Денис и кухарка Авдотья затопили печь. Хорошо! Так бы и прожил здесь всю жизнь, совершенно не интересуясь тем, что сейчас там, в Петербурге, Венеции, Риме, Париже...
Давеча попалась в руки старая французская газета, расписывающая какие-то политические акции Наполеона Третьего. А какое мне дело до него, да и существует ли вообще на свете этот французский предводитель? Я знаю, что есть Денис, есть Авдотья, и мне этого достаточно. Кто-то скажет, что подобное убеждение гнусно — а что мне до этого? Чёрт побери и Наполеона Третьего, и даже Наполеона Первого! Если Париж стоит обедни, то Красный Рог со своими лесами и медведями стоит всех Наполеонов, как бы их ни пронумеровали!
Скверно только одно — головные боли продолжаются уже не часами, а сутками, и только порой крепкий чай да свежий воздух, пахнущий хвоей, хоть на короткое время снимают страдания.
Всюду — в комнатах и коридорах — кадки с водой, в которых сосновые ветки, а на письменном столе — спиртовка, чайник, чашечка с блюдечком и ситечком. Слава Богу, всё на месте. А до недавнего времени Михайло ночью то чайник, то блюдечко стащит и унесёт к себе. Да благо бы сам любил чай, а то ведь все из подражания хорошему тону, как он его понимает. Чтобы, значит, и у него на столе было как у господ.
Михайло человек тонкий, с фантазией, поступать любит не просто в соответствии с указаниями, как другие лакеи, а по понятиям души. Я ему говорю: «Михайло, разбуди меня завтра в_восемь часов». — «Слушаюсь». Просыпаюсь в десять. «Михайло, зачем ты меня не разбудил?» — «Да я-с вошёл ровно в восемь часов, только как вы изволили спать, то я разбудить и не решился!»
Уезжая как-то из Красного Рога, я велел ему положить мне три рубашки и соразмерно прочего белья. Доехал до границы не останавливаясь и в первом же отеле решил переменить бельё. Раскрыл мешок и нашёл в нём три рубашки и... шестнадцать пар носков. В другой раз, за час до отъезда, я спросил его: «Михайло, ты не забыл положить в сундук белые галстухи?» — «Никак нет-с, я белых галстухов не клал, но всё равно — я положил большой белый шерстяной кашне».
Соня Хитрово, племянница Софи, без ума от его образованных приёмов. Дело в том, что у неё слуги — братья славяне без всяческих манер, — например, докладывают: «Пришла какая-то мадам!» — а мадам говорят: «Ну, ну, входи, входи!» Этого, конечно, Михайло не сделает, а скажет: «Пришла мадемуазель такая-то», а ей: «Же ву при, шпациренци герейн» — то есть на смеси французского с немецким — «прошу вас, прогуляйтесь сюда».
Ни за что бы не решился подложить Соне свинью, но уж так и она, и сам Михайло просился с нею в Константинополь, что сжалился над обоими. Но, видит Бог, я честно предупредил Соню обо всех художествах Михайлы. Однако очень за него рад, он будет получать двадцать пять рублей вместо восемнадцати...
Отныне к чёрту все сборы и поездки! Глоток-другой свежего чая и настоя хвои — и можно пускаться в путь в ту благословенную страну, которая зовётся Древней Русью и в которой когда-то мы всё ещё не были отатарены и слыли чистыми европейцами!
Ах, какие славные выписки прислал «старче доблий» — знаток древнейших времён не хуже самих составителей летописей, профессор Николай Иванович Костомаров — о замужестве дочерей Ярослава, что так и просятся в балладу!
У русского князя Ярослава было три дочери — Елизавета, Анна и Анастасия. Анна вышла замуж за Генриха Первого, короля Франции, который, чтобы посватать её, послал в Киев епископа Шалонского Роже в сопровождении двенадцати монахов и шестидесяти рыцарей. Третья дочь, Анастасия, стала женой короля Венгрии Андрея. К первой же, Елизавете, посватался Гаральд Норвежский, тот самый, что воевал против Гаральда Английского и был убит за три дня до битвы при Гастингсе, стоившей жизни его победителю. Звали его Гаральд Гардрад, и так как он тогда находился ещё в ничтожестве, то и получил отказ. Сражённый и подавленный своей неудачей, он отправился пиратствовать в Сицилию, в Африку и на Босфор, откуда вернулся в Киев с несметными богатствами и стал зятем Ярослава.
Дело происходило в 1045 году, за двадцать один год до битвы при Гастингсе. Так и назову свою балладу — «Песня о Гаральде и Ярославне».
Эгерия одобрила первые строфы, которые удалось сложить:
Гаральд в боевое садится седло, Покинул он Киев державный. Вздыхает дорогою он тяжело: «Звезда ты моя, Ярославна!..»Не так давно пришло ему в голову назвать Софи Эгерией. Как и жена легендарного римского царя Нумы Помпилия, она для него подлинная советница, наставница и защитница. Но как же он мог в своих увлекательных, самозабвенных скитаниях по Древней Руси забыть о страданиях своей «звезды Ярославны»? Собственные недуги он научился терпеть, но можно ли не думать об усиливающейся бессоннице и больных глазах той, кто ему дороже жизни? И как ни не хочется, но надо укладывать чемоданы. Говорят, в Одессе искусные глазные врачи.
— На этот раз мы поменялись с тобою ролями, — прикрыв глаза от яркого солнца широкими полями шляпы и опираясь на руку мужа, Софья Андреевна мелкими, неуверенными шажками ступала по мощённым камнем тротуарам Одессы.
— И всё же ты — мой вечный и единственный поводырь, Эгерия, — наклонился он к жене. — С тех пор как когда-то вернула меня здесь к жизни.
Солнце светило и грело, наверное, как и в ту, военную, весну. Однако почему-то менее всего вспоминались те дни, когда над ним и его однополчанами витала смерть. Наоборот, в воздухе, казалось, было разлито что-то радостное, лучезарное, будто пронизанное поэзией.
Наверное, родилось это ощущение в первый же день, когда на Дерибасовской они зашли в невзрачную, окрашенную белою клеевою краскою кофейню Перейфера и Толстой обрадованно узнал всё ещё сохраняемый на стене из мягкого одесского камня след от железной палки Пушкина. Сюда каждый день поэт приходил «кафе тринкен», как говорил хозяин заведения, и оставил эту метку для потомков.
А вот два окна на втором этаже дома барона Рено, на углу Ришельевской, из которых, опять же по легенде, высовывалась курчавая голова Пушкина и он кликал стоявших внизу извозчиков, которым оставался должен в дни безденежья.
Толстые сняли комнаты в ришельевской гостинице, содержавшейся Отоном. Здесь порция любого блюда, как раньше, стоила пятнадцать копеек, самые крупные устрицы — рубль за сотню. По сравнению с Петербургом и даже Москвой — дешевизна, хотя заведение Отона считалось самым роскошным. Говорят, и эту ресторацию посещал Александр Сергеевич, также частенько обслуживаемый хозяином в долг.
Отсвет пушкинского настроения лежал на душе, пока гуляли и навещали знаменитых докторов, но враз улетучился и растаял, когда ненароком оказались возле театра.
Ещё несколько дней назад на всех афишных тумбах пестрели слова: «Смерть Иоанна Грозного», драма графа Толстого...» Ныне полицейские чины носились по городу и сдирали последние объявления, свисавшие ещё кое-где как свалявшаяся шерсть на шелудивой собаке.
О запрещении постановки драмы на одесской сцене Алексей Константинович узнал в Красном Роге и тогда же отправил письмо редактору «Одесского вестника»:
«Милостивый государь!
Неоднократно я получаю из Одессы письма, из которых узнаю, что одесская публика негодует на меня за то, что я будто бы просил о запрещении давать в Одессе трагедию мою «Смерть Иоанна Грозного», после того как она была уже несколько раз дана, а директор театра вошёл в значительные издержки на постановку. Считаю долгом для восстановления истины заявить, что не только я не просил о запрещении моей трагедии ни в каком городе, но, напротив, вследствие обращения ко мне некоторых провинциальных театров ходатайствовал в министерстве внутренних дел о разрешении давать эту пиесу в разных городах. К её запрещению в Одессе я нисколько не причастен и очень о нём сожалею...»
«Одесский вестник» письмо возвратил с объяснением, что его нашли неудобным к напечатанию, и Алексей Константинович тут же переправил своё объяснение Каткову, который и тиснул его в своей газете «Московские ведомости».
Казалось бы, случай в Одессе — недоразумение. Но произошла подобная история в Орле, в других городах. А вскоре он, автор, узнал о заседании совета Главного управления по делам печати, на котором «Смерть Иоанна» было решено повсюду в провинции запретить, а «Царя Фёдора Иоанновича» вовсе не принимать к постановке.
— Дураки и черти! — была реакция Толстого на решение цензуры, поскольку ему сообщили о мотивах запрета: трагедии-де подрывают царское достоинство.
Главные действующие лица обеих пьес были разные. Если Иоанн — деспот, узурпировавший верховную власть, то сын его, Фёдор, наоборот, представлял царя, стремившегося действовать по совести и велению сердца.
Собственно, «Царь Фёдор» — это не просто трагедия государя, но прежде всего человека, наделённого от природы самыми высокими душевными качествами при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли. Русская сцена наконец-то обрела характер высот шекспировских, но какое дело было до законов искусства директору департамента полиции Ивану Осиповичу Вельо, государственному секретарю Николаю Алексеевичу Милютину и министру внутренних дел Тимашеву Александру Егоровичу, под чьим коллективным давлением и состоялся запрет.
Толстой не сдержался и тут же отправил письмо Маркевичу, зная, что тот не утаит и сделает его мнение достоянием всех петербургских салонов. И пусть! Потому он и подобрал выражения покрепче, чтобы, как говорится, пробрать до печёнок всех самых ярых салонных консерваторов, которые в страхе за свои служебные кресла готовы запретить любую мысль, кажущуюся им опасной.
«Я, как Вы знаете, старый служака, — писал Толстой, — ведь я служил в стрелках императорской фамилии, и я же старый морской волк — я ведь был членом яхт-клуба. Так вот я со всей грубой правдивостью, свойственной и тому и другому, скажу Вам, что Ваши салонные консерваторы — г консерваторы. Вам известно, что я ненавижу всё красное, но чёрт меня побери — тысяча дьяволов и три тысячи проклятий! — если в какой-нибудь из моих трагедий я собирался что бы то ни было доказывать. В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю её как пустую гильзу, тысяча чертей! — как раззяву у подножия фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал! Не моя вина, если из того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Это всегда будет явствовать из всякого художественного творения, даже из симфонии Бетховена. Я терпеть не могу деспотизма, так же как терпеть не могу... Сен-Жюста, Робеспьера... Я этого не скрываю, я это проповедую вслух, да, господин Вельо, я это проповедую, не прогневайтесь, господин Тимашев, я готов кричать об этом с крыш, но я — слишком художник, чтобы начинять этим художественное творение, и я — слишком монархист, да, господин Милютин, я — слишком монархист, чтобы нападать на монархию. Скажу даже: я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у монархии с личностями, носящими корону? Шекспир разве был республиканцем, если и создал «Макбета» и «Ричарда III»? Шекспир при Елизавете вывел на сцену её отца Генриха VIII, и Англия не рухнула. Надо быть очень глупым, господин Тимашев, чтобы захотеть приписать императору Александру II дела и повадки Ивана IV и Фёдора I. И, даже допуская возможность такого отождествления, надо быть очень глупым, чтобы в «Фёдоре» усмотреть памфлет против монархии. Если бы это было так, я первый приветствовал бы его запрещение. Но если один монарх — дурен, а другой — слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из «Ревизора» следовало бы, что не нужны городничие, из «Горя от ума» — что не нужны чиновники, из «Тартюфа» — что не нужны священники, из «Севильского цирюльника» — что не нужны опекуны, а из «Отелло» — что не нужен брак...»
Теперь перед зданием одесского театра возмущение Толстого готово было вспыхнуть вновь, но Эгерия взяла его руку в свою маленькую и тёплую ладонь и неожиданно рассмеялась:
— Ты знаешь, я вспомнила сейчас твою мысль о делении пьес, как и генеральской формы, на праздничные, парадные и ещё там какие-то...
«Ах, какая же ты умница, моя покровительница и наставница!» — подумал Алексей Константинович и, благодарно улыбнувшись, толкнул массивную дверь театра.
Через какую-то минуту он уже стоял в окружении актёров и, смеша их до колик, рассказывал:
— Нет, господа, вы не думайте, что в комитете по печати и министерстве внутренних дел только и озабочены тем, чтобы все пьесы запрещать. Наоборот, там лишь пекутся о том, чтобы разрешать. Но разрешать, так сказать, со смыслом, по некоей табели. «Смерть Иоанна», например, запрещена в провинции повсеместно и окончательно. Зато «Василиса Мелентьева», сочинение господина Островского, и «Опричник» Лажечникова — обе пьесы, кстати, из эпохи Ивана Грозного — позволены при условии, что губернатор утвердит их к представлению. Таким образом, пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены только в столицах, другие — в провинции, третьи — в столицах и провинции, четвёртые — в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает формы парадную, походную праздничную и парадную походную. Правда, несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство — всё застёгиваясь и расстёгиваясь, двое застрелились. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки.
Разговор происходил в кабинете директора театра, и хохот поднялся настолько громкий, что сбежались пожарные. Одесситам, чутким на острое слово, достаточно было одной искры, чтобы воспламенить их ум и воображение. Но Толстого и самого уже нельзя было остановить.
— А что, если нам с вами представить министру внутренних дел Тимашеву проект разделения репертуара по такому, к примеру, принципу, — старался совершенно погасить улыбку Алексей Константинович. — Одни пьесы, положим, играть в городах губернских, но не уездных, другие — только в заштатных городах. Затем — пьесы, которые можно давать в губерниях хлебородных и черноземных, и такие, которые разрешить ставить в местностях песчаных, как Смоленск. Каменный уголь, кстати, тоже должен быть принят в расчёт. Что же касается мест, где добывается нефть, то — поелику место это пока единственное в своём роде — я предлагаю, чтобы там давали ежедневно одну-единственную пьесу и чтобы написал её господин Вельо...
Четырнадцатого марта 1869 года в одесском Английском клубе собрался цвет местного дворянства во главе с градоначальником, губернатором и генерал-губернатором края, чтобы дать обед в честь графа-писателя.
Толстого тепло, сердечно приветствовали. В ответ он произнёс речь:
— Милостивые государи! Честь, которую вы мне оказываете, так велика и неожиданна, что я прошу вашего снисхождения, если не умею выразить, как бы желал, всей моей признательности.
Ваше внимание, милостивые государи, тем более драгоценно для меня, что оно относится столько же к моей литературной деятельности, сколько к тем задушевным убеждениям, которые я не раз старался ею выразить.
Все внимательно слушали. И вдруг то один, то другой из сидевших за столом живо переглянулись, когда граф продолжил:
— Я счастлив, что убеждения эти сходятся с вашими. Они заключаются в сознании, что все мы, сколько нас ни есть, — от высоких сановников, имеющих под своим попечительством целые области, до скромных писателей — не можем лучше содействовать начатому нашим государем преобразованию, как стараясь, каждый по мере сил, искоренять остатки поразившего нас некогда монгольского духа, под какою бы личиною они у нас ещё ни скрывались.
На всех нас лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в её первобытное, европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили её на время.
Лица, внимающие ему, были солидные и почти совсем молодые, с осанкой величественной и гордой посадкой головы и с выражением пылкого, почти юношеского вдохновения. И что особенно бросилось в глаза — здесь, в своеобразной столице Новороссии, в Российской Италии, как называли Одессу совсем недавно, в бытность графа Воронцова, поражало обилие лиц не только русских или украинских, но немецких и греческих, итальянских, румынских и турецких, болгарских, польских... И как же счастливо вспыхнули многие из них, когда Толстой, заключая свою речь, произнёс:
— Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего позвольте мне, милостивые государи, выпить за благоденствие всей Русской земли, за всё Русское государство, во всём его объёме, от края и до края, и за всех подданных государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали!
Уже в вагоне, вспоминая свою речь, он радовался тому, что высказал в самом деле искренние и задушевные свои убеждения, не сводя притом их к выражению мелких обид и оскорблений. Но он ещё не знал, какую бурю вызовут вскоре его вроде бы безобидные слова.
19
Квартира Каткова помещалась в том же казённом университетском доме на Страстном бульваре, что и его издательские конторы. Однако если вход в «Московские ведомости» и «Русский вестник» был с парадного подъезда, в жилые помещения Михаила Никифоровича путь вёл через большой грязный двор. Там следовало отыскать маленькую тёмную дверь, по узкой чёрной лестнице добраться до другой, обитой разорванной клеёнкой, и очутиться в каморке, где дежурил обычный сторож, который и докладывал о посетителе.
В квартире Каткова Алексей Константинович никогда не бывал. Михаил Никифорович, благоговевший перед людьми высшего общества, не приглашал домой таких авторов, как граф Толстой, а принимал их в служебном кабинете, обставленном хотя и строго, но с намёком на то влиятельное положение, которое он, Катков, занимал в издательском мире. Его «Московские ведомости», поддерживаемые правительственными кругами, считались ведущей газетой не только в Первопрестольной, но и в Петербурге. Посему и кабинет выглядел соответствующим образом — отделанный мрамором камин, дорогая хрустальная люстра, устланный коврами пол.
Едва Толстой объявился в дверях, как Михаил Никифорович подскочил к нему и, задрав вверх голову, поскольку был небольшого роста, приветливо обласкал гостя взглядом своих водянисто-голубых глаз.
— Ну наконец-то, граф, — произнёс он хорошо поставленным голосом бывшего университетского профессора, — а то уж я забеспокоился: не обиделись ли? Я и Болеслава Михайловича не однажды просил напомнить вам, что есть ещё «Русский вестник», кроме «Вестника Европы», куда вы изволите в последнее время отдавать свои произведения. А ведь не кто иной, как я, был крестником вашего «Ивана Грозного», когда вы его ещё впервые вывели в романе «Князь Серебряный».
— Так я что! — развёл руками Толстой. — Моё дело предлагать товар, а ваше — покупать или отвергать. Естественно поэтому, что я предлагаю свои творения тому, кто их принимает.
Журнал Каткова действительно первым познакомил читателей с Иваном Грозным Толстого, напечатав «Князя Серебряного». И «Смерть Иоанна» сразу после окончания автор направил в то же издание, приписав в письме, как и при посылке романа: «Никакого ценсурного изменения или усечения я не желаю... Для успокоения ценсурной совести могу сказать Вам, что «Смерть Иоанна» была читана императрице, которая её очень одобрила».
Рукопись тогда Катков вернул, извинившись, что не может заплатить четыре тысячи рублей за менее чем три тысячи стихов, как ставил условием Толстой. Вероятно, непомерным оказалось требование автора. Но ведь и другие вещи отверг затем издатель. Может быть, не только кошелёк, но и патриотическое сердце Михаила Никифоровича оказалось не владу с антимосковскими, открыто европейскими балладами, которые охотно печатал Стасюлевич? Недаром и сейчас сам Катков уже названиями журналов подчеркнул их противостояние: один «Вестник» — «Русский», другой — «Европы».
— Что ж, я готов вам прислать мои новые вещи с тем условием, что вы будете, как и все, платить мне хотя бы по рублю за стих, — сказал Толстой.
— Ловлю на слове, — быстро глянул снизу вверх Катков. — Говорят, вы закончили «Царя Бориса», новую драму? Так вот прошу непременно её передать мне. Или, как и «Царя Фёдора», вы уже запродали её Стасюлевичу?
— Каюсь, Михаил Никифорович, «Бориса» пообещал Михаилу Матвеевичу. Где же вы раньше были?
— Верно говорится — кто смел, тот и двух съел! — сокрушённо покачал головой Катков. — Так всегда: печёшься о родной русской литературе, а те, кому она чужая по чувствам и даже по крови, — норовят из-под самых рук...
Вот она, наша российская манера спорить и отстаивать свою точку зрения: вместо серьёзных деловых аргументов — брань, а то и донос. Совсем недавно Маркевич, выступив в «Современной летописи» против взглядов Стасюлевича на школьную реформу, не ограничился полемикой по существу, а бросил намёк на политическую неблагонадёжность своего оппонента: «Не будем касаться не зависящих от него обстоятельств, по которым он находится вне университета». Но ведь многим известно: Стасюлевич в 1861 году вместе с другими честными профессорами Петербургского университета подал в отставку в знак протеста против действий правительства в связи с происшедшими тогда студенческими волнениями. Да ещё тут же, в статье, как сейчас и Катков, — намёком о польской принадлежности Стасюлевича.
Предъяви ты своему противнику обвинения по существу спора, даже вцепись по этому поводу ему в горло — только не прибегай к сплетням и доносам! Это всё равно что, рассуждая о какой-нибудь картине, написать, что она плоха оттого, что художника отвлекали частые посещения какой-нибудь Мальвины Карловны, которой он недавно подарил браслет, купленный в английском магазине за сто пятьдесят восемь рублей — сумму, вручённую ему женой для уплаты долга тестя, который занял эти деньги шесть лет назад для поездки куда-нибудь в Старую Руссу... Вот вам логика наших господ, когда они берутся отстаивать свои взгляды! Того и гляди, Катков сейчас, заведя речь о моём тосте в Одессе, назовёт меня не более и не менее как предателем!
Честно говоря, сразу после своей речи Толстой подумал, что «Московские ведомости» тут же не преминут откликнуться в духе своего густо-псового патриотизма. Но купил по дороге один, другой нумер — ни слова! Потому и решил, возвращаясь домой в Красный Рог, заглянуть на денёк в Москву.
Неужели одесские события до Каткова не дошли? Как бы не так — его корреспонденты чуть ли не во всех городах России. И если в газете ни строчки и теперь, при встрече, ни намёком, ни словом о происшедшем — значит, есть у Каткова какой-то смысл. Но какой, если многие провинциальные газеты сообщили о речи и даже в дороге пошли пересуды?
Важный господин, подсев в вагон к Толстому где-то между Харьковом и Курском, достал из кармана какую-то местную газетку и принялся рассуждать вслух:
— Не читали? Граф Алексей Толстой, сообщают, вздумал на обеде в одесском клубе заступаться за каких-то там инородцев. Выходит, и мы, великороссы, и они, всякие там чухонцы, армяне и полячишки, вместе считаемся полноправными членами православного государства? Да никак нельзя допустить в могучем Русском государстве разных инородных национальностей! Вы со мной не согласны?
Следовало, конечно, представиться, прежде чем вступать в разговор, но собеседник так оказался переполнен впечатлениями от газетного сообщения, что позабыл о приличиях. Толстому же вовсё было не с руки открывать себя в щекотливом разговоре, но и упустить возможность узнать стороннее мнение не хотелось. Потому он, продолжая внезапно возникший разговор, тут же возразил собеседнику:
— Вы говорите: разных национальностей в государстве допустить нельзя? Однако не кажется ли вам, что вы смешиваете государства и национальности, тогда как любой лексикон скажет вам, что это — разные вещи. Нельзя допустить в одной державе разных государств, но не от нас зависит допустить или не допустить национальностей! Армяне, подвластные России, будут армянами, татары татарами, немцы немцами, поляки поляками.
Собеседник округлил глаза:
— Это же как изволите вас понимать? Вы — за то, выходит, чтобы все они и говорили на своих языках, и имели собственные школы, а затем нас, православных, онемечили, обармянили и ополячили? Вы помните восемьсот шестьдесят третий год, к чему тогда привело заигрывание с поляками и потакание их претензиям? А мне пришлось в ту пору служить в армии в Западном крае. Там такое поднялось — своё государство потребовали поляки! И если бы не решительность генерал-губернатора Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского, светлая ему память, да твёрдость нашего императора, неизвестно, чем бы кончилось.
Чего другого, но той «решимости» Толстой не мог забыть. Острой болью пронизала его тогда весть о страшной судьбе Сераковского, того чистого и благородного Зыгмунта, с которым всего каких-нибудь два года до того он встречался в доме Герцена в Англии. Возвратившись с конгресса в Петербург, Сераковский опубликовал в «Морском сборнике» статью «Извлечения из писем о военно-уголовных учреждениях главнейших европейских государств». В статье с присущей ему энергией он обстоятельно и убедительно доказал необходимость уравнения в правах нижних чинов. А в апреле 1863 года вышел правительственный указ об отмене в армии и на флоте телесных наказаний.
Но надо было случиться такому — заступник забитого несправедливой муштрой солдата, поборник справедливости, — он, тяжело раненный, с перебитыми рёбрами, был схвачен на поле боя и, лишённый милосердия и всяческой помощи, заточен в каземат.
Мог ли он, поляк, не поддержать своих братьев, которые в самом начале 1863 года поднялись за свою свободу против позорного, унижающего их национальное достоинство российского гнёта? Рано подняли народ организаторы восстания, не успели своё стремление к вольности по-настоящему связать с помыслами лучших русских людей, понимавших, что без поддержки России Польше не разбить своих оков. Но поздно было Зыгмунту вспоминать предупреждающие слова Герцена, когда фитиль оказался зажжённым и пламя уже устремилось по нему к пороховой бочке.
В ту пору даже в самих российских правительственных верхах произошёл раскол по поводу того, как поступать с повстанцами. Великий князь и генерал-адмирал Константин Николаевич, спешно назначенный наместником в царство Польское, вместо того чтобы явить собою твёрдую власть и сразу же обозначить пределы терпимости, дабы энергично пресечь всякое проявление польской самостоятельности, на что рассчитывали многие, окружавшие российский трон, поступил совсем по-иному — стал прислушиваться к польским требованиям. За предоставление полякам более широких прав и свобод выступили и министр внутренних дел Валуев, и шеф жандармов Долгоруков, и генерал-губернаторы в Вильне Назимов и в Киеве князь Васильчиков, петербургский генерал-губернатор князь Суворов. Но перепуг при дворе оказался настолько велик, что император, не одобряя в душе крайних мер, всё же поддался панике и назначил в Вильну Муравьёва.
В своё время Михаил Муравьёв, как и его брат, полковник гвардии Александр Николаевич, оскорблённый в манеже императором Александром Первым, принадлежал к самым начальным декабристским организациям. Но если старшего брата Николай Первый наказал ссылкою в Сибирь, младший был прощён. Он не только изменил своим пылким юношеским убеждениям — оказался рьяным крепостником и противником освобождения крестьян. А приняв должность Виленского, гродненского, ковенского и минского генерал-губернатора и командующего военным округом, до конца выразил подлинную свою суть. «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, а из тех, кто сами вешают!» — заявил он.
Виселицы и впрямь возникали на всём пути следования Муравьёва по дорогам Западного края. Прибыв в Вильну, он тут же навестил тяжело раненного Сераковского и предложил ему выдать своих товарищей и такой ценой купить собственную жизнь.
В Европе поднялась буря возмущения, особенно среди военных, которые хорошо знали Зыгмунта — блестящего офицера Генерального штаба и талантливого военного публициста. Требования о помиловании посылались к царю чуть ли не из всех губерний России. Валуев, Долгоруков, Суворов, даже члены царской семьи и конечно же Алексей Константинович Толстой убеждали императора прекратить жестокие расправы.
Пятнадцатого июня Сераковскому было разрешено свидание с женой. Толстому в подробностях рассказывали, как это происходило. У кровати — стол, за которым члены суда, в дверях — шестеро солдат, столько же — в коридоре. «Боже, тебя даже не предупредили о том, что наше свидание — последнее!» — воскликнул Сераковский, посмотрев на любимую Аполлонию.
Комендант обратился к ней: «Августейший государь возвращает вашему мужу свои милости, чины, почести и посты при условии, выдвинутом генерал-губернатором Муравьёвым: открыть имена лиц, принадлежащих к Национальному правительству. Ваш муж отклонил монаршую милость, не назвал имён, и, если вы не повлияете на него, он погибнет позорной смертью на виселице».
Сквозь рыдания Аполлонии Зыгмунт, собрав последние силы, произнёс: «Я предпочитаю умереть чистым и незапятнанным. И, даже стоя под виселицей, я буду протестовать против варварства и беззакония, с которыми расправляются со мною».
Герцен в «Колоколе», вспоминая свои встречи с Сераковским, писал: «Не думал я, что передо мной будущий мученик, что люди, для избавления которых от палок и унижения он положил полжизни, — своими руками его, раненного, его, не стоящего на ногах, вздёрнут на верёвке и задушат... У кого правильно поставлено сердце, тот поймёт, что Сераковскому не было выбора, что он должен был идти со своими!.. И такая казнь!»
Эти слова своею подписью мог бы скрепить и Толстой. И он, став тогда при дворе одним из центров целой группы недовольных Муравьёвым, добился у царя отставки генерала-вешателя...
Теперь перед ним в вагоне сидел человек, который не только служил в войсках Муравьёва и сам, вероятно, расправлялся с непокорными, но и сейчас, спустя время, не переменил своих тогдашних взглядов.
Кто он — бывший поручик, штабс-капитан? — смотрел на возбуждённую физиономию соседа Алексей Константинович. Не всё ли равно, и разве мало таких, кто убеждённо верит в силу кнута и палки, полагая, что лишь этими средствами можно добиться единства России.
...Он говорил, что мавры и мориски Народ полезный был и работящий; Что их не следовало гнать, ни жечь; Что коль они исправно платят подать, Го этого довольно королю... Что если бы сравняли всех правами. То не было б ни от кого вражды.Собственные стихи из «Дон Жуана» вдруг возникли у Алексея Константиновича в голове, и он, чуть усмехаясь, произнёс их вслух. До поручика или капитана в отставке, должно быть, дошёл их смысл, поскольку он спросил:
— Из запрещённого изволите читать-с?
— Да нет, вполне разрешённые цензурой сочинения графа Толстого. Прошу прощения, я вам не представился: граф Алексей Константинович Толстой.
Широкое, почти круглое лицо соседа мгновенно побледнело, затем пошло красными пятнами:
— Так вот какой, значит, пассаж! То-то я подумал: и почему так защищаете смутьянов? Теперь понятно, что и в пьесе своей, есть слух, вы, граф, народ зовёте к бунту. Сам не читал и в театре драму вашу о царе Иване Грозном не видел. А вот-с Каткова, писателя, помню с той самой поры, о которой мы с вами толковали. Он-то — защитник всего русского и православного, каких, наверно, больше не сыскать! Как он тогда, в восемьсот шестьдесят третьем, поднимал звание русской нации!
— Может, вы хотите сказать: понижал? — не сдержался Толстой.
— Это как же, граф?
— А просто: звал сравнивать всё, понизив уровень других национальностей. А надо бы по-другому: сравнять, подняв наш, русский уровень.
Но стоило ли дальше раздражать человека, которого и сам жестокий 1863 год ничему не научил? Меж тем и тогда были русские, которые не поддались на беспардонную клевету Катковых и Муравьёвых.
Всплыла в памяти судьба другого вождя польских повстанцев — Ярослава Домбровского. Его схватили и привезли в Москву, в пересыльную тюрьму на Колымажном дворе. Московские друзья помогли ему переодеться в полушубок, юбку и платок — бабы на территории пересылки продавали съестное, и Домбровский, затерявшись в толпе, вышел за ворота. Затем — документы отставного полковника фон Рихтера, которые раздобыли те же москвичи. И наконец, с женой Пелагеей, вызволенной также русскими друзьями из ссылки в Ардатове, бывший узник на пароходе отбыл из Петербурга в Швецию...
Шестнадцатого июня 1865 года Домбровский отправил из Стокгольма в Россию письмо, адресуя его Каткову:
«Милостивый государь! В одном из номеров «Московских ведомостей» Вы, извещая о моём бегстве, выразили надежду, что я буду немедленно пойман, ибо не найду убежища в России. Такое незнание своего отечества в публицисте, признаюсь Вам, поразило меня удивлением. Я тогда же хотел написать Вам, что надежды Ваши неосновательны, но меня удержало желание фактически доказать всё ничтожество правительства, которому Вы удивляетесь, по крайней мере, публично. Благодаря моему воспитанию я, хотя и иностранец, знаю Россию лучше Вас. Я так мало опасался всевозможных Ваших полиций: тайных, явных и литературных, что, отдавая полную справедливость Вашим полицейским способностям, был, однако, долго Вашим соседом и видел Вас очень часто. Через неделю после моего побега я мог отправиться за границу, но мне нужно было остаться в России, и я остался. Потом обстоятельства заставили меня посетить несколько важнейших русских городов, и в путешествиях этих я не встретил нигде ни малейшего препятствия. Наконец, устроив всё, что было нужно, я пожелал отправиться с женой моей за границу, но, хотя жена моя была в руках Ваших сотрудников по части просвещения России, исполнение моего намерения не встретило никаких затруднений. Словом, в Продолжение моего шестимесячного пребывания в России я жил так, как мне хотелось, на деле доказывал русским патриотам, что в России при некоторой энергии можно сделать что угодно.
Только желание показать всем, как вообще несостоятельны Ваши приговоры, заставляет меня писать человеку, старавшемуся разжечь международную вражду, опозорившему своё имя ликованием над разбоем и убийством и запятнавшему себя ложью и клеветой. Но, решившись на шаг столь для меня неприятный, не могу не выразить здесь презрения, которое внушают всем честным людям жалкие усилия Ваши и Вам подобных к поддержанию невежества и насилия. Правда, удалось Вам на некоторое время разбудить зверские инстинкты и фанатизм русских, но ложь и обман долго торжествовать не могут. Толпы изгнанников наших разнесли в самые глухие уголки России истинные понятия о наших усилиях и о нашем народе. Появление их повсеместно было красноречивым протестом против лжи, рассеиваемой официальными и наёмными клеветниками, и пробудило человеческие чувства в душе русских.
Симпатия эта послужит основанием возрождения русского народа, и да будет она укором для Вашей совести, если только её окончательно не потушило пожатие царской руки...»
Через месяц письмо Домбровского напечатал «Колокол», и весь мир узнал о Каткове-подстрекателе и благородстве русских, не поддавшихся на его гнусные призывы.
Много бы я сейчас дал, подумал Толстой, чтобы объясниться насчёт моего одесского тоста. Но к чему мне начинать разговор, если мой противник от него уходит? Я открыто высказал в речи то, что думаю, и не опускаться же мне самому до брани, особенно когда мой оппонент трусливо прячется от спора. Спасибо, что не отказал поместить в своей газете объяснение по поводу запрещения «Иоанна» на одесской сцене. Что же касается стихов...
— Я постараюсь вам, Михаил Никифорович, кое-что переслать через нашего общего друга Маркевича. Однако заранее прошу прощения, если что-либо покажется вам не совсем, на ваш взгляд, подходящим.
Пожал протянутую руку, поймал взглядом мутность водянисто-голубоватых глаз и тут же подумал о том, что с трудом удерживает себя от того, чтобы не рассмеяться, как когда-то, уходя от Дубельта. Ибо в голове помимо воли, как-то сами собой, начали возникать и составляться стихотворные строчки, которые, подумал он, теперь обязательно следовало бы послать Маркевичу:
Друзья, ура единство! Сплотим святую Русь! Различий, как бесчинства, Народных я боюсь. Катков сказал, что, дескать. Терпеть их — это грех! Их надо тискать, тискать В московский облик всех! Ядро у нас — славяне; Но есть и вотяки, Башкирцы, и армяне, И даже калмыки; Есть также и грузины (Конвоя цвет и честь!), И латыши, и финны, И шведы также, есть... Страшась с Катковым драки, Я на ухо шепну: У нас есть и поляки. Но также: entre nous; И многими иными Обилен наш запас; Как жаль, что между ними Арапов нет у нас! Тогда бы князь Черкасской, Усердием велик, Им мазал белой краской Их неуказный лик; С усердием столь смелым И с помощью воды Самарин тёр бы мелом Их чёрные зады; Катков, наш герцог Алба, Им удлинял бы нос, Маркевич восклицал бы: «Осанна! Аксиос!»20
Едва в конце широкой липовой аллеи раздался перезвон дорожных бубенцов и тройка устремилась к дому, первым из дверей на крыльцо вышел Толстой. Выпрыгнувший из коляски Андрейка бросился к нему и повис на шее.
— Ну-ка, дай тебя как следует рассмотреть! — радостно воскликнул Алексей Константинович. — Какой же ты, право, красавец. Софи, посмотри, дорогая, как вытянулся и возмужал наш гардемарин. Быстро, быстро, Андрейка, в свою комнату — и переодеваться! Сразу же едем в лес — дичь ждать не станет.
— Тол-стой! — недовольно и строго протянула Софья Андреевна. — Ты не находишь, что поступаешь неразумно? Мальчик только с дороги, погляди, как он бледен, да и ты сам едва перемогаешься со своим свистящим дыханием. Сейчас — всем к столу! И ты, Андрейка, чтобы вышел в парадной форме.
Семнадцатилетний Андрей и в суконной матросской форме, в которой был в дороге, выглядел высоким, ладным красавцем, а когда явился к столу в чёрном мундирчике, тётя Софи и мисс Фрезер не смогли удержать восторга. Были они обе в вечерних строгих туалетах. Доктор Кривский, Андрейкин отец Пётр Андреевич и дядя Николаша — во фраках. Неужели специально в честь его приезда? Ах да, Алексей Константинович писал ему, что с некоторых пор Софи завела в краснорогском доме порядок — к обеду и ужину всем являться как на приём. Исключение допускалось лишь для самого хозяина — Алексей Константинович мог приходить в столовую так, как и работал в своём кабинете, — в домашней куртке, и рядом с прибором ему позволялось держать листок бумаги, чтобы он мог в любой момент записать возникшую в его голове фразу, предназначенную для его сочинений, или стихотворный экспромт.
Разговор за обедом возник семейный — Андрейку наперебой принялись расспрашивать, как он провёл зиму и весну в своём морском корпусе.
Тётя Софи к тому же всё время сокрушалась бледностью его лица, которую особенно подчёркивали чёрный цвет мундира и колеблющийся свет многочисленных свечей. Андрейка же, отвечая, не сводил глаз с тёти, отца и дядьёв, с сестёр Софьи и Нины и брата Юры, которым он несказанно был рад.
Как быстро летит время. Кажется, вчера это было: пятилетний мальчик с тоненькой шеей, в коротеньких штанишках и белой блузе с ярким голубым бантом, приехав с отцом, сёстрами и братом, с учителями и гувернёрами из пензенских степных краёв, впервые в своей жизни увидел огромные, бескрайние леса и даже растерялся. «У-у, — заплакал он, уткнувшись лицом в подол теги Софи, — страшно посмотреть вверх: неба не видно». Действительно, макушки деревьев даже в широких аллеях так густо сплелись в вышине, что закрыли собою солнце и облака. Но таинственная жизнь леса — разных козявок, муравьёв, букашек, наконец, ящериц, ежей и мелких грызунов — вскоре так увлекла Андрейку, что он всё дальше и дальше уходил от дома за деревья, в кусты и даже в чащи, всякий раз делая для себя потрясающие открытия. То он увидел огненно-рыжую белку, мелькнувшую с ветки на ветку, то поразила его воображение огромная, с длинными крыльями птица, бесшумно парящая в поднебесье, то зачаровывали яркие, никогда не виданные им прежде, точно отлитые из фарфора, мелкие белые чашечки ландышей.
А потом дядя Алёша — большой, добрый, с мягкой пушистой бородой, о которую приятно было потереться щекой, — повёз его с собой в лес, куда сам часто ездил с собаками и ружьями и откуда всегда привозил больших чёрных птиц с красными хохолками и бровями. Андрейка взял в руки ружьё, когда ему исполнилось двенадцать лет, и он уже много раз бывал со взрослыми на охоте и видел, какого искусства стоило им подстеречь дичь, затем точно в неё прицелиться и выстрелить и только тогда позволить себе огласить лес восторженным и громким криком победителя. Первый свой трофей — глухаря — Андрей с гордостью вынул из торбы здесь, в Красном Роге, в присутствии многих гостей, и для него это был ни с чем не сравнимый праздник. И на лице дяди Алёши в тот момент был написан подлинный восторг, когда он, самый знатный охотник, должно быть, во всей России, поскольку убил собственноручно, как говорили, сорок медведей, смотрел на сияющую счастьем, очень довольную и в то же время скромную мордочку юного племянника.
В тот день, без сомнения, Алексей Константинович радовался успехам начинающего стрелка, но, наверное, он в то же время видел на тенистых дорожках парка и себя, такого же молодого и гордого своими первыми охотничьими достижениями. И теперь здесь, в столовой, висит портрет почти подростка Алёши Толстого с ружьём и ягдташем, каким когда-то увидел его великий Карл Брюллов и запечатлел на холсте.
Этот портрет, эти стены, отделанные тёмными дубовыми панелями, сколько помнит себя Алексей Константинович, всегда видели за массивным столом самых родных и близких ему людей. В детстве это были маменька и дядя, который заменил ему отца, — славный дядя Алёша, научивший его постигать тайны окрестного леса, лугов, садов и парка и открывший перед ним священную магию слова.
Ему тоже было пять лет, когда, наверное, в первый раз он приехал с маменькой и дядей в Красный Рог. До этого они жили в нескольких десятках вёрст отсюда — в Погорельцах. Именно там он увидел и полюбил деревенский быт, вольную природу, окружавшую старый, уютный деревянный барский дом.
Но вдруг однажды в конце зимы в Погорельцах случилась какая-то необъяснимая ему суматоха, и маменька с дядей стали спешно собираться, распоряжаясь укладкой вещей. В разговорах тогда всё чаще упоминались слова «Красный Рог», «Почеп», «благодетель», «граф» и иногда — «отец».
И он ездил в Почеп и помнит множество людей, стройное пение огромного хора в церкви и гроб, в котором лежал человек, которого, как он понял, звали благодетелем и отцом.
После тех дней, приведших за собою бурную весну, они и поселились надолго в Красном Роге, совсем рядом с Почепом. Здесь были свои, не уступавшие погорельским, картины и книги, древние скульптуры. Постепенно сюда перекочевали и многие сокровища искусства из Погорельцев.
Дальше жизнь перенеслась в Москву и Петербург, в Пустыньку под столицей, начались путешествия по европейским городам, но нет-нет да приводили дороги в Красный Рог. И вновь за столом сходились люди самые родные — братья Жемчужниковы, например. А ныне — и новая семья: Софи и её самые близкие.
Когда-то верилось: его и Эгерии родственные корни соединятся. Ещё в далёком военном году Лев Жемчужников, навестив в Одессе выздоравливающих братьев, отсюда, из Красного Рога, выехал в село Линовицы, чтобы тайно увезти с собой свою любовь — крепостную девушку Ольгу. Владельцы не хотели её отпускать, желая выдать за Льва свою дочь. И только решимость и смелость позволили юноше совершить подвиг — из-под носа помещика и подкупленных им стражников выкрасть свою будущую жену. Здесь, в Красном Роге, графиня Анна Алексеевна Толстая благословила племянника и снабдила его тысячью рублями, чтобы он смог выехать с женою за границу. Но следовало где-то переждать, раздобыть на Ольгу необходимые бумаги. И тогда Софья Андреевна предложила помощь — она укрыла беглянку Ольгу в родном Смалькове, а потом выписала ей паспорт как своей крепостной. Смелая женщина, она понимала, что идёт на преступление по закону, но ни на минуту не поколебалась, чтобы только помочь влюблённым.
С тех самых пор Лев и Ольга во Франции. За границей и Жемчужников Алексей. Но почему же вдруг возник холодок в их некогда сердечных и родственных связях, почему они, разделённые расстоянием, и в душе оказались отдалёнными от Толстого и Софьи Андреевны?
Не изменили юношеским убеждениям братья Жемчужниковы. Как и Толстой, они порвали с ненавистным чиновнизмом и отдались только служению музам, воплощая в своих творениях неизменную преданность независимости и свободе.
От Льва приходили в Россию редкие письма. И как радостно было, читая их, сознавать, какая высокая и чистая душа жила в нём! С какой нежностью вспоминал он свою любимую Малороссию! «Проживая в болотном и туманном Питере, я прозябал, и ожил, выехав в малороссийские степи, дохнув воздухом Чёрного моря, слившись с жизнью народа, запев с ним одну песню! Всё это пробудило во мне человеческие стороны, душа рвётся высказаться, творить!.. До этого у меня не было сил, я едва ходил, я был ребёнком, не умевшим объяснить того, что желал...» «При получении денег я всегда порчу себе кровь; меня берёт досада, что не только я обираю мужиков, но ещё при этом наживают банкиры, которые и без того сыты по горло и утопают в роскоши...» «Вы убедились в неспособности моей на том основании, что до тридцати лет я не прославился, не удивляю и не восхищаю публику. Но я начал поздно, и где и как начал?.. Вы просто испугались моей бедности и хотели меня взять на хлеба — но отгоняю от себя я это искушение и словами Христа отвечу: «Не хлебом единым живёт человек». Положим, что я никогда не достигну славы, что мои занятия бесполезны, и я, покупая холст, отнимаю кусок мяса у моего семейства; но иначе я не могу жить. Я работаю не для славы, не для барыша — это потребность моего духа, моя жизнь! Как отнять это у себя; как изгнать эту жгучую жажду? Разве тот, кто пишет, — пишет для славы? Разве цель его быть звездою, греметь в свете, и т. д.?»
Узнав случайно о месте пребывания Алексиса, Толстой написал ему: «Не знаю, ты катковист или нет, а я нет, и вот тому доказательство: «Песня о Каткове, Черкасском, Самарине, Маркевиче и о арапах». Есть у меня многое и в этом и в сериозном роде, что бы я хотел тебе сообщить, но где и как? Дистанция, чёрт возьми, огромного размера! А всё-таки я тебя люблю и обнимаю...»
Когда-то неугомонные озорники, но ценившие более всего в людях порядочность и внутреннюю, душевную деликатность, они боялись коснуться главного, что их, вероятно, развело, — вторгнувшуюся вдруг в жизнь их любимого двоюродного брата бесцеремонность родственников Софьи Андреевны.
Всегда ведь так случалось и случается: родственники ревнуют друг к другу, и каждому клану кажется, что ему незаслуженно изменяют в пользу другого... Но можно ли было допустить, что братья жены, так любезно и открыто когда-то принявшие в Смалькове и самого Толстого, и Льва Жемчужникова, захотят соединить свою судьбу с новым родственником, чтобы попользоваться всласть его состоянием? Он от щедрого сердца пригласил их всех переехать сначала в Пустыньку, затем сюда, в Красный Рог, чтобы жить вместе, как он и привык, — большой и дружной семьёй. И поначалу несказанно обрадовался тому, что Пётр Андреевич, а за ним и Николай Андреевич Бахметевы вызвались помогать ему, Толстому, в управлении имениями. Но вот тут-то и обнаружилось: новые родственники, промотавшие по своей безалаберности Смальково, принялись крушить и зорить чужие родовые гнезда.
Намекал на явную нечистоплотность Бахметевых Алексей Жемчужников ещё перед отъездом за границу, да понял, что недолго вызвать и гнев Софьи Андреевны, а Толстой этого, конечно, не желал.
Случайно как-то обратил внимание на «свинства» Бахметевых цепкий хозяин, которому нельзя было не поверить, — Фет. Афанасий Афанасьевич, приехав в Красный Рог, увидел однажды на лугах странную картину: стояли стога, сметанные не только прошлым летом, но два и три года назад. «Почему такие запасы сена?» — осведомился поэт, сам отменный хозяин. «Да на складах места не хватает, — был ответ Петра Андреевича. — А здесь постоят, а потом сжигаем». — «Но прямая же выгода — продать! — изумился Фет. — Иначе можно и в трубу вылететь». Управляющий безразлично махнул рукой, Толстой же поспешил переменить тему разговора.
Конечно, сам Толстой был никудышным администратором и агрономом. В таком случае можно было бы на должность управляющего подыскать человека толкового и расторопного, а главное, честного. Но как отставить от дела братьев Софи, если одно её давнее желание — делать добро семье, которой когда-то она невольно принесла горе?
А разве и он сам не привязан к Андрейке, к этому нежному, чистому человечку, который так нуждается в помощи и добром совете старшего друга? Кто ему укажет истинную дорогу, если когда-нибудь он остановится на перепутье или столкнётся с отвратительными мерзостями жизни? Родной отец? Но достаточно услышать рассуждения этого господина, чтобы почувствовать, как холодные мурашки пробегают по спине. Откуда и как в его когда-то открытую душу поселились чванливая самоуверенность и пренебрежительная глухота даже к собственным детям и людям, к которым он близок?
Ах, Господи, что же это такое происходит здесь, в доме, где когда-то первое, что он познал, было благоговение к выражению человеческого духа — к искусству?
В столовую внесли, поставили на стол блюдо ароматно пахнущих любимых котлет Петра Андреевича, каждая из которых была завёрнута в промасленную бумагу. «Котлеты в папильотках», — с восторгом называл он это кушанье. Гурман специально распорядился использовать для их приготовления бумагу из папок Алексея Алексеевича Перовского, что оказались в шкафу.
Толстой, увидев рукописи дяди-писателя на службе кулинарии, схватился за сердце: «Боже, да как вы посмели?» — «А что ж, по-вашему, граф, лучше переводить чистые листы? Бумага ныне дорогая, а эти уже отслужили свою службу...»
Теперь вновь паровой чесночный запах вкусных жареных котлет ударил в ноздри Петра Андреевича, и он, встав со стула, чуть не уронив на пол тарелки, принялся через стол накладывать себе и Андрейке:
— Бьюсь об заклад — таким кушаньем вас, будущих моряков, не кормят в корпусе. А ну-ка, ну-ка, отведай...
Он прихватил пальцами папильотку и бросил её на скатерть.
— Опять попался лист писателя Атония Погорельского! — хохотнул он. — Но ничего: вы, граф, полагаю, сочините что-нибудь значительнее вашего дядюшки...
Конечно, следовало немедленно встать, что он бы и сделал за любым другим столом. Но как оставить место под взглядом Эгерии и на глазах у Андрейки? Ты живёшь не для себя, не только ради своих собственных чувств, а во имя того, чтобы заставлять сердце других быть чище, добрее и благороднее, — так когда-то учил его дядя Алёша вот здесь, в этом самом доме. Теперь он обязан передать всё, что сам постиг в человеческих отношениях, хотя бы этому юноше, который сидит сейчас перед ним и который входит в большую жизнь, где и без того на каждом шагу — мерзость и обман, стяжательство и хитрость, наглость и нечестность. И не только где-то там, далеко, а буквально рядом... Но как сказать об этом, чтобы не ожесточить душу, не огрубить и не оскорбить её, не сделать ненароком такой же нечувствительной, как, положим, у собственного его отца? На душе же Андрейки сейчас неспокойно, он намекал о том в своём последнем письме. Потому он, Толстой, и хотел тут же, с дороги, увезти Андрейку в лес, чтобы выслушать его признание. Однако как подойти к чужим чувствам, не ранив их?
— Мой милый друг Андрейка, вдвоём с Эгерией мы обсудили твоё письмо к нам. Ты хочешь бросить начатое — оставить морской корпус. Но почему и зачем?
Андрейка шёл рядом опустив голову, и потому его мальчишечья шея в сумерках здесь, на аллее парка, казалась ещё тоньше и болезненнее.
— Этого требуют обстоятельства, Алексей Константинович, — произнёс он кратко.
— Видишь ли, друг мой, кроме обстоятельств, от которых человек якобы независим, у него должно быть такое свойство, как честь. Оно-то в первую очередь и обязано определять наше поведение. В одном лишь случае мы согласились бы взять тебя из училища, если бы там происходило что-нибудь такое, что мешает тебе оставаться именно честным человеком. Давай разберёмся в твоём положении, чтобы хорошенько понять друг друга.
Толстой положил руку на плечо юного друга и притянул его к себе.
— Я могу представить такую картину. Положим, твои товарищи не вполне совестливы, даже, может быть, развратны. Иными словами, они кутят, как кутят многие молодые люди. Это нехорошо, это скверно, но это ещё не причина оставлять училище, потому что во всяком другом училище непременно найдутся развратные и бессовестные товарищи. Значит, везде, куда бы ты ни поступил, ты должен зависеть от самого себя, а не от других. Но если их разврат такого рода, что он прямо задевает тебя и что тебе приходится не только не принимать в нём участия, но защищаться от него, — тогда нечего думать, тогда мы возьмём тебя из училища и определим в другое.
Жёлтые полосы света, падающего из окон дома и флигеля, косо расчерчивали дорожку, и Андрейке казалось, что это не свет и тень чередуются между собой, а в нём самом борются два желания — полностью распахнуть перед Алексеем Константиновичем свой смятенный ум или, наоборот, глубоко упрятать в сознании собственные раздумья, чтобы не огорчать ими близких. Но нужны ли сейчас его слова, если дядя Алёша и без них, казалось, всё понимал?
Господи, он почти ничего не сказал ни тете Софи, ни дяде Алёше, но тонкая душа Алексея Константиновича безошибочно определила причину его несчастий — долги, которые он вынужден был сделать, и теперь мучился. Как бы повёл себя отец, решись Андрейка поведать ему о своих несчастьях? Наверное, поднялась бы буря упрёков, нравоучений и оскорблений. Тяжелее всего оскорбления эти и упрёки слышать именно от человека, который сам не отличается чистоплотностью и щепетильностью, который не просто легко делает долги, но, главное, бесцеремонно и безнаказанно залезает постоянно в чужой карман. Какая же вера его упрёкам и нравоучениям, как смог бы он облегчить душу? А здесь всего и нужна-то вера в то, что провинность не велика, что человек поступил дурно не потому, что равнодушен к добру, к правде и неправде, что душа его грязна, а лишь в силу минутной слабости, которую он сам хочет в себе преодолеть и потому просит понимания.
— Бывают в жизни случаи, когда важно не тебе самому сказать, что с тобою произошло, а другому отгадать состояние твоей души, — вдруг высказал Толстой то, о чём думал сам Андрейка. — Ты слаб, но душа твоя в высшей степени честна. Я не боюсь за тебя, я верю тебе. Итак, если ты не провинился, не отчаивайся, но употреби все усилия, чтобы не впадать в ту же тину. Иными словами, ты должен знать, что ты слаб, но не должен думать, что нельзя превозмочь своей слабости.
Сырость, надвигавшаяся из глубины парка, проникала под лёгкий парадный мундирчик, но где-то внутри поднималась горячая волна, которая всё сильнее и сильнее охватывала тело Андрейки. Волна эта, казалось, совсем его обожгла, когда он вдруг услышал от Алексея Константиновича рассуждения, к которым сам в последнее время приходил, — как человек доходит до края, за которым уже бездна и нет дороги назад, и как избежать того, чтобы не попасть в пропасть? До такой гадости, конечно, доходят не вдруг, а понемногу, но надобно быть, вероятно, очень строгим к себе самому и не позволять себе ни малейшего послабления, иначе и не заметишь, как выйдет из тебя самый гадкий человек. Но какое качество следует в себе постоянно взращивать в самую первую очередь, чтобы уметь различать в любом своём поступке, что хорошо и что плохо, что достойно честного и воспитанного человека, а чего надо бежать?
— Я бы назвал это человеческое свойство деликатностью, — ответил на вопрос Андрейки Толстой. — Да вот тебе простейший пример. Ты гуляешь в чьём-нибудь саду, и хозяин позволит тебе сорвать у него цветов, и если ты сорвёшь два-три цветка, то это деликатно. Но если ты оборвёшь у него все цветы, то это неделикатно; а если ты, сверх того, напакостишь у него в саду, то это не только не деликатно, но и бесчестно.
Они только что пересекли яркую дорожку света и вступили в темноту аллеи. И Андрейка подумал, что хорошо, что Алексей Константинович не видит, как жаркая волна вновь прилила к нему и он, наверное, густо покраснел. Это было проявление стыда. И стыда не только за самого себя, но и за тех, о ком он сегодня думал, — за отца, за товарищей по морскому корпусу, которых до сегодняшнего дня он мог лишь осуждать, как самого себя. Но, наверное, не менее важно уметь каждого из них понять, чтобы разобраться и в их, и в своих собственных поступках и заблуждениях. Без такого понимания человек никогда не приблизится к истине и правде. И как хорошо, что эту простую, но мудрую мысль ему открыл сегодняшним вечером в разговоре умный и добрый дядя Алёша — самый, наверное, деликатнейший человек, какими непременно должны стать когда-нибудь все люди на земле. Только тогда прекратятся бесчестья и разврат, люди станут совестливыми и честными. Но для того чтобы всем стать такими, следует в каждом своём поступке научиться зависеть от самого себя, а не от других.
21
За окном сёк дождь, и острые, колючие капли, ударяясь в стекло, соединялись в извилистые ручейки, из-за которых трудно было разглядеть, что происходило на улице.
Впрочем, Тургенева парижские улицы давно уже не интересовали — затянувшийся приступ подагры сделал его пленником отеля. Закутавшись в чёрный дорожный плед, с седой лохматой головой, он, напоминавший сову, насупившись сидел в кресле. Однако весь преобразился и даже попытался встать, когда в комнату вошёл Толстой.
— Простите, дорогой Алексей Константинович, что заставил вас с вашей астмой подниматься ко мне, старой развалине. Но я так рад вас видеть! Как милейшая Софья Андреевна, как её здоровье? Ах, какая безжалостная мельница — жизнь!
Так и превращает людей в муку. Нет, просто в сор... В сор, в пыль.
— Напрасно так, Иван Сергеевич! Нам с вами и шестидесяти ещё не стукнуло.
— Это на родине, а не на чужбине — годы не годы, — ещё плотнее запахнул плед Тургенев. — Как я завидую вам, затворнику Красного Рога! Уж если и наезжать в Европу, то лишь для того, чтобы избавляться здесь от болезней. Мои же недуги держат меня здесь так крепко — не пускают домой!
Толстой знал: тяжелее даже самых невыносимых физических страданий ощущение одиночества.
Чего он достиг, к чему пришёл этот, пожалуй, самый известный писатель земли Русской? Вечные кочевья из города в город по чужеродной земле — и короткий отдых в пути на краю не им самим свитого гнезда... Тебе портят жизнь чужие люди, захватившие твой дом. Но каково быть самому приживалкой и в чужом доме, и в чужом сердце! А там, в России, которой бредит Тургенев в бессонные ночи, чьё мокрое дыхание степей и полей чувствует за пеленой парижского дождя, — люди, его не забывшие, его несказанно любящие.
Да вот самому ему, Толстому, совсем недавно подвернулся под руку роман «Отцы и дети», и он не мог не признаться себе, с каким неожиданным удовольствием его вновь перечитал.
Какие же звери — те, которые обиделись на Базарова! Они должны были бы поставить свечку Тургеневу за то, что он выставил их в таком прекрасном виде. Если бы я встретился с Базаровым, уверен, что мы стали бы друзьями, несмотря на то что мы продолжали бы спорить.
Неужели ищущая, отрицающая холопское пресмыкательство перед закосневшими традициями и утверждающая трезвое понимание жизни молодёжь не разглядела в Базарове себя? Гнев Кирсановых понятен: они против всяческих перемен. Но эти-то, кто числит себя будущим нации? Что ж, всё верно и тут — тысячу лет сидит под балдахином русский народ и боится лишь одного: как бы не стало хуже. С татарщиной это к нам пришло — созерцательность вместо деяния и довольство малым. А тут — бунт мысли!..
— Э, десять лет уже минуло, как вышел роман, а всё не могут мне простить Базарова, — слабо махнул рукой Тургенев. — То из одного, то из другого лагеря только и шикают: «Вы, вы, вы!.. Да как вы посмели, неужели для вас ничего нет святого?..» Впрочем, вы, Алексей Константинович, знаете всё это по себе, по вашему «Иоанну». Их не вразумить, что я, художник, ничего не выдумал, а изобразил то, что увидел в действительности. Кстати, я встретил похожую фигуру врача как раз перед нашей с вами поездкой в Англию. Помните? Там и начал делать первые наброски романа. Я никогда не скрывал, что Базаров — моё любимое детище, на которое я потратил, пожалуй, все находящиеся в моём распоряжении краски. Да если хотите, за исключением воззрений на искусство, я разделяю почти все его убеждения! А мне — «карикатура»!
Рядом с креслом на столе стоял портрет Герцена под стеклом и в тонкой, красивой раме красного дерева. Тургенев повернул к нему лицо:
— Даже он, Александр, не поверил в мою искренность. Ты, писал мне, сильно сердился на Базарова, с сердцем карикировал его, заставлял говорить нелепости, хотел его покончить «свинцом», покончил тифусом, а он всё-таки подавил собой и пустейшего человека с душистыми усами, и размазню-отца, и бланманже Аркадия!
Так всегда случается с истинными произведениями искусства, согласился Алексей Константинович, каждый находит в них то, что отвечает его опыту и сознанию. Прав Тургенев, так было с его драмой «Смерть Иоанна Грозного», в которой каждая сторона осудила лишь неприемлемую ей тенденцию.
Чёрт знает чего хотят от нас, художников! Искусство уступило место административной полемике, и писатель, не желающий подвергнуться порицанию, должен нарядиться публицистом, подобно тому как в эпохи политических переворотов люди, выходящие из своих домов, надевали кокарду торжествующей партии, чтобы пройти по улице безопасно.
— Однако я не могу не упрекнуть врагов искусства в некоторой близорукости, — попробовал закончить свою мысль Толстой. — Они как будто забыли, что уяснение истин, которые так сильно и так справедливо занимают их, есть задача философии, а облечение их в художественную форму — задача искусства. Впрочем...
— ...искусство всегда тенденциозно, поскольку оно отражает жизнь, — довершил фразу Толстого Иван Сергеевич. — Вы это хотели сказать?
— Более или менее похожее, — встал с кресла Толстой. — В том, что вы высказали, увы, одно из противоречий бытия, подмеченных классической философией. Меж тем мне всё-таки хотелось бы отделить одно от другого — точнее, определить и философии, и искусству своё место. Начнём наши рассуждения хотя бы так...
Велика заслуга гражданина, который путём разумных учреждений возводит государство на более высокую степень законности и свободы. Но свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться на внутреннее сознание народа; а оно зависит не от законодательных или административных мер, но от духовных стремлений, которые вне всяких материальных побуждений. Удовлетворение этих стремлений столь же важно для духовной стороны человека, сколь важны для его физической стороны воздух, пища, одежда и прочее.
Чувство прекрасного в большей или меньшей степени свойственно всякому народу, и хотя может быть заглушено и подавлено в нём внешними обстоятельствами, но не иначе как в ущерб его нравственному совершенству. Тот народ, в котором чувство прекрасного развито сильно и полно, в котором оно составляет потребность жизни, — тот народ не может не иметь вместе с ним и чувства законности, и чувства свободы. Он уже готов к жизни гражданской, и законодателю остаётся только облечь в форму и освятить уже существующие элементы гражданственности. Не признавать в человеке чувства прекрасного, находить это чувство роскошью, хотеть убить его и работать только для материального благосостояния человека — значит отнимать у него его лучшую половину, низводить его на степень счастливого животного, которому хорошо, потому что его не бьют и сытно кормят.
— Может быть, Иван Сергеевич, я несколько сумбурно изложил свои мысли, — заключил Толстой. — Мне лишь хотелось подчеркнуть главную нить своих рассуждений: художественность и гражданственность всегда взаимосвязаны. Эти два чувства должны жить рука об руку и помогать одно другому. Их можно сравнить с двумя колоннами храма или с двумя колёсами, на которых движется государственная колесница. Храм об одной колонне непрочен, колесница об одном колесе тащится на боку. Однако тут ещё вот какая зависимость. По моему глубочайшему убеждению, гражданственность может существовать без чувства прекрасного, но чувство прекрасного в своём полном развитии не может проявляться без чувства свободы и законности.
— Потому художник в первую очередь и должен бороться за свободу вместе со своими героями и своим народом! — подхватил Тургенев. — Но как? Как мой Рудин, со знаменем в руках на баррикаде, или как Базаров, ниспровергая в жарких словесных баталиях старый, отживающий мир? Впрочем, в глазах определённого класса это одно и то же. Помните поджоги в Петербурге и как меня чуть ли не к суду требовали: «Вот они, ваши Базаровы, их рук дело!»?
Шелестенье нудного ноябрьского дождя за окнами прекратилось, из-за тучи выглянуло солнце, и казалось — лица собеседников враз помолодели, разгладились от морщин. Щёки Алексея Константиновича даже порозовели, но он знал — то очередной прилив крови, который завершится жестокой болью, будто тебя прижигают раскалённым железом. Он откинулся на спинку кресла, минуту помолчав и зажмурив глаза, словно усилием воли отгоняя страдания, готовые вцепиться в него злым и бешеным зверем.
— Мы потому могли бы стать друзьями с вашим Базаровым, — наконец произнёс Толстой, — что он чист и, как это ни странно, имея в виду его резкость и бесцеремонность, — внутренне добр. Кажется, вы, Иван Сергеевич, однажды сказали: все истинные отрицатели, каких вы знали, — Белинский, Герцен и другие — происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом, по вашей мысли, заключается великий смысл: это отнимает у деятелей, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни. Именно такие люди и мне по душе. Но те, кто когда-то провоцировал петербургские пожары и указывал пальцем на Базаровых, кто и теперь, играя такими святыми призывами, как обновление жизни, зовёт фактически к её разрушению, те не только не честны и не добры, но преступны. Не для пользы народной, а лишь ради своей корысти, ради торжества своих схоластических идей, часто называемых социалистическими и коммунистическими, они готовы перевернуть весь мир вверх дном, затопив его в крови. Не хотел бы быть пророком, но сердце сжимается предчувствием бедствий, перед которыми могут померкнуть и дела Грозного.
— Вы о бреднях Нечаева? — спросил Тургенев.
— Если бы то были лишь бредни! А десятки его последователей три года назад на скамье подсудимых? А кровь убиенного им студента, а «Катехизис революционера», от параграфов которого волосы встают дыбом?
Летом 1871 года Россия и весь мир были потрясены судом над участниками революционной террористической организации «Народная расправа», состоявшимся в Петербурге. Сам зачинщик подпольной группы и убийца соратника-студента, несогласного с его человеконенавистнической программой, Сергей Нечаев, бросив обманутых им юнцов на произвол судьбы, скрылся за границу. Его же «Катехизис», зачитанный в суде, поразил фанатизмом и цинизмом.
«Катехизис революционера», требовавший ниспровержения существующего государственного строя, на самом деле прокламировал полное презрение к общественному мнению и человеческой жизни, к нравственности и морали. «У каждого посвящённого, — требовал «Катехизис», устанавливая неравенство в рядах организации, — должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвящённых, на которых он должен смотреть как на часть революционного капитала, отданного в его распоряжение». «Революционер обязан притворяться, чтобы проникать всюду — в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец». Значит, член «Народной расправы» — человек без убеждений и чести, без общепринятых среди человечества правил, готовый на мерзость, подлог, обман, грабёж и убийство? Даже на расправу со своими же товарищами? На насилие и слепое повиновение тому, кто выше тебя по иерархической революционной лестнице? Да, именно так, ибо в «Катехизисе» сказано: «Тайну удерживать страхом». Террор против тех, кто мыслит иначе, чем ты, и террор — против своих же, если у кого-то возникнет даже сомнение...
— Это всё друг моей юности Мишель Бакунин[53], его перо, его слог и его мысли, — вздохнул Тургенев, когда вслух припомнили фразу за фразой из того, что обнародовал «Правительственный вестник» в 1871 году, изо дня в день освещая судебный процесс по нечаевскому делу. — Нечаев заблаговременно улизнул и оказался в объятиях у Бакунина. Нечаев, конечно, уголовник, но врал Бакунину и сам верил, что создал в России организацию, которая только и ждёт отсюда, из-за границы, сигнала, чтобы поднять бунт на всю Россию. Вот и сочинили вдвоём программу, которую потом, как раз перед судом в Петербурге, подкинули молодым людям, ни сном, ни чохом не подозревавшим об истинных целях так называемой «Народной расправы». Герцен, тот безошибочно почуял в «тигрёнке», как называли Нечаева Бакунин и Огарёв, провокатора революции. И — вы знаете Искандера[54] — тут же провёл черту между собой и Бакуниным. Не попадался вам, случайно, изданный в Женеве года три назад сборник посмертных статей Герцена? Так вот там — статья «К старому товарищу». К Бакунину, значит...
После встречи с Герценом на острове Уайт Толстой не раз возвращался мыслью к этому человеку, покорившему его и писательским талантом, и глубочайшим умом. Куда он, свободный духом, пойдёт далее в своих раздумьях, хотелось узнать Алексею Константиновичу, когда читал его статьи или работы Чернышевского и его последователей, встречался во Франции и Италии со сторонниками социалистических и коммунистических теорий. Напитанные всевозможными учениями о свободе, равенстве и братстве, иные революционисты напоминали собой локомотив, слишком жарко натопленный, исходящий паром, но находящийся, однако, вне рельсов.
Образ этот, кажется, принадлежал Герцену. Но как точно он выражал взрывоопасную сущность Бакунина, который в исступлении воскликнул: «Кроме царя, его чиновников и дворян, стоящих, собственно, вне мира или, вернее, над ним, есть в русском народе лицо, смеющее идти против мира: это разбойник. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России — первые бунтовщики, первые революционеры в России, Пугачёв и Стенька Разин, были разбойники...»
«Новый водворяющийся порядок, — утверждал прямо противоположное Герцен, —должен явиться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти всё, что в нём достойно спасения, но оставить на свою судьбу всё немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании».
Нет, недаром он когда-то выделил роман Герцена, противопоставив ему целый ряд писателей. Было что-то в первом же творении Искандера, которое прочёл залпом, родственное и ему. Ну разве не те же самые мысли о том, что не хлебом единым жив человек и не к одной животной сытости он стремится, жили в душе и Герцена, и его, толстовских, раздумьях?
Теперь Тургенев напомнил о статье «К старому товарищу», которую знал Толстой и которая, на его взгляд, явилась как бы завещанием великого мыслителя, объединившего в своих исканиях и выводах опыт России и Запада, опыт многовекового стремления народов к свободе и счастью.
«Насильем и террором, — писал Герцен, — распространяются религии и политика, учреждаются самодержавные империи... насильем можно разрушать и расчищать место — не больше... Петрограндизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдёт. Новые формы должны всё обнять и вместить в себе все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь всё согласовать — к общему благу...
Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идёт по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом с дельными...
Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведёт к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Обойти процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе...
Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляет вечную необходимость каждого шага вперёд?..
Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы...
Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти — кроме одной...
Я не верю в серьёзность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, — проповедь, равно обращённая к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде сапёров разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам...
Дико необузданный взрыв... ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа к народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времён, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила потребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях... с начала цивилизации...»
Петрограндизм — насильственные преобразования, совершавшиеся Петром Великим. С них началось. Ныне нетерпеливые зовут к полному деспотическому перекрою мира.
Ну конечно же разгул переворотов, разгул уничтожения и не даёт покоя разбойным головам. Они готовы всё стереть на земле и уничтожить, всё отнять и поделить. Лишь когда будет сметено всё достигнутое человеческой цивилизацией, наступит, по их разумению, пора всеобщего благоденствия.
Порой весёлой мая По лугу вертограда. Среди цветов гуляя, Сам-друг идут два лада... «Здесь рай с тобою сущий! Воистину всё лепо! Но этот сад цветущий Засеют скоро репой!» «Как быть такой невзгоде! — Воскликнула невеста. — Ужели в огороде Для репы нету места?» А он: «Моя ты лада! Есть место репе, точно, Но сад испортить надо Затем, что он цветочный!» Она ж к нему: «Что ж будет С кустами медвежины, Где каждым утром будит Нас рокот соловьиный?» «Кусты те вырвать надо Со всеми их корнями, Индеек здесь, о лада, Хотят кормить червями!» Подняв свои ресницы, Спросила nуn невеста: «Ужель для этой птицы В курятнике нет места?» «Как месту-то не быти! Но соловьёв, о лада, Скорее истребити За бесполезность надо!..»Удивительное совпадение — ещё не зная о герценовском «завещании», Толстой написал эти стихи. Сатиру. Но в ней — о том же, о чём предупреждал Герцен.
Да, прав он был ещё в «Дон Жуане», сказав устами Лепорелло:
Человек Молиться волен как ему угодно. Не влезешь силой в совесть никому И никого не вгонишь в рай дубиной...Зажгли свечи и принесли ужин. Толстой только теперь вдруг обрадованно подумал: странно, но чудовищная боль сегодня не посетила его вовсе! Может, в самом деле помог литий, который прописал ему сосед — стародубский уездный доктор, и не следовало вовсе тащиться в Европу за новым курсом лечения? Нет, стоило хотя бы затем двинуться из своего краснорогского «монастыря», чтобы повидаться с Иваном Сергеевичем.
Свет падал так, что из всех предметов на письменном столе освещал один портрет Герцена. Вспомнили, что знали о последних днях Искандера. Был январь восемьсот семидесятого года здесь, в Париже. Как сегодня дождь, тогда валил мокрый снег. Но он вышел из дома почти налегке, без шарфа — торопился куда-то на митинг. Вернулся с ломотою во всём теле и болью в боку и груди. Воспаление лёгких, от которого он уже не оправился.
Вся жизнь — до самого конца — без тени личной корысти в том, к чему звал, что проповедовал...
Но откуда же у тех, кто призывает к топору, такая жестокость к миру и прежде всего к тем, кого они ведут за собой?
Ведь начинается всё, казалось бы, как и у Герцена, — с листа бумаги, со слов о равенстве, братстве и свободе личности?
Алексей Константинович задал этот вопрос вслух, и Тургенев его тут же повторил:
— В самом деле, каков путь подобной метаморфозы? Взять хотя бы Бакунина. Умён. Мечтал стать учёным. В молодости — прекрасный товарищ. Вместе столько времени прожили в Берлине, слушая лекции в тамошнем университете. И — добрые родители, о чём давеча говорили. Да я со всею семьёю был коротко знаком — самоотверженные, преданные братья и сёстры. Могло так случиться, что через одну из Бакуниных могли бы с Мишелем породниться. Но сия история — не в счёт. Вопрос наш — о другом: как и когда человек, искренне ненавидящий рабство и деспотизм, вдруг сам становится тираном, увенчивая себя уже не короной, как его антипод, а всенародным знаменем восстания и бунта?
Судьба Михаила Александровича Бакунина Толстому была в общих чертах известна. В ранней юности бросил карьеру артиллерийского офицера и, как он любил сам говорить, гонимый потребностью знания, жизни и действия, примкнул в Москве к кружку Белинского и Герцена. Но молодого гегельянца не удовлетворила доморощенная наука, и он отправился за границу, чтобы пополнить философские знания, полученные на лекциях в Московском университете. Но вскоре в Берлине занятия философией сменил на политику: ни много ни мало поставил целью ниспровержение австрийской и российской монархий.
Николай Первый лишил молодого революционера всех прав состояния и уготовил ему, в случае возвращения, сибирскую каторгу. Австрийский и саксонский суды приговорили его к смертной казни, и вскоре, выданный России, он оказался узником Петропавловской, а затем Шлиссельбургской крепости, потом — Сибири. Оттуда Бакунин совершил отчаянный и смелый побег в Америку и оказался в Англии, у Герцена.
Светлая душа, Тургенев обязался выплачивать другу юности по тысяче пятьсот франков ежегодно и пообещал всё сделать, чтобы помочь жене, которую Бакунин оставил в Сибири, переехать к нему за границу.
Доложили Александру Второму: литератора Тургенева необходимо привлечь к дознанию «по делу о связи с лондонскими политическими изгнанниками».
Слава Богу, вовремя узнал о готовящемся суде Толстой — как и в восемьсот пятьдесят втором, использовал свои связи с Александром Николаевичем, уже российским императором.
Без сомнения, ни минуты не стал бы колебаться, как поступить, сам Толстой, будь он другом Бакунина или окажись с ним рядом. Но нынче разговор о Бакунине как о воинствующем социалисте.
— Приверженность некоторых революционеров к крайним мерам, — произнёс Тургенев, — я склонен был бы объяснить, скорее всего, нехваткой настоящей культуры, систематического образования, может быть, даже отсутствием должной ответственности перед обществом. Вообще это довольно странная манера — говорить от имени народа, чтобы использовать какие-то неустойчивые его слои в своих целях.
— Выходит, всему причиной корысть? — подхватил Толстой.
— Ну какая, к шутам, корысть, — засмеялся Тургенев. — Нам с вами известно: русские казематы — не отели Лондона или Парижа, а тридцать тысяч вёрст по сибирской тайге или в трюмах пароходов от Ангары до Темзы — не воскресный выезд на пикник... Бунт, насилие — лик всех революций. И, скажем, тех её вожаков, кто зовёт к насильственному переустройству мира.
— Вот тут мы с вами, дорогой Иван Сергеевич, приблизились к истине! — Лицо Алексея Константиновича побагровело — должно быть, от очередного прилива крови. — Как бы ни был нравствен и чист человек, уверовавший в социалистические и коммунистические утопии, какой бы добропорядочной ни была его генеалогия, по вашей теории, он, уже в силу верований в своё учение, обязательно рано или поздно перестанет считаться с опытом жизни. Каковы его рассуждения? Существующий государственный строй плох, общество и каждый его индивид запятнаны корыстолюбием и ненавистничеством, на каждом — родимые пятна рабства, стяжательства, социального неравенства и прочих пороков. Более того, те, кого следует в первую очередь освободить, темны, в них не развито чувство свободы. А схема хороша — всё в царстве будущего как в раю: счастливы, добры, все братья... Как такому утописту поступить? Ждать, пока народ осознает себя, помогать ему постепенно становиться лучше? Ничего подобного! Всех — к топору и — круши налево и направо! А народ — насильно палкой в рай, как в казарму, и родимые пятна — калёным железом... Что ж это, как не палачество, даже если в основе действий — благо?
— И нарисовали же вы картинку! — отозвался Иван Сергеевич. — Мурашки по коже.
— Да будет! Палка и железо — как бы за сценой, а напоказ — одна радость, — продолжил Толстой. — Или вы не читали у господина Чернышевского в романе «Что делать?» хотя бы четвёртый сон его героини Веры Павловны? «Сон» — сказано не случайно. То, что якобы мнится, — вожделенная мечта. Нет уж, увольте меня от такой мечтательности социалистов и демократов, от «снов», которые они сулят народу! Сегодня они — мечтатели, манипулирующие умозрительными построениями на бумаге, завтра — судьбами тысяч и тысяч.
Он остановился и неожиданно рассмеялся:
— А знаете, как с подобными прогрессистами следует бороться? Не казематами и Сибирью — дать каждому Станислава на шею! Ведь к чему они все стремятся? К тому, чтобы их отметили, к власти...
Где-то у него были набросаны стихи, которые можно было бы сейчас вставить в разговор. Да не окончил их ещё. Будет время, завершит и обязательно прочтёт Ивану Сергеевичу. Фет рассказывал, как наизусть продекламировал Тургеневу весь «Сон Попова» — и тот был в восторге. «Попов» — сатира на Третье отделение, которому в любой нелепице видится государственный заговор. Эти же, о ком сейчас речь, готовы установить такое «равенство», что Боже упаси. Нет, и с ними ему не по пути.
Честь вашего я круга, Друзья, высоко чту, Но надо знать друг друга. Игра начистоту! Пора нам объясниться — Вам пригожусь ли я Не будем же чиниться, Вот исповедь моя! ...................... И всякого, кто плачет, Утешить я бы рад — Но это ведь не значит. Чтоб был я демократ! .................................. Во всём же прочем, братцы, На четверть иль на треть. Быть может, мы сойдёмся, Лишь надо посмотреть! ...................................... Чтобы в суде был прав Лишь тот, чьи руки черны, Чьи ж белы — виноват, Нет, нет, слуга покорный! Нет, я не демократ! ............................................. Чтоб вместо твёрдых правил В суде на мненья шло? Чтобы землёю правил Не разум, а число? ........................................ Чтоб каждой пьяной роже Я стал считаться брат? Нет, нет, избави Боже! Нет, я не демократ!.. ............................................ И каждый гражданин Имел чтоб позволенье Быть на руку нечист? Нет, нет, моё почтенье! Нет, я не коммунист!..22
— Ваше сиятельство, Алексей Константинович, проснитесь! — Михайло, сначала робко, потом всё настойчивее, тряс за плечо.
Толстой чуть размежил веки и снова их закрыл — ему показалось, что стихотворение, которое он сейчас сочинил во сне, теперь, при пробуждении, начало рушиться, таять и вот-вот готово было исчезнуть вовсе. Однако вновь провалиться в дрёму, чтобы сохранить придуманное, он уже не мог, и стихи, пришедшие во сне, улетучились, не оставив следов.
Какое же это мучение — болезнь! Тургенев прав: жизнь — мельница, перемалывающая человека в сор, в пыль.
Уже несколько месяцев подряд половину торса словно обжигало кипятком. Вдобавок же — непроходяшие головные боли, будто затылок и лоб стиснуты стальным обручем, и — проклятая астма, прерывающая дыхание. Если бы не было совестно окружающих — кричал бы в крик!
Только и помогает снять чудовищные боли — игла под кожу. Порция морфия — и тихое, благостное оцепенение разливается по всему телу.
Когда нынешней зимой один врач в Париже прописал эти впрыскивания, от которых боли прекращались как по волшебству, он вдруг почувствовал себя прямо-таки молодым, бодрым, будто заново родившимся. Но пролетело каких-нибудь полгода — пришлось увеличивать дозу. Все знакомые доктора предупреждают, да и он знает сам: морфий — коварная вещь; после заметного облегчения страдания наваливаются с удесятерённой силой и требуют всё увеличивать объём инъекций.
Приходится обманывать близких, успокаивая их тем, что он не злоупотребляет коварным лекарством, даже, напротив, уменьшает дозы. Впрыскивание, говорит он, не только останавливает боли, но оживляет умственные силы и совершенно не наносит вреда здоровью.
Однако себя не обманешь: к чёрту здоровье, лишь бы можно было заниматься искусством, потому что нет другой такой вещи на земле, ради которой стоило бы жить, кроме искусства!
На столе — всегда в готовности спиртовка, спички, шприц и пузырёк с морфием. Слава Богу, плут Михайло не посягает на медицинские штуки. Да и за поездку в Константинополь и в другие диковинные заграницы под руководством Сони-младшей совсем превратился в джентльмена, и его манеры ещё более обрели даже некую интеллигентность. Хочется верить — и безалаберность будто бы сменяется завидной исполнительностью, граничащей прямо-таки с немецкой пунктуальностью и щепетильностью. Теперь способен разбудить не только согласно просьб, но и в такие часы, когда ему покажется, что хозяину необходимо пробудиться, чтобы впрыснуть под кожу лекарство.
— Что, кричал во сне? — снова размежил веки Толстой.
— Не так чтобы очень, но было... — согласился Михайло. — Если бы спали тихо — ввек бы не разбудил.
— Да ведаешь ли ты, дурья башка, что приём лекарств — для меня здоровье? Потому и вдалбливаю тебе: буди чаще. Особенно когда начну разговаривать или вовсе кричать во сне — значит, пора прибегнуть к исцелению.
— Как же! Будто я не слышу, как старшая и младшая Софи переговариваются между собою по-французски о том, что этот дьявольский морфий — ваша смерть? Так что я, изволите видеть, вас теперь разбудил вовсе не затем, чтобы вы провели сеанс, а исключительно ради разговора с посетителями. Тулумбас с мужиками к вам пожаловал.
Михайло выкатил кресло на веранду. У ступенек переминались с ноги на ногу три или четыре мужика, с мятыми картузами в руках, и с ними Тулумбас в своей кумачовой косоворотке и широкополой соломенной шляпе, которую он тоже стащил с бритой головы, как только завидел графа, выезжавшего на коляске.
— Здравствуйте, заходите, — произнёс Толстой. — Вот стулья — прошу садиться. Ну что, Тулумбас, на охоту пришёл приглашать? Небось выследил кабанов и уже поросёнка приготовил для приманки? Не то что, к примеру, медвежья, но тоже серьёзная охота — зверь резвый, коварный, не ровен час — клыки в живот или в пах. Но мы-то с тобою, Тулумбас, кажется, освоили сию науку? Погоди, приду в себя — непременно поедем на кабанов.
— Не беспокойтесь, Алексей Константинович, хороший кабаний выводок приглядел и специально держу для вас, — расправил казацкие усы Тулумбас. — Это уж как водится — всласть постреляем! Да нынче мы к вам, ваше сиятельство, так сказать, с просьбицей, с челобитной. Вон их, таких-сяких недотёп, красный петух поклевал — подчистую три двора сгорели.
Третьего дня, говорили, в Красном Роге, на самом краю села, пожар уничтожил три дома. Мужик-бобыль Федот спьяну заснул на лавке, когда горящие головешки вывалились из печи прямо на деревянный пол. Едва сам выскочил в чём мать родила, а огонь уже шурует в соседских избах.
— Не по злобе, барин Алексей Кинстинтиныч! — бухнулся на колени испитой, с сизым носом, тощий мужичонка. — По баловству и по глупости, вишь, и себя наказал, и соседей...
— Встань, Федот! — потребовал Толстой. — Какой я тебе барин? Ты сам давно уже такой же свободный и равный со мною в правах. Но помочь — помогу. Как же иначе? Мы ж все здешние, краснорогские.
— Во-во! — подхватил Тулумбас. — Я им и говорю, не было случая, чтобы граф кому не помог — и хлебом, и деньгами, и лесом...
Из-за спинки кресла-коляски тотчас отозвался Михайло:
— Креста на вас нет, ироды! «Лесом помог»! Да Алексей Константинович, когда зимой у него попросили дров, по доброте душевной показал на аллею: спилите, мол, те липины, которые посохли и отмерли. А вы, бесстыжие, заподлицо — всю здоровую липовую аллею смахнули! А луга и поля, на которых граф дозволил пасти ваш скот? Вы же сплошь вытоптали все посевы! Ну даст, даст вам Алексей Константинович и хлеба, и леса, и денег, чтобы вы подняли сгоревшие дворы. Так пропьёте же, право! Тут же побежите в кабак.
— Помолчи, Михайло, — остановил его Толстой. — Без нотаций надо — у людей горе. А пьянство, ты прав, напасть для Красного Рога. В толк не возьму — что приключилось? Вместо того чтобы работать в поле, ходить за скотом — открываются кабаки... Вот ты, Тулумбас, как ловко развернулся — второй постоялый двор у тракта завёл.
— Для того и свобода нам, крестьянам, дадена — делай что хошь, — в ответ хитро улыбнулся казак.
«Чёрт знает чем обернулась свобода! — в сердцах подумал Толстой. — Для одних свобода — вовсе не трудиться, другие понимают её как возможность самому ввергнуть соседа-мужика в кабалу, в том же кабаке отнять у него последнюю полушку или снять даже драный зипун. Вышел закон: любой мужик, если пожелает, может без всякого на то особого разрешения завести питейное дело, ты же, помещик, на своей земле не смеешь открыть кабак, если твои бывшие крестьяне того не пожелают. Ладно, я не собираюсь держать шинки, но зачем водка — морем разливанным по всей Руси? Впрочем, не все до лёгкого соблазна падки. Вот же в Погорельцах свобода обернулась поголовной трезвостью, там и недородов нет, и жизнь богатая. В Красном же Роге — разница в полторы сотни вёрст! — лень, безделье, воровство, пьянство! Даже священник отец Гавриил вконец охамел — берёт по двадцати пяти рублей за венчание! Написал уже в Петербург — запросил прислать таксы на все виды треб — венчанье, крестины и прочее. Тогда у меня отец Гавриил попляшет! Это ж позор — единственный носитель просвещения в селе, священник, вызывает в деревнях ужас, он — тиран в крестьянских глазах».
Вспомнил, как сам в марте восемьсот шестьдесят первого с манифестом в руках вышел вот на это крыльцо, чтобы принести крестьянам радость. Туманно была составлена царская воля, не всё сразу уразумели мужики — растолковывал и себе, и им пункт за пунктом. Землю тут же отдал, всем, чем возможно, стал облегчать судьбу землепашцев... Так почему же всё криво пошло — эмансипация оказалась для одних благом, для иных — новой кабалой?
...Увидя Потока, к нему свысока Патриот обратился сурово: «Говори, уважаешь ли ты мужика?» Но Поток вопрошает: «Какого?» «Мужика вообще, что смиреньем велик!» Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик: Если он не пропьёт урожаю, Я тогда мужика уважаю!» «Феодал! — закричал на него патриот. — Знай, что только в народе спасенье!» Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ, Так за что ж для меня исключенье?» Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот! Править Русью призван только чёрный народ! То по старой системе всяк равен, А по нашей лишь он полноправен!»Потрепали его за эти стихи о древнекиевском Потоке-богатыре, проспавшем много лет. Разъярился и Аксаков Иван Сергеевич, а с ним и другие славянофилы — Юрий Фёдорович Самарин, Владимир Александрович Черкасский: «Опять вы со своими личностями, коих ставите во главу угла всего прогресса! А в основе — не личности, а общинное чувство, не «я», а «мы». Так сказать, не сольное, а хоровое...» — «Нет уж! Не имея личностей, мы не будем иметь народа!..»
Теперь, если бы зашёл спор, он мог бы добавить и другое. Вот вы — борцы против самодержавия, а ваше общинное, безличностное «мы» — это же опора всякого тоталитаризма и самого жестокого деспотизма! Да любой тиран подхватит с радостью ваше, славянофилов, учение. Дескать, всё, что мы, власть, предпринимаем сверху, — для вас, вашего блага, ибо все — и «вы» там внизу, и «мы» здесь наверху — это все «мы», народ... Вот куда могут привести ваши и ваших друзей умозрительные построения, любезный Иван Сергеевич, чем способны обернуться отрицание личности и упование на общинный дух...
Я — со всеми славянофилами, поскольку они стремятся к свободе или поскольку они занимаются историческими исследованиями или выпускают археологические сборники. Но я становлюсь их отъявленным врагом, когда они воюют с европеизмом и свою проклятую общину — новый вид кабалы для народа — противопоставляют принципу индивидуальности, единственному принципу, при котором может развиваться цивилизация вообще и искусство в частности.
Есть и ещё одна тонкость, с помощью которой хотят вопреки здравому смыслу умалить, низвести личность, — пресловутое равенство, это дурацкое измышление девяносто третьего года, иначе — французской революции.
Равенство никогда не существовало ни в одной республике, а в Новгородской менее чем в какой-либо другой, ибо Новгород был республикой в высшей степени аристократической. Флоренция прогнала свою знать и тотчас создала новую. Так что и потому я становлюсь врагом славянофилов, когда они превращаются в проповедников равенства, которое никогда не может прийти, и отвергают значение развитой, воспитавшей себя, истинно совестливой и внутренне свободной личности.
Та же ненависть к личности — и на знамёнах творцов различных социалистических и коммунистических утопических теорий... Народ станет действительно свободным народом, когда больше в нём будет личностей, сознательно выбирающих свой путь, и менее тех, кто бездумно, а хуже — из корысти присоединяется к большинству...
Нет, уважаемая мадемуазель Дарья Фёдоровна Тютчева, напрасно вы полагались на моё тождество с Иваном Сергеевичем. При всём моём личном уважении к вашему милому родственнику и при всём моём участии в его деятельности, которую приходилось не раз спасать перед императором, — позвольте мне остаться самим собой. Без Катковых и даже без Аксаковых, когда они смыкаются вместе в своём русопетстве, и без тех, кто, именуя себя друзьями народа, готовы воевать с этим народом, лишь бы провести в жизнь свои утопии.
Двух станов не боец, но только гость случайный, За правду я бы рад поднять мой добрый меч, Но спор с обоими — досель мой жребий тайный, И к клятве ни один не мог меня привлечь; Союза полного не будет между нами — Не купленный никем, иод чьё б ни стал я знамя, Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, Я знамени врага отстаивал бы честь!23
— Софочка, ты только послушай, что обо мне написал этот Губернатис! — Толстой остановился посреди комнаты с итальянским журналом «Ривиста Еуропа» в руках. Только что в Красный Рог из Брянска пришла почта, и он, зная, что Софья Андреевна к двум часам пополудни уже должна встать, поспешил к ней.
Бедняга, опять не расставалась с книгой до шести утра! Так ведь можно потерять последние остатки зрения, сокрушённо подумал он, но вслух не счёл возможным это произнести: она всё равно не послушается, а стоит ли расстраивать её, страдающую, как и он сам, бессонницей?
Не так давно итальянский драматург, историк литературы, языковед и критик Анджело Губернатис, познакомившись с русским писателем, загорелся желанием непременно о нём написать. И вот статья напечатана.
«Я узнал с превеликим интересом, — сообщал своим читателям автор, — что сам Толстой был храбрый охотник. В Италии поэт, ходивший на медведя, мог бы показываться за деньги!.. Испробовав свою отвагу в борьбе с медведями, Алексей Толстой мог смело идти так же, как Серебряный, на борьбу с другого рода силой. Он, как его красавец Серебряный, не идёт окольными путями на врага, он идёт с поднятым забралом, открытым, честным боем и, победив врага, возвращается, свободный, к своим песням, мечтам и странствиям!»
— Ну чем не былинный Алёша Попович? — рассмеялся Толстой. — А кончается как статья: «Желаю, чтобы прежний охотник на медведей и тиранов мог поскорее поправиться и вернуться на поле сражения».
— Только ружья в руках тебе и недостаёт, — произнесла Софья Андреевна, отводя взгляд от лица мужа — неестественно кирпичного цвета, со вздувшимися синими жилами.
Толстой понял тревогу жены:
— Ничего, ничего, Софочка, есть ещё порох в моих пороховницах! Смотри, засучил рукава, поплевал на ладони — и в драку! Ты знаешь, какие страницы я сегодня написал — прелесть.
Как ни мешала болезнь, Алексей Константинович каждый день старался работать над недавно начатыми «Охотничьими воспоминаниями». В новой книге он решил сверх настоящих охотничьих приключений передать множество анекдотов о живых и мёртвых своих современниках, как он обещал Стасюлевичу. Ну-ка и впрямь кого-нибудь подденет рогатиной!
— Кстати, пришло письмо от Михаила Матвеевича — по делу Маркевича. — Толстой вынул из кармана широкой домашней куртки вскрытый конверт. — Если верить ему, Стасюлевичу, многое обстоит, увы, не так, как мы с тобою полагали. Стасюлевич сообщает о взятке, которую называет оригинально: «браток» — видимо, от слова «брать». Вот послушай.
Стасюлевич писал: «С.-Петербургские ведомости» по распоряжению Главного управления по делам печати были переданы некоему Ф. П. Баймакову. Прежний владелец газеты В. Ф. Корш отстранён от редакторства. Одним из мотивов считали фельетон А. С. Суворина против Каткова и др. Однако вскрылся скандал: Б. М. Маркевич за крупную взятку, полученную от Баймакова, «содействовал» отстранению Корша...»
«Стасюлевич и Маркевич вместе побранились...» — вспомнил строку из своей эпиграммы. Но нет — факт, против которого ничего не возразишь: «Он, Маркевич, в 24 часа уволен со службы и лишён звания камергера...»
Не далее как четвёртого дня он спешно написал Маркевичу: «Со всех сторон ко мне доходят слухи, самые противоречивые и отчасти самые нелепые, о Вашем разладе с министром просвещения и о причинах, по которым Вы бросили службу. Как это случилось, что Вы не подумали написать мне, зная, какое искреннее участие я принимаю в Вас, т. е. мы принимаем в Вас? Надо ли мне говорить, что ни я, ни моя жена ни минуты не сомневались в том, что мотивы, заставившие Вас покинуть министерство, могли служить только к вашей чести, и это-то мы a priori заявляли всем тем, кто рассказывал нам о ссоре... Но что это за ссора, в конце концов? В чём она заключается? Я должен узнать это от Вас самого, чтобы знать правду и иметь возможность говорить её всем, если потребуется. Не было ли тут клеветы? Если была, не сидите сложа руки, дорогой друг, а напечатайте опровержение при звуках труб, а если русские газеты окажутся настолько трусливыми, что не захотят опубликовать его, напечатайте его, чёрт возьми, за границей и не надевайте при этом белых перчаток! Но я разговариваю с Вами, как слепой рассуждает о картине. Напишите же мне немедленно...»
Всё-таки и теперь он не хотел отступаться от своей веры, как не отступился от Маркевича лет пятнадцать назад, когда тот был так же внезапно освобождён от должности экспедитора Государственной канцелярии и оставлен в ней сверх штата без жалованья. Оказавшемуся вдруг без средств Толстой выслал денег и предложил кров в Пустыньке хотя бы на часть лета, пока тот не найдёт службу. Доходили и тогда слухи, что поводом к отставке послужило нерадивое отношение Маркевича к своим обязанностям, но успокаивал себя и утешал друга: «Все люди разделяются на две категории, на преданных и непреданных; остальные различия суть только мнимые; все литераторы, и даже знающиеся с ними, принадлежат к непреданным, стало быть, к вредным».
В обычной своей манере пытался острить, но афоризмы выходили невесёлые: сам бы никогда не довёл дела до скандала. Неужто и теперь благородное негодование — в защиту нечистоплотности и, страшно вообразить, — низкой подлости?
— Ты права, Софи. Нельзя не верить Стасюлевичу. Однако не станем торопиться делать окончательные выводы — Маркевич сам должен представить мне доказательства.
Старался говорить спокойно, но внутренний голос подсказывал: «Разные вы люди, разве это было не видно с первого знакомства? Вот же, не имея почти никаких свойств, кроме самоуверенности, пролез ко двору. Ради карьеры он, безусловно, готов на любые штуки. Как хлопотал вокруг постановки «Иоанна», отстраняя всех, делая вид, что это благодаря ему драма увидела сцену. И говорил почему-то: «Хочу быть вашим Добчинским». Отвратно? Для меня — да, потому что я и сделал свой выбор — не к судьбе, которая передо мной открывалась, — от неё. Я — сильнее его. Значит, должен быть и добрее...»
Чтобы не расстраивать Софи, он удалился к себе, но продолжал размышлять о том, что возбудило письмо.
Как, в самом деле, некоторые люди способны устраивать свою судьбу, нисколько не думая о собственной чести и достоинстве, ради личной выгоды готовы не только ползти на брюхе, но подчас и вываляться в грязи!
Припомнилось, как в ту пору, когда члены совета Главного управления по делам печати запретили его драмы «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис» к постановке на сцене, кое-кто из этих же сановников ему откровенно говорил: «Не обижайтесь на нас, ведь мы служим... Вам же стоит лишь намекнуть тем, кто к вам благосклонен, чтобы судьба Ваших пьес была положительно решена».
Всё, что завершал, спешил прочесть там, где его действительно встречали сердечно и радушно. Да вот нынешней зимой хотя бы в Сан-Ремо...
Нынешней зимой он оказался в Италии, на курорте в Сан-Ремо, где как раз лечилась императрица. Узнав о его приезде, она тотчас повелела послать ему приглашение приехать к ней. Впрочем, заботливо предупредила: если выезд может повредить здоровью, лучше этого не делать.
Да мог ли он удержаться от встречи! Пока другие ждали выхода её величества в гостиной, она уже принимала гостя у себя в комнате и, всполошившись, пеняла ему, что не бережёт себя, когда он, войдя, сильно раскашлялся.
По лицу Марии Александровны было видно, как она меня жалела, вспомнил он теперь. И я сразу, как только перешли в гостиную, решился в свою очередь сделать императрице приятное — прочитать ей «Сон Попова», о чём она давно меня просила. Кстати, Мария Александровна была наслышана, что у меня есть другая презабавная вещица — «Бунт в Ватикане». Но пришлось ей сказать, что стихотворение это — не для дамских ушей, но если её величество всё же будет настаивать, я смогу ей прочесть только... в тёмной комнате. В ответ она мило и от души рассмеялась.
Вообще я с ней могу говорить легко и просто совершенно обо всём на свете, даже рассказывать анекдоты, особенно если в нашем обществе присутствует император. Александр Николаевич сам меня, по обыкновению, вызывает на всяческие остроты, и тогда мы все хохочем от души. Право, между нами в такие минуты лишь дружеские отношения, какие существуют у меня с очень многими людьми. Однако читать Марии Александровне — тут особая прелесть!
Ну-с, только расселись слушатели в тот вечер и я наизусть прочёл начало «Попова», как почувствовал, что сил и голоса не хватает. Тут же тетрадь переняла у меня Дарья Фёдоровна Тютчева и выразительно продолжила чтение.
Ах, какое это милое и предупредительно чуткое существо! Ведь это благодаря ей Дарье Фёдоровне, мои чтения у императрицы стали приятным обычаем.
Где-то у него в шкатулке хранится изящный золотой брелок в форме книги. На одной стороне переплёта славянской вязью выведено в честь её величества «Мария», на другой — «В память Князя Серебряного». Внутри же, на раскрывающихся пластинках-страницах, миниатюрные портреты всех участников первого чтения романа: её величества, автора, обеих сестёр Тютчевых — Дарьи и Анны...
Не сама ли Дарья Фёдоровна высказала тогда мысль о памятном подарке ему, писателю? Но разве та идея не могла посетить и императрицу?
Её доброта ко мне безмерна. Вот серебряный карандаш, которым теперь с удовольствием пользуется Софи...
Тогда в Сан-Ремо он увидел у некоторых дам привезённые из Англии серебряные карандаши, которые можно носить на поясе или на часах. Карандашики толстенькие и симпатичные, и он подумал, как будет приятно Софье Андреевне иметь такую вещицу. И надо же — императрица будто подслушала его желание. «Я через два дня должна получить такой же карандаш, и так как он вам нравится, то я вам подарю тот, который получу, а себе выпишу другой».
В следующий раз я получил карандаш. Она сама прошла через всю комнату ко мне, чтобы дать его мне...
Но выпрашивать одолжения, на которое намекали господа из совета по печати, — ей-ей, не из того я теста!..
Пять лет назад, как только закончил «Царя Бориса», пустился отсюда, из Красного Рога, в Крым, в Ливадию. Узнал, что Мария Александровна горит нетерпением услышать новую драму.
Сейчас представить смешно: больной, с одышкой, я лечу через весь юг России, а в довершение всего на Черном море попадаю в жесточайший шторм. Так что, думалось, впору взять рукопись «Бориса» в зубы и, как собака, пуститься вплавь, если судно перевернётся...
Забавно: в пути потерял свой багаж, но все невзгоды превысил приём, который оказали в царском дворце моему «Царю Борису»!
Не корысть ли и впрямь заставляла меня в тот раз прокладывать дорогу во дворец? Если пьеса вызывает восторг, что стоит августейшей слушательнице сказать кому следует, что не одна она, многие в России восторгались постановками и «Царя Бориса», и «Царя Фёдора Иоанновича»?
Нет, такого подарка он не станет искать!
Затем ли он выбрал свободу, чтобы заискивающим, жалким взглядом, как сотни толпящихся у трона, вымаливать своё счастье? Он — не придворный и не чиновник, зависимый от прихоти владык. Он — художник, ценящий своё достоинство выше всяческих милостей и подачек...
Какая пружина существует в природе, что люди, даже с задатками достойными, начинают действовать против приличий, а подчас и наперекор своей совести? Наверное, стремление выбиться наверх, к власти. Будто вступают сами с собою в торг: вот этим поступлюсь, тем, другим, зато выиграю сразу сколько!.. А власть, к которой тянутся, кроме соблазнов, очевидных всем, имеет тайну, которую уразумеешь не сразу. Она требует от человека полного ей подчинения и полного ей уподобления. И никто, раз вступивший на стезю сделки с собою, уже не в силах вырваться из этих сетей. И не какие-нибудь откровенные поганцы, не стрюцки[55]е, не дерьмо — рыцари, попав в лабиринты соблазна, уже не в состоянии из них выйти.
Не ты ли, размышляя о временах Иоанна Грозного, задавался вопросом: как могло существовать общество, которое смотрело на деспота и тирана без негодования? Наверное, так всегда: тиран окружает себя себе подобными, а если кто из них выламывается наособицу, властелин всё равно настигнет такого и заставит его жить по его же требованиям и будет ещё наслаждаться душевными муками несогласного, пока не приведёт его к полной покорности или пока не уничтожит своею же рукой.
Не эта ли сила когда-то сломила братьев Перовских, стремившихся к свободе, но так и не нашедших до конца в себе духа вырваться из круга рабства?
Но тот страх — следствие мощи внешней. Чтобы её одолеть, нужен немалый заряд противодействия внутреннего, которого человеку может и не хватить.
Ну а если сила, тебя раздавившая, зародилась внутри тебя самого? Такому ещё труднее сыскать оправдание: он добровольно, без малейшего принуждения, только из одной алчности и корысти, лишил себя чести, предал своё «я».
«У души, когда она в одиночестве, жизнь головокружительней, чем вокруг трона».
Чьи эго слова? Их произнесла непокорная мадам де Сталь[56], отправленная по воле Наполеона в изгнание за книгу, которая ему показалась вредной.
Не одному истинному апостолу правды сие было ведомо: «Ближе к трону — ближе к собственной смерти». Это правильно для всех времён и всех государей.
Эпоха Иоанна Грозного — цепь кровавых расправ с теми, кто, окружая трон, хотел оставаться независимым. А разве за то же самое не поплатились многие при Николае Первом?
Да почему лишь два этих имени? Когда-то падали головы с плеч, ныне низко падают души. И её, душу, может растоптать теперь не только вассал — сам её обладатель. Сколько же силы надобно, чтобы её сохранить!
Я совершенно уверен: меня ещё долго будут именовать ретроградом, так называемые передовые люди предадут меня проклятию, но мне плевать... Остаётся истинное, вечное, абсолютное, не зависящее ни от какого столетия, ни от какой моды, ни от какого веяния, — и вот этому-то я всецело отдаюсь! И я говорю себе: да здравствует абсолютное, то есть человечность и поэзия!..
Лёгкий августовский ветерок откинул занавеску и донёс из леса терпкий, настоянный на смоле, благотворный запах хвои. Представились неоглядные просторы любимого с детства бескрайнего Брянского леса.
Я обещал Софи непременно сегодня отправиться верхом в чащу. Для этого надо бы вздремнуть, чтобы явились силы и миновала вновь надвигающаяся боль. Сейчас я её успокою. Надобно только, наверное, увеличить дозу, чтобы долго не возвращались мучения...
Голова откинулась на пологую спинку кресла, веки сомкнулись, на высоком красивом лбу выступила испарина.
Что я ещё хотел додумать? Ах да — меня долго, очень долго будут числить не тем, кем я был на самом деле, ибо я часто шёл не с теми, кто был силён лишь числом или громкими, казавшимися многим прекрасными призывами. Но я знал: служить добру и правде можно не только идя вместе с толпою, но даже оставаясь в меньшинстве.
Совесть была единственным вожатым и хозяином моих поступков и убеждений, моих мыслей, которые я не уставал внушать людям, чтобы уберечь их от рабства и деспотизма, с какой бы стороны это им ни угрожало.
Но, вероятно, это-то долго ещё не будет принято теми, кто ищет не истины, а выгоды для себя и себе подобным.
И лишь однажды, наверное нахлебавшись всласть всего того, что я именую татарщиной давней и что может принести татарщина новая — иго насильственного закабаления единственного двигателя прогресса — свободной человеческой личности, — до людей может дойти, чему служил я, один из многих честных русских писателей, свыше всех выгод и благополучий почитавший свободу.
24
Тот день — 28 сентября 1875 года — ничем с утра не отличался от таких же осенних дней. Стояли окрест Красного Рога одетые в багрянец и оттого особенно величественные леса, небо было чистым и синим.
К нему вошли в кабинет, чтобы позвать на прогулку, но он спал. И только когда Софья Андреевна стала его будить, заметила, что руки его холодны как лёд, а пульс не бьётся.
И первое, что бросилось в глаза на столе, был мертвенно блестевший шприц и пустой пузырёк.
Толстого бросились тормошить, делать ему искусственное дыхание, но он уже не мог вернуться к жизни. А может, не захотел...
Наверное, и в этот самый последний свой миг, как и во все иные — от самого рождения, — человек должен быть свободным и поступать так, как велит ему единственный его властелин — совесть.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1817 год
24 августа — в Санкт-Петербурге в семье советника Государственного ассигнационного банка графа Константина Петровича Толстого и его жены графини Анны Алексеевны, урождённой Перовской, родился сын — Алексей Константинович Толстой.
Октябрь — переезд А. А. Толстой с сыном сначала в имение Блиставу, Черниговской губернии, а затем в Красный Рог, ныне Брянской области.
1822 год
Весна — в Почепе умирает родной дед А. К. Толстого — граф А. К. Разумовский.
1826 год
Весна — переезд А. А. Толстой с сыном в Москву.
30 августа — приглашение девятилетнего Толстого на дачу графини А. А. Орловой-Чесменской, где жила императрица Александра Фёдоровна с детьми, по случаю именин наследника престола, будущего императора Александра Второго.
1827 год
Июнь — поездка Толстого с матерью и дядей, А. А. Перовским, в Германию. Встречи в Веймаре с Гёте.
1829 год
Вышла из печати сказка «Чёрная курица, или Подземные жители», написанная А. А. Перовским специально для своего племянника Алёши Толстого.
1830 год
Толстой с матерью живёт в Петербурге у дядей — Л. Л. Неровского, В. А. Перовского, генерал-адъютанта императора Николая Первого, и А. А. Перовского, министра внутренних дел. У них Толстой часто встречает Пушкина и Жуковского. Назначенный товарищем для игр к наследнику престола великому князю Александру Николаевичу, Толстой навещает его по воскресеньям в Зимнем дворце и в Царском Селе, где встречается с императором Николаем Первым.
1831 год
Поездка с матерью и А. А. Перовским в Италию. Знакомство с К. П. Брюлловым.
1834 год
9 марта — Толстой зачислен в Московский архив министерства иностранных дел.
1835 год
20 апреля — Толстой получает четырёхмесячный отпуск для поправления здоровья и отправляется за границу.
Декабрь — сдаёт экзамены в Московском университете «из предметов, составляющих курс словесного факультета, для получения учёного аттестата на право чиновников первого разряда».
1836 год
Начало года — К. П. Брюллов пишет портрет юного Толстого в костюме охотника.
В доме А. А. Перовского встреча с Пушкиным.
9июля — в Варшаве, во время очередной поездки за границу, на руках Толстого умирает А. А. Перовский.
1837 год
13 января — Толстой «назначен к миссии нашей во Франкфурте-на-Майне, сверх штата».
1838 год
Октябрь — пребывание Толстого за границей в обществе великого князя-наследника.
1839 год
Пребывание Толстого в Германии, Франции, Италии. Пишет на французском языке первые рассказы «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет» и повесть «Упырь». Встречи в Риме с Н. В. Гоголем.
1840 год
9 марта — Толстой пожалован в коллежские секретари.
Декабрь — назначен младшим чиновником во Второе отделение собственной его императорского величества канцелярии.
1841 год
Лето — поездка в Оренбург к дяде В. А. Перовскому — военному губернатору края.
1842 год
26 января — пожалован в титулярные советники.
В «Журнале коннозаводства и охоты» № 5 помещён очерк Толстого «Два дня в Киргизской степи».
1843 год
27 мая — пожалован званием камер-юнкера.
Осень — в «Листке для светских людей» № 40 напечатано стихотворение «Серебрянка» («Бор сосновый в стране одинокий стоит...»).
1844 год
Август — получает отпуск на четыре месяца.
1845 год
25 января — пожалован в коллежские асессоры.
В литературном сборнике В. А. Соллогуба «Вчера и сегодня» помещён рассказ «Артемий Семёнович Бервенковский».
1846 год
Январь — пожалован в надворные советники.
19 мая — «... с соизволения его императорского высочества наследника цесаревича получил шестимесячный отпуск за границу, для сопровождения матери, отправляющейся туда по болезни».
Ноябрь — отпуск продлён ещё на шесть месяцев.
1847 — 1849 годы
Написаны баллады «Курган», «Князь Ростислав», «Василий Шибанов», «Богатырь», начат роман «Князь Серебряный».
С двоюродными братьями Жемчужниковыми создаёт первые произведения за подписью Козьмы Пруткова.
1850 год
28 апреля — по высочайшему повелению Толстой направлен для ревизии Калужской губернии. На даче губернатора Н. М. Смирнова и его жены А. О. Смирновой-Россет проводит время в обществе Н. В. Гоголя, читает ему баллады и главы из «Князя Серебряного».
Возвращается в Петербург, где вместе с А. М. Жемчужниковым пишет комедию «Фантазия».
1851 год
8 января — скандальная премьера «Фантазии» в Александрийском театре в присутствии императора Николая Первого.
Январь — встреча на маскараде с Софьей Андреевной Миллер.
Декабрь — поездка в Оренбург к дяде В. А. Перовскому с заездом в пензенское имение Смальково, где в ту пору находилась Софья Андреевна.
1852 год
Весна — арест И. С. Тургенева и хлопоты Толстого об его освобождении.
1853 год
Поездки в Пензенскую губернию к Софье Андреевне.
1854 год
Публикация в «Современнике» стихотворений Толстого и «Досугов» Козьмы Пруткова.
Октябрь — формирование Стрелкового полка императорского семейства, куда Толстой назначен ротным командиром в чине майора.
1855 год
Лето — в военном лагере в селе Медведь Новгородской губернии.
Декабрь — присоединение к полку под Одессой.
1856 год
Февраль — эпидемия тифа. Толстой ухаживает за больными и сам заболевает.
Март — приезд Софьи Андреевны, которая выхаживает больного.
Лето — поездка в Крым после окончания Крымской войны.
Август — коронация Александра Второго и назначение Толстого флигель-адъютантом императора.
10 ноября — смерть дяди, Л. А. Перовского.
1857 год
2 июня — кончина матери Толстого.
8 декабря — в Крыму, в Алупке, умер дядя, В. А. Перовский.
1858 год
В «Русской беседе» напечатана поэма «Иоанн Дамаскин».
19 апреля — «уволен в отпуск для излечения болезни, во внутренние губернии России, с правом отлучаться за границу, без испрошения особого дозволения».
1859 год
Работает в Красном Роге над поэмой «Дон Жуан».
В селе Пьяный Рог открывает училище для мальчиков, а в Погорельцах вместе с Софьей Андреевной — школу для девочек.
1860 год
Август — встреча Толстого в Англии с Герценом, Тургеневым, Анненковым, Боткиным и основание «Общества для распространения и всеобщего обучения».
1861 год
Переезд в Красный Рог с целью постоянно там жить и работать.
Конец лета — письмо Толстого к императору Александру Второму с просьбой об отставке.
28 сентября — указ об увольнении в отставку.
1862 год
Работает над трагедией «Смерть Иоанна Грозного».
В «Русском вестнике» № 4 публикуется драматическая поэма «Дон Жуан».
В «Русском вестнике» № 8,9,10 напечатан роман «Князь Серебряный».
Осень — отъезд в Германию.
1863 год
3 апреля — венчание с Софьей Андреевной в православной церкви в Дрездене.
Декабрь — поездка в Италию и встреча с Францем Листом.
1864 год
Лето — в Дрездене знакомит Каролину Павлову с трагедией «Смерть Иоанна Грозного» для перевода трагедии на немецкий язык.
1866 год
В первом номере «Отечественных записок» напечатана трагедия «Смерть Иоанна Грозного».
1867 год
12 января — премьера трагедии «Смерть Иоанна Грозного» в Александринском театре в Петербурге.
Выход первого сборника стихотворений.
1868 год
30 января — премьера трагедии «Смерть Иоанна Грозного» в Веймаре, где присутствовал автор.
В «Вестнике Европы» № 5 опубликована трагедия «Царь Фёдор Иоаннович».
Декабрь — встреча с А. А. Фетом.
Цензурное запрещение на постановку трагедии «Царь Фёдор Иоаннович».
1869 год
15 марта — речь Толстого на торжественном обеде в Одессе о равенстве всех народов, населяющих Россию.
Октябрь — поездка в Ливадию к императрице Марии Александровне, чтобы прочесть ей трагедию «Царь Борис».
1870 год
Весна — «Царь Борис» напечатан в «Вестнике Европы» и вышел отдельным изданием.
Лето — пребывание в Дрездене и Карлсбаде. Начало работы над драмой «Посадник».
1871 - 1874 годы
Пребывание в Красном Роге и поездки на лечение за границу. Написание и публикация баллад «Гакон Слепой», «Боривой», «Ругевит», «Ушкуйник», «Поток-богатырь», «Илья Муромец», «Порой весёлой мая...», «Алёша Попович», «Садко», повести в стихах «Портрет», сатиры «Сон Попова».
1875 год
28 сентября — А. К. Толстой скончался. Похоронен в склепе Успенской церкви в Красном Роге.
ОБ АВТОРЕ
КОГИНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ — современный русский писатель, член Союза писателей России. Родился в 1924 году в Брянске. Во время Великой Отечественной войны летом 1942 года, после окончания десятого класса в городе Ельце, был заброшен в тыл врага, в партизанские Брянские леса. Закончил войну под Берлином. Образование высшее — историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Работал корреспондентом «Комсомольской правды», «Советской России», «Правды». Написал ряд художественных и документальных книг. С конца семидесятых годов увлёкся русской историей. Опубликовал исторические романы о великом русском поэте Ф. И. Тютчеве («Вещая душа», 1983), о самобытном писателе А. К. Толстом («Отшельник Красного Рога», 1992), о первом русском военном атташе в наполеоновской Франции А. И. Чернышеве («Тайный агент императора», 1994), об А. М. Горьком («Второе пришествие», 1996). В издательстве АРМАДА вышли исторические романы писателя о великом русском полководце П. И. Багратионе («Бог рати он», 1997), о Ф. И. Тютчеве («Страсть тайная», 1998), об И. И. Шувалове («Татьянин день», 1998).
Роман печатается по изд.: Когинов Ю. Отшельник Красного Рога. М.: Советский писатель, 1992 — с исправлениями и дополнениями автора.
Примечания
1
Всегда твой (лат.).
(обратно)2
...что за прелесть «Бабушкин кот»!.. только и брежу Трифоном Фалалеевичем Мурлыкиным, — «Бабушкин кот» — так А. С. Пушкин в письме к брату Льву от 27 марта 1825 г. (из Михайловского в Петербург) называет повесть Антония Погорельского (А. А. Перовского) «Лафертовская маковница», героиня которой промышляет выпечкой и продажей медовых маковых лепёшек. Лафертовская (Лефортовская) часть Москвы располагалась на левом берегу р. Яузы и называлась так в честь сподвижника Петра I Лефорта. А. С. Пушкин в цитируемом письме оговорился; на самом деле герой повести Погорельского звался Аристархом Фалалеевичем, а не Трифоном.
(обратно)3
Князь Репнин — Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич (1778 — 1845), брат декабриста С. Г. Волконского, участник Отечественной войны 1812 г., малороссийский генерал-губернатор (1816 — 1834), генерал от кавалерии; с 1834 г. член Государственного совета. Был женат на Варваре Алексеевне, дочери графа А. К. Разумовского.
(обратно)4
Разумовский Алексей Кириллович (1748 — 1822) — граф, русский государственный деятель. Сын К. Г. Разумовского (см. коммент. №8). В 1810 — 1816 гг. — министр народного просвещения. Содействовал расширению сети начальных школ и гимназий. При нём открыт Царскосельский лицей.
(обратно)5
Волконский Пётр Михайлович (1776 — 1852) — русский государственный деятель, светлейший князь, генерал-фельдмаршал с 1843 г., участник Отечественной войны 1812 г. С 1826 г. министр императорского двора и уделов.
(обратно)6
Разумовский Андрей Кириллович (1752 — 1836) — граф. Младший брат А. К. Разумовского. С 1790 по 1799 г. российский посол в Австрии, потом отозван в Россию. И снова в 1801 — 1807 гг. направлен послом в Вену. В 1813 — 1814 гг. был советником императора Александра I на Венском конгрессе. До кончины своей оставался частным лицом в Вене. Был другом и покровителем Бетховена, Моцарта, Гайдна, которые посвящали ему свои произведения.
(обратно)7
...под начальством Алексея Орлова участвовал в знаменитом Чесменском бою — Чесменский бой 25 — 26 июня 1770 г. во время русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг., в котором русский флот блокировал турков в бухте Чесма (Чешме) на побережье Малой Азии и уничтожил их флот, обеспечив русским господство на Эгейском море и блокаду Дарданелл.
Орлов Алексей Григорьевич (1737 — 1807/08) — граф, генерал-аншеф. Брат Г. Г. Орлова, фаворита Екатерины II. Один из главных участников дворцового переворота 1762 г., в результате которого Екатерина свергла своего мужа Петра III и взошла на российский престол. Командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победу у Чесмы, а также у Наварина получил титул Чесменского.
(обратно)8
...отец, президент академии и гетман Малороссии, один из самых могущественных... людей при дворе... — Разумовский Кирилл Григорьевич (1728 — 1803), граф, последний гетман Украины (1750 — 1764); президент Петербургской Академии наук (1746 — 1798). Младший брат А. Г. Разумовского (см. коммент. №24). После упразднения гетманства — генерал-фельдмаршал.
(обратно)9
«Арзамас» — литературный кружок в Петербурге, существовавший в 1815 — 1818 гг. Его члены выступали против эпигонов классицизма, входивших в литературное общество «Беседа любителей русского слова», в защиту сентиментализма и романтизма.
(обратно)10
Общество любителей российской словесности — литературно-научное общество, существовавшее в 1811 — 1930 гг. при Московском университете.
(обратно)11
Уваров Сергей Семёнович (1786 — 1855) — граф, русский государственный деятель, реакционер. С 1818 г. президент Петербургской Академии наук. В 1833 —1849 гг. министр просвещения. Автор сочинений по классической филологии и археологии. Создатель реакционной формулы «православие, самодержавие, народность». Один из основателей «Арзамаса». Был женат на дочери А. К. Разумовского Екатерине. В нашем тексте — Сергий, ибо сам предпочитал так называть себя.
(обратно)12
«Беседа любителей русского слова» — литературное общество в Петербурге, существовавшее в 1811 — 1816 гг. во главе с Г. Р. Державиным и А. С. Шишковым. Большинство его членов (С. А. Ширинский-Шихматов, А. А. Шаховской и др.) с консервативных позиций защитников классицизма выступали против новых направлений и реформы литературного русского языка, начатой Н. М. Карамзиным. Другие его члены — например, Н. И. Гнедич, И. А. Крылов — отстаивали национально-демократические традиции русской литературы.
(обратно)13
Блудов Дмитрий Николаевич (1785 — 1864) — граф, русский государственный деятель. Один из учредителей «Арзамаса». Позднее, в 1832 — 1838 гг., министр внутренних дел, а в 1839 — 1862 гг. управляющий 2-м отделением.
(обратно)14
Аракчеев Алексей Андреевич (1769 — 1834) — русский государственный деятель, граф (с 1799), генерал, всесильный временщик при Александре I. С 1808 г, — военный министр, с 1810 г. — председатель военного департамента Государственного совета.
(обратно)15
Анахорет — пустынник, странник.
(обратно)16
«Вестник Европы» — двухнедельный журнал, издававшийся в Москве в 1802 — 1830 гг. Основан Н. М. Карамзиным, который был его редактором до 1804 г. и активно в нем печатался. В 1808 — 1809 гг. редактором его был В. А,- Жуковский. «Вестник Европы» был одним из первых русских журналов, который наряду со статьями по литературе и искусству широко освещал вопросы внешней и внутренней политики России, историю и политическую жизнь зарубежных стран. В 1814 г. в нем было опубликовано первое стихотворение А. С. Пушкина. После 1815 г. журнал постепенно приобретал всё более консервативное направление (редактировал его в это время М. Т. Каченовский), особенно усилившееся после подавления восстания декабристов в 1825 г., и потерял былую популярность.
(обратно)17
Калигула и Нерон были младенцами в сравнении с Грозным Иоанном!.. — Калигула — прозвище Гая Цезаря Германика (12 — 41), римского императора с 37 г. из династии Юлиев-Клавдиев. Его правление отличалось деспотическим произволом, разбазариванием государственных средств, притеснениями населения, конфискациями и пр. Требовал, чтобы его почитали как бога, и впал в так называемое кесарево безумие. После двух заговоров сенатской оппозиции был убит участниками третьего заговора.
Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (37 — 68) — римский император с 54 г. из династии Юлиев-Клавдиев. Жестокий, самовлюблённый, развратный правитель. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя разные слои римского общества. Первый гонитель христиан. Измена преторианской гвардии и осуждение сената вынудили Нерона покончить с собой.
(обратно)18
...идти следовало под начало директора департамента Тургенева Александра Ивановича. — Тургенев Александр Иванович (1784 — 1845), старший брат Н. И. Тургенева (см. ниже), общественный деятель, археограф и литератор. Директором департамента духовных дел иностранных исповеданий был в 1810 — 1824 гг. С февраля 1819 г. камергер. Был видным членом «Арзамаса». После суда над декабристами и осуждения его брата Николая настроения А. И. Тургенева приобрели оппозиционный характер, и он проводил жизнь в непрерывных хлопотах за брата, годами жил за границей.
(обратно)19
Тургенев Николай Иванович (1789 — 1871), брат А. И. Тургенева, государственный и общественный деятель, один из руководителей «Союза благоденствия» и видный член Северного общества, автор книги «Опыт теории налогов» и других сочинений. С 1824 г. находился за границей, заочно приговорённый к смертной казни, и стал политическим эмигрантом.
(обратно)20
...новоявленный Сперанский! — Сперанский Михаил Михайлович (1772 — 1839), граф, русский государственный деятель. С 1808 г. ближайший советник императора Александра I, член Комиссии составления законов, товарищ министра юстиции, инициатор создания Государственного совета (1810). По поручению государя составил план государственных преобразований России. Его политика вызвала недовольство дворянства, которое обвинило его в государственной измене и добилось его падения. В 1812—1816 гг. в ссылке, в 1819—1821 гг. — генерал-губернатор Сибири. С 1826 г. — фактический глава 2-го отделения. Руководил Комиссией составления законов.
(обратно)21
Орлов Михаил Фёдорович (1788—1842) — декабрист, генерал-майор. Брат А. Ф. Орлова (см. коммент. №29). Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Принимал капитуляцию Парижа. Член литературного общества «Арзамас». Член «Союза благоденствия». В 1826 г. уволен со службы, поскольку привлекался к суду по делу декабристов, сослан под надзор в Калужскую губернию. Не был осуждён благодаря заступничеству брата А. Ф. Орлова. С 1831 г. жил в Москве.
(обратно)22
«Сын отечества» — исторический, политический и литературный журнал; выходил в 1812—1844 гг. и в 1847—1852 гг. Основан Н. И. Гнедичем. В 1816—1825 гг. в журнале приобрели влияние члены декабристских организаций. Позднее журнал перешёл на официально-консервативные позиции.
(обратно)23
Воейков Александр Фёдорович (1779—1839) — поэт, переводчик, журналист. Был членом «Арзамаса», близок к кругу литературных друзей А. С. Пушкина. В 1821 — 1822 гг. явился создателем журнала «Сын отечества», в 1822—1838 гг. — редактор газеты «Русский инвалид» и «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду». Был острым полемистом. В журналистике преследовал коммерческие цели и слыл человеком беспринципным.
(обратно)24
Разумовский Алексей Григорьевич (1709 — 1771) — граф, генерал-фельдмаршал (1756). Родом из украинских казаков. Участник дворцового переворота 1741 г., когда Елизавета Петровна свергла малолетнего императора Ивана VI Антоновича. С 1742 г. — морганатический супруг императрицы Елизаветы Петровны.
(обратно)25
Фриштык — завтрак, закуска или перехватка перед обедом.
(обратно)26
«Русский инвалид» — военная газета, выходившая в 1813 — 1917 гг. Имела литературные приложения.
(обратно)27
Вольное общество любителей российской словесности — литературное общество в Петербурге в 1816—1825 гг. Возникло по инициативе группы молодых людей чиновничьего звания и первоначально носило консервативный характер. Направление его резко изменилось после избрания председателем в 1819 г. видного деятеля «Союза благоденствия», поэта Ф. Н. Глинки. Тогда же руководящее положение в обществе заняли будущие декабристы К. Ф. Рылеев, Н. А. и А. А. Бестужевы и др. К ним примыкали Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг. На заседаниях обсуждались вопросы истории, науки, искусства, читались «Думы» Рылеева и другие произведения ранней декабристской литературы. А. А. Перовский был избран членом этого общества в 1820 г.
(обратно)28
...письмецо нашего ссыльного поэта. Писано ещё из Кишинёва, — Видимо, письмо, о котором идёт речь в романе, передано с большим опозданием, ибо действие происходит в 1825 г., а Пушкин в то время находился уже в Михайловском, куда приехал 9 августа 1824 г. Кишинёвский же период южной ссылки поэта закончился в 1823 г., в июле, когда генерал И. Н. Инзов сдал должность новороссийского генерал-губернатора новому начальнику, графу М. С. Воронцову, и центром правительства края стала Одесса, куда переехал и Пушкин, зачисленный в канцелярию генерал-губернатора.
(обратно)29
...брат родной Михаила, Алёшка... — Орлов Алексей Фёдорович (1786 — 1861), князь, русский государственный деятель. Брат М. Ф. Орлова (см. коммент. №21). Участник Отечественной войны 1812 г., с 1817 г. генерал-майор. Участвовал в подавлении восстания декабристов. С 1836 г. член Государственного совета. С 1844 г. шеф жандармов и начальник 3-го отделения, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1828 — 1856 гг. выполнял дипломатические миссии Николая I и Александра II.
(обратно)30
Адлерберг Владимир Фёдорович (1791 — 1884) — граф, русский государственный деятель. Был адъютантом великого князя, потом императора Николая I; позже, в 1842 — 1857 гг., управлял почтовым департаментом — при нём в России введены почтовые марки. В 1852 — 1870 гг. был министром императорского двора и уделов.
(обратно)31
Деизм — религиозно-философская доктрина, которая признает Бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную «машину» природы и давший ей законы и движение, но отвергает дальнейшее вмешательство Бога в самодвижение природы (т. е. Промысл Божий, чудеса и все пр.) и не допускает иных путей к познанию Бога, кроме разума.
(обратно)32
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 — 1853) — русский журналист, писатель, автор исторических романов. Писал доносы на русских писателей. Издатель реакционной газеты «Северная пчела» (1825 — 1859; с 1831 г. совместно с Н. И. Гречем), журнала «Сын отечества» (1825 — 1839, совместно с тем же Гречем).
Греч Николай Иванович (1787 — 1867) — русский журналист, писатель, филолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1827 г. Сторонник официальной народности.
(обратно)33
...в доме Зинаиды Волконской, провожали Марию к мужу... — Княгиня Зинаида Александровна Волконская (1789 —1862), урождённая княгиня Белосельская-Белозерская, имела в Москве один из самых известных литературно-музыкальных салонов, собиравших в её доме на Тверской улице лучших людей своего времени. В 1829 г. уехала в Италию. Была замужем за братом С. Г. Волконского — Никитой Григорьевичем, егермейстером, генерал-майором свиты.
(обратно)34
...припомнилась девочка на берегу тёплого моря... — С Волконской Марией Николаевной (1805 — 1863), дочерью генерала Н. Н. Раевского и впоследствии женой декабриста С. Г. Волконского, Пушкин был знаком ещё очень давно и особенно сблизился с ней и её семейством во время совместной поездки на кавказские минеральные воды и по Крыму. Общение их продолжалось и в Кишинёве, и в Одессе в годы южной ссылки Александра Сергеевича.
(обратно)35
...за четыре месяца до войны... — Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг., явившаяся следствием кризиса Османской империи, вызванного Греческой национально-освободительной революцией 1821 — 1829 гг. Русские войска взяли в Закавказье Карс и Эрзурум, разгромили турецкие войска в Болгарии и подошли к Константинополю. Завершилась Адрианопольским миром 1829 г.
(обратно)36
«Северная пчела» — русская политическая и литературная газета, выходившая в 1825 — 1864 гг. — до 1831 г. три раза в неделю, затем ежедневно. После 1825 г. была рупором монархизма и реакции.
(обратно)37
Тупей — взбитый хохол на голове.
(обратно)38
Куницын Александр Петрович (1783 —1840) — адъюнкт-профессор в Царскосельском лицее (1811 — 1820), автор книги «Право естественное». Куницын — единственный из учителей, о котором Пушкин вспоминал с благодарностью в своих произведениях и, по воспоминаниям П. А. Плетнёва, всегда восхищался его лекциями и «лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение».
(обратно)39
«Телескоп» — литературно-общественный журнал, выходивший в Москве в 1831 — 1836 гг. Издавался Н. И. Надеждиным. Закрыт за опубликование первого из «Философических писем» П. Я. Чаадаева.
(обратно)40
Малиновский Алексей Фёдорович (1760 — 1840) — начальник Московского архива Министерства иностранных дел (1814 — 1840), сенатор; историк, археограф, писатель, переводчик. Брат В. Ф. Малиновского — первого директора Царскосельского лицея — и П. Ф. Малиновского — участника суворовских походов, действительного статского советника.
(обратно)41
«Московский наблюдатель» — русский двухнедельный журнал в 1835 — 1839 гг., выходивший при участии А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Е. А. Баратынского и др. С 1838 г. выражал мнения В. Г. Белинского и Н. В. Станкевича.
(обратно)42
...в феврале этого, восемьсот пятьдесят четвёртого года Россия вступила в войну с Англией и Францией, и вражеский флот, войдя в Чёрное море, начал осаду Севастополя — Речь идёт о Крымской войне 1853 — 1856 гг. (Восточная война), начавшейся как русско-турецкая за господство на Ближнем Востоке. С февраля 1854 г. Турция выступала в ней в союзе с Великобританией, Францией и Сардинским королевством (с 1855). В 1854 г. союзники высадились в Крыму, а также начали блокаду Балтийского моря. Началась Севастопольская оборона, продлившаяся 349 дней. В этой войне Россия потерпела поражение из-за военной и экономической отсталости. Завершилась Парижским миром 1856 г.
(обратно)43
...круг сотрудников «Современника». — Речь идёт уже о так называемом некрасовском «Современнике» — ежемесячном журнале, выходившем в Петербурге в 1847—1866 гг. Издателями его были Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. В 1848—1855 гг. (годы политической реакции) журнал преследовался цензурой. Но и в этот период продолжал отстаивать принципы «гоголевского направления». В 1854 г. его читатели впервые встретились здесь с сочинениями Козьмы Пруткова (сатирическими стихами, афоризмами и пр.), явившегося коллективным псевдонимом А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых. После Крымской войны и крестьянской реформы в журнале развернулась деятельность Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. К исходу 1858 г. журнал был прежде всего политический, хотя беллетристика и литературная критика по-прежнему занимали в нем немало места. Но А. К. Толстой уже в 1857 г. отошёл от участия в «Современнике».
(обратно)44
...принуждённый почти на склоне лет вить своё позднее семейное гнездо в чужих палестинах... — Русский поэт Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) встретился со своей будущей женой, дочерью Г. Рейтера, в Германии в 1840 г., тогда же подал в отставку. В 1841 г. он венчался в русской церкви в Штутгарте и поселился с женой в Дюссельдорфе. С сентября 1848 г. переселился в Баден-Баден, где и умер в 1852 г.
(обратно)45
Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — русский литературный критик, мемуарист. Подготовил первое научное издание сочинений А. С. Пушкина.
Боткин Василий Петрович (1811/12—1869) — русский писатель, западник. Брат известного русского терапевта С. П. Боткина и художника и коллекционера М. П. Боткина.
(обратно)46
«Русский вестник» — литературный и политический журнал, основанный в 1856 г. в Москве М. Н. Катковым. Выходил два раза в месяц, с 1861 г. — ежемесячно. До 1861 г. был умеренно-либеральным в духе английской конституции. После 1861 г. (крестьянской реформы) перешёл на сторону реакции. В 1862—1887 гг. журнал был авторитетом для консериативных кругов русского общества, имел влияние и на правительственные сферы.
(обратно)47
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — русский публицист. Кроме «Русского вестника» издавал газету «Московские ведомости».
«Библиотека для чтения» — первый в России толстый журнал (до 30 печатных листов), положивший начало «торговому направлению» в русской журналистике. Издавался А. Ф. Смирдиным.
«Время» — ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1861 — 1863 гг. М. М. Достоевским при ближайшем участии Ф. М. Достоевского, его фактического редактора.
(обратно)48
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — русский публицист, поэт, сын писателя С. Т. Аксакова. Служил в департаменте правительствующего сената, затем в министерстве внутренних дел. Вышел в отставку в 1852 г. В 1855 г., во время Крымской войны, служил добровольцем в ополчении. В 1858—1859 гг. редактировал журнал «Русская беседа» — рупор славянофильства, который издавался в Москве в 1856—1860 гг. С января 1866 г. был женат на дочери Ф. И. Тютчева Анне.
(обратно)49
Камер-фурьерскии журнал — регулярные записи дворцовых церемоний и быта царской семьи, которые вёл камер-фурьер (придворный чиновник 6-го класса).
(обратно)50
Миннезингеры — немецкие рыцарские поэты-певцы; их искусство возникло в XII в. под влиянием провансальских трубадуров. Воспевали любовь к даме, служение Богу и сюзерену, крестовые походы, стремясь согласовать светски-рыцарское и религиозное миропонимание.
(обратно)51
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826 — 1911) — русский историк, журналист и общественный деятель либерального направления. Профессор Петербургского университета. В 1866 —1908 гг. редактор-издатель «Вестника Европы» — ежемесячного литературно-политического журнала буржуазно-либерального направления, выходившего в Петербурге (в 1866 — 1867 гг. по 4 тома в год).
(обратно)52
Очерет (южн.) — камыш, тростник.
(обратно)53
Это всё... Мишель Бакунин... — Бакунин Михаил Александрович (1814 — 1876), русский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. В 1861 г. бежал из ссылки за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым. Позже выступал против марксизма.
(обратно)54
Искандер — псевдоним А. И. Герцена (1812 — 1870), русского революционера, писателя, философа, под которым он печатался с 1836 г.
(обратно)55
Стрюцкий — подлый, дрянной, презренный человек; человек сомнительной репутации.
(обратно)56
...непокорная мадам де Сталь... — Сталь (по мужу Сталь-Гольштейн) Анна Луиза Жермена, французская писательница, теоретик литературы. Дочь Неккера, министра финансов при короле Людовике XVI; жена шведского посланника. В 1803 г. за проповедь свободы, оппозиционные настроения по отношению к деспотизму Наполеона, которые смело высказывала в своих книгах, была изгнана из Парижа, потом из Франции. Жила в Швейцарии, путешествовала по Европе, в том числе посетила и Россию. Её книгу «О Германии» (1810) Наполеон приказал конфисковать, и уже после его падения эта книга вновь была переиздана во Франции.
(обратно)
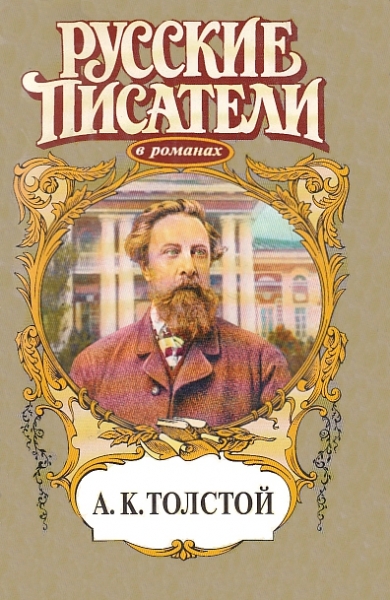



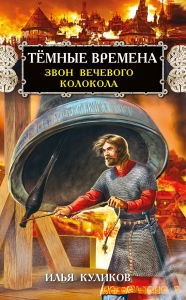
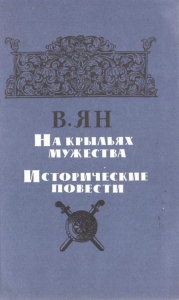
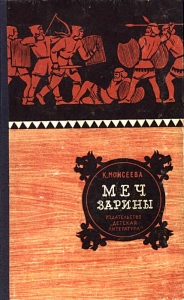

Комментарии к книге «Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой», Юрий Иванович Когинов
Всего 0 комментариев