Дуэль четырех. Грибоедов
Из Краткой литературной энциклопедии,
т. 2. М. 1964.
ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ [4(15). 1.1795 (по др. данным 1794), Москва — 30.1 (11.11). 1829, Тегеран, похоронен в Тифлисе] — русский писатель и дипломат. Родился в семье гвардейского офицера. Получил разностороннее домашнее образование. С 1802 (или 1803) по 1805 г. учился в Московском университетском Благородном пансионе. В 1806 г. поступил в Московский университет на философский факультет. В 1810-м, окончив словесное и юридическое отделения, продолжал учиться на физико-математическом факультете. В университете Грибоедов выделялся разносторонней талантливостью, незаурядными музыкальными способностями, владел несколькими европейскими языками. Научные интересы Грибоедов сохранил на всю жизнь (см. его заметки по истории, археологии).
В студенческие годы Грибоедов общался с будущими декабристами: Н. М. и А. 3. Муравьёвыми, И. Д. Якушкиным, А. И. Якубовичем. Впоследствии особенно близок был с П. Я. Чаадаевым. В 1812 г. Грибоедов поступил добровольцем в армию; кавалерийские части, в которых он состоял, находились в резерве. В 1814 г. Грибоедов опубликовал в журнале «Вестник Европы» корреспонденции «О кавалерийских резервах», «Письмо из Брест-Литовска к издателю». В 1815-м опубликована и поставлена на сцене комедия «Молодые супруги» — переделка комедии французского драматурга Крезе де Лессера «Le secret du menage», вызвавшая критику М. Н. Загоскина. Грибоедов ответил памфлетом «Лубочный театр».
В 1816 г., выйдя в отставку, Грибоедов поселился в Петербурге. В 1817-м он зачисляется на службу в Коллегию иностранных дел, знакомится с литераторами — В. К. Кюхельбекером, Н. И. Гречем, позднее с А.С. Пушкиным. В начале литературной деятельности сотрудничает с П. А. Катениным, А. А. Шаховским, Н. И. Хмельницким, А. А. Жандром. В 1817 г. написана комедия «Студент» (совместно с Катениным), направленная против поэтов «Арзамаса», последователей Н. М. Карамзина. Высмеивая их, Грибоедов полемизировал как с чувствительностью сентиментализма, так и с мечтательностью романтизма в духе А.А. Жуковского. Разделяя литературные позиции И. А. Крылова и Г. Р. Державина, Катенина и Кюхельбекера, Грибоедов был близок к группе так называемых «архаистов», состоявших в «Беседе любителей русского слова», возглавлявшейся А. С. Шишковым, хотя, конечно, был далёк от политического консерватизма последнего. Эти взгляды сказались в статье Грибоедова «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора», в которой он защищал перевод, сделанный Катениным, от критики Н. И. Гнедича. Комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» написана в 1817 г. в основном Шаховским, но с помощью Грибоедова (ему принадлежит начало 2-го действия) и Хмельницкого. Комедия «Притворная неверность», являющаяся вольным переводом (совместно с Жандром) комедии французского драматурга Барта «Les fausses infidelites», в 1818 г. была представлена на сценах Петербурга и Москвы, в 1820-м — в Орле.
В середине 1818 г. Грибоедов назначен секретарём русской миссии в Персии. Назначение это было по существу ссылкой, поводом для которой послужило участие Грибоедова секундантом в дуэли офицера В. А. Шереметева и графа А. П. Завадовского из-за артистки Истоминой.
В феврале 1819 г. Грибоедов приехал в Тавриз. Вероятно, к этому времени относится отрывок из его поэмы «Путник» (или «Странник») — «Кальянчи» о пленном мальчике-грузине, которого продают на Тавризском рынке. С 1822 г. Грибоедов состоит в штабе главноуправляющего Грузией генерала А. П. Ермолова «по дипломатической части» в Тифлисе. Здесь написаны два первых акта комедии «Горе от ума», задуманной, по свидетельству С. Н. Бегичева, ещё в 1816 г. В 1823-1825 гг. Грибоедов был в длительном отпуске. Летом 1823-го он пишет в тульском имении своего друга Бегичева 3-й и 4-й акты комедии «Горе от ума». Осенью того же года написал вместе с П. А. Вяземским водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», музыку для которого сочинил А. Н. Верстовский. Летом 1824 г. Грибоедов завершил окончательную обработку текста комедии «Горе от ума».
В конце 1825 г. Грибоедов возвратился на Кавказ. После успеха на литературном поприще, дружеских общений с декабристами (К. А. Рылеевым, А. А. Бестужевым-Марлинским, А. И. Одоевским и др.), встреч с деятелями Южного и Северного обществ (М. П. Бестужевым-Рюминым, С. И. Муравьёвым, С. П. Трубецким и др.) у Грибоедова зрели замыслы новых произведений, дошедшие до нас лишь во фрагментах. План драмы «1812 год» (1824-1825) свидетельствует о том, что Грибоедов предполагал изобразить героев Отечественной войны, среди которых — крепостной крестьянин, изведавший в боях чувство высокого патриотизма; возвращённый по окончании войны «под палку своего господина», он кончает жизнь самоубийством. Дошедшая до нас в отрывке и в пересказе Ф. Б. Булгарина трагедия «Грузинская ночь» (1826-1827), основанная на народном грузинском предании, проникнута антикрепостнической мыслью. План трагедии из истории Древней Армении и Грузии «Родамист и Зенобия» показывает, что Грибоедов отдавал, с одной стороны, дань склонности к историческим исследованиям, а с другой — политическим проблемам настоящего, перенесённым в далёкую эпоху, он размышлял о царской тирании, провале заговора вельмож, не опиравшихся на народ, о роли народа и т. д.
После разгрома восстания декабристов Грибоедов был в январе 1826 г. арестован и привезён с Кавказа в Петербург. С 22 января по 2 июня 1826 г. Грибоедов находился под следствием по делу декабристов. Его спасло отсутствие прямых обвинительных материалов, самообладание на допросах, счастливое стечение некоторых обстоятельств, ходатайство А. П. Ермолова и родственника Грибоедовых, фаворита Николая I — И. Ф. Паскевича. После возвращения в сентябре 1826 г. на Кавказ Грибоедов выступает уже как государственный деятель и выдающийся дипломат. В 1827 г. ему предписано ведать дипломатическими сношениями с Турцией и Персией. Грибоедов принимает участие в вопросах гражданского управления на Кавказе, составляет «Положение по управлению Азербайджана», при его участии были основаны в 1828 г. «Тифлисские ведомости», открыт «рабочий дом» для женщин, отбывающих наказание. Грибоедов составляет вместе с П. Д. Завелейским проект об «Учреждении Российской Закавказской компании», чтобы поднять промышленность края. В 1828 г. принимает участие в Туркманчайском мирном договоре, заключённом с Персией. Затем он назначается полномочным послом в Персию. Грибоедов рассматривал это назначение не как «монаршую милость», а как «политическую ссылку», как «чашу страданий », которую ему предстояло испить.
В августе 1828 г. в Тифлисе, перед отъездом в Персию, Грибоедов обвенчался с Н. А Чавчавадзе. Оставив жену в Тавризе, выехал с посольством в Тегеран. Здесь он стал жертвой заговора, во главе которого стояли Фет-Али шах и его сановники, подкупленные Англией, боявшейся усиления влияния России в Персии после русско-персидской войны 1826-1828 гг. Во время истребления русского посольства в Тегеране был убит толпой персидских фанатиков. Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе Св. Давида.
Грибоедов вошёл в ряд великих русских и мировых драматургов как автор комедии «Горе от ума». Отвергнутая цензурой (при жизни Грибоедова были опубликованы только отрывки в альманахе «Русская Талия», 1825), комедия распространялась в многочисленных списках. Впечатление от комедии было ошеломляющее. Декабрист А. П. Беляев говорил, что слова Чацкого о продаже крепостных «поодиночке» приводили читателей в ярость, декабрист И. И. Пущин спешил познакомить с выдающимся произведением опального Пушкина в Михайловском. Литературная полемика, разразившаяся вокруг комедии, свидетельствовала об её огромной общественной актуальности.
С момента появления в печати первых отрывков «Горя от ума», на протяжении столетия комедия Грибоедова стала объектом многочисленных критических оценок, в то же время она оказала значительное влияние на развитие русской прогрессивной общественной мысли. Уже в 1825 г. она подверглась яростным нападкам со стороны реакционной критики (М. А. Дмитриев, А. И. Писарев), утверждавшей, что комедия искажённо рисует русскую действительность, что главный её герой — сумасброд и пустослов, а язык комедии неровный и неправильный. Эти нападки вызвали отпор со стороны писателей-декабристов и их единомышленников. В статьях А. А. Бестужева-Марлинского, О. М. Сомова, С. Н. Бегичева, а также близкого в ту пору к декабристским кругам В. Ф. Одоевского утверждалось, что «Горе от ума» является классическим произведением русской литературы, что это живая картина московских нравов, что Чацкий, будучи во всём противоположен окружающему его обществу, является человеком, истинно любящим родину, что комедия написана живым русским языком, близким к народной речи. К высказываниям декабристов в некоторой мере примыкает отзыв А. С. Пушкина о «Горе от ума» в его письмах к Бестужеву-Марлинскому и П. А. Вяземскому (янв. 1825). Пушкин, не соглашаясь с принципами создания образа Чацкого и мотивировкой его поведения, однако, добавил: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». Комический гений Грибоедова Пушкин видел в создании «характеров и резкой картины нравов». «О стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу». Высоко оценил комедию Н. В. Гоголь. В статье «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность» он раскрыл огромное общественное значение «Горя от ума». В 1839 г. К. А. Полевой предпослал 2-му изданию комедии статью «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», являвшуюся первой критико-биографической работой о Грибоедове.
Большое место в критической литературе о «Горе от ума» занимает непревзойдённая по тонкости анализа статья И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (1872). Свидетельством общественной актуальности комедии Грибоедова служит и переосмысление его персонажей в сатире М. К. Салтыкова-Щедрина (например, образ Молчалина в цикле «В среде умеренности и аккуратности», в романе «Современная идиллия»).
Комедия Грибоедова оказала огромное влияние на развитие русского театрального искусства. Явилась блестящей школой реализма для многих поколений актёров. Впервые в 1831 г. в ней выступили М. С. Щепкин (Фамусов) и П. С. Мочалов (Чацкий). Первые её постановки в Петербурге шли в урезанном цензурой виде. Для театров вне Москвы и Петербурга комедия была запрещена до 1863 г. Со 2-й половины XIX в. в «Горе от ума» проявили свой талант великие актёры Малого театра, МХАТа и др.: А. А. Яблочкина и В. Н. Давыдов, К. С. Станиславский и В. И. Качалов. В советское время постановка «Горя от ума» привлекала режиссёров разных творческих направлений — В. Э. Мейерхольда, В. И. Немировича-Данченко, Г. А. Товстоногова и др.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Сосед! на свете всё пустое:
Богатство, слава и чины;
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены, —
То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть
И с ними сладко есть и пить...[1]
лавно, забавно, на душе хорошо! Размышляя об этом, мысленно с лёгкой улыбкой читая стихи, Александр наблюдал, как в этот миг Якубович, высокий, плечистый, с яростью воткнул свою длинную драгунскую саблю в заснеженную, но всё ещё по-осеннему мягкую землю и зычно, раскатисто прокричал:
— Пора!
Громкий крик, внезапно раздавшийся в тишине просторного поля, угрюмо молчавшего под низким нахмуренным небом, толкнул высокого Иона в сутулую тощую спину. Ион в испуге метнулся вперёд, широко и неловко взбрасывая длинные ноги, старательно взмахивая правой рукой в вязаной толстой перчатке, после каждого шага тревожно обводя всех наивным вопрошающим и осуждающим взглядом.
Все зашевелились, задвигались. Злобно скалясь, сверкая бешеными глазами, молодой Шереметев сорвал фуражку взлохмаченной головы и не глядя отбросил её куда-то под куст. Секунданты в военных шинелях завозились у плоских чёрных лакированных ящиков, застывшими пальцами суетливо отпирая замки. Низенький доктор в чёрной шляпе и в чёрном штатском пальто невозмутимо толкался вдали, у трёх тонких обнажённых берёзок, постукивая сапог о сапог. Отрывисто раздавались невнятные быстрые приглушённые голоса. Хрустел свежий снег под толстой кожей подошв.
Накануне металась совсем зимняя долгая злая метель, нагоняя тоску. Ночью притихло, стукнул первый, лёгкий, ещё не привычный мороз. День выдался звонкий, здоровый, но серый, строго насупивший тяжкие тучи. Пар валил изо рта. Хотелось сильных движений и быстрого бега лёгких саней.
Как пенится вино прекрасно! Какой в нём запах, вкус и цвет! Почто терять часы напрасно? Нальём, любезный мой сосед!..Высокий чёрный цилиндр беспечно был сбит на затылок. Александр, совершенно согласный с любезным Гаврилой Державиным, неслышно бормоча эти бодрые строки, отодвинулся несколько в сторону, чтобы не помешать поединку. Тонкие длинные ноздри, широко раздуваясь и вдруг опадая, жадно хватали морозную бодрую свежесть. Он весь был празднично возбуждён, и от этого возбужденья ему становилось нетерпеливо и жарко и трудно на месте стоять. Насмешливо улыбаясь, спокойно и прямо глядя на хлопотавших друзей, неизменных спутников всех его шалостей, которым предавался напропалую уже целый год, он рывками сдёрнул с верхних петель крючки, но хлынувший холод не остудил разгорячённую грудь. Ему не терпелось ввязаться в это весёлое, в это славное дело. Озорство и азарт переполняли его. Он переступал с ноги на ногу, ожидая, когда и его наступит черёд и он подойдёт к длинной сабле и уж покажет, покажет себя.
А тем временем Ион, нескладный и тощий, бормоча по-немецки, смешно путаясь в долгополой русской, застёгнутой наглухо шубе, с торопливой медлительностью отмерял роковые шаги. Лицо, костистое, длинное, с колбасками рыжих немецких бачков, было растерянным, бледным и совсем некрасивым, ещё некрасивей, чем бывало всегда. Припухлые красные губы испуганно и виновато приоткрывались.
Чего же он медлит? Экий болван!
Наконец Ион встал, и рядом с ним воткнули в землю ещё одну саблю, короче, гвардейских гусар. Ион заворожённо, непонимающе глядел на неё. Ему кричали, призывно махая руками:
— Богдан Иваныч, подите сюда!
Но бедный Ион всё не двигался с места с этим своим застывшим, смущённым, недоумевающим взглядом, когда всё это было так весело, так хорошо, чудак человек!
Между саблями было отсчитано десять шагов, — это ли пристойное расстояние так сильно смущало учителя, иное ли что? Э, да чёрт с ним!
Чёрные петли кистей, украшавших эфес, мерно раскачивал низкий незлой порывистый ветер.
Глядя как будто на эти чёрные петли, бедный Ион, казалось, готов был заплакать, чего доброго, ещё зарыдать.
Александр улыбнулся открыто, довольно, чуть не смеясь. Он нарочно вытащил своего неуклюжего учителя-дядьку на эту двойную дуэль. Один вид пистолета бросал доброго, сентиментального Иона в мелкую дрожь. Ещё будучи, заботами матушки, наставником и гувернёром, Ион частенько сопровождал его в тир по обязанности, однако вечно оставался за дверью, где его мучили совесть и страх, и старательно забивал свои длинные уши хлопчатой бумагой, и сбивчиво, повторяясь и торопясь, бормотал и путал молитвы, которые оберегли бы порученное его попечению хоть и взрослое, но неразумное детище.
Теперь Александр с удовольствием глядел на него сквозь стёкла очков. Взъерошенный, встрёпанный, Ион напоминал ему зайца, присевшего на задние лапы и вытаращившего с испугу глаза. Его подмывало вдруг свистнуть в два пальца и поглядеть, как ошарашенный Ион скачками забьётся в сплошные кусты и спрячется в них. Он не свистел, жалея наставника-друга, но про себя насмешливо повторял:
«Небось уши здесь не заткнёшь... Привыкай, привыкай, Богдан-Иоганн...»
Завадовский, чопорный и прямой[2], изображая прирождённого родового британца, подошёл своим обыкновенным, размеренным, точно искусственным, деланным шагом и сказал по-английски негромко несколько сухих, простучавших как игральные кости, отрывистых слов.
Ион усиленно закивал в знак согласия и поплёлся, сутулясь, шмыгая толстым пористым носом, и широкая русская шуба, точно зипун на жирафе, нелепо болталась на узких костлявых плечах.
Александр, оглядывая картину, с наслаждением ощущал своё лёгкое сильное тело. Голова хорошо и сладко кружилась, как от первого хмеля. Он насмешливо повторял:
«Ай-шагай, Богдан-Иоганн... ай-шагай...»
Его кружила любезная ему бесшабашность. Может быть, в первый раз испытал он это отличное чувство на балу у кичливого старого польского пана, твёрдо мог бы сказать, что запомнил, что в первый раз. С той поры бесшабашность завлекала, бесшабашность манила его, как вино. Он и счастлив бывал лишь тогда, когда безумная бесшабашность завлекала его чёрт знает куда. Хорошо!
Ему тоже поднесли пистолеты на выбор. Он взял свой не глядя; не снимая перчатки с нагретой руки. Время у него ещё было: он стрелялся вторым.
Он стоял, откинув задорную голову, упираясь узким затылком в твёрдый поднятый воротник, делая сильный размашистый выдох.
Он не хотел, чтобы очки его запотели: стёкла протирать на барьере было бы слишком смешно.
Над прочими смеяться приятно — над собой давать смеяться грешно, не позволительно, если не глупо. На дуэли очки и без того довольно смешны, но, может быть, благодаря изяществу и беспечности поведения его очков не приметит никто.
Он достаточно натерпелся от них. Среди офицеров боевого полка он был единственный очкастый корнет. Юность тоже протекла одиноко. Он с увлечением изучал философию, словесность, историю, право, а в гусарском мундире он и сам представлялся себе неловок и неуклюж, как этот Богдан-Иоганн, который в самом деле пугливо совался в кусты, сбивая гирляндами снег. И служить пришлось в кавалерийских резервах, а не в полках, которые дрались под Лейпцигом и брали Париж. Свою дерзкую храбрость выказать было решительно негде. Её заменяла небрежность кавалерийской посадки и задорное во всём щегольство. Пришлось-таки повозиться с собой, отучаясь от матушкиной хлопотливой опеки. Поначалу гусарский мундир сидел на нём едва ли не так же смешно, как на Ионе долгополая русская шуба. А тут ещё эти очки.
Он с высокомерной улыбкой смотрел сквозь нижний край этих крохотных узеньких стёклышек, которые придавали резкость и чёткость воткнутым саблям, кустам и фигурам друзей, составлявшим картину приготовлений. Противники уже шли от барьеров к местам. На таком расстоянии ему виделись одни силуэты, и каждого из друзей он узнавал по походке, по манере держать пистолет.
Налево Завадовский выступал не спеша, нагнув остриженную по-английски короткую круглую голову, брезгливо стараясь попасть в проложенный Ионом след. Пистолет держал в левой руке, правую согревал за отворотом шинели, это надо заметить Себе.
Шереметев[3], в распахнутом кавалергардском мундире, почти бежал на позицию, размахивая крепко стиснутым кулаком, прижимая к груди пистолет, спотыкаясь и увязая в глубоком снегу.
Поле боя близких друзей было открытым и плоским. Порывистый ветер, тёплый, влажный, на оттепель, свободно проносился по просторам его. Люди ёжились, сохраняя тепло, и прятали непривычные, ещё не зимние лица.
Один Шереметев открыто и жарко стоял на ветру, молодец! Этому мальчику, нелепому юноше, всегда и во всём улыбалась судьба. Большая карьера, по влиянию и связям отца, ждала его впереди. В мальчишеской фигуре выражались отвага и нетерпенье. Боковой ветер бросал ему в глаза подвитые тонкие кудри. Шереметев беспокойно и торопливо отбрасывал их, уже готовя свой пистолет.
Александру нравился этот порывистый мальчик. Шереметева задор и весёлость заражали его. Томление духа, от которого тяжко страдал, оставаясь часто один, рядом с ним пропадало бесследно. Ему становилось всё нипочём. Рядом с этим удалым поручиком, только что получившим штаб-ротмистра, он готов был пускаться в любые дурачества. Полковая лихость возвращалась к нему.
Он едва различал сквозь стёкла очков взбудораженные глаза и по-детски обиженный рот. По открытой напряжённой нервной фигуре он угадывал ему милые решимость и удальство. Он этим мальчиком любовался и хладнокровно ждал продолжения, надеясь увидеть превосходный спектакль.
Завадовский тоже встал на отведённое место, сосредоточенно потоптался, приминая пушистый рассыпавшийся снег, и коротким, сильным движением прямых мускулистых плеч наконец сбросил шинель. Шитый мундир камер-юнкера был Завадовскому очень к лицу. Высокий воротник и жабо подпирали небольшой, но крутой подбородок, отчего круглая голова с горделивым спокойствием держалась на широких плечах.
И вот противники были готовы. Оставалось подать последний сигнал. Вездесущий стремительный Якубович[4] с гривой чёрных жёстких волос что-то запальчиво говорил секундантам. Секунданты ему возражали. Противники ждали, пока кончится неуместный, затянувшийся спор.
Все они были приятели, многие были друзья. Всё их роднило между собой: воспитание, отгремевшая недавно война и победа, привычки беззаботных праздных гуляк. У них были почти одинаковые взгляды на всё, общие квартиры, общие кошельки. Им одинаково грезились доступные женщины, громкие подвиги, которых не успели они совершить на поле сражений, и привольная, бесшабашная жизнь. Они развлекались, дурачились вместе, отправлялись вместе в театр, вместе неистово-громким аплодисментом вызывали одних и тех же пылко любимых актрис, вместе напевали модные арии, вместе кутили всю ночь напролёт.
И если один из них за вздор, за пустяк вызывал к барьеру другого, им, стоявшим насмерть при Бородине и при Красном, эти вызовы не казались серьёзны. Поединок бывал для них только острой потехой, как чёрный перец в пресной еде, лишь бы кровь побежала быстрей.
Возраставшее возбуждение отвлекало его от этих спокойных и потому посторонних теперь уже мыслей. Александр зорко следил, сильно щуря глаза, как на середину выбирался Каверин, красивый гвардейский гусар, привыкший к седлу и паркету, прославленный дерзким бретёрством[5]. Он различал, как тот увязал в молодом глубоком снегу и путался в полах длинной шинели. Он улыбался и думал:
«Гусар без коня — не гусар, гусар без коня — эпиграмма...»
Он чувствовал себя как в тот ослепительный вечер. Он даже выгибался немного в спине, ощущая гибкое тело, шалея от буйного кипения сил, взбудораженный до ледяного спокойствия истинной смелости. Ни о чём он больше не думал, иного ничего не хотел.
Собираясь в тот вечнопамятный вечер на бал к кичливому старому польскому пану, они выпили всего по стакану шампанского, надеясь поздней наверстать. Все пятнадцать пуговиц были застёгнуты доверху. Сапоги сверкали чёрным огнём. На ментике матово отливало золотое шитьё[6]. От начищенных шпор разливался серебряный звон. Они выскочили, рассыпля его, на крыльцо. Крыльцо освещалось подвесным фонарём. За потемневшим от нагара стеклом дрожало широкое пламя толстой свечи. Свет и тень метались и двигались у порога, а вдали густела осенняя кромешная тьма.
Его охватила бодрая свежесть наступающей ночи. В нём всё росли весёлость и сладкая бодрость порыва, неизвестно куда и к чему. Его растущим клокочущим силам необходим был необъятный простор. Хотелось без устали мчаться куда-то, вскочив на коня. Хотелось свершать и творить, что-нибудь, всё равно.
Под серебряный звон, шутя и толкаясь, они сбежали с крыльца. В круг неяркого жёлтого света, который дрожал и мотался, денщики подводили холёных кровных коней, и они с молодым беспечным проворством прыгали в сёдла, едва касаясь стремян. В нетерпении сытые кони перебирали ногами. Скрипела кожа седла, звякал металл о металл, взлетали в ночи возбуждённые голоса.
Они поскакали в чёрную тьму. Подковы гремели о тёсаный камень дороги. Впереди сияли окна огней. В этих окнах маняще мелькали чьи-то фигуры. Польский нёсся зазывно всё громче навстречу. Радость рвалась через край, и дорога показалась слишком короткой: он не успел насладиться бешенством скачки, как они уже были на широком мощёном дворе, у залитого светом крыльца, перед разостланным пёстрым ковром.
Здесь стояли, ходили, перебегали лакеи, все в красных кафтанах и галунах. С мраморной лестницы красное сукно сползало прямо к ковру. Перила пестрели гирляндами дорогих оранжерейных цветов. По бокам, из плетёных корзин, смеялись загадочно красные и белые пышные розы. Игривая бойкая военная музыка несла и кружила ослепительный вальс.
Они спешивались, бросали поводья подбегавшим подобострастно лакеям, входили, снимали сабли и кивера[7]. Он один оставался в высоком кавалерийском седле, зацепившись шпорой за стремя. Над шпорой хлопотал невысокий неуклюжий старый лакей. Такая задержка его звонкую радость опалила стыдом. Вечно что-то мешало ему быть таким же, какими были они. Всё вздор да пустяк, а гляди, неприятели злорадно острили и друзья снисходительно потешались над ним. Всё не удавалось быть с остальными на равной ноге.
И он страстно мечтал совершить невозможное. Он ощущал, что храбрости, мужества, сил и ума у него предовольно на всё, надобно только решиться, надобно дать себе самому широкий простор, пусть-ка силы его развернутся вовсю, и он одним духом выплеснет всю свою мощь, чтобы видели, знали, восхищались и приходили в восторг.
Однако же что, однако же как совершить?
Вот никто же из братьев гусар не угораздился зацепиться за обыкновенное кавалерийское стремя. Они хладнокровно и лихо подкручивали усы, готовясь войти и предстать перед польскими панами во всём неотразимом своём молодечестве. Если кто-нибудь из них невзначай обернётся, все будут знать: у них один-единственный есть в штабе круглый дурак. В любую секунду он у всех на глазах должен был потерять своё редкое счастье, а с ним вместе достоинство, может быть, честь. У него оставался один только миг.
И что же?
Он готов был переломить эту чёртову шпору, но знал, что этого сделать нельзя, и отчаянье душило его, и возбуждённые шампанским и весёлостью силы его клокотали, он явственно видел, что непростительно неловок, возмутительно глуп. Он вдруг испугался ярких огней и снующих лакеев. Его подстрекал на что-то пленительно-дерзкий мотив, вырывавшийся из празднично освещённого зала. Он жаждал избавиться, поскорее высвободиться из нелепости своего положения, а пуще всего избавиться от стыда. Голова его кругом пошла. Он себя потерял.
Невысокий неуклюжий старый лакей наконец отцепил злосчастную шпору. Он рванул дерзко повод, шпоры впились точно сами собой. Ничего не подозревавший скакун взвился на дыбы и прыгнул вперёд. Промелькнули усы, зеркала и цветы. Стальные подковы ударили по гранитным нижним ступеням, покрытым толстым сукном. Он слышал, как мягкое сукно оседало, сползая, под ним. Он ощущал всем струной натянувшимся телом, что его конь вот-вот может соскользнуть назад и упасть, погребая его под собой. Он готов был взлететь и кошкой изгибался в седле, приподнявшись на стременах, страшась опуститься и тяжестью тела ослабить задние ноги коня. Ментик хлопал его по спине и тоже был слишком тяжёл, и кивер сполз на затылок, удержанный лишь ремешком.
Он не успел оглянуться, как очутился на довольно просторной площадке. Лестница вдруг раздвоилась. Сукно, белый мрамор, истошные визги гостей. Он успел повернуть в последний момент. Конь взлетел в три скачка и ворвался как вихрь в беспечно танцующий зал. Музыка, крики, аплодисменты, огни. Его торжественно, с одобрительным смехом стащили с седла. Он сделался шумным предметом восторгов и осуждений. Дамы наперебой выбирали его. Он сделался героем этого бала. Общее внимание было как раз по нему. Никогда ещё не испытывал он такого рода блаженства. И вот блаженство приближалось к нему в другой раз. В этот миг Александр ощущал себя выше ростом, чем был, он испытывал несравненное удовольствие всё глубже прогибаться в спине, он с нетерпением ждал, когда наконец настанет черёд легко и небрежно выйти на отмеченный драгунской саблей барьер, подставить себя под слепую пистолетную пулю и с прекрасной улыбкой выстрелить в небо.
Нарушая все правила поединка, Якубович в грозных усах топтался возле чрезмерно возбуждённого Шереметева и что-то настойчиво тому говорил, демонически вперившись прямо в пылавшие гневом глаза. Каверин выбрался наконец на середину дистанции и кашлял, прочищая, должно быть, застывшее горло. Якубович, махнув Шереметеву, на этот кашель стал отбегать. Каверин с игривой торжественностью вскинул правую руку, элегантно обтянутую парижской перчаткой, отчётливо скомандовал «три», взмахнул неторопливо, небрежно и, вновь увязая в глубоком пушистом снегу и путаясь в длинных полах шинели, отступил в безопасное место. Якубович повернулся к нему, глядя враждебно и с вызовом, дёргая ус.
Александр хорошо различал силуэты и жесты и потому остро чувствовал на себе этот вызывающий взгляд, однако не отвечал на него, а глядел, боясь пропустить, точно в партере сидел и с каким-то содроганием ждал, когда выйдет Катерина Семёнова[8].
Завадовский всё стоял, задрав круглую крепкую голову, круто выгнувши правую бровь, как делал всегда, холодно ожидая, точно изготавливаясь поднять пистолет, но всё ещё не поднимая его.
Шереметев сорвался, точно ужаленный, с места. Широко и порывисто двигались длинные, нескладные по-мальчишески ноги. Порывистое дыхание вырывалось со свистом. По-звериному ощерился капризный чувственный рот. Рука поднялась стремительно, резко. В то же мгновенье, как она поднялась, грянул выстрел, почти без прицела, навскидку, как в тире бьют по тарелкам. Пуля свистнула нежно и пробила Завадовскому, стоявшему боком, как должно, воротник сюртука.
Склонив голову, кося глазом, Завадовский поцарапал дырку от пули скрюченным пальцем и протянул удивлённо, позабывшись, по-русски:
— А, он на жизнь мою посягал.
И двинулся спокойно и тихо, всё стараясь попасть в чужой след красивым, стройным, начищенным сапогом, и крикнул негромко, но властно:
— К барьеру!
Ощерившись ещё злей, Шереметев почти пробежал пять шагов и встал к противнику боком, прикрыв по-мальчишески узкую несильную грудь своим разряженным пистолетом.
Каверин весело крикнул:
— Оставь его, Александр!
Остановившись точно возле воткнутой сабли гвардейских гусар, на эфесе которой по-прежнему тихо покачивалась тяжёлая кисть, Завадовский подумал недолго и спокойно сказал, вновь по-русски, чуть приподняв пистолет:
— Хорошо, я выстрелю в ногу.
У Александра вдруг замерло сердце: все знали, что Завадовский в искусстве стрельбы сравнивал себя с самим Россом, англичанином, капитаном, убивавшим ласточек на лету.
Дуэль в самом деле обещала сделаться острой шуткой, немного, быть может, болезненной, с несколькими каплями пролитой мальчишеской крови, это и пусть, мальчишка шальной, ну и что ж, пустяки, у мальчишек кровь дешева.
Александр с Завадовского, глаз не спускал.
Вот вспыхнул порох на полке беглым огнём, однако ж, к досаде, вышла осечка.
Секунданты, подбежав мелкой рысью, подсыпали новый.
Вторая.
Нервы натянулись, как струны, бодря и немного кружа: вот оно как, вот оно как...
Шереметев, резко вскинув лохматую голову с трепетавшими на ветру подвитыми кудрями, вдруг ожесточённо и в то же время презрительно вскрикнул:
— Убей меня, Сашка, убей, не то мы в другой раз станем стреляться, и я, вот увидишь, по тебе второй промах не дам! Слышишь, я тебя пристрелю, как собаку!
Завадовский посмотрел на него вопросительно, между тем как вновь на полку подсыпали порох, отсыревший, должно быть, да заодно поправили кремень.
Шереметев, не отходя от барьера, подозвав Якубовича взмахом руки, намеренно громко и угрожающе приказал:
— Заряди пистолет!
Ну, хорошая шутка превращалась мальчишкой в дурной водевиль. Александр подосадовал на шкодливого Ваську. К тому же у него начинала мёрзнуть рука. Представление слишком затягивалось и уже утомляло его, к тому же, простите, здесь не партер. Он был решителен, дерзок и смел, для него всё удовольствие поединка заключалось в стремительной лёгкости, от которой хотелось смеяться, обниматься с друзьями, пробки пулей пускать в потолок.
Он подумал, поправляя очки, что рука может застынуть совсем, именно с ним это дело нехитрое, и он не сможет сделать свой выстрел с той изящной небрежностью, ради которой, собственно говоря, явился сюда, и, чего доброго, попадёт в положенье неловкое, в какое попасть не хотел, а всё Васька-дурак — верещит.
Он продолжал с любопытством смотреть чужую дуэль, переводя взгляд с одного приятеля на другого, но уже хотелось кончить всё поскорей, прыгнуть в низкие санки, завернуться в широченную звериную полость, долететь до трактира, напиться горячего чаю, прибавляя для пущей крепости рому, согреться, куда-нибудь явиться на вечер и язвительно высмеять всех, просто так, не имея злости ни на кого: уж больно люди смешны, да и только. О Шереметеве он бы сказал...
Выстрел хлопнул.
Завадовский небрежно отшвырнул пистолет, издали похожий на чёрный чубук, и разряженный пистолет упал в снег и сразу исчез.
Шереметев в ответ потянулся всем телом, точно вставал на носки, собираясь что-то с полки достать, припрыгнул смешно, дрыгнул вяло ногой и тоже повалился на снег, почти сливаясь с ним белым мундиром.
Завадовский неторопливо отступил от барьера, поднял шинель и принялся заботливо, тщательно сбивать с неё снег.
Все разом побежали к упавшему.
Шереметев, обхватив какими-то большими ладонями пробитый пулей живот, нырял в пушистом снегу, точно выброшенный на берег карась, и жадно хватал его уже восковыми губами.
Каверин, взглянув на приятеля опытным взглядом военного человека, видавшего всевозможные раны, полученные в бою, протянул с равнодушной усмешкой:
— Вот тебе, Васька, и редька.
Эта выговоренная хорошо по-французски, по-французски же легкомысленно искажённая русская редька вдруг жестоко оскорбила его. Александр успел быстро подумать, что русский народ в иных случаях спрашивает незадачливого соседа, хороша ли репка, и хотел было прикрикнуть: «Не смей!» — да язык не повиновался ему.
Якубович, оскалясь, взвизгнул и выстрелил в воздух, высоко подняв пистолет.
Завадовский, уже надевавший шинель, с удивлением посмотрел на глупо стрелявшего.
Якубович, не глядя в ту сторону, выругался грубо, по-русски и прокричал онемевшему Александру:
— А я с вами потом, уж потом!
Пожилой полный доктор, сгибаясь, неспешно, с трудом, действуя привычными пальцами с осмотрительной ловкостью, взрезал на Шереметеве суконные брюки и шёлковое голубое бельё, широко обнажил уже неестественно вспухший живот, сморщив полные губы, небрежно, точно для вида, ковырнул бескровную чёрную дырку в правом боку, бросил зонд в саквояж, который держал перед ним услужливый Ион, властным жестом потребовал хирургический нож, твёрдым мгновенным касанием чуть надрезал левее и выше и, вновь ковырнув, двумя пальцами вынул из раны покрасневшую пулю.
Шереметев глухо беспрерывно стонал сквозь обнажённые, странно белые, накрепко сжатые зубы. Потемневшее чужое лицо стало удивлённым и детски наивным. Прищуренные глаза глядели бесстрастно и жалобно в низкое небо из-под длинных, пушистых, девически загнутых кверху ресниц.
Александр по всем этим признакам угадал, что Шереметев уже без сознания, но не понимал, что стряслось, отчего шалый Васька валяется на белом снегу и старый хирург деловито ковыряет у него в животе.
Весь ощерясь, с вставшими дыбом усами, не взглянув на лежавшего Ваську, Якубович выхватил красную пулю у доктора, который неторопливо поднимался с запорошенных снегом колен, крепко стиснул комочек немого металла в правой руке и запальчиво, хрипло твердил, грозно вращая мосластым большим кулаком, адресуясь к уходившему к своей английской карете Завадовскому:
— А эта тебе, Сашка, эта тебе, погоди, погоди у меня!
Шереметева неумело, с виноватыми лицами взяли под мышки и за бессильные ноги, подняли, понесли с запрокинутой, недержавшейся головой, и странно длинной казалась детская тонкая шея с выступившим вверх заострившимся кадыком, и мокрые волосы страшным комом прилипли к затылку.
Заворожённо следя за всем этим, несколько раз протеревши перчаткой очки, отчётливо различая все фигуры и жесты, Александр по-прежнему не понимал ничего, словно сзади его неожиданно ударили палкой. В голове всё звенело и путалось. Он густо, пепельно побледнел, и руки мелко тряслись, и ствол пистолета металлически оглушающе громко несколько раз провизгнул по пуговице.
Вся история была скорее забавной, смешной и вдруг сделалась такой нелепой и скверной. Ведь нельзя же, абсолютно нельзя стреляться всерьёз из-за женщины, какой бы женщина ни была, даже неверной тебе, неверность у женщин случается часто, как-то без умысла, сама собой, все таковы, и уж коли стреляться охота пришла, так пристало стреляться шутя, пристало стреляться вовсе не так...
Васька Шереметев, зелёный юнец, ещё не успевший пристегнуть эполеты штаб-ротмистра, был сослуживец Степана[9], кавалергард, по связям отца с полком не пошёл. Степан теперь был в Москве вместе с гвардией, ушедшей походом на торжества. С августа был, недавно совсем, или слишком давно?
Александр хмурил лоб, напряжённо определяя, давно или нет, с августа, с августа, а нынче некстати ноябрь, как будто пытаясь то оттолкнуть от себя, что стряслось у него на глазах с этим весёлым, добрым, но бешеным Васькой, в то же время безотрывно следя, как неуклюже согбенный Ион старался попасть с Кавериным в ногу, но попасть с равнодушным Кавериным в ногу Иону не удавалось никак, в этой шубе скоморох скоморохом, и, западая всё ниже, голова Шереметева жутко моталась, как маятник, тихо, мерно, бесшумно, а те всё несли и несли вразнобой, как мешок.
Нет, как будто вчера простились по-братски в Ижорах, ещё силач Поливанов, дурак, невысокий да жилистый, чёрт подери, так сердечно облапил его, что всего исковеркал, точно медведь, и вот руками он не владел, словно с тех пор, а спины так не чувствовал вовсе. Только очень холодно было, не август, иная пора, ледяные мурашки ползли. Вот каково водиться с буйными юношами... Боже ты мой...
Ведь был бы Степан, с его серьёзным флегматичным спокойствием, с его здравым смыслом, с его заразительной трезвостью и, главное, главное, с его таким ясным, таким истинным, верным чувством добра...
Ведь коли сам духом слаб, всегда рядом должен быть тот, в ком воплощена твоя не всегда твёрдая, не всегда трезвая, не всегда бодрая совесть…
Вот оно как...
А тоже был когда-то кутила, лихач, да вдруг повзрослел, в один день, и нынче куда как не тот...
Что же нынче?..
А нынче нету его...
Остановил бы, однако, остановил...
Когда сам духом слаб...
В их беззаботной, весёлой компании Шереметев отличался из всех светлой и чистой любезностью, пылкостью честного нрава, с сердцем добрым, благородным, отличным и был, разумеется, молодо ветрен, без оглядки, без смысла, готовый взглянуть самому дьяволу прямо в глаза, и за все эти славные свойства степенный Степан с любовным упрёком отца Шереметева называл шалуном.
Шалостей, в самом деле, было довольно. Всё ходило вокруг Шереметева ходуном. Никто утихомирить не мог из более опытных, уже хладнокровных, взрослых друзей, да и отец родной, кровный отец, не Степан, уже был готов отказаться, отречься от слишком блудного сына.
Каково-то родному отцу?..
Впрочем, отцы и всегда...
Что же? Уронят же так! Надобно снизу, снизу держать!
Безмолвно крича, Александр не двигался с места. Душа его онемела. Крупные слёзы дрожали, не проливаясь, в застывших глазах, повиснув на длинных, тоже девичьих, ресницах.
Он и сам иной раз присоединялся к нему, шалопаю, особенно в те забавные, остроумные вечера, когда Шереметева соглашалась сопровождать красавица молодая Истомина[10], балерина, звезда, и они бесшабашно дурачились вместе, втроём всю ночь напролёт шатаясь по клубам или поднимая с постелей давно спавших друзей, чтобы пить с ними чай и смеяться.
И вот эта отвислая назад голова, ком намокших кудрей и холодное, серое, мертвенное лицо, всё в каком-то скользком, блестевшем, жирном поту...
Вчера, всего лишь вчера, весь румяный с мороза, живой, с высокой вздымавшейся мальчишеской грудью, без зимней шинели, в одном сюртуке и в высокой военной фуражке, с искажённым лицом, Шереметев ворвался к нему в кабинет, с маху бросился в затрещавшее кресло, жалкий, здоровый и злой, скрипнувши белыми, ровными, молодыми зубами, хрипло прокаркал:
— Она изменила мне, Александр!
Он что-то читал... Да, он что-то неторопливо, серьёзно читал... Это был, должно быть, Мольер... Да, конечно, Мольер, и там, кажется, были слова Триссотена: «Восторг и в нас могли бы вы вдохнуть, решившись прочитать нам для финала произведенье вашего пера», и он, едва без стука дёрнулась дверь, ещё раз схватил глазами последнее слово, чтобы вспомнить и тотчас потом возвратиться к нему, и вложил указательный палец между страницами.
Легко относясь к обычной мальчишеской ревности, столь знакомой и столь ненавистной ему самому, которой он вдоволь хлебнул, не поднимаясь с дивана, на котором уютно сидел, заложив ногу на ногу, отвалясь благодушно назад, от Истоминой зная, как безнадёжно запутались их молодые капризные отношения, внезапно подумав, что, может быть, это и хорошо для обоих, что всё наконец разъяснилось, хотя и не было правдой, в чём он уверен был твёрдо, как ни презрительно относился к крикливому полу с тех пор, когда всё разъяснилось и у него самого, к тому же у него-то быв горькой правдой, он преспокойно, с тайным любопытством спросил:
— Ты с чего взял?
Шереметев, густо краснея, дико тряся головой, лохматой, не тронутой парикмахером, выкрикнул, пригибаясь, как кошка, к нему, точно готовясь за горло схватить:
— А ты будто не знаешь?
Именно об измене Истоминой он и не знал ничего, однако возбуждение и крик Шереметева настораживали его, хоть тот и мастак был по-пустому кричать, он улавливал в этом крике враждебность, которой между ними не было и быть не могло никогда, понять её причины не мог, про себя же решил быть осторожней, как надлежало обращаться с буйными юношами, которые не умеют охлаждать свои тёмные страсти холодным и трезвым рассудком, внимательно заглянул Шереметеву в шальные расширенные глаза и только сказал, негромко и ровно:
— Полно тебе.
Шереметев подпрыгнул и яростно взмахнул кулаком, напоминая кого-то этим жестом, Ваське чужим:
— Но ты должен знать, что мы с ней помирились!
Он тотчас подумал, что Истомина, тоже кокетка, дрянь в этом смысле, как все, неосторожно или с намереньем в чём-то проговорилась, увлёкшись любовной игрой, лишь бы подзадорить, разгорячить, отуманить соблазном безумно влюблённого мальчика, на что крикливый пол куда как востёр, или с женской кошачьей хитростью наболтала какой-нибудь двусмысленной ерунды, чтобы что-то укрыть из невинных своих увлечений, безобидных, но всё-таки тайных, в чём сам же Васька был виноват, замучив её своей бешеной ревностью. Сообразивши эти подробности, он изобразил на лице удивление и негромко воскликнул:
— Ах, вот как? Нет, помилуй, откуда ж мне знать.
Шереметев нехорошо засмеялся, откидываясь в кресле назад, глядя на него прямым, злостью вспыхнувшим взглядом, тогда как сроду смеялся беззаботно, легко:
— Ну, это ты брось, Александр! У нас тут всё известно друг другу! После спектакля третьего дня я умолял её о прощении, но она не хотела простить и собралась к Шаховскому[11], этому своднику, этому плешивому подлецу, который подыскивает за хорошие деньги покровителей для своих хорошеньких учениц!
Его тотчас насторожили эти слова, именно то, что в их тесном кружке всё друг другу известно, одно за другим возникали предположения, что, в частности, стало известно в этом тесном болтливом кружке, кто и кому именно мог говорить, что Истомина не хотела прощать дурака, однако ж люди все слыли порядочными, как-то совестно было в чести их сомневаться, между тем что-то надобно было ответить в упор глядевшему на него Шереметеву, ответы проносились один за другим, да все как будто неосторожные для того, чтобы понапрасну не задевать слишком уж чуткое самолюбие и без того возбуждённого, растревоженного ревнивца, точно из Мольера сбежал, и он, слегка улыбнувшись, лишь бы выиграть время, сказал:
— Полно, не тебе на него обижаться, через него познакомился, чать, неблагодарность прескверная вещь, в толк это возьми, заруби на носу.
Шереметев вздрогнул, покраснел ещё гуще и продолжал, уже потише крича:
— Ну, да, да, чёрт возьми, я благодарен ему, и предложил ей подвезти, и завёз нарочно к себе, и грозил, разумеется, застрелиться, если она не останется и не простит, мой обыкновенный приём помогает всегда, славная вещь пистолет.
Стало быть, она сама говорила, что отправляется к Шаховскому, тогда чего же могли об ней передать, и тоном двойного презрения вырвалось у него:
— Сколько можно грозить бедной женщине пистолетом? Тоже, нашёл славную вещь!
Шереметев смутился и спрятал глаза:
— Вот видишь, и ты! Она мне то же сказала!
И с бешенством выкрикнул, сверкая глазами:
— Вы сговорились! Не лги! Застрелю!
Он вдруг догадался, что Шереметев, младенец, дурак, ревнует к нему, и, словно ни в чём не бывало, небрежно спросил:
— И что же она?
Шереметев ответил поспешно, брызжа слюной:
— Она простила, простила меня, этот ангел, и всё было снова между нами по-старому, но я страдал, я так страдал и не выдержал искушения и приставил ей к виску пистолет и твёрдо сказал, я шутить не люблю: «Говори или с места не встанешь, на этот раз даю тебе слово, была ты или не была с Грибоедовым? » Что ж ты молчишь?
Не виноватый ни в чём, кроме дружбы, сердечной и верной, придумывая правдоподобный ответ, который бы угомонил неисправимого дурака, с ума от ревности кто не сойдёт, даже умнейший из нас, он сказал:
— Ты сперва доскажи, что там было меж вами.
Шереметев оскалился, в другой раз не сводя с него жёлтых расширенных глаз:
— Она мне призналась, что точно, была!
Этого факта не собирался он отрицать:
— Ты же знаешь, мы с ней друзья, как с тобой.
Задохнувшись, вновь пригибаясь к нему, Шереметев едва выдавил из себя:
— Ты со мной не юли... умник какой... я-то... уж я-то знаю, знаю тебя...
Сглотнул тяжело, провёл по горлу дрожащей ладонью и твёрдо прибавил:
— Она призналась ещё, что была с тобой у Завадовского.
В этом признании насмерть перепуганной женщины, с холодным стволом у виска, не было ничего, что бы компрометировало её, однако ей бы не следовало признаваться в этих вещах, хотя чего не сболтнёшь, когда пистолет у виска, экий балбес, замучил совсем, и он ощутил, что сейчас покраснеет и тем наделает немало беды, себе самому и ревнивцу, и лениво этак спросил:
— Ну, так и что?
Шереметев рванул крючки сюртука:
— А вот что: Якубович мне говорил, между нами, что он как-то слыхал, как Завадовский звал Дуню к себе, лишь только она оставит меня, это как?
Досадуя на вездесущего дурака Якубовича, шалопая отменного, сына богатых родителей, коломенскую версту, который громогласно проповедовал всюду свободу, справедливость и что-то ещё и без конца мешался в истории, самые скандальные и самые пошлые, одна грязнее другой, в какие порядочному человеку вязаться нельзя, бездельник и баловень, дело слишком известное, быстро прикидывая в уме, что ещё стало известно в этом преболтливом кружке, где от нечего делать люди порядочные не брезгают грязными сплетнями, лишь бы развлечься немного и тем наполнить надоевшую праздность свою, либо спеша доказать, что с этакими ни свободы, ни справедливости во веки веков не узришь, он попытался урезонить вздыхателя пылкого, обстоятельно перед ним развивая ту старую мысль, что все женщины ветрены без изъятия, что явление это бесспорно в истории нравов и что безоговорочно верят крикливому полу одни дураки, к тому лее чего не наговоришь, когда пистолет, она же актриса, фантазии у неё, нервы и что там ещё, тут же поневоле опровергая себя заверением, что из всех женщин в этой самой подлой истории нравов Истомина есть исключение, о чём он и вправду подозревал, тоже, известное дело, дурак, и что она верность хранит и сама говорила вчерась, как всё ещё любит его без ума, то есть Ваську, заключая запутанную тираду смеясь:
— Я сам в любви чернее угля выгорел. Поверь, огорчаться не видно причин, даже ежели бы, к примеру, вся эта нелепость правдой была.
Но Шереметев упрямо мотал головой, с "Которой слетела фуражка, лохматый безмерно, в природных крутых завитках:
— Я тебя застрелю!
Что за напасть, так и станет всю жизнь каждому встречному пистолетом грозить, не ровен час, на кого налетит, и он, похлопывая книгой по раскрытой ладони, ни секунды не веря в реальность дурацкой угрозы, это Васька-то застрелит его, экий вздор, рассудительно, тоном старшего возразил:
— Не дури, меня-то за что?
Шереметев вспыхнул, сделавшись красным как рак, вскочил и стиснул детские ещё кулаки:
— Да мне Якубович сказал, что видал, что ты в карете ждал её у Гостиного и что она пересела к тебе! Это как?
Вмешательство дурака Якубовича, замечательного, пожалуй, одной страхолюдной гривой чернейших волос, влезавшего всюду, куда не просили его, в каждой мелочи, в любом пустяке тщась восстановить бесценную свою справедливость, то есть вечно бесчестность и деспотизм, чёрт возьми, и прочая дичь, взбесило его, как всякая пошлость и презренная скудость ума бесили всегда, и он слишком сухо, даже высокомерно спросил:
— Об чём же ещё доложил тебе Якубович?
Расставив длинные нескладные ноги, Шереметев по-мальчишески грозно стоял перед ним, воздевши правую руку, словно б на форуме или сбираясь проклясть:
— Тогда я спросил его, это заметь, я его спросил сам, что мне делать, и после этого Якубович сказал, что это понятно, что драться, и что тут два лица, которые требуют пули, и из этого, как видишь сам, выходит парти карре, дуэль четырёх, стало быть, чёрт её побери, а он берёт того на себя, а я вот должен драться с тобой, Александр!
Он вспыхнул, но улыбнулся так, как улыбаются не совсем удавшейся шутке, однако от души прощают её:
— Нет, братец, ты уж прости, а я с тобой стреляться не стану, а вот ежели уж так не терпится милейшему Александру Иванычу подставить свой медный лоб[12], так я всегда к услугам его, ты об этом ему передай, вгорячах не забудь.
Опустив руки, моргнув, Шереметев вскрикнул растерянно, злобно, однако ж с тоской:
— Передам, передам!
И вдруг выскочил вон, позабывши фуражку, и Сашка потом свёз фуражку Шереметеву в дом.
Зачем он сболтнул? Для чего? Для этого, для этого, да?..
Шереметева наконец положили.
Глядя, как Шереметев лежал, запрокинув бессильную голову, уставивши в низкое небо пустые глаза, Александр вздрагивал крупной, внезапной, неестественной дрожью, вдруг почувствовав остро, что это он, именно он и один, во всём виноват, окончательно и навсегда, озлившись тогда на непрошеное вмешательство вечного сплетника, не удержавши по этой дурацкой причине ревнивого, взбалмошного, слишком доверчивого и слишком неопытного, как в жизни, так и в любви, совсем ещё мальчика, в тенётах Амура, жестоких, пленительных, без стыда, вот в чём беда.
Кто-то выдернул у него из руки пистолет, разогнувши насильно сведённые пальцы. Кто-то, поддерживая под локоть, посадил его в поодаль ожидавшие санки. Полость намёрзла и сгибалась с трудом, когда ему прикрывали занемевшие ноги, но ко всему внешнему он был безразличен, подумав мельком, что извозчик мошенник, не просушил, бездельники все. Что-то тягучее, жуткое сосредоточилось в нём и давило, давило, обжигая запоздалым раскаяньем сердце.
Раскаяньем? Раскаянье что? Иль не раскаяньем — жалостью к тому, а больше к себе?..
Всю дорогу, которой он почти не приметил, отделясь от безликого, пустого лица, на него глядели в упор голубые глаза Шереметева, Васьки, вопросительно, жалобно так, с глубоким смертным упрёком, точно хотели спросить, доволен ли он, не стыдится ли он за тот вечер, и уже ни о чём спросить не могли, всё сильней и сильней обвиняя в чём-то ужасном, непоправимо-постыдном его.
Он было хотел отогнать этот умоляющий страстно, чего-то упорно ищущий взгляд, да не в силах был отогнать, не поднималась рука, и сидел, то уткнувшись застывшим лицом в воротник, то бесцельно, невидяще глядя по сторонам, где что-то мелькало, чёрное с белым.
Он пропустил, когда они въехали в город. Он лишь приметил стену глухо молчавших домов, вдруг испугался, что приедет к себе и с этими глазами останется один на один, не оставят его, не отвяжутся, вон как глядят, и сдавленно крикнул, обращаясь неизвестно к кому:
— К Жандру, к Жандру пошёл[13]!
Он с благодарностью стал думать о том, с расчётом принуждая себя, что теперь, в ноябре, уже рано темнеет, почти в пять часов, и Жандр вечерами почти никогда не выходит из дома, всё чем-то занят, сердечный, и натура у него домоседа, но через минуту впал в забытье и в каком-то тёмном кошмаре видел только горящие гневом глаза, опоминался внезапно, по бокам различал слишком редкие, слишком тускло мерцавшие фонари и вновь, уже наяву, страдальчески видел те же глаза, расплывчато-голубые, молящие о чём-то страшно неотложном и важном.
В полутёмных сенях, с одной тонкой свечкой на столбике, неотступный Богдан-Иоганн, неуклюже топчась, потирая свои длинные побелевшие уши, торопливо, невнятно, придерживая его за плечо, с неожиданно сильным саксонским акцентом, который с годами почти потерял, полушёпотом изъяснил:
— Поехал с ним Якубович. Доктор определительного ничего не сказал. Вам бы поскорее уснуть, Александр. Всё, может быть, обойдётся. Вы ложитесь, ложитесь, а завтра условимся, на случай чего.
Стоя с опущенной головой, плохо соображая разбитым умом, где он и что с ним такое стряслось, поражённый этим пристальным взглядом вопрошающих глаз, не оставлявшим его, он вяло, почти безразлично спросил:
— Ты поди, Богдан Иваныч, поди, небось тоже устал, ты поди-ка к себе, отдохни.
И не расслышал, не различил, ушёл ли верный Богдан-Иоганн, остался ли на случай при нём, верный друг, давно не слуга, только привычно укрывшись из глаз, как делывал часто, наставник по-прежнему умён, пуще добр, а уж годы прошли, дитятко выросло, поглядеть, так изрядный вышел дурак. То проваливалось, то вспыхивало жарким огнём в кружившейся голове:
«Коли сам духом слаб... Богдан-Иоганн...»
Жандр в зелёном длиннополом халате, высокий, худой, с тревожным лицом, с вопросительным, тоже ищущим взглядом, наконец появился в дверях и воскликнул с неуверенной радостью, протягивая длинные руки, чтобы обнять:
— Ты жив!
Его больно ударили, уязвили эти два облегчавших, всё упрощающих слова, и, сильно морщась, как от боли в зубах, он отвернулся от них, натужно стягивая шинель, негодующе бормоча:
— Как видишь, жив, это что.
Радуясь всё смелей видеть лучшего друга живым, невредимым, всплеснув всполошённо руками, как баба, Жандр суетливо принялся ему помогать, с таким усердием таща борт шинели, что шинель не снималась никак, застёгнутая до самого верха, поспешно между тем расспрашивая его:
— С теми-то, с теми-то что?
Отстранивши чуть не в ухо бубнившего друга, прямо в шинели сев на сундук, опустивши тяжёлую голову, чтобы не смотреть на него, он едва слышно выдавил из себя:
— Васька, должно быть, убит.
Выпрямившись во весь высокий свой рост, по-гусиному вытянув длинную тонкую шею, Жандр испуганно, слабо спросил:
— Наповал?
Он стащил с головы ставший тесным цилиндр, давивший его, как чугун, не глядя сунул куда-то, нехотя пояснил:
— Пока нет, пуля в живот, станет мучиться день или два, не дай Бог, скверные раны, не бывает скверней.
Жандр ещё тише, ещё осторожней спросил, склонивши к нему небольшую, аккуратную, с короткими волосами умную голову:
— Якубович?
Он поднялся, рванул застёжки и одним грубым движением сбросил шинель:
— Якубович всегда будет жив! Сукин сын!
Жандр облегчённо вздохнул, двигаясь вокруг него осмотрительно, бережно, точно это он был подстрелен в живот, потирая сухие ладони, вопросительно заглядывая в глаза:
— Слава Богу, ты промахнулся?
Он вдруг обернулся, злобно сказал:
— Я ещё не стрелял!
Подхватив крепко под руку, точно опасаясь, что он упадёт, Жандр потащил его в кабинет:
— Да ты толком-то, толком-то всё доложи!
Ухватившись за это последнее слово, в канцеляриях всё доклад и доклад, говорить не умеют человеческим языком, он заволновался, тотчас сел в кресло, раздумчиво проговорил:
— Да, разумеется, всё доложу... доложу...
Жандр не отходил от него, склонившись, поправляя очки, матушка с малым дитятей, точный портрет:
— На тебе лица нет, что с тобой, Александр?
Он отмахнулся нетерпеливо вялой, непослушной рукой, какое в самом деле лицо:
— Ты садись, я же сказал: я доложу, я тебе всё доложу по порядку, полный рапорт отдам, что за чёрт!
И вдруг необдуманно, с покрасневшим, словно бы вздувшимся, жалким лицом, чувствуя только, что перед ним человек, который верно поймёт, что бы и как бы он ни сказал, он торопливо высказал то, что безмолвно, безвыходно всю дорогу терзало его под пыткой тех пристальных, осуждающих, Васькиных в сталь отливающих глаз:
— Вот видишь, Андрей, вся моя жизнь получилась не та!
Раскрыв широко, изумлённо глаза, Жандр медленно опустился на стул перед ним, став ещё выше, каланча каланчой, и, запинаясь, попробовал возразить:
— Что ты, что ты, Бог с тобой, Александр...
Он сморщился, спрятал в ладонях лицо, не в силах глядеть, бормоча едва слышно, скорей всего для себя одного:
— Как задумано было... сколько положено сил...
Жандр снова всплеснул всполошённо руками, словно больше делать ничего не умел, как руками махать, кокошник бы ему да чепец:
— Постой, Александр, ты не ранен?
Он вздрогнул и сердито, сквозь зубы, напомнил ему:
— Ведь мы не стрелялись, я тебе доложил, честь по чести, это Васька насмерть убит.
Жандр с недоумением протянул:
— Нет лица на тебе...
Опустив руки, подхватив эту вздорную мысль, твердя про себя, что лица на нём всё последнее время и вовсе не стало или, возможно, и не было даже совсем никогда никакого лица, а нечто невнятное, рожа одна, не приметил никто, чудеса, дурачье, обожжённый, униженный этим мрачным открытием, понемногу выбираясь из своего забытья, подняв глаза, с упрёком и грозно, он глухо спросил:
— Что здесь Якубович, вот именно: что здесь Якубович, с какого конца, коза на плацу, вот что ты мне лучше доложи по всем пунктам, вразуми, не пойму?
Испуганно оглянувшись, словно надеясь увидеть шального драгуна у себя за спиной, переводя затем на него тревожно вопрошающий взгляд, а ведь жив, не убит, Жандр негромко, ласково произнёс:
— Помилуй, Александр, здесь никакого Якубовича нет...
Усмехнувшись, не став отвечать на дичайшее подозрение хлопотливого доброго друга, что он ненароком повредился в уме, пытаясь сам осознать, с какой стати в отношения близких друзей встрял посторонний для них, балбес, балабол, вечно шумный и зычный, не голос, Иерихона труба[14], неумный, конечно, однако с превосходными честнейшими мыслями на весь белый свет, как и принято нынче, все якобинцы, кричи да кричи, этот, как его, Якубович, правдолюбивый, вздорный на вид, с такими большими усами, точно чуя чутьём, что появление крикуна Якубовича могло бы как-нибудь ему разъяснить, что он сам в этой дурацкой страшной истории, мрачно глядя на стену, обитую блёклым пёстреньким ситцем, привозим из Англии, когда ткать свои ситцы пора, стараясь подавить раздражение, он неспокойно, раздёрганно произнёс:
— А я тебе говорю, что на одном Якубовиче эта кровь, на Якубовиче только одном!
Жандр отмахнулся:
— Полно тебе, Васька сам понапрасну бесился, шальной, пули просил сколько раз.
Да, разумеется, дело выходило именно так: Шереметев и слишком просился под пулю и часто выхватывал армейский свой пистолет, не дуэльный, угрожая тотчас себя застрелить в наказанье кому-то, вечный укор, а пистолетом не шутят, не шутят, раз промолчал, другой промолчал, а там и стрельнул почём зря, однако ж вот он никому не грозил, никогда не просился под пулю, дело нехитрое, впрочем, трусом не будучи, а с трезвой головой на плечах, а всё ж таки, несмотря на всю свою трезвость хвалёную, со всем своим глубоким умом, как Жандр об нём на всех углах не без римского пафоса говорит, был бессмысленно, непонятно кругом виноват, как об этом всё громче что-то твердило ему с каким-то упрямством, и, пытаясь пресечь этот настоятельный неприятный внутренний голос, он напомнил хлопотливому другу:
— Вспыльчив, вспыльчив, да отходчив и добр, опоминался всегда, прощенья просил и всем сердцем обиды прощал, в соображенье нельзя не принять, какая ж на Ваське вина?
Жандр согласился легко и так лее легко возразил:
— У него сердце отлично-доброе, благородное было, это всё так, я молчу, однако ж ты прими в расчёт всё безумие его бестолковых, животных страстей, от ревности был без ума.
Он вскинул горящую голову, неодобрительно взглянул сквозь очки:
— Страсти что ж? Всемогущество страстей всем известно, да человек благородный обязан и может дикие страсти свои побеждать!
В знак согласия Жандр закивал:
— Обязан и может, естественно, отчего ж, благородный-то человек, известная вещь. Да ведь Васька-то не был такой человек. Страшно влюблён, ты возьми себе в толк, воспитанье наше домашнее, то есть именно воспитанья-то нет, ум небольшой, образованность, почитай, не коснулась даже во сне, такому ли взять полный верх над страстьми?
Ага, Шереметев был даже очень неглуп, остроумен подчас, хотя, правду сказать, образовал себя мало, так, кое-что почитал, впрочем, значительных авторов, по совету его, да всё недосуг, образованья не добивался в поте лица, да в поте лица образованье-то истинно не даётся, как не даётся и тяжкой школьной повинностью в заведениях наших, казённых, без радости знанья, без света любви к добыванию истины, дело известное, обыкновенный трюизм, да всё это вздор, всё это чушь, безделки ума, а вот главнейшее то, что влюблённый безумен, даже если и слишком умён и образован стократ, науки все до одной превзошёл, как Платон[15], философ и что там ещё, этого тоже нельзя забывать, на себе чересчур испытал, как в омут вниз головой, к тому же страшно смешон, если только не пуля в живот, тогда не смешно, не смешно, и он вдруг озяб и вспылил:
— Ведь Якубович по этому делу не имел решительно к Завадовскому или ко мне никаких отношений.
Жандр подтвердил, успокаиваясь, усаживаясь поудобней на стуле, чем-то громко, противно скрипя:
— Не имел никаких.
И опять выходила не Якубовича, а его же прямая вина, и настывшие ноги ломило в тепле, вечная слабость его, давно застудил, и ему наконец приоткрылось:
— А я имею самые близкие отношения и к тому и к тому, вот оно как! Ты не сбивай!
Жандр уставился на него, почесал крыло носа, укоризненно протянул:
— Ну, Александр, ты же совершенно другой человек, с Якубовичем себя не равняй, этого вздора и думать не смей.
Резко согнувшись, порывисто стянув сапоги, угрюмо подумав о том, что поздненько схватился разуться и что родной ревматизм завтра непременно скрутит его, он расстроенно продолжал:
— Я по-дружески любил их обоих.
Он морщился и словно бы ждал возражений, неотразимо-серьёзных, чтобы чувство вины не терзало его, а Жандр помедлил, прищурив глаза, как будто старался понять, какой ещё тайный смысл таился в этом ненужном признании, и с удовлетворением подтвердил:
— Ты их, точно, любишь обоих, так что ж?
Ошеломлённо вскочив, ясно увидев, что ужасно что-то напутал, не угадывая, именно что, рывком придвинув тяжёлое кресло к растопленной печке, пахнувшей от сильного ветра дымком, он снова сел и вытянул зябкие ноги к теплу, вслух настойчиво выпытывая себя:
— Что ж Якубович? С какой стати он?
Жандр опять изумился, спросил, придвигаясь со стулом поближе к нему:
— Да ты не посмеялся ли где над ним, Александр?
Сцепив пальцы, горячим языком облизнув пересыхавшие губы, он ответил рассеянно, размышляя о чём-то ином, силясь найти, чем же ответить тем жалобно глядевшим глазам, лишь бы их отогнать от себя, больно было глядеть:
— Кажется, нет, не смеялся, хоть и слишком смешон, долговяз да плечист, хлопотливый дурак, неприятель здравого смысла, да уж как-нибудь не спущу, посмеюсь, изъязвлю, погоди.
Жандр двинулся, озабоченно укорил, стараясь заглянуть ему сбоку в лицо, милый, души необъятной, тоже немного смешной:
— Вот, смеёшься над всеми, язвишь, не щадя языка, без разбору, без смыслу вперёд, да потом глядь, попался в историю, свалилась беда, в первый ли раз, оглянись, Александр?
Он не оглянулся, раздумался, протянул, одним разом отодвигая наставления верного друга, поскольку мимо шли наставления, ужасно мешали ему размышлять:
— Не со зла, единственно оттого, что страсть как смешно, сам погляди на него: расхохочешься, со смеху помрёшь, как не язвить для спасенья души?
Собирая гармошкой кожу на лбу, простодушный, мало способный на эпиграммы, даже плохие, не охочий до них, тем и близок был сердцу его, добр и мил, хоть зарыдай на груди Жандр рассудительно хмурился, надеясь, должно быть, хоть на этот раз урезонить его:
— Зачем мне смотреть, я смотрел, не хуже прочих нынешних человек, а если послушать громкие речи его, так и с весьма высокими мыслями, обо всём, особливо об несносном деспотизме властей и об протчем, выходит, нашего круга, порядочный человек, не вижу для смеха причин.
Он сутулился, двигал нывшими пальцами ног и презрительно усмехался, вечный враг болтовни:
— Вот именно, верно изложено: если послушать. В самую точку попал, поздравляю.
Лицо Жандра, спорщика неустанного, спорщика пылкого, тотчас стало непримиримым, знать, он тоже в самую точку попал:
— Что ты хочешь этим сказать?
Он круто оборотился к нему, чуть спины не свихнув, как будто довольный, что Жандр уводил его в сторону от мерцающих Васькиных глаз:
— Я хочу этим сказать, что слова, на поверку, что-то нынче дёшево стоят. Я и сам, сколько я говорил, сколько подавал себе преполезных советов, сколько надавал себе всяческих слов, честнейших, наипоследних, сколько клялся в душе, и чему же, сам посуди, каким дурачествам помешали они?
Передвинувшись так, чтобы видеть его, Жандр неопределённо пробормотал, должно быть не совсем ещё уловив его ясную мысль, на соображенье не быстр, верный жрец кропотливого размышленья:
— Ты смотри, Александр...
Ему тоже хотелось двигаться, куда-то бежать, о чём-то неотложно спросить, да забыл, куда и о чём. Протягивая ноги ещё ближе к теплу, он вскрикнул запальчиво:
— Нет, это ты смотри, ты!
Жандр, привыкший к нему, к его вспышкам внезапным и к внезапной его меланхолии, задумчиво посмотрел на него, не обращая внимания на этот бессмысленный крик:
— Я-то вижу, пожалуй... А всё-таки надобно быть тебе впредь осторожным, пора.
А глаза глядели на него из огня, и он морщился и мотал головой:
— Осторожности не люблю, и жаль, что над ним не смеялся, куда как хорош, сукин сын, удавленник прогресса, в мыле задора, у всех на виду, балабол, да у нас умеют ценить одних балаболов.
Жандр, вопросительно глядя, переспросил:
— Да припомни, не смеялся ли ты, погоди? Удавленник прогресса! Позеленеет хоть кто.
Разматывая галстук, в нетерпении дёргая головой, он тоже переспросил, раздражённо:
— Ты лучше ответь мне, с какой стати он?
Жандр призадумался, затылок погладил правой рукой, короткие волосы перебрал на макушке, помолчал, неопределённо пожал худыми плечами:
— Да уж, видно, таков человек, исправит только могила.
Слишком приблизивши левую ногу к раскалившейся докрасна дверце, обжёгшись слегка, он поспешно отдёрнул её, швырнул в сторону галстук и брезгливо сказал:
— Что за притча, ведь казалось и мне, как тебе, что отличнейших убеждений, враг деспотизму, свободе чуть не защитник, неотступный пропагатор и друг, по этой причине, кто ж сомневается, препорядочный человек!
Помолчав по привычке, усвоенной столько на службе, сколько из потребности размышлять, обдумывая, должно быть, с разных сторон эту вздорную мысль, Жандр не то пустился оправдывать, не то объяснять:
— Убеждения Якубовича хороши, всякий даст тебе в том слово чести, этого рода достоинств у него не отнимешь, так что же тогда? Может быть, вся-то беда его единственно в том, что удальство, с его точки зрения на достоинство человека, для него самая первая вещь? Я подозреваю по временам, что ему лишь бы, главное, себя показать, а протчее после, потом, ежели протчее-то ещё и озаботит его. Ты не находишь?
Он со злостью хлопнул себя по бедру, так что сделалось больно:
— Убеждения, убеждения, дались вам всем убеждения! Да он же из убеждения нарочно за нами подглядывал в Гостином дворе!
Раздвинувши пальцы, словно что-то тяжёлое держал на ладони, Жандр с недоумением протянул:
— Постой, ты мне из этой истории ничего не сказал, отчего?
Его всё продолжало душить от мысли, что Якубович шпионил за ним, он дёргал верхнюю пуговицу, морщился, раздражался всё больше:
— Уж больно противно, шпион что дерьмо, для чего говорить.
Жандр вновь подумал с минуту, затем неторопливо, взвешенно, со значением повторил:
— Говорю, уж такой человек, вот оно что, натура над ним подгуляла.
Распахнувши наконец воротник, сильно двигая шеей, припоминая, как случилось это грязное дело, он едва удерживал негодованье своё, выговаривая сквозь зубы, сердясь на себя, что пришлось по нужде рассказать:
— Подглядел, проследил и Ваське тотчас донёс, что за мерзость такая, враг деспотизма, подлец!
Жандр, сдавалось, наконец напал на своё и твердил, озабоченно сдвинувши брови, кричи не кричи:
— Главное, себя, Якубовичу бы только себя показать, ты заметь.
Себя показать, возмутиться из вздора, наплести чёрт знает чего, на приятеля приятелю донести, что за чёрт, сукин сын, он вдруг удивился:
— И совесть не мучит его?
Жандр с иронией возразил, усмехаясь:
— Полно чудить, Александр, какая в этом деле может быть совесть? Ещё и в заслугу себе возведёт: мол, обманутый друг, обманутый подлецом, непременно, и так далее что-нибудь с обличением, за словом не полезет в карман, оратор гостиных, как есть патриот!
Ему не нравился этот насмешливый тон и не нравились эти слова, попадавшие всё-таки в цель, и он, сжавшись весь, отшатнулся:
— Положим, что так, что Якубович тут жаждал себя показать, да в этой гадкой истории всех гаже-то всё-таки я! Вот что пойми!
Положив ему руку на локоть, дружески сжав, Жандр мягко, проникновенно принялся его успокаивать:
— Полно тебе, Александр, что-то больно мнителен стал, терзаешь себя понапрасну. Каким это чудом ты-то больше всех виноват? Ведь ты ж не стрелял!
Он чувствовал всю его правоту, но в то же время отказывался принять всей его правоты, ребром ладони сильно тёр себе лоб и неопределённо, но мрачно тянул:
— Уж ты мне поверь.
Жандр неожиданно светло улыбнулся:
— Никогда не поверю.
Он всего этого глупого дела пересказывать не хотел, всё до нитки представлялось нехорошо, однако не выдержал этой честной улыбки и язвительно вскрикнул, взглянув как-то сбоку, мимо очков:
— Не поверю, ни за что не поверю, всё вздор, это ж я тогда Дунечку к Завадовскому привёз!
Жандр всполошился, руками всплеснул, запричитал:
— Боже мой, и этого ты мне не сказал! А я-то, я-то терзаюсь в догадках! Как это похоже на тебя, Александр! Ведь я тебе друг!
Услыша собственный крик, обещавший истерику, тяжёлую, стыдную, он себя обругал и начал наконец успокаиваться, быстро трезветь и, совестясь, что в самом деле не рассказал всей истории другу третьего дня, признался с досадой:
— Глупость страшная вышла, об чём говорить?
Поглаживая короткие волосы на макушке, опустив глаза вниз, Жандр растерянно протянул:
— Так вот оно что! Такая оказия! Так за это, выходит, Якубович и вызвал тебя?
Подумав тотчас о том, что слишком жестоко наказан за глупость случайную, мимолётную, однако то и дело нападавшую на него, наказан этой красной пулей в живот, наказан, наказан, браня себя, что не одумался, не остановился тогда, он коротко рассказал:
— Она ко мне вскочила в карету, я Митьке: «Пошёл!», а Митька, не разузнавши ещё, вишь, что от Завадовского я неделю как съехал к себе, к тому и завёз.
Жандр растерялся совсем, даже руку остановил, ладонь задержал на своей голове:
— Вот тебе на!
Он же не думал о Жандре, он негромко, раздумчиво продолжал повествовать для себя самого, сильно надеясь на то, что вины его в этой глупости нет, зная отлично, что безоговорочно и кругом виноват:
— Мне бы от ворот поворот, как увидал, что Митька ошибся, а мне, вишь, весело стало, я засмеялся, дурак.
Наконец встрепенувшись, опустив руку вниз, сцепивши пальцы перед собой, Жандр произнёс с упрёком и болью, верный был друг, за друга тоже страдал:
— Ты же такой человек, Александр! До той поры ничуть не знаешь себя! Как же так?
А может быть, в самом деле не знал, хоть и всегда размышлял о себе как о загадке какой, то есть точно так, что не знал, да он не слушал верного друга и допытывался узнать, отчего стряслась эта красная пуля в живот и Васька упал и снег хватал мертвеющим ртом.
— Засмеялся, известное дело, да и ввёл её в комнаты, которые вчера ещё были мои, ей же и холодно было, чуть не прямым ходом со сцены, дрожмя дрожала она.
Жандр завертел быстро пальцами и подался вперёд:
— А Завадовский что?
Он ответил угрюмо, пристально глядя в себя:
— Завадовский почти тотчас за нами вошёл, из театра, мы с Дуней наедине переговорить не успели, об этом, об Ваське, шуте.
Жандр торопился, желая поскорее узнать всю историю далее, верно, новые обстоятельства задевали его за живое или наводили на какую-то новую мысль:
— И что?
Он рассказывал чистую правду, ничего, кроме правды, сам не веря себе, до того чудовищным, глупым всё это невинное дело представлялось теперь, после пули в живот, а ведь умный был человек, что за дичь.
— Уселись втроём, пили чай, весело вечер прошёл.
Жандр с серьёзным лицом упрекнул, как и всегда его упрекал, от души, переживая всегда за него, сам никогда не попадая ни в какие истории, даже не поскользнулся ни разу, счастливец, в грязь никогда не упал:
— Видишь вот!
Он покусывал губы, глаза отводил.
— Вижу теперь, что это я один виноват, а Васька вовсе не шут.
Чего Жандр не мог, того и не мог, чтобы хоть волос упал с его головы, так на его самоказнь так искренно удивился, что расширил глаза.
— Виноват? Может быть, перед Богом, так перед Богом мы все виноваты, но перед людьми не нахожу и малой вины за тобой, это ж Якубович всё разболтал и наплёл небылиц, чай же пили втроём.
Разум и ему говорил, что не могло быть и малой вины, если чай пили втроём, душистый, китайский, с вареньем клубничным, денщик Завадовского подал на стол, вечер весело пролетел, да те глаза всё глядели на него с ожиданием, что же он, и он чувствовал остро, что кругом, кругом виноват, и усиливался и разумом это понять, беспокоясь, сердясь, или уж сиять прочь с души эту тяжесть, или казнить себя казнью своей.
— Да ты рассуди, мы все трое относились по-дружески. Васька влюблён был в Истомину...
Жандр неожиданно перебил, точно это обстоятельство имело значение и что-то могло изменить:
— Говорят, она ему досталась невинной?
Э, чёрт возьми, пропади они пропадом всё, и он вопросительно поглядел на Андрея, сидевшего с наморщенным лбом, силясь логику угадать, что ж из того, что невинна:
— Он мне про это сам говорил, Васька, болтун, так как это знать. Понимаешь, он её даже на сцене хладнокровно видеть не мог, сил не имел, столько грациозности, сладострастия столько в каждом движении.
Жандр с пониманием протянул:
— Вот за них-то, за движенья-то эти, должно быть, и ревновал, так танцовщица, актёрка она, или не знал?
Он вдруг; испугался и дёрнулся весь:
— Может быть, за движения, только я в неё не был влюблён, не увивался, не волочился за ней, обходился с ней по-приятельски, запросто, как с короткой знакомой, ко мне не было причин ревновать, он это знал!
Тоже зная об этом, Жандр только заметил:
— Однако ж все говорят, что Завадовский не был к ней равнодушен.
Нет, и эта оказия не спасала его, глаза продолжали глядеть как глядели, и он с горечью им возразил:
— Завадовский виды имел ещё до него, однако тотчас ему уступил, джентльмен, холодная кровь, Британию на себя напустил, тоже славный актёр.
Жандр облегчённо вздохнул и вновь улыбнулся:
— Вот видишь сам, Шереметев с ней жил по-супружески и по-супружески ссорился часто. А ты заладил, как попугай: вина, виноват, погляди на себя.
По-супружески, по-супружески, да никакое супружество не успокаивало его, и он воскликнул с досадой:
— Об Ваське что говорить, Васька слишком влюблён, разгорячился, мальчишка ещё, а я-то из чего принял всерьёз брыкливые слова Якубовича? Мне-то что за резон?
Откидываясь назад, Жандр заметил ещё раз, настойчиво, трезво, с совершенно спокойным лицом, сам ли утешился, его ли этак утешить хотел:
— И Завадовский принял, не ты же один.
Да не надобно ему никаких утешений, не в утешениях дело, что в них, слова, пустота, и это спокойствие доброго друга только пуще распаляло его:
— Они к Завадовскому приехали пьяные, Шереметев с Якубовичем во главе, я потом об этом узнал, там между ними ссора была, кто над собой властен в ссоре и во хмелю? Я ж был трезв и спокоен, сидел и читал, Мольера читал, ты заметь, с какой стати было мне задирать Якубовича? С какой стати, главное, было Ваську не удержать? И вот Васька убит, и выходит, что это я кругом виноват, а не он.
Жандр затряс головой:
— Да полно тебе, Александр, это всё Якубович беспутный его натравил, на Якубовиче, стало быть, и вина, в этом логика есть, а ещё есть логика в том, что твой долг был за эти проделки Якубовича наказать, благородное дело, поверь, или ты логике враг?
Оно славно всегда — верного друга иметь, на тебе не видит греха, хоть пляши на гробах, хоть из пистолета пали, на том и весь сказ, так что готов рядом с другом порядочного человека заслышать в себе, как бы не эти глаза, привязались, проклятые, глядят и глядят, и он, пристально поглядев на него, огрызнулся:
— Ну, это ты брось, говорю!
Жандр вдруг вскочил, не желая, должно быть, далее слушать его, и суетливо изрёк:
— Постой, ты устал и продрог, тебе чаю с ромом как раз, я прикажу.
И выскочил вон, оставив его одного перед печкой, в которой лениво догорали дрова.
В другой комнате раздались приглушённые голоса. Кто-то, кажется Ион, что-то негромко сказал. Затем Жандр прокричал намеренно громко:
— Чаю подай!
И на него продолжали глядеть с глубокой болью расплывчато-голубые глаза и в полном молчании упрекали его, и он всё этим пристально вопрошающим глазам говорил, говорил, что он виноват, сомнения нет, что искупит вину, в этом тоже сомнения нет, понимая прекрасно, что такого рода вину уже не искупишь ничем, и уснул наконец прямо в кресле, сморённый усталостью и теплом, далеко вперёд вытянув разутые ноги, слыша сквозь внезапно навалившийся сон, как Жандр негромко-настойчиво звал:
— Александр, Александр...
Он ещё понимал, что намеревался сказать ему Жандр, и мысленно даже пошевелился, чтобы выпить чаю и поднять сапоги, сапоги-то стало особенно жаль, однако же тёмное забытье тут же оглушило его, затянув в свою мягкую бездну.
Утром, с немалым облегчением открывши глаза, во всём теле ощутивши бодрую свежесть, он встретил прямо в упор вопросительно-жалобный взгляд Шереметева, о чём-то важном умолявший его.
И он тотчас поднялся со стула, стоявшего близко, но несколько сбоку, у ног, и неуклюже встал перед ним:
— Самое время вставать. Просил Василий Васильевич очень приехать тебя, Александр.
Он спросонья ещё не понимал ничего и сердито спросил:
— Какой? Какого чёрта ему?
Склонившись низко над ним, точно он был в жару и в бреду, бледный Ион срывавшимся голосом пояснил:
— Шереметев, какой же ещё, не знаю зачем, не сказал, только приехать очень просил.
Он тотчас сел на диване, тотчас вспомнивши страшно вздутый живот, чёрную дырку в боку и ком намокших волос, прилипших к затылку, оскаленный рот. Затёкшие ноги стало остро покалывать и щипать, должно быть, он спал неудобно. Он разглядел, что кто-то раздел его с вечера и накрыл тёплым пледом, который он любил себе набрасывать на колени, когда бывал у Жандра в гостях. Утро сияло. Неужели он так долго проспал, несмотря ни на что? Как могло это быть? А Ион, должно быть, не спал, экий бледный какой.
Ему стало нехорошо оттого, что уснул, но он не успел погрузиться в себя. Откуда-то явившийся Сашка суетливо поставил ему на колени лакированный чёрный поднос с чашкой горячего кофе и с кренделем, как он любил и дома всякий день пил по утрам, словно ничего не случилось, Сашка улыбался всем ртом.
Он отвернулся и пробурчал:
— Это не надо, прими, Александр.
Ощутив, что подноса на коленях тотчас не стало, подивившись небывалой покорности своевольного Сашки, он вскочил и поспешно стал одеваться, страшась опоздать.
Всё было вычищено, выглажено и у него под рукой, верно, Сашка старался вовсю, позабыв свою неистребимую лень.
А глаза всё глядели в упор, без упрёка, обречённо, беспомощно, понуждая спешить и спешить.
Ион неуклюже топтался у него за спиной, говоря:
— Сказали, что худо ему.
Он сморщился, вспомнив, что он в этом непростительном доле кругом виноват, и грубо отрезал:
— Как не худо, с пулей в боку.
Ион, не возражая, с неловкой мягкостью попросил:
— Позавтракали бы сперва, Александр, самое время поесть, вчера не обедали вовсе, сутки прошли.
Он испугался, резко поворачиваясь к нему:
— Какой, к чёрту, завтрак? Звал же, так надо спешить!
Он вовсе не понимал, за какой надобностью должен он ехать, и даже подумал, как-то отрывочно, вскользь, точно тайком от себя, под каким бы предлогом не ездить, да это напоминанье обеда, а в самом деле, как угадывалось, о том, что время у него ещё есть, оттого что тот ещё жив, подстегнуло его, и он окончательно заспешил, и внезапно пришедшая мысль, что успеет перед тем оправдаться во всём, подгоняла его, отчего копошился он дольше обыкновенного, то не попадая в рукав, то позабыв про жилет.
Ион, готовый давно, дожидался предупредительно, стоя у двери с вытянутым несчастным лицом: плохи, стало быть, были у бедного Васьки дела.
Наконец Сашка подал трость и цилиндр и набросил шинель.
Наёмная карета ждала у крыльца.
Они молча сели с разных сторон. У него промелькнула благодарная мысль, что верный Ион заранее позаботился обо всём, ничего не забыл, а Ион, склонившись, заглядывая в лицо, вполголоса говорил:
— Дело теперь заведётся, в полиции или где, так все мы должны говорить...
Согласно с указом, которым строго-настрого воспрещалась дуэль, дело должно было завестись непременно, однако к этому делу он был равнодушен, точно оно не касалось его, только несчастного Иона, которого затащил ради шутки, экий болван, стало вдруг страшно жаль, и он грубовато, отрывисто оборвал:
— Тебе, Богдан Иваныч, надобно от всего отпереться, и точка.
Ион переспросил, удивлённо моргнув:
— Это как?
Александр уже видел, что для Иона в отрицании с порога всего, что предъявят ему в заведшемся деле, единственно правильный выход, и ответил, сердито ворча:
— А вот так: не был нигде, не знал ни об чём и во сне не видал. Не беспокойся, у нас немцу тотчас поверят, что ни солги, замечательная к немцам любовь у властей, да и власть-то из немцев, порядок такой.
Откинувши несколько голову, по-прежнему разглядывая его, точно давно не видал, покачиваясь смешно, когда карета подпрыгивала на кочках, китайский болван, две капли воды, Ион изумлённо тянул, не имея в запасе этого неотразимого русского средства — беззастенчиво лгать:
— Однако, позвольте, я не не был там, Александр, я, как раз напротив, там был...
Возражение принадлежало к разряду глупейших, самому распространённому между людьми, как он примечал, немцы на этом стоят, как гранит, но всё-таки и глупейшее возражение надо обдумать, хотя чего же обдумывать, очевидно, как Божий день, понятно должно быть наипоследнему дураку, не был, и всё тут, спрос не велик, а между тем они приближались, через минуту иное станет важней, к чему он вовсе не был готов, всё заспал, как же он мог, он-то там точно был, и, сморщившись, словно бы Ион наступил ему на мозоль, нагнув голову, он попросил:
— Потом, Богдан Иваныч, об этом потом, после поговорим, я растолкую тебе, где ты был, глубокая мысль.
Ему сделалось сиротливо и зябко. Он во всём ещё очевидней был виноват, и вина непоправима была, безысходна и, как плита на груди, тяготила его, можно ли посвящать немца в тонкости русского умения жить.
Александр натягивал перчатку на правую руку, тотчас снимал и беспрестанно совался к окну.
После вчерашнего мороза и снега вдруг потеплело, моросила какая-то мелкая дрянь, за окном висел невзрачный редкий туман. Колеса кареты стучали по обнажённым скользким камням.
Он удивился, что не приметил ни дождя, ни тумана, когда выходил.
Право, лучше было бы всё ещё спать, порывисто, тяжело, но без дождя, тумана и снов.
В особенности сны никому не нужны.
Тут карета остановилась, но остановки он не заметил, продолжая сидеть, свесивши голову, опираясь двумя руками на трость, размышляя, отчего это сны никому не нужны.
Ион осторожно тронул его за плечо, указывая движением головы, что пора выходить.
Александр с изумлением поглядел на него: чего тот хотел от него, сообразил, что сны всё же нужны, из кареты выбрался почти машинально, вошёл и не тотчас сбросил шинель, точно раздумал входить.
У него чуть не силой взяли трость и цилиндр и без промедления провели к Шереметеву, видимо давно ожидая его.
Серый, неузнаваемый Васька был весь в жару. Лихорадочно блестели бесцветные жидкие большие глаза и беспокойно, мучительно ждали кого-то. Почерневшие губы запеклись и шептали чуть внятно и с хрипом:
— Грибоедов... жду тебя... хорошо... прости меня... друг... я верю, верю... уж ты, брат, прости...
Александр сел перед ним, опустил на колени бессильные руки и наклонился вперёд, стараясь хоть что-нибудь разобрать из того, что бедный Васька шепчет явно в полубреду.
В тот же миг Шереметев вдруг увидел его, ещё больше расширил больные глаза и отчётливо прошептал:
— Грибоедов!
Он невольно слишком громко сказал:
— Здравствуй, как ты?
Шереметев нахмурился, сморщил лоб совсем так, как всегда, когда недоволен бывал, что мешали ему, и зашептал торопливо, прорываясь, поверхностно, часто дыша:
— Ты был прав... Во всём, Грибоедов... поразительно прав... Я тебя только жду, не хотел помереть без тебя. Ты же прав... теперь никогда... ни-ко-гда...
Он машинально кивнул, решительно не понимая его:
— Да, ты тоже прав, помолчи.
И вдруг осознал, как нелепо, несправедливо, возмутительно то, что именно перед смертью втолковывает ему Шереметев, перед смертью, уже ничего не вернуть, с этим, с этим так и уйдёт, и, почти к самому уху склонясь, глядя тревожно, жив ли ещё, с тяжкой страстью заговорил:
— Это я во всём виноват, слышишь, я виноват, ты прости меня, брат, загубил я тебя, ты прости, я прошу, я тебя очень прошу, ты прости!
Чёрные губы Шереметева дрогнули, точно пытались сложиться в улыбку.
— Это всё я, сердца на меня не держи... Нельзя так глупо любить, а ты говорил, сколько раз говорил... Прошу тебя, скажи нынче ей... пусть отпустит меня... мучил её... это скажи... пистолет...
Горячее короткое прерывистое дыхание было у него на бледной щеке, однако он ещё ниже склонился над ним и силился хотя бы взглядом Ваське внушить то, о чём говорил почти мертвецу:
— Всё скажу, но если бы я...
Шереметев, вдруг перебив, едва прошептал, весь опускаясь вниз на высоких подушках:
— Перестань... простишь ли меня?
Он слабо вскрикнул в самое ухо:
— А ты?
Шереметев выдохнул, безвольно набок клонясь головой:
— За этим и ждал... спасибо тебе...
Он не разобрал впопыхах, за что благодарил Шереметев его, когда должен был проклинать, и с пронзительной жадностью следил за губами, чёрными, жаркими, что скажут они, чем ответят ему на учёный вопрос о прощении, но губы больше не шевелились, рот был раскрыт широко, втягивая воздух со свистом.
Александр откачнулся, соображая, что должен идти, не в силах подняться и навсегда оставить его.
Шереметев заметался в бреду, несколько раз повторив его имя, точно всё ещё ждал.
Он прислушивался к этому невнятному бреду и обречённо сидел перед ним. Он не верил, но знал, что совсем близок конец и что ему не забыть, не забыть никогда, и тогда... и тогда...
Тут он вздрогнул и поднял глаза.
Оказалось, он был не один.
Пожилой доктор, весь в чёрном, не тот, не вчерашний, который вынимал красную пулю после дуэли, незнакомый, спокойный, неподвижно сидел в стороне и молчал, не глядя ни на кого.
Александр взглянул вопросительно, и тогда доктор, добродушный толстяк, видимо немец, с усталым лицом, тотчас уловив на себе его вопрошающий взгляд, со своим всё-таки свежим румянцем на круглых щеках, неторопливо кивнул и чуть слышно произнёс по-латыни, отчего-то уверенный в том, что посетитель знает латынь:
— Час или два.
Он изменился в лице и готов был бежать, но заставил себя для чего-то ещё посидеть.
К нему наконец подошли, тоже громким шёпотом стали за что-то благодарить.
Он откланялся и тотчас уехал.
Жизнь оказывалась серьёзная, страшная вещь. Этой вещью не полагалось шутить, как он беспечно и беспутно шутил всё последнее время, вчера и до вчерашнего дня.
Он боялся заплакать навзрыд и сквозь оконце наёмной кареты, нарочно проделанное в передней стене, упорно глядел извозчику в спину.
На этой чужой незнакомой спине был измокший рыжий тулуп. Потемневшая кожа повытерлась слегка на лопатках и на этих местах была очень гладкой на вид и намного темнее. Большой барашковый воротник был опущен и лежал на плечах. На воротнике ершились намокшие чёрные завитки.
Ион, прижавшийся в угол, как будто ему говорил, а может быть, рассуждал сам с собой:
— Говорят, Якубович намерен стреляться... Каверин намерен Якубовича убедить...
Ему сделалось омерзительно, скверно, как только до него дотащился смысл этих слов.
Он сконфуженно возразил:
— Дело чести, для чего убеждать?
Ион что-то долго и пугливо стал изъяснять, однако он его больше не слушал.
Жизнь так огромна, что не имела цены, ни за какие деньги именно жизнь не купить. Оттуда не возвращался никто, это ещё принц датский так остроумно приметил, и Васька не воротится, шалишь, а здесь ничего хорошего быть не могло. И вот не укладывалось у него в голове, как же он себе позволил с жизнью, своей и чужой, шутить и шутить?
Спина сквозь оконце казалась широкой, прямой и спокойной: верно, отлично знала эта спина, в какую сторону гнать лошадей.
Разве он мог, разве он право имел вполне жизнью признать всю свою прежнюю суматошную егозливую дурацкую жизнь?
Наконец воротившись домой, он себе места не находил, всё думал о чём-то, не всегда умея сказать, о чём размышлял, прилёг на диван, через минуту вскочил, стал ходить взад и вперёд, размахивая сильно руками, наконец присел бесцельно к столу и поник.
Ион, скромно сидя на стуле, поближе к дверям, точно на минутку зашёл, горестно вслух рассуждал о судьбе вообще и о печальной судьбе Шереметева, кавалергарда, штаб-ротмистра, графа, всё время обращаясь прямо к нему, словно затем, чтобы он только как можно дольше слушал его и не смел погружаться в себя.
Слушал он плохо, отвечал кое-как, может быть, невпопад, отчего-то спросил, разве Шереметев был граф, позабыл. Он чувствовал болезненно, остро, что упустил свою жизнь и что не судьбу за своё упущение должен винить.
Он её сам пропустил между пальцами, единственно сам, вот что в этом гадком деле сквернее всего, оттого пропустил, что дурак, если б судьба, так это б ещё ничего.
А всё отчего?
А всё, сукин сын, оттого, думал он, что многие годы, ещё со студенческих лет, когда мальчиком был, он наладился жить с убеждением, разлитым во всём его существе, что он готовит и превосходно приготовил себя на серьёзное, важное, даже, возможно, на чрезвычайное и великое дело, что в одной этой готовности и заключается всё благо жизни и что, в сущности, не имеет никакого значения именно то, когда приступишь к исполнению чрезвычайного и великого дела, если душа переполнена твёрдою готовностью, до краёв переполнена счастливой верой в себя, тут беспокоиться нечего, случай явится сам собой, ничего промедление, всего в несколько месяцев, в год или в два, всё отлично, метаться-то из чего, из какой такой надобности высуня-то язык чрезвычайное и великое дело волком голодным искать?
И вот одна глупая пуля в живот — он оглянулся: позади увиделось одно позорное промедление, и ни единого дня уже не воротишь назад.
А если бы выстрел был сделан в него? Если бы теперь он метался, как Шереметев, с дыркой в боку, с воспалённым от последнего жара лицом?
Что бы осталось в память об нём? Какое чрезвычайное и великое дело?
Звук один его имени: Александр Грибоедов.
И более в памяти современников ровным счётом не отпечатлелось бы ничего.
Даже не тень на стене.
Нет, он не хотел бы так жить, не хотел бы так умереть, чтобы ни звука, ни тени, однако так жил и мог бы так умереть, что самое имя его покрылось бы мраком забвения.
Сколько в памяти поколений отпечатлелось великих имён? Прозвучи трубный глас — и поднялись бы усопшие исполины один за другим, когорта бессмертных: Святослав, Ярослав, Мономах, Иоанн, Пётр Великий, Екатерина, тоже, нет спора, Великая.
Преобразователи, вершители судеб, с познаньем всего, от начала века по днесь, как будто участники во всех делах мира не только при одной своей жизни, но и после дальней, в прахе столетий, славной смерти своей.
Великие мира — великий пример.
Кажется, давно изучил об них всё, помнил всякое долетевшее слово и всякое воплощённое дело, однако на пользу великий пример не пошёл и той высшей мерой не измерить себя, унизительно мал, совсем не видать.
Начать заново жизнь?
Каким чудом, однако? С чего? И каких теперь надобно сил, богатырских, безмерных?
Поздно, пожалуй, сначала начать уже поздно ему, да сначала жизнь начинают только в романах, в скучных, в дурных.
Ещё слава Богу, что хотя бы остановился так вдруг посредине безумия и сумел разгадать, что кругом виноват.
Если б не эти ждущие голубые глаза, не догадаться бы самому никогда, несмотря на весь ум.
Что ум? Человеку, должно быть, необходимо, чтобы время от времени большое несчастье, свалившись, как камень, напоминало ему о себе же самом, и он бы взглядывал вдруг на себя охлаждённым, трезвым, прямым, критическим оком.
Необходимо взглянуть!
Ион тем временем рассуждал с вопрошающим выражением на длинном лице:
— Как странно, что отец в несчастье таком остаётся спокоен. Я бы, кажется, умер сам, лишь бы не видеть своими глазами, как умирает мой сын. Вы же знаете, Александр, как люблю я детей, и потому своих детей иметь мне никогда не решиться. Я, может быть, по этой причине и не женюсь никогда. А вы, Александр? Представьте: лелеять, любить — и вдруг в один миг потерять навсегда!
Собравшись было жениться, внезапно отвергнутый, оскорблённый, откровенно предпочтённый другому, как мало всё это глупо проведённое время думал он о себе, то есть мало думал о жизни своей, о смысле, о цели её? Кому-то как будто бы мстил, сбитый капризной женщиной с ног, как и Васька, — шут, скоморох, он жил, как жилось, со дня на день и день ото дня. После этого, кто ж он такой? Ему бы вот это для начала узнать, сосредоточиться бы, позабыть обо всём постороннем, о той тайной обиде прежде всего, понять и простить, простить, разумеется, прежде всего, Васька и тот угадал, и, понявши, простивши, прозреть.
Он расслышал, что Ион молчит, и сказал, вдруг решив, что наставник, как прежде, с воловьим терпением ждёт, чтобы взрослый дитятя ответил на какой-то важный запрос:
— Лелеять, любить? Однако первыми чаще всего уходят из жизни отцы.
Ион покачал головой, точно ответ был именно тот, какой ожидался, и печально вздохнул:
— Как знать! Судьба безжалостна к нам. Судьба не разбирает отцов и детей, знай себе равнодушно машет железной косой.
Стол был огромный и очень удобно стоял у окна. Свет падал широко и свободно на крышку, пиши да пиши. Когда нанимал он эту квартиру, стол понравился ему больше всего. Он сбирался усидчиво много работать за ним. Чрезвычайные, великие замыслы, казалось, тяготили его. Таким замыслам, дело известное, надобен свет и простор.
— Не хватает только свечей.
Ион без промедления согласился:
— Вы правы, стало рано темнеть, зима настаёт. Александр замешкался что-то, приказать, чтоб подал?
Он удивился, приметив, что сумерки давно наползли и не видать почти ничего, и тревожно забормотал:
— Богдан Иваныч, будь добр, прикажи.
Ион тотчас кивнул:
— С удовольствием прикажу, Александр.
В голове вдруг мелькнуло, как обыкновенно мелькает во сне, что добрый Ион отдавать приказаний не выучился, Что надо бы было остановить и Сашку обругать самому, экий упрямец, лентяй, сукин сын, однако Ион вскочил, длинно зашагал по ковру и скрылся за дверью, точно растаял, заставив его усумниться: да был ли немец только что здесь и не разглагольствовал ли он сам с собой чуть не весь день? О чём, бишь? Ах да, о коварной судьбе да об детях.
На крышке стола были разбросаны бумаги и книги. Встревоженный, несколько раз нарочно тряхнув головой, надеясь резким движением наважденье прогнать, он принялся машинально проглядывать их, поднося совсем близко к глазам. Бумаги и книги накапливались давно. Он не сомневался, живя как попало, что бумаги и книги все разом вот-вот непременно понадобятся на что-то ему, и перекладывал то на одну сторону, то на другую, а бумаги и книги понемногу пылились, желтели, не изведав постоянного большого труда, молчаливые трупы, жертвы мечтаний, кто бы дал жизнь?
Сперва взявшись за книги, проглядывая названия, скорее угадывая, чем прочитав в темноте, открывая на мгновение в разных местах, он и представить не мог, для чего так долго собирал и хранил этот хлам, покрикивая на ленивого Сашку, чтобы не хозяйничал тут и не хватал, упаси Бог, ничего на растопку. К тому же и читать сейчас было нельзя. Зимний день стремительно угасал, точно прятал свет от него.
Он откинул голову на спинку высокого кресла и прикрыл утомлённо глаза.
Воспалённые веки чуть горели и слабо чесались.
Хорошо бы было в баню сходить.
Толкнув дверь ногой, Ион внёс канделябры. Сквозь прикрытые веки Александр ощутил яркий свет, но глаз не открыл и не стал шевелиться, прислушиваясь, как Ион неуклюже возился, ставил свечи на стол, передвигал, потом что-то взял со стола и удивлённо, протяжно спросил:
— Вы читаете «Мизантропа» по-русски?
Он неохотно ответил, глаз не открыв, не поворотив головы:
— Читал.
Ион постоял минут пять, страницами шелестел, шмыгал время от времени носом, затем сердито швырнул русского «Мизантропа» на стол, книга шлёпнулась, должно быть, раскрылась и слабо затрепетала листами, а Ион громко сказал:
— Это очень плохой перевод, Александр, даже слишком плохой, я вам удивлён!
Он открыл с досадой глаза, что за вздор?
Копья высоких свечей пугливо дрожали. Чернота позднего вечера тревожно глядела в окно. Сашку кричать не хотелось.
Он поднялся, обошёл кругом громадный свой стол, предмет бесплодного обожания, дёрнул шёлковый шнур, и пунцовые плотные шторы закрыли окно. Эти странные шторы завёл до него в этой комнате какой-то дурак. Они вовсе не подходили к серым обоям и были неприятны для глаз. Он терпеть эти шторы не мог, а до сего дня не сменил, всё куда-то бесцельно спеша, всё бегом да бегом, и теперь, может быть, в смене штор не слышалось ни малейшего смысла.
Ион по привычке прислонился к стене, скрестив свои длинные ноги. Добродушное лицо немца слегка потемнело, как бывало в Москве, когда он ленился и противился злейшей участи помереть от скуки на лекции, голос немца сделался неожиданно строг:
— Из какой надобности вы читаете всякую гадость?
Наставником так и несло. Иону было всего двадцать лет, когда матушка наняла немца к нему гувернёром. Они вместе слушали курс эстетики у полунемца-полуфранцуза Буле[16], который приватно читал на квартире Петра Чаадаева[17], вместе слушали курс на этико-политическом отделении. Ион был с ним застенчив и добр, вспоминая лишь от случая к случаю, что поставлен над ним гувернёром, возвышал тогда голос и хмурил брови и лоб. Матушка возмутилась до крику, когда увидала, что с течением времени они стали друзьями, однако же рассчитать Богдана Иваныча не посмела, он решительно воспротивился этому, защищая наставника своего, а он был её сын по любви, и она, покричав, погрозив, насказавши упрёков, всегда делала, как он хотел.
Славно они проживали в Москве допожарной, переводили с латинского Плавта[18], менялись юными мыслями, чаще всего по-немецки, читали Гёте и Шиллера, причём Шиллера всегда ровный застенчивый Ион декламировал с неподдельным восторгом, с жаром в глазах и горько оплакивал Новую Элоизу[19]. Нынче Ион был уже доктором прав, управлял Немецким театром и восхищался мещанскими драмами Коцебу[20], немец, известное дело, был бы повод малейший — тотчас пустит слезу, оттого и прежде книг не швырял никогда и тоном наставника говаривал разве что по ошибке или уж больно сердясь на него.
Александр почувствовал раздражение от этого ненавистного тона. Самолюбив, независим, гордости, может быть, непомерной, наставлений ни от кого не терпел, ни дурацких, ни умных. К тому голубые глаза Шереметева, вновь промелькнувшие перед ним, готовы были заплакать. Что за притча, уж не сентиментален сделался он? Уж не переметнулся ли в слезливый стан Карамзина и Жуковского[21]? То-то бы отчудил!
Он поколебался, стоит ли отвечать, но ответил вызывающе тихо:
— Решился проверить, готова ли русская мысль передавать по-русски глубокое содержание.
И тут же схватил в раздражении стопку исписанных неаккуратно листков и быстро их проглядел один за другим, глазами выхватывая то одно, то другое случайно попавшее слово, щурясь от слишком яркого света, кусая вдруг пересохшие тонкие губы.
Вновь выспрашивал он сердито себя, есть ли на нём в самом деле вина, или он, от неожиданности или с испуга, поддавшись глупейшей чувствительности, её сам себе навалил на внезапно занемевшую душу, такую беспечную, такую лёгкую всего день назад, а теперь? Что теперь? Ощущение этой непоправимой, этой громадной, всевластной вины были стиснуты все его лучшие чувства. Вот и опять этим стиснутым чувствам его вина перед добрым приятелем, но шалопаем, в особенности перед собой, тоже личность не лучшего свойства, по правде сказать, представлялась неоспоримой. А беспечность, а лёгкость, вселявшие ощущение счастья и радость? От них ничего не осталось, лишь один убегающий в памяти след. Ощущение счастья и радость задавила глухая тоска. Он, то покорно, то зло, размышлял непрерывно о том, бегло просматривая им когда-то исписанные листки, как станет жить под тяжестью этой несчастной и, вдруг подумалось, слишком уж глупой вины. Этой отравленной жизни он себе представить не мог, он любил весёлость и радость, шутки и смех, как любили, кажется, все, кто его окружал, одна матушка никогда не смеялась, так что и жизнь была невозможна без них, жизнь без шуток и смеха была чужда ему до того, что не хотелось и жить, не хотелось и думать о жизни.
И на этих исписанных криво и мелко листках открывалась уму явная глупость и чушь. Он дивился, как имел легкомыслие занимать те счастливые беззаботные дни подобными стыдными вздорами. Теперь же, когда он был кругом виноват, представлялось просто-напросто неумной нелепостью слово за словом выправлять корявый чужой перевод «Мизантропа». Чужая комедия, чужие слова.
Ион вновь со злостью подумал о том, что вечно рядом идущая смерть в любой миг могла оборвать это невинное, чуть ли не детское препровождение времени, и остались бы от него одни эти смешные листочки, как от весёлого Васьки остались одни умоляющие, перепуганные глаза.
Очень высокий, оттого, может быть, что стоял у самой стены, следя неотступно за ним, улыбаясь осторожной доброй улыбкой, Ион наконец негромко спросил, так же внезапно оставивши тон наставлений:
— Ну, как вы это нашли, Александр?
Он вздрогнул, взметнулся, резко передвинулся в кресле, с недоумением вгляделся в долговязого немца и тоже негромко спросил:
— Ты об чём?
Скрестив длинные руки, стиснув пальцами узкие костистые плечи, Ион без малейшей иронии изъяснил:
— Ну, вот это, над чем вы размышляли, то есть готова ли русская мысль выражаться по-русски?
Вместо ответа он порывисто смял мерзкое кропанье в комок и с отвращением швырнул в кем-то, этого он не приметил, растопленный и уже угасавший камин.
Листки его рукописи так и упали, белым бесформенным комом, на присыпанную свежим пеплом золу, и зола взметнулась под лёгкой тяжестью их снопом мелких смеющихся искр.
Всплеснувши руками, Ион отскочил от стены:
— Остановитесь! Александр! Зачем вы? Боже мой!
Склонив голову, отворотясь, с неподвижным потемневшим лицом, испытывая отвращенье к себе, непримиримый судья, Александр отрезал резко и зло:
— Не мне судить бедную русскую мысль.
Длинный Ион стремительно пал на колени, громко стукнувши об пол, угловато сложился, как циркуль, выхватил из пасти камина и принялся расправлять перепачканные, смятые, уже зачерневшие по краям листки неоконченной рукописи, как ещё не разрыдался, бедняга, впрочем, жалко его, и перед ним виноват.
Кто же он? На что предназначен судьбой? Когда, в какой миг себя потерял? Или всё ещё не нашёл, оттого что никогда не искал? Хорошо, если бы так. Однако же выходило кругом, что ничтожество он, что обречён прозябать с двенадцатым классом и двумя паршивыми водевилями в тощем портфеле, которые с французского перетащил на русский язык, того ради, скорое всего, чтобы что-то доказать чудаку Шаховскому.
И что доказал?
Не судья, разумеется, никому, ничему не судья, судья себе одному.
И, тоже довольно высокий, ловкий, худой, склонился к хлопотавшему Иону, выхватил морщинистые листки один за другим из жадных дрожащих растерянных рук, с ожесточением рвал на мелкие клочья, сердито кричал:
— Оставь, Богдан Иваныч, оставь, Бога ради, добром, добром тебе говорю!
Глядя на пустые ладони в серых пятнах каминной золы, Ион покорно поднялся с колен и огорчённо пробормотал:
— Вы пробросаетесь, Александр! Дарования ваши...
Точно по сердцу ножом, он оборвал, брезгливо отряхивая ладони, сметая белые хлопья бумаги с колен:
— Чёрт их задери, мои дарования!
С жалкой улыбкой, с растрёпанной головой, Ион неуклюже стоял перед ним и говорил ему с мягким упрёком, с явной болью сердечной в широко раскрытых повлажневших глазах, что ж они смотрят-то все на него:
— Ах, Александр, сколько дал вам великодушный Господь дарований, вы философ, вы учёный историк, вы поэт, музыкант, вы владеете шестью языками, и что же? Где плоды этих ваших несметных богатств?
Да, в самом деле, за какие его прегрешенья над ним так жестоко сшутила судьба? Насмешница вечная наша, дрянь последняя, если правду сказать. Одарила-то одарила, с чего бы он очевидное благодеянье старухи стал отрицать, однако ж путного сделать отчего не дала?
А те голубые детские умоляющие глаза продолжали с жалким вопросом глядеть на него из угла, как Ион глядел, и он, зябко ёжась, потирая правой ладонью плечо, отворотившись от них, дрожащими губами возразил едва слышно:
— Эх, Богдан Иваныч, поверь: у кого так много талантов, у того, должно быть, ни одного настоящего, дельного нет, вот в чём вся соль, вот в чём, видать, наша беда, немцам-то этой беды не понять, понимаешь?
Сделавшись точно бы ниже, мигая растерянно, часто, Ион с ясно написанном на длинном лице огорчением в знак полного отрицания мотал головой, запинаясь, спеша:
— Не вам жаловаться на щедрого Бога, не вам, Александр, заклинаю, большой это, очень это большой и непростительный грех, обязан напомнить вам изначальный закон, непреложный, а вы же себя и не знаете сами, не лгите себе на себя, я вас прошу.
Грех, разумеется, непростительный грех, правило в самом деле, железный закон, да разве грех самый тяжкий из всех?
Не поднимая глаз на него, отходя от камина, всё больше на что-то сердясь, он бросил отрывисто:
— Истинный человек обязан служить высшим целям, всю жизнь свою одним высшим целям отдать, в противном случае какой же он человек, наплевать на любые таланты с высокого дерева, а я, скажи мне, чем, для чего я живу? Что же ты мне уши все прожужжал об каких-то талантах?
Тяжело, сокрушённо вздохнув, присев на скамеечку, на которую он ставил свои зябкие ноги, обыкновенно согревая их у камина, пытаясь глядеть ему снизу в глаза, Ион быстро, настойчиво убеждал:
— Высшая цель у вас есть, Александр, я уверен, я знаю отлично, хотя вы ни мне, никому не говорите об ней, как и подобает такому серьёзному, такому обстоятельному, пристально размышляющему о бытии и небытии человеку, как вы, вы только не знаете, как я это давно решил про себя, вы ещё не решили, должно быть, с чего и где вам начать, на каком именно поприще, с какой стороны к высшей цели пойти, в этом именно я убеждён и готов присягнуть на Евангелии.
Вся эта бестолковая болтовня странным образом была похожа на самую горькую правду, высшая цель в самом деле была, не генералом же он силился превзойтись к дряхлости лет, не действительным тайным советником или министром, только этакой гнусности ему не хватало, чёрт побери, но чем-то всем вместе, в том-то и дело, что просто-напросто высшая цель сама по себе, к которой не знаешь, как подступиться, ай да шагай, Богдан-Иоганн, и он с глубокой тоской поглядел на бывшего своего гувернёра и не то пошутил, не то серьёзно сказал:
— Э, Богдан Иваныч, душа голубиная, остерегись, не поминай имя Господа нашего всуе.
Ион протянул к нему длинную руку с неловкой лаской в посветлевших глазах:
— Это вы остерегите себя, Александр, возьмите судьбу свою в ваши руки, не то, прости Господи, не стрястись бы беде, это я так понимаю про вас, надежда моя, светлый ум, исполин дарований, молю вас, услышьте меня.
Эка загнул, исполин дарований, Шиллер с Карамзиным, тоже пророк, чёрт возьми, и какие глаза, у Жуковского, должно быть, точно такие, когда зарыдает, сидя над ручейком, и он неприязненно вскинулся, стоя боком к нему:
— Ты с чего взял, что беда?
Отдёрнувши руку, точно обжёгся на жарком огне, с тотчас поблекшим, болезненно горьким лидом, моргнувши несколько раз, уж не смахнул ли слезу, Ион с горячностью изъяснил:
— Дух ваш дерзок, восприимчив, непостоянен, непостижим и слишком, чересчур ужасно раним, это я наблюдаю за вами с каких ещё лет, а с духом таким либо на подвиг идут, либо лихая беда, кабак да сума, у вас говорят, середины вам нет, как не остеречься, я покой потерял из-за вас.
Отходя от него ещё дальше, из суеверия не желая накликать ещё новой беды, когда одна уже разразилась над ним, он скривил тонкие губы и оборвал, как всегда то обрывал, чего не хотелось слышать ему:
— Уж больше куда?
Ион понял, должно быть, что сам он страшится и тоже покой потерял, сжался как от удара, едва слышно сказал:
— Слава Богу ещё, могла стрястись и побольше беда, ох как могла, Александр!
Он рассердился не в шутку, круто оборотился к нему и с негодованием вскрикнул:
— Человека убили! Чего же надо тебе?
Ион робко, но укоризненно поднял глаза:
— Да, Александр, человека убили, да могла быть и большей беда: человека могли убить вы.
Он вдруг застонал и выдавил хрипло:
— Прости, Богдан Иваныч, прости, что кричал, истинно глуп. Прав ты, ах как ты анафемски прав!
Ион потупился, посоветовал тихо:
— Вам бы настоящее что-то начать, Александр.
Он не нашёлся, что ответить ему, и голубые детские умоляющие глаза из потухавшего серого пепла глядели опять на него, напоминая, как тяжело, как непоправимо и навсегда он виноват перед ними и как вся его жизнь, задуманная так благородно, так звучно, была мелка и мерзка.
Он попросил:
— Оставь меня, побуду один.
Ион с осторожным вниманием поглядел на него, хотел что-то сказать, однако согласно кивнул и своей неуклюжей походкой тотчас направился к двери.
Дверь с шумом отворилась навстречу ему. Из тьмы коридора явился, как на театре, Каверин с детски невинной и ясной улыбкой, с румяным лицом, весь в каплях дождя на плаще, на фуражке и на потемневших усах.
Ион едва успел увернуться и с неуклюжей учтивостью сделал поклон.
Каверин, широко шагнувши мимо него, всё улыбаясь, прямо на пол стряхнул с фуражки блестки дождя, скинул плащ, собрал толстыми складками лоб и с той же невинной и ясной улыбкой серьёзно сказал:
— Вели-ка тринкену принести.
Александр так обрадовался ему, что в беспамятстве закричал:
— Сейчас принесу!
Каверин посторонился, но придержал его за рукав:
— Полно, брат, бегать, кликнул бы Сашку, чёрт побери.
Он отстранил руку Каверина и мельком взглянул на безмолвно выходившего Иона:
— Нет, я сам, не дождёшься его, лентяй и балбес, а ты, Богдан Иваныч, куда?
Ион невозмутимо ответил, приостановившись в дверях:
— Вы мне напомнили, Александр, что у меня дома дела.
Он подскочил, хотел удержать чудака, они вышли вместе, и он, опять с язвительным чувством непоправимой вины, перед Васькой, перед немцем, перед собой, извинился горячо, от души:
— Ты не так понял меня, Богдан Иваныч, милый ты мой. Я только просил тебя прекратить разговор, чтобы подумать о моей судьбе самому. Это нехорошо. И о высшей цели ты истинно прав, должна быть высшая цель, из чего же тебе уходить? Каверин пришёл!
Ион ласково улыбнулся, точно ребёнку, открывая широкие, крупные, чуть желтоватые зубы, безоговорочно тотчас прощая его:
— Я всё правильно понял, да вспомнил, что дела дома ждут, я вам не лгу, а Пётр Павлович покуда с вами побудет, не заскучаете, где уж.
Он разглядел, что Ион в самом деле ничуть не обиделся, но из деликатности желает уйти, милый такой человек, и крепко обнял его:
— Ещё раз прости.
Ион в ответ пожал руку:
— Успокойтесь же, Александр, доброй ночи, завтра непременно вас навещу.
Он посмотрел ему вслед, затем подошёл поспешно к буфету, хлопнул дверцами, звякнул стаканами.
Сашка, мирно спавший на стуле, со свешенными руками, с отвислой губой, пробудился от этого шума, не удивился, но тотчас вскочил:
— Степан Никитич приехали, да[22]?
Эта мысль поразила его:
— Ты с чего взял?
Сашка нахмурился, отнял поднос, огрызнулся:
— Так Пётр Палыч, мне с чего брать? Или на радостях, или они-с. Кто ж ещё тотчас пить, как взойдёт? Да вы этак-то всё перебьёте. Небось сам принесу.
Ах, Степан! Вот кто первый развернул в нём его лучшие свойства души, любовь к добру и к общему благу, честность и всё, в чём истинно состоит души красота. Вот бы с кем нынче, с кем же ещё?
А Каверин тоже славный был человек. Александр немного знал его ещё по Москве. Они вместе езжали на лекции. Оба жадны были до истинных знаний. Оба, смеясь и язвя, бранили скудоумных и скучных наставников, скудоумных и скучных же был легион. Каверин год спустя соблазнился в Германию и звал его вместе с собой, да матушка бы не пустила его в чужие края одного, да и что ему там? После войны они встретились вновь. Каверин был тоже гусар, лейб-гвардеец, поручик, прежний умница, пламенный друг, всем известный картёжник, дуэлянт и буян, с добрым сердцем и верным чутьём на чужую беду. Ещё летом, дня через два как он остался в Петербурге один, без Степана, они сошлись ненароком у Лареды, и Каверин, с этой детской, невинной и ясной улыбкой, тотчас громко заговорил: «Что? Бегичев-то уехал? С кавалергардами походом в Москву? Тебе без него, верно, скучно? Ну, так я к тебе перееду». Он был рад от души, согласился, да подумал потом, по дороге в театр, что это одна ресторанная шутка. Из театра отправился он на чердак к Шаховскому, поздней ночью воротился домой и нашёл у себя пенатов чужих, каверинских то есть, сам же Каверин воротился под утро, пьян да умён, с ворохом денег в фуражке, пил да играл. И они прожили вместе, пока тоска его не прошла. Славно шутили день напролёт, славно болтали и болтались всю ночь, и, может быть, с ним теперь не приключилось бы то, что приключилось, да Каверин, видя его подряд три недели весёлым, молча исчез, забравши свой чемодан, а его вновь изгрызла тоска.
В коридоре он постоял в праздном раздумье о превратностях бытия, засветил угасший было светильник, усмехнулся, покрутил головой и с улыбкою, чуть не счастливой, воротился к Каверину.
Сашка явился следом за ним с подносом в руках, аккуратно поставил на стол, приготовил стаканы и потянулся было к бутылке, да Каверин ловко выхватил бутылку из Сашкиных рук:
— Вечно копаешься, Сашка.
Сашка флегматично заметил, тоже остряк:
— А куда мне, Пётр Палыч, спешить?
Каверин захохотал, затряс головой:
— Верно, брат, спешить тебе некуда, ты вина в рот не берёшь, зато я всегда тороплюсь.
Ловко выстрелил пробкой и наполнил стаканы пенной струёй, приглашая:
— Пей, Александр!
Одним духом выпил полный стакан, провёл ладонью по обсохшим пушистым усам и громко спросил:
— Отчего не приехал в театр? Я поджидал тебя в креслах, глазел, глазел на левую сторону, на твой бенуар, аж глазелки болят, а кто виноват?
Он без желания сделал глоток и с удивлением уставился на Каверина:
— Ты разве был?
Каверин ещё раз наполнил стакан и поднял его:
— Ага, понимаю тебя!
Выпил жадно, точно не сделал за целый день ни глотка, молодецки провёл по усам:
— Потому и приехал к тебе.
Александр бы хотел изъяснить про глаза и про то, как у себя, через несколько улиц, тяжело умирал Шереметев, весь в липучем смертном поту, которого они не спасли от пустого дурачества, а дурачество, видишь, чем обернулось, беда, однако ж не мог именно обо всём этом сказать ничего и только угрюмо сказал:
— Так было должно.
Склонясь над столом, пробарабанив крепкими ногтями кавалерийскую трель, Каверин исподлобья изучающе поглядел на него, точно не видал никогда:
— Не спорю, что должно, да больно уж глупо, ты мне поверь, от другого кого, от тебя-то не ожидал, испечалился как херувим, того гляди, балладу испустишь в слезах, ну, там доски трещали, кости в кости стучали, а умный ведь, кажется, человек, к тому же наш брат гусар, не смотрю, что в отставке, а наш.
Не осознавши ещё, но уже ощутив, что в самом деле поступил неумно, Александр, пытаясь скрыть замешательство, сделал неторопливый глоток, но шампанское не шло ему в горло, право, меркнут очи, кровь хладеет, усмехнулся он про себя и глухо спросил:
— В положении самом ужасном для чего я нынче в театре?
Каверин нахмурился, мотнул головой:
— В таком положении надобно пить, ты вот и пей, губы-то не криви, преотличная вещь, а в театре быть должно затем, чтобы видели всё, что ты непричастен к этому несчастному делу, вот так-то, мой друг, разумей.
Эта мысль поразила его, хотя нечто подобное он сам советовал Иону, да он и на минуту представить не мог, чтобы совет, данный Иону, здравый и верный, относился также к нему, и он оставил стакан:
— Каким образом? Я же там был! И с тобой! Кто ж об этом деле нынче не знает? Весь свет!
Каверин рассмеялся беспечно, откидываясь назад:
— Очень даже простым! Нас не было там, ни тебя, ни меня, понимаешь? Для очевидности этого я преспокойно поехал в театр: глядь, тебя нет, экий осёл. Истомина страсть была как мила.
Такого рода поступки не умещались у него в голове, благородство и честь, да тут же наглая ложь, и он только из любопытства с подозрительным видом спросил, размышляя, не розыгрыш ли это Каверина, Каверин большой был на разные штуки мастак:
— Истомина не знает ещё?
Каверин искоса взглянул на него, ловко двигаясь, вновь поднимая бутылку:
— Должно быть, не знает пока, а впрочем, женщины скрытны, как ведьмы, не то что наш брат, поди угадай.
Наблюдая, как шампанское с лёгким шипеньем и мелкими брызгами переливалось в высокий стакан, он вдруг понял весь смысл внезапного соединения самых несоединимых понятий, честь, благородство и ложь, однако вместить такого рода салат тотчас не смог и сердито отрезал, точно чем-то липким измазаться мог:
— Однако же мы с тобой были там! Обстоятельство это в обществе доподлинно станет известным! В общем мнении кто ж тогда мы?
Каверин поставил бутылку рядом с собой, поднял стакан, выпил неторопливо, спокойно, расправил усы, поставил со стуком стакан подле бутылки, долгим взглядом посмотрел на него и укоризненно покачал головой:
— Я люблю тебя, Александр, умнейший ты человек, редкая голова, у нас таких голов одна или две, разве что три, но отчего по-прежнему глуп, как мальчишка? Ты на эти вещи трезво взгляни.
Он обозлился:
— Как же, много надо ума, чтобы знать, что Шереметев не нынче, так завтра помрёт, что следствие неминуемо заведётся, что на следствии спросят тебя и меня и что нам останется только полную правду сказать, как сказать подобает порядочным людям. Кто ж из нас двоих глуп и осёл?
Согнув пальцы, Каверин костяшками гулко постучал по крышке стола, улыбаясь ехидно:
— Глуп, естественно, ты, Александр, да я затем и приехал, чтобы ты непременно к утру поумнел и, поумнев, ответствовал следственным дуракам: тебя не было там, не было даже во сне, а я затем словом чести заверю, что был вместе с тобой.
Он взмахнул резко рукой, запенив свой стакан, и вино расплескалось, расползаясь бледным пятном:
— Не стану я лгать!
Каверин устроился поудобнее, вытянул ноги под стол и принялся неторопливо высвобождать из плетёных петель медные пуговицы своего доломана[23], насмешливо говоря:
— Вспотеешь с тобой...
И, вытянув шею, возясь с верхней пуговицей, с издёвкой спросил:
— Стало быть, пожалуйте на Кавказ рядовым, так я понимаю тебя?
Глядя на пятно от пролитого вина, в самом деле отлично понимая Каверина, допрашивая себя, что был бы наш ум без трезвого взгляда на обстоятельства жизни, тут же возражая себе, а что был бы наш трезвый взгляд на обстоятельства жизни без силы ума, ужасаясь с трезвостью потерять благородство души, он согласился устало, вычерчивая указательным пальцем круги:
— Это куда уж пошлют.
Распахнувши мундир, сунув руку в карман, подбоченясь, Каверин, дерзко смеясь, как часто смеялся, когда карта в целый вечер не шла, продолжал убеждать:
— Да ты сам рассуди, Александр: первое, во всей этой дурацкой истории мы с тобой ни при чём, второе, дело чести не должно быть подсудно людскому суду, третье, мне больше Тифлиса, грязнейшей дыры, нравится туманный Санкт-Петербург, у меня такой вкус, уж ты прости дурака, впрочем, думаю, как и тебе более Санкт-Петербург по душе, куда как приятно всякий вечер в левом бенуаре сидеть, на кой же дьявол тащиться туда, коли пошлют, а пошлют непременно, им до нас дела нет, у них такой вкус, подлецы.
Похоже, Каверин этак и всегда рассуждал, выгораживая лазейку для совести, пил, буянил, стрелялся, в карты играл, полагаясь на трезвость рассудка, которая превыше всего, да так и просвищет целую жизнь, не заботясь, что об нём скажут современники, тем паче потомки, трезвость рассудка бесстыдна без благородства души, в Петербурге остаться, экая цель, паскудство одно, а без трезвости рассудка тоже нельзя, дурак дураком, башку подставлять, это он прав, и Александр удивился, заговорив о другом:
— Как не подсудно? Есть же указ!
Каверин стремительно, грациозно, небрежно поднялся, порода во всём, нетерпеливо дёрнул шнурок, хотел было крикнуть, раскрыл уже рот, но дверь тотчас же отворилась навстречу ему, всунулся Сашка с задорным лицом и подал зажжённую трубку, довольно смеясь:
— Готово-с.
Каверин, принимая трубку, захохотал:
— Ну, Сашка, выучил я тебя!
От удовольствия Сашка так и светился:
— Рад служить.
Глядя на них, двух шутов, слушая их неуместную болтовню, он громко и хмуро проговорил:
— И мне подай, Александр.
Сашка неторопливо исчез, объявив:
— Сей минут.
Каверин курил, развалясь на диване, философствуя, окутываясь густыми клубами табачного дыма:
— Указ имеется, как же у нас без указа на всё, не спорю с тобой, ни также с царём, да ты здраво об нём рассуди, на то светлый разум человеку от провидящего Творца, с какой стати в петлю без толку лезть?
Он махнул сердито рукой, недовольный преобидным промедлением Сашки и ещё этим небрежным тоном наставника, каким Каверин любил говорить иногда, точно Ион:
— Э, брат, я вечный пасынок здравого рассудка, оттого у меня всё не на месте, раз навсегда.
Однако очевидная мысль, что указы и честь сопрягаются далеко не всегда, то есть, в сущности, никогда, и что в том и состоит независимость умного человека, чтобы своим умом рассудить, где закон и где честь, была так внезапна и так глубока, что поневоле завлекла в любопытство, и он, взявши безучастно трубку у Сашки, машинально, без злости поворчав на него, что промедлил и страшный лентяй, размышляя по-новому о признаках благородства, о трезвости и об уме, как бы надо было все эти вещи теперь понимать, торопливо слушал Каверина, который заговорил афоризмами, как любил щегольнуть после первой бутылки вина:
— Ум просвещённый не может остановиться на старых понятиях, вот что прежде пойми, иначе с умом, а дурак дураком.
Эта вполне отвлечённая мысль ничего не прибавляла к запутавшимся его размышленьям, и Александр огрызнулся, сильно выдохнув дым:
— Ты меня этой избитостью не корми, не люблю!
Закинувши руку под голову, окутанный дымом, точно в тумане висел, Каверин рассуждал не спеша:
— Славный Руссо выразил весьма дельную мысль, что всякое государство не волей Божией держится, как нам с детства педагоги твердят, а общественным договором[24] всех его граждан совместно, всех как один, вот оно как, понимаешь?
Он раздражённо вскочил, сам не соображая зачем, отмахиваясь, вскричав:
— Экой дурак!
Каверин засмеялся глухо, сквозь дым:
— Это ты брось, Руссо не дурак.
Он нервно ходил, позабыв, что в руке у него разожжённая трубка, рассыпая горящий табак:
— Ты дурак, полагая, что я до сей поры Руссо не читал, нынче сей автор сильно в моду вошёл среди юношей, так давно бы пора, наши умники припозднились годков на пятнадцать, я тогда ещё в пансионе торчал.
Каверин остановил благодушно:
— Не горячись, погоди, экий порох, наши юноши глупы, так пусть, дай мне мою мысль досказать.
Толкнув стул, из каких-то резонов торчавший у него на пути, он бросил сквозь зубы, скривившись от боли, прострелившей колено:
— Изволь, доскажи, я не мешаю тебе.
Каверин с наслаждением затянулся, прижмуря шальные глаза, и вдруг произнёс:
— Славный держишь табак, люблю у тебя покурить. Где ты только на эти приятности деньги берёшь?
Он ответил, переставляя к стене чёртов стул:
— Матушка присылает, а что?
Каверин сокрушённо вздохнул:
— А я вот долгами живу.
Он вдруг оскорбился без всякой причины и угрожающе протянул, с гневом взглянув на него:
— Доживёшься, гляди.
Каверин затянулся опять и вовсе закрыл от блаженства глаза, мечтательно говоря и вздыхая:
— Право, славный табак, чёрт тебя побери, Александр, матушка сильно любит тебя.
Он возмутился, быв нетерпении:
— Славный Руссо! Славный табак! Что ты за славный дурак!
Каверин приоткрыл один глаз и улыбнулся хитро:
— Позлись, позлись, я приметил, ты мыслишь трезвее, как ужасно сердит. Так вот, продолжаю. Согласно Руссо, истинная власть исполняет беспрекословно этот основанный на разуме договор и служит благу и процветанию нации, ложная власть общественный договор, по своей тупости, а по животной жадности чаще, нарушает и тем разоряет народ. Какие же выводы следуют из сего постулата? Из сего постулата логически следует, чёрт побери, что всякий гражданин ответствен перед властью лишь до тех пор, покуда соблюдён общественный договор, то есть ежели нация процветает, а ежели нация бедствует, народ не вознаграждён за труды свои на благо отечества, власть же не желает или не имеет способности поправить беду, служа только одним своим мелким прихотям, сооружая палаты себе и своим лизоблюдам, но не благоденствию вверенного ей государства, гражданин сам собой освобождается от ответственности перед такой властью, несостоятельной, быть может, преступной. Это всеобщий закон, и на этом законе держатся все отношения между гражданином и властью. Ум непросвещённый сего важного закона не сознает и нарушает его, оставаясь ответственным перед властью даже тогда, когда власть давным-давно и препакостно нарушила общественный договор. Ум просвещённый этот всеобщий закон сознает и тотчас с себя снимает ответственность перед властью, коль видит, сколь беззастенчиво нарушается общественный договор. Ну-с, эту истину я тебе доказал?
Размышляя о том, сколько непросвещённых, лишённых к тому же благородства души, с умилением, даже с чувством достоинства служат из мелких выгод недобросовестной власти, удивлённый, что все эти истины издавна знал, да не думал так ясно об них, завлечённый в беспутную жизнь, тогда как Каверин, живущий сто крат беспутней его, так определительно думал об этих вещах, он буркнул через плечо:
— Эту истину ты доказал, что докажешь ещё?
Отставивши трубку, Каверин поднялся:
— Горло пересохло с тобой.
Подошёл вразвалку к столу, наполнил полстакана вином и медленно, с удовольствием выпил, затем поглядел на него и как ни в чём не бывало сказал:
— Гляди, устроишь пожар.
Только тут он увидел летящие искры и ткнул трубку в угол, прикрикнув, раздражённый до крайности:
— Ты мне голову не морочь, дальше-то что?
Избоченясь, засунув руки в карманы, светло улыбаясь, Каверин с искренним удивлением протянул:
— Невыносимый ты человек, Александр, за что я тебя так крепко люблю?
Понимая, что ведёт себя глупо, но пытаясь раздраженье сдержать, бурлившее в нём, больно задетый мыслью о том, что его понимание благородства и чести выходило с какой-то ошибкой и, может быть, было и ложно, намереваясь на досуге ещё подумать об том, какие случаются последствия в жизни, ежели имеется благородство и ум без трезвости здравого смысла, однако ж потом, время случится, теперь минуты не утерпеть, угадывая уже, куда столь искусно клонит Каверин, он его оборвал:
— Не люби, чёрт с тобой, но уж коли начал болтать, так изволь продолжай!
Каверин засмеялся, покачиваясь, привстав на носки:
— Ага! Пасынок здравого рассудка! Эк задел я тебя за живое! То ли будет, держись, ещё перцу задам!
Это неподдельное добродушие само собой смягчало его раздражение, за добродушие он Каверина и любил и сносил его грубые шутки, и он потише уже пригрозил:
— Смотри, рассержусь.
Каверин беззлобно дразнил:
— Ещё не сердит?
Вскинувши голову, он не сдавался, руки скрестив:
— Только начал ещё, погоди.
Каверин сел и вытянул ноги, мешая ходить.
— Жаль, тогда не поймёшь, однако попробую тебя убедить, что этот глупейший указ императора для нас с тобой не указ, каково? Ты, разумеется, помнишь, как многие помнят, «весну Александра»[25], как в те поры высокопарно именовали его начинанья? Правление Павла[26] было уже слишком сурово. Правда, те, которые близко знали его, говорят, и я им несколько веры даю, что в характере Павла были черты, внушавшие уважение, что он не чужд был ни рыцарской честности, ни великодушия, ни понятия справедливости. Всё это вполне может быть, однако над всем этим господствовал произвол беспредельный, минутная раздражительность, право, совершенно как у тебя, Александр, чуть не комплимент тебе говорю, так что и лучшие качества у него выражались в такой дикой форме, что внушали один только страх: а что как из понятия справедливости напрочь башку оторвёт? Он в самом деле обнаруживал желание ввести справедливость, уничтожить злоупотребление власти и что-то ещё, прости, в вещах этого рода я не силён, но всё это помощью одного произвола и в форме самой суровой, чуть что, так в Сибирь. Самые мелочные формальности чинопочитания, субординации и фрунта распространялись на все сферы государственной жизни в мгновение ока, точно всем по вкусу пришлись, и заслонили важнейшие интересы государства и общества. Он сам всё хотел видеть, всё хотел знать, повсюду лично водворять добродетель, в раздражении налетал то туда, то сюда и всех сурово карал, кто попадался ему под горячую руку, не разбирая, кто прав, а кто виноват.
Он помнил, беспредметно и смутно, то давящее, беспокойное время, однако в эту минуту его возмутило иное.
— Позволь, массе нашего общества самым несносным представлялось гонение круглых шляп и французских нарядов, да ещё гонение лиц, не поспевших, встречая его величество на прогулке, остановиться и вовремя отдать ему должную почесть, Алексей Фёдорыч, дядя, сгибаться готов да рядиться мастак, этак тяжко вздыхал, отправляясь с визитом.
Каверин с удивлением взглянул на него:
— Слава Богу, ты, кажись, стал оживать и ты прав: общество наше было в ту эпоху разбоя мало приготовлено к осознанию своего отношения к власти, так очевидно нарушающей общественный договор, непросвещённость, темнота безрассудства, ты припомни, чему и как и с какой охотой учились в те времена.
Он остановил его излияния, иронически бросив:
— Стало быть, по твоим рассуждениям наше общество нынче готово грудью стоять за общественный договор?
Каверин потянулся было к бутылке, но оставил её:
— И нынче наше тёмное общество ни к чему не готово, полно умничать, Александр, ты фантазёр, где твоя трезвость ума? Однако же не помнить нельзя, что неправая власть сама готовит общество к пониманию, это, брат, азбука всей общественной жизни, от неё не уедешь.
Он холодно рассмеялся:
— Что-то мало я вижу готовых! Не те ли, что только и помышляют о будущем чине? Не те ли, что самых дальних за уши вытянут, кто из родни, а всем прочим ставят палки в колеса, не вздумай пройти, дремучее местничество у которых в крови? Или же те, у которых один театр да театр на уме? Или те, что праздно болтают в самом тесном кружке из пяти человек о свободе да братстве, серьёзно прежде ничему не учась?
Каверин, шутя, перебил:
— Или же те, которые беспрестанно злятся на общество, которое ни к чему разумному и благородному не готово? И ты опять кругом прав, однако ж изволь дослушать меня до конца. В том обществе, времени Павла, всё-таки жили идеи закона и справедливости. Вспомни, какой радостью была встречена весть, что Павла не стало: незнакомые граждане обнимались на улицах, вот оно как!
Он едко вставил:
— И тотчас разрядились во французские фраки, идея закона и справедливости на том и почила.
Каверин продолжал, пропустив его замечание мимо ушей, с весёлым блеском в шельмовских красивых глазах:
— И ожидали, что правление переменится и на место насилия и произвола явятся законность, справедливость и уважение к личности гражданина. Эти ожидания подтвердились как будто первыми указами нового императора[27]. Все отставленные по произволу возвращены были на службу, то же с упрятанными неправо в Сибирь или с заточенными в крепость, то же с восстановлением прежних достоинств, среди которых были Радищев и славный Ермолов. Беглецам, укрывшимся в европейских пределах, объявилась амнистия. Отъезд по личной надобности из пределов российских сделался совершенно свободен. Полиции воспретилось выходить из уставов, что она прежде делывала на каждом шагу. У солдат были отрезаны немецкие пукли. Тайная экспедиция была уничтожена. Сенату повелевалось представить доклад об обязанностях своих, а также правах. Университеты были открыты для торжества просвещения истинно русского. Учение давало право на чин, чего прежде доискивались низкопоклонством и лестью.
Он иронически продолжал, в тон ему:
— Университеты, которым не находилось порядочных русских профессоров и в которые профессора приглашались из немцев, не знавших ни звука по-русски, так что их слушатели по этой причине понять не могли, а право на чин возмутило всех тех, кто чинов доискивался низкопоклонством и лестью и кто в учении по этой причине видит хуже чем якобинство, сам ничему не желая учиться.
Каверин расхохотался, чуть не до слёз:
— Эк забрало тебя! Да много ли их? Одни старики. Стоит ли об стариках толковать?
Он гневно воскликнул:
— Не одни старики! Случаются прытки из молодых! Не так уж и мало, да суть дела не в том!
— Помилуй, а в чём? Ты сердит, вся суть дела в том.
— Я точно, ужасно сердит. А суть дела в том, что и нынче неучи все наверху, у них власть, не у просвещённых людей, и по милости неучей все указы остаются, как водится, на бумаге, хоть плюнь, а к многим замыслам даже нельзя приступить.
— Э, да чёрт с ними, рано ли, поздно ли, место неучей заступят иные, с новым правом на чин.
И продолжал прежним тоном, в такт словам похлопывая себя по бедру:
— Объявилось намерение улучшить положение подневольных крестьян.
Он тотчас язвительно вставил:
— Которое не было поддержано ни обществом, предовольным французскими фраками, ни этими вельможами прежних времён, которые отродясь ничему не учились, ни даже молодыми соратниками самого государя, которые учились кое-чему, ни, кажется, даже самими крестьянами.
Каверин только на его филиппику улыбнулся, словно бы великодушно прощая неуместную эту горячность, когда вся беседа исключительно философски велась:
— Сперанский приглашён был для составления конституции.
Эта улыбка, эта настойчивость заблужденья бесили его, и он всё язвительней возражал, сверкая злобно глазами:
— И вскоре был сослан без следствия и суда по наветам прежних вельмож[28].
Каверин лукаво прищурился:
— Дух преобразований слышался в этих первых шагах молодого правителя, воспитанного республиканцем Лагарпом на творениях Руссо и Мабли[29].
Он ядовито отрезал:
— Свежо предание, да верится с трудом.
Каверин вдруг посерьёзнел и подался вперёд:
— Ага, забирает! В том и состоит моя мысль. Возбудив этот соблазнительный дух, правительство не провело никаких серьёзных положительных преобразований, даже напротив, слишком скоро поворотило назад, точно перепугалось своих же собственных добрых намерений. О законности и справедливости было забыто. На место конституции нам дан Аракчеев с открытыми бланками, которые может заполнять по своему произволу. Военные поселения ухудшили положение многих тысяч крестьян. В просветители даны нам Магницкий и Рунич[30]. Русские командиры сплошь заменяются немцами.
Он недовольно поморщился:
— Воля твоя, всё это известно даже нашим студентам, которым ничего не известно, даже если их розгами сечь.
Каверин вдруг рассердился, кажется, непритворно:
— Воля твоя, верно, пасмурная погода слишком тебя раздражила, возьми терпение дослушать меня.
Он почувствовал, как смешон со своим раздражением, и тотчас нахмурился, на сей раз притворно, понимающе улыбаясь одними глазами:
— Помилуй, я целый вечер терплю!
Каверин искоса взглянул на него, тоже улыбнулся одними глазами, точно давая понять, что понял его, и серьёзно проговорил:
— Так вот, не являются все эти действия нарушением договора правительства с гражданами России? Вне всякого спора, являются, именно так. Стало быть, в недавние времена служить правительству с нашей стороны было честью, нынче чести более в том, чтобы решительно уклониться от службы.
Он не удержался от шутливой насмешки:
— А я-то гадаю, отчего ты всё служишь?
Каверин ответил спокойно:
— Я не из чести, я из денег служу, а честь мою в том полагаю, чтобы жить независимо, как я хочу, а не как жить мне свыше велят.
Переставши смеяться, он склонил голову набок, словно бы извинялся всем своим видом за эту выходку против него:
— Прости, мой милый, у меня раз навсегда голова не на месте. В речах твоих много смысла, над этим предметом надобно вдосталь подумать, но каким образом сладишь ты с Якубовичем, который из денег не служит?
Каверин не задержался с ответом:
— С Якубовичем я уже говорил, он поклялся не называть ни тебя, ни меня.
Дивясь расторопности, немного задетый, что Каверин хлопотал за него, его не спросясь, однако сильно тронутый этим истинным проявлением дружбы, он, покусывая губы, спросил:
— Умно ли с твоей стороны, рассуди, полагаться на слово этого скомороха?
Каверин возразил без упрёка, вставая:
— Ты мало знаешь его. Он, точно, богат и служит Бог весть из чего, к тому же слишком позёр и хвастун, однако в известных случаях его честь вне всяких сомнений, положись на неё, впрочем, в известных случаях только. Так что?
Он прислонился к стене, спрашивая об этом себя, а вслух смог только сказать:
— Право, не знаю пока.
Каверин бросил через плечо, подходя к шкафу, забитому книгами, стоящему у противоположной стены:
— Уволь хоть меня.
Размышляя о том, что сталось бы с ним, отрапортуй он всю правду суду, на который его призовут, он заверил негромко, но твёрдо:
— Будь надёжен. Да что тебе здесь? На Кавказе служить из денег даже сподручней.
Скрипнувши дверцей, выдернув толстый том из ряда других, Каверин сказал:
— В гвардии представления побыстрей. К тому же здесь у нас заводится что-то, аль не слыхал? Умы как будто перестали дремать. Среди офицеров вместо карт да вина вдруг открылась новая страсть. Представь, принимаются книги читать!
Об этом деле неслыханном он тоже кое-что слышал, много смеялся, привыкнув видеть русского офицера за картами или вдребезги пьяным, и, тотчас припомнив без всяких усилий все свои опыты с ними, без малейших усилий с усмешкой по-немецки сказал:
— Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Вот бы что им прежде чтения надобно знать.
Каверин возразил, перелистывая взятую книгу, не поворотив к нему головы:
— Ты так говоришь потому, что страницы книг предавно тебе были открыты на пяти языках, когда прочие ещё были юнцы и повесы, твой ум просвещён и приготовлен самостоятельно мыслить, а многим из нас ещё самое время чужими мыслями позапастись, дорога длинна, они в начале пути.
И поворотился к нему, с добродушной улыбкой тыча пальцем в страницу:
— Вот, любуюсь, поля сплошь покрыты язвительными заметками, а ведь это, помилуй, трактат Цицерона[31], вволю разгулялся, гляжу, весьма и весьма пострадал от тебя Цицерон. Иным же, едва повзрослели, усы завели, в сладость и в пользу заёмная мудрость из книг.
Он неодобрительно протянул, опуская глаза:
— Давно бы пора.
Каверин вспыхнул, слишком громко сказал:
— Оно в любом возрасте хорошо, коли от самого сердца идёт. А ты вот послушай, как удачно открылось: «Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодоносные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбища для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли. И не только на поверхности земли, но и во мраке её недр скрывается много полезных вещей, которые созданы на потребу человеку, и только люди их открывают». Стало быть, пусть себе открывают, когда в другое время не удосужились или не успели открыть. Я к ним иной раз забегаю для отдыха. Только жаль, что между ними в большом ходу Бенжамен Констан[32]. Мне всякий раз вспоминается прошлое. Славное времечко было! Отчего ты тогда остался в Москве? Тебе надо было со мной махнуть в Гёттинген. Что ни толкуй, по части философической германская нация выходит посерьёзней ветреных галлов. Куда твоему Вольтеру[33] до них, уж ты на меня не сердись.
Он уже успокаивался и ничуть не сердился:
— Полно, мой милый, немца Гёте[34] давно принял я в число тех, кого всем сердцем люблю и даже поставляю выше Вольтера.
Каверин тем временем отвернулся, сунул трактат Цицерона на прежнее место, с интересом зашарил глазами по корешкам, негромко сказал: «Вот он, ага!» — выхватил книжечку и обернулся к нему:
— Ну что, брат, давай наугад?
Развернул, где попалось, громко прочёл:
Милая, каешься ты, что сдалася так скоро? Не кайся: Помыслом дерзким, поверь, я не принижу тебя. Стрелы любви по-разному бьют: оцарапает эта, Еле задев, а яд сердце годами томит; С мощным другая пером, с наконечником острым и крепким, Кость пронзает и мозг, кровь распаляет огнём. В век героев, когда богини и боги любили, К страсти взгляд приводил, страсть к наслажденью вела.[35]Каково?
Он тоже сказал, содрогаясь в душе:
Кто с хлебом слёз своих не ел, Кто в жизни целыми ночами На ложе, плача, не сидел, Тот незнаком с небесными властями. Они нас в бытие манят — Заводят слабость в преступленье И после муками казнят: Нет на земле проступка без отмщенья![36]Каверин изумился без шутовства, держа перед собой раскрытую книгу:
— Ого! Такого я от тебя ещё не слыхал!
У него едва не сорвалось с языка, что Каверин много чего от него не слыхал, но удержался, может быть, по застенчивости или из гордости, этого он решить не успел и с живостью продолжал, торопясь перевести внимание от смысла стихов, нечаянно выдававших его состояние, на другое:
— Шекспира заслуга великая: он создал театр европейский, однако и только, хотя это «только» о Шекспире стыдно сказать, особливо же нам, пока ничего не создавшим, тогда как Гёте воздействовал на самый дух своей нации, на просвещённые умы всей Европы, явиться к нему на поклон есть истинное счастье для молодого поэта или философа, писать к нему и получать от него письма завидно, — счастливец Уваров[37]! Ты сам не заезжал ли ненароком в Веймар?
Каверин отозвался беспечно, вновь склонившись над книгой, которую тоже, должно быть, страстно любил:
— Об этом визите я тогда не подумал, однако многое нахожу у него превосходным. Вот, слушай далее: «Или, думаешь ты, томилась долго Киприда...», впрочем, об этом нынче, пожалуй, не надо тебе.
Он возмутился, горячо попрекнул:
— Как много ты потерял! Ты мог бы видеть великого человека! Лицезрение великого человека даёт могущество всем нашим помыслам! Великая драма нашего времени в том, что вокруг нас не сыщешь великих людей! Я не пожалел бы полжизни, лишь бы видеть воочию Гёте или старца Вольтера! Кто прожил свой век с большим блеском? Чья жизнь протекла более громко, разнообразно и деятельно? Как решительно действовали они на умы современников, как вели их, куда хотели и куда полагали нужным вести!
Каверин поддакнул с иронией, тихо смеясь:
— Как удачно Вольтер спекулировал! Как низко подличал перед Фридрихом! Как Гёте с презрением отказался стать во главе освободительного движения, когда эту высокую честь германцы сами предложили ему!
Он саркастически улыбнулся:
— Ты прав: как неровна судьба, так Вольтер и Гёте тоже были неровны. Гляди хоть Вольтер! То светильник робкий, блудящий, то бичом сатиры ярко сверкнул реформатор, то гоним, то гонитель, то друг царей, то их враг! Целых три поколения сменились перед глазами великого человека. В виду их всю жизнь провёл он в борьбе с невежеством, с суеверием политическим, богословским, школьным и светским и ратовал с обманом во всех его видах. И сколько сомнений всю жизнь! Не обманчива ли та цель, для которой он подвизался? Какое общее благо? Возможно ли? В чём оно состоит? Не колебание ли всё это умов, не твёрдых ни в чём? А Гёте? Нынче вышел в отставку, однако ж Веймар остаётся светочем просвещения, точно он прежний министр!
Каверин задумчиво глядел в раскрытую книгу, но не читал, а с тёплым чувством, с остановками говорил:
— Что поделать, покаюсь перед тобой, не видел я ни Вольтера, ни Гёте, но зато видел Шеллинга[38] и ничуть не жалею об том. Душа Шеллинга поэтична, а разум светел и твёрд. Он толковал нам о свободе наших поступков в её естественной связи с необходимым ходом вещей. Вот бы послушать тебе! Он спрашивал нас, людей молодых, не исключает ли понятие необходимости понятия свободы, явным образом ему противоположного? Мы были, конечно, убеждены, как и многие убеждены до сих пор, не просветивши довольно ума, что эти понятия решительно исключают друг друга. Он соглашался, что на первый взгляд это действительно так, однако же так представляется только тому, чей взгляд скользит по поверхности, не проникая внешней оболочки явлений, а в действительности этого пресловутого противоречия необходимости и свободы вовсе не существует.
Каверин вздохнул порывисто, глубоко, поднял глаза на него и заговорил горячей:
— Необходимость не только не исключает свободы наших поступков, но даже является её предпосылкой и основанием для неё. Если бы не существовал необходимый, законосообразный порядок вещей, просто-напросто невозможна была бы свобода, ни личная, ни политическая, вот что необходимо всем нам понять. Я свободен только тогда, когда делаю то и так, что и как я хочу, но если при этом я не считаюсь с необходимым, своим внутренним законам подчинённым порядком вещей, я не имею возможности рассчитать, как в ответ на мои действия поведут себя эти вещи и люди, и необходимо оказываюсь в плену у случайности, то есть лишаюсь свободы. И напротив того, если необходимый порядок вещей мне известен, если я могу рассчитать противодействие или содействие тех, кто окружает меня, я поставлю перед собой лишь достижимые цели, отбросив без сожаления несбыточные мечты, и использую для достижения своих целей те средства, которые у меня под рукой. Только такой способ действий приводит к успеху, а не наши желания, каковы бы ни были они хороши. Свободен в философском смысле лишь тот, кто сознательно подчинился необходимости, то есть по своим необоримым законам живущей природе вещей. Кажется так, если я ещё не забыл.
Он пожал плечами, однако смеяться не стал:
— Чтобы открыть эти истины, не стоило тащиться в Германию, право. Приблизительно о тех же материях трактовал мне Буле.
Каверин искренно удивился:
— Да? Я об этом не знал.
И, сунувши книгу под мышку себе, потянулся к бутылке, снова налил полный стакан:
— Однако с тех пор я хочу только того, что могу.
Он прищурился, слегка согнув правую ногу в колене, несколько избочась:
— Но позволь, чем же не угодил тебе в таком случае Бенжамен Констан?
Каверин прополоснул вином рот и сокрушённо вздохнул:
— Видишь ли, в детстве невинном я был препылко влюблён в героев Плутарха[39], как, впрочем, и ты. Герои Плутарха во мне воспитали дух свободы, республики, героизма, народоправия, и вдруг мне хотят доказать, что в те времена личная независимость приносилась в жертву общему благу, что свобода общего оборачивалась для отдельной личности деспотизмом. С этим я согласиться никак не могу, хоть убей.
Думая о том, что в душе Каверина довольно и благородства, и трезвости, и ума, то есть того, что в совокупности составляет человека достойного, однако всё-таки не хватает чего-то ещё, чтобы Каверин возвыситься мог до величия, и вместе с тем как сложен, в сущности, человек и как труден, запутан его краткий путь на земле, и также о том, что чем проще и подлей человек с одной трезвостью, без сильного ума, без благородства души, тем легче, привольней живёт посреди нашей подлости, он задумчиво возразил:
— С этим можешь не соглашаться, но Констан, кроме того, говорит, что свобода нового времени не может быть свободой древних республик, что нынче свобода личности требует системы гарантий, которые обеспечили бы безопасность, не зависимость от произвола властей, что гарантии эти заключены в свободе печати, поставленной вне любых посягательств благодаря суду присяжных, в ответственности министров, в особенности младших чиновников перед тем же судом, это как?
Каверин бросил книгу на стол:
— Суд присяжных сам должен быть независим и неподкупен, а до такой благодати в России так далеко, что об этом далее не хочется думать, не только что толковать. Все подкупны, чёрт побери. Что у нас близко, вот в чём нынче важный вопрос?
Он слегка пошутил:
— Если я справедливо понял тебя, у нас близко одно: бесчестно вести себя в отношениях с правительством честно и честно обращаться с ним так же бесчестно, как оно изволит издеваться над нами.
Каверин, закинувши голову, громко захохотал, внезапно поднялся и крепко обнял его, говоря:
— Прощай, брат, мне пора.
Он опешил, безвольно подставляясь под поцелуи.
— Что вдруг? Ты куда?
Каверин уже был в сенях.
— Карета ждёт, а так никуда.
Накинул плащ, нахлобучил фуражку, и как появился внезапно, точно так же внезапно исчез.
Александр остался один. Мысль Каверина об отношении к власти не оставляла его. В самом деле, не сказаться ли по русскому обычаю в нетях? Благоразумно, что говорить! Умён не тот, кто голову положил под топор, истинно умён тот, у кого голова на плечах, истина безусловная. И с философией в полном ладу, что приятно весьма, нельзя не признать.
Одна вот только беда: этаким способом рассуждает также всякий подлец-расподлец, впрочем, ни с какой философией, ни с немецкой, ни с русской, не соглашая свои размышленья.
В подобных оказиях у подлеца одна недолга: спасти бы башку от топора, от петли, от солдатской шинели, а там хоть трава не расти.
В таком случае порядочный человек чем же существенным разнится от подлеца? Одной философией? Не больше того?
Именно, именно...
Пожалуй, одно: на такого рода отношения с властью должна иметься в наличии благородная цель... то есть не из страха топора да петли да солдатской шинели... а из...
Ох же и тонко, тонко-то как: чуть шагнёшь без опаски, ан глядь — угодил в подлецы...
С какой стати не класть ему голову под топор?..
И эти детские голубые умоляющие глаза...
Куда ж деваться от них? Каким силлогизмом им-то себя изъяснить?..
Нет сомнений, он кругом виноват и должен быть наказан за всё, наказан жестоко, лишь бы не видеть этих детских голубых умоляющих глаз: тогда-то они перестанут глядеть на него, перестанут...
Наказан, наказан, жестоко наказан...
Он вскинул голову: те-то накажут его не за то!
Истинная вина его единственно в том, что не удержал Шереметева, не растолковал бурному мальчику дурацкого дела и тем погубил, под пулю подвёл, а те накажут его лишь за то, что на дуэли согласился быть секундантом и по уговору был должен стреляться вторым.
Разве это не глупо? Разве наказание, лишённое смысла, избавит его от этих умоляющих глаз?
Положим, что глупо, положим, что так...
Однако не слишком ли мало, чтобы себя самого не почитать подлецом?..
Такие вопросы он задавал себе даже во сне. Они леденили его своей жутью, какая бывает тоже только во сне. Что отыщется гаже того, чтобы видеть себя, хоть во сне, подлецом? Он пробуждался в жару и в испуге, пил воду, которую Сашка для него всегда ставил на ночь в графине, ворочался, сбивая в жгут простыню, и на место жутких вопросов о том, как ему поступить при допросе в офицерском суде, его леденили молчаливые, грустные, такие невинные молодые глаза.
Встал он вялый, с больной головой и никуда не пошёл. В окна его кабинета хмуро сочился пасмурный день. Александр завернулся в тёплый халат и приказал растопить пожарче камин.
Сашка долго возился, старательно дуя на неохотный робкий огонь, подкидывая кусочками бересту, которая тотчас сворачивалась трубой и отчего-то не желала гореть.
Заложив руки за спину, с опущенной головой, он беспокойно ходил, ожидая тепла. Серые стены теснили его. Хотелось уйти. Но выйти с тем, чтобы кого-нибудь повстречать? И что и о чём говорить?
И он оставался между этими серыми стенами, однако наедине с собой тоже приходилось несладко, вопросы самого коварного свойства мутили и раздражали его.
Вот если самую чистую правду сказать, что была вся его прежняя жизнь?
Почти ничего.
Вся его прежняя жизнь была крохотный тесный мирок, давящий и теснивший его, не дозволяя сделать шагу по-своему, волей своей, куда там, живи, брат, как велено жить.
В детстве была клетка материнского дома, затем университет, затем полк.
И вечно он ощущал, как дом, университет и гусарство точно в трясину завлекали его, искажали душу и ум, расслабляли характер, извращали самобытную мысль, обминали и перекраивали его в кого-то другого, каким он быть никогда не хотел.
Характер и мысль он, пожалуй, сберёг, а вот с честью как, с совестью, с благородством души?
Чем он жил? О чём он мечтал? Какими вздорами развлекал свою грешную скуку?
В детстве и юности, когда его мучили строгие наставления любящей матушки, он ускользал в свои книги, которых прочитал он, казалось, целые горы и которые насыщали его жаждущий ум, однако на что он готовил себя?
В полк он вступил добровольно, и тотчас отцы-командиры взялись из него изготовить ничтожество, впрочем, как и из всех остальных, без разбору, так что он заболел и болел чуть не год, да всё ж воротился в свой эскадрон и тотчас превратился в ничтожество.
Господи, что было бы с ним, если бы не занесло его в резервы к Андрею Семёнычу[40]? В резервах он жил, в резервах действовал бескорыстно, на общее дело и нисколько не был ничтожеством, хлопоча не об себе, а об скорейшей нашей победе.
И вот затесался в иной, тоже тесный, как прежде давящий, искажающий, оскопляющий, тем не менее любезный сердцу мирок.
А любовь? Любовь-то во что превратила его?
Сашка вышел, так осторожно притворивши дверь за собой, что он не заметил, однако на эту из ряда вон выходящую повадку бездельного Сашки не стало смешно.
Он опустился в низкое кресло, вытянул ноги и безмолвно глядел на жадный огонь, сгрызавший поленья, и упорно думал о том, как его призовут в казённые стены, как холодно спросят, может быть, стороной уже доподлинно выведав всё скверное дело до нитки, и как он так же холодно должен будет там отвечать, не сбиваясь, обмирая в душе, как бы нечаянно не проговорились другие.
Честь и бесчестье мешались, сбивая с толку, заводя в тупики.
Он предвидел, естественно, самые каверзные запросы и находил самые убедительные ответы на них.
Да, спору не было, ответы звучали безукоризненно и логично, владеть собой он умел, когда надо было владеть, однако чем старательней приготовлялся он отвечать, чем дольше об ответах своих размышлял, тем больше сердился, сознавая отчётливо, что одной безукоризненной логикой в таком надувательском деле не обойтись.
Важнее логики было правдоподобие.
Сомнений быть не могло: невозможно и глупо решительно всё отрицать.
Знал ли он о предстоящей дуэли? Как же не знать! Знал ли он о причинах её? Ещё бы не знал! Звал ли Шереметев его в секунданты? Что вы, Бог с вами, ваше превосходительство, само собой разумеется, что звать не посмел!
Да, вот именно такими словами и должно там отвечать, чёрт их возьми, так оно сойдёт хорошо, да ведь знали же всё, что он был Шереметеву близкий приятель, если не друг!
Как же тогда?
Не лучше ли так: точно, звал, да я, сукин сын, отказался, не имея, скажем, довольно досуга?
Хитроумная эта игра занимала его до самого вечера, и всё это время он был противен себе. Смеркалось уже, когда Сашка доставил ему из трактира в разогретой кастрюльке обед. Он ел безо всякого аппетита, с брезгливостью глядя в тарелку, и вдруг очевидная мысль поразила его: ему следовало вести себя просто, как будто ни в чём не бывало!
Вот он весь день-то не подумал об чём, а ведь если хорошенько размыслить, именно простота поведенья и была важнее всего!
Он крикнул Сашке нести одеваться, выбрился чисто, до синевы, легко вошёл в чёрный фрак и выставил у самого подбородка тугие воротнички.
Из тёмного зеркала угрюмо глядел на него черноволосый, хорошего, должно быть, среднего или чуть повыше среднего роста молодой человек с длинным тонким стремительным носом, верный признак гениальных натур, как, впрочем, и короткий вздёрнутый сократовский нос, как он неизменно шутил сам с собой. Молодой человек был слишком худой, но зато выразительно строен, с движениями отрывистыми, неровными, странными, однако изящными, как подобает, имея хорошее воспитание, с узким, худым, некрасивым, но выразительным, интересным, благородным лицом, с длинными тонкими и насмешливыми губами, с властными, спокойными, тоже выразительными, живыми глазами, смотревшими сквозь маленькие продолговатые сильные стёкла очков.
Вполне мог бы нравиться хотя бы немногим, хотя бы самым избранным женщинам, так ведь нет, неспроста полагают, должно быть, что исчадия крикливого пола отдают своё капризное сердце лишь самым посредственным лицам, проще сказать, записным дуракам.
Вот беда, остроумная физиономия выдавала его, оттого исчадия крикливого пола не влюблялись в него, кроме, разумеется, тех, кому он честно платил. Впрочем, обыкновенно он улыбался приятно и скромно, однако весёлой иронии скрывать никогда не умел, говорил негромко, но твёрдо, и этот неуступчивый проницательный взгляд, и все чувства всегда на лице.
Какой со всем этим богатством мог быть у крикливого пола успех?
И, махнувши рукой, он отправился ближними улицами и явился, как являлся обыкновенно, в театр, лишь в последний момент испугался чего-то войти в абонированный им бенуар, купил в кассе билет, раскланялся добродушно, однако неприветно и сдавленно, сел в своё кресло, взглянул рассеянно на сцену и ближние ложи и вновь погрузился в себя, почти больше не глядя, что там валяли актёры, не слыша ни слова, ничего не замечая вокруг.
Его лихорадило от пережитых волнений и от стыда за себя, что он здесь сидел, а там Васька кончался, должно быть, и больше всего оттого, что дней через десять предстояло ему, если решится внять благоразумному наставленью Каверина, но трезвых мыслей в растревоженной голове обреталось слишком немного.
Самая горькая, самая простая и ясная была та, что он погубил свою жизнь навсегда, погубил её очень давно, ещё до этой злосчастной дуэли, и погубил её ни за грош, сомневаться было нельзя.
Несколько раз он поднимал тяжёлую голову, рассеянно и близоруко оглядывал шумную сцену, где кого-то сбирались да никак не могли оженить, хотя это дело, известно, нехитро, глухо ловил два-три не совсем разборчивых слова и ответный одобрительный смех то кресел, то лож, то райка и вновь погружался в сомнения.
Ну, положим, открестится он, убедивши себя, что бесчестно быть в подобных обстоятельствах честным с властями и что ум, хотя бы самый глубокий и ясный, без трезвости мысли ничто, это немудрено, как жениться, так что ж из того? Его жизнь не станет порядочней и дельнее, и вина перед Васькой всё одно очевидна до слёз, и он должен переменить всю свою жизнь и быть необходимо наказан за эту слепую вину.
Лишь на эти условия он и был безусловно согласен.
Вот только каким таким образом переменить ему жизнь и кто и чем накажет его?
Тут же другой, опять важный вопрос представлялся ему: погубил ли он себя у строгой матушки под крылом, или в университетские годы, стремясь учением докторский чин получить, или в полку, когда в бальные залы вламывался верхом на коне, или в польском костёле, во время чинной обедни, из одного озорства наигрывал на органе камаринского, или углём выгорев от несчастной любви, или необдуманно выйдя в отставку, должно быть, чутьём угадав, что служба из чести, которую нёс он у Андрея Семёныча в кавалерийских резервах, сделалась вдруг невозможна?
А по сцене гуляла какая-то барынька, сильно кривлялась, изображая, должно быть, неодолимую страсть к изящной российской словесности, вспыхнувшую, как водится, совершенно внезапно, ни с того ни с сего, по воле водевилиста, в том неотвратимо убывающем возрасте, когда самое время полюбить бы, чего не успела, или подумать о погрязшей в пороке душе.
Боже мой, что там за дичь?
Поневоле он всегда помнил ту лихую дружину, в которой четыре месяца побыл и после которой какой год не в своей колее, а глупая, сильно и нарочно картавя, прижимая ладони к чрезвычайно пышной груди, трясогузка, захлёбывалась чем-то знакомым, что как будто ему приходилось где-то недавно читать:
— Он человек знатный, важной фамилии, а уж учён-то, учён... Подлинно, уж надобно удивляться!.. Чего он не знает!.. По-немецки, по-гречески, кажется, и по-латыни, а о французском нечего и говорить... и всеми этими языками он говорит лучше, чем даже по-русски!..
Вопрос, впрочем, в том, какая могла бы открыться перед ним колея, которую он по нраву и вкусу назвал бы своей, а глупая барыня, конечно, бранилась. Он прищурился и со вниманием поглядел: перчатки на ней были грязные, верно, именно для того, чтобы недогадливой публике предстала очевидней карикатура, которая, то есть публика, чёрт побери, у нас по сей день склонна за чистую монету принять всякое печатное или с подмостков изречённое слово, доверчивость детства, наивность необразованности, вялость ума да невинность души.
И на кой чёрт нашей публике, если сообразить эти свойства, красоты поэзии? Читала бы благоразумно газеты!
Благоразумно?
И в той же монете благоразумно перед судом офицеров солгать?
Вдобавок ещё одно странное дело: пожалуй, у одних только нас во всём свете пускаются карикатурить неприятеля своего за учёность, учёность у нас не в чести.
Та ли участь и слава театра?
Полно, вовсе не та! Пристало театру своим рукотворным бичом хлестать за невежество, за благоразумие, которое, не имея довольно ума и благородства души, ведёт к низкопоклонству и подлости, и тоже за ум и благородство души, которые, не заведя трезвости мысли, порядочного человека превращают в посмешище.
Нет, упаси Господи затесаться в посмешище. Чего хуже, как обратиться в героя комедии!
Да и комедии нынче упали, вместо благоразумной сатиры ударились в низкую пошлость.
Однако ж было славное время, когда бичом сатиры владел, впрочем, несколько неуклюже, топорно, остроумный Фонвизин, да, выходит, что славное время бесследно прошло.
Да и как не пройти? Кабы возможность была массу сведений наших литераторов, академиков, профессоров, студиозов разделить поровну нашим талантам, навряд бы на каждый постольку пришлось, чему учит великолепный Ланкастер: читать и писать, да и то через пень-колоду, по складам и пыхтя.
Вовсе не диво, что у кого-то из них на учёность навострилось перо.
На сей раз у кого?
А ловок-то, ловок, подлец, и, должно быть, ужасный нахал. Истинной просвещённости у нас ни в ком почти не видать. В этом, стало быть, в греческом, и прямой адресат. Кто ж у нас нынче смекает по-гречески? Разве из Тургеневых хромой Николай[41]? Чаадаев? Да оба сторонятся участвовать в пиитических дрязгах.
Из любопытства послушал он повнимательней крикливую барыню, выходившую из себя:
— А наука-то что ль? Литературу, словесность, поэзию, стихотворство... Психологию, хронологию, географию, землеописание...
Подумаешь, как остроумно прибегать к тавтологии! Однако кругом отменно хохочут вовсю! Что за дурак? Однако ж не Тургенев, не хромой Николай, тот пописывал в прошедшие времена слезливо, туманно, в духе пленительного Жуковского, а нынче вовсе не пишет стихов. Пётр Яковлич[42] тоже не пишет, философ. Кто же нынче пишет стихи и к тому же так славно учен?
— Эстетику, статистику...
Глупая барыня что-то ещё декламировала в том же изумительном роде, расширив безумно глаза, точно сама мысль об учёности её сводила с ума, тогда как он восстанавливал в памяти, где он слыхал ту же дичь, недавно, чуть не на днях, и кому далась такая бездна наук, разнообразных и важных, ведь явным образом творец пошлости метил препакостно в личность.
Он замечал в своей памяти твёрдость и гибкость и мало в том сомневался, что решительно все подробности припомнил бы тотчас, не пребывай в ином месте его растревоженный разум, отыскивавший бесплодно пути, как бы себя самого наказать по заслугам и одним разом переменить всю эту бездельную пошлую жизнь, в которой одни дурачества следовали утомительной чередой. В отсутствии разума любые усилия были напрасны: его память словно затянуло зыбучим песком.
Нечего делать, Александр принагнулся к соседу и раздельно негромко спросил:
— Прошу прощения, что нынче за пьеса?
Молодой человек, ушами потонувший в превысоком жабо, какими щеголяли повесы лет десять назад, небрежно ответил сквозь кружева, точно в погребе жил:
— «Вечеринка учёных».
Видать, пресерьёзно на вещи глядел, заседатель партера, он чуть кивнул:
— Покорно благодарю.
Отворотился, однако же названье ничего не сообщило уму, себя обругал, вновь, пригнувшись слегка, негромко спросил:
— Имени сочинителя не изволите знать?
Молодой человек впивал каждое слово, пущенное со сцены как тупая стрела, поскольку цели не ведал никто, но также готов был завязать разговор:
— Сочинитель Загоскин[43], однако, простите, лично я с ним не знаком, вы не изволите знать?
Он холодно оборвал:
— Никак нет.
И, неправду сказав, тотчас явственно припомнил один фельетон, во мрак наших журналов тиснутый нынешним летом, как будто в июле, впрочем, чёрт с ним, пусть в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в декабре для пакостей даже сподручней, то-то любят декабрь дураки, метель да мороз.
Фельетон пространно живописал вечер у графа Шишкова[44], ревнителя старины, адмирала и чудака, у которого запросто бывал иногда, с любопытством слушая восторги о прелести славянизмов, а на вечерах бесился от скуки, сколько хозяин ни милый был человек. Похоже, его выходки, о которых он через час забывал, в фельетоне передавались чуть не дословно. Сперва был набросан язвительно-лёгкий портрет:
«Один молодой человек, одарённый непостижимой гибкостью языка, успел наконец обратить на себя общее внимание: он вертелся направо и налево, спрашивал, отвечал, доказывал, раздроблял, спорил со всеми, загонял всех и в несколько минут очистил совершенно поле сражения. Самые упрямые спорщики должны были с ним согласиться, самые неутомимые болтуны принуждены были молчать...»
Он должен был согласиться, что филиппика была вставлена метко. В самом деле, его праздный ум, наскуча бездельем, рассерженный пустозвонством мудрости, похищенной у Лагарпа, а пуще у «Сына отечества»[45], порой извергал поток ядовитых острот и сарказмов, принуждая собеседников умолкать, точно вихрь налетал, однако победы этого рода нисколько не льстили громадному его самолюбию, может быть, оттого, что ничего не стоит победа над тем, кого не стоит труда победить.
«...Сначала перебрал он поодиночке всех древних поэтов: одних хвалил, других осуждал...», что многие, разумеется, находили кощунственным, поскольку всякая древность в представлении плоских умов исключалась из критики, «...никто не смел ему противоречить...». И кто бы сумел? Да и кто бы посмел? «...Он знает по-гречески и по-латыни», — шептали мне соседи, а как можно спорить с человеком, который читал в подлиннике Омера и находит неправильные стихи в Горации и Ювенале...»
Боже мой, на каком ярился он форуме, перед какими квиритами метал так старательно бисер? В самом деле, не истинный ли признак ума — заранее знать, перед кем говоришь, и молчать, когда слушатель твой туп и зол, как свинья?
А фельетонист, скромно забившийся в уголок, благоразумно про себя хранящий свою неучёность, ещё опустил его любимца Вергилия, которого он поставил себе в образец, об чём всякий знал, кто был близок к нему, свидетельство очевидное, что страж невежества не входил в круг его близких приятелей и, по счастью, о любимцах его ничего не успел разузнать, как не успел разузнать и об том, что он усовершенствовал себя в греческом языке, учась всякий день от двенадцати до четырёх, с ума сходя от наречия Аристофана и Фукидида, вдобавок находя его вовсе не трудным, уж за эти штудии бы всякий дурак уцепился, непременно отыскав тут грех самомнения, если не какой-нибудь худший грех, поскольку в чести у истинно русского человека лишь те, которые ничему не учились, а так, всё сущее собственным диким умом превзошли.
И это умы, среди которых он жил, исключая двух-трёх истинно просвещённых друзей. Что мудреного, если, взъярённый скукой безбренной, он в тот вечер пустился от древних к новейшим писателям, побранил немцев и англичан за туманные вирши, уязвил несколько трескучего Тасса, из всех итальянцев выделивши одного великого Данта, добрался наконец до французов, приведя фельетониста в смятение:
«О! тут началась кровавая сеча: двадцатилетний цензор не щадил ни пола, ни возраста...»
Прозрачный намёк, что фельетонист метил в него: к удивлению многих, он числился двадцатилетним, как матушка своей волей занесла ему в формуляр, имея веские основания на то, да Бог с ним, с формуляром, любопытно припомнить, что там о французах порол. Кажется, фельетонист издевался приблизительно так:
«Г-жа Дезульер лучше бы сделала, если бы вместо стихов писала узоры; г-жа Савинье не должна была печатать своих писем, а Жанлис сочинять своих сказок и романов; французская литература одна из самых беднейших; лучшие из писателей — жалкие школьники в сравнении с древними. Я слушал и восхищался. Этот молодой человек истинный патриот, думал я, он мстит французам за то, что они некогда были врагами нашими, унижает их писателей, верно, для того, чтобы возвысить таланты своих соотечественников. О! надобно иметь сильную любовь к отечеству, чтобы пуститься на такой великий подвиг...»
Плюнул, куда зазорно плевать, и остался доволен своим остроумием. Ай, что за мелкость души у наших пиратов пера! Истина нисколько не тревожит их плоский ум. С пеной у рта они бранят тех, кто имеет честь с ними не соглашаться и не напрашивается им на знакомство.
«Не все были одинакового со мною мнения...» Очень приятно, хотя, должно быть, и прочие мало удалились от суждений «Сына отечества». «Осуждать французских писателей! Боже мой! Да это уголовное преступление, такая неслыханная дерзость, от которой самый смирный человек должен потерять терпение. Один из слушателей, не в силах будучи скрывать долее своего негодования, вступился за бедных французов...» Помилуйте, кто бы мог быть столь отчаянным смельчаком? Уж не сам ли счастливый фельетонист, заподозривший страсть хулить иноземных писателей не из глубокого убеждения, не из верного чувства изящного, а лишь по низким причинам национальной кичливости? Экая память, однако... Так что там ещё у него? Ах да! «Пощадите! — закричал он. — Можно ли говорить с таким презрением об учителях наших...», точно, французы первейшие учители у нас слишком многих, однако ж не всех, да этого казуса мелким умом невозможно понять, коли общество в один голос превозносит легковесных, но модных писак, «...о писателях, которые служат нам образцами?..». Давно пора не служить! Мы довольно, кажется, самобытны, чтобы чужой меркой не мерить себя и в чужой не рядиться наряд!
Тут оппонент его окончательно выскочил из себя, и они раскричались на славу:
— Сыщите мне, например, другого где-нибудь Лафонтена?
— Лафонтена? Да что бы он был без Эзопа, без Фёдра? Лафонтен обязан всем своим содержанием древним.
— Буало...
— Буало не был никогда поэтом истинным. Он отделывал стихи свои как художник, вымеривал циркулем, писал по масштабу. Он так холодно-правилен...
— Если вы хотите более пиитического огня, читайте Делиля.
— Делиля? Этого сентиментального плаксу, сладкого пастушка, который описывал поля и леса, сидя в своём кабинете, и ходил любоваться «великолепной» природой в Пале-Рояль? Нет, я не в состоянии выносить восторгов его заказных, звукоподражательных его стихов, которые ничему не подражают, и охотно отдал бы все пастушеские и метафизические поэмы Делиля за один стих из Вергилия.
— Желаю знать, что вы скажете о Расине?
— Что он не написал ни одной истинной трагедии.
— Как! А «Гофолия», «Ифигения», «Фёдра»?
— Прежалкие попытки! Что такое Расинов Ахиллес? Французский петиметр, «храбрец», который беспрестанно говорит и делает гасконады. Береника — сентиментальная француженка двора Людовика Великого. Фёдра — кокетка. Как удивились бы греки, если бы увидали, во что их превратил Расин! Эти греческие трагедии показались бы им пародиями — и греки были бы правы.
— Поэтому Корнель...
— Он был бы лучше, но что за стихи!
— Следственно, Вольтер вам нравится более?
— Вольтер? Боже мой! Могут ли нравиться трагедии, в которых Магомет философствует, бредит метафизикой, как Дидерот, а турецкий султан рассуждает о любви, как страстные любовники в романах мадам Скюдери[46]?
— Я надеюсь, то Мольер...
— Он старался подражать Плавту, но как далеко оставил его позади себя Аристофан[47]!
— Помилуйте, Лагарп говорит[48]...
— Лагарп говорит! Прекрасное доказательство! Да что такое Лагарп? Кто сделал его законодателем вкуса? Человек, который на каждом шагу делает самые грубые ошибки, которого суждения наполнены пристрастием, которого бесконечный «курс литературы» заключает в себе гораздо менее полезного, чем один лист в Логиновом трактате о превосходном. И этого человека вы хотите сделать моим судьёй? О, нет! Позвольте мне, не справляясь с Лагарпом, отдавать справедливость древним и не равнять с ними писателей нашего времени!
На этом воззвании к здравому смыслу баталия приутихла, о чём озадаченный фельетонист очень кратко поведал: «Защитник французов замолчал».
И кстати, молчать защитнику глупого подражания было приличней, мог бы и вовсе хранить гробовое молчание, по пословице, за умного бы сошёл, а так видно, что пошлый дурак, шагу своим умом не ступить.
Однако фельетонист продолжал:
«Я думал, что молодой литератор сделает то же, но ошибся...», в самом деле, он подолгу молчал, но в задоре и в гневе, коль кровь заиграла, однажды заговорив, подолгу остановиться не мог, сам себя изумляя раздражительным своим красноречием, это истинный грех, в котором покаяться хоть публично не прочь, «...поговоря ещё несколько минут об иностранных писателях, он обратился к отечественной словесности. Я удвоил внимание. «Наконец этот страшный Аристарх смягчился и будет хвалить. Как может русский говорить без восторга о Ломоносове и Державине, и «Душеньке» Богдановича, и баснях Хемницера», — думал я, подвигаясь ближе, — и как обманулся! Бедные соотечественники! если бы вы слышали жестокий приговор этого отрока-мудреца...».
Перед ним возвеличивали Хераскова, Княжнина[49] и Кострова, которые, на вкус его, не имели никакого таланта. Его пытались сразить Ломоносовым, оды которого представлялись ему лирической галиматьёй, уродливым подражаньем Пиндару.
— А вы, находящиеся ещё в живых, вы, которых мы по невежеству своему считали до сих пор частью нашей словесности, пленительный Дмитриев, неподражаемый Крылов, весёлый Давыдов, милый Батюшков, остроумный Шаховской, Гнедич, любимец греческих муз?
— Скука и холод, без дарований и без души.
— Наконец ты, избалованное дитя Аполлона, чувствительный, пламенный Жуковский?
— Не написал во всю жизнь ни одного живого стиха.
Несчастный фельетонист вновь возвысил свой негодующий голос, немилосердно коверкая французский язык: что за нелепая страсть! Не давши выговорить скомороху двух слов, он начал читать наизусть дурные стихи из поэтов, которых только что от души порицал.
Фельетонист вышел наконец из себя, что было слышно даже в его фельетоне:
«Сколько я ни кричал, что несколько дурных стихов ничего не значат, что во всяком сочинении найти их можно, — никто не хотел меня слушать: большая часть гостей взяла сторону моего противника, и я должен был замолчать поневоле...» А, так вот чем обязаны мы бранчливому фельетону! «...Разговор переменился: стали говорить о художествах, молодой литератор пустился судить о скульптуре, живописи и архитектуре с такой же благородною смелостью, с какою говорил о словесности. «Боже мой! — сказал я, севши в одном уголку подалее от прочих гостей. — Боже мой! Как бы было хорошо, если б этот молодой человек не знал чего-нибудь»...»
Автор плоского фельетона, если правду сказать, был человеком несколько деликатным, маскируя подлинные имена современников, о которых он частенько отзывался столь резко, под одними начальными буквами, чтобы эта глупая выходка на страницах журнала не совсем похожа была на донос и чтобы им обоим не наделать кучу врагов, которых у него довольно случилось и без того, однако подлинные имена легко узнавались, как он их тоже тотчас узнал, и он не страшился в бой вступить хоть со всеми.
Искусство обязано быть самобытным, или оно не искусство!
И при этом ни одного посредственного стиха!
Кто прощает подражательность и дурные стихи, случайно мелькнувшие пусть и у самых великих, во всём прочем вполне безупречных поэтов, тот сам далеко не пойдёт.
Искусство обязано быть величавым.
Вот только стоит ли вступать в бой с толпой подражателей да авторов корявых стихов?
Ах, бедный рассудком и благородством, несчастный фельетонист! Эта снисходительность к недостаткам твоих малых кумиров дорого тебе обойдётся, в самой твоей снисходительности таится самое горькое твоё наказанье!
Тот вечер, не без зубоскальства живописанный в фельетоне, припомнился ему со всей ясностью. Кажется, оттого он и злобствовал так, что ему стало несколько жаль молодого комедианта, таким жалким образом оскоплявшего свою несмелую мысль, которой всё-таки не был вовсе лишён, а причина одна, что толком ничему не учился и об том Бога молил, чтобы прочие знали поменьше.
Где-то Загоскин теперь? Верно, присел где-нибудь в уголке и доволен весьма, что вставил в пустую комедию несколько шпилек и, прежде не справясь в споре с открытым забралом, нынче тайком одолел, должно быть, твёрдо надеясь, что останется на этот раз без ответа.
Впрочем, помнится, в фельетоне стояло нечто, близко к концу, обличавшее в авторе добрую душу:
«Хозяин, который не принимал почти никакого участия в разговоре, подошёл ко мне. «Ну, мой милый, — спросил он, — что вы думаете об этом молодом человеке?» — «Право, не знаю, я не успел ещё опомниться». — «Не правда ли, он очень много знает?» — «О, слишком много!» — «Нельзя быть умнее...» — «Но можно, кажется, быть скромнее и не позволять себе бранить то, что целый свет почитает». — «О, этот молодой человек имеет право судить о писателях: он сам сочиняет и отдаёт в печать». — «Тем хуже, сударь, тем хуже. Если б он находил в себе самом те же недостатки, которые видит в других, то не стал бы печатать своих произведений, а так как он осуждает и сочиняет сам, то, вероятно, думает, что он один пишет хорошо...» Экий шельмец! Вот отличный, славный удар! На такой удар не ответить ничем! В самом деле, видел ли он недостатки в двух-трёх водевилях, которые без труда набросал, впрочем, не волей своей, а просьбой других? Что говорить, на вкус его, они были дрянь. Разве пахнет талантом от вздоров? Почто же печатал, почто дозволял актёрам и актёркам играть? Вот поди ж! Который год не в своей колее! Ум с сердцем, видать, не в ладу! «…Согласитесь сами, такое самолюбие несносно». — «Может статься, вы правы. Но, впрочем, как бы то ни было, а у него такие таланты, такие дарования! О чём с ним ни заговори, он всё знает, верно, лучше того, с кем говорит. О, он преучёный и преумный молодой человек!»
Фельетон, как он видел теперь, полный самых лестных похвал, между тем при первом чтении его сильно задел. В кругу друзей он бывал снисходителен и отходчив, и если сердился и позволял себе резкое слово, то сердился чаще в таких случаях на себя самого, однако ж, встречая людей, понятия которых в глазах его были вредны или смешны, он становился вдруг раздражителен, заносчив и вспыльчив, как порох, служа, как он себя уверял, просвещению истинному, подражая невольно любимцу Вольтеру, который во всю жизнь не спускал никому и который, не пиши он трагедий, по тщеславию или по слабости вкуса, был бы так же велик, как бывали великими древние.
Придравшись к только что Загоскиным поставленной комедии «Богатонов, или Провинциал в столице», призвав себе в помощь Катенина[50], который сам подраться любил и по этой причине не мог ему отказать, однако, спешно сбираясь выступить с гвардией, едва находил для совместной баталии время, в своей комедийке лёгкой «Студент» довольно резко шаржировал глупый сюжет, а в лице Ювенала Беневольского представил незваного фельетониста, между делом забавляясь сатирой на нелюбезное ему петербургское низкопоклонное общество.
Беневольский, его волей, мечтал, явясь в Петербург из тмутараканской Казани, как сам Загоскин пришествовал из невообразимого города Пензы:
«Здесь увижу я блестящие собрания, где вкус дружится с роскошью, в них найду женщин милых, любительниц талантов, какую-нибудь Нинону, Севинье, им стану посвящать стишки маленькие, лёгкие, их окружают вертопрахи, модники — я их устрашу сатирами, они станут уважать меня, тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно! Звездов ездит во дворец, — он будет моим меценатом, мне дают пенсию, как всем подобным мне талантам, я наживусь, разбогатев. Федька! Федька, поди сюда, обойми меня...»
Беневольский заносился в самолюбии самом несносном:
«Ха! Ха! Ха! Какой сюжет для комедии богатый! Как они смешны. Тот статский советник, в порядочных людях, а не читал ни «Сына отечества», ни «Музеума», но, по крайней мере, видно, что ему это совестно, больно: он мне после угождал взорами, речьми, нарочно, чтоб изгадить дурное впечатление, которое надо мной сделало его невежество. А этот гусар, об котором Вергилий говорит: «Варвар эти нивы...» — ещё храбрится своею глупостью. Однако он мне дал мысль: ступайте к нам в полк... Нет, не в их полк, а в военную: отчего мне не быть военным? О! ремесло Цезаря! сына Филиппова! Быть вождём полмиллиона героев! Самому воспевать свои победы! воин-поэт! Но быть министром! тоже значительно, завидно. Ну, что ж? разве нельзя всё это сдружить вместе? Так, я буду законодателем-полководцем и стихотворцем, и вы меня одобрите, существа кротости!.. Существа очаровательные! всё в жертву вам!.. Но Боже мой! как здесь долго таятся в неге! Я так давно снедаем ожиданием. А! если б теперь мог увидеть ту, которая давно живёт здесь в моём сердце, знакомую незнакомку, которая часто появлялась мне в сновидениях, светла, как Ора, легка, как Ириса, — величественный стан, сапфирные глаза, русые, льну подобные, волосы, черты... Кто-то идёт — две женщины!.. Сердце, ты вещун! — это она с субреткою... Мой идеал!.. Она!..»
Беневольский, ничего общего не открыв между своей книжной наивностью и грубой истиной жизни, оскорблялся и проклинал, подобно всем потерянным провинциалам в столице: «Презрение буйным чадам Арея! бесчувственные враги изящного! — Федька! стань сюда! На каждой черте лица твоего дикая природа наложила печать свою, но ты имеешь душу!.. И но обделана душа твоя резцом образованности, и закоснела она в коре невежества, но ты имеешь душу!..»
Беневольский читал свои мерзкие вирши слуге, так и тот засыпал, немудрено, что сражённый им Беневольский проклинал белый свет вместе с Федькой:
«И это я написал! это излилось из моего пера! Федька!.. Он спит, жалкий человек! вместилище физических потребностей!.. И все люди почти таковы, с кем я ни встречался здесь в столице, ни один не чувствует этого стремленья, этого позыва души — туда! к чему-то высшему, незнаемому! Но тем лучше: как велик между ими всеми тот один, кто, как я, вознёсся ввыспрь из среды обыденности! Рука фортуны отяготела надо мною, я проиграл мои деньги, — но дары фантазии всегда при мне, они всё поправят. Вельможи, цари будут внимать строю моей лиры, и золото и почести рекою польются на певца. Но я ими не дорожу, и доволен одною славою, уделом великим...» Беневольский растерянно взывал под конец:
«Мечты моей юности! мечты, сопровождавшие меня из Казани сюда! сопутницы неизменные! куда вы исчезли, заманчивые?..»
Извольте любоваться, какие жалкие стрелы носил он в своём колчане, на какие забавы растрачивал походя свои дарования! Одно хорошо: этот шут на него самого вышел ужасно похож, чуть не те же мечты о фортуне и славе, нелепость одна! Почто ж было на другого кивать, выводить другого в шуты, когда шут и сам?
Поделом: Загоскиным, узнавшим себя в шутовском колпаке, тотчас освистаны были «Молодые супруги»[51].
Впрочем, справедливость всюду надобно отдавать: Загоскин нашёл перевод лучшим оригинала французского, отметил ещё, что действие развивается быстро, и не решился назвать ни одной сцены ненужной или холодной, имел, стало быть, сценический глаз, мог бы продвинуться далеко на театре, кабы посерьёзней взглянул на своё дарование.
Оно хорошо, однако такого рода достоинства обязаны лежать в основании всякой сносной комедийки, за что же хвалить? Однако злодей отыскал-таки несколько неловких и даже глупых стишков и вдоволь насмеялся над ними, шут, а бессомнительно прав.
Стишки в самом деле на поверку оказались неловки и глупы, и от этого досада его была велика. Он собрался было молчать, не почитая достойным ввязываться в смешные журнальные дрязги, в которых наша молодая литература главным образом и заявляла себя, не имея времени и ума на иные шедевры, да обида оказалась сильнее благоразумия, чего от себя он не ждал. Ретивое в нём закипело, чуть ли не так, как в Беневольском его. Ну, нет, он не потерпит, чтобы об нём жужжал дурачества какой-то глупец!
Тотчас бросил он на бумагу фассесию, как он выражался, и пустил её по рукам. Стихи его полетели на крыльях стоустой молвы.
Должно быть, Загоскин вновь учуял свой, на этот раз уже вовсе карикатурный, портрет и нынче пускал в него свои тупые и ржавые стрелы со сцены.
Он прислушался: там болтали о прелестях сочинений Честнова, и он уже знал, кто этот ловкий Честнов и почему так старательно того обеляли в невежестве:
— Чтобы доказать это, надобно сделать выписку, найти дурное.
— И вы, без сомнения, нашли.
— И да, и нет: в первом томе, на одном месте, вместо предлога поставлен союз.
— Хорошо, вы намекаете, что Честнов худо учился синтаксису.
— Точно так. В третьем томе я заметил лишнюю запятую и... и двоеточие не на своём месте...
— Прекрасно! Прекрасно! вы можете сказать, что автор не знает правописания.
— Конечно, и хотя очень заметно, что это типографские ошибки...
— Какая вам до этого нужда! Разве вы обязаны отгадывать, кто ошибся, наборщик или сочинитель?
Публика дружно смеялась, в особенности в райке, поднимая ужасный грохот ладонями, точно из меди.
Усмехнувшись этим шпилькам топорным, Александр какое-то время сидел, погруженный в себя, вспоминая, сколько трудов положил на всю эту эстетику с географией и статистику с хронологией и описанием земли, и вдруг услыхал, как развязно болтали на сцене:
— А знаешь ли ты, что он сватается за Сонюшку?
— Тем хуже для него.
— А почему бы так, батюшка братец?
— А потому, матушка сестрица, что у Софьи есть и без того жених.
Он задохнулся. Как шут Загоскин посмел? Имя Софьи укроет ли для посвящённых имя несчастного? Людским подлостям есть ли предел? Вон отсюда, скорей! Сил его нет терпеть эту мерзкую пытку!
Он поднялся, не дожидаясь конца канители, и вышел вон по ногам, не обращая внимания на приглушённые ругательства в спину.
Боже мой, там, в Москве, венчание, должно быть, уже совершилось, а здесь, в Петербурге, хохочут над ним!
Было холодно и темно. Резкий северный ветер бил прямо в лицо, пылавшее краской негодованья. Дневная слякоть сгустилась корой и мелкими кочками отдавалась в тонких подошвах. Склонившись вперёд, прикрывши ладонью лицо, он порывисто перешёл на ту сторону, где менее дуло, и завернулся в плащ поплотней, однако не сделал он и полусотни шагов, себя сердито браня, что не в силах был позабыть коварства измены, а заодно и за то, что сдуру ввязался в дурную полемику. Всё это молодость, все книжные мысли, мечты. Кто верит женщине, оставив её хотя бы на час? Кто верит, будто в журнальной полемике разливается первый свет просвещения? Пусть эти, чувствительные, сентиментальные, певцы ручейков, попадают впросак. Ему ли склоняться пред теми же слезливыми божествами? Уже в другой раз быть так неловко и публично обруган!
Он решился больше не отвечать, никогда, никому, но не в силах был удержать своей злости, перед собой угрюмо глядел, различая одну темноту, не приметив, как догнал его невысокий худой человек с обезьяньим желтоватым лицом и с тяжёлой тростью в правой руке.
Он искоса глянул, наконец заслыша шаги: широкий боливар на светлых кудрях, с такими полями, что в нужде заменили бы зонт от дождя, опускался до самого носу — тотчас вольнодумца по наряду видать.
И охота же вольнодумствовать боливарами!
Он отворотился, пропуская вперёд, однако счастливый владелец широкого боливара, поклонившись ему, со смехом сказал:
— Я увидел, как вы поднялись, и выбежал следом за вами.
Он вежливо проворчал:
— Теряюсь, чем я обязан.
И услышал быстрый ответ:
— Ахинея несносная мне надоела.
И с лёгкой насмешкой спросил:
— Из этого следует, что я должен быть ей благодарен, в противном случае певец своей печали своим вниманием меня бы не почтил.
Пушкин, задрав голову, рискуя потерять боливар, звонко захохотал:
— Это из вашей последней комедии стих?
Он тотчас парировал:
— Кажется, из неё, я не припомню, однако ж верней, что из ваших последних стихов.
И Пушкин миролюбиво признал, всё смеясь:
— Я тотчас узнал, что вы стрельнули в меня.
Он не настроен был веселиться и довольно небрежно сказал:
— Счастлив, что доставил удовольствие вам посмеяться.
Пушкин, казалось, не обращал на эту небрежность никакого внимания и говорил искренне, скоро, легко:
— Я нахожу, что вы правы. В самом деле, довольно смешно в мои лета петь свою печаль, которой у меня нет, свирели звук унылый и тихий взор, исполненный тоской.
Он насмешливо поклонился:
— Счастлив вдвойне.
— Нынче мне по сердцу песни иные.
— Это те, где вы бросаете взор[52] и видите всюду бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слёзы, что в таком виде поставлено только для рифмы, весьма неудачной, везде неправедная Власть в сгущённой тьме предрассуждений восседала, Рабства грозный Гений и Славы роковая страсть? Как же, пришлось прочитать, ваши стихи у всех на руках.
На иронию Пушкин ответил со смехом иронией:
— Как и ваш «Лубочный театр»[53].
— Я поразил моим «Театром» глупцов.
— Я вижу, мои новые песни вам не по вкусу.
Он отвернул воротник и слишком громко сказал, искоса глядя на него сверху вниз:
— В ваших песнях нахожу я силу и смысл, да много ли проку, подумайте, в том, чтобы стихами поражать Законы и Власть, тем более что они стихов не читают?
Пушкин с удивлением поглядел на него:
— Нами правит тиран, что же странного в том, что я ненавижу тиранов?
— Вы правы, ничего в этом странного нет.
— Это скорей парадокс, чем здравая мысль, продолжайте.
— Извольте! Вы восклицаете где-то: «Самовластительный Злодей!», с заглавной буквы, иначе нельзя. Что ж, мысль верная, стихи отличные, и далее в том же возвышенном роде, когда возглашаете, что Злодея вы ненавидите, с радостью жестокой видите его смерть и смерть его детей, читаете на его челе вместе с народами печать проклятия, величаете его ужасом мира, стыдом природы и даже упрёком Богу на земле, всё это звучными рифмами, однако, юный мой друг, как вы в своём красноречии не расслышите пустой декламации, которая именно вам не пристала?
Пушкин воскликнул, вскидывая трость, как рапиру:
— Разве Поэт не обязан призывать топор палача на шею Тирана?
— Согласен, да кто же Палач? Верное чутьё истины вам подсказало, что охотников в палачи нынче нет, и вы принуждены были возгласить под конец, что верной оградой царям не составляют ни наказанья, ни награды, ни темницы, ни алтари, и, вновь размахивая топором палача, в существованье которого сами не изволите верить, призываете самовластительных Злодеев добровольно склониться главой под сень надёжную Закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой. Что за охота вам обольщаться? Где вы видели такого рода Злодеев? Перед вами просторы всемирной истории. Вглядитесь внимательно в анналы её. Дают ли они нам такого рода примеры самоограниченья?
— Но разве мы не находим во всемирной истории великих правителей, истинных благодетелей человечества?
Он улыбнулся и ответил вопросом:
— Разве это были злодеи, укрывшиеся под сенью Закона?
— Вижу, что тоска и ненависть у вас под запретом, оставляете ли вы Поэту хотя бы любовь?
— Поэт сам избирает свой путь.
Пушкин сбоку пристально взглянул на него:
— Разве не публика образует таланты?
— О, любопытно послушать, свежая мысль!
— Таланты драматические прежде всего, чему мы только что были с вами свидетелями. Публика смеялась, не правда ли, однако ж чему?
— Понимаю: публика легкомысленна, однако из каких высоких материй ей угождать?
— Значительная часть наших кресел слишком занята судьбою Отечества и Европы.
Он с улыбкой оборотился к странному своему собеседнику:
— Милый Пушкин, судьбы Европы, в особенности судьбы Отечества куда занимательней, чем судьбы всех, вместе взятых, тиранов, тем более водевили незадачливых драматургов, однако нашу публику эти судьбы нисколько не занимают, поверьте.
— Наша публика слишком утомлена своими трудами.
— Не хотите ли вы этим сказать, что идеальная публика должна состоять из бездельников, как это было во Франции эпохи беспечных Людовиков? Если правду сказать, театр Шекспира был полон ремесленников и мореходов. Как, по-вашему, сии труженики бывали утомлены? Волновала ли судьба человечества, занимали судьбы Британии, печалили судьбы Европы? Но какая это была благодатная публика! Не худо бы пожелать и нам с вами такой!
Пушкин сделался очень серьёзен, хмурился, вертел головой, но твёрдо стоял на своём:
— Наша публика слишком глубокомысленна, слишком ваяема.
Он от души рассмеялся:
— Помилуйте, вы хотели бы видеть в креслах одних легкомысленных пошляков? Но вы только что видели их!
— Она слишком осторожна в изъявлении своих душевных движений и не принимает никакого участия в достоинстве драматического искусства, особенно русского.
— Что это? Вы открыли в России драматическое искусство? Это новость! Прошу вас, просветите меня.
— Вы знаете, Грибоедов, как я дорожу вашим мнением, однако вы бесите меня своим скептицизмом. Ваш охладелый ум не находит достоинств ни в ком и ни в чём.
— Мой милый, вы клевещете на меня, я нахожу в ваших рифмах задатки большого поэта, в противном случае об чём бы нам толковать?
У Пушкина засветились глаза:
— Бросьте, я не об том! Неужели вы не признаете достоинства в сатирах Фонвизина, этого друга свободы? Или в комедиях и в трагедиях Княжнина? Или в Озерова «Фингале»[54]?
— Полно, Пушкин! У Фонвизина если и было какое-нибудь дарование, так он его сам погубил. Что до Озерова и Княжнина, охота была им стискивать себя во французские казённые правила, слишком тесные для духа искусства, тем паче для русского духа, отчего один слишком приторен, другой слишком холоден для меня, я слышу по вашему тону, что и вы сами к ним равнодушны.
— Пожалуй, я согласился бы с вами, скажи вы, что успехом своим Озеров большей частью обязан Семёновой.
— Извольте, готов согласиться, с этим голосом и с этой статурой не один Озеров имеет громкий успех.
Пушкин с увлечением подхватил, верно ужасно любя свою мысль:
— Да, да, говоря об русской трагедии, поневоле говоришь об Семёновой, и, может быть, только об ней!
Он поднял брови и посмотрел на Пушкина снизу очков:
— Что я слышу, вы заговорили другим языком!
— Одарённая талантом, красотой, чувством, верным, живым, сама собой образовалась она и...
— Помилуйте, Пушкин, как вижу, вы пасынок здравого рассудка больше, чем я.
Пушкин вспыхнул:
— Не станете же вы отрицать, что подлинника Семёнова никогда не имела?
Он не смутился:
— Стану, конечно. Мадемуазель Жорж[55] служила ей подлинником, а учителем драматического искусства был у ней сперва Дмитревский, потом Гнедич, что естественно изъясняет все её недостатки, к тому ж если Гнедич не растолкует ей роль, так она в ней решительно ничего не поймёт.
— Согласиться никак не могу! Бездушная французская актриса Жорж, лукавый Дмитревский[56] и вечно восторженный Гнедич[57] могли только ей намекнуть на глубокие тайны искусства, которые сама она поняла откровением своей гениальной Души!
— Это всё ничему не учась?
Пушкин так увлёкся Катериной Семёновой, что не отвечал на вопрос.
— Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевлённых движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы вдохновения истинного, всё сие принадлежит Семёновой безраздельно и ни от кого не заимствовано, разве этого не видать? Она украсила несовершенные творенья несчастного Озерова и сотворила роли Мойны и Антигоны. Она одушевила измеренные строки Лобанова[58]. В пёстрых переводах, составленных общими силами, которые, по несчастью, нынче сделались слишком обыкновенны, мы одну Семёнову видим и слышим, и гений актрисы удерживал на подмостках все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых поодиночке отрекался каждый отец. Нет, Семёнова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесённые новости прекратились. Она осталась самодержавной царицей трагической сцены.
Неужели молодой человек так влюбился в Катерину Семёнову, что не видит очевидных её недостатков? Неужели не знает, что в соперницы, и не без основания, Семёновой пророчат Валберхову? Впрочем, что ж он стариковски ворчит, все влюблённые слепы, истина вечная. То-то Голицыну радость, коли узнает. И он с лёгкой иронией вставил:
— Ваше красноречие просто великолепно. Вам осталось с тем неё жаром сказать похвальную речь об Истоминой.
— Она блистательна, полувоздушна, она...
Он весело перебил:
— Таким образом, вы по-прежнему влюблены и в ту, и в другую?
Пушкин сердито нахмурился:
— Вы дьявол, с вами ни об чём серьёзном нельзя говорить.
— Только это вы и желали мне доказать своей восторженной речью, посвящённой талантам Семёновой?
— Нет, я желал доказать, что наша публика своей холодностью, слишком похожей на вашу, исправно губит театр. Если в половине седьмого одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел и лож, то для них это более условный этикет, чем приятное отдохновенье.
— Позвольте вам возразить: театр, разумеется, не этикет, однако театр и не приятный отдых для публики, вовсе нет. В городах эллинов посещение театра почиталось обязательным для всякого гражданина, там театр служил воспитанию граждан, он был для них источником просвещения. Так вот, я вас спрошу: не доказывает ли это ежевечернее появление в театре одних и тех же лиц из казарм и советов желание нашей публики просветиться? Не настало ли и для нас то блаженное время, когда театр может воздействовать на умы граждан и воспитывать их?
Пушкин негодовал:
— Просвещение! Воспитание! Но сии великие малые люди нашего пошлого времени, носящие на лице своём однообразную печать скуки, спеси, глупости и житейских забот, неразлучные с образом их вседневных занятий...
Он решительно перебил:
— Позвольте, на том углу, едва ли не ближе, вы с тем же пламенем уверяли меня под присягой, что они слишком глубокомысленны и замучены судьбами Европы и даже Отечества.
— Они всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях...
— В наших комедиях, точно, не расхохочешься.
— Зевающие в трагедиях...
— Помилуйте, в наших трагедиях как не зевать?
— Дремлющие в операх...
— Да наши оперы усыпят хоть кого!
— Внимательные, быть может, в одних только балетах, не должны ли по необходимости охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить на их души томность и лень, если только их самих душой одарила природа?
Слава Богу, в этой пленительной болтовне о том да о сём он рассеялся от того, что попал в водевиль, и посоветовал мирно, ощущая себя беззаботным и лёгким:
— Ставьте в наших театрах Шекспира, и вы не отыщете в артистах ни лени, ни томности, и эта же публика, портрет которой вы так сатирически представили мне, ни за что не уснёт, даже если после казарм и советов захочет уснуть. А у нас, помилуйте, кого нынче ставят у нас?
Пушкин тотчас съязвил:
— Пустые комедийки Шаховского и тяжеловесные переводы Катенина, ваших лучших друзей.
Он дружески возразил, ничуть не сердясь:
— Помилуйте, к чему горячиться? Я тоже не нахожу большого искусства в комедиях Шаховского, однако в них прекрасный, живой, разговорный язык, недурные стихи, каких у ваших лучших друзей не найдёшь днём с огнём, его комедии злободневны, они колют и жалят и вызывают целые бури в партере, тогда как от слезливых стенаний ваших лучших друзей так и хочется утопиться в московском пруду.
Пушкин горячо возмутился:
— Этот шут, погубивший из зависти Озерова!
Горячность Пушкина его поразила, он спросил, поворотившись всем телом к нему, остановись перед ним:
— Мой милый, зачем вы так легковерны? Всё это вздорные сплетни. У Шаховского самый кроткий и ласковый нрав, кого ему погубить? Семёнова в те поры взбунтовалась, не хотела слушать его и портила роли одну за другой, князь отыскал и взамен ей отлично приготовил Валберхову, которая всем хороша, но по статуре не подходит на роли цариц, к тому же тогдашнее общество в самом деле волновали судьбы Европы, вот причины падения последней трагедии Озерова. Что до Катенина, то язык его переводов ближе к высокому стилю, каким должно трагедии переводить и писать, чем у всех прочих кропателей, занятых теми же переводами, однако ж без его основательной подготовки к труду, вы не согласны со мной?
— Как можно восторгаться Катениным, влюблённым в холодного фразёра Расина?
— Ах, Пушкин, остыньте, мы все не годимся Катенину и в подмастерья. Скажу о себе: я слабый и всё ещё недостойный его ученик. Подружитесь с ним при первой возможности, не пожалеете, право, не то туманы, печали и слезливые вздохи окончательно расслюнявят ваш самобытный и сильный талант.
— Если он только есть у меня.
— Всякому таланту необходима суровая школа, и другой такой школы, как школа Катенина, у нас теперь нет.
— Своим учителем я выбрал Жуковского. Ах да, совсем позабыл, вы, кажется, торопились куда-то?
— Нет, это я вас так бессовестно задержал. Прошу меня не бранить. Разболтался на старости лет. Прощайте, я почти дома уже.
Он взял руку Пушкина, пожал её дружески, свернул тотчас за угол и вскоре был у себя.
Бог с ним, с какой стати в учители выбрал Жуковского? Вот сам себе удружил!
Однако ж он не сердился. Случайный и смешной разговор на ветру расшевелил и успокоил его. Глаза Шереметева как будто на него не глядели. Бешенство, рождённое новым пасквилем Загоскина, точно присыпало пеплом. Другая, любовная рана тоже ныла только слегка.
Он согрел руки перед пылавшим камином, засветил в двух шандалах десять свечей, откинул без стука чёрную крышку рояля, блеснувшую лаком, сел перед ним, уже погруженный в себя, и с силой ударил по клавишам. Басы загудели торжественно, грозно. Им стройно и смело отозвались альты. Они о чём-то заспорили, заговорили друг с другом, и он, потянувшись за ними душой, слушал, слушал и вызывал всё новые сильные звуки.
Вольтер, старый шут, его давний кумир, вдруг ни с того ни с сего явился на ум, и музыка его озорно засмеялась.
Он не слышал ни дверного звонка, ни громкого стука в сенях и остановился лишь оттого, что изнемог и устал, и тут в немой тишине вдруг взмолился взволнованный голос Каверина:
— Продолжай, Александр, ради Бога, дай послушать себя!
Он вздрогнул и стремительно обернулся:
— Экой шут!
Каверин стоял, опершись плечом о косяк:
— Честное слово, я позабыл обо всём.
Он посоветовал через плечо, вновь обращаясь к роялю:
— Кликни Сашку, вели тринкену принести, опомнишься сей же часец.
Голос Каверина вдруг опустился и задрожал:
— Ты знаешь, Васька помер вчера.
На ум пришло торжественно и жутко:
Глагол времён! металла звон! Твой страшный глас меня смущает; Зовёт меня, зовёт твой стон, Зовёт — и к гробу приближает...[59]Он сидел неподвижно, разминая утомлённые пальцы, говоря так, словно перед кем-то извиняться хотел:
— Я не выходил никуда, нынче только в театр.
— Я искал тебя там, сказали, что был да ушёл.
Он поднялся в каком-то тумане и задул все горящие свечи, оставивши только одну:
— Стало быть, душа его отошла...
Каверин прошёл к столу, но не сел.
— Отец рвёт на себе в отчаянье волосы, однако ж причитает притом, что он этого ждал, что иначе это и кончиться не могло, что Васька сам во всём виноват, что он даже рад, что это кончилось скоро, что Васька наконец перестанет позорить семью и что он обратится сам к государю, чтобы дело было оставлено так и чтобы никто из участников не был наказан.
Александр негромко сказал, подавленный известием меньше, чем думал:
— Отец, в сущности, прав.
Каверин отчего-то заторопился, всё ещё стоя как-то неловко перед столом:
— Якубович, как прежде, готов всё дело взять на себя. Однако ж смерть Васьки точно помрачила его, он обвиняет в чём-то себя и уверяет чуть не прохожих, что и ты за Истоминой волочился и что он этого греха не позабудет тебе.
Александр точно обрадовался и только сказал:
— Это сбывается то, что над нами всеми должно было сбыться, увидишь ещё.
Каверин опустился на стул, с подозрением глядя, спросил:
— На что ты решился?
Он поёжился и не тотчас сказал:
— Пока ни на что.
Каверин прищурился, холодно бросил:
— Тогда я пошёл.
Он предложил, недобро взглянув:
— Тринкену задай, авось полегчает.
Каверин покачал головой, поднимаясь:
— Что-то в горло нейдёт, как узнал.
Он обмер и долго сидел неподвижно.
Очевидно, Завадовский не мог не стрелять. Все участники должны быть в этом согласны, кто был там и видел и слышал те исступлённые Васькины крики.
Не откажись он от глупого вызова Васьки, он стоял бы на месте Завадовского и тоже был бы поставлен в необходимость стрелять и, должно быть, убить, если не хотел быть убитым, поскольку другого промаха мог Васька не дать.
Однажды, дурачась, он нарочно пулей выбил у противника пистолет, однако та дуэль обыкновенной была, более шутовской, пустяковой, из вздора.
Было бы нельзя таким способом остановить взбешённого Ваську, как нельзя допустить быть убиту из глупости.
Впрочем, много ли это меняет?
Итак, отец Шереметева, может быть, станет просить о помиловании, да в таких обстоятельствах и просьба отца едва ли поможет, это как раз глупая власть любит себя на пустом показать.
Стало быть, будут все участники сосланы, исключая, естественно, доктора.
Сошлют Богдана Иваныча тоже, а жаль.
Что за дурацкая мысль пришла ему в голову — тащить за собой добрейшего, хоть и трусоватого немца.
Наворотил пропасть безрассуднейших дел, по плечу хоть кому, без замыслов чрезвычайных и важных.
К тому ли так долго, так обстоятельно готовил себя?
Да, вот и потеряна жизнь, вся в безвестности пропадёт, в какой-нибудь грязной дыре, в гарнизоне, снова в полку, где пьют и в карты играют гусары, артиллеристы, пехота, все роды войск, куда ни сошлют.
Однако почему ж обязательно пропадёт? Ведь бывал не однажды изгнан Вольтер?
Что же Вольтер? Вольтер проводил годы изгнания в Лондоне, в приятном обществе литераторов, журналистов, философов, не в русском армейском полку, а у нас, бывает, отправляют подальше, чем в Лондон, — у нас, случается, отправляют в Сибирь.
Александр почти машинально поднялся, свою любимую книгу взял с края стола и, стоя, поднеся очень близко к глазам, принялся разбирать при слабом свете свечи, отчасти по догадке, отчасти по памяти, для того ли, чтобы посторонним занять свои мысли, надеясь ли укрепить свою мысль и свой дух:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей»[60].
Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь.
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё и лист которого не вянет, и со всем, что он ни делает, успеет.
Не так нечестивые: но они — как прах, взметаемый ветром.
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных.
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет...»
Выходило, что не следовало ему обращаться к суду нечестивых, но сам он был нечестив, а на суд его всё равно призовут, не на тот, который, согласно с законом, соберётся по делу несчастной дуэли и убиения штаб-ротмистра Шереметева Васьки, а на иной, высший суд, где не утаишь и зёрнышка правды, где всякая вина станет явной виной, и не устоять ему на том высшем суде, если нынче суд совести не направит его на праведный, единственно истинный путь.
Несколько дней неторопливо и мрачно размышлял он об этом, об единственно неподкупном суде, о великом Вольтере с костяной головой, с провалившимся, саркастически улыбавшимся ртом, и о пути своём дальнем, не ведомом пока никому, позабывши о прочем, не притрагиваясь к еде, а в понедельник его вызвали дать показание, и он, сосредоточенный, бледный, надевши чёрный сюртук, явился, ещё не решив, что ответит земному суду.
За длинным казённым столом, покрытым, как водится издавна, потёртым красным сукном, его в полном молчании встретили двое. Полковник Ланской, безучастный и хмурый, склонив круглую голову, бессловесно и медленно отрывал от листа полоски бумаги и вертел из них тонкие трубочки, точно солдат, и хотел закурить.
Полковник же Ковалев, затянутый в тесный мундир, с глубокой морщиной, прорезавшей невысокий скошенный лоб, с неподвижным взглядом красивых женственных глаз, тягуче и важно читал по бумаге, вскидывал голову и бросал равнодушный вопрос:
— Что вам известно об обстоятельствах дуэли между камер-юнкером Завадовским и штаб-ротмистром Шереметевым, имевшей быть двенадцатого сего ноября, в два часа пополудни, на Волковой поле?
Александр тотчас решился, глядя на этот скошенный лоб, и ответил твёрдо, спокойно:
— Мне об этом деле ничего не известно.
Ковалев читал далее, не взглянув на него:
— Состояли ли вы в знакомстве с штаб-ротмистром Шереметевым, и если состояли, как коротко?
Он овладел собой, даже несколько улыбнулся в ответ:
— Да, состоял, и в очень коротком.
— Состояли ли вы в знакомстве с балериной Истоминой, и если состояли, то коротко ли?
— Да, состоял, и в очень коротком, однако отношения эти за пределы самых дружеских не выходили.
— Балерина Истомина показала на следствии, что «когда она была пятого числа, в понедельник, в танцах на театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву, ведомства Государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь Грибоедов, часто бывший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре её с ним, позвал её с собою ехать к служившему при театральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему по благосклонности его нередко езжала, но, вместо того, завёз на квартиру Завадовского, но не сказывая, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он, по прошествии некоторого времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было, с коими посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру». Подтверждаете ли сие?
Во всём её показании, довольно лукавом, самым опасным ему представлялось именно то, что Завадовский предлагал ей любовь, и Александр с намерением ответил уклончиво:
— Да, подтверждаю, но единственно то, что пригласил её ехать для того только, чтобы узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на неё, куда и Завадовский в самом деле вскоре приехал, но объяснял ли он ей о любви, я не помню, только провели вечер все вместе, а после отвёз Авдотью Ильинишну в её квартиру.
Ковалев выслушал, казалось, ещё равнодушней и кивнул своему адъютанту:
— Пригласите графа Завадовского.
Завадовский тотчас вступил и встал рядом с ним, спокойный, но тоже бледный, и Ковалев, вновь с бумагой в руке, обратился к тому:
— Вы показали, что вы «её в театре, на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему, не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения». Однако губернский секретарь Грибоедов показывает, что это он, губернский секретарь Грибоедов, желая «узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на оную, куда приехал и Завадовский». Как можете изъяснить вы сие разногласие?
Завадовский сухо ответил, не меняясь в лице, глядя на полковника поверх головы, точно ни знать ни видеть его не хотел:
— В таком случае я беру назад своё показание и заявляю, что ошибся, приняв визит Истоминой на свой счёт.
Ковалев поглядел на Завадовского долгим немигающим взглядом тупого служаки, пожевал ярким чувственным ртом и наконец приказал:
— В таком случае прошу вас удалиться.
Подождал, пока Завадовский выйдет своей размеренной, неторопливой походкой, и вновь, склонившись к неразлучный бумаге, обратился к нему:
— Далее Истомина показала, что между нею и Шереметевым произошло примирение и что в течение двух следующих за тем дней Шереметев замучил её, расспрашивая о том, была ли она у кого-нибудь во время их ссоры, причём грозил её застрелить и вынудив у неё признание о её визите к Завадовскому, после чего Шереметев и вызвал его на дуэль. Со своей стороны, секундант и друг Шереметева лейб-гвардии уланского полка корнет Якубович, был спрошен, утверждал, что причиной дуэли был какой-то «поступок Завадовского, не делавший чести благородному человеку», однако же разъяснять эти слова отказался, ссылаясь на обещание хранить тайну, данное им умирающему Шереметеву, а от очной ставки с Завадовским уклонился, прося «пощадить его, не дав случая видеть убийцу друга его и виновника всего его несчастия». Прошу изъяснить, что вам известно о причинах оной дуэли?
Александр, чуть помедлив, твёрдо сказал:
— О причинах дуэли мне ничего не известно.
Ковалев не поднимал головы и мерно бубнил:
— Что известно вам о последствиях оной дуэли?
Это было бы почти невозможно, если бы он вдруг заявил, что и о последствиях оной дуэли не знал ничего, однако всё оказывалось так неожиданно в этом скучном, нормальном допросе, что он решился на самую наглую ложь, смело глядя Ковалеву в макушку:
— И о последствиях оной дуэли точно так же мне ничего не известно.
Ковалев бросил, неторопливо передавая бумагу Ланскому:
— От имени следствия благодарю вас за данные показания. Вы имеете быть свободны.
Александр поворотился и вышел, облегчённо вздохнув, сам не веря себе, что никто ни в чём противозаконном не заподозрил его.
Спустя несколько дней всему городу стало известно, что Завадовскому, внимая настоятельным просьбам отца Шереметева, предложено было выехать за границу, а Якубовича постановлено было перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, причисленный к действующим войскам на Кавказе.
Александр запёрся у себя.
До этого времени судьбой своей он почти был доволен. Квартира у него была славная, жил он привольно, не обязанный никому ответа давать о себе, что, по его понятиям, было важнее всех земных благ. Круг друзей был хотя тесный, да слишком по сердцу ему. Он веселился, волочился, играл и кое-что писал иногда задорным стихом, не помышляя добыть себе славы иль денег этими поспешными вздорами, не заглядывая в будущее далее вечера предстоящего дня.
Чем соблазнила его такая беспечная, беспечальная жизнь, к которой он никогда не стремился, но готовил себя? Может быть, тем соблазнила, что такой вольной жизнью он никогда ещё не жил, вечно в тисках, которыми матушка из любви оковала его и которыми, сверх того, он и сам себя оковал, в юности доискиваясь не одних только обширных познаний, хоть имея к ним страстную, ничем не насытимую склонность, но в придачу доктора чин, взлелея обширное честолюбие, неизбежное при несколько странных семейственных его обстоятельствах.
Эта беспечная, бестолковая, праздная жизнь была ему слишком уж внове, вот в чём, пожалуй, таилась беда, и потому совершенно закружила его, как перед тем приключилось в полку. Он был счастлив вполне, всей своей страстной натурой отдаваясь первобытным страстям, а лучшее время неприметно от него утекало, ни за каким временем он не следил, часов не считал, когда ему было думать об них?
И вдруг подумал теперь, бесцельно слоняясь по своему кабинету: пролетают все самые лучшие годы, а что остаётся от них, не говоря уж об вечности, ему самому? Забавы, соблазнённые жёны, чаще вовсе не соблазнённые, а за известную плату, несколько хлёстких острот, разлетевшихся по гостиным и ложам театров, дурацкие фельетоны в журналах, заёмные водевили, а более? Более ничего!
Вот третий год, как он в Бресте, сказавшись больным, выправил отпуск лечиться, повалился в кибитку с дорожным мешком и с нетерпением в сердце примчался сюда.
Не имея в Петербурге родного угла, он прямо явился в дом дяди, с корабля, как говорится, на бал. Алексей Фёдорыч, притихший и хмурый, пожимая его на морозе настывшую руку, неодобрительно говорил:
— Что, всё корнет, как и был? Верно, в военной-то всё фордыбачил, как дома, при мне? По заслугам и честь, а заслуги-то где? Нет, верно, толку не будет! Прости старика.
Разорённый, в долгах, скрывшийся из Москвы в Петербург, не открывая свой питерский адрес, обворованный Руничем, женатым на племяннице Настасьи Семёновны, которого забрасывал письмами, умоляя воротить зажиленный долг, тысяч до двадцати, дядя метался по Петербургу в поисках денег и почти не заговаривал с ним, не до того, брат, видишь сам, какая петля, прости старика.
Настасья Семёновна обняла его как родного, радуясь от души, что воротился живой, не застрелен проклятым французом, здоров.
Лизавета Алексевна, кузина, в которую с мальчишества был он так страстно влюблён, похорошела и расцвела в свои двадцать лет, да встретила его, вопреки ожиданьям, насмешливо и равнодушно, приехал, ну, хорошо, так и что ж?
Он был сражён. Как так? Что с ней стряслось? Кто без него покорил её непокорное капризное сердце?
Главное, из молодых людей, сколько-нибудь равных ему по дарованиям и уму, никто не бывал, а он крайне был убеждён, что для женщин всё именно сумма дарования и ума. Один Иван Фёдорович Паскевич[61], происходивший Бог весть от кого, от какого-то Фёдора Цаленка, сын которого прозывался уже Пасько-Цалый, а внук переметнулся в Паскевичи, тридцати трёх лет, а уже генерал-лейтенант, командир второй гренадерской дивизии, в своё время произведённый из пажей в поручики лейб-гвардии Преображенского полка, назначенный флигель-адъютантом тогда же, принимавший участие в турецкой кампании, командуя небольшими отрядами, тем не менее ставший бригадным командиром через пять лет, участник сражений под Салтановкой, Смоленском, Бородином, Вильной и Модлином, у Дрездена, под Лейпцигом, в блокаде Гамбурга, у Арсис-на-Обе и во взятии французской столицы, однако же нигде ни отличивший себя ни личной храбростью, хотя бы сродственной нелепой храбрости Якубовича, ни дарованием полководца, так вот удачливый генерал-лейтенант просиживал в кабинете у дяди по два часа, манкируя занятия службы, в новёхоньком генеральском мундире, в густых эполетах, с тремя большими звёздами одна над другой, красивый, собака, что говорить, с подвитыми кудрями, с выпуклыми глазами, с презрительным ртом, с самодовольным выражением на слишком явственно недалёком лице, и вкрадчивым голосом повествовал, всё, само собой, о себе:
— В Париже, как в Петербурге, разводы гвардии начались, и мы из гренадерского корпуса туда поочерёдно езжали. В один из сих без сучка без задоринки стройных разводов государь, приметив меня, подозвал и совершенно неожиданно рекомендовал Николаю Павловичу, августейшему брату: «Познакомься, — изволил сказать, — с одним из лучших генералов моей армии, которого я ещё не успел поблагодарить за отличную службу». Николай Павлович после того, к моей радости, постоянно зывал меня к себе и со многими подробностями выспрашивал о последних кампаниях. С разложенными картами, по целым часам, мы вдвоём разбирали все движения и битвы двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого годов. Я у него частенько обедывал, и когда за распоряженьями службы у него не мог быть, так он мне потом говорил, что я его опечалил. Такому благоволению завидовали многие и стали в шутку острить, что он влюбился в меня. Не знаю, как он, но его нельзя мне было не полюбить. Черта его главная, которой к себе он меня привязал, — откровенность и прямота. Брата Михаила Павловича он любит, но до серьёзных разговоров не допускает, да и тот их, правду сказать, недолюбливает. Помню, однажды, на бале у Талейрана[62], государь и прусский король подошли сами ко мне, поздоровались, и государь поздравил меня с только что мною полученной Александровской лентой. Я и не подозревал, что нахожусь в такой милости. Перед этим балом Николай Павлович, зная, что пожалована мне высочайшая лента, попросил позволения приехать ко мне и лично её привезти. Государь ему позволил у меня быть, однако ленту не дали, а прислали с курьером, как полагается по уставу. Николай Павлович у меня обедал и провёл почти целый день. Я признался ему, что очень бы хотел представить всех моих генералов и полковых командиров, которых ему наилучшим образом рекомендовал. Великий князь был с ними отменно любезен и обворожил всех прямотой своего обхождения. Он меня за это очень благодарил.
Ему и в голову войти не могло, чтобы заносчивая Элиза могла серьёзно увлечься таким самодовольным болваном, которому в карьере прекрасной помогло куда больше, чем в характере и в уме, однако и она так холодно и так насмешливо относилась к болтливому генералу, точно так, как всегда относилась к нему, он не вытерпел и вскоре из гордости съехал от дяди, пожил недолго на «чердаке» любезного Шаховского, но, наскучивши слишком шумным актёрским житьём, схожим как две капли воды с полковым бивуаком, переместился к Степану, служившему в гвардии после кавалерийских резервов, и с того дня всё ровно в пути и всякий день как на станции, спросонья кричит лошадей.
И этот потерявшийся человек будто бы он?
И по какой такой надобности он скакал тогда сломя голову в Петербург?
Жениться ли возмечтал на кузине? О литературной ли известности вдруг воспарил в облака?
Кому знать?
Ещё в Польше повстречался он с Шаховским, который очень кстати очутился там с ополчением, и впопыхах не приметил, как, обыкновенно мало расположенным к доверительности, прочёл князю несколько своих весьма зелёных стишков, выкинувшихся у него ненароком, не в поэты же метил он поступить. Шаховской, фантазёр и добряк, имевший ум приятный и кроткий ласковый нрав, с физиономией эллинского сатира, с первым встречным до хрипа пищавший о стопах и рифмах, видавший кругом себя одних даровитейших драматургов, обязанных возвысить российскую сцену, которую обожал, превыше сцены французской, тотчас ему насоветовал перевести французскую пьеску «Семейная тайна», пера посредственного, однако ж трудолюбивого Крезе де Лессера, восторженно обещая при этом, вот только окончатся военные действия, а и скоро уже, содействовать постановке перевода на сцене.
Дав ей названье «Молодые супруги», он отчасти перевёл, отчасти переделал её, пользуясь той же разговорной манерой, которую ввёл на театр Шаховской, стихи выкинулись несколько, на его вкус, дубоватыми, однако же он, то и дело самые неудачные перепрыгивая лукаво глазами, нашёл свою пьеску довольно удачной и привёз Шаховскому, расхвалившему тотчас её до небес, вдохновенный болтун и фарсёр.
Каких благ ожидал он от своей переделки? Славы ли, которая столь рано снилась ему? Денег ли, которых ему никогда не хватало на самые крайние нужды? Кузину ли в самое сердце желал поразить? Первых ли успехов и первых театральных знакомств, которые помогли бы ему обсмотреться и тогда уж двинуться к тому совершенству, которое властно диктовал ему его строгий вкус, воспитанный древними классиками, Шекспиром, Гёте и Шиллером, творенья которых знал он почти сплошь наизусть?
Великие боги, этой загадки не разгадал он ни тогда, ни теперь!
По обыкновению, заведённому Шаховским, возмечтавшим вкруг особы своей съединить всех талантливых молодых драматургов, он прочёл свою пьеску на «чердаке», как насмешливо выражался по всякому поводу остривший хозяин, в кругу истинных знатоков и всех знаменитостей сцены.
Заёмный сюжет был уж больно не сложен. Счастливый муж трёх месяцев не выдержал безоблачной супружеской любви, скучал и маялся ужасно с красавицей женой, не знал, куда себя девать, оставшись с ней наедине, газету ей предпочитал и обличал обманы воспитанья, которым маменьки морочат слишком ловко извечно глупых женихов:
Притом и не видать в тебе талантов тех, Которыми сперва обворожила всех. Поверь, со стороны об этом думать можно, Что светских девушек образованье ложно Невинный вымысел, уловка матерей, Чтобы избавиться от зрелых дочерей; Без мыслей матушка проронит два-три слова, Что дочка будто ей дарит рисунок новый; Едва льзя выпросить на диво посмотреть. Выносят наконец ландшафт или портрет, С восторгом все кричат: «Возможно ль, как вы скромны!» А чай работали художники наёмны. Потом красавица захочет слух пленять, - За фортепьяно; тут не смеют и дышать, Дивятся, ахают руке столь беглой, гибкой, Меж тем учитель ей подлаживает скрипкой, Потом, влюблённого как в сети завлекли, В загоне живопись, а инструмент в пыли.Уже ему иные прелести милы. Уже слегка Арист влюблён в Аглаю. Уже к коварной на свиданье поспешал, пред верным другом разливаясь в оправданьях:
В наш век степенница по свадьбе через год Берёт любовника, — единобразье скушно, И муж на то глядеть обязан равнодушно. Всё это сбыточно, всё это быть должно Со мною, как с другим, — так раз заведено. Однако до тех пор хотел бы я в Эльмире Все видеть способы Мой будущий удел я знаю наперёд; искусства, средства в мире Рядиться, нравиться, приятной, ловкой быть, А более ещё, чтоб таковой прослыть, Чтоб рой любовников при ней был ежечасно, Но ею презренный, рой жалкий и несчастный! А я бы думать мог, на этот рой смотря: Старайтесь круг неё, а наслаждаюсь я!И был таков, а друг почти в его словах преподал жене его урок:
Тот муж, мы, например, каким Ариста знаем, Уверенный, что он женою обожаем, Что ясных дней его ничто не омрачит, В беспечности благой живёт как сибарит; Вседневны ласки он с холодностью приемлет; Взаимность райская утихнет и задремлет; Ему ничто не впрок, и чужд сердечный страх. Нет! постарайтесь быть хотя в его глазах Вы легкомысленней и больше прихотливы; Увидите, какой он будет боязливый. Едва опомнится, что может потерять Блаженство, коим стал он так пренебрегать, С супругой-ангелом в любви минутах тайных, Он в заблуждениях раскается случайных И, образумясь, вам покорен будет вновь.А тут как раз вернулся глупый муж, случайно вместе их застал и гневных обрушился упрёков градом:
Я тысячу могу вам случаев исчислить, По коим должен был об вас я худо мыслить; Довольно было бы смешно не замечать Мне на лице у вас уныния печать, Когда наедине мы оставались с вами; И часто думал я, что, кстати, между нами, Страдаете всегда вы болью головной, Когда случается вам выезжать со мной. Сегодня поутру, на что искать нам дале, В смятеньи были вы, погружены в печали, Когда напомянул я о деревне вам: Конечно, скоро бы прибегнули к слезам, К упрёкам, жалобам! — на дело не похоже!.. Является Сафир, я ухожу — и что же! Откуда всё взялось на бедствие моё: Весёлость, острота, наряды и пенье — Все, словом, женские чертовские приманки. Я в дверь, вы со двора, и очень спозаранки. Не ведаю, какой злой дух в меня вдохнул, Чтобы Сафиру я об этом намекнул? Изменник! над моим ругался как несчастьем! Как утешал меня притворным соучастьем! Непринуждённо как смеялся, ободрял! От горькой истины как хитро отвращал! Как другом и женой жестоко я обманут! Но более меня обманывать не станут. Что вы потупили глаза? вы смущены? Подайте же письмо.Недоразумение, само собой, тут же легчайшим образом и разъяснялось. Взбешённый ревностью, муж вновь в свою жену влюблялся, иначе, видишь, нам нельзя, и в клятвенных восторгах рассыпался:
Как хочешь, но теперь в столице иль в пустыне С тобою дома я сижу отныне — Днём, утром, вечером, и в полдень и в полночь, Все вертопрашества и суетности прочь!Не тут-то было, жена, уроком сим прозрев, уж не хотела запираться на замки и, отдавая должное советам друга, давала жёнам всем полезнейший урок:
Так, если несколько тебя сей день исправил, Его благодари: он и меня наставил, Чтоб вкусам я твоим старалась снисходить, Затем чтоб и других приманок отвратить, Чтоб иногда твоей противилась я воле, Затем, чтоб ты ценил моё смиренство боле. Так! он любовь твою мне возвратить хотел, Старался сколько мог — и, может быть, успел.Знатоки и завсегдатаи подмостков, и первый между ними Шаховской, к чужим комедиям ревнивец страшный, заключили, что он весьма удачно сжал французом неумелым весьма растянутый сюжет и что благодаря тому его пьеска оказалась довольно жива, энергична и вместе с тем забавна. В особенности они хвалили стих, сродни стиху комедий Шаховского, и непринуждённость разговорной речи, которой он везде заменил гладкую, однако же безличную риторику француза. Несколько счастливых его афоризмов удержалось в их дружеской памяти, и они повторяли, смеясь:
Свой дом всем прочим я предпочитаю. Мне, право, всё равно. Везде, где только бал, она необходима. Чему ж дивиться нам, что мало верных жён. Не послушание мне нужно, а любовь. Как будто бы мужья умеют попросить. Что хочет женщина, то сбудется всегда.Ещё хотелось, чтобы они заметили его главнейшую мысль, которой он дорожил: что отвлечённое умствование даже в умном человеке смешно безмерно, что сама наша прозаическая жизнь полна капризов и оттого много богаче и сложней замысловатых выкладок сухого, книжного ума и всегда того оставит в дураках, кто в высокомерии самодовольном праздного рассудка попадает в её хитрые сети, однако знатоки водевилей как раз не обратили никакого внимания на его заветную мысль.
Развеселившийся, довольный донельзя своим первым открытием, пророча столь неробкому автору, по этой первой пробе вполне мужественного пера, превосходное будущее, Шаховской озаботился тотчас, чтобы роли распределились самым выгодным образом.
Роль Эльмиры, жены, так счастливо нашедшейся вновь влюбить в себя охладелого мужа, предназначалась Катерине Семёновой, которая, уж если хотела и с помощью Шаховского разобрала смысл своей роли, могла дотянуть до успеха и самую слабую, самую безнадёжную пьеску, да тут возникло препятствие, с её гневливым характером едва ли преодолимое: она с Шаховским была в ссоре, между ними нередкой, на этот раз затянувшейся чересчур, к удивлению театрального братства, которое беспрестанно ссорилось, однако ж скоро мирилось между собой.
Шаховской, лукавый и вёрткий, пустился в тонкую хитрость, на которые был ужасный мастак, если только дело касалось обожаемого до страсти театра. «Молодые супруги» были включены в бенефис Нимфодоры Семёновой[63], и по этому случаю бенефициантка сама упросила сестру. Та наконец согласилась, вопреки даже тому, что, актриса трагическая, никогда перед тем не играла комедийных ролей.
Шаховской пребывал в своём кротком восторге, пожимался, щурил маслянистые глазки и потирал пухлые белые ручки с довольной улыбкой сатира.
Роль Ариста, рассудительного и так глупо оплошавшего мужа, досталась Сосницкому, тоже счастливо открытому Шаховским.
Роль Сафира благосклонно согласился взять Брянский, известный актёр, рассудительный, однообразный до скуки, однако обладавший звучным органом, прекрасно читавший стихи, как будто так и родившийся записным резонёром.
Шаховской сам принялся за грозные свои репетиции, доводя внушительную Семёнову до слезливых истерик, а Сосницкого с Брянским до холодного пота, неумолимый, стремительный, страстный, кричавший визгливо, падавший на колени то с пламенной, то с слёзной мольбой, в изнеможении рвавший на голове остатки когда-то пышных кудрей.
В конце сентября запестрела афиша, извещавшая всех, что в бенефис Нимфодоры Семёновой даётся опера «Эфрозина и Корадин» и комедия в одном действии в стихах и с пением сочинения А. С. Грибоедова.
Что говорить, это глупо ужасно, а он был в те дни вне себя.
Нет, он знал превосходно, что это вышел из-под пера всего лишь ничтожный пустяк, что это лишь самая первая, хотя и не робкая, проба молодого таланта, к тому же не в свободном творении, а в переделке, и что его новое имя решительно никому не известно, даже игравшим в его пьеске актёрам.
Он очень холодно и умно рассуждал, что этот заёмный игривый сюжет уж слишком избит и что надобно быть уже слишком не от мира сего, чтобы так по-дурацки попасться на рассчитанное кокетство осточертевшей жены, а потому в его пьеске соли нет, нет ни на полушку ума.
Он твердил, что афиша составлена точно так же, как все театральные афиши на свете, и что деревянный Малый театр, открывшийся взору, когда он в праздничном ошалении брёл на премьеру, от Публичной библиотеки, чересчур неказист, и если фасад его украшают колонны, так, видимо, лишь для того, чтобы сделать архитектурное уродство его очевидным.
И всё же он был вне себя и с каким-то особенным чувством, намереваясь прийти позже всех, вступил в пустой зал, который только начинал наполняться, и замирал при мысли о том, что нынче более никто не придёт, и то и дело пожимал пружинку часов.
Однако зал был наконец переполнен. Имена Нимфодоры и Катерины Семёновых собрали публику самую избранную, способную не только беспрестанно хлопать в ладони, но и что-нибудь понимать. Катерина блистала красотой ослепительной, при малейшем одушевлении её голос вызывал в публике слёзы восторга и гром, её глубокая игра увлекала, поражала и очаровывала, несмотря даже на то, что романс она спела очень посредственно. Сосницкий, стройный, с выразительным подвижным лицом, которое часто оживлялось его особенной умной улыбкой, играл превосходно, шаржируя, к удовольствию публики, всем известного светского шаркуна. Брянский декламировал, сильным голосом оттеняя, тонко и верно, каждое слово стиха.
Грянул внезапный успех. В первый раз довелось испытать ребяческое удовольствие стихи свои слышать в театре. Он был отравлен слегка и слегка опьянён бестолковым хмелем бурных аплодисментов и с кружащейся головой страшился попасть в недостойное положение, если откроется публике, что в самом деле голова у него раскружилась, отчего эти первые жаркие поздравления принимал он с иронической тонкой усмешкой, но с тайной гордостью отмечал, что его «Молодые супруги» время от времени возвращались на сцену. Он приятно был изумлён, что иные юные авторы уже откровенно, хоть и топорно, подражали ему, выпекая в своих непрокалившихся печках довольно сырые, но страсть как похожие пьески в духе этой салонной комедии.
Что было после этого начинать?
Военная служба не принесла ему славы, о которой он пылко мечтал, вступая своей волей в гусары. Он с ней мирился, пока бились с вероломным французом, да и то главным образом потому, что в кавалерийских резервах, куда, по счастью, его занесло из полка, делал чрезвычайно важное и полезное, хотя малоприметное дело. В мирное время, в глазах его, военная служба утратила смысл: и пёстрый мундир его не прельщал, и не желал подражать он бессчётным Паскевичам с их беспрестанной самодельной белозубой улыбкой, да и в чинах обнаружился слишком уж небольших, чтобы лямку тянуть и на что-то рассчитывать в мирное время, когда в армии скука и маета, злейший враг для живого воображения. Выходило, что на этом поприще терять ему было нечего. Он решился проситься в отставку и облегчённо вздохнул.
Отношения с Элизой оставались туманными. Кузина взглядывала иногда на него с интересом, не в силах, должно быть, устоять перед его блестящим умом. Успех «Молодых супругов» придавал ему веры в себя. Он решился приготовиться к экзаменовке на звание доктора и с этой целью отправился в Дерпт, рассчитывая, как прежде в Москве, и разом двинуть карьеру, залучив с дипломом вожделенное право вместо губернских секретарей именоваться тотчас коллежским асессором, и завоевать, может быть, её благородное, но слишком тщеславное сердце.
Однако в Дерпт сперва не пускала внезапная шумная литературная и театральная жизнь. Непоседливый Шаховской, обременённый запутанными делами по театральной дирекции, всё-таки успевавший, Бог весть когда, много и лихо писать, умелый наставник, задиристый собеседник, приятель весёлый и добрый, открытый, простой, несмотря на порядочную разницу в летах, поставил комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды» примечательную, другим не в пример, по удачному своему исполнению, по верности выведенных на сцену характеров, по весёлости и затейливости своей и по многим хорошим стихам, которые встречались на каждом шагу.
Представление, как и было задумано, превратилось в ужасный скандал. На сцене выставлен был на суд зрителей только что переселившийся в Петербург, милостиво принятый вдовой-государыней, возлюбившей в нём прославленного певца её победоносного сына, окружённый почтением и громкой молвой, скромный и простой в обхождении, застенчивый, мягкий, чуждый литературным браням Жуковский, под сатирическим именем поэта Фиалкина, светоча слезливой поэзии, который, влюблён и печален, томную любовь принуждал петь вечного старца Гомера, услаждал туманными балладами свой разнеженный, чувствительный вкус и возвещал:
И полночь, и петух, и звон Костей в фобах. И чу!..Набор слов, смешной, хоть невинный, точно заклятие дьявола, чаще других выступал в наивно-печальных балладах Жуковского, которые были у всех на устах, слыли за образец утончённого вкуса и превратились в предмет самых пошлых и многочисленных подражаний. Можно ли было этот набор слов не узнать? Конечно, нельзя. Немудрено, что тотчас узнали, от кресел до лож и райка, узнал и Жуковский, сидевший в креслах с друзьями, сконфуженный нескромными взорами, вдруг обращёнными со всех сторон на него.
Так вдруг сошлось, что комедия Шаховского, невинная сама по себе, явилась громким возобновлением прежней жестокой войны[64], было притихшей с нашествием Бонапарта и вспыхнувшей вновь с утверждением европейского мира. Первая победа, по общему мнению, осталась на стороне Шаховского. Этот выстрел публика приняла с одобрением, громкогласным, задорным и шумным. В тот же вечер в доме Бакунина, гражданского губернатора, состоялось весёлое празднество, и сама губернаторша под дружные клики гостей надела на счастливого автора венок победителя. На другой день Иван Андреевич Крылов с улыбкой коварной и умной обронил, с кем-то встретясь на Невском, очередное словцо, тотчас разнесённое всюду: «Как быть, насмешники на его стороне».
Хвалители, чтившие Жуковского как новейшего парнасского бога, воспевавшие сами, прозябая в столицах, ненаглядную сельскую тишь, пастушков и невинные слёзы на берегах ручейков, объявлявшие староверцами ретроградами всех хулителей новой сентиментальной волны и нового размягчённого слога, в старой поэзии и в старых речениях не находившие ничего, что бы было достойно продолжения, если не подражания, приняли эту смешную пародию как святотатство.
Хулители Жуковского, певцы великих деяний, поклонники сильного, выразительного, могучего слова, наконец получившие повод открытой злорадственной мести, преувеличенно и язвительно гоготали, обращая победу свою в шутовство.
Журналы взбесились, как псы, которым повод с цепи сорваться нашёлся. Поспешные листы запестрели то грубой, то изысканной бранью, однако и журналы не вмещали всего, чем кипели взаимно оскорблённые души. Из уст в уста передавались колкие эпиграммы, непристойные каламбуры и грязные сплетни, слишком сильные, чтобы решиться в печать.
В «Сыне отечества» поместил юный Дашков «Письмо к новейшему Аристофану», в котором в прах повергал Шаховского. Князь Вяземский, ленивый мастер жалящих экспромтов, произнёс эпиграмму, намекая на «Расхищенные шубы», поэмку пера Шаховского:
С какою лёгкостью свободной Играешь ты природой и собой, Ты в шубах Шутовской холодный, В водах ты Шутовской сухой.В доме Уварова на Малой Морской, в пылающей огнями громадной библиотеке, за длиннейшим столом, на котором разместили большую чернильницу, бумагу и перья, собрались Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов[65]. Блудов ознакомил собравшихся с «Видением в какой-то ограде», в котором любители российской словесности, отчего-то обыватели Арзамаса[66], на одном из вечерних собраний слышали в соседней комнате странный, подозрительный шорох. Оказалось, это бродил Шаховской в магнетическом сне, повествуя шаржированными старинными словесами, как в бурную ночь он остановился под окнами опустевшего дома Державина и разные чудеса в них узрел, затем Шаховской исповедовался в своих тайных, однако прискорбных грехах.
Ознакомлен с «Видением», Уваров внёс предложение создать «Арзамасское общество безвестных людей», прямо направленное против замшелой «Беседы любителей российского слова». Положили для чего-то взять себе прозвища по балладам Жуковского и обязали всякого, кто заохотится вступить в «Арзамас», в похвальной издевательской речи отпевать кого-нибудь из заклятых беседчиков.
Известившись о совершенном откровенном кощунстве, всполошилась «Беседа». Внезапно объявившийся в литературе Загоскин, ополченец недавний, бывший под Данцигом, простодушный до крайности, однако же вспыльчивый, неумный, но добрый, в защиту Шаховского пристроил на сцене «Комедию против комедии, или Урок волокитам», написанную почти так же легко и свободно, как писал Шаховской, в которой отдубасил многих противников, в том числе Фольгина, сценический псевдоним остроязычного и злобного Вигеля.
Он был поражён, наблюдая столпотворенье умов, ещё незнакомый с истребительными литературными нравами. На его вкус, комедийка Шаховского была довольно пуста, хотя и блестяща, а хулители Шаховского слишком ребята и глупы. Её прелесть он находил в одной злободневности, без которой театр не театр, тогда как достойным таланта почитал он только трагедии, в образец себе взявши эллинов, а комедии так, вздор и проба пера, так что остервенелая брань, по его представлениям, чересчур далеко зашла за границы пристойности. К тому же брань затянулась и оттого сбивалась на фарс. Он тоже мимоходом пустил эпиграмму. Она насмешила Катенина. Шутки ради они отправили Гречу громадный пакет, предварительно дав наставления денщику.
Греч день спустя тиснул в «Сыне отечества» немилосердно растянутый фельетон, переполненный однообразным его остроумием:
«Наслышавшись об этой комедии очень много, я хотел было... порядочно разобраться... и начал: «Сия комедия...» Вдруг раздался за мной громкий, грозный голос: «Здравия желаю!» Хотя я журналист, следственно, человек полувоенный, но, признаюсь, вздрогнул от неожиданного приветствия, оборотился и увидел вошедшего в комнату гренадера, вершков двенадцати, в пяти медалях. Он держал в руке большой пакет...»
Далее между фельетонистом и гренадером, то есть Катенина денщиком, произошёл диалог:
— К вам, сударь!
— От кого?
— Не велено сказывать.
— Кто же бы это?
— Командеры!
Тут гренадер подал книгу:
— Извольте расписаться.
Далее Греч продолжал:
«Нечего было делать. Я взял послание «К «Сыну отечества» и расписался, вестовой гренадер обернулся направо кругом, топнул и вышел...»
Греч распечатал пакет и нашёл там от самого Аполлона приказ:
На замечанье Феб даёт, Что от каких-то вод Парнасский весь народ Шумит, кричит и дело забывает, И потому он объявляет, Что толки все о Липецких водах (В укору, в похвалу, и в прозе, и в стихах) Написаны и преданы тисненью Не по его внушенью!Гречу оставалось только вздохнуть:
«Что прикажете писать после этого...»
Тем временем получил он отставку. На беду его, по обязанности, об ней возвестили газеты. Узнавши об новом своеволии любезного чада, матушка, впавши, по обыкновению, в гнев, задержала высылку денег, почитая голод вернейшим источником благоразумия. Ещё на беду, отказался он перед тем от части небольшого наследства, которая следовала ему после смерти Сергея Иваныча Грибоедова, не находя на неё за собой никакого сыновьего права, и передал её сестре Маше, и без того засидевшейся с малым приданым в девицах.
Он вдруг оказался без средств. В те же дни Степан испросил себе длительный отпуск и отправился в родовую деревню, найдя нужным позаняться винным заводом, приходившим в расстройство. Большая квартира Степана оказалась не по карману. Он снял тесную комнатку на одной лестнице с Шаховским в Офицерской, в небольшом деревянном доме Лэфебра, что против дома Голидия, обиталища многих бедных артистов и служителей театральной дирекции.
Безденежье и свобода произвели на него необычайное действие. Совместными усилиями они точно толкали его веселиться. Он повсюду бывал. Шаховской таскал его в заседания «Беседы любителей российского слова», оживившейся и крепшей после войны, гордившейся тем, что остерегала с невиданной прозорливостью против неблаговидного поклонения коварной и распутной Европе. Ныне она защищала против засилья бездушного французского языка чистопородное и непорочное русское слово, на том основании, что Россия этой распутной Европе, обратившей в пепел и в кострище древнюю нашу святыню, своей многой кровью воротила свободу.
Заседания совершались в доме Державина на Фонтанке, в великолепной, обширной, освещённой пламенно зале, с виду походившей на храм. Середину залы занимали столы, за которыми помещались постоянные члены «Беседы». Чуть поодаль были расставлены удобные кресла для почётных и почтенных гостей. Прочим посетителям, впускаемым по билетам, предназначались обыкновенные стулья, расставленные в три уступа у стен. Декорации расставлял Шаховской, чрезвычайный обожатель сильных эффектов. Шаховской же для пущего блеска собраний придумал правило появляться всем дамам только в белоснежных нарядах, статс-дамам в портретах, вельможам и генералам в лентах и при звёздах, всем прочим в парадных мундирах, так что, кажется, один только он, приятель и гость Шаховского, отставленный недавно корнет, губернский секретарь, не состоящий на службе, был в чёрном фраке, даже у толстейшего Шаховского отыскался мундир с замысловатым шитьём театрального ведомства.
В подражание Государственному совету, «Беседа» разделялась на четыре разряда. Во главе каждого восседал председатель, в подмогу председателю имелся ещё попечитель. На посту попечителей пребывали граф Завадовский и Мордвинов, министр народного просвещения Разумовский и министр юстиции Дмитриев. Немалое число поэтов, истинных поклонников старины, приняты были в члены и в члены-сотрудники. Посреди этого роя теснился вечно сонный и мудрый Крылов.
Впрочем, разряды не имели никакого значения для предмета бесед, и места за столом занимались не по огромности и блеску таланта, а по установленным государем чинам, что за рабская страсть, в семье поэтов постыдная, непозволительная!
Между тем в своём чёрном фраке, не имея достоинств, уселся он в кресле почётных гостей, о чём похлопотал для него Шаховской, поспевавший повсюду, и, сделавши вид, что превратился весь в слух, поглядывал изредка по сторонам, то прямо в очки, то обок очков.
Чтение тянулось что-то уж слишком томительно долго, часов около трёх. Главная мысль сводилась как будто к тому, что торжеству российской словесности должно предшествовать торжество твёрдой веры в самобытность и в несокрушимую силу России, однако ж излагалась она такими запутанными, такими тяжеловесными фразами, что улавливалась настолько предположительно и с таким величайшим трудом, что он чуть не вспотел, да, слава Богу, оратор закруглил-таки речь.
Всё же, по его наблюдению, ни продолжительность, ни тяжеловесность, ни запутанность речи решительно никого не смутили. По холодным торжественным ликам сановников невозможно было прочесть, слушали или не слушали это хитроумное толкование процесса созидания несомненных шедевров приглашённые генералы и светские дамы, но было видать, что они не скучали, а с твёрдостью духа отправляли свой патриотический долг.
Наконец, обречённо вздохнув, поднялся Крылов, в затрапезном обширном своём сюртуке, в высочайшем жабо, испещрённом жирными пятнами подливок и соусов, этими явственными следами многих гастрономических утешений, с величественной тяжёлой большой головой, с небрежно приглаженными серебристыми волосами, с отвислыми, жирными, далеко не старческими щеками, с большим, серьёзным, правильным ртом, с ленивым, почти апатичным выражением на лице, сквозь которое едва пробивались юмор и ум, с неподвижным взглядом из-под полуопущенных век, неуклюжий и толстый, медведь и медведь, и стал неторопливо, нет, не читать, а рассказывать, натурально, непринуждённо и внятно, голосом напирая слегка, обозначая лишь ударением смысл, наивно вначале сказав:
— «Мирская сходка», это заглавие, вот в чём состоит.
Помолчал, точно раздумывал, стоит ли продолжать, и пошёл:
Какой порядок ни затей, Но если он в руках бессовестных людей, Они всегда найдут уловку, Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. В овечьи старосты у льва просился волк, Стараньем кумушки-лисицы Словцо о нём замолвлено у львицы, Но так как о волках худой на свете толк, И не сказали бы, что смотрит лев на лицы, То велено звериный весь народ Созвать на общий сход И расспросить того, другого, Что в волке доброго он знает иль дурного. Исполнен и приказ: все звери созваны, На сходке голоса чин чином собраны; Но против волка нет ни слова, И волка велено в овчарню посадить. Да что же овцы говорили? На сходке ведь они уж, верно, были? Вот то-то нет! Овец-то и забыли! А их-то бы всего нужней спросить.Шаховской, чрезвычайно довольный, сияющий, с искрами в бесовски прижмуренных глазках, придерживая его за плечо, когда они выходили, принагнувшись к нему, насколько позволяла статура, заливисто сетовал в самое ухо:
— Ах, жалко-то, жалко-то как, не удалось показать старика, простуда, недомогание лёгкое, а всё-таки, всё-таки лучше дома денька два посидеть, вот уж после я его тебе покажу, всенепременнейше, да и лучше, что так, его надобно дома, дома глядеть, я уж к тебе забегу, и съездим, честное слово, съездим к нему, вот увидишь ты русское чудо!
В самом деле прибежал через несколько дней весь в поту, отдуваясь, обтирая огромным платком мокрый лоб, и с шумом произносил:
— Ну, сбирайся, здоров, я ему про тебя насказал!
Сам немного взволнованный, желая видеть слишком известного автора вызвавшего столько ядовитых нареканий трактата о слоге старинном и новом[67], который с любопытством и одобрением, впрочем, далеко не со всеми выкладками ума соглашаясь, читал ещё в пансионские годы и с которого, можно сказать, началось его увлечение российской высокой поэзией прошедшего славного века и тогдашним возвышенным выразительным словом, не в силах не посмеяться над Шаховским, стоявшим перед ним с таким важным ликом сатира, он состроил растерянное лицо и громко прерывисто прошептал:
— Так это надо во фраке, а, не иначе?
Подскочив, как ужаленный, Шаховской замахал возмущённо толстыми ручками и пискливым голосом серьёзно запричитал:
— Полно, полно тебе! Довольно и сертука! К нему можно запросто, это, брат, такой человек, такой человек, вот сам увидишь, честное слово, тьфу ему фрак, да и только!
Подшучивая над бурными восхваленьями Шаховского, он по дороге предложил прогуляться, будто бы для того, чтобы поприйти немного в себя, и Шаховской, с выставленным вперёд большим животом, старательно семенил рядом с ним, держа его под руку цепко, оскальзываясь, бормоча извинения, восторженно говоря:
— Человек он доброты и кротости необычайной! Уж на что государь Павел Петрович бывал вспыльчив и строг непомерно, а и тот Александра Семёныча любил и произвёл в генерал-адъютанты. Обставилась его служба гораздо смешно, по правде сказать, весь двор над горемычным потешался зело. В самом деле, в обязанность генерал-адъютанта входит, во время дежурства, сопровождать государя верхом, да Александр-то Семёныч, смолоду в морской службе служа, к лошади не ведает, с какой стороны подойти. Вот при дворе первого-то дежурства и ждут: вот, мол, знатная начнётся потеха! Да у Александра Семёныча характер открытый, прямой и, главнейшее дело, бесстрашный, точно у древнего римлянина, правду тебе говорю, не кривись! Вот, послушай-ка сам: дежурство случилось. Павел Петрович сбирается выезжать. Александру Семёнычу, как водится, подводят лихого коня и уж поджидают втихомолку скандала, ан нет: со всей искренностью, присущей ему от рожденья, Александр Семёныч громко так говорит государю, заметь, при всех говорит, решительно никем не смущаясь, что верхом отродясь не езжал, что лошадей даже с самого детства страшится и что просит всемилостиво уволить его от такого конфузу. И вот что значит это истинно русское простодушие и русская прямота! Ими иные крепости берутся гораздо скорее, чем европейским бесстыдным нахальством! Ведь Павел-то Петрович, помнишь ли, какой был монарх? Ведь это гром был небесный на троне, и только, как помягче-то и не ведаю свеличать, ведь многие офицеры в те грозные годы, выходя на дежурство, хоронили за пазуху все наличные деньги, на случай чего, коль пошлют из дворца прямым походом в Сибирь, каково приключалось пять раз на дню, так чтобы походом переть при деньгах! Понятно, все так и обмерли, заслыша бесстрашные речи Александра Семёныча: ну, думают, сапогами затопает, заорёт благим матом, как пускался всегда, когда поперечат ему, и скомандует марш, да так прямёхонько из дворца в дальний край, к волкам да к медведям, в Камчатку, только генерал-адъютанта и видели. И ведь ничего, даже прямо напротив, после такого признания Александр Семёныч в большую милость вошёл, был пожалован поместьишком в триста, кажется, душ, ничегошеньки до той поры не имея, жалованьем единственно обходясь.
Шаховской заливисто засмеялся и встал, выпустив его локоть на волю и присев на решётку канала:
— Александр Сергеич, дорогой, дай, голубчик, вздохнуть, задохся совсем.
Отхаркался звучно, с сердцем плюнул несколько раз и во всё горло захохотал пискливым бубенчиком:
— А с поместьишком-то приключилась такая история, что рассказать, не поверит никто, как есть водевиль, хотя отчего же не поверить и в водевиль? То ли ещё приключается на святой-то Руси!
Несколько раз вздохнул глубоко, сияя жирным лицом, озорно прижмуривая умные глазки, поднялся и двинулся дальше, вновь ухватив его под руку, весело говоря:
— Александр-то Семёныч, великий, я тебе говорю, человек, как проживал своим скудным достатком, так до сей поры и живёт, а с поместьишка своего не берёт ни копейки, чудак человек. Многие из мужиков на заработках в Петербурге живут, ну, известное дело, барин есть барин, приходят к нему на поклон, подают ему в шапке, что следует согласно закону, а он ласково эдак мужику изъясняет, что деньги, вишь, не его, так что не заработаны им за труды, потому и взять он этих денег не может никак. Мужики дивятся, рассказывают, возвращаясь домой на побывку, так, мол, и так, барин чудной, никакого не знает порядку, вот что нам говорит, односельники слушают и приходят в смущение: как это так, на то и барин, чтобы, значит, деревенькой кормиться. И вот тебе поразительнейшая черта. Нынче из молодых людей кое-кто полагает, особливо из офицерства, кои побывали в Париже и на европейские порядки привзглянули вблизи, что русские-то крестьяне, подобно французским, спят и видят освобожденье. Ты-то, признайся-ка, не из них? А Россию-то европейским аршином не надобно мерить, ох бы, не надо! Иной у нас, согласись, выходит аршин, беды бы не наделать с чужим. Представь: год случился неурожайный, в Питере сделалась большая дороговизна во всём, жмутся все, а на жалованье-то одно каково? И в урожай туговато, об чём говорить. Вот как-то поутру и докладывают Александру Семёнычу, так, мол, и так, мужички ваши прибыли и желают с вами поговорить. Известное дело, Александр Семёныч всегда за работой, оторваться не захотел, пусть к барыне идут, говорит. Те ни в какую. Ну, так и быть, сам посуди, нашёлся принуждённым выйти в переднюю. Мужики, известное дело, шапки долой, в ноги поклон и вещают, что, мол, на сходке мирской положили им, выборным, идти к барину в Питер и доложить ему, стало быть, что выборные они, а сказать постановлено так: «Оброку ты с нас не берёшь уже десять лет, а живёшь одним государевым жалованьем, а дороговизна страсть нынче на всё, сам посуди, и жить с семейством, известное дело, трудненько тебе, так не угодно ли тебе положить на нас за прошедшие годы рублёв хоть по тысячке, а впредь станем платить какой сам положишь оброк, а мы, по твоей милости, слава Богу, живём не бедно и от оброку не разоримся никак». Вот тебе и «Путешествие из Петербурга в Москву»! Каково? Небось мне не веришь? Оно, натурально, и у нас такое не часто случается, да случается всё ж, и где ещё может случиться, как опять не у нас? Да Бог с ним со всем! Александр Семёныч, такие-то речи заслыша, в неописанное пришёл восхищение, от чего бы ты думал? Не угадаешь, чем хочешь клянусь! Хочешь, моей головой? А в восхищение он пришёл не от благороднейшего поступка своих мужиков, а от говора их, похожего на язык грамот наших старинных, как он уверял, и тотчас к себе в кабинет и слово от слова всё записал. Тотчас позвал кое-кого, прочитал, да вы, говорит, верно, не поверите мне, тотчас призвал мужиков и повелел всё прежде сказанное повторить. Те повторили. Тут Александр Семёныч приказал их как следует накормить, обещавши дать им для сходки письмо и отпустить восвояси домой. Ну, письмо написал, в котором благодарил мир за усердие, сообщая своим мужикам, что он, по милости государевой, надобности в деньгах никакой не имеет, обещаясь честным словом своим, что, случись надобность, что ни у кого, кроме как у своих мужиков, тогда не попросит. Выборных одарили, облобызали и отпустили с этим письмом. Мордвинов, узнавши историю, ему попенял: «Почему бы не положить, говорит, хотя самый лёгкий оброк, ничего не значащий для крестьян, когда сам нуждаешься нередко в деньгах и частенько свободного рубля не имеешь, чтобы бедному человеку помочь? Да и за что же другие работают на господина или платят оброк, или двойные подушные, как положено на казённых крестьян, а эти не делают ничего? Это несправедливо, это может ропот между соседями произвести». Александр Семёныч выслушал эти и прочие речи, да по-прежнему всё и оставил. Вот он каков человек! А ты, голубчик, вовсе меня затаскал, сил моих больше нет. Изволь-ка кликнуть извозчика, хотя недалече, да пеше идти сил моих нет никаких.
Они взобрались в промёрзлые санки, и Шаховской, взбудораженный по обычаю, спокойным ни быв минуты с рожденья, занимая две трети скамейки, беспрестанно вертясь, прикрывая муфтой лицо, визгливым голосом продолжал:
— Предуведомляю тебя, не дивись, Александр Семёныч зело странен во всём. Да и правду сказать, как не быть ему странным. Обыкновенно поднимается часов в семь зимой, а летом и в шесть, из спальни прямиком отправляется в кабинет и, кроме двух присутственных дней в адмиралтейском совете, не выходит оттуда до половины четвёртого, если обедает дома, после обеда дремлет немного, сидя в креслах в своём кабинете, потом ещё почитает немного и отправляется в клуб, где играет и выигрывает почти всякий день непременно. Стало быть, трудится в сутки часов по восьми и исписал уже преогромные кипы. Ну, по этой причине и рассеян ужасно. Тьма историй ходит об нём. Вот для примера одна. Раз отправился он обедать к Бакуниным, всё честь по чести, в полном параде, в мундире и в ленте, старший сын у Бакуниных был именинник, он же старинные обычаи чтит, да минут через двадцать вдруг воротился назад. Дарья Алексевна тотчас всполошилась, что с тобой, мой друг, говорит. «Вообрази, — отвечает, — приезжаю, а они почти отобедали и назвали таких гостей, с которыми я даже не кланяюсь. Дай-ка поесть что-нибудь». Дарья Алексевна приказала подать, а сама говорит: «Это какой-то вздор у тебя, не могли Бакунины назвать вместе с тобой таких людей, которые терпеть не могут тебя». Он за стол, она к кучеру в розыск. Что же известилось под следствием? А вот оно что: в карету садясь, Александр Семёныч ехать приказал к Воронцовым, у которых отродясь не бывал, ничего не примечая, вступил в переднюю к ним, где официант доложил, что господа почти что откушали и скоро встанут из-за стола. Александр Семёныч удивился, что не подождали его, стал выспрашивать, кто ещё зван. Официант перечислил поимённо гостей. Александр Семёныч пуще прежнего удивился и тотчас уехал домой. «Да как в голову тебе взошли Воронцовы?» — «Да чёрт знает как, я об них и не думал». Надо знать, что визит нанесён был в самое неподходящее время. Воронцов, англоман, был его ожесточённый противник, известный тесной дружбой с французским посланником, а французский посланник только что перед тем, дело-то вышло перед войной, жаловался самому государю на его оскорбительные выходки против мирных французов. Натурально, внезапное посещение Александра Семёныча получило значение особливое. Воронцов вообразил, что тот приезжал для каких-нибудь объяснений и счёл долгом на другой день отдать ему тоже визит. Натурально, презабавное получилось свидание, впрочем, удовлетворительно всё разъяснившее. Долго спустя потешались над ним. Это я тебе к тому говорю, что язык у тебя довольно остёр, так уж ты, коли что, пощади старика, не острись, голубчик, нехорошо.
Он обещал пощадить.
Наконец они повернули с Литейной. Переулок именовался Форштатским. В переулке, насупротив кирки, стоял небольшой, окон в восемь, зелёный каменный дом. Они въехали под ворота, очутились в тесном дворе, по узкой, тёмной, нечистой лестнице взобрались наверх и сбросили шубы в сенях. Шаховской, не спросив о хозяине, не приказав доложить старому седому лакею в ужаснейших бакенбардах, похожих на гнезда ворон, хоть картину, право, пиши, мирно дремавшему на большом сундуке, с рукописями, шепнул Шаховской, прямо через столовую провёл его в кабинет.
Кабинетик был маленький, голубой, с двумя окошками в переулок, между ними помещался громаднейший письменный стол, загромождённый исписанными бумагами и раскрытыми книгами. Посередине возвышалась большая стеклянная банка, наполненная, к его удивлению, разнообразными шариками, слепленными из воска. Один подоконник заставлен был банками с сухим малороссийским вареньем. Возле второго стоял седой худощавый сутулый старик, с поразительно бледным лицом, с голой жилистой шеей, в подпоясанном шёлковом полосатом шлафроке, в кожаных спальных истасканных сапогах. В нижнем стекле была проделана самодельная форточка. Она была настежь раскрыта, пуская клубами мороз. Сизые голуби и воробьи тёмными комками прыгали с той стороны. Старик, что-то ласково бормоча, ничего не замечая вокруг, бросал им ячменные зёрна из глиняной миски, неотрывно глядя на быстрые птичьи головки, прислушиваясь к странной музыке их крепких носов, жадно клевавших зерно.
Шаховской, с почтением, к его удивлению, на мясистом, часто скоморошьем лице, несколько вытянувшись, кажется, даже подобравши живот, громко, но сдержанно проговорил:
— Желаем здравствовать, ваше высокопревосходительство.
Старик не вдруг обернулся, бросил своим пернатым питомцам ещё горсть зерна и, держа миску в руках, с сухим серьёзным лицом, сурово взглядывая карими глазами из-под седых щетинистых навислых бровей, приветливо отозвался:
— Храни вас Господь, а я рад, молодой человек, что не погнушались пожаловать ко мне, старику. Прошу вас, извольте садиться.
Они тотчас сели на тяжёлые стулья с прямыми высокими спинками.
Разглядывая костистого старика, легко шагнувшего к креслу, точно ожидавшему хозяина своего, как верный пёс, стоящему боком к письменному столу, удивляясь, что в походке и движениях не замечалось ничего стариковского, а во всём облике только эти густые серебристые волосы, он не робел, не смущался, веря самолюбиво, что не ударит в грязь перед любым собеседником, но молчал, наблюдая за ним, ожидая, когда тот сам начнёт разговор.
Шаховской, с трудом поместившись на стуле, вздыхал, вертел головой и пожимался от холода, тянувшего из отворенной форточки, которую старик то ли нарочно оставил открытой, привыкнув к свежему воздуху своего кабинета, то ли по рассеянности позабыл притворить.
Старик сел без изящества, но легко, запахнул одной рукой полы шлафрока, держа миску в другой, вдруг расцвёл одушевлённой улыбкой и заговорил горячо:
— Мне Александр Александрович добро говорил об тебе, что ты сочиняешь пиесы и отдаёшь ему на театр. Я твоих пиес не видал, прошу мне простить прегрешенье, однако не вот что спрошу: не рано ли изволишь предавать юный труд свой публичности?
Поражённый, что этот незнакомый ему человек с первого слова сказал ему именно то, о чём он с тайным мучением сам размышлял, он согласился:
— Вы правы, должно быть, все пустяки, пока что далеко до истинных мастеров.
Глаза Шишкова вспыхнули, оживились и расцвели.
— Вот то-то, а я рад, что ты не гордец, как из нынешних многие, всё спешат, всё спешат. Невежество, увы, процветает под пышной внешностью нововведений. Погрешности нечувствительно закрадываются в наш природный язык, искажая оный, потрясая коренные его основания. Таким образом, предъяви мне образец твоего языка, и я скажу тебе, кто ты таков есть.
Он смешался, стыдясь заговорить в этих стенах о своей салонной комедии, а Шаховской, не взглянув на него, почтительно продекламировал из середины, точно заранее обдумал и приготовил куплет:
По справедливости, три месяца — три века!.. С Эльмирой можно близ тенистого просека, Под свесом липовым, на бархатном лужку Любиться, нежиться, как надо пастушку, И таять весь свой век в безмолвьи неразлучно. Всё это весело в стихах, а впрочем, скучно.Шишков, то ли не слушая, то ли решив снисходительно неодобрение утаить про себя, с пламенем в небольших оживлённых глазах, с приятной простодушной улыбкой, увлечённо продолжал о своём, точно умолкал на минутку, поглубже вздохнуть:
— Худой писатель, но неуклонившийся от свойств языка своего, не столько вреден, как тот, который, хотя некоторые дарованья в натуре имеет, но, подстрекаемый самолюбием, возносится выше сведений своих и, прежде чем познает законы изобретения, начнёт изобретать и законодательствовать в искусстве. Писатели сии тем опаснее, что всякая новость приманчива и до тех пор нравится нам, покуда лучи рассудка, часто поздно весьма воссиявшие, не осветят её нелепости. Таким образом, усидчивое изучение законов изящного должно предшествовать перу новобранца. А нововведения, спросишь меня? Известно, без нововведений не движется ничего, но только сперва научившись ступать след в след за великими. Ибо ошибаются и великие. При всём своём превосходстве стих Державина «Я царь — я раб, я червь — я Бог»[68] имел бы более правильности и постепенности, когда бы, начальные два слова переставя, сказать: «Я раб — я царь, я червь — я Бог». Но и на ошибках великих мы научаемся.
Он очарован был тонкостью этого верного замечания, которое показывало ему, как глубоко проникал Шишков в дух языка поэтического, впрочем, с пренебрежением к звуку стиха, изломанному этой перестановкой, а Шаховской, всё более ёжась, почти жалобно попросил:
— Дозвольте, Александр Семёныч, форточку-то прикрыть, дует ужасно, как бы нам не простыть.
Шишков, согласно кивнув, однако ж не взглянул на него, что, мол, за вздор:
— Прикрой, голубчик, прикрой.
И, не дожидаясь, пока Шаховской со своей неповоротливой толстой статурой доберётся до форточки и снова займёт своё место на стуле, уже сверкая глазами, подхваченный на крыло вдохновения, продолжал:
— Между тем российский язык неискусными сочинителями начал приметным образом портиться. Молодые неопытные писатели себя возмечтали установителями и законодателями нового языка, которого изящество и красота, по заблуждению их, долженствует состоять в том, чтобы, отвергая все издревле употребительные слова и выражения, наполнять новые писания своими словами и оборотами, почерпнутыми или из слова в слово взятыми с языков иноземных, с французского всего более.
Взмахнул чашкой, затряс головой:
— Богатство и плавность употребляемого ныне наречия вздумали они основать на истреблении славянского языка, не рассуждая об том, что таковое безрассудное мнение похоже на то, как бы кто для сделания потока многоводным восхотел заграждать источники оного. Отсюда важность и достоинство слова начали исчезать, язык Ломоносова стал поставляться в пример ветхости, и на место оного явилось новое, смешанное из высокого с низким, испещрённое чужеязычными оборотами, безобразное и часто невразумительное наречие.
Сморщился точно от боли, чуть не заплакал:
— Сенеки искажали латинский язык[69], но Квинтилианы его поправляли. Наши Сенеки могли говорить и писать что хотели, им не противуречил никто. Следы языка и дух чудовищной Французской революции, доселе нам неизвестные, мало-помалу, но прибавляя час от часу успехи свои, начали появляться и в наших писаниях. Презрение к вере стало оказываться в презрении к языку славянскому. Здравое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное: сила души, высота мыслей, приличие слов, чистота нравственности, основательность и зрелость рассудка — всё сие приносилось в жертву какой-то лёгкости слога, не требующей ни ума, ни познаний.
Расширил глаза, точно в толк не мог взять, из какого источника проистекла сия глупость.
— Сколь ни странны были таковые правила, во всех веках и народах всеми истинными учёными и благомыслящими людьми отвергаемые, однако ж оные под разными соблазнительными видами во многие неопытные умы вкрались и укоренились, ибо ничьего нет приманчивее, как думать, что можно быть писателем и знатоком в словесности без всякого иного труда, кроме обыкновенного обращения в обществах и прочтения нескольких романов или мелких стихотворений. По несчастию, некоторые люди с талантами подали таковыми умствованиями пример бесталанным к подражанию им и к размножению малых погрешностей их в величайшие.
Остановился, точно одёрнул себя, осудил за нападки на ближних, помягчел, посветлел:
— Видя таковое словесности нашей падение и почитая за некоторое ощущение обязанностей русского человека терпеть зло и не обращать всех своих сил к воспящению оного, издал я книгу под заглавием «Рассуждение о старом и новом слоге», в которой по возможности старался, через сличение старого языка нашего с сим новым, показать, сколь один из них прекрасен и богат мыслями, а другой, напротив, тощ разумом и безобразен.
Пожевал губами, покачал головой:
— Но, как сказано у Лагарпа, обманывать людей «можно и с малым умом, но просвещать их трудно и с большим, то и сочинение моё было не иное что, как малая капля воды к потушению большого пожара. Однако ж капля по капле наберём довольно воды и потушим пожар.
С недоумением поглядел на чашку, которая всё это время продолжала оставаться в его всё ещё крепкой руке, Шишков, поворотившись к столу, сунул её под бумаги, схватил раскрытую книгу и с новым восторгом провозгласил:
— Вот, в ожидании вас, «Петра Великого» перечитывал[70], сию поэму, в которой нахожу такие красоты, каких немного, осмелюсь думать, и у Державина, да и у самого Ломоносова тоже.
Отставив книгу подальше от глаз, даже голову откинув немного назад, Шишков раздольно и выразительно стал читать, выставляя голосом эти красоты:
— Вот, извольте, уже в посвящении обратите своё особенное внимание на эти слова:
Из чащи лавровой, цветущей при Полтаве, Гордящейся Петром, восходит к небесам Бессмертный памятник его бессмертной славе. Кто чтит достоинство, достопочтен и сам.Вскинул голову, обвёл слушателей сияющими глазами:
— Какое великолепие! Какая красота! Какое знание русского языка! Вот что значит, когда стихотворец книг Священного Писания с пользой для себя начитался! А между тем при следующих стихах:
Не сломят веки, ни стихии, Ни ковы всех наземных бед, —сейчас остановятся и скажут: «Что это за «наземные беды»? Уж не навозные ли?» Подумают, что это слово выдумано Шихматовым, но это неправда, оно точно в этом смысле употреблено в Священном Писании.
Откинувшись на высоком стуле назад, сложивши руки крестом, припрятав подальше усмешку, естественную, но здесь неуместную, он неотступно следил, как Шишков, серьёзный и побледневший от восторга поэзии, наслаждался каждой вспышкой её, каждым проблеском поэтического стиха, казалось, готовый передавать своё восхищение с неубывающей увлечённостью и декламировать до позднего вечера:
— Ну, что может быть превосходнее этих вот, например, выражений:
Не терпит сердце немоты, Приди, витийство простоты, И смелость мне вдохни, природа!Или вот, например:
Как зимний день белеют мраки, И утро с розовым лицом, Гоня зловидные призраки, Блистая златом, багрецом, Дыша живительной прохладой, Белит и горы и поля. Сребром усыпана земля, Всеместной полнится отрадой, Настал приятный первый шум, Преторглась цепь ночного плена, И путник, преклонив колена, Вперил к востоку взор и ум. Се солнце, искра славы Бога, Из бездн исходит, как жених Младый от брачного чертога.Засмеялся тихонько, точно был один сам с собой:
— Красоты это всё первоклассные, или заимствованные из книг Священного Писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдётся у наших нынешних знаменитых писателей?
Всякий искренний восторг его увлекал, он сам пленялся нашей возвышенной, возвышающей стариной, а Священное Писание никогда не сходило у него со стола, и у нынешних знаменитых писателей, великолепных творцов жанра лёгкого, всех этих слезливых элегий, посланий приятелю, буримэ на французский манер и язвительных эпиграмм, до которых, впрочем, сам был ужасный охотник, он тоже не видывал такого рода красот, однако ж в восторгах седовласого старца слышалось что-то слишком наивное, детское, не все красоты стихотворческого витийства, умилявшие чуть не до слёз изруганного противниками ревностного вождя староверов; восхищали его, и на этот риторический, но всё же весьма неосторожный запрос он было хотел лукаво ответить стихами ещё молодого, но уже снискавшего славу поэта, которого сам Державин благословил занять своё, так недавно опустевшее место:
Навис покров угрюмой нощи На своде дремлющих небес; В безмолвной тиши не почили дол и рощи, В седом тумане дальний лес; Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, И тихая луна, как лебедь величавый, Плывёт в сребристых облаках, —[71]чуть вновь не вскрикнув от этого уснувшего в листах ветерка, да Шишков, разгорячаясь всё более, с пунцовым румянцем на бледных щеках, уже с росинками слёз, срывавшимся от волнения голосом продолжал, и было неловко разрушать его вдохновение, пусть умиляется, на то и старик, не спорить же с ним:
— А вот попадается слово, которого значение не поймут, в стихе, например:
Богатств дражайшие дары, —и станут смеяться: «Дражайший дар», как уморительно смешно!» А ничего смешного тут нет. Дражайший означает драгоценнейший, это превосходная степень, а потому этот стих означает дары, которые драгоценнее богатств. Наперёд знаю, что наши безграмотные журналисты подымут на смех и эти следующие превосходные стихи, красоты выражения которых все почерпнуты из Священного Писания:
И к смерти прилагают смерть.или:
От скал сложенные громады.Пожалуй, иной литератор подумает, что «от» поставлено ошибкой вместо «из», однако же это совершенно не так. А вот:
Пасутся соностию трав, —и несчётное множество тому подобных превосходных выражений. И немудрено, они не смыслят корня русского языка! А далее:
Утеха взору и гортани, Висят червлёные плоды.Как хороши эти два чудных стиха! Это прелесть, а пожалуй, и не поймут здесь слово «червлёные» и подумают, что это «червивые». А вот Шихматов говорит, что весенние ветерки:
На воздух рассыпают сладость, Окрав душистые шипки, —и это превосходно, но большая часть читателей и не поймут слов «окрав» и «шипки», а между тем, какое живописное изображение, что ветерки, пролетая по цветам, похищают, скрадывают их душистые, распускающиеся шипки, то есть цветочные распуколки, и таким образом наполняют сладостным благовонием воздух. Ну-тка, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:
Туда, по воле человека, Корнисты севера сыны, Надменны долготою века, Стеклись с кремнистой вышины, И там искусством искривлении, Да с бурями воюют вновь...Последний стих до того многозначителен, что я равного ему не знаю. Я так же ничего не знаю лучше, во всех мне известных литературах, следующего описания спуска корабля:
При звуках радостных громовых На брань от пристани спеша, Вступает в царство волн суровых, Дуб — тело, ветр — его душа, Хребет его — в утробе бездны, Высоки щоглы — в небесах, Летит на лёгких парусах, Отвергнув вёсла бесполезны, Как жилы напрягает снасть, Вмешает силу с быстротою, И горд своею красотою, Над морем воспреемлет власть.Тут есть такие три стиха, четвёртый, пятый и шестой, которым должны позавидовать и древние и тем более новейшие стихотворцы.
Шишков с изумлением переводил свой восторженный взор с одного на другого, опустивши книгу себе на колени, словно от тяжести её несметных богатств, и стало видать, что между печатными листами вплетены листы белые, чистые, испещрённые множеством ровно выведенных аккуратных пометок, нота-бенов и восклицательных знаков, и невольным уважением проникалась душа его к этим смешным иногда, иногда бесполезным, однако ж таким упорным и вдохновенным трудам, каких слишком мало встречалось среди праздногулящей пишущей братии, и ему уже не хотелось ничего возражать, хотя многое бы нашлось возразить, лишь дурак, в особенности наделённый умом, повсюду спешит выставить вперёд свою правоту, Бог с ним, а Шишков, украдкой смахнувши пролившуюся слезу, вновь уже вперил свой огненный взор в раскрытую книгу, но тут дверь позади них отворилась и резкий женский голос строго сказал:
— Александр Семёныч! Давно тебе пора в Государственный совет! Там тебя нынче ждут. Ты обещал быть в двенадцать часов, а теперь половина второго.
Шишков вдруг втянул виноватую голову в острые плечи и просительным голосом отвечал:
— Сейчас, сейчас! Вот только прочту...
Неумолимый голос возразил ещё строже:
— Этому чтению не будет конца, я уж знаю тебя. Фёдор! Подавай одеваться Александру Семёнычу!
И Фёдор, в пудреном парике и в чулках, тотчас вступил в кабинет, тотчас утративший всю свою прелесть, держа, растопыривши руки, шитый мундир со звездой, дружелюбно шамкая старческим ртом:
— Извольте, сударь, одеваться.
Поспешно сунувши книгу на стол, Шишков прытко поднялся, распуская пояс шлафрока, искательно говоря:
— Вы у нас отобедаете. Я скоро уже ворочусь. Мне так хочется показать вам в этой поэме одно славное место и изъяснить, откуда Шихматов заимствовал эти красоты. Теперь же ступайте к жене.
Однако Шаховской на эту программу весело поклонился, блеснул лукаво глазами и почтительно возразил:
— Много благодарен за молодого человека, которого вы обласкали, и за себя также, поверьте, мы счастливы были бы слушать хотя до утра, однако ж необходимость принуждается откланяться, тоже, знаете ли, дела, репетиция и так далее, так что дозвольте дослушать как-нибудь в другой раз.
Шишков просительно поглядел, но, увидя, что Шаховской решительно направляется к двери, засуетился, отмахнулся от приступившего Фёдора, засеменил следом, растерянно бормоча:
— Позвольте, позвольте, я вас проведу!
Из вежливости пропустил он Шишкова вперёд, унося от него это неподдельное благоговение перед каждым удачным стихом, какого ни в ком почти нынче не встретишь, прозаический век, размышляя о том, как подчас над смертными шутит судьба, в избытке наделяя таким редкостным свойством людей несколько ограниченных и не от мира сего, так что от этого дара даже смешных, вопрошая себя, неужто и ему положить свою жизнь на такое вот благородное, однако ж пустое занятие, и едва не натолкнулся на узкую спину в просторном зелёном шлафроке, вдруг возникшую перед ним.
Он опешил и с удивлением расширил глаза.
Шишков стоял перед клеткой, в которой сидел, важно склонив жёлтую голову набок, зелёный попугай-какаду, и нежным, растроганным, неузнаваемым голосом негромко просил, вытягивая губы точно для поцелуя, легко постукивая согнутыми пальцами по изогнутым прутьям:
— Попинька, любезный друг, дурачок, скажи «добрый день», ну. Попинька, дурачок, сделай одолжение, ваше степенство, скажи сердечному дружу твоему «добрый день».
Попугай косил глазом и, казалось, нарочно, с насмешкой молчал, а Шишков ещё нежнее, растроганней принялся говорить тем задушевным изломанным говором, каким старый дед рассуждает с малым внучонком, всем известные с детства стишки:
Хоть весною И тепленько, А зимою Холодненько, Но и в стуже Нам не хуже.Скажи, Попинька, «добрый день».
Он с нетерпением ждал, когда они двинутся далее, поражённый этой задушевной беседой с избалованной птицей, такой нелепой и милой, ждал минуты две или три, пока Шаховской, уже в шубе, воротившись назад, молча взял его под руку и вывел в сени, громко сказав уже там:
— Оставим его, Александр Семёныч теперь обо всём позабыл, одна Дарья Алексевна в состоянии растормошить его да отправить служить.
И он, мрачно нахмурясь, натягивая тяжёлую шубу, снова допрашивал, на что же дана ему жизнь, куда поворотить ему свои силы, которые он в себе ощущал?
Таким-то вот образом любопытство его было занято почти постоянно, однако ж никакого ответа на вопросы не находилось, и ум его большей частью дремал.
Настало тревожное, смутное время. Всем представлялось, что после кровопролитной войны русская жизнь неузнаваемо и неминуемо переменится, и многие с беспокойством ожидали чего-то, одни, которых оказывалось больше всего, страшась от перемен потерять, что имели, другие, числом единицы, вдохновенно мечтая о благе Отечества, готовые ради этого чистого блага всё потерять, впрочем, почти ничего не имея. Политика вдруг явилась у всех на устах. О видах правительства спорили жарко на вечеринках, на балах, в театре. Стоило задуматься во время антракта, стоя где-нибудь от всех в стороне, скрестивши праздные руки, тут как тут, читая, должно быть, в этой свободной, непредуказанной позе верную печать величайших раздумий, выдвигался из толпы молодой офицер и непременно с жаром в глазах, словно без жару было нельзя, быстро и вполголоса вопрошал:
— Мыслящему человеку нельзя не приметить, что нынче в России, несмотря на военную славу, приобретённую счастливым исходом последних кампаний, внутренняя организация, администрация, общественное и нравственное положение, правительственные формы и малое развитие в отношении умственного образования бросаются явно в глаза и невольно внушают желание изменить или, по крайности, исправить этот устарелый порядок вещей. Вы об этом какого будете мнения?
Он был того мнения, что изменить устарелый порядок вещей, разумеется, очень желательно, и вопросы сыпались на него один за другим, точно горный обвал, Шишков бы сказал. В каких именно коренных социальных реформах нуждалась Россия? Каким образом осуществятся они? Какие именно силы, правительство или общество эти реформы возьмёт на себя провести? Какие формы правления следует признать наилучшими? Достойно ли просвещённому человеку присваивать себе труд человека же?
Он поразился, что литература тут решительно ничего сказать не могла, ни путного, ни даже беспутного. Литература просто-напросто не обращалась к щемящей русской действительности, воспаряя большею частию в туманные и отвлечённые выси, происхождения германского или британского. Державинский панегирический тон, воинственный азарт и патриотическое самохвальство Шишкова не совсем как-то приходились ко времени, когда обнажилось, что порядок вещей устарел, а другого не предвидится чуть на целые веки. Громкогласные староверы защищали самый корень русского слова, чувствительные карамзинисты проповедовали современный, лёгкий, очищенный, европейски приглаженный стиль, но без основания предпочитая его неуклюжим, хоть и звучным прадедовским славянизмам, одни воспевали дерзновенные деяния предков, другие взывали к прелести лесов и полей, проливали крокодиловы слёзы в элегических вздохах и воскрешали в балладах замки, рыцарей, привидения, которые не завелись на Руси, и могло показаться, что между сими враждебными лагерями зияла отверстая пропасть и во взглядах на русскую жизнь, однако это заблуждение было свойственно лишь самим волонтёрам новаторства и архаизма, а со стороны различалось отлично, что все их понятия, все их взгляды именно на русскую жизнь были похожи как две капли воды, обе армии пели горячее чувство к Отчизне, одинаково не любили нововведений, обожали седую патриархальность да восставали на иноземных наставников, которым поручалось воспитание горемычного русского юношества, как-то так закружилось в тех и других головах, что не принимай мы этих бессовестных искателей хорошего жалованья, всё бы сладилось куда как прекрасно, и тотчас самое возмутительное невежество переменилось бы самым глубоким и истинным просвещением, а следом за ним воротились бы в неприкосновенности дивной, чудесной исконные русские добродетели, точно наставники русские, исполненные самых возвышенных нравов, повсюду бродили нестройными толпами и алкали общеполезного дела на благо любимой Отчизны, не прося, разумеется, жалованья, да какой-то злодей приняться за благое дело им преступно и с умыслом не дозволял. А кто же, если раздуматься, повинен был в том, что завлекали в дома кухмистеров да куафёров? Да у нас, если правду сказать, до сей поры все вольнодумцы да якобинцы, кто находит удовольствие печатное слово читать. И в самом доле, из каких же коврижек натружаться читать, когда по службе продвигает до сего времени не отличное знание дела, а родство, вернейшие связи да слепая покорность властям?
Как отыскать тут пищу уму?
Он повстречал своих прежних товарищей, решившись с ними поближе сойтись, тогда как прежде многих из них сторонился. По многим причинам сближение оказалось совсем не легко. В течение трёх грозных лет великие события неслись перед ними, самым немыслимым образом переменяя судьбы народов и целой Европы, однако же как по-разному довелось им эти события пережить!
Былые товарищи опалены были пороховым дымом Смоленска, Бородина, Тарутина, Красного, Березины, участники кровавых европейских походов, бойцы Байцена и Лейпцига, похитители свободы Парижа — он служил по кавалерийским резервам. Былые товарищи стояли под ядрами, теряя половину состава полка, ходили грудью в штыки, повергая в ужас неробкого неприятеля, наскакивали на пушки, бившие картечью в упор, не давая опомниться вражеским канонирам, — он заготавливал сено, овёс, наблюдал нашего кроткого земледельца, насильно отторгнутого от своей деревянной сохи и непритязательных мирных сельских забот, который, глядишь, спустя месяц, много полтора или два, позабывал свою мирскую сермяжную жизнь, приучался повиноваться непреклонному гласу воинского устава и вдруг превращался в стойкого и умелого кавалериста, из которых составилась наша многочисленная и отборная конница, отличная, отличавшаяся везде, он дивился многим талантам смекалистого народа, впервые представшего перед ним в самой непритязательной, в самой будничной обстановке переменчивых бивуаков, и размышлял, какие великие деяния совершил бы этот невероятно одарённый народ, будь предоставлен он своей воле и собственному своему разумению. Они одерживали блистательные победы — он познавал, как неприметно и неприглядно, в мелких настойчивых повседневных трудах готовится и куётся победа. Отворотившись с презрением от пустой томительной жизни петербургского праздного общества, наскучив пошлой болтовнёй стариков, они вспоминали о дерзких атаках и жарких делах — он мог бы им рассказать о дрязгах с ремонтом, который прибывал наполовину больной, летучих лазаретах для лошадей, о выделке конского набора для скорейшей обмундировки нижних чинов, о заботах продовольствования в опустошённых местах, о ежедневных головоломных экономических расчётах, каким образом дело поправить и уберечь, легкомысленно не пуская на ветер государственную копейку, которая, по пословице, бережёт миллион.
Разность военных воспоминаний затруднила сближение. Разность взглядов на быстротекущую жизнь почти исключила его. Они вступили в военную службу шестнадцати, семнадцати, восемнадцати лет, не успевши докончить университетского курса, не докончив даже своего воспитания, и лишь нынче, убегая от карт и вина, обыкновенных забав офицера, садились за книги и приватно слушали лекции Галича[72] и Куницына да у Карла Германа политические науки, профессора Педагогического института, в квартире его, на Васильевском острову, без чего, разумеется, не бывать возможности сделаться полезным, ни себе, ни обществу, ни Отчизне, тотчас набрасывая друг на друга при встрече с сакраментальным запросом: «Вы меркантилист или физиократ?» — он прослушал, усидчиво и с упорством, лекции трёх факультетов, в аудиториях и приватно, и вступил в армию как раз перед тем, как держать испытательные экзамены на звание доктора, так что мог бы читать им и за Галича, и за Куницына, и за Германа, да хотя бы и за иного кого. Они в книгах, новых для них, отыскивали те непогрешительные, безупречные правила, по которым следует жить им самим и целому обществу, чтобы, руководствуясь ими, добиться свободы и совершенства во всех отношениях между людьми, — его смешила рассудочность, книжность и книжники, он давно уже знал что, действуя вопреки самым разумным, но отвлечённым приказам, поступая так, как не предусмотрено никакими учебниками, можно принести большую пользу Отечеству, чем добросовестно следуя им, когда в Муроме, например, делались заготовления провианта и фуража на двенадцать тысяч кавалеристов и девяносто тысяч строевых лошадей, а генерал Кологривов расчёл, что таковое число людей и лошадей не могло прийти в одно время, тем более в одном месте иметь содержание, и вовремя запретил заготовки, что казне сберегло до полумиллиона рублей.
Он был общителен и знал очень многих, однако же среди самых близких приятелей, дорогих его сердцу, оказалось мало боевых офицеров. Он бывал в казармах Семёновского полка[73], у Ивана Якушкина, подпоручика, двадцати с чем-то лет, и у князя Ивана Щербатова, тоже лет двадцати, с которыми был знаком ещё по Москве. Оба, совместно с такими же молодыми поручиками, соединились в артель, каких в русской армии ещё не бывало, чтобы обедать всякий день вместе. На эти приятельские обеды сходились не одни только вкладчики, но все, кто желал. Чаще прочих являлся Сергей Муравьёв-Апостол, девятнадцати лет, поручик семёновский, Матвей, его старший брат, семёновский прапорщик, Александр Муравьёв, двадцати трёх лет, подполковник Генерального штаба. Никита Муравьёв, двадцати лет, прапорщик, тоже Генерального штаба, Сергей Трубецкой, двадцати пяти лет, поручик Главного штаба, Пестель, двадцати трёх лет, кавалергардский поручик, и ещё кое-кто из мало знакомых ему. После обеда садились за шахматы, читали известия иноземных газет, большей частью французских, с необыкновенным пристрастием прослеживая перипетии европейской политики, спорили, толковали обыкновенно об том, что государь ненавидит всё русское, возмущались, разузнавши об том, что тот однажды сказал, что каждый русский или дурак, или плут, и разбирали главнейшие язвы любимого пылко Отечества.
Об этих язвах он беседовал когда-то со Штейном[74], который действовал в Пруссии и отчасти успел в искоренении зол наиболее вопиющих, и теперь хотел знать, что же они предлагали со своей стороны.
Якушкин, решительный, сумрачный, невысокий, худой, с носом, повёрнутым несколько в сторону, исключавший из разговора всё личное, прохаживаясь беспокойно по комнате, говорил приглушённо и страстно:
— В тринадцатом году государь наш перестал быть царём русским и обратился в европейского императора. Подвигаясь вперёд с оружием и с призывом к свободе, он был прекрасен в Германии, но ещё прекраснее был, когда в четырнадцатом году взошли мы в Париж. Там союзники, словно алчные волки, готовы были броситься на павшую Францию, государь её спас, ей самой предоставив избрать род правления, какой она более удобным найдёт для себя, с одним только условием, что Наполеон и никто из семейства его не окажется правителем Франции. Когда же уверили государя, что французы желают Бурбонов, он поставил в непременную обязанность Людовику Восемнадцатому даровать своему народу права, которые обеспечили бы до некоторой степени его независимость, и Хартия дала возможность французам продолжать то, что они начали в восемьдесят девятом году. В то время республиканец Лагарп мог только радоваться действиями своего царственного питомца.
Солнце било прямо в тесные окна, распластавшись на полу горящими лужами. За стеной возился и ворчал себе под нос денщик, начищавший парадные сапоги.
Внимательно слушая тревожные размышления, в которых было так много доброго чувства и так мало понимания действительной европейской политики, изученной им до малейших подробностей, из одного интереса, без мысли, к чему применить, заложив ногу на ногу, с трубкой в руке, точно разглядывая неторопливый сизый дымок, он возражал:
— Пожалуй, довольно трудно решить, сколько действовал он согласно своим убеждениям, тогда действительно приобретённым от республиканца Лагарпа, сколько как трезвый политик, который должен был размышлять о будущем устройстве европейского мира. Можно ли было надеяться даже во время наших самых блестящих побед, что наши союзники, так часто нас предававшие, Англия и Австрия в первом ряду, в благодарность за наши победы, тотчас не обратятся в наших заклятых, хотя бы и тайных, врагов? На кого же при таком возмутительном положении дел можно бы было рассчитывать, чтобы из одной европейской войны не угодить назавтра в другую? На одних побеждённых, вот на кого, пусть мою мысль ты примешь за парадокс, а государь не мог же не понимать, что нынешние французы не любят Бурбонов, что не замедлило подтвердиться, как только решительный Бонапарт с Эльбы удрал и высадился с отрядом в бухте Жуан. Что же, подумай, могло примирить французский народ с ненавистной династией? Только Хартия и сохранение того порядка вещей, который им дала революция и которого Бурбоны, по глупости своей прирождённой, сохранить не хотели, за что и были наказаны новым, на этот раз препозорным, изгнанием.
Остановившись, заложивши за спину руки, Якушкин медлительно повёл головой:
— Однако права были даны, вот важно что, я надеюсь, отрицать ты не станешь?
Он соглашался, выдохнув дым:
— Этого я и не думаю отрицать, я лишь предполагаю, что тут случился либерализм менее по сочувствию к либерализму, чем поневоле, как в делах государственных обыкновенно приступает нужда.
Прислонившись к стене, почти невидимый слева, справа залитый солнцем, сделавшись от этого почти невесомым и плоским, прищуриваясь, задумчиво глядя перед собой, с глубокой складкой между бровями, Якушкин сквозь зубы бросал:
— Может быть, только в пятнадцатом году мы его не узнали. По возвращении просил он месяц отдыха у министров, а после отдыха почти все дела управления передал дураку Аракчееву.
Он вставлял, недоумевая над тайнами человеческих судеб:
— Который начал с того, что предложил сократить срок службы солдатам до восьми лет.
Якушкин точно не слушал его, продолжая:
— Душа его в Европе была, в России он заботился только об увеличении войска...
— Что неизбежно в предвидении новой войны.
— Бывает всякий день у развода.
— Его присутствие полезно войскам.
— Во всех полках развелись учения да учения.
— Что же полки без учений?
— Шагистика входит в прежнюю силу.
— Без шагистики что за развод!
Странная завелась у этих юношей манера слушать только себя одного, и он, иронически улыбаясь, следил, как Якушкин сжимался пружиной и вновь с беспокойством вышагивал перед ним:
— Его поступки слишком непонятны и странны. В Европе он покровитель, почти корифей либералов, в России бессмысленный деспот. Разводы, парады, военные смотры почти его единственные занятия. Его одни военные поселенья заботят да устройство больших по всей России дорог, на которые он не жалеет ни денег, ни пота подданных и по которым ездить нельзя, так умеют их строить.
Помня мытарства кавалерийских резервов, он возражал:
— Без хороших дорог невозможна скорая переброска войска к границам, между тем неспокойно кругом.
Якушкин резко бросал:
— Нынче нам с кем воевать?
Он осторожно предполагал, забывая о трубке:
— Война возможна в Европе, война, как ты знаешь, всё ещё не завершена на Востоке, где дикие племена против нас подстрекают персияне и турки, а через них англичане, чего не видеть нельзя. Для усмирения турок, силящихся взорвать у нас тыл, возможно движение из Грузии и на Балканах. В таком случае понадобится передвинуть два, если не три десятка дивизий близ к Австрии, замышляющей ударить нам в спину, чтобы сохранить своё влияние среди балканских народов, национально и религиозно чуждое им.
Якушкин остановился, склонил голову, взволнованно размышлял:
— Европа истощена, в Европе нынче война невозможна, а на Востоке что за война, об чеченцах да кабардинцах и не помнит никто, две-три сотни разбойников, не больше того. Нынче главное то, что вопросы, давно порешённые людьми просвещёнными, у нас явились новостью для людей, которые почитают себя просвещёнными, то есть изъясняются по-французски и немного знакомы с французской словесностью. Многие офицеры, не только в армии, в гвардии даже, не представляют себе, что из русского человека выправить годного солдата возможно, не изломав на спине его двух возов берёзовых палок. Многие землевладельцы смотрят на крестьян своих как на собственность, вполне принадлежащую им, и уничтожение её почитают потрясением самых основ государства. Их послушать, так Россия держится одним благородным сословием и потому искоренение рабства, заодно уничтожив и это сословие, приведёт её в состояние самое жалкое. Приступить к образованию народа, хотя бы начальному, почитают они самым пагубным делом. Свобода мнений в глазах их погубительна. Однако молодёжь нынче высказывает слово истины смело, а так называемое высшее общество состоит из староверцев, для которых коснуться какого-либо вопроса, нас занимающего, представляется государственным преступлением.
Вскидывал голову и жёстко, уверенно говорил:
— Мы должны противодействовать злу, которое тяготеет теперь над Россией.
Он спрашивал со своей всегдашней усмешкой:
— Что же вы станете им возражать?
Неприязненно взглядывая на эту усмешку, отходя прочь от него, ступая по солнечным пятнам, Якушкин с ожесточением сообщал:
— Мы скажем, что рабство есть дерзость, что солдат тоже есть человек, что грабительство из казны и мздоимство есть преступление непреложных законов морали, что неуважение к человеку вообще есть нарушение права естественного, согласно которому все люди равны.
Он улыбался:
— Полно, староверцы просто не станут вас слушать.
Круто оборотившись, с возмущённым, сжатым лицом, Якушкин язвительно возражал:
— Для противодействия злу, которое тяготеет над нами, необходимо прежде всего действовать на мнение молодёжи, которая, имея столько избытка жизненных сил, при обстановке жизни самой ничтожной, увидя перед собой прямую и высшую цель, вся будет с нами, по крайней мере, самые порядочные из них, эти уже непременно!
— И что же тогда?
— Мы потребуем введения у нас конституции!
— А если откажут?
— Его наследнику ни в коем случае не присягать, не ограничив его самовластья.
Его одолевали сомнения:
— Едва ли такое требование будет успешно, ведь конституции добывают сами народы, а наш народ и думать не думает о конституции, ему не понятной.
Якушкин сжимался всем телом, становился менее ростом, походя на пружину, с острой болью в глазах качал головой:
— Да, народ наш, к несчастию, в невежестве и в рабстве до того закоснел, что может породить новую пугачёвщину, однако с помощью пугачёвщины конституции не добудешь. С пугачёвщиной неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить не может себе, государство сделается жертвой раздоров и может сделаться лёгкой добычей для честолюбцев, каким только что, на беду Франции, был Бонапарт, наконец государство вовсе может развалиться на части и из одного сильного обратиться во множество слабых, вся сила и слава России может погибнуть если не навсегда, то на многие веки.
Он угадывал, что и тут всё ещё не готово, никакого не открылось пути, и уходил, одиноко размышляя над тем, куда же прислониться ему и что же делать с жизнью своей.
Тем временем государь, прознав про неуставные обеды своих офицеров, приказал известить командира полка, что такого рода обеды ему не угодны, и взбешённый Якушкин, к тому же страшно скучая однообразной шагистикой, на которую, как уверял, почти нынче служба свелась, увлечённый слухами о близкой турецкой кампании, выхлопотал себе перевод в армейский егерский полк и перед отъездом открыл, что решился по дороге заехать в имение и объявить своим крестьянам свободу.
Он спросил, восхищенный этой решимостью бедного человека потерять свой доход:
— На каких же условиях?
Якушкин ответил серьёзно, как о деле продуманном и решённом давно:
— Я стану действовать согласно указу о вольных хлебопашцах[75], который обнародован тому одиннадцать лет и которому, к стыду аристократии и дворянства, почти никто не последовал. Свобода ничего моим крестьянам стоить не будет. Я предоставляю им в совершенное и полное владение их дома, скот, лошадей и всё их имущество, усадьбы и выгоны остаются принадлежностью деревень, за них я также не потребую никакого возмездия. Одну землю оставляю я за собой, предполагая половину обрабатывать по вольному найму, а вторую предоставлю нанимать моим крестьянам по льготной цене.
Он поколебался, но всё же сказал:
— Из твоей затеи едва ли что путное выйдет.
Якушкин вскинул голову, пристально поглядел, неприязненно, жёстко спросил:
— Это, прости, отчего?
Он поморщился, однако ж ответил по возможности мягко, усиливаясь пощадить его самолюбие:
— Для какой надобности крестьянам свобода, коли останутся они без земли?
Якушкин прошёлся по комнате, уже обнажённой, верный хронометр отъезда:
— Что ж, я спрошу их самих, подорожат ли они свободой личности на этих условиях.
— Какая им выгода?
— Первейшая выгода — это свобода!
— Что говорить, свобода славная вещь, я сам без свободы дышать не могу, оттого нигде не служу, да много ли проку в свободе, когда свобода хозяйственных действований по-прежнему будет затруднена?
Якушкин отрезал:
— Посмотрим!
С тем и уехал, и расстались они куда холодней, чем поначалу встретились вновь.
Никита Муравьёв, с которым он тоже одно время учился в Москве, порабощённый мыслью предоставить своим унылым согражданам высокий и благородный пример, удобно устроившись в кресле, с мягкой улыбкой, развивал перед ним свои литературные планы, видимо высоко оценив его театральный успех:
— Можно сказать утвердительно, что муза истории дремлет в России. Давно уже не слыхали мы голоса, вдохновлённого ею. В свет выходят романы, путешествия, книги для детей, дамские журналы с недавнего времени, а по важнейшей части словесности мы ни одной книги не видим, которая какое-нибудь имеет достоинство. Правда, частенько являются творения под пышными заголовками, вроде того, как «Увенчанные победы», «Изображение высокого духа и мудрости», «Жизнь и военные подвиги», ну там и прочее, наподобие каких-нибудь восточных повестей о неимоверных подвигах и доблести калифа Дамаскинского или Багдадского. Эти биографии наполняются реляциями из газет, острыми словцами, невероятными анекдотами, почерпнутыми безо всякого разбору и приличия из современных журналов. Затем следует несколько смертельных страниц восклицаний: «Вот герой! Вот истинный сын Отечества! Вот полководец!» Не такие образцы нам оставили древние, не одними восклицаниями наполнены бессмертные творения Фукидида, Саллюстия, Тацита и Плутарха. Но сии мужи писали для славы и бессмертия, теперь же, по большей части, пишут из денег. У нас всякий воображает, что может, как только захочет, сделаться бытописателем, не зная того, что и к истории, как к эпической поэме, можно с успехом приноровить изречение Буало: «Поэму чудную, где всё идёт чредою, не создаёт каприз минутною игрою: старанье, время тут нужны, и труд такой не пишет ученик неопытной рукою».
Выслушивая с должным вниманием, он умолчал, что давно уж лелеет мечту о трагедии из русской истории, что сюжетов замечательных наприметил не один и не два, но именно, именно, был ещё ученик, рука была неопытна и слаба и трагедия была далеко, далеко, об чём же было сказать?
Никита тепло улыбался, поблескивал глазами, продолжал увлечённо и длинно, как влюблённые говорят о любви:
— Вся древняя история вообще имеет перед новейшей то преимущество, что она большей частью писана людьми, которые первые в правлении занимали места, а не одними только литераторами. По этой причине она отличается особенной важностью, глубокомыслием, полнотой и строгим приличием, тогда как наши смелые и неутомимые историки, не ведая обязанностей звания, ими на себя принятого, пишут одни только похвальные слова, не сознавая того, что истинно высокие дела, как справедливо сказал один из новейших немецких писателей, требуют только простого и ясного изложения.
Именно так, он с Никитой был совершенно согласен, вовсе не желая быть одним литератором, как литература издавна ни приманивала его, однако ж какие могут быть для него в правленье места, какие истинно высокие дела его ожидают?
А Никита, ощущая, должно быть, особенное вниманье его, увлекался, точно его соблазнял:
— Представьте нам тогдашнее положение дел, затем опишите происшествия так, как случились они, и великий муж, великий полководец нашим взорам предстанут во всём своём истинном блеске, ему не нужны восклицания безызвестных панегиристов. Весьма естественно по этой причине, что таковые писатели не удовлетворяют нашему любопытству и читателей образованных мало находят. Сей недостаток хороших исторических книг особливо чувствителен для военных, которые беспрестанно поучаются в истории браней. Россия имела Румянцева, Суворова, Каменского[76], Кутузова, однако их дела надлежащим образом никем не описаны, точно они народов других достоянье. Юный воин, лишённый пособий отечественных, должен пользоваться примером народов иных, как будто бы мы были скудны своими. Эти размышления, горестные для патриотов, привели меня к мысли о том, что нет ещё до сих пор истории русской Суворова, первого из наших вождей. А между тем должно распространять в Отечестве нашем круг размышлений, вперяя в умы, что нелепо ограничивать предметы и образы оных. Ньютон, Коперник, Галилей — словом, все великие мужи, какой бы ни занимались отраслью наук, сидели бы в остроге и долженствовали бы отвечать перед полицией, которая бы весьма легко опровергнула все лжемудрствования и лжеучения. Нет, нам должно поощрять отвлечённые и умозрительные науки, которые требуют и влекут за собой свободу рассуждения и некоторую благородную и необходимую независимость мысли, основу добродетели, ибо они отвлекают от низких помышлений эгоизма. Но разве я свободен, если законы налагают на меня притеснения? Разве я могу считать себя свободным, если всё, что я делаю, согласовано с разрешением властей, а другие пользуются преимуществами, в которых отказано мне, если без моего согласия могут распоряжаться моей независимой личностью? И потому я вижу необходимость поднять Россию на высочайшую степень благосостояния и благоденствия посредством учреждений равно благотворительных для всех состояний людей, которые находятся в ней, а также твёрдого устройства судебной части в нижних инстанциях и гласности во всех действиях правительства. С этой целью положил я усовершенствовать себя в военной истории, фортификации, а наиболее в стратегии, коими занимаюсь без руководства.
Поощрённые такими речами молодого хозяина, счастливого вдохновением замыслов, юные гости приходили в восторг, горячо произносили друг перед другом изречения Монтескье[77] и Руссо о высшем благе Отечества и обязанностях истинных граждан, с жаркой ненавистью проклинали тиранов, убеждали друг друга в святости вечной борьбы против них, спорили о достоинствах республики и конституционной монархии, громко декламировали стихи о свободе и дружно, со строгими лицами пели свой гимн:
Отечество наше страдает Под игом твоим, о злодей! Коль нас деспотизм угнетает, То свергнем их трон и царей! Свобода! Свобода! Ты царствуй над нами! Ах, лучше смерть, чем жить рабами, — Вот клятва каждого из нас...Слова этого новейшего гимна принадлежали Павлу Катенину. Он и не помнил, когда они подружились, должно быть, тотчас, как он впопыхах примчался из Бреста. Каким способом намеревался Катенин повергнуть трон и царей, оставалось довольно туманным. С Катениным он более трактовал о театре. Не находилось такого поэта, такого прозаика и драматурга, которого бы Катенин не знал, театр же был его исключительной страстью. Вершиной искусства величал Катенин по праву трагедию, беспрестанно трудился над переводом Расина или Корнеля и над излюбленной своей «Андромахой» и ратовал жарко, совместно с Шишковым, за несметные богатства старинного русского языка, своим упорством и неисчислимыми знаниями всюду рождая себе заклятых противников, даже врагов. Когда его вопрошали с насмешкой, в какой именно книге находит он истинный русский язык, Катенин без промедленья язвительно отвечал, что такой язык ни в какой книге найти невозможно, и разражался разгневанной речью, принимая позу оратора, заимствованную им у Тальма[78]:
— Народные песни изменялись, по всей вероятности, беспрестанно. «Слово о полку Игоря» написано белорусским наречием. Летописи почти все начертаны варварским языком. Феофан имел порывы красноречия, Кантемир ум образованный[79], но их язык дурен. Ломоносов первый его очистил и сделал почти таким, каков он и теперь. Чем он достиг своей цели? Приближением к языку славянскому и церковному. Должны ли мы сбиваться с пути, так счастливо проложенного им?
Оглядывал слушателей пронзительным взглядом и возвышал голос так, чтобы овладеть их вниманием без остатка:
— Не лучше ли следовать по нему и новыми усилиями присваивать себе новые богатства, сокрытые в нашем коронном языке? Если это язык, как утверждают, не наш, а чужой, то почему он нам так понятен? Почему Библию легче разуметь всякому, чем какую-нибудь летопись?
Выпрямлялся с независимым видом, выставлял ногу вперёд, как в декламациях делал Тальма, и подпускал в грозный голос насмешки:
— Знаю все издевательства новой школы над славянофилами, варяго-россами и прочим, но охотно спрошу у самих издевателей: каким же языком нам писать эпопею, трагедию или даже важную, благородную прозу? Лёгкий слог, как говорят, хорош без славянских слов. Пусть так, но в лёгком слоге не вся словесность заключена. Он даже не может занять в ней первого места. В нём не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка. Исключительное предпочтение всего лёгкого довело до того, что, хотя число стихотворцев умножилось, число творений уменьшилось. Перечтите их собственный список, вы увидите, что в последнее время одни трагедии Озерова не мелкие стихотворения. Конечно, есть люди с дарованиями и способностями, но отчего же они не пользуются ими и не трудятся над предметами, которые были бы достойны внимания? Не оттого ли, что почти все критики, а за ними и большая часть публики расточают им вредную похвалу за красивые безделки и тем отводят их от занятий продолжительных и прочных?
Преображался, скрещивал руки, уподобляя себя полководцу, который уже видел победу, пустивши в дело последний резерв:
— Сравните наших старых писателей с нынешними. Оставя в стороне дар природы, найдёте в первых истинную любовь к искусству, степенное в нём упражнение, трудолюбие и душевное старание об успехах языка и поэзии. Они боролись с большими трудностями. Каждый в своём роде должен был созидать язык, и заметьте, что, которые держались более старого, те менее всех устарели. Самые неудачи их могут служить в пользу последователям, да последователей нет, вот где беда. Много пишут, а написано мало. Хвалят автора, но его творение боятся назвать.
Разгорячённый донельзя, сверкая злобно глазами, жаждущий испепелить в уголь каждого, кто осмелится хотя бы жестом и взглядом противоречить ему, Катенин, при своём малом росте возвышаясь у полок, закрывавших доверху стены его кабинета в Преображенских казармах, выхватывал книгу за книгой, раскрывал тотчас на месте, необходимом для доказательства по ходу его рассуждений, и принимался тут же читать, слегка растягивая слова, как это делывал великий Тальма, искусство которого Катенин изучал дотошно в Париже, бывая на всех его представлениях, пока гвардию не воротили в Россию, однако ж читал то упиваясь чудной музыкой возвышенных славянизмов, то кривясь от пресной лёгкости нынешних легкомысленных стихотворцев, в беспечности рождавших куплет.
У Жуковского строгий Катенин не обнаруживал ничего ни большого, ни истинно русского, ни своего. В особенности неудовольствие гневливого критика вызывала «Людмила», переделанная Жуковским из Бюргера. В пику этой балладе Катенин нарочно сделал свой перевод, чтобы воочию всем показать истинные достоинства подлинника и на первом месте немеркнущие богатства старинного русского слога. Скандал вокруг его «Ольги» стоил скандала вокруг «Липецких вод». Весёлые арзамасцы были возмущены не на шутку. Претензия хотя бы в чём-то состязаться с неповторимым Жуковским им представлялась кощунственной, чуть не преступной. Мрачный Гнедич пространно доказывал, что все, кто нынче сочиняет баллады, лишь неумело подражают Жуковскому, что народную немецкую балладу можно сделать для русских приятной лишь переложением, а не прямым переводом, обзывая сделанный Катениным перевод непоэтичным и оскорбительным для рассудка и вкуса, и нападал на Катенина с самыми мелкими и необоснованными придирками.
Он тотчас выступил на защиту Катенина, поместив в том же «Сыне отечества» большую статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора», предпослав эпиграф латинский: «Несправедливость противной стороны вызывает справедливую войну». Он писал вызывающе, страстно, независимым тоном, часто прибегая к холодной иронии, рассуждая о том, что ему нестерпима всякая поэтическая кудрявость, в особенности слезливость, и что в поэзии достоинство главнейшее — натура и простота. Он обрушивался на Гнедича, из какой-то причины скрывшего своё всем известное имя за подписью «Житель Тентелевой деревни»:
«Г-ну рецензенту не понравилась «Ольга»: это ещё не беда, но он находит в ней беспрестанные ошибки против грамматики и логики, — это очень важно, если только справедливо; сомневаюсь, подлинно ли оно так; дерзость меня увлекает ещё далее: посмотрю, каков логик и грамотей сам сочинитель рецензии!..»
И посмотрел со своим логически беспощадным умом:
«Г. Жуковский, говорит он, пишет баллады, другие тоже, следовательно, эти другие или подражатели его, или завистники. Вот образчик логики г. рецензента. Может быть, иные не одобрят оскорбительной личности его заключения, но в литературном быту то ли делается? Г. рецензент читает новое стихотворение, оно не так написано, как бы ему хотелось, за то он бранит автора, как ему хочется, называет его завистником и это печатает в журнале и не подписывает своего имени. Всё это очень обыкновенно и уже никого не удивляет».
Затем приступает к грамматике:
«Грамматика у г. рецензента своя, новая и сродни его логике: она, например, никак не допускает, чтоб
Рать под звон колоколов Шла почить от всех трудов.Вступать в город под звон колоколов, плясать под музыку. Так говорится и пишется и утверждено постоянным употреблением, но г. рецензенту это не нравится: стало быть, грамматически неправильно...»
Он доказывал, что строгий Катенин верно передал красоты немецкого подлинника и что в катенинских звучных стихах вполне торжествует дух старинного русского слога, и заключал суждением о задачах истинной критики, до сих пор не исполненных:
«Чтоб не нагнать скуки на себя, ни на читателя, сбрасываю с себя маску привязчивого рецензента и в заключение скажу два слова о критике вообще. Если разбирать творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно или дурно, надо прежде всего искать в нём красот. Если их нет — не стоит того, чтобы писать критику, если же есть, то рассмотреть, какого они рода? много ли их или мало? Соображаясь с этим только, можно определить достоинство творения. Вот чего рецензент «Ольги» не знает и знать не хочет».
Его статейка тоже наделала шуму. Ему передавали, что разгневанный Батюшков советовал Гнедичу не отвечать и что будто прибавил при этом: «Надобно бы доказать, что Жуковский поэт, тогда все Грибоедовы исчезнут», и что Василий Львович Пушкин[80], старейший весельчак и простодушный стихотворец, в краткой приписке недоумевал: «Откуда взялся этот рыцарь Грибоедов?», а литературные друзья наперебой поздравляли его.
У него бы не оставалось сомнений, что он мог занять в российской, ещё не родившейся критике первое место, кабы не строгий логический ум: ни у Жуковского, ни у Дмитриева, ни у Гнедича, ни у Батюшкова, ни у Давыдова, ни у своего приятеля Шаховского, властелина комической сцены, не находил он довольно красот, чтобы стоило об них говорить и печатать.
Что ж было делать? Чем занять тоскующий ум?
Он снова встретился с Чаадаевым. Когда-то в Москве оба слыли великими книжниками. Под рукой серьёзного Чаадаева была редчайшая библиотека его деда Михаила Щербатова, в которой, как изумлялись досужие московские кумушки, как мужеского, так и женского пола, насчитывалось до пятнадцати тысяч томов, однако и этого изобильного кладезя им было мало. Едва выбравшись из детского возраста, самолюбивый, себя предназначивший на великое поприще, Чаадаев пустился собирать книги сам, сделался известен всем букинистам в Москве, вошёл в письменные сношения с известным Дидотом[81] в Париже и толковал беспрестанно с московскими знаменитостями об искусстве, религии и науках, большей частью исторических и философских. В чаадаевской библиотеке имелись редчайшие экземпляры на языках европейских и русском. Её большая часть состояла из трудов английских и французских философов, а также по истории, политике и богословию. Эти тома служили постоянными его собеседниками. На их широких полях набрасывал Чаадаев заметки для своих будущих, непременно прославленных сочинений и язвительные свои афоризмы, делал пометки, высказывал о прочитанном свои мнения, записывал планы и даты, заносил рецепты и адреса, покрывал всё пространство массой никому не понятных значков, помечавших места, особенно его поразившие, отчёркивал вертикальной чертой, ставил звёзды, чертил кресты или круги, видом своим походившие на омегу или скрипичный ключ. Порой, должно быть, бывало мало и этого арсенала. Тогда Чаадаев перечёркивал всю страницу модным карандашом или перегибал её пополам.
Они сблизились на лекциях эстетических, которые читал им приватно замечательно умный профессор Буле. Интересы их и мечтания оказались почти одинаковы, и они вели бесконечные разговоры, всё, что ни попадало им на язык, от философии старцев Платона и Аристотеля до новейшей европейской политики, подвергая бесстрашно придирчивому суду своему. Только после многих бесед, прогулок вдвоём и зажигательных споров чувствительный Чаадаев подпустил его к своим книгам. Для него, ненасытного в знании, почти не имевшего собственных книг, явилась истинным наслаждением подобная милость, знак приязни и дружества: с той поры приобрёл он возможность прочитывать самые лучшие, самые обстоятельные труды по любому предмету своей любознательности, то есть решительно обо всём.
После университета Чаадаев вступил, согласно семейной традиции, в Семёновский полк и с этим полком проделал кампании двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого годов, бывши в сражениях при Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Люцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге, перевёлся в Ахтырский гусарский полк, затем был перечислен в лейб-гвардию.
Лейб-гусары стояли в Царском Селе. Время от времени Чаадаев приезжал в Петербург и поселялся в номере, постоянно снятом у Демута, где приказал поставить превосходный трельяж с набором щипчиков, ножниц и пилок, а по бокам глядели с портретов на утренний его туалет гордый Байрон и сумрачный Бонапарт.
Обыкновенно заставал он старинного друга перед этим трельяжем: Чаадаев то старательно подпиливал и без того безупречные ногти, то взволнованно выстригал какой-нибудь не к месту пробившийся волосок. Они запирались, чтобы никто не мешал, и завлекались, как прежде, бесконечными разговорами, однако прежнего вдохновения отчего-то не слышалось ни в том, ни в другом.
Между тем Чаадаев был будто прежний: утончённый, изысканный, независимый, сдержанно гордый, изящен и меток, всё той же оставалась неумолимая приверженность к книгам, всё так же глубок и пытлив несметно образованный ум, только красота ещё приметней стала бросаться в глаза, стройный и тонкий, румяный, голос приятный и благородство манер, только будто бесстрастней сделался голос, похолодело лицо, застыли большие глаза и неожиданней и смелей парадоксы ума. Весь застыв, задумчиво глядя куда-то поверх его головы, едва шевеля маленьким выпуклым ртом, неторопливо, размеренно Чаадаев вдруг изрекал:
— Доказать, что счастливыми могут быть одни дураки, есть, представляется мне, прекрасное средство отвратить некоторых от пламенного и бесплодного искания счастья.
Напоминая Катенина, но не страстно, а медлительно, равнодушно извлекал из бокового кармана потёртый, всюду исписанный томик и с холодной усмешкой читал:
— «Людей учат чему угодно, только не порядочности, а между тем всего более они стараются блеснуть порядочностью, а не учёностью, то есть как раз именно тем, чему их никогда не учили».
Он обнаружил, к удивлению своему, что всё чаще Чаадаева увлекают богословские темы, которые его самого не занимали нисколько: как будто один вглядывался всё пристальней в небо, а другого всё более интриговала поспешно и глупо устроенная земля.
Нет, это расхождение не ломало их прежнего дружества, однако сойтись душа в душу они уже не смогли.
Что же всё-таки ему было делать?
Он пробовал найти неопровержимый ответ у масонов и вошёл в ложу «Соединённых друзей». На своих таинственных и тайных собраниях посвящённые братья возвещали борьбу с фанатизмом и с ненавистью к иноземным народам, проповедовали естественную религию, объявляли всех людей равными перед Богом и признавали свой идеал в триединстве Солнца, Знания, Мудрости, однако ж в речах братьев не примечал он обширных и подлинных знаний, а суждения о братстве и равенстве представлялись ему чересчур уж рассудочными, чересчур отвлечёнными, не применёнными ещё никем и нигде к нынешним земным отношениям.
Он встречался с хромым Николаем Тургеневым, вместе с которым тоже слушал московских профессоров.
Выросший в просвещённой семье, имея отца, которому большим другом был Новиков[82] и который принимал в масонскую ложу молодого Карамзина, вспыльчивый, замкнутый, склонный к страдальческой меланхолии и к размышлениям мрачным, обладая трезвым и практичным умом, любивший чтение, как Чаадаев, истинную учёность поставлявший превыше всего, Тургенев учился легко и беспечно, зная почти всегда наперёд, что читали профессора, в Гёттинген отправился лишь потому, что перед тем в тамошнем университете обучался сам Штейн, слушал Шлепера, Геерена и в особенности юриста Гёде, который своей рациональной теорией в прах развеивал все ходячие понятия об наказаниях, преступлениях и осуществлении права наказывать как пустые и вредные предрассудки, воротился в Россию перед самой войной, определился в комиссию законов, однако вскоре определён был в сотрудники к Штейну и при этом государственном муже завершил своё юридическое и политическое образование, какого не получишь ни в одной академии, был в Париже во время нового политического устройства французов, вместе со Штейном присутствовал на Венском конгрессе, вновь воротился в Россию и был назначен на должность статс-секретаря в Департаменте экономики, важнейшем из департаментов Государственного совета.
Привезя с собой планы преобразований самых решительных, Тургенев был поражён, что государь, прежде провозглашавший необходимость реформ и во всеуслышанье обещавший в Париже, что без промедления займётся внутренним устройством России, кажется, перестал даже и думать об этом деле наиважнейшем. Размышления его делались день ото дня всё мрачней. Тургенев в сердцах восклицал иногда:
— Что за прелесть жить в этом хаосе мрака и унижения без всякой надежды светлых дней для Отечества!
Выводы Тургенева из этих первых, неожиданных наблюдений, таких не походивших на то, что он только что наблюдал в Париже и в немецких столицах, поневоле выходили печальны:
— Как посмотришь, в каких руках финансы, торговля, промышленность, полиция, правосудие, законодательство! Что после этого остаётся для честных людей? У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость простейшая, просвещение и, одним словом, всё то, что не позволяет земле превратиться в пространную пустыню или в вертеп кровавых разбойников! Видя и слыша всё, что делается у нас, я более и более теряюсь в соображениях о несчастном положении России. Я убеждаюсь, что на моём веку её счастья мы не увидим. Эгоизм, грабительство, подлость. Как и куда всё это идёт? Кто обо всём этом думает?
Передвигаясь по кабинету с мрачным лицом, заметно хромая, Тургенев вдруг восклицал:
— Жить тяжело! Всё, что вижу и слышу, печалит и бесит. Там невежды со всех сторон ставят преграды просвещению, там усиливают шпионство. Свежей мысли нигде не слыхать. Бостон, этот опиум, действует вернее всех прочих мер, приучая не думать. Душно, брат, душно!
Останавливался, склонив голову, и всегда замкнутое лицо неожиданно искажалось брезгливой гримасой:
— Меня гнетёт, уничтожает мысль, что я при жизни своей не увижу Россию свободной на правилах конституции мудрой. При всяком добром намерении падают руки, как вспомню, что я осуждён прожить вторую половину своего века в том же порядке вещей, который доселе существовал. Это печально, грустно, ужасно, унизительно до презренья к себе!
Опустошённый, с немигающим остановившимся взглядом, опускался старчески в кресло, вытягивал ноги, долго молчал, потом раздумчиво говорил:
— Хуже всего, может быть, то, что я не верю, чтобы в России какое-нибудь общество, о каких теперь говорят, могло бы доставить необходимые средства для достижения значительного и сложного результата, то есть уничтожения рабства и вместе осуществления конституции. Для этого требуется прежде всего появление серьёзных писателей, которым были бы хорошо знакомы различные отрасли человеческих знаний, но особенно люди, одинаково сильные и в теории и на практике, тогда как Россия подобных людей почти лишена, а без них все рассуждения о благе Отечества грозят остаться только благими намерениями.
Иногда успокаивался, становился рассудительней и ещё холодней:
— Люди долго искали и долго ещё будут искать цель своего бытия, но то время придёт наконец, если, впрочем, можно надеяться на усовершенствование человека, когда люди познают истинное своё назначение и найдут его в любви к Отечеству, в стремлении к его благу, в пожертвовании себя всего на пользу его. Это чувство любви, как представляется мне, врождённое в человеке. Это искра божественности, и только действия этого чувства пленяют нас и возвышают нам душу. В чём не имели люди блаженства? Чем не хотели удовлетворить стремление души к чему-то высокому? Усилия их всегда оставались тщетными, если не имели предметом Отечество, мысль же об Отечестве всегда услаждала пожертвования их, удовлетворяла сердечным влечениям, приближала их к совершенству, наивозможному для человека.
И размышлял неторопливо, пространно, не ожидая ответа, желая, должно быть, высказать вслух свою мысль, своим судом проверить справедливость её:
— Всякое начало трудно. Это простая, но великая истина. Начинающим и ныне предлежат великие трудности, это тем более, что могут быть различны мнения в средствах, которые, по важности своей, иногда становятся целью. Но должны ли трудности вас устрашать? Должны ли мы к началу не приступать лишь потому, что окончания, может быть, не увидим? О, нет! То, что мы предпринимаем, рано или поздно должно быть начато и свершено. Что скажут те, которые станут то же дело предпринимать после нас, когда ни в чём не встретят предшественников себе? Что скажут внуки наши о своих предках, прославившихся многим, не найдя одного важнейшего цветка в венце их славы? Предки наши, скажут они, показали доблести свои в действиях за честь и гремящую славу Отечества, но где дела их на пользу гражданского благоустройства и счастья? Неужели народ, родивший столько героев, показавший столько блестящего ума, характера, добродушия, столько патриотизма, не мог иметь в себе людей, которые, избрав в удел себе действовать во благо своих сограждан, постоянно следовали бы своему предназначению, которые, не устрашась препятствий, сильно действующих на людей бесхарактерных, но воспламеняющих огонь патриотизма в душах возвышенных, стремились бы сами и влекли за собой всех лучших своего времени к святой, хотя и далёкой цели гражданского счастья? Какое сердце не содрогается при упрёках таких? Какие парадоксы могут их опровергнуть?
В такие моменты голос делался твёрдым, в строгом упрямстве поднимались небольшие, но красивые по-женски глаза:
— Истинное несчастье России заключается в том, что немедленное введение у нас конституции было бы вредно. К кому перешла бы тогда у нас власть? Без сомнения, к тем, кто владеет крестьянами. Захотели бы они отказаться от права владения? Это было бы для них невозможно. Защитников иметь будет рабство всегда, пока оно выгодно, прибыльно тем, кто сам не разделяет печальной участи рабства. Надо помнить, что роскошь и расточительность увеличились и требуют всё новых издержек. Напротив, получив по конституции власть, они увековечат состояние рабства, которое выгодно им. Всё в России должно быть сделано правительством. В первое пятилетие необходимо составить кодекс законов, упорядочить финансы и провести реформу администрации. Во втором пятилетии необходимо ввести в действие эти законы и проверить на опыте. В третьем пятилетии необходимо создать правительство пэров из тех, кто добровольно освободит своих крестьян. В четвёртом пятилетии станет возможным отменить рабство объединёнными усилиями правительства и таких пэров. В пятом пятилетии станет возможным ввести народное представительство, при котором самодержавная власть ограничится, но не так, как в Англии и во Франции: у нас самодержавная власть всегда будет и должна быть сильнее.
Тургенев, должно быть, издавна готовил себя к этому первому пятилетию, может быть, даже и в пэры, и со всей своей упорной, неохладевающей страстью занимался политической экономией, намереваясь увлечь и своего молчаливого собеседника:
— Она самая замечательная из наук государственных. Кроме существенных выгод, которые она доставляет, научая не делать вреда, когда устремляешься к пользе, она благотворна в своих действиях на нравственность политическую. Занимающийся политической экономией, рассматривая систему меркантилистов, невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности делать людей счастливыми вопреки им самим. Проходя систему физиократов, он приучается любить право, свободу, уважать класс земледельцев, столь достойный уважения сограждан и особенной попечительности правительства, и потом, видя пользу, которую приносит эта, впрочем, неосновательная система, убеждается опытом, что при самых великих заблуждениях действия людей могут быть благодетельны, когда имеют источником желание добра, чистоту намерений и благоволение к ближнему...
Он не смотрел на русскую жизнь с такой мрачностью, политическая экономия была ему отлично известна, однако какое же место мог он занять в обдуманной программе Тургенева? На нём чин губернского секретаря, которому место в переписчиках канцелярских бумаг, а земледельцами он не владел и не мог по этой причине сделаться пэром, если бы пожаловал им доброй волей свободу. Так с чего же ему начинать?
Разочарования преследовали его и в масонстве. Время от времени Тургенев оказывался уж слишком прав: роскошь и расточительство в самом деле проникали повсюду, требуя алчущим всё новых средств на поживу, неминуемо втаптывая в порок.
В ложе «Соединённых друзей» разразился грязный скандал. Один из членов её, актёр французского театра Дальмас, продал масонскую степень за триста рублей человеку, который оказался, естественно, недостоин её. До той поры подобные сделки были в масонстве неслыханны, ныне жажда обогащения выжигала совесть и честь далее в добродетельных братствах, составленных для того, чтобы укреплять свои силы души. В «Соединённых друзьях» приключился раскол. Одни, которые оказались покладистей, остались членами в обесчещенной ложе, другие, которых позор, павший на духовное братство, по-прежнему оскорблял, без промедления вышли, не желая носить несмываемого пятна, пристававшее, натурально, ко всем остававшимся, и объединились в новую ложу, намереваясь свою нравственность блюсти незапятнанной. Он, разумеется, вышел совместно с другими и подписал учредительный акт.
Проведавши об его намерении экзаменоваться на звание доктора, матушка наконец сменила гнев свой на милость. Получив от неё пенсион, переместился он на Екатерининский канал у Харламова мосту в угольный дом Валька. Квартира у него была славная. Вскоре воротился из деревни Степан[83], они зажили вместе. Понемногу составился самый тесный кружок самых близких друзей, сердечное братство, без какого жизнь была бы не жизнь. На первом месте стоял, конечно, Степан, а кроме Степана Катенин, Жандр и Чипягов. Они в душе все были поэты, читали обильно, сообщали один другому планы будущих своих сочинений и смотрели на него подобно тому, как он смотрел на себя, хотя у него не составлялось планов обширных, которые мог бы он им сообщить, и пророчили ему великое будущее, которое издавна в душе своей предчувствовал он, но к которому приступить никак не умел. С ними часто проводили вечера тоже славные лица: Всеволожский Никита, Сергей Трубецкой, Семёновские Толстые и лысый капитан Фредерике. Бывало весело, шумно, под перестрелку острот, он истинно счастлив был с ними.
Но что же он был должен начать?
Вдруг составилась помолвка Элизы с Паскевичем, получавшим за ней полторы тысячи душ.
Он был в один миг уничтожен, ни в какой Дерпт не поехал и, к негодованию своему, заболел, а затем, едва поднявшись с одра, пустился в разгульную жизнь, словно бы вымещая вероломной кузине её, как напыщенно он выражался, измену. С его неистощимой весёлостью, с искромётностью его остроумия, с образованностью почти безграничной, со свежим умом он поневоле являлся душой любого беспечного молодого кружка, самолюбие его тем утешалось.
Эта безнравственная свобода от долга, от обязанностей перед собой и людьми произвела необычайное действие и легко, бесприметно подхватила его. Завсегдатай кресел и театральных кулис, непременный гость маскерадов, он бесновался, веселился напропалую, волочился, кутил и играл, решившись выиграть хотя бы на эту беспутную жизнь, и выигрывал часто, как и должен выигрывать тот, кому в любви не везло, сыпал остротами и бессмысленно прожигал свою жизнь, им же самим предназначенную на что-то высокое.
Предназначенную им же самим, и потому иногда, пробудившись к обеду с больной головой, он вдруг задавался мрачным вопросом о том, для чего он живёт, и неизменно переходил от себя к ещё более горестным размышлениям о смысле всей нашей случайной и хрупкой человеческой жизни.
Натурально, на больную голову размышления бывали слишком бесплодны. Он не сомневался, может быть, только в одном: до двадцати двух годов, пока не определился доброй волей в гусары, он жил исключительно книгами и мыслил, возможно, много и хорошо, да мыслил только из книг, что в жизни военной уж слишком оказалось смешно и делало его ни к чему не пригодным, пока не перешёл он в резервы, где обнаружил без промедления то, чего и в помине не заключалось в самых замечательных книгах, из чего неминуемо выходило, что было бы слишком глупо и далее жить и мыслить из книг.
Но как тогда жить?
И вновь он пускался в беспечный разгул, определившись для успокоения сердечно любящей матушки в Коллегию иностранных дел. Определение состоялось с тем же несносным чином губернского секретаря. Вместе с маленьким Пушкиным и невообразимо смешным Кюхельбекером в придачу, с высокомерно-сухим Горчаковым он расписался под обязательством о неразглашении государственных тайн, введённом указом Екатерины, подумавши вдруг, что, может быть, хотя в этой службе принесёт посильную пользу Отечеству, однако ж польза Отечеству ограничилась тем, что он дежурил раз в месяц в коллегии, толкуя во время дежурства чёрт знает о чём, лишь бы праздное время протекло поскорей и можно было отправляться играть и кутить.
Так что же ему было делать?..
Сашка вдруг встал в дверях, из которых потянуло на него холодком, и укоризненно пробубнил:
— Всё сидите, сидите, пошли бы куда.
Александр с живостью обернулся, довольный, что мрачные размышления о никчёмности жизни вдруг оборвались, испытующе взглядывая в рябое лицо:
— Аль сам со двора захотел?
Сашка самым безразличным тоном ответил:
— Мне-то что, хотя бы и век весь дома сидеть. На вас сердца жалко глядеть.
Внезапно растроганный, он строго прикрикнул:
— Дует, дверь-то прикрой! Да куда же пойти?
Сашка с покорностью небывалой прикрыл дверь за спиной, дёрнув для наглядности ручку несколько раз, и прислонился плечом к косяку:
— К дяде бы, что ль, оне любят вас.
Он внимательно посмотрел:
— Так что ж из того?
— Уважили б, глядишь, старичка, нехорошо родню забывать.
— Точно, Сашка, нехорошо.
— Подать одеваться?
Александр представил, как явится, как увидит Элизу, как услышит пространный рассказ об счастье, которым Ивана-то Фёдорыча[84], белозубого генерала, облагодетельствовал вновь государь, поручивши сопровождать великого князя в длительном путешествии по просторам Руси, понурился и проворчал:
— Нет, погоди. Дядя любит племянника, не Александра, то есть, выходит, любит себя. Как войдёшь, тотчас про долги, а я, брат, долгов не люблю.
Сашка рассудительно повертел головой:
— Да об них московские, почитай, не знают никто. Они здесь и до се почти никому не открылись, вот вроде вас да того, ну, этого, знаете сами, смирно живут, так те-то их авось не найдут, об чём разговор.
— Ну, ты знаешь его, он весьма прыток и здесь. То картин заберёт, невозможная дрянь, а надобно перед будущим зятем на всех парусах, то пойдут мебеля из чухонской берёзы, подделанной под красное дерево, то английский ларец ярославской работы. Вексель за векселем так и плывут. Дурак да жулик, славный у нас хоровод.
Сашка с важностью согласился, не отходя от дверей:
— И то, на кухне больно скудно стало у них.
— Из оброчных едва сводят концы, а тут приданое выложи, эка загнул старичок, пыль-то больно любит пустить.
— Того гляди, разорит деревни вконец, вот вы бы и поговорили им об этих делах, каково мужикам?
Подумав о том, что отныне с Паскевичем дядя не пропадёт, он согласился угрюмо:
— Отчего не сказать.
Сашка оживился, поворотился уйти:
— И то, я приготовил сертук, вычистил славно, как новый совсем.
Александр покачал головой:
— Только без толку всё. Прошлый раз говорил, что у плотника Фомки сын в рекруты сдан, так Фомке не потянуть. Нет, говорит, мне дела нет, рекрут тот для царя, так чтоб двадцать пять рублёв наготове держал. Откуда же, вопрошаю, Фомка такие деньги возьмёт? А старичок-то в ответ урезонил меня: хоть роди, да подай!
Сашка сделал шаг, протянул руки, укоризненно попенял:
— Ну, вы бы поговорили ещё вдругорядь, может, и польза бы вышла какая, дядя-то ваш тож, поди, человек.
— Дёшевы нынче слова, деньги дороже куда.
— Это что говорить... Тогда б поехали в клоб, тож забава для вас.
— Что ж клуб? Старички соберутся, взовьются об высокой политике трактовать, а сойдутся непременно на том, что нового лучше бы не было ничего, а всё бы оставалось, как при отцах, оно бы спокойней, да и сытнее, что говорить.
— Старички точно, вредное завсегда говорят. Вот вам бы и урезонить, растолковать, что там и как оно должно завертеться по первейшей науке, авось...
— То-то вот и беда, что сами-то они впопыхах за куском да чинком ничему не учились. Что же я тебе за дурак перед ними бисер метать? Как ни бейся, один чёрт ни зги не поймут, пока не помрут, а помирать охота кому?
Сашка присел, покосившись, на краешек стула, руки положил на колени, в глубоком раздумье спросил:
— Тогда разве на бал, дают где-нибудь, балов полно, фрак-то я вычистил тож?
— Эк рассмешил. Что в Петербурге за бал? Военные да чиновные, больше и нет никого. Чиновные, эти сидят по углам, тихо-тихо, как мыши. Военные же приедут, все комнаты обойдут, покрутят усы, благо есть, и тотчас уедут назад, да и как ему оставаться, сам возьми в толк: он ещё дома в три зван, оттого что жених, военные в моде, военные нынче в цене, первейшее дело, у маменек и у дочек, так везде и зовут, куда бы гораздо лучше не ездить совсем, ежели только за тем же, что пройтись да усы покрутить, вот и дядя наш тоже не промах, толк в петличках да в выпушках знает, хоть сам-то не служит давно. А не уедет, положим, более не зван никуда, вовсе дурен лицом, без состояния, корнет либо прапорщик чином, так за крепе усядется будущим старичком, за бостон, потолкует об лошадях, об переменах в форме мундира, заспорит об каждом ходе в игре, точно знаток, заорёт во всю лужёную глотку, привык, подлец, на нижних чинов реветь на плацу, не то так на ухо с соседом пошепчет, добро, что при людях, им ничего. Хозяйка тщится гостей позанять, музыканты битый час по-пустому играют, никто и не встанет: этот, вишь, не танцует, у того колено, кстати, болит, вот беда, старая пуля, француз прострелил, а всё вздор. Наконец иного загоном изловят, насилу упросят, тот выбором удостоит какую-нибудь нарумяненную счастливицу, прокружит по зале её раз-другой — глядь, и устал молодец, уж точно до ужина просидит не вставая. За ужином, сам понимаешь, ни один не устанет: наедятся, напьются да разъедутся спать. Посуди, что за охота ехать на бал?
— Оно, правду сказать, скучновато, балы нынче только в Москве.
Александр хохотнул:
— И в Москве, брат, нынче одним дуракам хорошо, Чаадаев-то прав.
Сашка напряжённо сморгнул, пораздумал, по-птичьи склонивши голову на плечо, уселся вольготней на стуле, живей говоря:
— Вам вон сколько Бог ума дал, что и не знаю. Разве к князю пойти? Князь от нас недалече, совсем за углом.
Александр потянулся, откинулся в кресле и протяжно зевнул:
— К князю бы хорошо[85], да уж больно кричит, мне, брат, нынче не до того.
— Князь оглашённый, это вы правду изволите говорить, а так ничего.
— Нет, брат, не оглашённый. Правду-то если сказать, так комедиант настоящий, доподлинный, только что пустоват, что дело, что не дело, без разбору кричит.
Сашка тряхнул волосами, обстриженными в кружок, решительно возгласил:
— Тогда одно остаётся: ступайте в театр!
Сцепив пальцы рук, Александр подложил их себе под затылок, мечтательно подхватил:
— Эх, Сашка, шельмец, разумная голова, только театр — это жизнь, а всё остальное — пустое, как говорят, вот только если бы так. Да постой! Ты куда?
Сашка отозвался от двери:
— Изволили фрак приказать.
Александр повернул к нему голову, ехидно спросил:
— Тоже вычищен и тоже готов?
У Сашки плутовски блеснули глаза.
— Как же-с, вычищен и готов, иначе нельзя-с, я же вам доложил-с.
Такое признание развеселило его:
— С каких это пор «иначе нельзя»?
Сашка не моргнул глазом, отрапортовал совершенно серьёзно, тоже не был дурак:
— Какой день пошёл.
— Да ну!
— Вот те и ну! Разве заметите вы, точно без глаз.
— Александр восчувствовал себя виноватым, заслыша ноты кровной обиды в дрогнувшем голосе Сашки, но, не желая открывать своих чувств, строгим голосом пошутил:
— Так ты завсегда объявляй, что почищен, а то у тебя на глаз никогда не видать.
— Скажете тоже. Так принести?
— Нет, погоди, на театре нынче дают всё пустое, скука одна. Катенин, выходит, и прав.
Топчась на месте, должно быть не решаясь сызнова сесть, Сашка уверенно подтвердил:
— Истинно строг человек, а уж кричит-то, кричит, князь перед ним что цыплёнок.
— Малые формы, вот, брат, беда.
— Так сами берите перо да пишите, коли беда.
Александр задумчиво переспросил, глядя на потолок:
— Писать? Однако ж об чём?
На этот раз Сашка два шага шагнул, однако ж остановился, держа руки перед собой:
— Ведь же писали. Неделя, не более, глядь — водевиль!
Александр боднул головой:
— Тоже, Сашка, пустое.
Сашка возвысил рассерженный голос:
— Напротив, ужасно даже смешно.
Александр обернулся:
— Да ты знаешь как?
Сашка замялся, опустил виновато глаза:
— Что ж, вы всё бранитесь, а придётся правду сказать, мы, бывает, тоже бываем в райке-с.
Давно зная об этих сидениях в райке, Александр только спросил, по возможности строго:
— Стало быть, точно: смешно?
— Сашка оживился, придвинулся ближе:
— Истинный крест! И дядя ваш вылитый, совершенный портрет, этот, как он, Звездов!
Александр поневоле припомнил Мольера и, ласково улыбаясь своей нежданной кухарке, серьёзно спросил:
— Ну, хорошо, коль смешно, да вопрос вот, об чём же нынче писать?
Сашка зыркнул глазами, снова присел, точно забывшись, поближе к нему, театрально двинул рукой, указывая на стол и диван:
— Да пооглядитесь-ка вы: одне комедии жа кругом, пиши да пиши, у дяди нынче завёлся генерал, зубы всё скалит, улыбается вроде, от смеху все лопнут, как есть, а вы: что писать?!
Глядя перед собой на бронзовую фигурку, танцевавшую менуэт на каминной доске, Александр задумчиво возразил:
— Это и пуще беда: комедий истинно много повсюду, да чтоб на бумагу вылилось истинно смешно да умно, это надобно ой как уметь, а я, мне сдаётся, так не умею, так что ты генерала в покое оставь, тебе говорю, людоед.
Сашка не обиделся на людоеда, к прозвищам разным привык, зато рассердился на его уверения:
— Это вам-то да не уметь?
Александр тоже вдруг рассердился:
— Вестимо, что мне. Стало быть, поди, не мешай!
Сашка недовольно поднялся, нехотя проворчал:
— Так что же подать: сертук или фрак?
Александр поприкрикнул:
— Ступай, франт-собака, тебе говорю!
А ведь многие, многие точно так полагают: к столу присядь да валяй! Впрочем, бывают, точно, иные: век целый сбирается мир удивить, то есть сбирается засесть да писать, да сборами жизнь свою и кончает, на потеху близких друзей, то есть наших заклятых врагов. Вот генерал скалит зубы, Сашка прав, этот шибко хорош, этого надо бы взять, сейчас под перо, сукин сын.
А надобно как?
А надобно так: вздумал и — написал!
Так он и жил до сих пор, то есть жил, как хотел, свободно и свободно, сперва много учился, завлечённый науками до того, что, кроме наук, и знать ничего не желал, потом Отечеству службу служил, то есть честно, не имея, к несчастью, столько здоровья и столько удачи, чтобы прямо попасть под огонь неприятеля и геройством заслужить в генералы, не то, что иные, улыбкой да дружеством с высокими лицами, эк привязался, чёрт с ним, потом дурачился, кутил да шутил, да дошутился вдруг до позора, до злого укора себе.
Едва увидел я сей свет, Уже зубами смерть скрежещет, Как молнией, косою блещет И дни мои, как злак, сечёт. Ничто от роковых когтей, Никая тварь не убегает, Монарх и узник — снедь червей, Гробницы злость стихий снедает...[86]А всё отчего? Может быть, оттого, что на свободу его не смел покуситься никто, даже матушка достолюбезная, самовластительница, весь дом в ежовых руках, да в каких! не всякий мужчина сравняется с её-то крутым беззастенчивым нравом, а и та перед ним пасовала: у него всегда доставало ума без шума и крика поставить всё на своём, учился на трёх факультетах, когда бы ей предовольно было и одного, лишь бы скорее в службе служить впопыхах да звёзды хватать и чины, как хватают кругом, родня и приятели дома, в гусары определился, как ни хитрила и ни падала в ужасе в обморок, дамский извечный приём, уж тогда это знал, не собьёшь.
И самого главного, точно, не ведал:
Зияет время славу стреть: Как в море льются быстры воды, Так в вечность льются дни и годы, Глотает царства алчна смерть. Скользим мы бездны на краю, В которую стремглав свалимся, Приемлем с жизнью смерть свою, На то, чтоб умереть, родимся. Без жалости всё смерть разит: И звёзды ею сокрушатся, И солнцы ею потушатся, И всем мирам она грозит. Не мнит лишь смертный умирать И быть себя он вечным чает...Нет, свободой своей поступаться он был не намерен, однако ж время дурачеств и шутовства безвозвратно прошло, нынче он это знал, жаль, что после того, как случилась беда, нынче бесчестно было не знать, Каверин бесился у всех на глазах, второго такого не надо, прав Гаврила Романыч в прекрасных стихах.
Но что ж ему делать теперь? Что начинать?
Голова растрещалась от неотвязных запросов вперемежку с грозными словесами Державина. Что в самом деле! Он оделся и вышел, отметив, что сюртук в самом деле вычищен без прикрас, словно готовился не на прогулку, на торжество.
Время было обедать. Александр отправился к Демуту, спросил, не остановился ли как раз Чаадаев, сказали, что нет, он отобедал, склоняя старательно голову, чтобы никому не попасть на глаза, и побрёл неспешно к себе, лишь бы воздухом подышать, наскучал в духоте.
Морозец выдался слабый, безветренно, валил крупный, пушистый, медлительный снег, ложась толстым слоем на воротник и на шляпу, превращая шляпу в сугроб.
Залюбовавшись тихим великолепным заснеженным городом, он поворотил, не поостерёгшись, не там, где хотел.
Чуть не в грудь налетел на него Шаховской, в радости закричал, затискал руку, в глаза заглянул:
— Что долго не были, бесценный Грибоедов? Это как же прикажете вас понимать?
Шапка князя сплошь была белой, с макушкой из снегу, и так захотелось вдруг дунуть и ветром смести этот снег, да было нельзя, хоть князь и друг, а понять не поймёт, и Александр отозвался сердито:
— Да вы бы зашли, я вас ждал.
Князь заулыбался и заспешил:
— И хотел, и хотел, и всенепременно, да всё недосуг!
Уже угадав, что приключилось до него важнейшее дело, отложить в долгий ящик нельзя, Александр саркастически оборвал:
— А к себе зазывать отыскались как раз и досуги?
Князь посмутился, улыбаясь при этом всё шире, невпопад ответил чьим-то стихом:
— Мы ждём да ждём, а вас всё нет!
Всё больше сердясь, Александр невольно пристроил свои:
— Погода, слякоть и хандра.
Стрельнувши глазами, князь подхватил, шельма, сатир, сукин сын:
— Вот то-то и беда!
Ему стало смешно, но он и виду не подал, а только продолжил, будто бы невпопад, ожидая, найдётся ли князь:
— Из дому носа не кажу.
Князь поднял брови, замешкался, но всего лишь на миг, и выпалил, скаля мелкие, негенеральские зубы:
— Пишите, вот что вам скажу!
Этак они развлекались частенько, и Александр без усилия присочинил:
— Ведь я пишу от скуки, иногда, а скука, право, не хандра.
Прикусив губы, князь потоптался и, вдруг захлебнувшись, не совсем гладко сказал, обминая большими сапогами слепительно чистый, нетронутый снег:
— Жаль, всем, всем нам очень жаль, что вашим пером водить изволит только скука.
Совершенно войдя в роль шута, Александр непринуждённо и тотчас ответил:
— Что делать, вдохновенья нет.
Князь попригнулся, натужился, точно прыгнуть хотел, но сдаваться, каналья, не захотел, уже к стыду своему заплетаясь:
— Всегда имеет быть оно, коли в наличности талант.
Александр укоризненно покачал головой и тут же вставил своё:
— Я вам завидую: оно всегда к услугам вашим.
Князь потупился, притопнул гневливо ногой и вдруг рассмеялся:
— Стыдитесь, грех хандрить! Ведь это вы, никто иной, ввели у нас, на русской сцене, комедию изящную и лёгкую, как пух.
Александр поднял руку, примирительно улыбаясь:
— Довольно, князь, вы проиграли.
Князь схватил его за плечи, жалобно попросил:
— Пожалста, Александр Сергеич, дорогой, молю вас, потешьте старика, продолжимте немного.
Тогда Александр решился его побесить и сказал:
— Я устал.
Князь руками всплеснул:
— Полноте, голубчик, такой вы молодой, хотите, на коленках стану вас молить?
Князь в самом деле мог бухнуть перед ним на колени, был на чудачества страшный мастак, увлекался, себя забывал, и Александр продолжал:
— Вот то-то и оно, что слишком уж легка!
Князь просветлел, засиял и с живостью подхватил:
— Интрига, неожиданность, забава!
Александр лукаво прищурился:
— Не век же забавлять.
Тут князь внушительно палец воздел, длинный, тонкий, кривой:
— Зато стихи, отличные стихи!
Александр отпарировал колко:
— Да вот Загоскин говорит: против поэзии есть страшные промашки.
Князь так и посыпал, ухватив свой истинный тон:
— Помилуйте: ирония, острота, афоризм!
Александр согласиться и с этим не смог:
— Пустейшая острота.
У князя искрились глаза:
— Характер, психология, рисовка!
Скрестив руки, Александр от души забавлялся, забавляя его:
— Шутов не стоит рисовать.
Князь, может быть, уловил на его прозвище грубый намёк, ему данное смешливыми арзамасцами, и с хитрой усмешкой вывернул вдруг:
— А коли в ноги поклонюсь да попрошу?
Так и было, понадобилось что-то от него, и Александр рассердился, всё-таки продолжая шутовскую игру с шутовским:
— Уж лучше не просить.
Князь ссутулился, сунул руку за пазуху и не без робости протянул:
— Комедийна тут есть.
Александр с укоризной спросил:
— Опять за перевод?
Князь обречённо вздохнул и потупился:
— С французского, известно.
Александр так и оскалился сам, точно тот генерал:
— На нижегородский, должно быть?
Князь всё держал руку за пазухой:
— «Притворная неверность».
Александр отрезал, делая вид, что уходит:
— Вот, вот, я тоже изменил.
Князь извлёк брошюрку в линялой жёлтой обложке и двумя руками держал перед ним:
— Да полно вам острить! Я умоляю вас!
Александр брезгливо взглянул на брошюрку:
— Меня вы не молите!
Князь вспыхнул и почти закричал:
— Я перед вами на колени упаду!
Александр поморщился, ткнул пальцем в растоптанный снег тротуара:
— Здесь сыро, мерзко, грязь.
С умоляющим выражением на толстом лице князь сделал вид, что падает на колени, актёр — актёр он и есть:
— Да я!
Александр даже поверил в первый момент, как не шут, и прихватил его за рукав:
— Помилуйте, куда вы?
Князь засмеялся визгливо и мелко, ловко всунул ему брошюрку за отворот:
— Тогда возьмите, вот!
И с этим убежал.
Раздевшись в сенях, пройдя тотчас к себе, вытянув ноги к камину, Александр лениво перелистал: в самом деле, тот самый жанр, непринуждённый и лёгкий, то есть бессмысленный, как в «Молодых супругах» так счастливо был начат им, чуть попространней, три хорошие женские роли, три нескучных мужских, повести интригу сложней, однако действие должно стремительно пойти, неплохо уж и это.
Скверно, однако, ж одно: комедия была тоже в стихах.
Театр и должен быть непременно в стихах: возвышенно и звучно — да настроение как раз не для стихов, хоть только что шутил стихами с Шутовским, пристала ж кличка, правду надобно сказать.
Но интрига обещала занимательность и весёлость. Молодые люди должны были быть характерами очень не схожи. Один обладает спокойными, ровными чувствами, сильным умом, другой поспешен и вспыльчив во всём, вечно заносится мыслями Бог весть куда. Они, разумеется, влюблены, да любовь одного так иронична и так ровна, что вовсе не похожа на любовь, другой от беспричинной ревности с утра до вечера взбешён, не разбирает толку и порет такую несносную дичь, что такого рода любовь хоть кому в наказанье, хоть волком вой от неё. Возлюбленные должны были быть кавалерам под стать. Одна, постарше, умней и живей, конечно, вдова, в обиде на мнимую холодность Ленского, вторая наивна и молода, любовь её слишком неопытна, её юной душе недоступна пылкая страсть, и Рославлев вечными нелепыми ссорами ей надоедает вконец. Обе пары славно подходят друг к другу, разделяет их одна внешность — для комических недоразумений и забавных ошибок полнейший простор. У них пятым старый дурак, возомнивший себя Дон Жуаном. Вся интрига плетётся через него. Чего лучше? Влюблённые в финале находят друг друга, а дурак в дураках.
Он попробовал, развлечения ради, диалог двух влюблённых друзей, разом рисуя характеры их и сплетая завязку:
— Ну, нет! любить, как ты, на бешенство похоже. — А так любить, как ты, и не любовь — всё то же. — Кто с Лизою твои все ссоры перечтёт? — Зато с её сестрой ты холоден, как лёд.Реплики получались короткими, полными смысла, что на подмостках так он слышать любил, разговор скользил естественно и живо, в чём славным учителем был для него Шаховской.
Удача расшевелила его, он стал продолжать без натуги:
Подумай, как вчера ты с нею обходился. Ты дулся и молчал, бесился и бранился; Бог знает из чего, кричал, уж так кричал, Что я со стороны, куда уйти, не знал. Как Лиза ни добра, ей это надоело, Она рассорилась с тобою, — и за дело.В ответ Рославлев был искренне возмущён, не желая никакой вины признавать за собой, ревнив и упрям:
Она же ссорится! и я же виноват! И мне приятели признаться в том велят! От этих женщин мы чего не переносим? А кончится одним: что мы прощенья просим.Ленский же хладнокровно чудака урезонивал:
При всяком случае готов ты их бранить. Они несносны? Да? Зачем же их любить? Нет, право, за тебя становится мне стыдно: Ты знаешь, что прослыть ревнивым незавидно, А многие куда как резко говорят И громко...В этом месте естественный тон разговора им схвачен был славно, и он понемногу стал увлекаться:
— На мой счёт? — На твой. — Я очень рад!Он вдруг услыхал свои собственные слова, которые ещё так недавно произносил с самым искренним убеждением, однако попали они в уста уже поостывшего человека, каким сам он с грехом пополам становился теперь:
Вам кажется, что я брюзглив и своенравен, И нежностью смешон, и ровностью забавен, А в свете толковать о странностях других Везде охотники.Да, в самом деле, два года назад он был если не тот же влюблённый дурак, то изрядно похож, и вдруг этот вымышленный Рославлев, такой же пылкий болван, каким он был сдуру тогда, к тому же выглянувший на свет Божий из французской брошюрки, заторопился его нынешним холодным язвительным тоном:
Кто говорит об них? Прелестницы, с толпой вздыхателей послушных, И общество мужей, к измене равнодушных, И те любовники, которых нынче тьма: Без правил, без стыда, без чувств и без ума, И в дружбе, и в любви равно непостоянны. Вот люди!.. И для них мои поступки странны, Я не похож на них, так чуден всем кажусь. Да, я пустых людей насмешками горжусь, А ты б, я чай, хотел, чтоб им я был угодным, Чтоб также следовал сужденьям новомодным И переделался на их же образец, Или на твой, — ведь ты такой же наконец!Эта путаница собственных мыслей и посторонних, чуждых ему настроений начинала его забавлять, и умный Ленский рассудительно отвечал, только что не святым находя легкомысленный пол, каким и он находил его едва не вчера, да нынче пылая противоположным огнём:
Ты хочешь, чтоб и я на женщин воружился. Однако ж я пока на это не решился, Мне с ними весело, им весело со мной. А сверх того ещё, вот веры я какой, Что в добродетелях нам должно брать уроки У них. — Мы сами же заводим их в пороки. Немножко ветрены, неверны иногда, — Ну что ж? — Как иногда! — Всегда, сударь, всегда!Он приостановился в раздумье. Позволительно ли в комедии изображать свои пережитые чувства и в карикатуре малевать свой портрет?
Что касается до собственных чувств, то, кажется, без собственных чувств обойтись бы было нельзя: ещё незажившие, свежие, причиняя неодолимую боль, они придавали комедии натуральность, живость и блеск, какие из пальца не высосешь, не сочинишь, однако же малевать свой портрет было бы глупо и слишком смешно. Пусть золотая посредственность подобными малоприличными штучками забавляет себя. Разве Гамлет, принц и студент, походил на Шекспира, который, предание говорит, был сын ремесленника и не учился нигде?
У него поневоле сложилось удачно. Свои мысли и чувства он отдавал тому и другому, но ни в том, ни в другом его невозможно было признать.
Он усмехнулся сквозь зубы над авторской своей щепетильностью, тоже поэт, куплетист, водевилей сапожник, и продолжал, но весело, легко и свободно.
Вновь в Рославлеве разбушевалась вчерашняя ревность, такая знакомая, такая отвратительная для него самого, и гнев его обрушился отчасти на банально рассуждавшего друга, однако ж куда более на Блестова, вечного франта в летах преклонных, волокиты хвастливого, круглого дурака:
Пустая голова! Что шаг, то принужденье! А здесь, у двух сестриц, об нём иное мненье. Вчера же с ними он весь вечер проболтал: Ты видел... Я сперва совсем не ревновал, Да Блестовым они так долго занимались, Что нас забыли. — С ним всё время просмеялись.Умный Ленский был снисходительней, характер Блестова видел насквозь, а всё одно смешно заблуждался, не в силах представить вертлявого хитроумия этих фурий крикливого пола:
Они смеялися и слушали его. Не равнодушно же смотреть им на того, Кто в обществах всегда всех женщин забавляет. И как ты думать мог, что он их завлекает? Кто ж Блестов? Старый франт! Он слишком в сорок лет Везде волочится, прельщает целый свет, Острится надо всем, а сам всего смешнее, Не вовсе без ума, и оттого глупее, Охотно в дураки отца бы посвятил, Лишь бы с улыбкою сказали: как он мил!Рославлева мысль о такого фасона сопернике приводила в остервененье, никак не менее, чем самого Александра приводила в остервененье одна мысль об улыбчивом генерале:
И несмотря на то, как это мне ни больно, Я бьюся об заклад, что женщин есть довольно, Кому он нравится.Ах, они оба судили неверно, и это-то было особенно хорошо для него:
— Конечно, для иных Не без достоинства такой, как он, жених: Богат и всем родня. — Ну, так они и правы!Вскоре и сам старый франт осчастливливал сцену и в глупейшем самодовольстве хвалился сам перед собой:
Шути, мой друг, острись! — Я, в очередь мою, Для шутки у тебя дорогу перебью, Да и Рославлев твой порядочной ценою За неучтивости поплатится со мною, И дельно. — В дураки попасть им легче всех: Один всё хмурится, другому же всё смех. Нет! женщин надо знать, — так знать, как я их знаю. Однако ж я и сам неловко поступаю: К обеим вдруг сёстрам я письма написал, К обеим об любви! — Ну, как в беду попал! Да что? — Развязка тут не самая плохая, Что от одной отказ, — не так, так всё другая. Вот дурно, ежели они одна другой Хвалиться вздумают короткостью со мной? Да нет! не может быть: они не разболтают, В любви и женщины, что надобно, скрывают. А вот они идут! — Однако ж не могу С обеими быть вместе, — убегу!Ну, этот был уже совсем дурак, не проникая в характер замысловатого пола нисколько, и Александр над ним поиздевался вовсю.
Такая работа отвлекала от мрачных его размышлений, не требуя много ума и таланта, а больше сноровку да дерзость руки, но всё же заняв его праздную мысль и тем избавляя его от тоски, и он почти на неделю уединился за ней. Однако, должно быть, чувства и мысли двух закадычных, но слишком бранчливых друзей чересчур близки и досадны пришлись для него, по свежим воспоминаньям, по горестным его заблужденьям, по оскорблённому тяжело самолюбию, и работа, которая поначалу представлялась такой забавной и лёгкой, мало-помалу надоела совсем.
Он покинул вздорный свой водевиль и со злостью погрузился в хандру.
Шаховской к нему забежал, расспросил, разузнал, почитал рукопись первых явлений, хватая с жадностью со стола уже припорошённые пылью листы, очень хвалил и лёгкость и плавность стиха, уверяя, что комедийка славная и поимеет шумный успех.
Александр нехотя возразил, не взглянув на порозовевшего князя, что кончить времени нет, что на днях, может быть, уедет надолго, так, по нужнейшим делам.
Шаховской всполошился:
— Куда?!
— Должно быть, в Нарву, не знаю.
— Какие у вас в этой Нарве дела?
— В самом деле, какие дела.
— Так я вам скажу: Элидину, честное слово, ваша Семёнова станет играть.
— Вижу, вы времени даром не потеряли.
— Так поспешите и вы. Нарва вам что? Нарва, я вам говорю, ничего!
— Охота, простите, пропала к стихам.
— Это дело! Однако ж почто унывать? Погодите денёк: охота, что женщина, снова завтра придёт!
И тотчас исчез, как умел исчезать, точно являлся во сне, а назавтра в обед заехала на минутку Семёнова, в шубке собольей, с многоярусным жемчугом, с бриллиантами на всех пухловатых перстах, на иных далее два, румяная и такая красивая, что и поверить было нельзя, а приехала, вишь ты, благодарить за весёлую пьеску на её бенефис, с актёрской милой притворностью умоляя, кокетливо прищурив глаза, чтобы он не откладывал исполнения до своего отъезда в эту глупую Нарву, если уж так надобно ехать, сударь, да без этой пиесы какой же, помилуйте, ей бенефис?
Он принуждён был ей обещать, вновь погрузился в свои размышления о бесплодности жизни и несколько вскользь об этих странных героях, непременно и одинаково обманутых женщиной, несмотря на прямую несхожесть характера и ума, но упрямая рука не хотела писать: всё пустое, мой друг, для чего?
Днём он бродил по заснеженным улицам, выбирая безлюдные, не выходя на Невский проспект, где всегда знакомых полно, любопытство и праздность, а вечерами удобно сидел у камина, вытянув зябкие ноги к огню, лениво полистывая давно знакомого ему Монтескье, который в среде его военных приятелей вдруг сделался в уважительной моде, вроде Талмуда для мусульман, философ истории, пророк политический, наставник реформ, надеясь проникнуть в их внезапно воспламенившийся жар:
«Одна из причин процветания Рима состояла в том, что все его цари были великими людьми. Мы не имеем в истории другого примера подобной непрерывной последовательности таких выдающихся людей и полководцев...»
Несколько времени размышлял он над этим ужасным везеньем для римлян. Истина представлялась ему несомненной: цари там царями, деспотизм неизбежный, конституции обеспечивают свободу всем гражданам без изъятия или хотя бы гласный суд и присутствие твоего адвоката, однако ж и при нынешних конституциях европейских и при древних царях процветание общества не может обеспечить посредственность, какой бы добродетельной она ни была, хотя бы хмельного в рот не брала и все свои ночи посвящала только законной жене, о недобродетельной посредственности, что ж говорить, дрянь и несчастье для граждан. В головёнке посредственности обитают лишь мелкие и ближайшие мысли, то есть мыслишки, по правде сказать, ибо все заботы посредственности: что нынче? что завтра? в лучшем случае, что послезавтра? Следить ход всемирной истории посредственности, что пробравшейся вверх, что имеющей прозябанье внизу, не дано, как не дано предвидеть следствия дальних причин, ни назад, в глубины и дебри веков, ни, по этой причине, вперёд, к неизвестным потомкам. Да и что там предки, потомки, посредственность извечно сводит всё на себя, свои обиды, свои неудачи, свои доходы и слава своя ей непременно дороже общего блага. В жарких схватках эпох одни великие позабывают себя. В этих мучительных схватках одной добродетелью, одними благородными мыслями не прозябнешь, в рост не пойдёшь. Для величия ещё надобны силы духа несметные и холодная трезвость ума, Каверин-то прав, пьяница и буян, бесцельный студент Гёттингена. И потому остаётся, пожалуй, открытым важный вопрос: при царях или при конституциях общество чаще видит у кормила правления великих людей?
А кого он всякий день имел удовольствие видеть кругом? Где наши герои гражданские? Где наши великие не на поле сражения? Наши вожди?
Мелкость духа и нетрезвость мысли во всех. Разница, если подумать, уж слишком не велика. Мелкие слишком жадны, слишком порочны при этом, воруют да лгут без конца, немногие благородны и честны, да будущность России и мира прозревают не далее вытянутой руки, как прошедшее зреют не далее Очаковской битвы.
Какой путь ни возьми, посредственность тут как тут, уже заняла все места, запрудила теченье общественных рек, своим невеликим умом губя всякое славное дело.
Боже мой, что же у нас впереди?
Где же прозябнуть? Пойти в рост на поприще каком?
Он читал далее, сосредоточенный, углублённый, забирающий мыслью в дебри веков, пониже склонившись над книгой:
«Строй общества при их возвышении устанавливается главами республик, в дальнейшем, наоборот, строй воспитывает глав республик...»
Стало быть, так...
Всегда ли и все ли республики установились правителем непременно великим?
И непременно ли строй республик воспитывает и выдвигает в правители единственно одних великих людей?
Что-то этого, правду сказать, не видать, в противном случае из какой надобности славным республикам древней Эллады выродиться в порочность и в пошлость непостижимые и столь бесславно и стремительно ослабеть, сделавшись лёгкой добычей великих и даже маловеликих завоевателей?
Иное дело, должно быть, начало: у эллинов положили начало Ликург и Солон[87]. Что бы эллины были без них?
Теперь ещё трудно сказать, сколь великими были Мирабо и Дантон[88], впрочем, взятки исправно брали и тот и другой.
Бонапарт был точно велик, однако ж республика трудами его упразднилась...
А Северо-Американские Соединённые Штаты?..
Впрочем, чёрт с ними, у нас-то кругом золотая посредственность, когда бы только не хуже...
Извольте существовать посреди всякого сброда и не опуститься до него самому...
Ход его мыслей внезапно прерван был Жандром.
Александр взглянул на часы и удивлённо спросил:
— Помилуй, откуда об этом часу?
Жандр расслабленно опустился в кресло, стоявшее боком к огню, и устало проговорил:
— Нынче вторник, ты что, позабыл?
Он заливисто засмеялся:
— Ах, вот оно что, в который раз от Шишкова.
Жандр с трудом улыбнулся в ответ:
— Опять тебя звал. Говорит, отчего не идёт? Уверяет, что ты ему нравишься очень, умом, говорит, и чем-то ещё, не разобрал, мудрено, этакое словечко такое, и что страшно нужен зачем-то, должно быть, тоже читать, слушаешь, говорит, хорошо.
Он поднялся, чтобы размять подзатёкшие ноги:
— Болен для него, так ему и скажи, у меня голова от его Тасса[89] трещит, которого он затеялся переводить своей прозой скрипучей, как немазаный воз, об этом, впрочем, не говори. Лучше-ка растолкуй, ты там зачем?
Жандр вытянул ноги, блаженно прижмурил глаза:
— Хотел почитать из «Семелы»[90], да ты всегда прав: мочи нет, у него все с застылыми лицами почитают долгом своим выслушивать этого самого Тасса. Признаюсь, я едва не заснул, уже задремал, голова упала на грудь, к тебе бодрствовать спасся едва, так уваляла беспримерная проза.
Оплывшие свечи почти догорели, он только приметил, отворил дверь кликнуть Сашку, да стало жаль, и без того Жандр разбудил открывать, пусть людоед, франт-собака поспит, и сказал от дверей:
— Вот видишь, русский язык для звучной прозы пока не готов, как давно готов для стихов, в особенности после трудов Гаврилы Романыча. Я тут упивался им без тебя, вот послушай, каков богатырь:
Увы! где меньше страха нам, Там может смерть постичь скорее; Её и громы не быстрее Слетают к горным вышинам. Сын роскоши, прохлад и нег, Куда, Мещёрский! ты сокрылся? Оставил ты сей жизни брег, К брегам ты мёртвых удалился; Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем. Мы только плачем и взываем: «О, горе нам, рождённым в свет!»Он вдруг задрожал, отскочил от прикрытых дверей, скороговоркой пробормотал:
— Нынче даже посредственность печёт водевили такими стихами, что сам Шаховской, того гляди, проглотит перо.
Жандр пристально поглядел:
— Что с тобой, Александр?
Он смутился, тотчас поворотился к окну, где лежали свежие свечи, недовольно бросил через плечо:
— Нет, ничего.
Жандр заворочался в кресле у него за спиной:
— Верно, мне показалось...
Взявши с подоконника свечи, он подтвердил торопясь:
— Показалось, мы говорим об стихах.
Жандр всё глядел со вниманием, добрый друг, перебирал пальцами поручень кресла, задумчиво говорил:
— Правда твоя, нынче стихами, сравнения нет, как легче писать.
Стараясь выглядеть бодрым, вставляя свечи одну за другой в заплывшие гнезда шандалов, Александр поспешил перевести разговор:
— Так ты, говоришь, таки кончил «Семелу»?
Жандр просиял, тотчас об нём позабыв:
— Нынче утром, до службы, вылились последние строки, славно легли.
Он поворотился спиной, оправляя с тихим треском обгоравшие фитили:
— Поздравляю, душа моя, от души, а Семёнова скажет тебе благодарность. Впрочем, я так благодарен вдвойне: благодаря твоей охоте к трудам у нас теперь Шиллер на сцене, тож богатырь, и ты, я уверен, сделал из перевода славную вещь. Истинно твоё дело, мой милый. Да что, мне пригрезилось, Семёнова вновь не брюхата?
Жандр не задержался ни на минуту:
— Кажется, нет, а ты, верно, в пылкости своей позабыл, что сам же и перевёл слово в слово, а я, по незнанию языка, всего лишь твой перевод обделал стихами. Стало быть, это я от души благодарен тебе за твою охоту к трудам, затем и пришёл.
Он пооттаял душой, а всё ещё прятал лицо, опасаясь, как бы Жандр, добрейший и верный, на лице его чего лишнего не разобрал, выбранил себя, что так беспечно на ночь глядя припомнил мрачные вирши Державина, было позабыв про глаза Шереметева, выступившие из тьмы забытья, и принялся беспечно ему возражать:
— Э, душа моя, выставлять изволишь сущие вздоры. От этой прозы моей можно уснуть, как всякий вторник правоверные спят у Шишкова. То ли дело стихи! На стихи ты славный мастер у нас, Шаховского не ниже. Послушай совет: надобно «Семелу» поживее в печатный станок, в назиданье иным стихоплётам, пусть-ка, сердечные, твоим примером живут.
Жандр подхватил:
— А как же! Я в «Сына Отечества» сосватал две сцены!
Он наконец решился прямо глядеть на сердечного друга, поражённый прытью стихами писать, а сцены печатать вдвойне:
— Отчего только две?
Жандр поднял на него вопрошающие глаза:
— И те, Греч сказал, не возьмёт, когда ты не предуведомишь оные хотя бы строкой.
Он от всей души подивился:
— Помилуй: что я? Отчего?
Жандр с обыкновенной серьёзностью своей разъяснил:
— Ты нынче у нас знаменит хоть куда, Греч об твоей славе толкует без умолку.
Он пригляделся, не шутит ли друг, хотя знал преотлично, что милый Жандр шутить не мастак, на всякий случай решил превратить эту мистику в шутку:
— Вот те на! Чем же я знаменит? Просвети дурака.
Жандр засветился, его успехам рад от души, горд, что таким человеком выбран в друзья:
— Да всё твоим ответом Загоскину! Мочи нет, говорит, до чего хорошо!
Он, успокоившись, что всё вздор и не слышно подвоха, сел наконец рядом с ним:
— Помилуй, разве всё ещё помнят, что этот самодовольный болван, какого я, кажется, в жизнь мою не видал, намарал на меня ахинею?
Жандр улыбнулся понимающе, сдержанно, не показавши зубов:
— Бог с тобой, Александр, ахинею Загоскина позабыли давно, да твой ответ до сей поры у всех на руках и в устах, славный выстрел, все говорят.
Он поморщился:
— Пожалуй, успех в публике потешил бы моё самолюбие, когда публика не была бы у нас препошлая дура. Тебе признаюсь, если хочешь, мне непростительно было в тот день оскорбляться, и я сперва, как прочёл, рассмеялся, но после чем больше думал, сидя ввечеру у камина, тем более злился, себя не смирил, оттого, может быть, что был в тот хмурый вечер один.
Жандр не слушал, Жандр всё оправдывал и всё одобрял:
— Так и должно, без праведной злости этакий славный выстрел не сделать, отойдёт от души, да и баста, а праведной злости долго не вытерпишь, пройдёт без следа, ты слишком отходчив у нас.
Александр насупился, не расположенный толковать о себе, и нехотя продолжал, чтобы с этим покончить скорей:
— Я, точно, не вытерпел, написал сам фассесию и сам же пустил по рукам.
Жандр потёр от удовольствия руки, которые тоже к этому делу прикладывал, имея страсть к переписке:
— Ай да случай, выходит, Шаховской и не прав, кругом уверяя зевак, что пером твоим способна водить одна скука, — прибавляя со вздохом, — заметь, что ему будто бы до крайности жаль, что ты счастливо живёшь и что ты, право, рождён на великое.
Что было делать? Он напустил на себя легкомысленный вид:
— Полно, мой милый, Шаховской истинно прав, то есть что касается скуки, скука привязалась, как прыщ, а мне едва ли стоило отвечать, Загоскин не стоил ответа.
Жандр нравоучительно возразил, в этом наставительном роде афоризмы жестоко любя:
— Дурака не побить — тот наделает бед.
Он согласился, почти равнодушно, вновь на миг завидя глаза, суровый свидетель его легкомыслия:
— Вот видишь, я то же думал тогда, то есть то, что противно здравому смыслу отделываться ненарушимым молчанием, когда жужжит дурачества на тебя глупец-журналист. Тут молчанием ничего не возьмёшь, доказательством Шаховской, который благородное молчание спокон веку хранит, как девица, и по этой причине спокон веку обсыпан пасквилями, один другого глупей и пошлей. Да ты лишний раз подтвердил, что и сам я пошлый дурак. Нынче думаю, что напрасно я отвечал: публике нашей даровая потеха, а дурак один чёрт не поймёт, что дурак. Где же смысл?
Жандр настаивал, возражал, а голос всё ровный, страсти мимо него:
— Авось и поймёт, и Загоскин, сдаётся, не так уж и глуп, да примчал к нам издалека и в глуши своей почти ничему не учился.
Он был доволен, что разговор наконец понемногу от него отошёл:
— Что из того, что из Тмутаракани и дальше азбуки сам не двинулся шагу? Воля его, а без истинных знаний всё одно дурак дураком, даже если от Бога не глуп. У нас же, куда ни взгляни, нынче все на один образец, дурак к дураку, то с ушами ослиными, а то и совсем без ушей. Пяток книг проглядит, глядь, уже составляет рецепты, как бы переменить всё, что ни есть, кто поэзию, кто театр, а кто так и весь порядок вещей, не меньше того, в великие люди ать-два, чёрт побери! У нас таких дураков, как солдат, против них не обойдёшься пасквилями, Греч обнадёжился слишком.
Жандр отозвался миролюбиво:
— Полно злиться тебе. Уж то хорошо, что ты напишешь «Сыну отечества», и мы пустим Шиллера в пример дуракам.
Писать была лень, и он разыграл удивление:
— Что за притча, мой милый? Греч же всех принимает к себе без изъятия, и званых, и ещё пуще незваных, отчего заупрямился вдруг?
Жандр согласился:
— Конечно, блажит, да, скажи, когда Греч не блажил? Напиши ему, когда просит, порадуй его и меня.
Пришлось покориться, хоть вставать не хотел, он небрежно сказал:
— Изволь, напишу, подай-ка перо.
Жандр вскочил, тотчас подал перо, бумагу и доску, замену крышки стола, и он стал тотчас писать и читать:
— Вот послушай, дельно ли так: «Вы знаете прекрасно сцены Шиллеровой Семелы. По усиленной просьбе моей А. А. Жандр согласился перевести их на русский язык и добавить от себя, чего не достаёт в подлиннике. Вообще он обогатил целое новыми, оригинальными красотами. И в отрывке, который при сем препровождаю, лирическое во втором явлении от слова до слова принадлежит ему. Грибоедов». Точно ли во втором? Второе, надеюсь, Гречу даёшь?
— Точно, его.
— Тогда получи, да расписку оставь.
Просмотрев ещё раз бумагу, удостоверился своими глазами, сложил пополам, Жандр оживился, довольный им и собой:
— Не сыграть ли нам с Гречем ещё одной шутки?
Он притворно зевнул:
— Хорошо бы сыграть, да нет нынче охоты, мой милый, прости.
Сложив бумагу в четвёртую часть, Жандр вложил её аккуратно в карман, не желая помять:
— Благодарствую, Александр.
Он вскинул голову, сверкая очками:
— Что же расписка?
Жандр в ответ принялся серьёзно шутить:
— Как ты нынче сварлив, я и без векселя долги тебе слишком помню.
Ему вдруг пришла в голову блестящая мысль:
— А как помнишь долги, так у меня до тебя тоже нижайшая просьба, а я ещё заслужу.
Жандр поспешно откликнулся, превращаясь весь в слух, всегда готовый без зова, а пуще по зову служить:
— Твою просьбу исполнить истинно рад, говори.
Он живо поднялся, приступил в два шага к столу:
— Я, как ты, впрочем, знаешь, «Притворную неверность» Семёновой наобещал в бенефис и начал было переводить, да смерть как должен отправиться в Нарву петровские ядра смотреть. Так ты возьми все бумаги и далее дуй без меня. Французский для тебя не немецкий, а, разве не так? Сделай милость, как-нибудь дотащи до конца.
Жандр подошёл, через плечо заглянул, высокий, как жердь:
— Дело привычное, в две ли, в три ли руки, только скажи, стихи каковы?
Александр подал небрежно рукопись свою и брошюрку, которой давеча осчастливил его Шаховской, старый шут, внешность сатира, ухватки грабителя, душа хитрейшей лисы, как он съязвил про себя:
— Тем же ямбом, что любишь и ты, оба недаром, хоть порознь, школу Шаховского прошли.
Приняв брошюрку и рукопись с серьёзным лицом, принимаясь тут же читать, Жандр заверил его:
— Будь покоен, переведу.
Александр в самом деле уехал, уповая на Жандра, верного друга, умницу и немного педанта, однако же, возвратясь, увидал, что озабоченный Жандр, слишком старательно принявшись за плёвое дело, обделывая тщательно стих за стихом, перевёл всего две, и те короткие, сценки, двенадцатую и, должно быть роковую, тринадцатую, в которой несчастная Лиза, узнавши притворную новость, будто Рославлев женится на другой, рыдала и в сердцах попрекала сестру:
Как любил! Как думал быть счастливым! Ну вот! ты Ленского не сделала ревнивым, А я с Рославлевым лишаюся всего, Мне даже жаль теперь и ревности его! Ах! если б слышал он, как я себе пеняю! Когда бы знал...Он нисколько не удивился, что Жандр, перениматель отменный, так твёрдо схватил его главную мысль и его манеру стиха, простого, разговорного, лёгкого, как подобает в забавной комедии, и бегло просмотрел остальное. В прежнем тексте обстоятельный Жандр его поспешной нечёткой руки разобрать не сумел и ряд стихов спокойно и свободно переменил на свои, и Александр до того доверял его вкусу и такту и до того не имел авторского самолюбия на подобные пустяки, что, нередко обидчивый крайне, на этот раз нисколько не обиделся на него, лишь тут же уничтожил иные, спокойно и свободно, как Жандр, не совсем подходившие к смыслу, иные оставил, которые показались лучше поспешных своих, и изо всех сил заспешил продолжать, отдохнувши поездкой, благо смешная интрига придвигалась к концу. Рославлев, подслушавши горькие Лизины песни, весь распылавшись заоблачным счастьем любви, с шумом и громом вырывался на сцену, глупец и славный между тем человек:
Я здесь: всё слышал и всё знаю!Лиза всплёскивала изумлённо руками, женщина, вечно кокетка, чёрт побери:
Рославлев, это вы?И невинный Рославлев, душою дитя, простофиля, в будущем всенепременно обманутый муж, в ответ с бешеной радостью вопрошал созданье небесное, позабыв целый свет, коварство любви:
Так я ещё любим? И сказкам обо мне вы верите пустым?Изворотливость крикливого пола торжествовала вполне, всё разъяснялось к величайшему удовольствию двух пар влюблённых и, он надеялся, зрителей также. Блестов являлся торжествовать победу над ними, ан нет, над ним же смеялись и со смехом объявляли о решённых свадьбах. Ошарашенный Блестов оставался один:
Красавицы мои! Кто растолкует вас? Да правда, ведь и мы не лучше в добрый час, Сегодня любим их, а завтра ненавидим.Дурак, могло показаться, от горя прозрел, как все сочинители и все реформаторы втайне мечтают, однако же Александр глядел на дело прозренья иначе, его Блестов, шут и пошляк, подумал, подумал, да так и остался, как был, под занавес неожиданно объявив:
Как будут замужем они, — тогда увидим!Не утруждая себя перепиской, лишь поаккуратней сложивши листки довольно тощего своего манускрипта, свернувши их трубкой, надев тёплый плащ, он спустился во двор, петербургский колодец, вонь, теснота и темно, миновал невысокую арку глубоких ворот, прошёл по Малой Подьяческой к дому Клеопина, с удовольствием слушая мерный поскрип сухого, прихваченного вечерним морозцем снежка, и поднялся на самый верх, на так называемый всеми чердак Шаховского, на котором бы поместилась рота солдат.
В полутёмных сенях, где лениво тлела толстая свечка с сильно подрезанным фитилём, служитель князя Макар, маленький, сморщенный, молчаливый, ужасно серьёзный, во всём прямая противоположность хозяина, бойко, не глядя, тыкая длинными спицами, вязал, казалось, всё тот же белый бумажный чулок, который вязал в первый день его появленья из Бреста.
Сбрасывая без его помощи шляпу и плащ, уже заслыша из-за нескольких закрытых дверей сильный глубокий артистический голос, Александр негромко спросил:
— Дома ли, брат?
Отложивши чулок, поднявшись без спешки, с достоинством принявши от гостя одежду, Макар тусклым голосом неохотно ответствовал, словно жалел, что его оторвали от первейшего дела по таким пустякам:
— Как и всегда, театр-то уже отошёл.
В обширной столовой за длинным, обильно накрытым столом в кругу постаревших, давно почти не игравших актрис, разливая им чай, величаво восседала Ежова[91] с надутым лицом, в громадном пёстром чепце, комическая старуха на сцене, крикливая подруга несчастного Шаховского с каких уже пор, мегера, экономка его, его тяжкий крест, забравшая его в свои жёсткие ручки, исправно сбиравшая все театральные сплетни, несть которым числа, сплетавшая многие интриги всегда беспокойных кулис, в которые торопливый и озадаченный Шаховской бывал поневоле замешан до грязи, скандально вытягивавшая из дарового своего драматурга новых пьес к своим бенефисам, властно оттирая прочих старух.
Александр её не любил, всегда делал вид, что страшно спешит, и отделывался дальним поклоном, однако мегера, тут же приметив его острым глазом голодной орлицы, как он ни приноравливался шмыгнуть стороной, мягко и быстро ступая, сложила по-старушечьи злой плоский рот, изображая приветливую улыбку, и всегдашним голосом, глубоким контральтом, от вечной злости грубым и резким, громогласно спросила:
— Александр Сергеич, не желаете ли с нами чайку?
Её чай ему в горло не шёл, он в другой раз поклонился, на всякий случай пониже, чёрт с ней, отпустила бы подобру, мочи нет:
— Благодарствуйте, Катерина Ивановна, теперь недосуг, разве после когда.
Ежова окинула его сверху вниз, до самых сапог, до подошв, капризно двигая ртом, прямо хищница, волчьей стаи вожак, сейчас загрызёт:
— Но уж опосле князя-то непременно, непременно ко мне.
Он с облегчением пустился тем же путём, уже нарочно стуча каблуками, а ей бросил, скрывая улыбку:
— Всенепременно, а как же ещё!
Раскатывая голос, Ежова вдруг остановила его, точно выстрелила в беззащитную спину, ведьма, напасть хуже цензуры:
— Да постойте, к чему так бежать!
Он оборотился, острым взглядом сверху очков поглядел на неё:
— Простите, что недосуг, я по наинужнейшему делу.
Под его взглядом она отступила, утишила голос:
— Я, чаю, к князю никто без дела не ходит, с какова пошло.
Он саркастически улыбнулся, стоя к ней полубоком:
— Как же иначе? Нынче без князя какой же театр?
Ежова было смешалась, да тут же нашлась, тёртый калач, гладиатор в чепце, ничем не возьмёшь:
— Вот кстати, что-то вас нынче не было видно в театре, и того, и третьего дня, об вас говорят, а кто же ещё у нас после вас театрал?
Он плечами пожал, озлившись уже, сбираясь бежать:
— Всё недосуг.
Да Ежова удержала его:
— Вас не узнать, у вас вечно случались досуги.
Он понял, что она не скоро отпустит его, и сквозь зубы сказал:
— Вот притча, сам даюсь я диву.
Наконец овладев положением, Ежова с торжеством засмеялась, как смеялась на сцене, сухо и зло:
— Ваша притча больно проста: у вас пиеса для бенефиса Семёновой.
Скрестив руки, он ответил остротой:
— Вы наша пифия, так знаете вы всё!
Ежова нахмурилась, приказала:
— Пифия? Извольте мне сказать: что это?
Он язвительно улыбнулся:
— Скорее кто, чем что.
Ежова сверкнула глазами, злюка, однако ж как злюка чрезвычайно была хороша:
— Так кто же?
Он улыбался всё шире, холодно глядя ей прямо в злые глаза, требуя так, чтобы она отпустила его:
— Наш оракул, буквально сказать.
Ежова, видимо, всё поняла, величаво сказала:
— Так пожалуйте к чаю, когда милый князь изволит вас от себя отпустить.
Он сделал лёгкий светский поклон:
— К вам всякий раз пожаловать я рад.
Испустив радостный вздох, давно слыша за дверью громкие голоса, почти бегом вбежал он в большую гостиную.
Свечи пылали. На стульях вдоль стен разместилась толпа. Красивый молодой человек, с тяжёлым подбородком, который первым бросался в глаза, с небольшим, тонким, чуть вздёрнутым носом, с чистым лбом и круто изогнутыми демоническими бровями, очень высокий, с мощной выпуклой грудью, выставив левую ногу вперёд, с верными частыми жестами, сильно приглушённым поставленным голосом странной скороговоркой читал:
Нет, я не изменю намереньям моим, Не в силах выносить царящего разврата, От общества людей уйду — и без возврата. Как!.. Ведь противник мой был всеми осуждён...Александр приткнулся на стул возле самого входа и с любопытством стал слушать в каждом слове известный ему монолог, над которым размышлял он не раз, а Каратыгин[92], новый ученик Шаховского, вдруг вскинул тяжёлую голову, сделав зверским молодое лицо, ставшее некрасивым и оскорблённым, вдруг, таким образом передавши праведный гнев, закричал:
Всё, всё против него: честь, правда и закон, Все правоту мою кругом провозгласили, И я спокоен был, что правда будет в силе. И что ж? Негаданно свалился я с небес: Хоть правда за меня — я проиграл процесс!В тот же миг Шаховской, огромного роста, с огромной же головой, обрамленной торчащими жидкими космами, вулкан, водопад, бешеный цензор театра, вскочил и запрыгал, несмотря на огромный живот, дёргая в. возмущении нос, который каким-то немыслимым хищным крючком выдавался на заплывшем мясистом лице, и срывающимся тонюсеньким голосишком заверещал:
— Какой чёрт тебя дёрнул, милый дурак? Завыл, зарычал! Тебе на ярманках в балаганах играть! Это же, сукин сын, Молиэр! «Мизантроп»! Чёрт тебя подери! Ты в куриных-то мозгах своих разбери: выводя на сцену своего Мизантропа, Молиэр заставил его резкой своей добродетелью смешить тех, чьи пороки сам с той же глупостью, какой у тебя, погляжу, через край, предавал посмеянию современников и потомков! О чём же ты, миленький дурак, заорал? Ты удивись, точно ты об этих пороках, которые умный человек всё знает по пальцам и во сне перечтёт, точно ты их узнал в первый раз, ты нас насмеши своим искренним удивленьем, ты нас, дураков, убеди, что век смеяться над людскими пороками и в те времена уже было смешно, а ты изобразил из себя доброхотного судию, благо рожа бандита! Экий дурак! Пороки не смехом же, не смехом лечить, эту-то истину предузнал Молиэр, он же умница был, ого-го, тебе не чета, он этаких несносных насмешников громким смехом лечил, оттого, что ведь совершенные дураки, хоть страсть как умны! А ну, дальше давай!
Выслушав все эти взвизги с покорным вниманием, не обижаясь нисколько на каскад дураков, пущенных в адрес его, послушно приглушив блеск в красивых глазах, сделав удивлённым лицо, Каратыгин сочно, с недоумением продолжал:
Подлец, известный всем историей постыдной, Оправдан в низости преступной, очевидной, Он, задушив меня, добился своего — Так ложь над истиной справляет торжество. Его неискренность и лживая слезливость Над правом взяли верх, сломили справедливость. Преступник обелён и заслужил венец! Но мало этого: на что идёт наглец?Шаховской взметнулся, вскинул над головой крепко сжатые кулаки и вдруг заплакал нешуточными слезами, которые покатились градом по отвислым щекам, и жалобно застонал:
— Миленький дурачок, ты что же, убить меня хочешь, да, убить старика? Что ты мне разводишь руками, точно невинный младенец? Ты жалости ищешь к себе? Тебе что же, копейку на бедность подать?
Обтёрся огромным платком, скомкал сердито, всунул в карман, выпучил крысиные глазки и яростно затопал большими ступнями, подпрыгивая:
— Смысла у тебя нет, миленький ты дурак, чёрт тебя задери, оберни в рогожку, чтобы мне никогда не видеть тебя, сукин сын, навязался на шею, подлец! В гневе же он, в истинном гневе, ты понимаешь? Да гнев-то его донельзя глуп и смешон, ведь надобно знать наперёд, что в жизни подлец торжествует, на то же он и подлец, не добродетельный человек! Слыхал ты хоть слово, хоть букву о Бомарше? Ты же, милый дурак, круглый, самый круглейший невежа, арбуз! Актёр обязан всё знать! Актёру пристало сделаться мудрецом! Актёру необходимость проникнуть в самую что ни на есть природу вещей! А ты этак-то убиваешь меня! Пожалей старика, умоляю тебя, миленький ты дурачок, чтоб тебя черти с моих глаз унесли! Бомарше, великий комедиант, не ниже самого Молиэра, гражданскому суду взятку давал, а не вопил, что вот, мол, притча какая, вокруг всё подлец подлецом! Это-то хоть понятно тебе? Бомарше был более чем умён в этом случае с гражданским судом, да, заруби себе на носу! Бомарше был умён и практичен, то есть, по-нашему, мудр! Вот это ты мне покажи! Ты проникнись сознанием, что умный от подлеца должен подлости ждать, а не благородных порывов, на то и умён, а умник-то твой, подумай, чего же от подлеца ожидал? А ну, дальше, дальше давай!
Каратыгин без тени обиды сделал холодным лицо и с жаром заговорил:
Книжонку гнусную пускает в обращенье, Которую нельзя читать без отвращенья. И всюду клеветы уж поползла змея: Он измышляет слух, что автор книжки — я! И, присоединясь к презренному навету, Кто с ним исподтишка разносит сплетню эту? Оронт! которого считает честным двор, Кто может лишь одно поставить мне в укор, Что правду высказал я об его сонете, Когда ко мне пришёл молить он о совете. Так только потому, что я был прям и смел, Ни правде, ни ему солгать не захотел, Он отвечает мне такою грязной басней... За что ж так гневен он и так непримирим? За то, что я нашёл его сонет плохим. Все люди, чёрт возьми, так созданы от века: Тщеславие — рычаг всех действий человека. Вот вам та доброта, та совесть, правда, честь, Которая у них в их жалких душах есть! Довольно! Кончено! Страдать от них нелепо, Прочь от разбойников, от гнусного вертепа. Нет! Раз по-волчьи вы живете меж людьми, Я более не ваш, — довольно, чёрт возьми!Каратыгин умолк, чуть втянув голову в плечи, а Шаховской, закрыв лицо большими ладонями, обессиленно простонал:
— Миленький дурачок, тебе не комиком быть, а чёрт знает чем. Отойди с глаз долой, измаял меня, сердца, души в тебе нет ни на ломаный грош, всё как об стенку горох, дай пожить на свете лишний годок, помру я с тобой.
Каратыгин отступил с пунцовым лицом и скромно присел в уголке, а Шаховской, тут же ладони отняв от лица, тонким бабьим голосом радостно заорал:
— Александр Сергеич, друг, шельмец, ах, как счастлив видеть я тебя! И со свёрточком, со свёрточком в руке! Свёрточком-то счастлив я вдвойне! Стало быть, наконец совершил!
Так ли позволишь себя понимать? Ну же, читай поскорее, прошу, тишина, тишина!
Александр тотчас развернул манускрипт и просто, без фарсов принялся читать со своим обыкновенным лицом, слегка голосом оттеняя выгоды роли, взглядывая исподтишка, каков Шаховской, ожидая с невольной внутренней дрожью, что вот здесь, в этом, кажется, месте, не совсем как будто удачном, стремительный князь вдруг взовьётся стрелой, завопит и разразится площадными проклятьями, но нет, ничего, Шаховской отчего-то восседал неподвижно, прикрывши хитрейшие глазки, точно невинно дремал, старый шут, пронесло, ничего, и он без поспешности двигался далее, в душе облегчённо вздохнув, через минуту вновь ожидая оскорбительных воплей, довёл наконец до финальных стихов, свернул в трубку листы и поднял довольно несмело глаза.
Шаховской в самом деле тотчас взвился, точно посторонняя сила против воли подняла его в воздух, подскочил к нему в два непомерных, в два невозможных прыжка и восторженно завизжал:
— Встань, сын мой, миленький дурачок, дай я тебя обойму, умница, умница, чёрт тебя задери!
От сердца у него отлегло. Александр покорно поднялся на этот освежительный крик. Шаховской, склоняясь над ним, по-медвежьи облапил его, толкая большим животом, и яростно трижды облобызал, возвещая:
— Тонкая штучка, лакомство, с изюмом пирог! Ну, скромник ты, ну, ветреник, гуляка, сукин сын и обормот! Писать тебе, ах, как же надобно писать тебе, целые горы, чёрт побери! Тебе бы от Александра Семёныча подзаняться усердьем хоть малость! С утра до вечера корпит, сердечный старичок, изводит бумагу возами, фолиантами обложился до самого потолка! Вот пишет кто! А ты что ж, милый, ты?
Александр смутился, но ответил беспечно:
— Желанья столько нет.
Шаховской пребольно хлопнул его по плечу, негодуя:
— Вот этаких бы сечь!
Вырвал из его рук манускрипт, оттолкнул его самого, отворотился, весело заорал:
— Ремонт окончен! Имеет быть поставлена в Большом! Роли дадим, ах как мы роли дадим! В лучшем исполнится виде! Клянусь моими шишками! Вот погодите, запляшете у меня!
Смеющимися глазками обвёл всех актёров, смиренно сидевших вдоль стен, огромными ногами выкинул что-то из Бог весть которого танца, вздёрнул вверх пухлый палец, тоненьким голоском возгласил:
— Валберхова играет Элидину, раз! Лизу — Брянская — это два, зарубите себе на носу! Рославлева — Брянский — это вам три! Ленского — друг мой Сосницкий — это четыре, поздравляю тебя, сукин сын, послужи! Блестова, Блестова Рамазанов исполнит, всенепременно, всенепременно, прошу и не спорить со мной, что за бунт, это пять! Теперь и начнём!
Сосницкий, Князев любимец, шельмец, негромко сказал:
— Роли бы надо списать.
Шаховской ястребом взглянул на него:
— Что ты сказал? Повтори, сукин сын! Тебе ещё и роли списать? Ваше сиятельство, без этого таланту нет у тебя? Марш ко мне, сукин сын, бесстыжая харя! Бери и читай!
Сосницкий остался сидеть, говоря:
— Да вы сами взгляните: его же руки не разобрать никому, точно курица лапой, как он сам-то читал, удивляюсь ему.
Шаховской в самом деле взглянул, в досаде присел:
— Чёрт тебя побери, Александр! Как ты не выучился прямо писать! Это же срам! Образованный человек! Теперь не секут, а я погляжу, и в детстве тебя не секли, матушкин грех, куда глядела она? Зарезал, без ножа зарезал меня! Изыди от глаз!
И в гневе мгновенном затопал ногами, брызжа слюной:
— Лентяи! Одну ночь, но не больше одной! Макар перепишет! Завтра с утра! Театр как пожар — всё сгорит от минуты без дела! А теперь чай пора, Катерина Ивановна ждёт, мне покою не даст, когда не выдует трёх самоваров!
Подхватил его под руку, фальцетом вскричал, глотая разом по нескольку букв:
— Александр Сергеич, умоляю, не убегай, пощади, убьёт же меня!
Александр покосился на него снизу вверх, пожалел старика:
— Полноте, не сбегу.
Шаховской, отдуваясь, обтёр затылок платком:
— Так ведь как чай пить у нас, так тебя след простыл, а, признаться, слишком нехорошо. Катерина Ивановна намедни сбиралась сердиться, ты же знаешь характер её, тебе лучше бы над ней не шутить, дама строгая, мне за тебя попадёт. Уж ты изволь-ка, изволь-ка со мной. Она чтит в тебе нашу славу, да, брат, дождался, ужо!
Александр искренне удивился последним словам:
— Это какую?
Шаховской дружески обнял его, к тому же страшился его упустить:
— Экий скромник! Да ту, что, она говорит, непременно, непременно взойдёт на российском театре, это, брат, да!
Он смутился, позабывши своё самолюбие:
— Что ж, на театре...
Шаховской восторженно перебил:
— Именно, именно, на театре, а где же ещё?
Он справился со смущеньем, ответил беспечно, шутя:
— Я об том, что будет со мной, на днях ездил к Кирхофше гадать, так Кирхофша об этом знает не больше меня, врёт такой вздор, хуже комедий Загоскина.
Шаховской рассмеялся довольным, мелким старушечьим смехом:
— Какое сравненье! Ты, ради Христа, только вот ей-то, ей не скажи! Катерина Ивановна почитает себя пророчицей верной всего, что положено в мире театральном случиться, так она, право, очень, очень немногим, самым твоим близким друзьям, уж ты на неё не сердись, говорит, что из тебя выработается с годами русский наш Молиэр, так и возвестила на днях, чёрт побери, какой у женщины ум!
Александр шутовски поклонился:
— Благодарствую за комплимент, только что же Мольер, один Мольер уже есть, зачем же другого иметь?
Шаховской засеменил перед ним, вглядывая с мольбой и хитро:
— Экие бестолковые все! Русский, тебе говорят, Молиэр, русский, этого рода таланта не бывало у нас, и много повыше, я помышляю, чёрт подери! Нынешней Европе этакого таланта даже не снилось! Я тебе даже завидую, того гляди, обскачешь меня, что ж я-то буду тогда, я ведь завистлив, ты знаешь, разрази меня гром, подлец я, как есть подлечише, вранам падаль мою!
Александр досадливо возразил:
— Э, мартинисты вечно попрекают Европу порчею нравов, да истощением духа, да упадком талантов, а Европа-то сдуру производит то Гёте, то Шиллера, то Бомарше.
Шаховской прижал умоляюще руки к груди:
— Сделай одолжение, на старика не сердись, уже слова сказать не даёшь, а я с добрым сердцем, а не иначе, к тебе, ободрить тебя, подвигнуть к трудам, и Катерина Ивановна, ей-же богу, права, только вот некому тебя малость посечь, так от этого разве её предсказание может не сбыться?
К ним приблизился Сергей Трубецкой, тоже пропуская вперёд вереницу гостей, человек пятьдесят, высокого роста такого, что и в гвардии редко сыскать, с носом большим и печальным, худой, но статурою стройный, вопросом их разговор перебил:
— Александр Александрович, дозвольте узнать, вы решились возобновить «Мизантропа», и в ином переводе, как слышу?
Шаховской отскочил от него со страшным лицом, с большими глазами, каким-то чудом непомерно растопыривши их:
— Это кто вам налгал?
Трубецкой покраснел, с запинкой сказал:
— Но этот юноша милый читал монолог, с какой бы тогда стати читать?
Шаховской склонил торжественно голову, громким шёпотом зашептал:
— А, вот вы об чём, так я задал ему упражненье, только вижу, корм не в коня, комического чутья ни на грош, а талант, бессомненный талант, вы ещё на него надивитесь, Катерина Ивановна говорит, что из этого Каратыгина станет российский Тальма!
Трубецкой вымолвил, тоже невольно понижая свой голос:
— Очень жаль.
Шаховской звучно шлёпнул ладонью но лысине, взвизгнул в праведном гневе, запрыгал:
— Как это жаль? Довольно нам, русским, глядеть на Россию из окошка Европы! Россия богаче талантами всех этих вшивых Европ! У нас нет, я вам доложу, одного: нам всем необходима неистребимая, ненасытимая, неистощимая жажда труда, да-с, труда-с, непрестанного-с, а у нас в три года написать два водевильца почитается чуть не за подвиг! В Молиэры сейчас возведут! Это стыдно, стыдно, чёрт побери! Будь моя воля, сечь всех подряд, да и полно! Европе на срам!
Трубецкой, застенчивых правил, покраснел ещё более, словно бы высечь собирались его, и, позапнувшись несколько раз, возразил:
— Не то очень жаль, что мы богаты талантами, это и славно, что ж я России не враг, я Россию даже очень люблю, а то очень жаль, что не увидим мы «Мизантропа».
Шаховской, припрыгнув, втянув голову в плечи, замахал руками, точная мельница на ветру:
— Что вы сказали? Вам жаль? Да это трагедия, чёрт побери, какая тут, к чёртовой матери, малость! Сюжет замечательный, доложу вам, для комедии лучший в мире сюжет! Умный человек, а всюду как есть в дураках! Это же явление истинно русское и вместе с тем европейское, мировое, у них же всплошь, как есть, дураки! А? Вы не согласны со мной? Как вы только смеете быть не согласны со мной? Это же голый факт, как моя голова? Но как же прикажете этот сюжет разыграть? По-французски? Но к чему изображать нам французские нравы? У нас, сударь, и нравы свои, нам достойно играть «Мизантропа» по-русски, а где, покажите, такого рода пиэса? Вы возразите, мой перевод? Покорно благодарю, обо мне говорят, что я кого хочешь из зависти осмею и сотру в порошок, что у меня самолюбие, самомнение и само что-то ещё, только всё это дрянь, то да сё, враньё, чушь собачья, каламбуров предмет, бездарных стишков, Александр Сергеич, будь судья, подтверди, не больше того, порвать мой перевод на клочки да и сжечь, вот вам и весь перевод!
Трубецкой, нечаянно улыбаясь, моргал и уж отбивался с заметным трудом:
— Право, я об вашем переводе нисколько не думал, что вы, клянусь, однако ж, помнится, Кокошкина есть перевод[93]!
Тут Шаховской закатил глаза, заткнул себе уши руками, расслабленно взвизгивая, припуская в голос слезу, великий актёр, старый шут:
— Это что же ещё? Этот дурак, этот Кокошкин переложил глупейшим образом на русские нравы несчастного Молиэра, как будто бы без него никто не смыслит этого сделать, и вы ещё берётесь этого стервеца защищать!
От неожиданности лицо Трубецкого сделалось глупым, Трубецкой замялся, приложил руку к сердцу, пришаркнул ногой:
— Помилуйте, ваше сиятельство, я только сказал...
Шаховской вспыхнул, сделался грозным, хорош, представил прекрасно, и впился в Трубецкого крысиными глазками:
— Этот Кокошкин, этот накрахмаленный галстук, который по-человечески рта не умеет разинуть! Он хотел было учить меня и всех петербургских артистов, как нам надобно разыгрывать Молиэра! Он, признайтесь, это он вас ко мне подослал? Вы шпион?
Трубецкой чуть не заплакал, ужасно порядочный, искренний человек, свойства мягчайшего, крем не душа, так и тает, точно на жарчайшем солнце стоит:
— Помилуйте, ваше сиятельство, я довольно времени как в Москве не бывал!
Выпятив живот, точно щит, скроив грозно рот, Шаховской на него наступал, как в бою:
— Нет, это славно, из этого надобно соорудить водевиль посмешней для бенефиса Катерины Ивановны! Уж я ему устрою потеху! Запомните вы меня, я вам клянусь, ого-го!
Трубецкой был сражён и не находил, что отвечать, пятясь от напирающего на него живота, этакой глыбы, этакой бочки ворвани с китобойного судна, этого тарана древнейших времён. Со вниманием наблюдая всю эту сцену потешную, веселясь про себя, Александр увидал, что пришло время вмешаться, выручить, чуть не спасти, и, дразня Шаховского, скромным, раздумчивым тоном сказал:
— Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав. В самом деле, перевод Кокошкина не без достоинств, хотя, впрочем, если правду сказать, весьма небольших.
Шаховской стремительно разворотился к нему, чуть не свалив с ног Трубецкого своим животом:
— Ага! Ты тоже с ним! И ты меня предаёшь?
Александр, продолжая дразнить, медлительно начал:
— Вы мне друг, этого факта я не признать не могу...
Шаховской опешил, страдальчески взглянул на него и перебил едва слышно, точно нанесена была смертельная рана и он умирал:
— Послушай, ежели хочешь по истине да по правде...
Вдруг схватил себя крепко-накрепко за остатки волос, с силой рванул, сделался красен как рак и закричал на весь зал, уже опустевший и гулкий, называя Кокошкина своим самым бранным словцом, пропуская буквы в словах:
— Друг мой Кокошкин, этот мой друг, чёрт возьми, так постарался перевести, что бумага, бумага горит от стыда! Нет, вы не подумайте, не вообразите, я Кокошкина очень, очень люблю, я его уважаю, однако ведь он немного нелеп, ведь он совершенно испакостил нам «Мизантропа», изгадил, сил моих нет! Переплавить как следует, вовсе перенести на русские нравы храбрости у него, разумеется, недостало, московский герой, чего с него взять, сукин сын, а всё же Альцеста переварганил в Крутона, и какую-то палату приплёл, и даже русскую песню ввернул, как только рука его блудящая не отсохла, и выкинулся совершенный сумбур, прости ему Господи все прегрешенья, но только не это! Где же у Кокошкина русские люди, вы покажите, вы оба мне покажите! Это же вовсе не люди, это чёрт знает кто все такие, я бы сказал, уж я бы сказал вам, ваше сиятельство, с луны они попадали, что ли? Ну, вот послушайте, разве этак-то кто-нибудь говорит: «И, словом, тот, кто друг всего земного круга, того я не могу считать себе за друга»? Ну, что вы оба так смотрите, что? Может, полагаете, что я нарочно солгал? Так ведь нет, так-таки и отпечатано, чёрт его задери вместе с чулками, а ведь у Молиэра сказано просто: «Друг всего света не может быть моим другом». Что, узнаете? Очень похоже? Эх, ваше сиятельство, ваше сиятельство. И ты, Александр!
Он нарочно помедлил, нехотя согласился:
— Пожалуй, в этом месте Кокошкин сделал ошибку.
Шаховской медленно выпустил остатки волос, разжимая крючковатые пальцы, и посветлел:
— Так бы и сразу, голубчик ты мой! Умница ты, это я всем про тебя говорю. Вот тебе бы явить эту мысль Молиэра по-русски. Боже мой, какой богатейший сюжет! Мне бы таланты твои, твою молодость или хоть тебе бы мою страсть труда! Ах как я завидую, голубчик, тебе! Ты меня обгони, тогда тебе честь! А ты занят чем?
Он не стал отвечать.
Шаховской потоптался и двинулся прочь с опущенной головой, шаркая стариковски ногами.
И они с Трубецким наконец появились в столовой и сели, на радость Ежовой.
В столовой было шумно, что там базар, мясные ряды, чепуха, тишина, мир да покой. Все пили чай, точно бились с врагами. Катерина Ивановна тотчас заулыбалась и протянула ему с краями полную чашку. Александр принял её, поблагодарил кивком головы и между тем говорил Шаховскому, задевшему сильно его самолюбие, поневоле решившись продолжать разговор:
— Что бы было тогда, позвольте узнать?
Шаховской, суетливо и с боязнью поглядывая на Катерину Ивановну, взглядом выспрашивая её, довольна ли, душенька, свет мой, вот и привёл, погляди, переспросил, уже позабыв, что кричал:
— Ты это об чём?
Александр неторопливо отхлёбывал чай, размышляя, не здесь ли призвание, овому талант, овому два, а у него или вовсе ни одного, или что-то слишком уж много, куда пристроить хотя бы один.
— Да вот если бы вам мою молодость и таланты мои?
Шаховской спохватился:
— Тогда? Что тогда? Право, я вижу, тебе вся моя мысль пока не доступна, молод ещё, а Россия бы тогда обогатилась твореньем, без спору, великим, может быть, величайшим, вот так!
Он был и без того раздражён до каленья, сгорая от жажды великого, никак и нигде не чувствуя сил на него, немудрено, что решительно поставил чашку на стол и поднялся:
— Тогда разрешите откланяться.
Не смея взглянуть на Ежову, Шаховской с неподдельным ужасом ухватил его за рукав:
— Это что же? Куда ты? Откушай ещё хоть одну! На тебя же Катерина Ивановна беспрестанно глядит!
Наслышан и наблюдая не раз, что Катерина Ивановна в гневе ужасна и что Шаховской будет с криком разруган, если не побит во всю ночь за него, он опустился на прежнее место, однако отодвинул чай ещё дальше:
— Ваша страсть наконец одолела меня, что же чай, времяпрепровождение вредное, ваш долг меня призывает трудиться.
Откровенно довольный, что остановил, оставил его, Шаховской весь расцвёл и ласково ворковал, голубь, любовь, благодарность, милейший старик, со страстями только с двумя, к театру и к Катерине Ивановне, невозможно определить, какая сильней, да можно поклясться, что вторая больней:
— И как не стыдно, смеёшься над стариком.
Александру в самом деле хотелось смеяться, да было жаль и себя и его, и он как можно серьёзней взглянул сбоку в молящие глаза Шаховского:
— Ничуть не смеюсь.
Шаховской исподтишка взглядывал на Катерину Ивановну и жалобно ей улыбался, чуть не с нежностью выговаривая ему:
— Я же знаю тебя преотлично, ты же извечно смеёшься над всем и над всеми. Оно, может быть, и так, что познанием да умом у нас равных тебе нынче нет, что об этом невероятности толковать, коли это если не чистейшая правда, так недалече от ней. Загоскин-то прав, разделал тебя за учёность, дурак, а всё же смеяться надо мной тебе грех.
В самом деле, смешон, а смеяться грешно, молодец, доброта, остроумец, талант, жизнь готов положить за театр, непременно русский, непременно великий, и он тотчас переменил тон на дружеский, ласково улыбаясь одними глазами:
— Я посмеялся, то правда, однако ж самую малость, вы великодушны, вы простите меня.
Шаховской от неожиданности чуть не заплакал:
— Милый ты мой, вот за это я тебя и люблю, сердце у тебя голубиное, хоть всё остришь, не всякому видно, а я-то наблюдаю давно, миленький мой дурачок. Ещё бы больше любил, когда бы над тобою сбылось предсказание Катерины Ивановны, улыбнись ей разок, тебя не убудет, она хотя и строга нестерпимо, да женщина славная, сама доброта, если правду сказать, ты мне верь, жизни нет без неё.
Он склонил голову над столом, уставленным пирожками, сухариками да мармеладами:
— Может статься.
Шаховской пригибался, взглядывал чуть не со страхом, от всей души умолял:
— А ты постарайся, постарайся, голубчик, пособери-ка себя, не зарывай, не закапывай талантов своих, Господь не простит!
Он задумчиво протянул, подняв машинально чайную ложку, со вниманием беспредметным разглядывая замысловатый узор чёрной нитью по серебру:
— Как знать.
Шаховской вплотную придвинулся, притиснулся мягким плечом, со страстью зашептал ему в самое ухо:
— Дай слово.
Он вдруг рассмеялся, швырнув ненужную ложку на стол:
— Даю.
И поднялся.
Трубецкой поднялся следом за ним.
Они вышли вдвоём, не сказавши друг другу ни слова, точно сговорились куда-то идти.
Мороз покрепчал, иней белел на ветках деревьев, было тихо и прекрасно свежо.
Ему было за угол, рядом, но Трубецкой застенчиво предложил на углу, опираясь на трость:
— Пройдёмся немного, я потом тебя провожу.
Александр согласился охотно, как ни поздно было уже, часа три, страшась остаться нынче один, всё с теми же мыслями, что ему делать с собой:
— Изволь, проводи.
Трубецкой тепло улыбнулся, выбросил трость в такт шагам, повернулся к каналу:
— Страшный чудак, но человек замечательный, русский театр ему слишком многим обязан.
Он заложил руки за спину, держа трость под мышкой, шагал медлительно, с удовольствием, чуть подавшись вперёд.
— Ты прав, его комедии многие почитают слишком пустыми, это прискорбно, однако же так, а не примечает никто, что для русской сцены он создал превосходный язык, который нынче годится на всё, а своей неугомонной энергией создал целое поколение первоклассных актёров, которые без его понуканий бы обленились и не годились бы ни на что, особенно из них те, кто горазд куликнуть.
Трубецкой простодушно спросил:
— Он, кажется, весьма любит тебя?
Он отозвался:
— Я, по-своему, его тоже люблю.
Трубецкой вдруг замялся, несколько шагов сделал молча, не умея скрывать своих чувств, простота и наивность в союзе с высочайшим благородством души, и вымолвил наконец, из стеснения не взглянув на него:
— Впрочем, я зазвал говорить тебя об другом.
Этой манерой своей Трубецкой похож был на красную девицу, застенчивый, мягкий, пяльцы бы под окно иль слезливый французский роман, и Александр негромко подбодрил его, а возвысить голос нельзя, можно бы было спугнуть, закраснеет и замкнётся в себе:
— Изволь об другом, когда хочешь, рад тебя слушать обо всём и всегда.
Трубецкой помедлил ещё шагов пять, поправил тёплый картуз и встал перед ним, тяжело опираясь на трость, глядя всё-таки мимо него:
— Мне слишком жаль, что приключилось, ну, та история, с Шереметевым, понимаешь меня?
Александр понимал, но холодно возразил:
— Мне ещё более жаль.
Трубецкой смутился, двинулся дальше, тростью помахивал, взволнованно говорил:
— Поверь, коли бы знал, остановил бы и тех, и тебя, и особенно Якубовича, этого прежде других, по нраву общего дела, горяч, сорвиголова, некуда силу девать. В Петербурге он был бы нужнее. Люди такие лишены права на зряшные ссоры с приятелем, вот что должен понять.
Предугадывая вперёд, куда тот клонил, Александр обронил только то, что действительно думал:
— Я полагаю, на такие ссоры между приятелями не имеет права никто.
Трубецкой на ходу обернулся, просиял всем своим простодушным лицом:
— Рад за тебя.
Тогда он решился и резко спросил:
— Так ты не веришь, что я струсил тот день, как повсюду, мне говорят, раззвонил Якубович?
Трубецкой с неподдельным жаром воскликнул:
— Нисколько!
Открыт был всегда, не поверить нельзя, у него комок в горле застрял, и Александр замедленно проговорил, опасаясь выдать себя:
— Благодарю, душа моя.
Чутко уловивши это волненье, Трубецкой поспешно оборотился к нему и сделал два шага спиной:
— Что ты намерен делать теперь?
Он усмехнулся, тотчас справясь с собой:
— Это вопрос! Что делать умному человеку в России?
Трубецкой передёрнул плечами, непривычно сузил глаза, в глубоком раздумье подождал его и зашагал рядом с ним:
— Мне нестерпимо смотреть, как лучшие силы нашего общества, подобно тебе, распыляются на вздоры, на стычки, на распри, на безделье и пустоту прозябанья.
Он заговорил обыкновенным своим, чуть холодным, чуть насмешливым тоном, ощущая, неопределённо и смутно, что тон подходящ не совсем, не находя в волненье другого:
— Сознаюсь, виноват, однако ж в смягченье вины ты возьми то, что затеял историю глупую Якубович, и Шереметева кровь куда больше на нём, чем на мне, хотя и на мне, и на мне, я с себя вины не снимаю.
Трубецкой сокрушённо вздохнул:
— Якубович уж слишком горяч.
Он резко поправил:
— Скорее пошляк и позёр.
Трубецкой выпрямился, точно определение метило в него самого, высокий и стройный, и горячо возразил, сбиваясь с ноги, сильно толкнувши плечом:
— Он жизнь за общее дело отдаст, когда надо, это во вниманье прими, когда судишь об нём.
Он выпростал руки из-за спины и с этим движением чуть отстранился от своего добровольного собеседника:
— Когда случится на публике, при скопленье народа, так и отдаст, в расчёте услышать хлопки одобренья, а будет один, так самый великий час проворонит, случись на нашем веку такой час.
Не приметив его лукавых перемещений, вновь приближась чуть не вплотную к нему, Трубецкой заверил убеждённо и торопливо, словно бы знал, что час уже близок и надо спешить:
— Ну, слава Богу, он не один, не сомневайся хоть в этом, мало ли кто теперь рядом с ним.
Глядя под ноги, взмахивая медленно тростью, обдумывая скрытый смысл этих слов, он неохотно сказал:
— Право, наслышан я и об них.
Трубецкой заговорил торопливей и сбивчивей, повторяя почти то слово в слово, что с год назад довелось ему услыхать от Якушкина:
— Вот видишь, с окончаньем войны, ты это, разумеется, помнишь отлично, имя императора Александра гремело по всему просвещённому миру, народы и государи Европы, его великодушием неожиданным поражённые, предавали судьбы свои его воле, рассчитывая обрести независимость и свободу.
Он усмехнулся:
— Охота тебе на их счёт заблуждаться.
Трубецкой не смутился, поглядел на него очень пристально, зашагал ещё твёрже, чем за миг перед тем:
— Это как?
Над их головами неярко тлел невысокий фонарь, слабо освещая исхоженный снег и низкую припорошённую решётку канала. Вдоль канала, то отступая, то совсем близко приступая к нему, угрюмо молчали сплошные дома, в которых строго чернели все окна. Над двумя припозднившимися прохожими, над каналом и над домами висело чугунное небо с мелкой россыпью звёзд.
Пустые это всё разговоры, неприготовленные сужденья людей, желающих обнаружить именно то, чего не было, однако же Александр, поёжившись, точно от холода, подняв воротник, без вдохновенья, терпеливо и скучно стал изъяснять:
— Мнение народов о добродетелях нашего государя нам неизвестно, оттого оставим его. Что касается до государей Европы, то мнение их нам уже слишком известно. У каждого как имелись, так и нынче имеются свои, непримиримые, враждебные всем остальным, интересы, большая война, более двадцати лет сокрушавшая города и царства Европы, пошла на пользу только Британии, её развязавшей, из жажды уничтожения Франции, как об этом не знать. Её пространства удвоились присоединением Гельголанда, Мальты, Сейшельских островов, Капской колонии, Иль де Франса, Цейлона, Тасмании, Сен-Люси, Табаго и Тринидада, а в Индии Майсура, Дели, Непала и, кажется, чего-то ещё, всего не упомнил, прости, а не надо бы забывать, мыслящему человеку нет худшей слабости, чем слабость памяти. Однако ж и этого, представь, было Британии мало. Беда этой конституционной империи в том, что все эти земли служат ей рынком плохим. Сейшельские острова и Тасмания едва ли и вовсе являются рынком. Ей было необходимо проникнуть со своими товарами, прочными и недорогими в цене, в обширные владения Испании и Португалии, и вот тебе пример либерализма, когда речь заходит об государственных выгодах, к каковым интересы внешней торговли относятся в первую очередь: Британия поддержала в испанских и португальских колониях освободительное движение. Больше того, лет десять назад торговля чёрными в пределах её владений запрещена, вовсе, разумеется, не из гуманных соображений, не надейся на это, а ради того, чтобы ослабить своих конкурентов, которые, не имея достаточно произведений ремёсел, какими располагает она, обогащаются главнейшим образом тем, что торгуют рабами, и нынче Британия требует запретить торговлю неграми во всех прочих странах. Так вот, если рассуждать об интересах торговли, кто оказался в Европе важнейшим, самым опасным противником для Британии? Франция и Россия, это очевидно как день, первая своей восточной торговлей и флотом, вторая, к несчастью, одним безумным стремлением в Константинополь, что непременно вытеснит британских торговцев с Востока, впрочем, как и французских. И ты полагаешь, что Британия предала свои судьбы на волю нашего государя?
Ноги его стали мёрзнуть, и он, удивляясь, что эта посторонняя тема так внезапно его увлекла, попросил:
— Давай повернём.
Они повернули, и он, всё глубже кутаясь в меховой воротник, думая оборвать разговор, когда предлагал повернуть, вдруг стал продолжать, разгорячаясь всё больше, но внешне оставаясь холодным, точно лишь оттого продолжал, что не хотел оказаться невежливым и поддерживал начатый не им разговор:
— Ничуть не бывало. Против разгромленной Франции Британия всё-таки решилась усилить Голландию, отдав ей взамен Капской колонии и Цейлона соседнюю Бельгию и провинции за Маасом до Рейна. Кроме того, предполагался брак наследного принца голландского с единственной дочерью принца-регента Августой-Шарлоттой, которой сравнялось едва восемнадцать, а созданные таким образом Нидерланды должны были вступить в союз с Ганновером, этим родовым владением британской короны. На рейнские провинции претендовала и Пруссия, и Британия была готова отдать ей взамен них всю Саксонию и прежние польские земли, что прямо противоречило национальным интересам России, а в Италии Британия была готова предоставить Австрии такие возможности, чтобы та могла противостоять на её восточных границах России, а на её западных границах французам. России же было необходимо усилить Пруссию на Рейне и тем поставить в зависимость побеждённую Францию, а также в Саксонии, чтобы связать таким образом Австрию, которая является нашим неизбежным и упорным врагом на Балканах. Австрии же, в интересах России, должна была в Италии противостоять побеждённая Франция. И ты полагаешь, что Меттерних[94] этой комбинации не понимал и добровольно руки сложил крестом на груди, ожидая, пока наш благодетельный государь благополучно разрешит все свои проблемы в Европе и направит на Восток все свои силы, где не сама же собой завязалась внезапно война на Кавказе?
Целый не фантастический, но действительный мир грозных намерений и грозных последствий для народов, республик, королевств и империй открывался ему, и он, поражённый, как все бесчисленные интересы и сшибки связывались невидимой нитью в его голове, сильней взмахивал тростью, точно готовил удар, пытаясь сильным движеньем согреться, не замечая, что это внутренний был холодок.
— А Талейран? Как полномочный министр, он должен был спасти целостность и независимость Франции, которая занята была чужеземными армиями, и этот хитрый, хладнокровный политик, в своей долгой жизни сыгравший множество самых различных ролей, подобно актёру театра, умеющий при случае играть даже роль вполне честного человека, возвышенный революцией, развернувший свои таланты во время Империи, выдвинул в Вене принцип легитимизма, согласно которому завоевание не даёт никаких прав победителям распоряжаться ни одной короной, ни одной территорией, пока от них сам собой не отказался законный владыка. Ты полагаешь, Талейран и сам уверовал в легитимизм, после стольких захватов, которые он скрепил договорами в правление Бонапарта, ещё раз явив миру свою беспринципность? Я так не думаю, скорее всего, у Талейрана в самом деле никаких принципов нет, однако ж на этот раз выгоды государства, выгоды поверженной Франции потребовали от пего этого принципа, и он этот принцип провозгласил. А чем его изворотливость обернулась на деле? На деле она обернулась идеей справедливости, и один Талейран её защитил, тогда как прочие государи опирались только на право оружия, между ними и наш государь. Пруссия лишилась прав на Саксонию. Каковы же причины? А таковы, что здравствует саксонский король! Сбережение же независимой Саксонии, Майнца и Люксембурга означало безопасность для Франции. Мы же, согласно этому принципу, лишились права на Польшу. Замечательней же всего, что ни у кого из государей Европы не могло быть против этого милого принципа возражений. И чем же окончилась находчивость Талейрана? Она окончилась тайным союзом Франции, Австрии и Британии против России, а ты говоришь: предали судьбы свои покладистой воле нашего государя. Полно, мой милый, куда там!
Трубецкой растерянно, негромко спросил:
— Откуда ты всё это взял?
Отчего-то решив, что вопрос относился к одной тайне союза против России, он ответил сердито:
— В дипломатии тайн не бывает, мой милый. До прибытия Талейрана решено было не приглашать на совещания победивших держав, соединившихся в Вене[95], представителя Франции, а через два месяца Кэстлри потребовал приглашения Талейрана. Тут и слепому открылись все замыслы, удивляюсь тебе. Кроме того, Бонапарт нашёл текст договора, неожиданно воротившись в Тюильрийский дворец, и любезно переслал его нашему государю. Как видишь, победители объединились с той стороной, которую победили главным образом русским оружием, и дружно выступили против России. В итоге стольких интриг Британия получила позиции в Европе сильнейшие, а мы не можем опереться на Францию, которая осталась без армии, имеем против себя Австрию, а Пруссия, единственный наш союзник в Европе, оказалась разъединённой и к тому же занятой своими внутренними делами. Таким образом, нам интригами той же Британии навязали войну на Кавказе, а наши дивизии должны стоять наготове в Европе. Вот до чего народы и государи поражены были великодушием нашего государя, как ты имеешь удовольствие полагать.
Трубецкой встрепенулся, точно он его вдруг разбудил, и с твёрдостью объявил:
— Однако ж Россия гордилась своим государем и ожидала от него новой судьбы, в первую очередь для себя.
Он возразил, усмехаясь:
— Новой судьбы не ожидают, мой милый, новая судьба приготовляется последовательным ходом вещей.
Трубецкой на мгновенье запнулся, но взял через миг тот же возвышенный тон:
— Государь объявил манифестом свою благодарность войскам и всем сословиям народа русского, который вознёс его на высочайшую степень славы, быть может, бессмертной. Он обещал, утвердивши спокойствие всеобщим миром в Европе, заняться устройством внутреннего благоденствия вверенного Провидением его пространного государства.
— Как видишь, мир в Европе колеблется день ото дня, спокойствия нет.
— И что же? Некоторые молодые люди, бывшие за Отечество и царя своего на поле чести, жаждали быть вернейшей дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать своему победоносному государю во всех его начертаниях во благо народа. Людей этих мало, конечно, однако же все они уверены твёрдо, что круг их станет ежедневно расти, что другие, подобные им, не захотят ограничиться славой военной и возжелают оказать усердие и любовь к Отечеству не одним исполнением возложенных службой обязанностей, но посвящением всех своих средств и способностей на содействие общему благу во всех его видах, свободе народа прежде всего.
Он сказал, ускоряя шаги:
— Замечательно, что и в России находятся люди, которым не чужд этот дух героизма, так свойственный древним народам, однако, я полагаю, против них все владельцы воздвигнутся, все как один человек. Да, впрочем, они уж об этом во все трубы трубят. Ты помнишь, конечно, в своей речи малороссийским дворянам государь объявил своё намеренье даровать свободу народу, однако сочувствия ни в ком не сыскал, а предводитель полтавский в ответной речи выразился прямо в том смысле, что эта мера была бы преждевременна во всех отношениях, кажется, так, если не ошибаюсь опять, да смысл решительно тот. Извольте действовать на общее благо!
Трубецкой улыбнулся снисходительной доброй улыбкой:
— Помилуй, ты выставляешь очевидные вещи, что все станут против свободы, не владельцы одни, коих ты имеешь в виду, что об том толковать, да тут-то и требуется от нас неусыпное действие для поддержания проекта освобождения и направления общего убеждения в необходимости меры, уже неотложной.
Он сделал знак головой, а сам уже погружался в свои размышления, ища, где в таком случае между ними место его:
— Отчасти я согласен с тобой.
Придвигаясь вплотную, глядя в лицо, Трубецкой неожиданно строго спросил:
— Почему же только отчасти?
Экий соблазнитель, чудак, разве трудно понять, и Александр слишком резко ответил, сердясь на себя, а пуще на Трубецкого, тотчас об том пожалев:
— Целое общество убедить в силах только одно.
— Открой, что же именно, коль не секрет?
— Какой тут секрет: либо власть, либо добровольный пример.
Трубецкой просветлел, с радостью подхватил:
— Члены нашего общества собрали подписку на дарование свободы народу. Из числа лиц известных подписали Строганов, Кочубей, Васильчиков, Меншиков, Воронцов, лица, как видишь, сфер самых высших.
— Паскевича нет?
— Паскевича нет. Это ли не добрый пример?
— Именно, Паскевича нет. Это был бы добрый пример, однако ж намеренье осталось без исполнения. Знаешь сам, когда Васильчиков доложил об том государю, государь изъявил неудовольствие и приказал уничтожить подписку. Что хорошего может последовать из намеренья, которое так и осталось намереньем? Добрыми намереньями, помнишь Данта, вымощена дорога в ад.
— Вся беда единственно в том, что те, кто нынче желает свободы народу, люди все молодые, поместий своих пока не имеют и не в состоянии пример освобожденья подать. В результате способ действия нам остаётся один: убеждение словом, но словом разумным.
Он удивился этой наивности, которой от Трубецкого не ожидал, добрый, нерешительный, мягкий, однако же умный и образован изрядно, обширней многих иных:
— Владельцы никаких ваших слов не услышат, разумных в особенности, вот что заметь. Поди убеди мою матушку, что вместо собственного дома в Москве ей прилична квартирка, вроде той, что я здесь нанимаю, да жалованье моё на место её деревенек, я же к тому, почитай, не служу, а только дежурю.
— Слыхал, ты об чём-то хлопочешь?
— Об чём хлопотать? Да если бы что и прельстило, на казённое жалованье разве у нас проживёшь?
Трубецкой спохватился и понахмурился, что никак не вязалось с его добрейшим лицом:
— В этом ты, может быть, сто раз прав, да мы не об тебе говорим. Положение народа теперь таково, что грозит Отечеству гибелью, и в таком случае нельзя не признать, что долг всякого честного человека и гражданина заключается в том, что должно владельцам представить, что рано ли, поздно ли...
Он воскликнул, удерживаясь от смеха:
— Э, душа моя, мы с тобой не ребята, умеем понять, что высокие эти материи о неотвратимом ходе судеб и так далее доступны лишь образованности слишком значительной, да к тому же умам недюжинным. Они ведь до того высоки, материи эти, что и большому уму без Адама Смита[96] их в толк не возьмёшь, а у нас образованность, особенно ум, везде не в чести. Чуть выскажешь мысль повыше общего разумения, так и попадёшь стремглав в дураки, если не во что-нибудь гораздо похуже. Нет, сперва надобно заставить слушать себя, как заставил Вольтер, а уж после того исполнять свой долг человека и гражданина.
На добром лице Трубецкого явилось недоумение, чуть не обида.
— Ну, из какого угла Вольтерам явиться у нас? Пустые мечты у тебя, а ты вот рассуди, что со дня вступления дома Романовых на российский престол самая малая только часть государей наследовала его совершенно спокойно, по одному лишь праву рождения, но большая часть перемен была следствием насилия или прямого обмана. Полк или два в прошедшем столетии возводили претендента на трон, вот на какую мысль наводит нас опыт нашей истории.
Небольшой ветер тянул теперь прямо в лицо. Ему становилось несколько знобко, чего он не любил, и, сдёрнув перчатку, потирая твердевшее ухо, Александр равнодушно спросил:
— Так и что?
Трубецкой оживился:
— А то, что в перемену правления, как только случится, можно потребовать свободу народу!
Они уже подошли к его дому, мрачному, неприютному зданию, дом доходный, архитектура отсутствует, гадость одна. У проёма ворота Трубецкого поджидала одиноко карета, кучер похрапывал, завернувшись в тулуп, прикрывши плечи рогожей.
Ноги становились хоть брось, и Александр, постукивая сапогом о сапог, предложил:
— Давай-ка зайдём.
Трубецкой согласился тотчас кивком головы, словно заранее знал, что разговор получится долгий.
Они ощупью полезли наверх, вспомнишь маменькин дом, чертыхаясь во тьме, у маменьки свечи на каждом углу.
Он резко дёрнул ручку звонка, приказал Сашке, соскочившему с сундука, открывать:
— Тринкену дай, надобно ноги согреть.
В кабинете чуть теплилась свечка. Поёживаясь, мелко дрожа, с мурашками на спине, он засветил от неё две другие, поправил чуть тлевший камин, ожидавший, однако ж, его, Сашки забота, хоть спал, и сложил над вспыхнувшим пламенем пирамидкой сухие поленья.
Сашка подал на подносе ром и стаканы. Они выпили понемногу, лишь бы согреться, и сели в кресла перед камином.
Ощущая, как по благодарному телу славно расплывается живительное тепло, протянув ноги совсем близко к огню, он продолжал:
— Потребовать, что ж, потребовать можно, а вот помнится мне, при заведении этих поселений военных, граф Аракчеев тоже вот предложил на место этих чудачеств сократить срок службы солдатам, что явилось бы благодеянием истинным для нижних чинов и дало бы нам на случай войны сотни тысяч готовых резервов, да вот государь имел убеждение о пользе собственных предначертаний, и дело так завелось, как государь повелел.
Помолчав, пошевеливши бровями, точно поджидал новую мысль, Трубецкой согласился:
— В этом ты прав, однако ж отчасти. Подумай, дело это было такое, что дальнейшие последствия, как ни верти, могли укрываться от взоров мужей куда более проницательных, опытнейших в государственном управлении.
Он нехорошо засмеялся:
— Общая жизнь, общий труд, общая маршировка — куда как прекрасно, одно только гадость первейшая — принужденье, а принуждение; во все времена не к добру. Игорь взял обыкновенную дань, какая установилась обычаем, — и древляне оставались покорны, Игорь взял в другой раз, нарушая этим сносный обычай, — и древляне побили его и дружину.
Достав портсигар, предложив сигару ему, Трубецкой обдуманно возразил:
— Принуждение, говоришь? А мне так вот очевидно, что это новое образование армии усилит её, образуя хороших солдат, с детства приучив к исполнению воинской службы, доставит возможность содержать войска с меньшим отягощеньем народа и уничтожит частые рекрутские наборы, которых тяжесть для народа весьма ощутительна.
Курить ему не хотелось, но он взял машинально сигару и, вертя её в пальцах, с усмешкой спросил:
— Так сказать, фельдфебель на место Вольтера, другими словами?
Вскинувши брови, с истинным удивлением на простодушном лице, Трубецкой со вниманием поглядел на него, не шутит ли он, однако ж не стал отвечать на остроту, а прехладнокровно продолжал развивать свою мысль:
— Разумеется, с другой стороны, это новое образование армии образует в государстве новую касту, которая, не имея с народом общего почти ничего, может сделаться орудием его угнетения, и эта каста, составляя особую силу, которой ничто не, сможет противодействовать во всём государстве, сама окажется в безусловном повиновении у нескольких лиц или же одного хитрого и бесчестного честолюбца.
Он без иронии утишил напрасные страхи:
— Военные поселения опоясали нашу западную границу, потому что Европа вновь против нас, и в этом единственное их назначение, чтобы, в случай чего, не допустить неприятеля в другой раз до Москвы. Что же касается страстей честолюбца, полно тебе, опасаться его не приходится. Каково повиновение, доказывают волнения в Новгородской губернии. Чутьём русского человека мужики новгородские почуяли беду безысходную в поселениях и возмутились воле правительства. Против поселений пришлось двинуть батальон Перновского полка с артиллерией, по мужикам стреляли, рубили их саблями, после усмирения многих прогнали сквозь строй, лишь после сих строгих мер они покорились начальству, однако лишь внешне, я полагаю. Какая там каста, помилуй? Несчастные люди!
Трубецкой вздохнул тяжело, надолго задумался.
— Правда твоя, один ненавистный начальник может быть причиной восстания его воле вверенною части, и тогда какая возможность к усмирению озлобленных, имевших средства к отпору! Кто может поручиться за то, что небольшое даже неудовольствие не породит страшного бунта, который, вспыхнув в одном полку, не распространится в мгновение ока по целой округе? И возможно ль предвидеть, чем окончится такое восстание вместе соединённых многих полков?
Ему надоело без смысла вертеть сигару в руках, но разговор его увлекал, отчасти как упражненье ума, и он, закуривая от уголька, который выхватил из камина щипцами, сказал:
— Против этого средство простое.
— Интересно, какое, скажи?
Он улыбнулся, бросил в камин уголёк и водворил на место щипцы:
— Не иметь поселений.
— Да в том и беда, что содержание армии слишком недёшево обходится государству, в казне и без того дефицит.
Он затягивался сигарой, рассеянно глядел на огонь, неторопливо, с перерывами перечислял науке известные меры изжить дефицит и прибавить дохода казне:
— Надобно торговать, надобно развивать мануфактуры, ремесла, заводить всё новые и новые доходные отрасли, менее тратить на дармоедов-чиновников, коих у нас легион, не для дела, для подписи только, и государство станет богатым, армия же уменьшится за ненадобностью, как она уменьшилась в Англии.
— За ненадобностью, ты говоришь?
— Именно так.
Трубецкой задумчиво почесал подбородок:
— Каким образом?
— Довольно простым: кто широко торгует друг с другом, тот лишается причин воевать.
Трубецкой удовлетворённо кивнул, точно экзамен от него принимал, и заметил:
— Я вижу, тебе следует основательно ознакомиться с Монтескье, нынче все порядочные люди у нас учатся у этого мыслителя разумению истины.
Александр отмахнулся, не обижаясь на этот невинный совет, в последний год набивший оскомину беспрестанным своим повторением:
— С Монтескье я знаком.
— Неужто? Уже прочитал?
— Даже несколько раз.
— Когда ты успел?
— Ещё до войны.
Трубецкой швырнул окурок в огонь:
— Однако, я вижу, твои чтения случились давно, без системы, без цели, ты, чай, успел позабыть, что с ростом торговли и ремесла растёт и богатство, а богатство, в свою очередь, не может не усилить бессмысленной роскоши, этого вечного врага добродетели, этой истинной матери всех наших пороков, погубительницы древних и новых народов. По мере того как водворяется роскошь, умами овладевают частные интересы, изгоняя общее благо, и в том вернейшая погибель для общества.
Он улыбнулся:
— Монтескье, коли я, разумеется, правильно помню, причиной роскоши называет неравенство. При равном распределении полученных государством богатств роскоши не случается, а для распределения равного лишь надобно то, чтобы закон каждому давал столько, сколько необходимо для жизни, а людям, которые довольствуются только необходимым, не остаётся делать ничего, кроме славы для себя и Отечества, так уверяет нас твой Монтескье.
Трубецкой спросил как-то нервно, поспешно:
— Так ты хотел бы учреждения равенства?
Зная, как невозможно равенство, по крайней мере в нынешних обстоятельствах, он на вопрос не ответил, а только сказал:
— Я хотел бы, чтобы душу каждого гражданина сжигало стремление к славе, к славе своей и к славе Отечества.
— И для этого хотел бы учреждения равенства?
Он вынужден был объясниться:
— Нынче равенству никакой возможности нет, так какой смысл об нём толковать?
Трубецкой всё настойчивее вопрошал, так что, казалось, экзамен превращался в допрос:
— Стало быть, и желание славы нынче у нас невозможно?
Сигара истлела, засыпавши пеплом ковёр, Сашка снова станет ворчать, людоед, да и прав, и он бросил её и сказал, поднимая щипцами откатившееся полено и снова укладывая его в почерневшую пирамиду:
— Не совсем так. Порядочным людям следовало бы, прежде чем браться за Монтескье и Руссо, изучить основательно историю древних и новых народов, первейшую из наших учительниц.
— Постой, но ведь именно Монтескье излагает историю древних! Чего же ещё?
Скрестивши руки, глубоко откинувшись в кресле, наблюдая, как снова частыми вспышками разгорались дрова, быстро чернея и вдруг покрываясь беглым огнём, он развивал свою любимую мысль:
— Монтескье извлекает из фактов истории определённые выводы, которые полагает в основание разумного общественного благоустройства, и его философские выводы справедливы настолько, насколько сам Монтескье погрузился в историю, а наши порядочные люди не в состоянии проверить его, принимают чуть не каждое слово его слепо на веру, восхищаются громкими фразами, что вот, мол, свобода прекрасна и прочее, оттого, что они все, сколько я с ними знаком, получают воспитанье домашнее, немногие после того отбывают краткое наказание в корпусе, где программы довольно обширны, ведь мы обожаем размах, да дельных наставников днём с огнём не сыскать, а с университетским образованием у нас порядочных людей единицы. Это во-первых, а во-вторых, истинное знание этой науки, лучшей из всех, вселяет дух героизма, хотя бы на время, и в самую очерствелую душу. «Князю Святославу взрастшю и возмужавнно, нача вой совкупляти многи и храбры, и легко ходя, как пардус, войны многи творяше. Ходя воз по себе не возяше, ни котла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испёк ядяше, ни шатра имяше, но подклад постлав и седло в головах, тако же и прочий вой его вси бяху. И посылаше к странам, глаголя: «Хочю на вы ити».
— Ну, ты, вижу, слишком суров. Домашнее ли воспитание, корпус ли, университет, равно едино, нельзя не согласиться с тобой, что в образовании главнейшая вещь — это всегда и повсюду образование себя самим же собою. Иль я не прав?
— Ты прав, соглашаюсь охотно, истина непреложная, да без предварительных серьёзных познаний в древней и в новой истории Монтескье едва ли доступен даже самым порядочным людям, самостоятельно образовавшим себя. Втолковывают себе одни превосходные выводы, вменяют в обязанность следовать им, не разумея о том, что вся суть этого рода выводов в применении к обстоятельствам русским, покричат-покричат да разойдутся ни с чем. Слыхал я не раз.
Трубецкой дружески улыбнулся, мягко ему возразил:
— Нет, полно, с этой стороны ты нисколько не прав, даже удивительно мне, как о пустоте наших прений можешь ты говорить. У Монтескье научаемся мы, каким разумным общественным положением заменить нынешний несправедливый, неразумный порядок вещей.
— Я опять соглашусь, что у Монтескье, не у него одного, можно научиться и этому, однако ежели только об нём одном толковать, так он неизмеримо большему учит.
— Это чему ж?
Александр поворотился к нему, поглядел ему прямо в глаза, соображая узнать, в самом ли деле тот обременился жаждой познанья или по простоте своей из каких-то видов экзаменует его:
— Ты припомни, он говорит, что строй обществ при их возникновении устанавливается главами республик и что одна из причин процветания Рима состояла именно в том, что все его цари великими оказались людьми.
— Я об этом именно помню, так что же, по-твоему, из этого следует применительно к нам, любопытно узнать?
— А из этого, по-моему, следует то, что ещё слишком мало узнать, каким должно быть разумное, справедливое общество, и слишком важно для нас, какие люди положат ему основание и станут его продолжать. Таким образом, по моему убеждению, нам прежде всего необходимы великие люди.
Трубецкой рассмеялся, укоризненно покачал головой:
— Так это и всё? Однако ж в России никогда не бывало в них недостатка!
— Ну, временами и такие несчастья случались.
— Когда ж?
Он вновь рассеянно наблюдал, как резвилось пламя в камине, припомнил неторопливо, устав от ненужного спора:
— И в старые, да и в новейшие времена. Припомни хоть Ольгу, супругу убиенного Игоря, она жестокой была, но отнюдь не великой княгиней. А нынешний наш государь? Получив власть после столь странной кончины родного отца, обещал он, впрочем, большей частью намёками, отменить постыдное право владения крепостными людьми, да вкруг себя не отыскал никого, кто бы ему посодействовал в том, а пойти против желания всех, как свойственно одному великому человеку, до сей поры не решился, кишка, брат, тонка.
— Оттого что не понимали его, а нетрудно было понять, и вот ныне порядочные люди должны способствовать пониманию несправедливости и неразумности привилегий и права владения, первейшей в чреде привилегий.
— Уж не усердствовать ли и матушке моей с Монтескье?
Трубецкой громко отрезал, явным образом оскорбись за сердечные свои убеждения:
— Без понимания верного справедливого и несправедливого порядка вещей движенье вперёд невозможно, вот что твёрдо пойми, во благо себе.
— Пониманье необходимо во всём, да одного понимания слишком уж мало, как об этом твердит история на каждом шагу, надобно величие духа, чтобы решиться на правое дело, и трезвость ума, чтобы довести его до конца, а у нас, куда не взойти, все ораторы, которые пламенно полагают, что великое и преполезное дело творят, когда между собой или даже публично поносят жадного карьериста, слишком явного дурака при звёздах или прочих, то есть именно этих твоих, не разумеющих зла и добра в привилегиях.
— Так ты не станешь бранить ни карьериста, ни дурака?
— Помилуй, к чему? Уж когда пришла охота бранить, так с себя начинать!
— Очень жаль.
Он склонил голову набок и улыбнулся:
— Ну, право же, не сердись на меня, коль дурак.
Трубецкой поднялся, точно бы был виноват:
— Сердиться? Что ты, помилуй, я на тебя не сержусь. Однако поздно уже, мне пора.
Они дружески пожали друг другу руки, однако на сердце у Александра было по-прежнему тускло, томительно, тяжело, и ему не спалось. Возвратившись к камину, пристроившись в кресле, вытянув согреть ноги к огню, он по памяти раздумчиво перелистывал Нестора, отыскивая деяния тех, кто был велик не столько в делах кровавой войны, сколько в делах благоустройства и процветания деревянной Руси, но всё не виделось конца и края набегам да войнам, и слишком мало находилось великих устроителей Русской земли.
Не оттуда ли, не из тьмы ли веков, не от вечных походов и распрей тянутся все наши несчастья и беды? Не потому ли умеем мы побеждать и грознейшего ворога, с какого края земли ни пришествовал к нам, а примемся править дела да хозяйствовать — и самое богатство своё пустим от нерадения по ветру, а уж нарастить, прибавить его сравнительно с дедами, об том и что говорить.
На другой день, ночью почти не ложась, ничего не решив, с тяжёлой головой, с неуспокоенным сердцем, поспешил он явиться на репетицию своего водевиля.
Театр в самом деле был отстроен на славу. Впрочем, по внешности от допожарного мало чем отличался, тем же оставался огромный прямоугольник из камня, тот же портик с колоннами и барельефом, изображавшим бога искусств Аполлона. Извнутри же театр был целиком обновлён и увеличен значительно. Широкая парадная лестница вела в зал, который без красного слова повеличать можно бы было великолепным. Вместе с прочими зал этот образовывал обширное вкруг зрительного фойе, каким едва ли могли похвалиться и театры европейских столиц. В зрительном насчитал он пять ярусов лож, по двадцать четыре во всяком ряду, не включая шести бенуаров и трёх галерей для райка. Прямиком против сцены расположена была государева ложа, четырьмя кариатидами разделённая на три отделения, разубранная голубым бархатом, отороченным золотом. В партере, так сказали ему неотвязные доброхоты театра, размещалось триста шестьдесят кресел и стульев. Всего только за час, Александр Сергеич, только представьте себе, поверх кресел и стульев возможно настлать другой пол вровень со сценой, так что хитростью архитектора образовывался громадный зал, пригодный для маскерадов тысяч на десять или двенадцать танцующих. Потолок расписали аль-фреско. С потолка люстру спускали, в которой укреплены были лампы, сказали, свыше двухсот. Едва он ступил, как увидел, что в зале уже царил Шаховской. Пухлое лицо словно сделалось шире и густо блестело струившимся потом. Дряблые щёки и подбородок толстыми складками лежали на белой косынке, кое-как прикрывавшей короткую толстую шею. Спутанные редкие тонкие космы неопределённого, по старости, колера воинственно торчали вкруг беспокойной большой головы. Беспрестанно дёргая их, каким-то особенным образом закручивая свой длинный бесформенный нос в кулаке, извергая молнии быстрыми глазками, Шаховской визжал и картавил, проглатывая, должно быть мешавшие, буквы, всякий раз по-иному заменяя одну на другую, так что не находилось возможности приноровиться к нему, и останавливал репетиции, едва актёры успевали проговорить несколько фраз:
— Читай своим голосом! Своим голосом, миленький дурак, тебе, тебе говорю! Нет, чёрт побери, что за дрянь! Ты, миленькая дурища, уха у тебя нет! Где у тебя, ну, где у тебя, вот повтори, повтори, размер стиха где у тебя, сама рассуди? Ах ты миленький, ах ты подлец! По трактирам шляешься, а роли не учишь! Вот ты погоди у меня! Ты у меня насидишься! Чёрт подери, кого ты мне представляешь, кого? Миленькая дурища, барыня, барыня же она, не кухарка! В прачки тебе надо было пойти, а не на сцену, уж нет! Ну, завыл, зарычал! Изъясни человеческим голосом, это тебе не плац-парад, но театр! Стой, миленькая дурища, здесь у тебя каша, каша во рту! Что ж ты, милый дурачок, сукин сын, черти тебя унеси, опять зазюзюкал! Ты же с дамой, скотина, с дамой изъясняться изволишь, а не с вертихвосткой бранишься за то, что она бранится с тобой! И ты, миленькая дурища, за какой надобностью губы-то, губы сердечком сложила? А ну, раскрой рот, обезьяна, раскрывай, тебе говорят!
Тут же вскакивал, ударяясь чрезмерным брюхом о кресла, с изумительной лёгкостью взбирался на сцену, вертелся, кружился, ходил ходуном, влезал во все роли разом, подавал неожиданный жест, изумлял своей верной выразительной мимикой, кубарем скатывался со сцены, обтирал мокрое от пота лицо громадным искомканным перемятым платком и вновь возмущённо визжал:
— Ты, миленький дурак, опять на постели валялся? Ты мне не ври! Тебя тотчас видать! Ты дома работай, работай, работай, чёрт тебя задери! Экий, миленький подлец, ты лентяй! Театр — это же кузница! В театре сто потов сойдёт, а потом ещё сто, а всё мало, всё мало же будет, это вам как! Нет, дьяволы, вы убьёте меня!
И плакал, плакал навзрыд, не утирая отчаянных слёз, обречённо, страдальчески шмыгая носом.
Время так и летело.
Пятого февраля в новом театре был дан маскерад. Одиннадцатого афиша извещала весь город Петра:
«Притворная неверность», комедия в одном действии в стихах, переведённая с французского г-дами Грибоедовым и Жандром, дивертисмент «Цыганский табор» и «Семела, или Мщение Юноны», мифологическое представление в одном действии в вольных стихах, переведённое в стихах г-ном Жандром, с хорами, пением и балетом».
Тем же вечером разразился необыкновенный успех. К нему подходили, его поздравляли почти незнакомые лица, расхваливая прегромко его расчудесный талант. Александр был очень весел, в ответ непрестанно шутил, однако же вскоре стал примечать, что не все знакомые подходили, не все поздравляли его, даже из тех, кто непременно должен бы был подойти по приятельству или по давней приязни.
Он вспылил и бледный как мел бегом почти вышел в фойе, никого не узнавая от бешенства, едва различая фигуры пренарядных записных театралов, в чёрном и белом, только по цвету угадывая кавалеров и дам.
Кто-то в чёрном, с белой выпуклой грудью, в белом батистовом галстуке выступил из толпы и крепко, но вежливо взял его под руку, удержал и повёл за собой.
Александр с негодованием повёл головой, готовый до крови язвить, до остервененья кричать, до беспамятства проучить наглеца.
Рядом с собой увидел он Чаадаева с холодной и странной улыбкой, говорившего не спеша и небрежно, точно между ними завязался пустой разговор:
— На вас, мой друг, лица нет. Что с вами стряслось? При подобном успехе ваше выражение не совсем натурально, самолюбия же мелкого, вечный спутник и губитель посредственности, у вас, я всегда видел, нет.
Не вырывая руки, следуя рядом, куда вёл Чаадаев, благодарный ему без притворств, что не остался один и тем избавлен от глупостей, которые желал натворить, он бросил сквозь зубы, немилосердно кривясь:
— Душно, должно быть, вы тоже, кажется, бледны.
Слегка пожав ему локоть крепкими пальцами, Чаадаев холодно улыбнулся, точно не улыбка, а маска была, и взглянул на него снизу вверх:
— Не лгите, я бледен всегда. Вас сызнова кто-нибудь оскорбил, или заранее не ждёте от меня комплиманта?
— Комплиментов не жду, и не только от вас!
— Вы, мой друг, проницательны нынче, как, впрочем, все дни.
— Нынче, как вижу, ошибся!
— В чём же, осмелюсь спросить?
Александр выдержал паузу, которой остался бы доволен сам Шаховской, и бросил язвительно, сверкнувши глазами, точно намереваясь обжечь:
— Вы всё же сказали мне комплимент, а я в самом деле именно от вас никогда не жду комплиментов.
Чаадаев тотчас с усмешкой сказал:
— Вы исключительно правы, но на этот раз готов и второй.
— Вы, верно, желаете, чтобы я ответил вам тем же?
— Любопытно бы знать.
— Но, к сожалению, это не комплимент.
— Любопытно вдвойне.
Александр остановился, выдернул руку, поворотился к нему, чтобы видеть глаза:
— В наши дни, по моему убеждению, умнее вас не отыщется человека в России.
— Отчего же тогда «к сожалению»? Впрочем, благодарности вы, я надеюсь, не ждёте?
— Увы, я в таком настроении, что даже завидую вам.
Невысокий и стройный, очень прямой, откидывая голову немного назад, Чаадаев ответил с той же холодной усмешкой, с неожиданной печалью в красивых глазах:
— Ваше настроение едва ли может в скором времени перемениться.
— Позвольте узнать отчего?
— Кажется, вы у нас единственный человек, который домогается не чинов, а ума. От этого сумасбродства какого же ожидать настроения?
Что-то сильное, неколебимое, без претензий уверенное в себе передавалось поневоле ему, и Александр, сложив руки крестом, склонив несколько голову, уже спокойней бросил в ответ:
— Да? Это мысль! Но знаете, я был бы искренне за вас огорчён.
— Одному Богу известно, как именно мне не хотелось бы именно вас огорчать, однако что же поделать, к счастью, мы с вами вольны в себе.
— Именно так, да вольность тошна мне стала, и оттого, может быть, я променяю вольность на службу.
— По причине той самой глупой истории, которую наши юноши не изволят вам до сего дня позабыть?
— Отчасти из-за неё.
— Что за притча: вы остались учиться, я вступил в службу, так нынче вы нехотя хотите служить, а я бы с наслажденьем прочь и в отставку.
— Оставим меня, материя скучная, да вам-то какая попала шлея, много ли осталось вам в генералы?
Чаадаев слегка поклонился:
— Я вам как-нибудь исповедуюсь, однако ж теперь оставим меня. Вы, говорят, оступились, от вас я этого не ожидал.
Александр вздрогнул и резко, не соблюдая приличий, почти закричал:
— И вы, как это возможно, вы тоже верите этой чудовищной сплетне?
— Успокойтесь, перестаньте кричать, на нас станут смотреть, разумеется, нет, я сплетням не верю, не только об вас, к тому же я слишком знаю, что вы до сей поры не были трусом ни в чём, и поручусь перед Богом, если хотите, что трусом не станете никогда, хотя, имея честь на русской службе обратиться в философа, нахожу, что от всякого смертного следует всего ожидать, и, как ни грустно, именно скверного прежде всего.
— Благодарю!
— Не благодарите, не стоит, мой друг, я всё же об ваших достоинствах невысокого мнения.
— Ия.
Чаадаев приподнял несколько брови, должно быть изображая этим движением, что изумлён, хотя не испытывал изумления, по голосу было слыхать.
— Надо понимать: обо мне?
— На этот раз — об себе!
— Тогда вы истинно угадали, об чём идёт речь.
— Вы теперь спросите меня об комедии.
— Уже не спрошу: вы не написали её.
Александр заговорил скоро, с искренней болью:
— Я до сей поры не кончил и первого акта и, верно, уже не кончу её. Ещё не вижу, но чувствую, чувствую непрестанно, что надобно всё, решительно всё переделать, и замысел и стихи, а вот каким образом переделать — неразрешимый вопрос, на него нет ответа, как ни ищу.
— И, страшусь, не найдёте. Да и надо ль искать? Для вас это проба пера.
— Настоящая проба, не забывайте об том.
— Так поступая, как вы поступаете, вы никогда не создадите трагедии, ваш идеал.
— До идеалов ли мне!
— Ваша правда. Как не совестно вам сочинять эти легковесные штучки? Одну — я ещё понимаю: тоже проба пера, впрочем, проба пустая. Однако вторую? И третью?
Александр понурился, совестясь в самом деле:
— Меня попросили — я не сумел отказать.
— Чувство похвальное, однако ж беру на себя неудобную смелость напомнить, что вы помощью этого славного чувства зарываете в землю не один ваш настоящий талант, но и себя самого, так часто шутя сочиняя на случай.
— Да есть ли талант, вот ещё в чём проклятый вопрос?
Чаадаев нахмурился, и голос его потеплел:
— Полно, мой друг, я ещё помню счастливое время, когда не слыхал даже тени сомнений от вас.
— К сожалению, но то счастливое время молодого безумства я же сам, и давно, упустил.
— Примите в компанию, станем вместе жалеть, однако ж учредитесь философом, а вы же философ по натуре своей, так рождён, и откроется вам, что вы не только многое упустили, но ещё больше нашли.
— Каким образом?
— Вы что же, мою мысль не следите, мой друг?
Александр улыбнулся от удовольствия так говорить, как Чаадаев только умел:
— Даже слишком слежу.
— Тогда неловко подсказывать вам, но я таки подскажу, нынче вы не в себе, что сомнение — это начало познания, и вы, стало быть, на верном пути, познавая себя, ибо, лишь познавши причины причин, вы исполните счастливо то, что задумано вами исполнить.
— Сомненье, с другой стороны, убивает смелость ума, а творчество, сами судите, что без неё?
Чаадаев задумался, отступивши два шага назад, поджав свои пухлые губы, точная фигура мыслителя, застывшего на распутье ума:
— Смелость, говорите, нужна? Не извольте крушиться, смелость воротится к вам, так что сомневайтесь без всяких сомнений, однако ж не забывайте притом, что одному из образованнейших умов не одного только нашего прескучного времени ни к лицу как будто тешить себя, тем паче толпу скудоумных, бубенцами шута. Для вас, говоря без костюмов, настало время упорного, систематического труда, и прежде немилостивого труда над собой, без этого можно ли уловить дух высокой комедии, а уж дух трагедии, точно, останется нам недоступен. Не в службе вам надобно, а в свой кабинет, и запритесь на три замка от докучных просителей пустых водевилей крикливым актёркам на бенефис.
— В этом городе никакой систематический труд для меня невозможен, убедился вполне.
— С этой истиной, пожалуй, должен я согласиться, тогда возвращайтесь с Богом в Москву, где, я помню, трудились вы беспримерно, мне на зависть, в насмешку другим.
Александр призадумался, уткнувши подбородок в кулак, погружаясь в счастливое, но несчастное прошлое:
— Да, оно так, хорошо бы, науки вдохновляли меня беспрерывно, день ото дня, однако, страшусь, нынче в Москве ещё хуже, сгорела наша с вами Москва.
— Сгорела и встала из пепла.
— Да ехать нельзя.
— Отчего нынче так?
— Матушка меня слишком любит, ни над чем трудиться не даст, вдвойне над собой.
— Запритесь.
— Жить не могу взаперти.
Чаадаев словно бы с глубоким презрением поглядел на него, затворник извечный, хоть и гвардейский гусар, молодец, и с неудовольствием наставительно произнёс:
— Я полагал, вы душой и летами старше.
— Тогда как мне с недавних пор показалось, что я слишком уж молод, так что даже не смыслю ни в чём!
— Мой друг, разрешите напомнить преизвестное вам: надобно быть об себе высокого мнения, чтобы быть в состоянии подняться на должную высоту. Вам ли недоставало его?
Александр всё сутулился, часто менялся в лице:
— Что за вопрос! Я и нынче высоко себя ставлю, да есть что-то выше меня, что упрямо преграждает мне попасть на мой истинный путь, который, правду сказать, погрузился в туман.
— Тогда взгляните на Пушкина, племянника, а не дядю; мне его стихи вы похвалили, благодаря вашему мнению поимел я охоту познакомиться коротко с ними и с ним.
— В недавнее время мне льстилось прочесть ещё лучшие.
Глаза Чаадаева потеплели.
— Он отъявленный шалопай. Не в пример вам, как заведёшь с ним беседу, недостаёт и того и другого, однако ж в нём я всегда нахожу какую-то дьявольскую потребность неутомимой, впрочем, от всех досужих укрытой, работы, и вы поглядите, как этот мальчик шагает всё вперёд и вперёд у всех на глазах.
Александр потупился, однако ж не сдержал тягучего своего огорченья:
— Пушкин нынче от меня отвернулся.
— Глупость Пушкина я имел неудовольствие видеть. Надеюсь, с ним драться не станете, нет?
— Драться не стану.
— Я желал сперва ваше слово услышать, прежде чем вам указать, что станет время — от вас отворотятся решительно все.
— Начало положено, есть и другие, которые отворотились уже, пророчество ваше легко.
Чаадаев заговорил с убеждением, с холодным неприступным лицом:
— Пока что отворотились слишком немногие, сущие вздоры, хотя этот жалкий болван Якубович с упорством маниака повсюду перед отъездом твердил, что вы повели себя в этом деле как трус, там с тем укрылся за хребтами Кавказа.
— Как верить подобному дураку?
— Что ж, презренное большинство охотно верит тому, кто всех громче глотку дерёт, вам феномен этот надобно знать. Однако ж в вашей сплетне гаже то, что Завадовский тоже строил намёки.
Александр побледнел, вскинул вспыхнувшие гневом глаза:
— Так даже и он? Этот вылитый англичанин, эта воплощённая британская честь? Его поступка уж никак не пойму!
— Такой загадки отчего не понять? Завадовский как-никак застрелил человека и желал бы по этой причине свою вину переложить на другого, а дурак Якубович пошлой своей болтовнёй в тех гостиных, куда пускают его, подал здравую мысль, что переложить весьма удобно на вас. Вы промолчали в ответ, а тот, кто молчит, в мнении пошлых людей всегда кругом виноват.
— Не оправдываться же мне перед всеми?
Чаадаев согласно кивнул:
— Разумеется, нет. Порядочный человек оправдываться ни перед кем не способен, его правилам оправданья противны, которые, согласитесь, много выше тех правил, которые себе заводит толпа.
— Что же мне делать теперь?
— Вам? Ничего. Надо жить.
— Жить? Да как же мне жить, покрытым бесчестьем? По-прежнему я жить не хочу!
— Простите, мой друг. Я и без того ужасно изменил моим правилам, ваши одинокие прервав размышления. Простите меня ещё раз. К тому же на подмостках сызнова что-то дают, кажется, дивертисман, я удаляюсь, а вы?
Александр почти не слышал его:
— Покорно благодарю, я остаюсь.
— Прощайте, мой друг.
— Если я вас правильно понял, я тоже должен сказать вам: «Прощайте»?
Чаадаев только приулыбнулся в ответ своей холодной странной улыбкой:
— Если хотите.
Дома, сбросив Сашке на руки фрак, тотчас выгнав его, накричав, будто страшно мешал, Александр ходил беспокойно взад и вперёд и горько спорил с собой:
— Отлично, тогда изъясни, кто ты таков на нынешний день? Что представляешь ты из себя?
— Кандидат прав с чином губернского секретаря, и стал бы доктором с правом на чин десятого класса, когда бы не эта война.
— Ты прочёл две-три тысячи книг, ты твердишь наизусть слишком многие оттуда взятые мысли, то повторяешь чужие слова, как с подмостков каждодневно повторяет всякий актёр, с талантом, без таланта и вовсе бездарный, однако ж мысли, слова не твои, пусть и славные мысли, жемчуг слова, они не твои, не твои! Что ты самолично открыл, что сделал, решил, сочинил, чтобы земное твоё бытие не осталось совершенно бессмысленным, совершенно бездомным, бесплодным?
— Служил верой и правдой Отечеству, впрочем, в кавалерийских резервах от картечи и пуль далеко.
— Да война-то предавно миновалась. Что ты теперь?
— Разве нынче служат Отечеству? Нынче не Отечеству служат, а лицам, лицам жалчайшим, надобно правду сказать, неучи, проходимцы, мерзость одна, глядеть не могу!
— Полно, нехорошо лгать себе самому, словно юноша, служить Отечеству возможно и должно всегда и везде, пусть лица презренны и подлы.
— Соглашусь, да не в мизерных чинах, в которых не видно тебя ниоткуда, точно ты муха, в малых чинах уготована канцелярия либо казарма, до Отечества далеко, до Отечества высоко.
— Твои сверстники давно обогнали тебя, многие юноши тоже. Что ж, они поумней, поспособней тебя?
— Я бы этого не сказал.
— Вот видишь, следственно, ты мог быть впереди, когда б идти захотел.
— Однако ж дорога, по которой карабкаться надобно к высшим чинам и постам, с которых возможна служба Отечеству, а не лицам, омерзительна для благородного человека: по этой дороге повсюду грязь да навоз.
— И по этой причине ты избрал презрение к тем, кто по этой вонючей дороге всё же идёт?
— Не ко всем.
— Однако ж ко многим.
— Единственно к тем, кто прислуживается, не служит.
— Пусть так, но вот хоть, возьми, Иван Фёдорович Паскевич, посредственность, с вечной улыбкой, добровольный холоп, которому, в этом твоя правота, досталось в генералы не умением водить корпуса в дни войны, а умением представляться и водить корпуса на парадах и которого ты чуть не в глаза величаешь по уменью его дураком, всё ж, без сравненья, получше тебя.
— Разве пристало действовать благородному человеку маршировкой да подлым умением представляться, хоть и самому государю?
— Мы не об нравственности толкуем теперь. Мы теперь толкуем об том, что Иван-то Фёдорыч, хоть, может быть, и последний дурак, чем-то всё-таки стал и женат теперь на Элизе, в то время как ты остался ничем и ни с чем, и пусть в своей должности командира гвардейской дивизии этот, возможно, круглый дурак, бездарнейший из нынешних генералов, принесёт самую ничтожную пользу Отечеству, служа главным образом конечно же лицам, ты прав, ещё более служа себе да себе, он эту пользу Отечеству всё-таки принесёт непременно, а ты, умник-разумник, с тремя факультетами, по случаю только не доктор прав, семи пядей во лбу, препорядочный человек, какая от тебя-то родному Отечеству прибыль?
— Не спорю, от меня родному Отечеству прибыли никакой, да стоит ли его малая польза той жирной грязи, той удушливой вони, в которой Иван-то Фёдорыч уж измарался и ещё не раз, не два измарается по уши?
— Да, твоё неведенье возвышенно и благородно, ещё лучше, что проникаешься жаждой остаться возвышенным и благородным до конца своих дней, без пятнышка грязи, в одеждах белейших, красну девицу сейчас под венец, хоть с Жуковским слёзы пролей, хоть с Карамзиным воспой ручеёк под кустом, да что ж, по-твоему, в таком случае общему благу пусть служат одни подлецы да балбесы?
— Что ж благородному человеку избрать?
— Благородному человеку пристало избрать свой особенный путь, поспеши, время твоё не ушло.
— Это путь между благородством бездействия и бесчестностью службы?
— Скорей между наивностью и трезвостью мысли, между ничтожеством эгоизма и службой Отечеству.
На другой день его затерзали восторгами, к которым вовсе он не был готов. «Притворная неверность» сделалась популярна. Все возжелали давать её на домашних спектаклях. Со всех сторон адресовались к нему с нижайшими просьбами одолжить свой список на самое короткое время. Заниматься списками ему было лень. Он оказался принуждён обстоятельствами отдать «Притворную неверность» в печать, понадеясь, что затем его оставят в покое. Покоя пока не предвиделось. Его расхваливали в «Сыне отечества».
«Заметим при сем случае одно обстоятельство в переводе комедии. Переводчики, по примеру некоторых других новейших писателей, дали почти всем действующим лицам имена русские, заимствованные от собственных имён русских городов, рек и пр. ...Мы пойдём ещё дальше и спросим: почему нельзя на театре, по древнему русскому отличительному обычаю, называть людей по имени и отчеству? Доныне это было в обыкновении в одних фарсах: для чего не вывести того же в благородной комедии? Это не так трудно: стоит отличному писателю показать в том пример...»
Впрочем, шум был короткий, вспыхнул и спустя месяц угас. Вдруг всё отрезало, точно ножом. Да и что ж его театральные вздоры, когда в литературе извергся вулкан. Карамзин издал первые восемь томов своей «Истории государства Российского». Три тысячи экземпляров обширного учёного сочинения были разобраны в какие-нибудь три недели — дело в России до той поры небывалое. Говорили, что усидчивый автор на своём предприятии заработал тридцать тысяч рублей, — в России литературным трудом никто никогда таких деньжищ и близко не получал. Издатели тотчас принялись торговать второе изданье и купили его за пятнадцать тысяч рублей — уверяли, что подобное предприятие невозможно и в коммерческой, много читающей Англии. Все кинулись в первый раз знакомиться с своеобычной историей Отечества своего, до сей поры никому не известной. Даже светские дамы в сторону отложили жеманные романы Жанлис и впервые непривычные очи вперили в тяжеловесные учёные примечания. Карамзин стал везде нарасхват. Карамзин был во все дома приглашён. Во всех салонах Карамзин стоял и сидел в самом центре внимания, поклонения и бессчётных, самых лестных похвал. В честь Карамзина давали торжественные обеды, на которых внимали всякому слову Карамзина, как правоверные внимают священному слову пророка. В своём-то отечестве? Помилуйте, да подобного казуса не приключалось во все времена!
Вот это так настоящий успех!
Только лошадей не выпрягали из кареты Карамзина, как перед тем лет за тридцать лошадей выпрягали из кареты великого старца Вольтера и сами впрягались в оглобли гурьбой, чтобы с неслыханным торжеством проволочь по проспектам и переулкам Парижа.
В такой успех было трудно поверить. Сам издавна слишком пристрастный к истории, Александр доподлинно знал, какие непреодолимые трудности у нас взгромождались перед историком, ежели историк желал быть вполне и сполна добросовестным.
Наши библиотеки, в особенности московские, содержались в замечательном беспорядке. Каталогов никаких не имелось. Летописи не подвергались ещё обстоятельному исследованию умелых учёных. Грамоты были рассеяны по русским монастырям и архивам, отчасти пришедшие в бесстыдное запустение. О географии древней представления ни малейшего не имелось. Нумизматические собрания только ещё начинались. К археологическим изысканиям даже не приступали. Все наши сношения с державами иноземными скрывались в необозримых недрах иностранной коллегии. Иноземные летописи и свидетельства иноземцев, у нас побывавших, большей частью оставались для нас недоступны по нашему равнодушию к европейским учёным трудам. Были изданы лишь немногие летописи, однако ж издания из рук вон были плохи, без критики, без сличения одного текста с другим. На месте учёных трудов имелось несколько отпечатанных компиляций, да и компиляции нуждались в пристрастной проверке, поскольку ошибки и промахи так и лезли в глаза.
Однако ж всё это были трудности века, но не лица. Лицо же Карамзина было слишком известно. Певец бедной Лизы[97], певец безмятежно струящихся ручейков, как несговорчивый Александр упорно его величал, строго классического образования не приобрёл, древние языки если и знал, так слегка, исторической же критикой не было слышно, чтобы владел, хоть сколько исторической критикой владел Каченовский[98]. Карамзину, другими словами, предстояло начинать всё сначала. К тому же вся его библиотека сгорела дотла во время пожара Москвы.
И вот одним духом восемь томов, всего за пятнадцать каких-нибудь лет кропотливых трудов!
Чудеса, если только не бред.
В лавке Сленина[99] Александр тотчас взял все восемь томов и наглухо запёрся у себя, точно принявши совет Чаадаева. Уже предисловие поразило его благородным величием авторской мысли:
«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего...»
Он и сам именно так всегда смотрел на историю, история служила ему поучением и примером, он искал и находил на пропылённых веками скрижалях великие имена, которые воодушевляли его и которым жаждал он подражать, он видел историю человечества не только назад, как обыкновенно многие видят, но ещё и вперёд на века, словно лицом к лицу стоял перед ней, наперёд предугадывая расслышать невозмутимый, непредвзятый приговор над собой и своим растревоженным временем, произнесённый потомками, и эта мысль воспитательная, которой начинал Карамзин, многократно осмеянный им в эпиграммах, была ему слишком близка, да скептицизм его не был ещё истреблён, мало ли возвышенных у нас филиппических прокламаций, а вот посмотрим-ка дело-то в чём, дело сделать куда потрудней.
Он в волнении переставил свечу.
«Правители, законодатели действуют по указаниям истории...», если бы так, плод чувствительности, души добродетельной, не больше того, «...и смотрят на её листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна...», нет уж, верно, привык, никак нельзя без слезы, «...должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие...»
Эта мысль представилась ему замечательной. Он был сам с давних пор убеждён, что истинная заслуга правителя, законодателя, вождя, будь то кесарь, король или председатель Конвента, определяется именно тем, водворил ли правитель порядок на место хаоса и справедливость на место беззакония смуты, служил своим собственным выгодам и предубежденьям или соблюдал и соглашал выгоды подданных, даровал ли возможное счастье или грабил и воровал без пощады, своими или чужими руками, с добрыми намерениями или без них.
Так вот она — жестокая цена промедленья: его задушевные, его сокровенные, его самые вдохновенные мысли воплотил, согражданам подарил некто другой, нелюбимый, чуть не презираемый им, осыпанный сотней самых колких насмешек.
Вот именно: кто? Проказливая судьба хохотала над ним: его опередил Карамзин, над которым он потешался за дамские слёзы и вздохи, пролитые ушатами, испущенные без счета и меры в чувствительных повестях и стихах!
Ибо всякий грех наказан ещё на земле!
Он читал со смешанным чувством восторга, досады и зависти, противовольно выискивая новый предмет для глумливых насмешек.
«Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали ещё ужаснейшие, и государства не разрушались, она питает нравственное чувство, и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества...»
Можно ли было оспаривать эти достоинства и приметы истории, как бы ни желалось ему? В самом деле, всякого, кто доподлинно проникается в историю мира, в особенности в историю любезного Отечества своего, твёрдое знание величественных и грозных событий прежних, хотя бы и прилично отдалённых веков, обращает в философа, в стоика, в мудреца, который уже не дерзает легкомысленно бранить и язвить настоящее, каким бы тёмным въяве ни приснилось оно необразованному уму, ибо в глубинах прошедшего всегда отыщутся и темнейшие, обращает в мыслителя, который прежде брани всесветной и язвительных стрел посвящает силы просвещённого ума своего, изощрённого длительным зрелищем пронёсшихся неурядиц, мучений, голода, мора и смут, на познание вечных причин, на отыскание не столько желаемых, сколько возможных, наивероятнейших следствий.
Ибо, заглядывая в сокровеннейшие глубины истории, в самом деле нельзя не понять, что бедствия нынешние, выпавшие на долю нашего, немогучего, но тоже несчастливого поколения, как бы ни были горьки и утаены, даже непереносимы они, не приведут к погибели страждущее Отечество, но пронесутся, как уже проносились, и настанут иные, которые пролетят, в свой черёд.
И не жалок ли, следственно, тот, кто предвидит историю в будущем без таких и подобных ужаснейших потрясений и бед?
О безбедственном будущем легко и приятно мечтать, однако согласна ли с нашим то бурным, то буреломным прошедшим чувствительная эта мечта, вымогающая сладкие слёзы из затуманенных глаз?
Но постой, об чём же далее гласит Карамзин?
«Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума...» Право, без удовольствий разве нельзя? «...Любопытство сродно человеку, и просвещённому и дикому. На славных играх олимпийских умолкал шум и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читавшего предания веков. Ещё не зная употребления букв, народы уже любят историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере и дееписанию; омрачённый густою сенью невежества, народ с жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мёртвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; её творческою силою мы живём с людьми всех времён, видим и слышим их, любим и ненавидим, ещё не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность...»
Господи, что за дрянь этот новейший пошлый сентиментальный русский язык! Где строгие и мужественные речения наших удивительных летописей? Не теми ли простоволосыми и звучными словесами пристало историку повествовать о великом и грозном прошедшем? И к чему все эти отверстые гробы? И к чему это слезливое умиление перед измышленными пылкой фантазией старцами, юношами и насыпями древних могил? И для какой надобности эта красивая детская ложь, будто народ, ещё дикий, с жадностью внимал своим летописцам, никогда не покидавшим, как нам доносит история, своих суровых монашеских келий? И стоит ли корпеть над обширными историческими трудами лишь для того, чтобы источающими слёзы сказаньями об умильном прошедшем питать нашу смешную чувствительность, которая не пристала народу, одержавшему у нас на глазах столько величественных и громких побед?
Мимо всего этого, мимо!
«Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливнем, для всякого не русского вообще занимательные, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещённее России...», нет, мы с этим не согласимся, пардон! «...однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних...» Что за мерзкое самоуничижение русского пред всем европейским! Что за непростительный недостаток живого патриотизма! Отчего же любопытны не менее древних лишь некоторые случаи, картины, характеры нашей гневно-обильной истории? Разве русские не великий народ? И разве народу великому дана история не равно великая? «...Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг Отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы Храбрые, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверской, столь знаменитый великодушною смертью; злополучный, истинно мужественный Александр Невский; герой юноша, победитель Мамаев, в самом лёгком начертании сильно действуют на воображение и на сердце...» А что же на ум? «...Однако государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере, не знаю монарха достойнейшего жить и сиять в её святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV; Годунов, достойный своего счастия и несчастия, странный Лжедимитрий; и за сонмом доблестных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий...», экое кимвала бряцание, экая страсть к славословию, «...и царь Алексей, мудрый отец императора, коего назвала Великим Европа. Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская имеет право на внимание...»
Это что ж, и не более?! Да и поименованного станет слишком довольно, дабы внушить законную гордость за свою могучую, грозную и бедственную историю соплеменникам нашим и вселить достойное уважение в лживые души несправедливых к нам, иезуитски завистливых иноземцев!
Истинно всюду: ибо единственно величие национального духа созидает великое!
Как посмотреть да послушать эти заискивающие перед неверной Европой рулады, так недаром, недаром потешался он все эти быстротечно промелькнувшие лета над чрезмерной чувствительностью, малодушной слезливостью и пустословием этих пристрастных поклонников, этих добровольно приниженных искателей всего европейского!
Скажут, чувствительность да слезливость рождены добротой и мягкостью настежь открытого сердца? Ну, пожалуй, в источнике сомнения нет, да его всегда раздражала мягкотелость, податливость, слабосильность души, не гадающей, не напрягающей силы взлететь высоко, обокраденной жаждой великого подвига и жаждой могучих деяний.
Так и стряслось: даже в великом труде, задумать и исполнить который под силу только великому и могучему разуму, сердцу чрезмерно чувствительному, похоже, недостало сурового величия и спокойствия чувств.
Истинно, истинно жаль!
Но, возмущённый, Александр продолжал:
«С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться охуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твёрдости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей...»
Не суждение о малых значениях славолюбия в движении творческого труда, не указание на истинные возможности удовольствия, которое доставляет творцу сам по себе творческий труд, но скромная надежда Карамзина принести некую пользу своим соотечественникам горько и больно укорила его, изъязвила его смятенную, совестливую душу: он всё примерялся, он всё разыскивал достойное поприще для обширных своих дарований, однако ж до сей поры не выискал такого труда, который доставил бы ему удовольствие и которым он мог бы принести хотя малую пользу Отечеству, без чего не бывает деяния достойного и великого.
Так что предстоит ему в сей юдоли земной?
И он со страстью погрузился в эти восемь томов, влекомый тайной надеждой отыскать наконец то своё и особое место, на котором затерялась возможность прославить себя и Отечество, гражданину всякому цель, блага доля и жизни венец.
Кровавые, беспокойные, тягостные страницы нашей истории вновь проходили одна за другой перед ним в самой строгой последовательности, какой не давали ему ни скудные университетские курсы, ни настойчивая собственная пытливость. Дикая степь с первых дней грабежом и насилием набегала на Древнюю Русь, как нынче дикие горные племена грабежом и насилием беспокоят поселения землепашцев над Тереком и Кубанью, вечное озлобление варваров против цивилизации. Зажитки земледелия и торговли никому не давали покоя. Хищных хозар сменяли жестокие печенеги, место разбившихся о Русь, павших в прах печенегов заступали алчные половцы, а там кровавою рекой прихлынуло беспокойное время уделов, брат пошёл на брата с мечом, с огнём и с полоном, юный сын валил с княжеского стола седого отца, храбрые русичи истребляли понапрасну друг друга, и, точно сам Господь истощился терпеньем и остереженье послал неразумным, пронеслись косматые орды голодных татар и наложили вечную печать кочевого бесчинства: чёрные пепелища.
Разоряли и жгли, не умея, не слыша благодатного зова творить, однако могучая Русь всё стояла под мечом и пожаром, всякий раз неумолимо восставала из пепла неистребимым трудом своих землепашцев, обновляла старые, возводила новые города, засылала полные товаром ладьи в ганзейские порты, в Византию, на море Каспийское, а там на арабский Восток и в Китай и вновь обрастала богатством, приманчивым не для одних диких народов степи и гор, но и для европейских грабителей.
Чем, какой силой удержалась она, кроме тяжкого труда землепашца?
Одной ли верой Христовой, следствия которой, точно, ещё не исчислены, не постижны уму?
Александр размышлял, ожидая, наперёд предугадывая, что впереди, и вот наконец придвинулись достойные времена устроителей, а с ними счастливое время устроения Московского государства. Гнев чувствительного историка понемногу переменился на пафос. Деяния третьего Иоанна в душе историка воспламенили бесконечный восторг.
Он готов был и сам воспламениться восторгом, с детских лет предпочитая устроителей воинам, однако от страницы к странице чего-то всё более, всё настоятельней недоставало ему в этих возвышенных, возвышающих гимнах съединению разрозненных малых земель в единой державе, что-то всё более, всё настоятельней мешало ему.
Наконец достиг он события страшного: падения Новгородской республики, кичливой и непокорной, прародительницы Руси.
Любопытство его разгорелось.
Самые просвещённые народы Европы, британцы, французы, кое-где даже немцы, уже добыли себе конституции, и не пристало Руси плестись у Европы в хвосте, да всё не видать, не слыхать, чтобы наша конституция сделалась обозримо возможной, если не в ближние, так хотя бы в несколько отдалённые от нас времена.
Так что ж: русский народ, землепашец, купец, умелец на всё, не имеет способности или надобности добывать себе конституцию, чужда ли свобода собственности, свобода личности, свобода занятий его будто смиренному, патриархальному духу, иные ли обстоятельства взгромоздили преграды на нашем тернистом пути?
«...Так Новогород покорился Иоанну, более шести веков слыв в России и в Европе державою народною или республикою и действительно имев образ демократии: ибо вече гражданское присваивало себе не только законодательную, но и вышнюю исполнительную власть, избирало, сменяло не только посадников, тысячских, но и князей, ссылаясь на жалованную грамоту Ярослава Великого; давало им власть, но подчиняло её своей верховной, принимало жалобы и наказывало в случаях важных, даже с московскими государями, даже и с Иоанном заключало условия, взаимною клятвою утверждаемые, и в нарушении оных имея право мести и войны; одним словом, владычествовало, как собрание народа афинского или франков на поле Марсовом, представляя лицо Новогорода, который именовался Государем. Не в правлении вольных городов немецких — как думали некоторые писатели, — но в первобытном составе всех держав народных, от Афин и Спарты до Унтервальдена или Глариса, надлежит искать образцов новогородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность народов, когда они, избирая сановников вместе для войны и суда, оставляли себе право наблюдать за ними, свергать в случае неспособности, казнить в случае измены и несправедливости и решать всё важное или чрезвычайное в общих советах...»
В который раз чувствительность вступала в противоречие с разумом. Строгая мысль писателя исторического решительно отвергала своекорыстные кривотолки усердных паладинов самодержавного монархизма: конституция, по крайней мере олигархическая, как свидетельствовала живая история, нисколько не противоречила наклонностям русского духа. Шесть веков демократии в республике Новгородской убедят кого хочешь получше злокозненных заклинаний. Однако ж опровержение отчего-то не разбивало сомнений. Историк картинно его уверял, что все народы на первой ступени истории кладут конституции в основание своей государственности.
Какой же следовал из этого уверения вывод?
Он глотал в лихорадке страницы.
Вот оно, наконец:
«Хотя сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам...», с какого боку прилепилось здесь сердце человеческое, чёрт побери: для чувствительности это неразрешимый вопрос, избави Бог от неё, «...основанным на коренных правах, вольности, ему любезной...», опять за своё, да ежели вольность так чудесно нашему сердцу любезна, отчего она повсюду и на века задушена деспотизмом чуть не татарским, едва ли любезным ему? — вздор и пафос пера, а там и ещё: «...хотя самые опасности и беспокойства её, питая великодушие, пленяют ум...», не иначе на сем славном грамматическом выкрутасе сентиментальный историк увлажнился горячею слезой, «...в особенности юный, малоопытный...», и слеза, не иначе, покатилась по зардевшей щеке, слеза сожаления о малоопытной юности, «...хотя новогородцы, имея правление народное, общий дух торговли и связь с образованнейшими немцами...», которые, правду сказать, в те времена, обрядившись в белоснежные одежды тевтонского рыцарства, прехладнокровно швыряли русских младенцев в колодцы и кострища, ими же запалённые из русских домов, «...без сомнения, отличались благородными качествами от других россиян...», ага! сие благородство не республика ли в них воспитала? «...униженных тиранством монголов...», одних только диких монголов, тиранство отечественное нисколько не унижало остальных россиян? «...однако ж История должна прославить в сём случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему усилить Россию твёрдым соединением частей в целое, чтобы она достигла независимости и величия, то есть чтобы не погибла от ударов нового Батыя или Витовта; тогда не уцелел бы и Новогород: взяв его владения, государь Московский поставил одну грань своего царства на берегу Наровы, в угрозу немцам и шведам, а другую за Каменным Поясом, или хребтом Уральским, где баснословная древность воображала источники богатства и где они действительно находились во глубине земли, обильной металлами, и во тьме лесов, наполненных соболями...»
Право, это нагромождение разнородных исторических фактов довольно темно. Положим, истинно справедливо считать, что республика Новогорода пала не по прихоти Иоанновой, а по необходимости государственной, с которой во все времена не считаться нельзя, различие важное, однако ж, во-первых, и без Иоанна она устояла под мощными ударами немцев, шведов и многотысячных Батыевых орд, а во-вторых, на веки ли вечные пала она, имеем ли мы право разума утверждать, что республика русская, детище Новогорода, возродится в пределах всего государства, как только прежняя государственная необходимость падёт, приведя нас к нашей цели, то есть с нашим могуществом в пределах Европы и Азии завоёванным оружием деспотизма, как только новая государственная необходимость не потребует возрождения вольности, так любезной доброму сердцу историка, или уже никогда Россия не добудет себе конституции?
Следствием возмущённых его размышлений уму его открылся новый любопытный вопрос: если республика Новгородская была необходимым следствием древности, то какие причины удержали её шесть веков на плаву, тогда как прочие русские города её давным-предавно утеряли?
Он возвратился к тому, что так лихорадочно проглотил.
Да, вот оно, плотно осмысленная история Новогорода в делах его самых важнейших:
«В самых диких местах, в климате суровом основанный, может быть, толпою славянских рыбарей, которые в водах Ильменя наполняли свои мрежи изобильным ловом, он умел возвыситься до степени державы знаменитой. Окружённый слабыми, мирными племенами финскими, рано научился господствовать в соседстве...», то есть мирные рыбари сами собой вдруг обратились то ли в мирных завоевателей, то ли в мудрых владык, утвердив свою власть, которой сами не знали, над ещё более мирными финнами, что-то уж очень оно мудрено, «...покорённый смелыми варягами, заимствовал от них дух купечества, предприимчивость и мореплавание; изгнал сих завоевателей и, будучи жертвою внутреннего беспорядка, замыслил монархию...», однако ум наш пленяют республики, откуда бы взяться столь странному замыслу у новгородцев в умах? «...в надежде доставить себе тишину для успехов гражданского общежития и силу для ограждения внешних неприятелей; решил тем судьбу целой Европы северной...», экая темнота, ни зги не видать, «...и, дав бытие, дав государей нашему Отечеству, успокоенный их властию, усиленный толпами мужественных пришельцев варяжских, захотел опять древней вольности...», отчего же, однако, не захотели древней вольности Киев, Чернигов, Смоленск? «...сделался собственным законодателем и судьёю, ограничив власть княжескую...», княжеская-то власть каким образом тут оплошала? «...воевал и купечествовал; ещё в X веке торговал с Царёмградом, ещё в XII посылал корабли в Любек; сквозь дремучие леса открыл себе путь до Сибири и, горстию людей покорив обширные земли между Ладогою, морями Белым и Карским, рекою Обию и нынешнею Уфою, насадил там первые семена гражданственности и веры христианской, сверх произведений дикой натуры, сообщил России первые плоды ремесла европейского, первые открытия искусств благодетельных...», стало быть, до той счастливой поры ни ремёсел, ни искусств не имелось, а корабли, чудом помимо ремёсел возникшие, в вольный Любек отплывали с одними произведениями дикой натуры, то бишь с соболями, чёрт побери, историк обязан в сих случаях важных определительно отвечать: да или нет, а в этом месте у историка одни пленительные его душе словеса, «...славясь хитростию в торговле, славился и мужеством в битвах, с гордостию указывая на свои стены, под коими легло многочисленное войско Андрея Боголюбского; на Альту, где Ярослав Великий с верными новогородцами победил злочестивого Святополка; на Липицу, где Мстислав Храбрый с их дружиной сокрушил ополчение князей Суздальских; на берега Невы, где Александр смирил надменность Биргена, и на поля Ливонские, где Орден меченосцев столь часто уклонял знамёна пред Святою Софиею, обращаясь в бегство...»
В этих картинах, писанных широкою кистью, следующей полёту фантазии, сплошь и рядом он обнаруживал ненавистную велеречивость и более не без плавности закруглённых периодов, чем созрелых, обдуманных мыслей, и не обнаруживал почти ничего из того, что тревожило беспокойную его любознательность: какими ремёслами славились умелые новгородцы, какими товарами менялись с Востоком и с Западом, в каких предметах всемирного торга сами испытывали нужду, не находя им производства отечественного, а что производили в изобилии и добротно на зависть европейским и азиатским народам, какими земными трудами основали свои богатства великие и не этими ли богатствами откупили у князей свою вольность, ибо бедность извечно в неволю ведёт.
Помилуй Бог, сколько излишнего в этой обширной «Истории» и как мало в ней внутренней, кропотливой, созидательной и собирательной жизни наших смекалистых, оборотистых предков...
Как жаль...
И ещё одно возмутило его...
Да, вот оно, едва ли самое удачное место, прочно застрявшее в памяти, как ни поспешно он его в первый раз промахнул:
«Летописи республики обыкновенно представляют нам сильные действия страстей человеческих, порывы великодушия и нередко утомительное торжество добродетели, среди мятежей и беспорядка, свойственных народному правлению: так и летописи Новогорода в неискусственной красоте своей являют черты пленительные для воображения. Там народ, подвигнутый омерзением к злодействам Святополка, забывает жестокость Ярослава I, хотящего удалиться к варягам; рассекает ладии, приготовленные для его бегства, и говорит ему: «Ты умертвил наших братьев, но мы идём с тобою на Святополка и Болеслава; у тебя нет казны: возьми всё, что имеем». Здесь посадник Твердислав, несправедливо гонимый, слышит вопль убийц, посланных вонзить ему меч в сердце, и велит нести себя больного на градскую площадь, да умрёт пред глазами народа, если виновен, или будет спасён его защитою, если невиновен; торжествует и навеки заключается в монастырь, жертвуя спокойствием сограждан всеми приятностями честолюбия и самой жизни. Там достойный архиепископ, держа в руке крест, является среди ужасов междоусобной брани, возносит руку благословляющую, именует новогородцев детьми своими, и стук оружия умолкает: они смиряются и братски обнимают друг друга. В битвах с врагами иноплеменными посадники, тысячские умирали впереди за Святую Софию. Святители новогородские, избираемые гласом народа, по всеобщему уважению и их личным свойствам, превосходили иных достоинствами пастырскими и гражданскими, истощали казну свою для общего блага, строили стены, башни, мосты и даже посылали на войну особенный полк, который назывался Владычным; будучи главными блюстителями правосудия, внутреннего благоустройства, мира, ревностно стояли за Новогород и не боялись ни гнева митрополитов, ни мести государев Московских...»
Ему тоже весьма были известны новгородские летописи, и, разумеется, не мог он сказать, чтобы все эти доблести, перечисленные столь вдохновенно, были измышлены нежно-сердечным историком, однако ему противен был тон панегирика, которым воспевались деяния новгородцев этого рода.
На его вкус, может быть, воспитанный дурно, не в правилах Оссиана и Грея[100], была бы много уместней суровость и простота древнеславянских письмён, изложенных языком полузабытым, но сильным.
В самом деле, к чему витиеватые славословия там, где должна говорить одна справедливость, полновесно и твёрдо?
Достойному чрезмерная хвала недостойна.
И всё же лавина в восемь томов сокрушила его. Не ради одного удовольствия, не ради праздных забав изучал он с упорством и многие годы историю отечественную, а также всемирную, тайно приготавливаясь к чему-то значительному, годы и годы не ведая, к чему и когда приступить, и вот ещё один славный путь служения себе и Отечеству едва ли не окончательно закрыт перед ним.
Положим, многие страницы обширной «Истории», исторгнутой трудом Карамзина, он переписал бы по-своему, наново, с иными мыслями, иным языком, однако величие духа лишь в дерзновении сделаться в чём-нибудь первым.
По истоптанным тропам легкомысленно и с охотой ступает только посредственность, страсть подражания, нерешительность духа, мелкость ума.
Правило вечное, оно подтверждалось на каждом шагу. Куда бы он ни являлся, в какие бы двери он ни входил, всюду его встречало восторженно произносимое имя Карамзина и громкие толки о том, какой неслыханный подвиг совершил историограф царя: восемь томов, Боже мой, да ещё, говорят, обещан девятый, даже десятый!
Письмо Сперанского, мечтателя, составителя конституции, имевшего смехотворную веру продвинуть статьи, дарующие свободу, по скрипучим канцелярским удушительным колеям, было у всех на руках, как у всех на руках полгода назад была его фасессия против Загоскина.
«Весьма благодарен вам за Историю Карамзина. Что бы ни говорили ваши либеральные врали, а История сия ставит его наряду с первейшими писателями в Европе. Скажу даже, что я ничего не знаю ни на английском, ни на французском языке превосходнее. Слог вообще прекрасный, дух и времени и обстоятельствам и достоинству Империи свойственный; богатство учёности и изысканий действительно везде редкое, а у нас и невиданное и небывалое. Он и Уваров у нас суть первые учёные люди из русских, первые не только по достоинству, но и по времени. В сём роде, то есть в истинной учёности, от Феофана до них, у нас совершенная пустота. Я говорю о русских, а не о немцах, Кои занимались нашими делами и ныне ещё занимаются с великим успехом. Можно сделать несколько примечаний и мелких поправлений, но что значат сии маленькие пятна! В посвящении слог моложав и даже есть некоторое острословие, важности предмета несоразмерное, но кто читает посвящения? И Корнель, и Расин писать их не умели. О предисловии тоже можно сделать примечание, но я говорю об Истории, а не о фразах и мелочах. Не приобщайтесь, ради Бога, к толпе людей, кои не умеют или не хотят отдать справедливости самым истинным достоинствам, когда не находят в них своих систем или своих предубеждений: совет, впрочем, излишний, потому что вы любите и правду, и автора, и прежде всех других превозносили мне и труд его, и образ мыслей. Есть точка зрения, с коей молено совсем иначе и, может быть, справедливее смотреть на нашу историю и написать её, но сей вид должно предоставить потомству и будущим томам».
В Английском клубе в честь Карамзина составился пышный обед, яблоку негде было упасть.
Александр тоже явился, с холодной улыбкой, к тому часу, когда обед уже почти отошёл и Карамзин уехал усталый домой. Проходя опустевшими залами, раздражённо оглядываясь по сторонам, точно кого-то искал, приехал затем, он расслышал, как вездесущий Венгерский, с напомаженной головой, словно облизанный деревенским телёнком, фатовски подбочась, с искренним удивлением восклицал:
— Помилуйте! Что за содом? К чему эти крики? Велика беда, Историю написать! Да он в ней ничего нового нам не сказал!
Барон Розенкампф, в мундире, в пышнейших усах, с презрительной наглой ухмылкой на глупом немецком лице, громко вторил хлыщу, раскатывая барственный голос, точно на параде скакал, сам жеребец:
— А, вы это сказали? Я рад от души! Истинно так! Уверяю-ю-ю, Историю государства Российского я сам лучше бы написа-а-ал, когда бы не остерегался затесаться в историю, да-а-а-с!
В углу, за столиком красного дерева, с дрожавшим от негодованья лицом, полуприкрылся газетой Тургенев, хромой, Николай.
Александр спросил, подойдя:
— Я гляжу, вы ищете в клубе людей. На ком потушили фонарь? Признайтесь, я не обижусь, привык.
Тургенев выпростался из-под газеты не далее носа, кашлянул, сердито сказал:
— Не шутите, нынче стыдно шутить.
Александр сел напротив него и молчал, уверенный в том, что Тургенев, человек хладнокровный и сильный, не замедлит, душой отойдёт от волнений обеда, заведёт разговор, уж разумеется, вторым словом заденет «Историю», любопытно было бы его просвещённое мнение знать.
Взглядывая поверх листа, который явным образом не читал, Тургенев несколько раз бросал на него рассерженный взгляд, точно просил, чтобы на все четыре стороны удалился, наконец процедил:
— Вам не противно иметь жительство в нашем преславном Отечестве?
Александр подивился началу, ответил полушутя:
— Не всегда.
— Отчего?
— Полагаю, что оттого, что какое ни есть, а Отечество наше.
— На этот счёт вы, разумеется, правы, однако ежели бы оно хотя граждански было свободно и дураков плодилось бы в нём хотя поменее раза в два.
— Смею спросить, вы об дураках разузнали в газетах?
Тургенев швырнул газету на стол, сердито отрезал, точно подраться хотел:
— В газетах я только то разузнал, что в Париже ветер сдувает с крыш черепицы и с облучков кучеров!
— Так вам жаль черепицу или одних ямщиков?
— На этот раз мне жалко только себя.
— Охота читать вам наши газеты, мерзость одна.
— Вы правы, да не попалась иная.
Александр не сводил с него пристальных глаз.
— Тогда я вас спрошу в свой черёд: отчего так жаль вам себя?
— Страшусь, что мою теорию о налогах нынче ни один человек не поймёт, а мнение моё касательно крестьян не понравится многим, чуть ли не всем. Сколько людей, которые жаждут свободы, а свободных нет никого!
Александр пошутил, надеясь шуткой рассеять его:
— Об этом вы тоже обогатились в газетах?
Неприязненно взглядывая по сторонам, невысокий, красивый, не слушая, должно быть, его, Тургенев резко спросил:
— Вы застали Карамзина?
Вытягивая ноги под стол, приготавливаясь к долгой беседе, пусть в клубе стряслась, так что ж, чего не приключится на свете, Александр лукаво отклонился от истины:
— К несчастию, я опоздал.
Тургенев дёрнулся, угловато склонился к нему, вперил мучительный взгляд куда-то ему за плечо:
— Вы упустили сюжет для комедии: великий человек, окружённый дураками и сволочью.
— Помилуйте: сюжет ваш слишком не нов. Когда, укажите мне на скрижали, великого человека окружали равно великие? Оттого, мне мнится по глупости, великий человек и велик.
— Беру вашу мысль, а всё ж, согласитесь, противно. Отобедали, в общем, тихо и мирно, и то: не Багратиона тешили в клубе в Москве, а после обеда мягкий, застенчивый Карамзин из благодарности, из понятий о правилах деликатности принялся рассуждать с членами клуба и коснулся до политической экономии, Бог весть с чего. Балугьянский, наш ректор, профессор и статс-секретарь, затесался с ним в разговор. Николай Михайлович его озадачил, да это не слишком и мудрено, известное дело наши профессора. Отвечать бы было нетрудно, да Балугьянский, к моему удивлению, принялся плести такой сущий вздор, какого я уж никак не ожидал от него, ну дурак, ну тупец, так есть же предел!
Александр усмехнулся:
— Помилуйте, дуракам и тупцам сам премудрый Господь никакого не поставил предела.
— Это бы всё ничего. Едва Карамзин удалился, поднялись такие толки об его бессмертном и для русских неоценимом творении, что хоть криком кричи, мочи нет, понять не могу, как не повредился в уме.
Он серьёзно спросил, приглядываясь к нему:
— И вы, опасаюсь, кричали?
Улыбнувшись нехотя, криво, точно с брезгливостью отряхивал губы, гадость налипла, чёрт знает что, Тургенев отрицательно покачал головой:
— Было сбирался, да кстати заронилась здравая мысль о метании бисера перед свиньями. Чтобы желчь улеглась, взял в руки газету, по несчастию случая, нашу. Боже мой, что за вздор!
— Однако, я полагал, вам не тайна, газеты нарочно придуманы для помещения вздора, для чего же ещё?
— Э, как не знать, истина слишком простая!
— И что ж вы нашли?
Так вот, лорд Стангон, объявляется нам, сказал речь, в которой имел честь доказывать, что великая Англия должна водить побеждённую Францию на помочах.
— Чему ж удивляться, Британия желала бы водить на помочах весь мир, как моя матушка в малолетстве водила меня, и даже Россию, и нынче Россию, сдаётся, прежде всего.
Сутулясь, собирая складками лоб, склонив голову над крышкой стола, точно иголку искал, Тургенев ответил с яростной, но усиленно сдержанной злостью:
— По этой причине я бы крайне желал скорейшего перевода «Истории государства Российского» на все европейские языки, первый английский, англичанам в науку.
Александр был до того потрясён оригинальностью сего аргумента в европейской политике, что не сдержался, да и сдерживать себя не хотел, довольно громко вскричал:
— Боже мой, для чего?
Тургенев поднял глаза, горевшие гневом, точно поднимался в штыки:
— Дабы господа европейцы изволили доподлинно знать, что Россию никому ни в какие века не удавалось водить на помочах, даже татарам.
На вскрик его обернулись, это мгновение отрезвило его, и он, двинувшись в кресле, точно сесть поудобней хотел, сел привольно, обхватил себя руками за плечи, сообщил с прозрачной улыбкой:
— Слышно, французы и немцы уже взялись перевести, да не отрывки, а разом восемь томов.
— Самое время, знакомство с Россией впрок им пойдёт. Вы, конечно, читали?
— Как не читать.
Положивши небольшие изящные руки на крышку стола, часто взглядывая ему прямо в глаза, точно ждал и вот дождался наконец своего собеседника, Тургенев заговорил негромко, неторопливо, но страстно:
— Я читаю её всякий вечер. Выразить невозможно: я чувствую неизъяснимую прелесть, некоторые происшествия нашей истории, проникая в самое сердце, как молния, роднят меня с русскими древнейших времён. Всюду что-то родное, любезное! Кто может усумниться после того в чувстве патриотизма? Но что он иногда говорит! Надо бы было прямо сказать, что история народа самому народу принадлежит, смешно дарить ею царей, тем паче, что добрый правитель никогда не отстраняет себя от народа.
— Полноте, так же и злой.
— А нашествие татар и Батый? Ужасная эпоха, не правда ли? Никогда не чувствовал я того, что чувствовал, читая описание несчастий России, тогда постигших её. Интерес как будто далёкий по времени, однако ж такой близкий для сердца, которое не только сильно чувствует горькие беды России, но даже умеет ценить великодушие и патриотизм. Мне не осталось больше сомнения, что русские показали себя в те поры в своём истинном народном величии. Чувство, что сам я происхожу из презренных татар, никогда не ослабляло во мне чувство России, но в это чтение я происходить желал бы от русского. Однако все эти прекрасные чувства до шестого только волюма, где Иоанн Третий и Россия при нём. Конечно, приятно, в особенности с начала, видеть твёрдые успехи благоразумного единовластия, однако не знаю, как изъяснить, только с ним вместе Россия приемлет какой-то вид мрачный, покрывается трауром: она, истинно, поднимается из уничижения своего, но поднимается заклеймённая знаком рабства и деспотизма, которые извещают, что приобрела и чего лишилась она.
Тургенев трудно сглотнул, облизнул пересохшие губы, жадно выпил вина, стоявшего перед ним, жестом предлагая ему, придвигая бутылку и свежий стакан, точно в самом деле поджидал собеседника, и угрюмо заговорил:
— Не знаю, как вы, но я все, даже междоусобные войны, читал если не с удовольствием, то с интересом великим. Сердце билось то за одного, то за другого, за несчастных князей. В царствование же Иоанна Васильевича я желаю успехов России, но, право, как существу, от нас отдалённому, которому воссылаем желание рассудка, но не чувствования сердечные: как Мемнон, стоит она неподвижная и льдяная, нечувствительная к частной судьбе детей своих, столь её любящих, столь преданных ей. Я замечаю на этих холодных страницах, что наш мудрый историограф, побеждая рассуждением систематическим порывы своей, без сомнения, благородной души, заботится только об том, чтобы представить царствование Иоанна Васильевича выгодным и даже для России счастливым и скрыть и рабство подданных, и укоренившийся деспотизм. Я вижу в царствование Иоанна счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную, по причине унижения уделов, его с благоговением благодарю как государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так, как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, однако сыны её утратили личную свободу надолго, слишком надолго, кажется, что навсегда. Её история с сего времени принимает вид строгих анналов правления самодержавного. Мы видим Россию важною, великою в отношении к Германии, к Франции, к прочим иноземным державам, но история России для нас исчезает. Прежде мы имели её, хотя и несчастную, теперь перестали иметь: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигнуло колосс Российский! Мы много выиграли, да много и потеряли. Русский не может не читать историю своего Отечества с сего времени с удивлением, но редко с любовью. Впрочем, правду сказать, до ужасов-то я ещё, видно, не дочитал, а пока инде кнут, инде название: Федька и подобные им.
Александр проговорил, усмехаясь:
В его «Истории» изящность, простота Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута.Вскинувши голову, с удивлением поглядев на него, Тургенев быстро, увлечённо спросил:
— Пушкина, да?
Александр поднял брови, от неожиданности рассмеялся холодно, отчасти и зло:
— Такая известность и в такие-то лета. Счастливец! В мнении публики всё остроумное принадлежит нынче только ему, точно кроме и нет остроумцев.
— Вы правы, конечно, да не совсем. Как послушаешь об нём мнение наших ценителей, какая глупость, какая самонадеянность, злость. Видно, в литературе, как и в мнениях политических, хорошие писатели стоят против варваров тех же, против которых благородные люди стоят в мнениях гражданских и политических. Дураки и хамы повсюду с одной стороны.
Он поспешил перевести разговор на другое, раздосадованный простительной ошибкой Тургенева, не желая более намекать на авторское своё самолюбие:
— Вы с ним знакомы?
— С Пушкиным? Да, он изредка даёт мне короткий визит, однако ж много чаще и с чувством посещает брата моего Александра.
Он поправился, удивляясь оплошности, которую всё-таки вдруг допустил, не имея нисколько намеренья так оплошать, верно, заноза ушла далеко:
— Вы знакомы с Карамзиным?
— Даже очень знаком.
— Отчасти я завидую вам.
Раскрывши глаза, видно, что от всей души удивившись манере его восхищаться, Тургенев со смехом, весёлым, но мелким, громко спросил:
— Отчего лишь отчасти? Какой каламбур!
— Близость к великому человеку благотворна всегда, как не признать очевидность, слишком известную, в особенности для людей молодых, но мне хотелось бы знать, каким образом в наше время человек истинно просвещённый и мудрый может оставаться пропагатором, даже приверженцем и поклонником деспотизма, тем более деспотизма почти азиатского, тогда как просвещение ведёт непременно, неумолимо к республике, об чём, догадываюсь, ведают все самодержцы и деспоты, просвещённых помещая в темницы, оставляя народ в темноте?
— В глубине души Николай Михайлович почитает себя республиканцем по убеждению, и даже клянётся в тесном кругу, что таковым и помрёт.
Имея эту привычку, Александр посклонил голову несколько набок, поразмыслил мгновенье, взглядывая поверх стёкол очков, и с ядовитою улыбкой спросил:
— Что это, славная шутка его? Как нынче изрядно тонко изволят шутить!
Тургенев ядовитость улыбки, много вредившей ему, мимо глаз пропустил, плечами пожал, отвечал без смущенья:
— Как бы не так. Республиканизм есть истинное его убежденье, не раз мне слышать довелось от него горячее восхищение самим Робеспьером.
— Тогда за какой надобностью он нам проповедует суровую прелесть единовластия? Он лицемер?
— Помилуй, какие ты слова говоришь! Постыдись! Он при мне как-то сказал, как в северном климате печи зимой, так он хвалит в России единовластие, а не республику, и что нынешние умники, как он ласково нас величает, которые мечтают уронить троны и навалить на их место журналы, полагая, что журналисты способны к управлению миром лучше царей, по этой причине не так уж и далеки от глупцов.
— Вы, я слышу, с ним не согласны?
— Только отчасти.
— Вот видите: тоже только отчасти, я наперёд так и знал. Так в какой?
— Трон в самом деле не заменишь кипой журналов. Однако силой и духом народным процветали одни древнейшие государства, Эллада пример, да и они силой и духом народным не удержали свою независимость, тут Эллада тоже пример. Государства новейшие не могут наслаждаться ни силой, ни благосостоянием, ни свободой без благоустройства внутреннего, в котором по нынешнему состоянию народов хозяйство государственное занимает неоспоримо первейшее место. Успехи разума, более и более съединяющие народы образованием, после многих и долговременных заблуждений имели наконец одним из благодетельных и полезнейших следствий открытие тайны народных богатств. Государства, частным лицам подобно, то есть людям в отдельности, всегда желали обогащения, предполагая, и в этом случае с большой справедливостью, чем лица частные, что богатство ведёт к благоденствию, но путь, избираемый для достижения такой важной цели, слишком редко оказывается верным. Ныне пути к возможному обогащению народов наконец стали известны, но предрассудки, следствие мало распространённой образованности или застарелой привычки, а также необходимость, этот плод долговременных заблуждений, препятствуют ещё и поныне государствам твёрдыми шагами встать на открытый науками путь. В таком положении вещей искоренение правил ложных и, следственно, вредных и распространение правил справедливых всего более может споспешествовать общему благу.
Внезапная мысль, пусть изложенная чересчур многословно, была слишком ему любопытна, и Александр, поправив очки, с живостью его попросил:
— Растолкуйте непросвещённому, каким образом вознамерились вы распространять справедливые правила?
— Извольте, первым своим шагом полагаю я издание брошюры по теории налогов, моего сочинения, плод долговременных размышлений, ещё в бытность мою на службе при Штейне, сперва в Германии, после во Франции, следствием чего, сознаю, явились недостатки в её изложении, в особенности касательно общего свойства, а также налогов, у нас существующих, вырученные же деньги предоставляются мною в пользу крестьян, которых содержат в тюрьме за неуплату налогов, чтобы таким образом соединить теорию с практикой.
Замечательный человек, а одной брошюрой замыслил всё и вся разрешить, и Александр передвинул свой стул, придвинулся как можно ближе, точно был глуховат, лишь бы слушать с полным вниманием, переживая и радость за этого человека, который свой истинный путь отыскал и наконец не только так мыслил, как должен мыслить порядочный человек, но и как государственный муж, и зависть к тому, что не ему самому принадлежат эти зрелые мысли о богатстве народов и государств, и злость на себя, что всё ещё не нашёл своего подходящего, в самом деле достойного поприща, и было смешно, какой детской игрой соединялась тут теория с практикой, что делать, таков везде человек.
И, глядя открыто сквозь стёкла очков, опасаясь, как бы в словах его не послышалась именно зависть, не желая смеяться, он возразил:
— Преотличная мысль, она приводит меня в восхищенье, однако ж, помилуйте, Николай Иваныч, голубчик, почто же спешить с тиснением вашей брошюры, когда вы сами прозреваете в ней недостатки существенные?
Помолчав, задумчиво глядя в себя, надеясь эту загадку понять сам с собой, обхвативши подбородок небольшими красивыми пальцами левой руки, Тургенев признался с сомнением:
— Та же мысль в голову приходила и мне, но, ознакомясь подробнее с положением дел в любезном нашем Отечестве, я пришёл к убеждению, что именно русский в России обязан спешить с распространением добытых наукой идей, в такой мере государственное хозяйство находится в прямом запустении, к тому же предоставлено в руки дураков и невежд.
Эта мысль о поспешности именно русского и в России представилась ему не совсем справедливой:
— Не могу не быть с вами согласен касательно положения дел в нашем Отечестве, однако разве ваше положение в службе не дозволяет вам соединять теорию с практикой более основательным, главное, более действенным способом?
Тургенев поднял на него полные грусти глаза:
— Моё положение в службе? Полно, если бы моё положение вам было известно в подробности! Вот вам один лишь пример, впрочем два, из желания быть объективным. У нас на днях один член Государственного совета с пеной у рта утверждал, что во Франции революция произошла от учения политической экономии, а министр юстиции ему отвечал, что, мол, вовсе не так, что тамошняя революция произошла от статистики. А вот и второй: у нас более полугода, я полагаю, тянется дело о рассмотрении действий управляющего военным министерством генерала от инфантерии Горчакова, может, слыхали?
— Как не слыхать!
— Срамное, ужасное дело! В государстве главнейшие лица обвиняются в том, что взятки берут! И к тому же им всё сходит с рук, кроме награбленных денег и наворованных доходных аренд! И что же? А то же, что дебаты обнаружили неспособность членов Государственного совета к делам в случаях тех, где они должны или по ошибке сами хотят рассуждать. Все они в тех только случаях хороши, где надобно поставить росчерк пера, ежели, впрочем, бывают на свете такие дела. Слушая голоса Шишкова, Дезина, Попова и Ивана Борисыча Пестеля, под игом которого не в дальнем времени стоном стонала Сибирь, я вспоминаю Вольтера, который сказал: «Боже, для чего ты создал так много скотов и так мало обладающих разумом?» Впрочем, последнее не так к Горчакову приспособить возможно, но зато первое очень к его делу прилично. Члены спорят, иногда жарко, иногда колко, но всегда глупо со стороны оппозиции. Шишков предстаёт во всей наготе своего государственного бессмыслия. Другие рассуждают точно как полоумные. Глупые фанфароны, смешные защитники слабых! Больно видеть, что такие люди должны по обязанности иногда рассуждать и о благе Отечества! Таких ли сынов от русских должно оно ожидать? Судите сами, скоро ли добьёшься проку с такими советниками государственными?
Вытянув руки перед собой, Александр машинально теребил угол газеты, размышляя о том, что на его вкус такая служба была невозможна, что по нему уж либо делами ворочать, либо препустые словеса из пустого в порожнее заводить, а препустые словеса, даже в том случае, если они страсть как возвышенны и благородны, он терпеть способности не имел и потому нетерпеливо спросил:
— Однако же вы, сколько знаю, не оставляете мысль против рабства?
Тургенев нахмурился, отстранился, резко сказал, точно и тень сомнения в твёрдости его коренных убеждений глубоко оскорбляла его:
— Владение другими людьми, самая зависимость человека от человека безнравственны и противоречат идеалу свободы, который выработан теперь просвещением.
Точно этим резким тоном разбуженный, оставив в покое газету, мягким движением отодвинув её от себя, Александр дал себе слово впредь последить за собой и спокойно проговорил:
— Безнравственно? С выводом просвещения не согласиться нельзя, да разве самое положенье зависимых не ужасно?
— Позвольте, давно ли вы живали в деревне?
— Я в деревне, признаться, давно не живал, разве что в детстве да по болезни сколько-то во время войны, я не владею никем и ничем.
Тургенев отстранился, нетерпеливо заговорил, нервно постукивая остриями крепких ногтей по крышке стола, точно бил в барабан:
— Так вот, положение дел у нас таково: по большей части крестьяне, которые принадлежат людям знатным и вместе богатым, находятся в положении благоприятном. Есть из них даже такие, которым подобных в богатстве во всей Европе не сыщешь. По этой причине, я полагаю, помещики добрые, находя своих крестьян в состоянии благоденствия, не почитают нужным, по недостатку образования, освобождать их от личного рабства.
— То есть вы хотите сказать, что иных причин освобождения, кроме безнравственности, злоупотреблений и самого факта владения человеком людьми же, вы теперь не находите?
Сдвинув брови, сощурив глаза, Тургенев заговорил убеждённо и властно, видно, недаром при Государственном совете службу служил:
— Я твёрдо уверен, что многие из дворян отказались бы от незавидного права владения подобными им, если б они, со своей стороны, несомненно были уверены, что сия перемена их благосостояния ни в чём не уменьшит. Таким образом, распространение здравых идей о свободном состоянии наших крестьян, которое было бы равно выгодно и для помещиков, может споспешествовать этой уверенности. Известно, что наше знатное дворянство всегда отличалось каким-то особенным благородством в характере и некоторым добродушием, в особенности в отношении к крестьянам своим, но многие имения начали с некоторого времени переходить от знатных людей к откупщикам, заводчикам и фабрикантам, отчего благосостояние крестьян уменьшается, и по этой в особенности причине у нас надобно думать об общем улучшении быта наших крестьян.
Он с недоумением поглядел на него:
— Странно, вы точно намереваетесь меня убедить, что сами крестьяне не имеют причин переменить своё положение рабства?
— Сколько могу судить по нашим крестьянам, а наши крестьяне симбирских имений благословляют своих господ, уверяют, что нами премного довольны, и не просят от нас ничего.
— Ради такого лестного мнения о себе, я полагаю, вам пришлось изрядно поуменьшить доходы?
Улыбнувшись одними глазами его проницательности, Тургенев удовлетворённо кивнул:
— Да, несомненно, иначе по совести было нельзя поступить, но облегченье их участи стоит дохода.
— Мысль утешительная, однако многие ли владельцы у нас доброй волей согласны во имя справедливости, тем более слыша зов совести, серьёзно уменьшить доход?
— К несчастью, слишком не многие, и именно те, которых не коснулось ещё просвещение, ведь для истинно просвещённого человека его личное благо всегда отступает на шаг перед общим, с этой истиной, я надеюсь, вы согласитесь?
Он выпрямился и развёл при этом руками:
— Помилуйте, с этой истиной не согласиться нельзя, да ведь не сможете не согласиться и вы, что ползки просвещения слишком неспешны в неспешном нашем Отечестве, к просвещению мало наклонном?
— Да, с этим я соглашусь, но эти ползки, как пришло вам на ум, зависят уже не от нас, что же, пусть так, по вине обстоятельств, но мы с вами просвещению служим.
— Следственно, время у меня ещё есть?
— Я вас не совсем понимаю.
— Я тоже не совсем понимаю себя.
— Мне представляется, это общая участь всех просвещённых русских людей. Мне тоже наскучило твердить всё об том да об том, чего мы желаем. Нынче, кажется, приходит то время, когда мне наскучит не только делать, но и думать. Представляете, вот будет славное положение, достойное человека мыслящего и просвещённого! Но всё это мне до того надоело, что Немецкий театр представляется мне наилучшим убежищем, где можно свободно думать лишь потому, что там говорят не по-русски. Представит ли вся Европа, отверстая для меня, возможность дышать и мыслить свободно? Возможно ли это, когда не слышится в сердце ни утешения, ни надежд? Бог знает, что станется с бедной Россией, но я убеждён, что я никогда для неё не стану ничем, и, может быть, никто ещё не станет на слишком долгое время. Я весь нравственно разбрёлся по мыслям пустым и, не видя нигде цели перед собой, перестаю размышлять и делаюсь заведённой машиной. Одна пружина из этой машины заставляет меня по утрам садиться за стол и читать со вниманием Сэя[101], потом обедать идти, а после обеда другая пружина приводит меня за Руссо, но тут машина слабеет, и я с удовольствием иногда слышу отголоски души моей. И теперь эти отголоски есть самое приятное, что я в жизни имею, потому что они отторгают меня от действительности. Другие отголоски души, которые обращают меня к миру физическому, к Отечеству моему, имеют противоположное действие: они потрясают мне сердце, но вместе ослабляют силы душевные. А что я теперь более машина, чем мыслящее творение, в том, к несчастью, ежедневный опыт меня уверяет: ни на что не могу решиться, даже в безделицах, и всё предоставляю течению случая. Неприятно и скучно не быть в состоянии отвечать себе: что я? какая моя цель? куда сердце стремится своими желаньями и любовью своей?
— Полно скучать, у вас истинно важное дело в руках.
Внезапно поднялся, поклонился, Тургенев привстал, поклонился в ответ, и они разошлись, точно посидели друг перед другом минуту и сказали мнение своё о погоде. А между тем он сердился, возвращаясь поздней ночью из клуба домой.
Итак, в лице Николая Тургенева уже выдвигался в молодом поколении государственный человек, каких в России ещё не бывало, просвещённый, благородный и умный, несколько сбивчивый, несколько мягкий совестливой душой, но зато увлечённый определённым и важным практическим делом, что ужасная редкость у нас, мы отличаемся более в перепалках, в пылких речах. Чувствительный Карамзин внезапно занял почётное и почтенное место российского историографа. Чаадаев, надменный, скупой на слова, не мог со временем не сделаться первым истинно русским философом, а живой Пушкин, племянник, не дядя, первым русским поэтом, как Шаховской, в благородной страсти своей нередко похожий на скомороха, уже не без права на то почитался из первых русских комедиографов и королём русской сцены к тому же, а Ермолов, без сомнения, оставался, после устранения прочих, самым прославленным полководцем, не без права, не без заслуг, хотя, кажется, нынче у Ермолова всё впереди, проконсул Кавказа.
Так что же они оставляли ему? На какое поприще его задвигали своими то громкими, то притаёнными, одинаково благодетельными деяниями, на котором великое свершилось бы не другими, счастливыми, а им самим, одиноким, отторгнутым от себя самого?
Что за притча!
Однако ж пусть одиночество, пусть тьма неизвестности, как ни крути, а ему второго места не надо.
Сознанием, что предназначен на место второе, может быть, третье, терзался он постоянно, и всё же прямого ответа, где его первое место, не находилось никак, и жалчайшая участь предугадывалась им впереди.
Одно только дело, пресмешное и нудное, без труда обременяло его: в месяц раз он целые сутки дежурил в Иностранной коллегии, единственно для того, чтобы принимать почту от, всё впопыхах, со всех концов света прибывавших курьеров.
Явившись в положенный день к шести часам пополудни, расписавшись в толстейшей шнурованной книге, что в полной исправности такой-сякой на пост заступил, негодуя, что гораздо большего стоит, чем истратиться на подобную грошовую дребедень, он долго с упорством оскорблённого самолюбия прочитывал, уже с новым вниманием, Карамзина при слабом свете одинокой свечи, казна экономила сильно, а своих свечей прихватить позабыл, пока не слипались глаза, составлял столы в молчаливой пустой канцелярии, подкладывал шинель под себя, накрывался свободной полой, точно делал поход, и долгая ночь бесконечно тянулась без сна на его бивуаке, истерзывая горьчайшими думами.
С какой жалкой целью заставляли его ночевать в пропылённой, загаженной канцелярии, этом капище чернил и бумаг? Какие сердечные тайны государственной дипломатии он тут охранял? И это вперёд на целую жизнь?
В ночной тишине, сильно пахнувшей нежилым помещением и мышами, грызущими фолианты, составленные из донесений, строго секретных, европейских, американских, турецких наших посольств, чем-то удивительным, сильным, зловещим особенно ясно и грустно манил его новый, не прозябший ещё, как он сознавал, но уже прозябающий, беспокойно толкающий, как женщину толкает дитя, странно волнующий замысел, героем которого был человек благородный и умный, лишённый или доброй волей лишивший себя полезного дела, ужасно по этой причине смешной, а вкруг этого глупого умника, говорящего вдохновенно-длинные речи, сонм знакомых людей, может, быть, собственный дядя, старик, Настасья Семёновна, добрая, однако ж препустейшая тётка, Элиза, при одном воспоминании о которой он густо и неизменно краснел, может быть, этот счастливый, улыбчивый генерал, кто-то ещё, ненавистно болтливый, чем-то странно походивший на Греча, оратора неизменного, едва покидал перо журналиста, э, да мало ли кого возможно было бы туда поместить и зло насмеяться над всеми, а пуще всего над собой, дураком, уж больно сам-то хорош. Впрочем, замысел, робко скуливший в душе, оставался пока что болезненно набухающей тайной для многих, по двум-трём намёкам раскрытой очень немногим, самым близким друзьям, теребивших его неумолчно, чтобы он поскорей начинал, и словно какую-то ужасную тайну, если назреет, прорвёт наконец, сулил открыть ему самому, должно быть, наипоследняя проба пера, чтобы проверить и поверить в себя, как давеча он твердил Чаадаеву, встретясь случайно в фойе.
Однако ж в замысле этом, особенно в ночной тишине, слышалось что-то ещё, какая-то новая, какая-то свежая мысль и какая-то новая, как ни странно, ещё более глубокая тайна.
И что бы ещё, что за мысль, что за тайна могла это быть?
Неужели всего лишь подурачиться над всем и над всеми, с кем имел случай встретиться, жить, с кем перебросился словом, язвительным или пустым, кто, глупый и тёмный, бездельник и враль, поневоле его раздражал? Должен ли он всего-навсего посмеяться пуще иных над собой, несчастным балбесом, потерявшим дорогу к славе, к великим делам, всё ещё не отыскавший в себе себя самого?
Вот бы это открыть, вот бы куда заглянуть, но его дух был опутан и связан тиной бесполезных, смешных мелочей, которые с удивительной ловкостью не дозволяли ему всунуться наконец на свою колею, а без этого, без своей колеи, не нашедши себя, как посмеяться да подурачиться от души над собой и над всеми, с какой высоты? Что за смех, валяясь без дела, укрытый шинелью, на обшарпанных канцелярских столах?
Несколько раз он поднимался, заслыша гром колокольчика у дверей, впускал закутанного в шубу курьера, от которого так и несло настоявшимся хмелем дальних дорог, что в стужу, что в зной, принимал из скрюченных рук настылую дорожную сумку с сургучной печатью, отпускал с Богом посланца поспать, а сам чертыхаясь взгромождался на стол, чтобы глаз не сомкнуть.
Как бы и чем бы свой тревожный дух развязать, как бы и чем бы выпустить праздные силы на вольную волю, на бескрайний простор, где только и должен жить человек, родившийся русским, вечный скиталец, из Новгорода до Киева, из Киева до Владимира, из Владимира на Печору, за Уральский хребет и в Сибирь, залучить это волшебное свойство творить, творить всё, к чему бы ни прикоснулась душа?
Или вся жизнь на безделки, безделки во всём, спаси Бог, ежели не на что-нибудь хуже?
Уж и хуже стряслось, куда же ещё?
А ведь именно хуже, лишь одно хуже и гаже навязчиво, подло маячило у него впереди, слепая опасность падения в грязь, да и нет, едва ли только опасность, скорее лихая беда, караул благим матом ори, чёрт возьми.
Если голую правду сказать себе самому, благо бессонная ночь, да подлость безделья, да лютый мороз за окном, да несносная жёсткость стола по иностранным делам, всё в этой жизни беспутной, какой он с лихостью бестолковой жил-проживал всякий день, всё было погубительно для дерзкого духа его, всё было тлетворно, иссушительно, подло до слёз.
Подлее всего: мелкое дело, мелкая служба, мелкая жизнь, мелкое шутовство.
Трясина затянет, пойдут пузыри.
Он точно надышался угаром, спохватился теперь, спохватился кинуться вон из угарной избы, в жажде воздуха свежего, с тяжкой болью в груди и в висках, а не виделось, не имелось двери нигде, хоть ты волком завой, хоть в кровь расшиби кулаки, хорошо бы приснилась вся эта чёртова хмарь, так ведь нет, чёрт возьми, наяву, не приснилось.
Утром, когда он поднялся с канцелярского ложа, туманный от ночи без сна, явился выспавшийся, гладкий, сияющий Стурдза[102], счастливец, правая рука Каподистрии[103], приговорённый к смерти тайными обществами вольнодумцев Германии, избегавший неминуемой казни лишь тем, что кстати воротился в Россию, пригревшую немало мятежников, проследовал мимо составленных вместе столов с его измятой шинелью, приостановился, приподнял книгу, звонко с акцентом сказал:
— О, это величественный маяк на небосводе России! Эта «История» подобна громадному зданию, вышина которого обличает глубину и многотрудность прочного основания. Сам почтенный старец Шишков чистосердечно и публично отрёкся от прежних своих невыгодных мнений, об авторе сего сочинения. Граф Иван Антоныч почтил его знакомством своим, и между государственным человеком и государственным бытописателем дружба возникла, доверие упрочилось взаимное, они преотлично понимают друг друга и находят для себя особенное удовольствие в частных беседах, при коих присутствовать доводится и мне. Впрочем, должно сказать, что суждения Карамзина о Востоке отзываются предрассудками западной образованности, но это всё оттого, что нас решительно так воспитали.
И позавидовал, чёрт его побери:
— Хорошо вашей братии, Грибоедов: услаждаетесь поэтической прозой Карамзина во время дежурства, а отдежурил — и прочь, куда вздумал, вольной птице вольный полёт.
Противно зевая, повесив шинель на крюк возле двери, ощупывая небритые щёки, Александр проворчал, нисколько не соображаясь, что ворчит на начальство:
— Послушать, так у вас точно каторга тут.
Подряд ломая печати, раскрывая курьерские сумки, выгружая пакеты, в свою очередь, как и сумки, залепленные со всех углов сургучом, тут же раскрывая их один за другим, пробегая глазами бумаги, смуглый Стурдза, затянутый в вицмундир, с ровным строгим пробором на низко остриженной голове, небольшой и круглый как шар, весело отвечал — видно, что славно выспался человек:
— Полноте, я не об каторге говорю, да хлопот полон рот, вот где беда.
Причёсываясь, оправляя сюртук, тоскующий по Сашкиным щёткам; повязывая галстук на шею, Александр отвечал просто так, стосковавшись по звукам, лишь бы ощущение жизни себе воротить:
— Ваши бы хлопоты нам.
— Э, не беритесь так скоро судить.
— Судить не берусь, да дозвольте узнать, об чём так бурно хлопочете вы, разве пожар?
— Извольте. Депеши что, депеши так, пустяки; занести в книгу, откуда, об чём, от кого, составить выжимку в двух-трёх строках и — графу на стол, граф разберёт, коль горит. А вот дело важное: надобно отправить две миссии, в Филадельфию и в Тегеран. Поверенные в делах, натурально, назначены; за этим дело не станет, пруд пруди из начальственных лиц: кто друг, кто родня, кого знает двор — дорога известная.
— Кофе хотите?
— С удовольствием, благодарю-с.
Разжигая спиртовку, ставя воду на едва видимый синеватый походный огонь, Александр рассеянно слушал.
— Полети-ка в Северо-Американские Штаты.
— Пётр Иваныч?
— Он самый.
— Приятель Жуковского?
— А также Карамзина, из ихнего Арзамаса, по прозванию, помнится, Очарованный чёлн.
— Стало быть, таки дождался попутного ветру, не зря в Арзамас. Кто же второй?
— Мазарович Семён Иваныч, по-нашему венецианец, в прошедшем году служил лекарем при особе Алексея Петровича, а нынче, глядь, главнокомандующий испросил его к себе в дипломаты, лечить персиян, говорит, надоели ему.
— Ермолов?
— Алексей Петрович, я ж говорю.
Разливая кофе по чашкам, он рассмеялся над этой привычкой низкопоклонства по имени-отчеству в простом разговоре именовать генералов да разного рода важных особ, словно бы равных себе:
— Венецианца, врача?
Швырнув развёрнутую депешу на стол, принимая не без важности полную чашку, Стурдза с молдаванским акцентом воскликнул с восхищением, тогда как приличней была бы досада:
— Что вы, батенька, Алексей Петрович ещё и не то себе дозволяет. Нам с ним прямо беда!
— Приходилось слыхать.
Присевши на стол перед ним, осторожно пробуя кофе, клубившийся паром, — крепок, горяч, Стурдза посетовал, даже с тенью грусти в чёрных влажных цыганских глазах:
— Так вот, секретарей при обеих миссиях всё ещё нет, и мне приказано подобрать подходящих, а где ж их возьмёшь? Подчиняться охотников нет: от европейских столиц чёрт знает где, жалованье весьма и весьма, производства ждать целый век, извольте шутить.
Жадно выпив в три глотка свою чашку, тотчас во второй раз наполняя её, Александр усмехнулся:
— Стало быть, охотников нет?
Стурдза сделал осторожный глоток и поглядел на него с лёгким презрением:
— Полноте, какие охотники в места отдалённые — чины небольшие, сто лет в секретарях просидишь, переписка и скука; в столице, сидя каждый вечер в театре, скорее выйдешь в чины, ежели, разумеется, знаешь, с кем рядом сесть, к кому в ложу зайти, кому какое словечко кстати ввернуть. Спроси вас, например, так откажетесь непременно, не так ли?
— Известно, что откажусь.
— Вот то-то, все вы гордецы.
— Ваша правда, уж лучше в здешних местах поскучать всякий вечер в театре, чем у квакеров в Филадельфии, где театров ни-ни — театры Богу, вишь, неугодны, ихним законом запрещены — дураки. Лучше скажите, о чём доносят депеши? Скачут всю ночь, поспать не дают.
Аккуратно поставивши чашку на подоконник, где от века хранится весь канцелярский кофейный набор, обтерев восточный, мягкий, чувственный рот уголочком носового платка, Стурдза небрежно спросил:
— Да вам слушать не скучно?
— Всё получше, чем безо всякого дела сутки торчать.
Стурдза брал бумаги одну за другой со стола, держал далеко от себя, миг охватывал опытным взглядом наторевшего дипломата — как-никак составившего Парижский трактат — и с важностью сообщал:
— Вот, полюбуйтесь, известие от сибирского генерал-губернатора: «Судя по давнишним покушениям англичан на завладение кантонским портом...»
Севши на стул перед ним, заложив ногу на ногу, приготовясь рассеяться на час или два, Александр перебил:
— Кантон давно взят, есть известие в британских газетах.
Стурдза с лёгкой насмешкой взглянул на него, видимо тоже скучая на службе.
— Помилуйте, батенька, депеши скачут к нам целый месяц, английские газеты обгоняют наших курьеров на две недели. Так вот, что там у нас? Ах да: «...торгом, который с обеими Индиями легко соединиться может, соображая, что так называемое Жёлтое море, окружённое восточными и северными берегами Китая и берегами Татарии и Кореи, зависящими от китайцев, из коих в сей последней много золота и серебра, были всегда предметом приманчивым для алчного английского торгового духа...»
Александр язвительно перебил:
— Духу торговому и нам не худо бы поучиться, хоть и у британцев, экий болван.
Стурдза не взглянул на него, согласно кивнул, не смутившись нисколько, что генерал-губернатор назван болваном, со скукой в голосе и в лице продолжал:
— «...я полагаю, что присланные известия хотя не достоверны, но в некоторых отношениях более нежели вероятны быть могут. И тем ещё более, что и в самых посольствах, англичанами в Китай по разным временам отправляемых, главнейший предмет их был тот, что англичане по торгу в Кантоне уничижаемы были. Все сии обстоятельства всегда были у меня в предмете, но предупредить их было, естественно, невозможно. Впрочем, если бы события сии, доныне на одних слухах основанные, действительно совершились, то и тут, по мнению моему, новое такое появление в китайской торговле по всем нашим отношениям торговым с китайцами разлиться не может. Озлобление противу напавшего народа заставляет их войтить в теснейшие с нами отношения по сопредельности России с Китаем и по давности самого торга, который от проложенного пути легко отстать не может, из таких уважений, какие другим европейским нациям неизвестны. Сверх того, китайцы, удостоверясь, что Россия не принимает участия в нападении англичан, более возымеют к оной доверенности. Меры на сопротивление англичанам с нашей стороны могут быть разнообразны как в Китае, так и на других пунктах. Оскорбление, китайцам нанесённое, может пособить тем предложениям, какие мы сделать можем, но как всякие действия по единым слухам события могут быть довременные, то и не смею я по сему предмету обременить внимание вашего императорского величества. И на сей раз считаю не только пристойным, но необходимым непременно отправить в Китай новую духовную миссию потому более, что поведением настоящей миссии недовольны китайцы. Подлежащая инструкция по сему предмету давно заготовлена. Сие тем более уважительно, что в настоящих хотя неверных, но всё уже беспокойных обстоятельствах мы имеем средство, не обращая внимания китайцев, отправить к ним людей, в поведении искусных и могущих иметь не только влияние на политические виды китайцев, но верными и свежими сведениями обогащать благотворительные виды вашего императорского величества по сему предмету.
С верноподданническим благоговением...»
Только окончил читать, Стурдза резко обернулся к нему, держа депешу в руке.
— Ну, что бы вы могли на это сказать?
У него кругом шла голова от вдруг прихлынувших мыслей, жадно перебивавших друг друга, куда-то спеша, одним разом охватив Европу, Америку, Азию. Чтобы несколько привести свои мысли в порядок, Александр извлёк плоскую коробочку из бокового кармана, взял последнюю сигару, которая у него оставалась от бдительной ночи, про себя чертыхнувшись, швырнул пустую коробку в корзину, назначенную для ненужных несекретных бумаг, и, разминая сигару, неторопливо проговорил:
— Британцы на слухи не полагаются, у британцев подобных миссий, будто миссионерских, сотни повсюду, а в миссиях народ сметливый и деловой, и потому прикажите всем управителям восточных губерний посылать с курьерами комплекты британских газет, из которых скорее толку добьёшься, чем от наших бедных попов, отправляемых в миссии, да каждому дайте по переводчику, поскольку наши управители ни в языках, ни в прочих науках нисколько не превзошли-с.
Сложив небрежно депешу, вложив обратно в пакет, опустив на стол, точно рассеянно обронив, Стурдза и сам опустился на стул, неторопливо спросил, без признаков любопытства, а так, из желания поболтать:
— А что, по-вашему, серьёзно ли нынче угрожают англичане нашей торговле с Китаем?
Александр закурил, призадумался, постукивая концами пальцев себе по колену, прикинул несколько цифр, каким-то образом заронившихся в память и по первой надобности выплывших сами собой, будто чуяли, кроясь во тьме и тиши, что настанет черёд и для них, сообразил:
— Пока что, пожалуй, серьёзной опасности не явилось, хотя я, на месте генерал-губернатора, не полагался бы на сопредельность границ, на озлобление противу стороны нападающей и что там ещё у него?
— Отчего бы не полагались, позвольте узнать?
— А не полагался бы оттого, что торг с Британией, с Британской Индией и Северо-Американскими Штатами до сего времени чрезвычайно выгоден для Китая. Торговый баланс весьма в пользу его, в Китай из этих стран стекается серебряная монета. Британия выделывает слишком много хлопчатой пряжи, муслина и ситца, чтобы ввозом этих важнейших продуктов сравнять торговый баланс, потому в Британии китайский чай слишком дёшев и потому же британцы ввозят в Китай опиум, производимый Ост-Индской компанией, главным образом через Кантон, поскольку все прочие китайские порты для иноземцев закрыты. Однако ввоз опиума и муслина растёт год от года приметно, если судить по отчётам британских газет, и как только сравняется торговый баланс, а затем неминуемо увеличится в пользу британцев, нашей торговле с Китаем будет нанесён жестокий удар. Уже и теперь, если судить по видам торговли, издаваемым министерством финансов, азиатская торговля клонится не в нашу пользу. Вы опять спросите: отчего?
Он помолчал, не решив, продолжать ли ему диссертацию, от которой скука разом прошла, до которой мало идёт в канцелярии, но Стурдза не без любопытства спросил:
— Отчего?
Грибоедов одушевился и с увлечением продолжал, словно попавши в родную стихию:
— Да оттого, что тот ошибается грубо в расчёте, кто, увлекаясь изобилием вещества и средств к добыванию какого-либо продукта, стал бы производить исключительно то, что уже у себя всякий имеет. Таким образом, мы с некоторого времени, при несметном изобилии хлеба, не выручаем за него почти ничего. Из чего следует, что в производстве всякой страны необходимо разнообразие прежде всего. А что мы нынче имеем? В северной и в средней части России просвещение, а вместе с ним промышленность и торговля достигли уже известной степени развития. По этой причине мы не только не одолжены иноземцам за произведения их, свойственные холодной и умеренной полосе, но ещё из продуктов своих производим за границу значительный отпуск. Не то с произведениями тёплого и жаркого климата. Мы принуждены заимствовать из Средней Азии, а также из Западной и Южной Европы. В особенности это касается хлопчатой бумаги для наших прядилен. Большое количество её мы могли бы закупать и в Китае, но что мы дадим Китаю взамен?
— Э, полноте, возить далеко.
— Это бы ещё полбеды, возим же чай. Гораздо похуже иное. В Китае, как и у нас, всё держится не приязнью или политической выгодой, а взятками, которые дают все и берут все, от самого низу до самого верху. Император почитается отцом Китая, а его чиновники рассматриваются как носители отцовских прав; каждый в своей провинции, на своём месте, и каждому надобно дать, чтобы иметь благоприятствие в торговле ли, в иных ли делах. Постоянные взятки разлагают и парализуют всю государственную систему, действуя одновременно на финансы, на нравы, на ремесла и управление.
— Да вы политико-эконом!
Не обращая внимания на противовольное, как видимо, восклицание, нисколько ему не польстившее — подумаешь, вред взяток может исчислить каждый дурак, — сам на удивление увлечённый неожиданно выступившими связями торговли, промышленности, финансов и нравов, прежде занимавшими его ум ничуть не больше других, тоже стоивших внимания связей между народами и людьми, Александр продолжал, неторопливо куря:
— И тут британцы доищутся толку гораздо проворней, чем мы. Торговля опиумом приносит им баснословный барыш, что позволяет сыпать взятки без счета, чего нам с нашей скупостью и скудостью в восточной торговле не достичь никогда. Не станем же мы, подобно бесстыдным британцам, вести туда опиум — такие гадости не в русских традициях — а что мы ещё в Китай повезём?
Держа в руке другую депешу, уже просмотренную, наведшую на какую-то мысль, Стурдза улыбнулся загадочно:
— В таком случае вас наверняка заинтересует вот это, постойте, да, от этого именно места: «...пользуясь таковым его расположением, уговорил купца Свешникова отправить в Коканд караван, который уже и отправлен на довольно значащую сумму. Я долгом поставил довести все сии обстоятельства до сведения государя императора, его величество высочайше повелеть соизволил купца Свешникова за содействие его в сём случае общественным видам наградить золотою медалью на красной ленте...», ну, и так далее. Каково? Калужскому купчине золотая медаль, и за что, чёрт возьми; а за то, что купчина водит туда-сюда свои караваны, как по роду занятий и должен водить!
— Чему удивляться? Нам необходимо иметь продукты тёплого и Жаркого климата. Кроме того, вы заметьте, британцы через Синд и Пенджаб рвутся нынче к Афганистану, чтобы оттуда овладеть Средней Азией и диктовать нам условия торговли с народами Хивы, Бухары и Коканда. Можем ли мы такие злодейства терпеть? Очень возможно, восточное направление станет главнейшим в русской политике на сто лет вперёд.
Стурдза изменился в лице, депешу швырнул без пакета, заговорил тоном властным, тоном непоколебимо убеждённого в своей исключительной правоте человека:
— Этого быть не должно!
Александр хотел затянуться сигарой, да позабыл, поднял брови, с недоумением поглядел сквозь очки на переменившегося в лице молдаванина:
— Отчего же, дозвольте узнать?
Стурдза резко поднялся, с громким стуком отстранив стул, подступил к нему близко, пригнулся, негромко, но строго спросил:
— Как по-вашему, что даёт нам Священный союз[104]?
Скрывши своё удивление, оставляя холодным лицо, размышляя о том, по какой тайной причине этот грек по матери, по отцу молдаванин, женатый на скромной хозяйственной немке, неумолимо злопамятный, как передавали о нём, погрязший в мелких расчётах, так близко к сердцу, что чуть не кричит, принимает запутанные и тяжкие заботы российской внешней политики; не по одному же тому, что пункты трактата, образовавшие только что названный союз государей, его рукой писаны, а не чьей-то другой, Александр так же негромко ответил, глядя вступившему на русскую службу молдаванину-греку прямо в расширенные глаза:
— По-моему? Ну, если хотите, по-моему, европейский союз государей позволил нам отчасти ослабить обширное влиянье Британии, не вступившей в него, но дела Европы и держав европейских нечто вроде небольшого реванша за наше бесславное поражение на Венском конгрессе. Кажется, вы, в то время там бывши, имели случай наблюдать козни чрезвычайные Талейрана и лукавых злодеев с туманного Альбиона.
Стурдза выпрямился, отступил на шаг, призадумался, улыбнулся странной, почти зловещей улыбкой, точно мысль его устремилась совсем на иное:
— О, Талейран справедливо говорит о себе: «Я умею садиться как следует». Он тогда сел удачно. Однако не далее как месяц спустя Англия подписала договор четырёх, вступив таким образом в Священный союз, ею отринутый; если хотите, вступила, не вступая в него. И в этом, я полагаю, вся соль. Договор четырёх предусматривает военное вмешательство в любую страну, в которой вспыхнут волненья, если волненья представят угрозу спокойствию и интересам соседних народов. Таким образом, Священный союз обеспечивает стабильность в Европе и гарантирует от перемены правления, в какой бы стране оно ни замыслилось. Представьте, даже если бы перемена правления замышлялась у нас, вся Европа тотчас сызнова была бы в Москве. Эту каверзу, я надеюсь, вы понимаете?
Александр глубоко затянулся сигарой, которая вдруг стала горькой, и по сердцу прошла какая-то дрожь, но выразился он рассудительно и спокойно:
— Разумеется, эту каверзу европейскую против нас я понимаю. Европа долго была и долго ещё будет не с нами.
Стурдза сузил глаза, хитро взглянул на нега сверху вниз, должно быть в подражанье Талейрану, примеряясь, как сесть, всё ещё продолжая стоять, невысокий и круглый, затянутый в вицмундир, хотя пора было садиться.
— Таким образом, все русские силы могут быть направлены на Балканы. Балканский полуостров является естественным достояньем славян. Славяне его унаследовали от предков и владеют им по меньшей мере в теченье двенадцати столетий. Соперниками славян на Балканах являются лишь турецкие и арнаутские варвары[105], и потому именно славяне представляют собой носителей цивилизации и прогресса в этом удалённом районе Европы. У сербов уже сложилась собственная история и собственная литература. В течение многих лет сербский народ борется с жестоким врагом, который к тому же численно значительно превосходит его. Христиане в Болгарии, Фракии, Македонии смотрят на Сербию как на центр, вокруг которого они должны объединиться в борьбе за независимость и национальное существование. И Англия, эта самая Англия сделала эту борьбу фактически непрерывной, выдвинув принцип статус-кво на Балканах, тогда как следование этому принципу для христианского населения Порты[106] означает увековечение его угнетенья. И пока оно остаётся под игом турецких пашей, оно будет видеть в главе Православной Церкви, в повелителе шестидесяти миллионов славян, кем бы тот ни был во всех других отношениях, своего естественного освободителя и покровителя. Это обстоятельство отлично известно нашему государю. Недаром Карагеоргий[107] прошедшую зиму провёл в Петербурге и отсюда отправился в Сербию с призывом к оружию, а братья Ипсиланти[108] служат у него адъютантами, а граф Иван Антоныч совместно с Карлом Васильичем[109] управляют Иностранной коллегией, добившись на этом высоком посту разрешения основать на русской территории гетерию, которая почти открыто готовит восстание греков.
Смешно выбрасывая перед собой короткие ноги, Стурдза быстрым шагом приблизился к карте, занимающей всю дальнюю стену его кабинета, и с напряжённой горячностью продолжал, делая округлые, с широким охватом, жесты правой рукой:
— Вот, взгляните сюда, Грибоедов. Владея Крымом, мы господствуем на Черном море, оказывая давление на Южный Кавказ, где имеем возможность нападать на Турцию с тыла. Мы владеем устьем Дуная, что даёт возможность контролировать всю торговлю на этой всеевропейской реке; мы имеем протекторат над Молдавией и Валахией; крепости, которые надлежало очистить по Бухарестскому миру, до сей поры удержаны нами, взявши предлог, что Турция не дала Сербии прав, которые обязана была предоставить по статьям того же трактата; и Строганов, Григорий Александрович, как полномочный министр, с намереньем ведёт себя в Константинополе так, чтобы все спорные пункты оставить открытыми.
Красный, взволнованный, с видом значительным, точно вновь очутился на Венском конгрессе и собственной волею судьбы мира решал, Стурдза метнулся к столу, дрожащими руками выхватил из распечатанного пакета депешу:
— Вот, послушайте, вы только послушайте, что он доносит!
Лоб повлажнел и блестел, щёки горели нервным румянцем, а голос всё возвышался, наполняясь то торжеством, то страстной надеждой, то искренней ненавидящей злостью:
— «Наконец получив от Порты официальный ответ на мои последние настойчивые обращения по поводу сербских дел, я спешу препроводить императорскому министерству прилагаемый при сем перевод. Сопровождающие его краткие пояснения со всей очевидностью показывают, что доводы, на которые ссылаются турки в оправдание нарушений ими договора, недостаточно обоснованы. Среди нагромождения повторений и софизмов, уже столько раз приводившихся и опровергавшихся на наших конференциях, ни один факт не подтверждён доказательствами, ни одна претензия не оспаривается надлежащим образом. Всё мастерство, как это можно заметить, состоит здесь лишь в смешении различных разделов моей ноты путём их цитирования без разбору и в урезанном виде. Мне было бы весьма нетрудно отпарировать этот так называемый ответ, который заранее опровергался моими требованиями, но я обещал принять его лишь референдум[110]; впрочем, дальнейшая дискуссия по тому же принципу была бы не только совершенно бесполезной, но и могла бы уронить достоинство России. Я не смею предугадывать высочайшие решения нашего августейшего повелителя и должен ограничиться представлением на рассмотрение его министерства своих соображений относительно всех важных последствий, к которым может привести выбор той или иной позиции. Ваше сиятельство совершенно убеждены в том, что настоящий момент является, быть может, самым решающим для переговоров. Порта постепенно привыкла верить в искренние и мирные намерения России — к моему прибытию сюда она была не слишком в них уверена. Цель императора достигнута, но туркам по их характеру свойственно быстро переходить от страха к надменности. Перестав видеть в нас заклятых врагов, они сначала были удивлены, а теперь начинают уже полагать, что мы не в состоянии причинить им вреда. Они внемлют этой ободряющей и привлекательной для них надежде и неоднократным внушениям иностранцев, которые изображают Россию связанной с европейскими державами нерушимыми обязательствами относительно Порты. Эти ложные представления и вселили в них уверенность, достигнутую для того, чтобы на первых порах уклониться от удовлетворения претензий; если им этот опыт удастся, они тотчас сбросят маску и, перестав опасаться войны, осложнят отношения между обеими империями до такой степени, что война станет неизбежной. Отступить перед слабыми доводами Порты или дать переговорам длиться прежним образом, или их же возобновить с большей активностью вследствие новых повелений его императорского величества — каждая из этих трёх позиций будет иметь важнейшее значение для авторитета России, для всех её отношений с Левантом[111], и от них будет зависеть успех всех остальных её требований. Диван, иностранные послы и вся Греция с большим нетерпением ждут результата наших споров по поводу Сербии. Он и определит дальнейшее поведение угнетателей и угнетённых. Мнения ещё в большей степени, чем сами действия, составляют основы нашего влияния, которое возросло бы неизмеримо при быстром и удачном исходе переговоров. На невозможность до сих пор использовать такой исход жалуются наши единоверные братья. Слишком хорошо известно, как Порта и её паши попирают Сербию, известно, сколь ненадёжны незначительные привилегии, предоставленные бесполезными фирманами, если только они не подкрепляются официальными документами и гарантиями державы-покровительницы. Именно этого и опасается турецкая политика — она отступает только в крайнем случае и чтобы избежать собравшейся над ней грозы. Оттоманское министерство, отважившись наконец дать нам явно уклончивый и расплывчатый ответ, ещё не знает, надо ли радоваться своему демаршу; оно осмелилось на такой шаг, будучи совершенно уверенным в мирных чувствах его величества императора и полагая, что всегда успеет отказаться от своих слов. Его главная цель — продлить переговоры, мы же весьма заинтересованы в том, чтобы сейчас противодействовать этому. В самом деле, разве можно возлагать надежды на создающие иллюзии дебаты, когда одна сторона заявляет, что она всё выполнила и вопросов для обсуждения больше нет, отвергая, таким образом, как ложные выдвинутые против неё самые бесспорные обвинения! Моя последняя нота, касавшаяся Сербии, открывала Дивану много путей для примирения, если бы он был искренним. Мысль о хатти-шерифе, высказанная как бы случайно, имела в виду примирить всё, но именно гарантии со стороны России и её любого вмешательства хотят избежать. Смею полагать, что эта нота не может ни в коей мере скомпрометировать августейшее достоинство его величества. Всё, что было сказано мной о его великодушных чувствах, Порта с притворством повторяла сама, а всё горькое и суровое, продиктованное требованиями справедливости и обстоятельствами, я взял на себя лично. Впрочем, после того как стороны исчерпали свои доводы, я стремился лишь получить наконец от рейс-эфенди объяснения. Он заявил мне, передавая свою ноту, что считает дело о Сербии полностью законченным. Ваше сиятельство может сами судить, не будут ли торжествовать турки, если увидят, что мы снова прибегаем к несложным аргументам, и не дойдёт ли вскоре их самонадеянность до дерзких выпадов против нас по всем вопросам. Руководствуясь своим усердием на благо службы его императорского величества, я осмеливаюсь представить ему эти соображения и всеподданнейше просить направить мне его окончательные указания, которые я приведу в исполнение без малейшего промедления. Мой долг и моё желание повелевают мне всегда соображаться с его высочайшей волей. А пока я буду продвигать дело в претензиях, затянувшееся в связи с обменом нотами, я постараюсь также закончить предварительные переговоры о незаконных поборах в княжествах и добиться издания фирманов, которые требуются, чтобы их приостановить. Имею честь...»
Александр слушал с нарастающим интересом, прежде наблюдая наши устремления на Балканы лишь по частым громам и молниям британских газет; с рассеянным видом докуривал сигару, о которой почти позабыл; с завистью об том размышлял, что где-то за морем этот незнакомый ему человек решительно и полновластно участвовал в деле, от хода которого прямо зависели судьбы многих народов; пуще того — зависели война или мир, достоинство России, проливы, прибыльная торговля с Левантом, прежде важным плацдармом французской торговли; а он тем временем строчил водевильчики о притворной неверности да отбывал раз в месяц дежурство, от исправности которого зависело разве что то, что сам он был изрядно помят и небрит.
Да и Стурдза, обложившись депешами в укромном своём кабинете, во что-то, как видно, со страстью вникал, на что-то по мере своей изворотливости пытался влиять, на что-то надеялся, к чему-то стремился — стало быть, жил, был живой человек, огонь, дипломат, укротитель и устроитель чего-то — загляденье было глядеть.
С остервенением швырнув депешу на стол, так что скользнула и полетела на пол, как белая птица; не став поднимать, схватившись за круглую голову — чуть ли не Шаховской, только волосы низко обстрижены, не за что себя ухватить, — Стурдза с устремлённым в какие-то дали огненным взором заметался по комнате, точно ища выхода из неё. Минуту спустя очутился вновь перед картой, с удивлением её оглядел, как будто увидел впервые, и вдруг со страстью заговорил, то и дело поводя дрожащей рукой над Грецией, над Балканами, над юго-западными провинциями России, чаще других над родимой Молдавией:
— Час освобождения близится! Мы проявим твёрдость в вопросах об автономии Сербии и о незаконных поборах в Молдавии и Валахии, и наша твёрдость приведёт очень скоро к войне. Тогда навстречу нашим войскам восстанет Болгария, восстанет и Греция. Результат военных действий быть может только один: проклятые османы будут оттеснены в Малую Азию; на Балканах восстанет из пепла единое Балканское государство, при поддержке великодушной России, которая протянет освобождённым народам светильник науки, возжжённый в просвященной Европе; и следствием этих событий явится провозглашение Балканской республики, во главе которой неминуемо встанет Иван Антонович, граф Каподистрия!
Невольно дивясь этому чуду преображения, когда русский фанатически преданный династии монархист и теоретик европейского легетимизма у него на глазах так легко превращался в яростного и не менее фанатичного балканского республиканца, Александр спросил с застывшим лицом, страшась рассмеяться, даже ироническую улыбку сдержав, которая была бы, по его разумению, в такой момент неуместна:
— Позвольте, Каподистрия именно отчего?
Так круто оборотившись к нему, что едва устоял на ногах, уставившись на него с удивлением, точно позабыл про него и ораторствовал всё это время наедине, Стурдза недовольно отрезал:
— А оттого Каподистрия, что он уроженец острова Корфу и на Балканах свой человек!
Не дрогнув, не переменившись в лице, Александр пошутил:
— Стало быть, как говорится:
Мужайся, твёрдый росс и верный, Ещё победой возблистать! Ты не наёмник — сын усердный; Твоя Екатерина мать, Потёмкин — вождь, Бог — покровитель; Твоя геройска грудь — твой щит, Честь — мзда твоя, вселенна — зритель, Потомство плесками гремит.[112]Разгадав верно, по какому случаю Александр смеётся над ним, опуская глаза, поспешно и неловко оправляя причёску коротких волос, своими дрожащими пальцами только нарушая строгий пробор, Стурдза спросил, видимо, лишь для того, чтобы как-нибудь выбраться из неловкого положения:
— Что, вы поклонник Державина?
До того докуривши сигару, что жгло уже пальцы, бросив её издали в пепельницу, стоявшую на соседнем столе, не отвечая на этот вопрос, чтобы продлить замешательство любителя царствовать пролитием крови российской, он неторопливо, раздельно сказал:
— Наше продвижение на Балканах необходимо, пожалуй; впрочем, для меня это пока что открытый вопрос. Только вся беда в том, что мы введём там, как ввели в Бессарабии, нашу систему правления с от неё неотделимой продажностью, бюрократией полувоенного, то есть худшего толка и вымогательствами, которые процветают у тех же турецких пашей, от ига которых надлежит освободиться балканским народам. Не говорю уж о том, что Британия сделает всё, что в силах её, чтобы не отдать нам Балкан, и это устроить нетрудно, укрепившись как следует в Гибралтаре, на Мальте и Ионических островах.
Задумавшись на мгновенье, закусивши страстные губы, Стурдза решительно возразил:
— Однако ж, позвольте, ничто не говорит об активности англичан на Балканах. Как острятся в английских газетах, английский посол мирно спит в своём дворце с видом на Босфорский пролив. Вы рассуждаете, простите меня, но я не могу вам этого не сказать, как любитель.
Задетый за живое этим оскорбительным словом, не почитая себя дилетантом ни в чём, то есть ни в одной из доступных уму человеческому наук, поскольку за всё, что интересовало его, принимался увлечённо и основательно; глядя рассеянно, как в пепельнице ещё курится лёгкий дымок, он отрезал сквозь зубы, как ни хотелось ему нагрубить:
— Он проснулся теперь. Уверяю, не надейтесь, у него достаточно оснований проснуться.
Расставив ноги, глядя с открытой насмешкой, Стурдза язвительно протянул:
— Будьте любезны, укажите мне хотя бы одно основание — мы тут не совсем в курсе дела, захлопотались совсем, к тому же бюрократия полувоенная, то есть худшего толка. Слушаю вас.
Эта язвительность, на которую Стурдза право имел, да не должен был показать, взбесила его, и Александр, холодно взглядывая на неуместного, неуклюжего остряка, твёрдо заговорил:
— Главнейшее основание: Европа умело оградила себя от нахальных британцев тарифами, как прежде придумал против них Бонапарт, учредивший, как известно, блокаду. На бирже цены скачут как угорелые, угрожая разорением промышленности и земледелию; банки переживают тяжёлые времена, кредит падает, сокращается экспорт. Британские купцы, после столь любезных вам договоров, потеряли надежду восстановить своё преобладание на континенте; отныне все их надежды на расширение торговли с Востоком.
Выслушав обдуманные его рассуждения, Стурдза заметил с той же мало его украшавшей насмешкой, мели, мол, Емеля, а мы себе на уме, дипломаты-с, высокой руки-с:
— Обстоятельства эти слишком известны.
В самом деле бюрократия полувоенного, то есть худшего толка, а ведь очень неглупый, основательно образованный человек, он стиснул зубы, однако продолжал невозмутимо и мирно:
— Путь кругом Африки слишком долог, кратчайшая дорога лежит через Турцию, через Персию, древнейшим караванным путём, да этот путь с недавнего времени перестал быть безопасным, британцы страшатся его потерять.
Вдруг посерьёзнев, поворотившись к противоположной стене, проследив по карте древний путь караванов, шедших из Китая, из Индии, Стурдза внезапно спросил иным тоном, уже не скрывая своего любопытства:
— Продолжайте, я слежу вашу мысль.
Отметив, что тон наконец изменился под давлением доводов слишком тяжёлых, про себя улыбнувшись, довольный, обхватив руками колено, Александр с прежней неторопливостью продолжал, ощущая, как весь мир расширялся перед мысленным взором его, как в перепутанном клубке отношений народов, правительств, держав обнажались иные связи:
— Именно в этом пункте, на этих древних караванных путях жёстко сталкиваются наши и британские интересы. Взгляните на карту: в Чёрное море впадают все великие реки Восточной Европы, от Дуная до Волги; и по этим каналам естественным, которые дала нам природа, свозятся в его порты громоздкие продукты земледелия, которые иными путями перевозить было бы слишком невыгодно. Таким образом, две трети Европы в отношении ввоза и вывоза связаны с Чёрным морем, а Чёрное море надёжно замыкает Босфор. Это ключ — кто держит его, тот может открывать и закрывать этот замок по своему произволу.
Не оборачиваясь к нему, Стурдза, помолчав, перенося взгляд с одной точки на карте к другой, раздумчиво произнёс:
— Ваше наблюдение не лишено справедливости. Нельзя не понять, из каких видов Англия в недавнее время вынудила согласие Блистательной Порты закрывать проливы для всех военных судов на случай средиземноморской войны.
Ободрённый неоспоримостью своих наблюдений, признанный человеком, игравшим в дипломатии не последнюю роль, увлекаясь всё больше, вдруг обнаружив, какой в самом деле для его жадной мысли открывался необозримый простор, судьбы империй решались и колебались у него на глазах оттого, что он верно угадывал, какие неумолимые интересы двигали ими, Александр заговорил веселей:
— В военном отношении эта позиция поважней Гибралтара и Зунда. Проливы, как известно, так узки, что самое малое число укреплений, возведённых в надёжных, в нужных местах, образовать может преграду неодолимую для соединённых флотов всего мира, если бы только они попытались пройти это слишком узкое горло, они в нём застрянут, как кость, и если бы мы сжали это горло вооружённой рукой, в чём, как я понимаю, вы даже слишком уверены, станем ли мы открывать эти ворота Британии, чтобы алчность её врывалась в сферу нашей торговли? Едва ли, выражаясь осторожным языком дипломатов. Никогда — скажу я. Собственно британская торговля равна в этих сферах нулю. Для неё караванные пути сквозь турок и персиян — не более как транзит для сношения с Индией. Русские товары, напротив, проникают до самого Инда и в некоторых случаях, впрочем, слишком немногих, превосходят британские. После этого сами скажите, разве в нынешнем положении, когда европейский рынок закрыт, Британия не попытается всеми средствами вытеснить нас с восточного рынка, действуя одновременно от Трапезунда и Инда? Разве Британия согласится, чтобы именно мы владели проливами?
С новым вниманием взвешивая по карте интересы держав, так неудобно и разрушительно столкнувшиеся на этих древних караванных путях, Стурдза отрывисто бросил через плечо:
— Однако ж и мы не согласимся уступить ей проливы и наши восточные рынки, а это должно означать, что мы непременно усилим активность свою на Балканах.
Поднявшись неторопливо, приблизившись к карте, Александр положил ладонь на Кавказ:
— Взгляните, Константинополь и Трапезунд являются главнейшими центрами транзитной торговли Британии с Внутренней Азией, с долинами Тигра, Ефрата, с Индией, с Хивой, куда этот наш Свешников в самое время снаряжает свои караваны, за что и заслуживает медали на грудь — смекалист, проворен, удачи ему. И более важную роль играет скорей Трапезунд: с тыла к нему примыкают возвышенности Армении, более проходимые для караванов, чем бесплодные пески равнинных пустынь, и он расположен достаточно близко к Багдаду, к Ширазу и Тегерану, а через Тегеран идут караваны из Бухары и Хивы. До тех пор, пока Турция владеет Анапой, Батумом — этим единственным надёжным убежищем на восточном побережье Чёрного моря, и Карсом — этой крепостью, которая обеспечивает безопасность караванных дорог, британские купцы останутся хозяевами на всех этих дорогах. Таким образом, пока мы не овладеем Анапой, Батумом и Карсом, наша азиатская торговля останется под угрозой, а набегам горцев Кавказа, подстрекаемых Турцией, не будет конца. Если же нам удастся занять эти опорные пункты в ближайшее время, Британия будет сокрушена, и это возможно тем более, что именно на этих пространствах она не располагает вооружёнными силами. Стало быть, на ближайшее время важнее Кавказ, а отнюдь не Балканы. Простите, что вынужден вас огорчить.
Стурдза ещё раз оглядел карту, задержал свой взгляд на Кавказе, обернулся, со вниманием и тревогой поглядел на него:
— Вы полагаете, что Кавказ?
Грибоедов выпустил ногу, выпрямился, вскинул голову, блеснувши очками:
— Я убеждён!
Стурдза вдруг широко и дружески улыбнулся:
— Смотрю, у вас острый ум и характер крутой, вы не уступаете никому, не пасуете ни перед кем.
От удивления Александр даже поднялся, громко спросил, глядя на него с высоты своего хорошего роста:
— С какой стати было бы пасовать?
Стурдза захохотал, показывая мелкие, острые, белоснежные цыганские зубы, кого-то некстати смутно напомнившие ему:
— Мне это ужасно нравится в вас.
Грибоедов поклонился насмешливо, приложивши руку к груди:
— Мне тоже, благрдарю-с.
Посерьёзнев, отступивши от карты, взяв его дружески под руку, Стурдза задумчиво проговорил:
— А вы знаете, иногда это свойство на дипломатическом поприще приносит куда больший успех, чем пресловутая Талейранова гибкость.
И вновь обнажил свои хищные зубы:
— Предлагаю вам в миссии место секретаря. Право, послушайте добрый совет, соглашайтесь.
Александр, кажется, пошутил:
— А ежели соглашусь?
Стурдза встал перед ним, невысокий, но крепкий, с внимательным взглядом, с рукой за поясом брюк, с видом доброго азиатского визиря.
— В самом деле? Тогда выбирайте!
— Что выбирать?
— Северную Америку или Кавказ.
Глядя под ноги, Александр дошёл до противоположной стены, прошёлся вдоль карты, не взглянув на неё, вернулся назад.
— Мудрено выбирать. Познания мои о тех краях до глупости скудны. Вроде того, что на Кавказе черкесы что-то пасут — как будто овец; а в Америке ирокезы, гуроны, кто-то ещё — разобрать не успел, — а тоже дикие племена. И то, разве я думал когда, что стрясётся отправиться на Запад или Восток? В такие дали мысли мои не были обращены никогда, исключая, разумеется, любопытство к пленительной игре дипломатов на разного рода конгрессах. На Кавказе, я чаю, царство Жуковского, должно быть, все туманы да туманы в горах.
Подвижный, вдруг остепенившийся Стурдза уже сидел за столом и с важностью взирал на него, должно быть с сего момента уже завидя в нём подчинённого в чинах небольших.
— Я бы для прохождения службы избрал Северо-Американские Штаты.
«Экий шельмец, поскакал, поскакал». Александр искоса взглянул на него, не жалуя начальственный тон, продолжая нервно шагать.
— Позвольте узнать отчего?
— Нынешняя важность Кавказа, по моему размышлению, более в вашем воображении. На Американском же континенте интересы России и Англии в самом деле на сию минуту оказались непримиримы. Я не сомневаюсь, после того, что слышал от вас, что вам известно положение испанских колоний. В испанских колониях длится восстание, уже восемь лет. Тотчас после утверждения мира в Европе Фердинанд Седьмой отправил туда армию, тысяч двадцать, не более, под командованием бездарного генерала Морильо.
— Удачное имя.
— Однако ж и оно не оправдало себя. Морильо добился некоторых успехов в Венесуэле и в Новой Гренаде, да вскоре был вытеснен из захваченных областей голодом и болезнями, которые более повстанцев обескровили армию. Боливар[113], изгоняемый дважды, всякий раз возвращался и успешно сражается на всём фронте от Боготы до Каракаса. Два года назад образовалась Аргентинская конфедерация и провозгласила свою независимость. Фактической независимостью уже обладает также и Парагвай. Верхнее Перу тоже взялось за оружие. Испанцы держатся только в Нижнем Перу, в Мексике и на Антилах, но и там их положение назвать вполне прочным нельзя. Португальцы под этот шумок захватили Монтевидео.
— И чем вы объясняете такие важные успехи повстанцев?
Стурдза значительно сузил глаза.
— Инсургенты[114] повсюду поддержаны Англией и действуют в её интересах, едва ли, разумеется, сознавая, что им отводится всего лишь роль пешек во всемирной игре.
— И там тоже она, как в Персии, в Турции, а через них у нас на Кавказе. С какой стати, позвольте узнать?
— Должно быть, возмечтала обосноваться после испанцев в независимых государствах. С Ямайки в испанские колонии направляются деньги, провиант и оружие, за что впоследствии, разумеется, придётся платить. Англия не чинит препятствий своим добровольцам вступать в ряды Боливара и отвечает на все наши протесты, что не имеет возможности, в согласии со своей конституцией, препятствовать частной инициативе.
Александр, всё не понимая, нетерпеливо пожимая плечами, спросил:
— Мы-то тут что?
— Почти что волей случая, чем государственным помыслом. Англичане, как вам известно, не допускают нас в Средиземное море, и мы, в пику им, предложили, чтобы приобрести законное право держать там наш флот, уничтожить многовековое пиратство, что является и насущной необходимостью и священным долгом для великой христианской семьи. Таков слог — ухватишься и за священный долг, и за надобность христианской семьи когда надо. Благодаря именно слогу, заметьте себе, Англия оказалась в положении затруднительном: не могла же она открыто отрицать долг и надобность сделать наконец невозможным морской разбой в своих же владениях, как не могла пойти и на соседство нашего военного флота. Однако английские дипломаты и не такие распутывали узлы — шельма народ, — своей выгоды нигде не упустят, а слог у них нашему не уступит — Державина оды, примерно сказать.
— Да, припоминаю теперь, благодарю. Пиратством промышляют берберийские племена, подданные Оттоманской империи, вроде наших черкес.
— Именно так! И всякое на них нападение могло бы стать началом крестового похода против Блистательной Порты. Не желая допускать против Блистательной Порты никакого похода, Англия обязалась сама покончить с разбоем, но, разумеется, всё ещё не сделала решительно ничего. Тогда мы предложили, чтобы вся Европа вооружилась против корсаров. И вот Испания, нас желая иметь на своей стороне, вознамерилась передать нам — впрочем, тайно — Пуэрто-де-Майон как базу для нашего военного флота, которой прежде владела всё та же непоколебимая Англия. Карсли тотчас завлёк на своею сторону Меттерниха, в свою очередь Меттерних уговорил прусского короля[115], и три державы выступили совокупясь против передачи нам этой базы, обнаглев до того, что с угрозой применения силы. Разумеется, пришлось отступать, и в ответ мы, натурально, поддержали Испанию. Татищев, наш полномочный министр, подсказал, куда надо шило воткнуть; и в начале прошлого года Испания обратилась за помощью в Священный союз против своих подданных, поднявшихся против владыки законного, то бишь легитимного. Помрёт Талейран, а без легитимности уж нельзя будет и шагу ступить: на века бессмертие одним словом купил, сукин сын. Ну, мы и направили великим державам наш меморандум, в котором эту законную просьбу поддерживаем.
— Постойте, это Испания всё, а с какого боку здесь всунулись Северо-Американские Штаты?
Стурдза округлился лицом, улыбнулся победно, точно взял реванш за Кавказ:
— С.самого неприятного, уж вы мне поверьте. Это не страна, а какой-то винегрет из народов! Так недавно отстоявший свою независимость, уже находится в том состоянии, вроде чесотки, когда начинают помышлять о захватах. Северо-Американские Штаты, почуяв чесотку, облагодетельствовались мыслью занять полуостров Флориду, который принадлежит к испанским владениям, угрожая признать независимость южноамериканских республик и вмешаться в войну на их стороне, едва ли соображаясь с последствиями, то есть с тем, что война тотчас распространится и на прочие страны и что в этой войне Северо-Американские Штаты непременно побьют. Как видите, задачи миссии нашей чрезвычайно важны: необходимо добиваться полюбовного соглашения по поводу этой Флориды и удержать Северо-Американские Штаты от военного выступления — им же на пользу, чёрт их возьми! Если же речь серьёзно идёт о выборе вашем, ещё бы надо учесть, что миссия в Филадельфии более независима; есть возможность самостоятельного решения, то есть возможность, в случае, натурально, успеха, быстро и одним разом продвинуться.
— Однако с другом Жуковского не напустятся ли тоже туманы? Очарованный чёлн! Чёрт знает, какой слезливости от него ожидать? И что за охота мешать народам добывать себе конституции? Вы не находите? Вы ведь желаете республики на Балканах? А в Персии что?
— Э, полно, батенька, в Персии наша миссия под началом Алексея Петровича.
— Так что?
— Алексей Петрович решает всё сам, никому не даёт возвыситься рядом с собой. Охота поступать к нему в переписчики.
— Охота. Если бы пришлось начинать службу с малых чинов, не лучше ли начинать её сотрудником великого человека?
— Великого самодура, правду сказать.
Александр остановился, точно в стену ударился. Не терпя самодуров больше всего, заложил руки назад, вдруг спросил неожиданно для себя — уж не в самом ли деле собрался служить:
— Нынче в каком месте дела наши хуже идут?
— Вы же сами распространялись, что на Кавказе войне с черкесами не будет конца, пока мы не возьмём Анапы, Ватума и Карса; а мы Анапы, Батума и Карса не возьмём никогда.
— А что, не отправиться ли в таком случае на Кавказ?
Стурдза с недоумением поглядел на него, точно круглый дурак стоял перед ним и своих прямых выгод понять не желал. А и то может быть, что секретаря в Филадельфию не чаял найти, дипломат:
— Горцы большей частью настроены против нас, воинственны и жестоки, как разбойникам положено быть. Персияне и турки спроваживают им караваны с оружием и ждут только выбрать момент, чтобы со всех сторон ударить на нас. Из чего же туда? Разве из одного любопытства?
— Судьба, нужда, необходимость рукой железной толкают и гонят кнутом... Причины этого рода поважнее всех прочих причин. По доброй воле, из одного любопытства кто же расстанется со своими пенатами, чтобы по варварским землям блуждать? Разве что пустые мечтатели да разного рода челны.
— Впрочем, для верховой езды дороги там сносны, как говорят.
Александр махнул рукой и вновь вдоль стены пустился шагать.
— Э, хорошо было кочевать Мафусаилам да Ламехам, да и то не по причине дорог — дороги в тех палестинах, я чаю, не скоро будут устроены сносно.
— Отчего же Мафусаилам и Ламехам было так хорошо?
— Мафусаилам и Ламехам была свойственна справедливость. Первый, кто молотом сгибал железо; первый, кто изобретал цевницу и гусли — тот в своём обширном семействе награждался непременно любовью и славой. А с той поры, как завелись граждане, города, надобно от Финского залива дотудова доскакать, докудова сын Товитов ходил за десятью талантами — а всё в надежде добыть похвальную знаменитость в виде чина коллежского асессора, да ещё и в тех-то далях добудешь ли, пресерьёзный вопрос.
— Ну, и в тамошних далях знаменит только тот, кого Алексей Петрович, наместник Кавказа, своей милостью отличит и возьмёт под крыло.
— Нет худа без добра, да и в здешних местах не отличает никто.
— Рад, что вы согласились — гора с плеч долой.
— Согласился на что?
— В секретари к Мазаровичу в миссию.
Грибоедов поднял брови и как ни в чём не бывало сказал, не понимая и сам, чего битый час добивался:
— Полно, Александр Скарлатович, всё препустой разговор. Почто мне таскаться всё верхом да верхом по горам и долам?
— Так, мне помнилось, вы хотели бы ехать, лишь бы уехать подальше куда.
— Может быть. Да что у нас значат пустые слова: хотел, не хотел? У нас об наших судьбах начальству видней; разумеется, кроме всего, что ему действительно видеть надобно. Оно и решает за нас, а мы глядь: как кур во щи попал.
Стурдза рассмеялся, прихлопнул в ладони, от души веселясь — тоже умник, нашёл водевиль:
— Остановка за гласом начальства, это и всё?
И Александр, заражённый водевильным весельем, не решаясь перечить себе, отдаваясь единственно на волю дерзкого нрава, вдруг бесшабашно рискнул:
— А ежели только за этим?
Оставив в покое ладони, однако ж продолжая смеяться, Стурдза вскинул круглую голову, прищурил озорные глаза, со значением произнёс:
— Так я вас представлю начальству, похлопочу от души, вы мне полюбились, поклонник Карамзина. Изложу государственную необходимость назначить именно вас. Ещё вас же упрашивать станут, честью клянусь.
— Что ж, похлопочите на этом условии.
— Счастлив, что вас убедил.
— В самом деле, ваши способности убеждать замечательны. Впрочем, мне любопытно, так ли назначенье легко, как вы теперь говорите, лишь бы меня заманить?
— Да что ж, вы не верите мне?
Александр руки раскинул, широко, в изумлении, переставши ходить, мало думая о последствиях своего шутовства, на что и куда согласился:
— Как можно, помилуйте! Мне только представлялось всегда, что назначенья на такие места у нас не таким решаются образом, как вы теперь представили мне. Благодарствую, что раскрыли глаза — в один час поумнел.
Уже не смеясь, переложив бумагу с левого краю на правый, Стурдза прихлопнул ладонью по крышке стола:
— Считайте, что назначенье решено. Я же сказал, что похлопочу.
— Не прикажите ли увязывать чемодан?
— С Богом! Жалеть, уверен, не станете.
— Что ж, дай-то Бог.
Стурдза поднялся, обошёл стол, подступил к нему близко, должно быть вознамерившись по-дружески тронуть его за плечо, как тронул бы назад тому час, да вдруг не решился и только любезно изрёк:
— В пятницу прибудет ко мне Мазарович, извольте явиться эдак в полдень, в двенадцать часов. Я вас с ним познакомлю.
— Только пушка пальнёт. Весьма любопытно на сего счастливого лекаря своими глазами взглянуть.
— В таком случае жду непременно.
Без дела, как назло без новых депеш, Александр дотянул дежурство своё, смеясь про себя, лишь всходило на ум, какую отчубучил он штуку, издевательски говоря:
— Стало быть, пьяного философа трезвый будет умней:
Сосед! на свете не пустое Богатство, слава и чины; Блаженство сыщем в них прямое, Когда мы будем лишь умны. Привыкнем прямо честь любить, Умеренно в довольстве жить, По самой нужде есть и пить, - То можем все счастливы быть. Пусть пенится вино прекрасно, Пусть запах в нём хорош и цвет; Не наливай ты мне напрасно: Не пью, любезный мой сосед...Выбравшись наконец из коллегии, он зашёл первым делом к цирюльнику, выбрился гладко, пообедал в Английском клубе, не заговоривши ни с кем, так что и с ним заговорить никто не посмел, соображаясь с его язвительным нравом; и тотчас уснул, едва воротился домой, не раздумывая без толку над непрошеным обещанием Стурдзы — всё вздор: горцы, персияне, наместник Кавказа; а утром долго валялся в постели, такой мягкой после канцелярских столов — чтобы их век не видать, — наслаждаясь уютом, теплом, чистотой, позабыв обо всём.
Вечером сел перед жарко пылавшим камином, обдававшим ноги добрым теплом, положивши на колени любимую книгу, неторопливо размышляя о том, не в самом ли деле пуститься на край белого света, где как-никак творятся большие дела, решаются судьбы народов и государств, отворяются и затворяются пути караванам; где, может быть, и для него наконец отыщется достойное дело по силам, дремавшим в нём праздно, греясь и ласкаясь в тепле?
А если пуститься, так пуститься куда? На Запад ли, в молодую страну беглых крестьян и воинственных свободолюбивых индейцев, которые земель своих, тучнеющих праздно, отдать не хотят; на Восток ли, в древние земли, по преданию, колыбель человека, возделанные первыми землепашцами, овеянные легендами о пращурах седовласых, мудростью и трудами которых размножился и расселился во все стороны света неугомонный, трудолюбивый, греховный человеческий род?
Александр поднял книгу с колен, она сама собой раскрылась на месте, которое, может быть, было самым читанным и поучительным, самым любимым:
«И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа, ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, а одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в шестьсот сиклей железа. И пред ним шёл оруженосец. И встал он, и кричал к полкам израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите себе человека, и пусть сойдёт ко мне. Если он может сразиться со мною и убьёт меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоём. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись...»
И далее читал, уже не всегда заглядывая в страницы, о том, что Давид был родом из Вилелема Иудина, от отца Иессея, имевшего восемь человек сыновей, и о том, что старшие братья ушли на войну, а Давид пас овец, и о том, что отец Иессей повелел Давиду отнести старшим братьям сушёных зёрен и хлеба, и о том, что пришёл Давид к войску и услыхал кичливый призыв дурака Голиафа.
«И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадёт духом из-за него, раб твой пойдёт и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты ещё юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец отца своего, а когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его, и если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необразованным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою...»
И в нём достало бы мужества идти в бой на врага или в дали несметные, да кто скажет ему: иди, Александр, и да будет Господь с тобой?
И с раздражением на подлую свою нерешительность, низводящую нас до ничтожества, читал он о том, как по приказу царя обрядили Давида в броню и как Давид, к удивлению всех, отказался от снаряжения воина.
«И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина...»
Далее мог бы он не читать, память хранила каждое слово, да книга неодолимо влекла, манила к себе, принуждала вновь проследить каждый шаг, точно в эту минуту он сам был Давид:
«Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шёл впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идёшь на меня с палкою? разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твоё птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину: ты идёшь против меня с мечом и копьём и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьём спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом в землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его, меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его и отсёк им голову его; филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали...»
Не так ли и русские землепашцы и звероловы, в седые времена Святослава и Владимира, и ещё другого Владимира, внезапно захваченные кровожадным набегом, диких племён, невоздержанных обитателей воинственной степи, оторванные от мирных хижин своих, от орала и ловища, в одних посконных мужицких портках, взмолившись своим исконным деревянным богам и осенив свою костистую грудь поспешным крестом, призывая в помощь себе единого Бога, вывернув на бегу оглоблю из крестьянского воза, крушили непрошеных пришлецов, поражая нечестивцев чем попадя, при случае их же калёным оружием, взятом в рукопашном бою?
И не так ли надлежит нынче ему, облачившись в посольский мундир, выступить на единоборство против нынешних голиафов, их сразив, но не гладким камнем уже, поднятым из бегущего мимо ручья, выпущенным из меткой пращи, но единственно просвещённым умом, утверждая мир долгий и прочный на той древней земле, где пасли стада наши общие прадеды?
Однако ж, постой, с какими голиафами предстояло сразиться ему? С людьми какого коварства и низости? Сколько тайных интриг расплести? Сколько интриговать, хитрить самому?
Достойно ли просвещённому человеку опуститься столь низко? Достойно ли пойти по следам Талейрановым, достойно ли соперничать с тем, кто ради мимолётных успехов на дипломатическом поприще стократно продал честь и совесть свою?
Ибо сказано:
«Не противься злому».
Не в том ли состоит добродетель, чтобы отворотиться от зла, прытко скакать от него в паническом ужасе, откреститься от него строгим постом и долгой молитвой, оберегая совесть свою от немого соблазна. Или добродетель состоит более в том, чтобы противиться злу, которым предовольно наполнена жизнь, всегда рождающая своих филистимлян; вступить в битву с ним, как юный безусый пастух; смотреть ему открыто в глаза и пустить в него камень, поднятый из ручья, а не одни бессильные слова проклятья и отреченья?
Погруженный в раздумья, Александр поднялся, оставив в кресле любимую книгу, прошёлся, безотчётно опустился на стул, точно ожидавший его у рояля, поднял крышку и почти машинально и слабо тронул чуткие клавиши. Тихий шелест прошёл по умиротворённой земле, словно степной ветерок шевелил и ласкал ковыльные травы, что поднялись по пояс косцу. Он не видел ни степи, ни трав, ни косца, но почувствовал всё это вместе, и себя ощущая единой частицей, словно и сам был степь, трава и косец. И под его осторожными пальцами степь, трава и косец ласкались и нежились в сладких объятиях тёплого ветра, переливались длинными волнами, готовые лечь под косу, словно приветливо улыбались поднебесному солнцу и также тому, кто пасёт скот и берёт пищу уму, и он сам улыбался, как улыбались степь, трава и косец, безотчётно, легко, и душа его изнывала от ласки и нежности и жажды труда, накопившихся в ней.
Вдруг, повинуясь какому-то безотчётному чувству, без мыслей и слов, он ударил сильнее, и словно дрогнула ковыльная степь от дробного топота диких коней, словно тяжело покатились сплошные колеса кочевых колесниц и о железо заскрежетало железо. И с угрозой зарокотали басы, изрыгая поношение древней земле, оскверняя труд землепашца, труд зверолова и пастуха, скаля длинные зубы, перезванивая щитом и мечом.
Он застыл на мгновенье, и тут им ответила свирель пастуха.
С откинутой головой, с плотно сдвинутыми губами, холодно глядя перед собой, явился Грибоедов в пятницу к Стурдзе, в самом деле нарочно в тот миг, когда ударила пушка.
Александр Скарлатович, просияв довольной улыбкой, указав на невысокого человека, сидевшего подле стола, торопливо и громко сказал:
— Вот, Семён Иваныч, представляю вам — Грибоедов, о котором я вам говорил. Надеюсь, он понравится вам, как и мне, а я вас оставлю на время, Карл Васильич ожидает, и тоже, тоже именно по этому делу.
Мазарович, с гладкой лысиной от самого лба до макушки, с короткими чёрными волосами на впалых висках, с ершистыми, густыми бровями, с проницательным взглядом небольших чёрных глаз, с подвижным, чувственным ртом, чем-то походивший на Мефистофеля, которого, впрочем, Александр никогда не видал, живо поднялся, открыто улыбаясь ему, пожал крепко руку и тотчас твёрдо по-русски сказал:
— Александр Скарлатович говорил о вас много лестного, рад познакомиться с образованным человеком и буду рад ещё больше, ежели приобрету помощника в вашем лице. Садитесь, и станем беседовать. На каком желаете языке?
Прямо опустившись на стул, глядя твёрдо и холодно, понимая, что до соблазна ещё не дошло, однако уже начались испытания, Александр заговорил по-английски, скрывая улыбку — знай, мол, наших, у вас-то в Венеции как:
— Надеюсь, Александр Скарлатович также довёл до вашего сведения, что я ничего ещё не решил.
Заложив ногу на ногу, держа на вздёрнутом колене сплетённые пальцы, блеснувши довольно глазами, Мазарович подхватил на хорошем английском:
— Да, Александр Скарлатович и этого обстоятельства не скрыл от меня. Однако дозвольте узнать, какие существуют преграды отправиться вам со мной в Тегеран?
«Ах, сукин сын, в Венеции тоже чему-то учился — так ведь чему-то учились и мы». Грибоедов тотчас перешёл на немецкий:
— Я полагаю, что судьба поленилась сделать меня прилежным путепроходцем, по натуре я более домосед.
Дёрнувши ухо, весело засмеявшись, Мазарович так же свободно заговорил по-немецки:
— Поверьте, недосмотр судьбы — пустяки. Я довольно скитался по свету, так вам доложу, что путешествия развлекают; к тому же наше путешествие продлится недолго. Нам предстоит обитать в нашей миссии года два или три, пока генерал не затеет новой войны. И мне бы хотелось весьма, если нельзя путешествовать, иметь поблизости остроумного собеседника.
«То есть толкового канцеляриста, который станет исправно строчить донесения, не разгибая спины, об том да об сём», — думал Александр, переходя с подчёркнутым щегольством на итальянский язык:
— Участь чиновника не располагает, по моему убеждению, к остроумной беседе, так что нам пришлось бы скучать, если бы своим собеседником в миссии вы избрали меня.
В ответ Мазарович заговорил по-французски:
— Отлично. Персидский и арабский вам тоже известны?
«Венецианец, конечно, а всё молодец!» Александр улыбнулся по-русски:
— Ни единого звука — большая потеря для миссии, имеющей быть среди персиян.
Вновь дёргая ухо, с лучами мелких морщин в углах хитрых, воровских глаз, Мазарович лукавым, мефистофельским взглядом обмерил его с головы до ног, улыбнулся, беспечно проговорил, точно уже видел насквозь:
— Ну, владея двумя-тремя языками, я вижу, не составит для вас затруднений овладеть и более. К тому же в миссии довольно досугов. Что же касается до участи вашей, то, если, разумеется, вы наберётесь терпения немного попутешествовать, мы будем с вами товарищи и вместе разделим труды и досуги. Впрочем, обязан вам сообщить, что климат там жаркий и хуже нет, как с персиянами дело иметь — ни в одном слове положиться нельзя, в оба надо за ними глядеть.
— Жаль, я ни к климату, ни к этого рода трудам не привык.
— Да вы понимаете ли цель нашей миссии?
— Вы уже изложили её в самых общих чертах: сидеть в миссии, проводить время в трудах и на досуге ожидать новой войны, которую непременно начнёт генерал, иначе какой же он генерал. А миссия, чего доброго, угодит персиянам в заложники, на персиян же ни в чём положиться нельзя, и поминай как звали, как русские говорят.
— Вы правы в одном — на то он и генерал, чёрт возьми. Да постойте, знаком ли вам Гюлистанский трактат[116]?
— Разумеется.
— Также в самых общих чертах?
«Изволит шутить, неразлучный любитель остроумной беседы». Александр улыбнулся язвительной, тонкой улыбкой:
— Отчего же? Не обнародованный до сего времени из тайных видов правительства, подписанный в Гюлистане 12 октября 1813 года, трактат утверждает за нами ханства Карабагское, Ганджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское — эти главные пункты, как я полагаю. Впрочем, слушаю вас.
— Вы правы в общих чертах. Однако правительство шаха уже весьма и весьма сожалеет о столь многих и важных уступках и выражает желание несколько передвинуть на север совместную с нами границу.
— По наущенью хлопотливых британцев, надобно полагать.
В другой раз пристально поглядев на него, Мазарович серьёзно проговорил:
— Возможно, и так, впрочем, на этот счёт мы не располагаем довольно точными сведеньями, однако ж правительство шаха для урегулирования Спорных пограничных вопросов назначило со своей стороны английского офицера, что, натурально, не может не навести на мысль о происках английского кабинета, а ежели так, все трудности у нас ещё впереди. Я имел честь сопровождать генерала, когда он осматривал земли, по которым нынче пролегает наша граница, а также те области, на возврате которых настаивает правительство шаха, и выслушивал пожелания жителей. Генерал признал границы с точки зрения военной не совсем совершенными, однако нашёл, что они предоставляют достаточные возможности для ведения обороны и могут обеспечить спокойствие местным жителям и способствовать их процветанию в будущем. Во время переговоров с непоколебимостью, присущей ему, генерал заявил, что передвижение границ нарушило бы порядок вещей, который укрепляется изо дня в день благодаря состоянию мира; осложнило бы существующие отношения между двумя заинтересованными державами; пробудило бы неуверенность в массе народов, подвластных обеим державам, вновь возбудило бы надежды преступные и открыло бы источники неурядиц, которые неизбежно ведут к последствиям характера общего. Генерал подчеркнул, что вместо того, чтобы упрочить достигнутый блистательный мир, мы заронили бы зерно новой войны между нашими странами, которые призваны вкушать все блага счастливого согласия. Надо сказать, что его демарши имели как будто успех. В ответной ноте великого визиря говорится, что правительство шаха отказывается от возможных преимуществ, которых оно намеревалось добиться. Однако бесценное время ушло, в горах, где пролегает граница, прошёл снегопад; уточнение пограничной линии перенеслось на весну; и кто знает, достанет ли целого лета лазить по этим горам, чтобы её уточнить.
«Венецианец, венецианец, хлопочет об наших границах и взял верный тон, без промедления вводя Александра в обстоятельства предстоящего дела, должно быть предугадав, что верней всего пробудит к нему интерес, если обременяешься мыслью в секретари его заполучить. И в самом деле интерес пробудил». И Александр довольно живо спросил:
— Уточнение границ неукоснительно по пунктам трактата и должно для миссии сделаться главной заботой и главным трудом на три года?
— Отчасти. Главной заботой миссии станет укрепление доверия к нам со стороны правительства шаха, весьма несклонного нам доверять, чтобы мир в этом пункте стал, по возможности, прочным и долговременным — однако именно прочности мира весьма трудно достичь. Между нами ещё остаются спорные пункты: самый трудный и острый касается до возвращения на родину русских дезертиров и пленных, а также подданных, самовольно переселившихся или насильственно переселённых из приграничных селений. Мы со своей стороны этот параграф трактата исполняем исправно, с персидской же стороны возникают беспрестанные трудности, едва ли преодолимые. Дело в том, что из наших пленных и дезертиров составлен батальон гвардии шаха, наши подданные женского пола большей частью попали в гаремы в качестве жён и наложниц; а многие подданные-мужчины в тех же гаремах сделаны евнухами, и, как вы понимаете, у правительства шаха не имеется никакого желания расставаться ни с теми, ни с другими, ни с третьими. Генерал настаивал на неукоснительном исполнении этой статьи, однако, понимая все трудности разрешения этого спора, со своей стороны предложил направить в Персию офицеров и унтер-офицеров российских, которых правительство шаха могло бы использовать для регулярного обучения своего войска и наблюдения за его вооружением, особенно артиллерией. Как видите, нашей миссии предположена опасная, трудная, но благородная цель: от нас русские люди получают свободу от рабства. Однако ж и это, поверьте, не всё. Генерал указал, что расширение и укрепление торговли между двумя дружественными державами отвечает не только непосредственным нуждам их подданных, но и служит самой благотворной гарантией отношений союзных и мирных, и предложил допустить, как было прежде, консулов и торговых агентов и открыть русские торговые фактории на основе полной взаимности. Но его предложение отодвинуто было до срока, пока стороны не обменяются поверенными в делах. Следовательно, возобновление торговли станет нашей заботой. Так что же, вы согласны поступить мне в товарищи в такого рода сложных и многообразных трудах?
«Венецианец хитрец, дипломат, сочинитель соблазнов...» Многозначительные труды миссии в самом деле всё более соблазняли его, да всё-таки, всё-таки Александр медлил с ответом, не то с лукавым расчётом поводить за нос своего обольстителя, не то от души не решаясь так круто переменить свою никчёмную жизнь, может быть по-прежнему опасаясь томительной, трижды бесцветной канцелярской рутины; может быть зная, кроме того, что поспешность ему повредит.
Его выручил Стурдза, бойко вступивший с сияющим важным лицом, слишком громко отрапортовавший — чуть не отбарабанивший, — прямо обращаясь к нему, потирая ладони, сладко прижмуривая глаза:
— Приготовьте себя, Карл Васильич примет вас через час.
Александр улыбнулся, под беспечным видом скрывая, что неожиданность приглашения на смотрины к министеру смутила его.
— Приготовить себя? Для чего? Я готов хоть сейчас.
Обширнейшая квартира, отведённая Нессельроде в здании Главного штаба, обращена была в дипломатическое подворье, в котором давались большие и малые дипломатические обеды, а для самого тесного круга назначались музыкальные вечера — шептались: главным образом для того, чтобы блеснула талантами племянница графа — настоящая виртуозка, говорили об ней — кто удостоился восхитительной чести слышать её. Разумеется, самого Нессельроде повсюду принимали с горячими чувствами, с подчёркнутым уважением, большей частью притворным — следствие зависти. Да министр, может быть, враг показного внимания, бывал в слишком немногих домах; любил общество самое тесное, в своём кругу казался весел и оживлён; любил страстно музыку и сам иногда, как передавали, смеясь, вездесущие языки, участвовал в хорах — натурально, ежели хор и слушатели подбирались совершенно свои. Маленький ростом, с умным, тонким, красивым лицом, которое несколько портил большой крючковатый нос хищной птицы, сверкнув сквозь большие очки удивительными глазами; в своём тёмном фраке, украшенном единственно портретом государя в алмазах, Нессельроде принял его без важности большого сановника и без показной, отвратительной простоты генерала-рубаки и, давши сесть, тотчас, следя беспрестанно за ним, сдержанно, хрипло по-французски заговорил:
— Итак, вы испрашиваете назначить вас секретарём в нашу миссию, которая высочайше утверждается в Персии?
Странно было услышать, что он об чём-то просил — экий глупый обозначился поворот — Стурдза придумал или сам Нессельроде, и Александр слишком резко сказал:
— Напротив, ваше сиятельство, ни о чём подобном я не прошу и не собираюсь просить.
Нессельроде даже запнулся, хоть нисколько и не изменился в лице — верно, много повидал и к разным завихрениям жизни привык.
— Однако, позвольте, Мазарович мне вчера доложил представление и Александр Скарлатович только что...
Он умышленно перебил:
— Так это Семён Иваныч просил обо мне?
Нессельроде сдвинул брови, взгляд точно направил в себя, должно быть прилагая силы понять, что за промах он допустил, да не впуталось ли что-то ещё.
— Вы что же, служить не намерены в миссии?
Александр со всей искренностью стал возражать с самым простодушным лицом, вопрошая себя, с какой стати он затеял сюда сватовство; желал или не желал он в самом деле в дипломатической и какой угодно службе служить?
— Помилуйте, ваше сиятельство, я сроду видов честолюбия не имел и теперь ничего сродного с ним в себе не имею.
— Это похвально. Тем более что мы вас посылаем служить России, а не вашим выгодам личным, что много удобней было бы здесь. И, смею сказать, служба предстоит не только почётная, но и, обратите внимание, трудная. Да имеете ли вы довольно понятия о наших персидских делах?
— Имею понятие в самых общих чертах; однако, по моим убеждениям, не довольно обширное для того, чтобы ехать.
Нессельроде склонил голову благосклонно, видимо вдруг отыскав порядочный выход из внезапного затруднения, как привык всюду разные выходы находить.
— О, я так и предполагал, ознакомясь с вами через беседы. Наша цель состоит в том, чтобы полностью гарантировать сохранение нашей нынешней системы в отношении Персии и вытекающих из неё мирных отношений независимо от потрясений, которые угрожают будущему Персии как из-за предстоящего назначения наследника престола, так и вследствие английского вмешательства во внутренние дела этой несчастной страны. Рассмотрите этот важный вопрос с точки зрения незыблемых принципов, которые составляют основание политики нашего августейшего государя. Поскольку его императорское величество в своих суждениях исходит из договоров и руководствуется ими при решении любого вопроса, проблему, о которой зашла у нас речь, непременно надлежит обсудить с точки зрения соответствующих положений Гюлистанского договора. Они вам известны?
— Откуда, ваше сиятельство?
— Вы правы, так оно и должно быть. Тем не менее интересующие здесь нас положения содержатся в четвёртой статье, которую полезно привести вам дословно. Позвольте, где это у меня?
Легко поднялся, точно, первым, решительным, плавным движением взял из открытого высокого шкафа плотную чёрную папку с белым ярлыком в правом верхнем углу, раскрыл, полистал не спеша и ровным голосом, словно, пользуясь случаем, обдумывал статью ещё раз, прочитал:
— «Его величество император всероссийский, в оказание взаимной приязненности своей к его величеству шаху персидскому и в доказательство искреннего желания своего видеть в Персии, в сём соседнем ему государстве, самодержавие и государственную власть на прочном основании, сим торжественно за себя и преемников своих обещает тому из сыновей персидского шаха, который от него назначен будет престолонаследником персидской монархии, оказывать помощь в случае надобности, дабы никакие внешние неприятели не могли вмешаться в дела персидского государства и дабы помощью высочайшего российского двора персидский двор был бы подкреплён. В протчем, если по делам персидского государства произойдут споры между шахскими сыновьями, то Российская империя не пойдёт в оные до того времени, пока владеющий тогда шах не будет просить об оном».
Бережно закрыв папку, точно на миг соприкоснулся с великим, смысла громадного, обыкновенному смертному непосильного, возложивши её перед собою на стол, как зерцало, Нессельроде не воротился на прежнее место, а, закидывая голову, выгибаясь в спине, подобно актёру, играющему роль повелителя, таким способом верно надеясь несколько поувеличиться в росте, с увлечением принялся изъяснять:
— Какие следствия явствуют из этого важного пункта трактата? Явствует следующее: во-первых, тегеранский двор пожелал ради сохранения собственного достоинства избежать употребления слов «официальное признание», заручившись, однако, таким обещанием со стороны Российской империи, что подтверждается если не буквой, то, по крайней мере, духом данной статьи; во-вторых же, допуская возможность возникновения раздоров, связанных с произвольным порядком престолонаследия, сам тегеранский двор стремился укрепить положение будущего наследника, которого изберёт персидский монарх, с помощью весомой гарантии, обещанной его самым могущественным соседом; и, наконец, сознавая, что Персия является объектом влияния иноземного, тегеранский двор не хотел давать лишнего повода для прямого вооружённого вмешательства, считая возможность вторжения только в случае крайней необходимости.
Поглядел со вниманием сквозь большие стёкла очков, строго спросил, точно делал экзамен ему на должность секретаря, уже за ним закреплённую, видно без особой нужды, чтобы он согласился:
— Принимая во внимание такое, и только такое, толкование четвёртой статьи и то серьёзное обстоятельство, что назначение наследника персидского трона, говоря строго, не может служить предметом какого-либо соглашения между обоими государствами и что кабинетом шаха не было предпринято никакого официального демарша на этот счёт, что нам с вами выяснить надлежит?
Александр ответил в то же мгновенье, напустивши такую серьёзность, точно уже вступил в переговоры с иноземной державой:
— Нам с вами выяснить надлежит, какого образа действий должна придерживаться Российская империя при означенных обстоятельствах, ежели, разумеется, в обстоятельствах этого рода я несколько разбираюсь.
Продолжая стоять перед ним с закинутой назад головой, рассудительный и чрезмерно серьёзный Нессельроде подтвердил с благосклонной улыбкой, только так давая понять, что молодого соискателя крохотной должности всё же не принимает всерьёз:
— Вы, как с удовольствием вижу, вполне разбираетесь в означенных обстоятельствах, однако необходимо постоянно соображаться именно с тем, что означенные обстоятельства чреваты всевозможными осложнениями, причём и малоприятного свойства, чего вы не можете знать, тогда как Российской империи надлежит, несмотря на осложнения самые малоприятные, оставаться неукоснительно верной принятым на себя обязательствам, не ставя при этом под угрозу безопасность своих новых границ и благополучие своих новых подданных, которых Провидение подчинило её могучему скипетру, вне сомнения, для-ради целей более значительных и величественных, чем второстепенные комбинации политиков и дипломатов, что является основой и принципом нашей внешней политики, указанной нам его величеством императором.
Неторопливо прошёлся вдоль дальней стены, изящно облокотился на невысокую хрупкую этажерку точёного чёрного дерева с фарфоровой статуэткой богини Победы на ней, скрестил ноги, обнаружив чрезмерно высокие каблуки, значительно проговорил:
— Правда, время разрешает любые, самые сложные из проблем — именно неторопливо идущее время; но человеческая мысль призвана обогащать его, распространяя идеи мудрости и справедливости, и, наконец, сеять семена событий, взрастить которые может опять-таки лишь всемогущее, невозмутимое время.
Сделал паузу, словно бы ожидая, пока его глубокие мысли дойдут до сознания желторотого, неоперённого соискателя и в разум его падут семенем, которое время взрастит, и деловито-уверенно продолжал:
— Старший сын шаха и младший его сын Аббас Мирза являются ныне, по-видимому, единственными претендентами на шахский престол, на которых может пасть выбор отца. Первый, гордый своим правом первородства, обеспокоенный предпочтением, которое шах отдаёт его сопернику, представляет в Персии партию оппозиции. Будучи противником нововведений, поскольку всё его существование основывается на древнейшем из прав, страшась, может быть, в силу самой натуры своей, преобладания Англии, старший принц склонен повсюду искать могущественной поддержки на случай междоусобной войны.
Вновь приостановил свою длинную речь, обращаясь строгим взглядом к нему, призывая слушать внимательно, слова не проронив.
— Аббас Мирза, гордый в свою очередь обращённой на него благосклонностью, поощряемый покровительством Англии, назначенный управлять провинциями, наиболее доступными победоносному влиянию России, вынужден также, учитывая своё всё ещё непрочное положение, напротив, стремиться к нововведениям и опасаться влияния Российской империи. Он надеется либо заручиться нашей поддержкой, либо создать прочный барьер против нас.
Вспыхнул очками:
— Кого вы решились бы поддержать?
Александр спокойно сказал:
— Никого. Я бы стал ждать, каким образом сами собой развернутся события в Персии.
Нессельроде воскликнул, не изменив своей позы, должно быть любимой, с улыбкой поощрительного удовлетворения на тонких губах:
— Прекрасно, молодой человек! В самом деле, ознакомившись с этой весьма точной оценкой двух претендентов, достаточно явственно предвещающих будущее своего государства, в том убедиться легко, что избрание старшего принца в большей степени отвечало бы законам природы, справедливости и подлинным интересам как Персии, так и Российской империи. Я произношу «подлинным», ибо чуждый персам дух нововведений, возбуждавшийся в них ранее бурбонской Францией, а ныне алчностью Англии, не отвечает ни истинным интересам Персии, ни интересам всего человечества.
Весело рассмеялся:
— Вы удивлены, молодой человек? Вы почитаете меня ретроградом? Не возражайте — молодые люди все ныне, едва из пелён, жаждут только нововведений, не помышляя о том, отвечают ли нововведения интересам государства и человечества, — заблуждение слишком прискорбное, — а между тем интересы государства и человечества превыше и дороже всего.
Вскинул руку, полусогнув и раздвинув тонкие пальцы, как дирижёр, точно давал событиям такт.
— В самом деле, разве лучше для этой страны возвыситься в своём собственном мнении и тем самым в глазах Российской империи ценой своего полного подчинения нескольким офицерам генерального штаба его величества английского короля? И станет ли счастливо всё человечество, чей голос призван заглушать голос мелочной, сиюминутной политики, мнимыми успехами Персии в военном искусстве, если эти успехи, вместо того чтобы быть результатом постепенного развития цивилизации в нравственном и религиозном отношениях, оставляют народ в состоянии варварства и, вкладывая ему в руки меч, поддерживают в нём вековечные заблуждения диких племён?
Нессельроде тут голос возвысил и стиснул тонкие пальцы в небольшой кулачок:
— Какое уродливое явление в общественной и политической жизни представляет собой народ, в котором стараются разжечь слепые страсти, не просвещая его разум, не облагораживая его инстинктов и нравов! Но именно таков, к несчастью, характер поспешных нововведений, орудием которых служит Аббас Мирза, который когда-нибудь может их жертвой сделаться сам. Столь ложное и ненормальное положение вещей противно воле Провидения. Оно не отвечает возвышенным и бескорыстным чаяниям мудрого человеколюбия. Оно не соответствует истине и противоречит опыту. Наконец, оно требует неусыпной бдительности со стороны державы, которая желает прежде всего добра, но не мнимого добра, которое на самом деле, как нам известно, рождает единственно зло.
Взглянув на кукольную, рукой фривольного ваятеля изготовленную головку богини Победы, точно у неё черпал возвышенные и бескорыстные силы на неусыпную бдительность, обязанность службы и свойство его ремесла, сложив ладони в некоторое подобие остроносой ладьи, держа это сооружение перед собой на весу, видимо позабыв, где он и с каким малозначащим собеседником позволяет себе так пространно излагать свои представления о сущности и возможностях человеческого прогресса, всё более воскрыляясь собственным возвышенным красноречием, отчеканил нравоучительно и раздельно:
— Так вот, молодой человек, следует ли из основополагающих суждений о пользе государства и человечества сделать практический вывод о том, что уже в ближайшее время, безусловно, необходимо войти в секретные сношения со старшим принцем, организовать один заговор, чтобы тем самым устранить другой, и тайно подготовить центр сопротивления группировке, которую может когда-нибудь возглавить принц младший, Аббас Мирза?
Александр не видел необходимости отвечать, не имея сомнений, что этот звучный запрос риторический, всеми учебниками рекомендованный для убедительного течения правильно построенной ораторской речи, лишь прямым, полным невинности взглядом показав философствующему министру, что с надлежащим вниманием следит его основополагающую мысль, и Нессельроде, закидывая назад голову с ещё большим желанием подрасти хотя бы на дюйм, взмахнувши рукой, торжественно подтвердил полнейшую справедливость своего пространного рассуждения:
— Разумеется, нет, нет и нет — ибо вмешательство в дела Персидской державы с помощью заговоров означало бы, несомненно, нарушение статьи четвёртой Гюлистанского договора, которая обязывает правительство Российской империи поддержать избранного шахом престолонаследника, кто бы он ни был, а не противодействовать заранее его назначению или оспаривать законность такого избрания.
Как-то встряхнулся весь, точно собака после купания, выгнул шею в высоком воротнике, верхней частью тела несколько поклонился к нему и понизил несильный, но приятной артикуляции голос:
— Между тем существует нечто среднее между этими двумя опасными крайностями. Правильно понятая выгода не является здесь несовместимой с долгом правителя. Какую линию поведения избрали бы вы?
Предугадав, что ему предоставляется единственная возможность с глубоким вниманием и, если он желает служить, с очевидным почтением выслушивать великодушно расточаемые на него наставления, Александр призадумался довольно удачно, затем пожал чуть приметно плечами и, мысленно улыбнувшись, — какие он выписывает фигуры, ещё не попав в дипломаты, — вопросительно поглядел на министра; и Нессельроде, мимолётно осветившись довольной улыбкой, дирижируя себе правой рукой, предоставил право отвечать себе самому:
— Средней, то есть прямой, линией поведения между пассивностью и злым умыслом является непосредственное воздействие на разум шаха, энергичное и умелое. Важно проникнуть в его намерения, показать ему опасности, которые таит в себе необдуманный выбор, объяснить наконец, какими мотивами руководствуется Российская империя в своей политике, стараясь, однако, не оттолкнуть от себя младшего принца и не скомпрометировать его соперника.
Широко улыбнулся, показывая ряд крепких зубов, явным образом довольный своей проницательностью дипломата дружественной державы, тоном доброжелательного покровительства заключил:
— Задача трудная, прямо скажу; нюансы тонкие, превесьма. Таким образом, перед вами открывается поприще, на котором вы сможете развернуть ваши таланты, о наличии которых мне только что донесли.
Александр уже прямо приглашался вступить в разговор; он и вступил, предлагая малоприятный вопрос:
— И жить в глуши целый год?
Нессельроде снисходительно улыбнулся:
— Пожалуй, что два.
Грибоедову внезапно явилась дерзкая мысль, и он поднял голову, стремясь выразить полное и наивное удивление на лице:
— Ваше сиятельство, дозвольте мне вам напомнить, как было бы жестоко мне свои самые цветущие лета провести между дикообразными азиатами, в добровольном изгнании — иначе моё отправление к шаху персидскому не назовёшь; отлучиться от близких друзей на слишком долгое время, от родных; отказаться от литературных успехов, которые я был бы вправе здесь ожидать; от всякого общества с людьми просвещёнными; с приятными женщинами, которым, ваше сиятельство, я сам могу быть приятен!
Тень замешательства скользнула на красивом лице Нессельроде, что сделало его на миг даже милым.
— Позвольте, молодой человек, какие женщины? О чём вы толкуете? С какой стороны здесь они?
Увлекаясь идеей сомнительной, но перспективной, Александр с мнимым жаром бросился изъяснять:
— Ваше сиятельство, не извольте смеяться: я молод, я влюбчив, я музыкант, я охотно говорю всякий вздор, явившись в обществе дам, — чего ж им ещё?
Заложив руки за спину, сделав несколько неровных поспешных шагов, Нессельроде опустился в кресло, стоявшее против него, и быстро, в каком-то смущении заговорил, старательно отстраняя кого-то рукой:
— Позвольте, Бог с вами, при персидском дворе нам надобен именно такой человек, я вижу ясно своими глазами. Что касается вашей литературы, — вверьтесь опытности моей, — в уединении вы усовершенствуете свои наличные дарования, когда они у вас есть, в чём, кажется, я бы нисколько не сомневался.
Грибоедов поднял брови, вытянул губы, усилием скрывая усмешку, почти умоляюще поглядел на своего нанимателя:
— Нисколько, ваше сиятельство. Поэту и музыканту надобны слушатели, а в Тегеране или Тебризе нет никого, кроме наглых суходушных британцев, да и те, сколько я знаю, следя по газетам, сплошь торгаши, то есть люди тупые, — поэзия и торгашество не дружили вовек. Поэзия, согласитесь, аристократка по природе своей — что делать ей за прилавком или за стойкой трактира?
— Что ж, может быть, но тем ревностней вы отдадитесь государевой службе.
— Однако же, ваше сиятельство, мне служить доводилось только в гусарах, по дипломатической части ещё не доводилось служить, кроме дежурства по канцелярии, курьеры, пакеты и прочее... Разве я вам подойду?
Всё не понимая, куда он клонит, несколько вытянув шею, что делало его похожим на птицу, Нессельроде, не привыкший к сопротивлению, заговорил напористей и быстрей:
— Позвольте, мне говорили, что вы обучались в трёх факультетах, готовились к испытанию на звание доктора прав, а у меня во всём министерстве едва ли найдётся чиновник, который знает законы, тогда как при дворе персидского шаха наши интересы исполнятся благополучно только в том случае, если восторжествует законность, то есть если мы неукоснительно выполним все статьи Гюлистанского договора и таким согласным с разумом способом станем полезными даже врагу. Изучая сложившееся соотношение сил и обстановку в окружении младшего принца, мы не можем считать, что он благожелательно к нам расположен; но не переменится ли там положение, если он найдёт у нас реальную поддержку, которую предполагает получить у правительства Англии?
— Только предполагает?
— Отчасти уже получил, но достоверных сведений мы пока не имеем. Так вот, что поддержка англичан ему может дать? Поддержка англичан отдаляет его от народа, усиливает ему враждебную партию, ведёт неминуемо к затяжной гражданской войне, то есть к резне, — как иначе не может быть по их нравам; принуждает нас проявлять необходимую и постоянную бдительность. Воспользуется ли он когда-либо этой поддержкой, чтобы в один прекрасный день преодолеть все преграды, закрывающие ему дорогу к престолу? Будет ли он служить интересам Персии, находясь в зависимости от иноземной политики и становясь авангардом державы, которая желала бы ополчиться на нас? Вот те вопросы государственной важности, которые надлежит ему разъяснить, показав ему выгодность союза с Российской империей. Полагаясь на возможность и средства, которые мы готовы предоставить ему, чтобы помочь постепенно совершенствовать установления его страны и сочетать эти улучшения с успехами персидской армии в области военного искусства, он оказал бы подлинную услугу своему народу, упрочил бы свой авторитет на твёрдой основе и получил бы реальную власть, которую никакая иноземная держава не могла бы оспорить и извратить.
Сглотнул, так что судорожно двинулся острый кадык, и с увлечением принялся выдвигать и отбрасывать предположения о развитии отношений в самой Персии, отношений между Персией и Англией, Персией и Россией, пересыпая их афоризмами, которые, должно быть, страстно любил:
— Ежели младший принц бросается в жестокие объятия Англии, чтобы обезопасить Персидскую державу от якобы присущего Российской империи духа завоевания, то наши предложения, равно как и наши действия, которые бы последовали за предложениями, должны, видимо, рассеять все его опасения и внушить самое глубокое доверие к нам. Ежели же он поступает таким образом единственно для того, чтобы отвоевать у Российской империи территории, которые в результате успехов нашего оружия оказались под скипетром российского императора, то нет ничего проще, чтобы показать всю нелепость подобных иллюзий.
Распрямился с разгорячённым лицом и, сильно картавя, с прямым, остановившимся взглядом, настойчиво, с убеждением, настоявшимся, неоспоримым, проговорил:
— В человеческом обществе имеется сила, которая значит больше, чем сила оружия или политических притязаний. Судьбы народов неизбежно определяются могучей силой и высшей волей, вызывающей эти события. К явлениям этого рода относится и цивилизация. Страна, однажды вкусившая блага цивилизации, и, больше того, страна, вкусившая высшее благо христианской цивилизации, уже не вернётся во власть тьмы. Эта истина доказана историей всех времён и народов. Так вот, почему бы не попытаться, опираясь на убеждение в благе цивилизации и на чистоту принципов, на которых основаны умозаключения о положении младшего принца, сделать так, чтобы принц сам проникся убеждением в благе цивилизации и оценил по достоинству принципы нашей внешней политики? Такая возможность предоставляется нам в связи с переговорами, которые начаты генералом Ермоловым с целью выдачи нам военнопленных и дезертиров. Мы имеем право требовать возвращения этих лиц. Однако этим не исчерпываются наши возможности, о нет!
Легко поднялся и, возбуждённо жестикулируя, пошёл в сторону от него, с удивительным пафосом излагая свои далеко идущие планы, не то из мелкого желания иметь сотрудника в миссии, не то сам заворожённый ими:
— Вы только представьте себе, молодой человек: привлекая к счастливой Грузии все надежды и взоры, поднимая благосостояние наших подданных, как православных, так и армян и язычников, мы непременно вызовем у народов Кавказа и народов, которые ещё томятся под дикой властью ханов сопредельных земель, естественное стремление разделить с нашими подданными столь благословенную судьбу. Его величество император не претендует на то, чтобы самовольно распространить на них свою власть. Его императорское величество всего лишь желает быть им полезным. Представляя этим народам все возможные преимущества, одну-единственную дружбу их он просит взамен. Основанная на приобретённом этими народами счастье и их неизбежной признательности, эта дружба будет истинной и прочной. Итак, на вашу миссию возлагается задача почётная: по мере возможности возводить на нашей границе барьер благоденствия, которое зиждется лишь на справедливости и на той святой вере, к которой столько веков взывают вершины Кавказа и торжества которой можно добиться только с помощью системы, основанной на трёх принципах: покровительство слабому, распространение Евангелия и устройство поселений — естественных очагов европейской цивилизации.
Круто оборотился к нему, невысокий, складный, прямой, и, сверкая очками, тряся головой, произнёс возмущённо, ощутивши, должно быть, себя на залитых ярким светом подмостках всемирной истории:
— Сохранить мир! Стремиться к прочному миру без всякой задней мысли, не вынашивая никаких планов, не желая отвоевать что-то в будущем у Персидской державы! Прямой дорогой шествовать к нашей цели, где наши национальные интересы не расходятся с нравственным долгом!
Нахмурился, должно быть внезапно припомнив, с чего начал изложение столь звучных и возвышенных планов мира и чуть ли не братства на южных окраинах стремительно растущей империи, и строго сказал, заложив руки за спину, от чего тотчас приметно уменьшился ростом:
— Таким образом, я не вижу ни малейших препятствий для вашего назначения.
Как тут было увидеть судьбу литератора, приятность жизни в столице, женщин, мелочи, вздор, — при мысли об этом лишь неукротимей вскипела его лукавая дерзость, и Александр с видимым сожалением возразил, точно брызнул холодной воды:
— Помилуйте, ваше сиятельство, препятствий именно тьма, и первейшая среди них — мой малый чин.
Нессельроде норовисто вскинулся, готовый греметь, но тут же, чем-то смущённый, замялся:
— Если не ошибаюсь...
Ах, вот оно что: ни Мазарович, ни Стурдза об этом не донесли, о его чинах не заботясь — единственно о своих, — свои чины к телу ближе; и Александр подсказал, для верности даже с тихим шумом вздохнув:
— Губернский секретарь.
Нессельроде пожевал губами, повёл в сторону головой, почесал щёку от виска к подбородку, словно обдумывал небывалое положение и подходящий выход искал:
— Согласен, в ваши лета вы мало успели. Не скрою, я удивлён, однако станем считать, что отныне у вас всё впереди. Служите честно и преданно, даю вам слово — вас не забудут.
«Ну, у нас всегда забывают именно тех, кто служит честно и преданно». Александр вытянул длинные губы, поразмыслил, с какого тут боку зайти, склонил несколько голову, точно сожалел о себе, протяжней вздохнул:
— Однако же, ваше сиятельство, по моему глубокому убеждению, согласитесь, для престижа Российской империи на тщеславном и пышном Востоке, где только тот человек, кто шах, визирь и хан, секретарю нашей миссии следует быть...
Сомнения улетучились, выход был найден, Нессельроде остановил его небрежным и величественным жестом руки:
— Не утруждайте себя продолжать, я слежу вашу мысль. Что ж, мне будет нетрудно во время доклада представить его величеству императору о вашем производстве в следующий чин.
Ему очень понравился этот полный и скорый успех на ещё новом и неизведанном дипломатическом поприще. Выиграло и поприще, открывая перспективы в разные стороны — в сторону ума, без сомнения, — но и в сторону разумного благоприобретения. И он продолжал, приподняв в некотором изумлении брови:
— Простите, я не ослышался, в титулярные советники, ваше сиятельство?
Нессельроде милостиво кивнул, верно считая каждый новый чин достаточно щедрым подарком судьбы, тем более когда роль судьбы играет он сам:
— Вы поняли меня верно.
В самом деле, он понял с первого слова: на большее и рассчитывать было смешно, да как тут не потягаться с испытанным дипломатом, и он, подстрекаемый озорством, беспечно смеясь про себя, неожиданно выговорил с совершенно постным лицом, точно в монахи вступал:
— Видите ли, ваше сиятельство, простите мою откровенность, мой малый чин всё-таки служит важной преградой: секретарь русской миссии, по моему крайнему убеждению, должен быть никак не ниже, чем коллежский асессор: это Восток.
Нессельроде окончательно вышел из роли, изумился от всей души:
— Как? Вы просите два чина разом!
Уж когда ехать, так отчего не просить, в особенности не обзаведясь чувствительной наклонностью к охам и вздохам, да кажется, и склонный к охам и вздохам историограф испрашивал и получил пенсион, и Александр постарался как можно солидней сказать:
— Невозможно получить два чина разом, ваше сиятельство, натурально, вы видите сами.
Задумавшись глубоко, скрестивши руки на маленькой узкой груди, чем заразил всю Европу возмутительный Бонапарт, пройдясь к стене и обратно, Нессельроде в замешательстве проговорил, не взглянув на него:
— Позвольте, молодой человек, секретарю русской миссии, может быть, и пристало иметь этот чин, соглашусь. Однако вам для чего? Вы, кажется, уверяли меня, что вовсе не страдаете несносным грехом честолюбия?
Вот так ошибаются и великие дипломаты — в каких-нибудь мелочах. Эту истину необходимо запомнить — мало ли что впереди. Но замешкался он только на миг, в другой миг нашёлся и признался с видом наивнейшим:
— Ради матушки, ваше сиятельство, в глазах которой я обязан быть основательным.
Нессельроде так и застыл на полшаге, озадаченно протянул:
— Ради матушки — разве что так. У вас матушка есть?
Трудно было не хохотать, но ни одна черта не дрогнула у него, и он с самым серьёзным лицом подтвердил:
— Матушка есть — исключительно ради неё.
Пожевав в нерешительности губами, дёрнув несколько раз ухо вниз, Нессельроде вдруг от души рассмеялся:
— Вы мне положительно нравитесь, молодой человек. Я об вас доложу.
Он неторопливо прошёл под аркой Главного штаба, улыбнулся на выходе, весело искрящимся взглядом осмотрелся по сторонам.
День кончался уже. Было сумрачно, сыро. Нева ещё не прошла. Под ногами месилась какая-то мерзкая дрянь из снега и грязи. Чиновники спешили из департаментов с бледными, помятыми лицами, в единообразных чёрных шинелях — не дальше как завтра он мог причислиться к ним.
Но он был доволен, что заставил так долго просить себя занять место в миссии, впрочем всё ещё толком не разобрав, хотел он ехать или остаться; только чувствовал, что довольно устал.
В самом деле, отчего бы не ехать? Именно на Кавказ? Кстати, на Кавказе важное дело у него с Якубовичем. Не бросать же его — для чести несносно, и без того изгажена честь языками смертельными. И что бы бесценное, незаменимое он в самом деле здесь потерял? Славу водевилиста, которая не прельщала его? Крикливых женщин, которые после измены Элизы были несносны ему?
Он огляделся ещё раз:
«С кем жил? Куда меня забросила судьба?»
Ему сделалось так одиноко, но он не мог не сказать про себя, что от одиночества в придачу с глупостью общества бегут на край света одни дураки.
Чего же ради ему-то на край света бежать? Не играть же ему несносную роль дурака?
Если бежать, так гнаться за делом.
Очутившись на Офицерской, он было прошёл мимо дома с небольшими колоннами по фасаду, с громадными аркадами служб, но, внезапно ощутив волчий голод, прислушался, согласился, что до рези в желудке, почти машинально воротился назад, толкнул дверь под стёртой вывеской «Северный трактир», принадлежавший подвижному толстяку итальянцу Джулиано Сеппи, с которым он изредка упражнялся в живом языке Данта и Тассо, неторопливо пообедал в сытном тепле, не заговоривши ни с кем по привычке, укоренявшейся в нём, расплатился и вышел, но вдруг вновь воротился, взошёл по узенькой лестнице на второй этаж и стукнул набалдашником трости, как делал всегда, в неопрятную дверь и едва расслышал расслабленный, словно из колодца доносившийся голос:
— Входите.
Почуяв недоброе, он быстро вошёл.
Сосницкий беспомощно лежал на диване, застеленном смятой, сбившейся под ним простыней, укрытый до самого подбородка пёстрым ваточным одеялом, — исконная принадлежность чиновников и мещан, с пылающим лицом и пересохшими, едва прошелестевшими губами навстречу ему:
— А, Грибоедов, я рад.
— Что с вами?
— Кажется, жар.
Александр выскочил в коридор, поймал коридорного за рукав, сунул в холодную, влажную руку три рубля и строго скомандовал — пригодились резервы:
— Живо за доктором, да гляди у меня!
Воротился, скинул шинель, приложил ладонь к голове: лоб Сосницкого так и пылал.
Александр намочил полотенце под умывальником, наложил на страдальческий нахмуренный лоб, сел рядом на стул и заговорил, принуждая того отвечать, опасаясь, что больной потеряет сознание — что в жару было бы хуже всего, тоже пригодились резервы, где немало новобранцев погибло от жара:
— Давно это с вами?
— Третий уж день.
— И никто не зашёл?
— Да кто же зайдёт?
— А в театре-то что?
— Страстная неделя, не играет театр, кто куда.
— Как умудрились вы простудиться? Довольно тепло.
— Сапоги.
— Что сапоги?
— Протекают, исхудились совсем, решето.
— Чёрт знает, в какую прорву у вас деньги летят, экономите на сапогах, дикари!
— Да ведь жизнь наша...
— Знаю я вашу жизнь!
Доктор явился — добрый немец с полным, мучнистым лицом и в очках, выслушал тощую, тяжко западавшую актёрскую грудь, выстукал спину, прикладывая к ней то тут, то там два пухлых пальца, и негромко по-немецки сказал:
— Воспаление лёгких, я полагаю, крупозное.
Убрал стетоскоп в саквояж, вынул оттуда, заглядывая в широкий карман на подкладке, несколько узких листиков, аккуратным, мелким, неторопливым почерком выписал по-латыни лекарства и двумя пальцами придвинул к нему:
— Давайте вот это, завтра заеду, около десяти.
И, спокойно одевшись, спокойно приняв десять рублей, удалился, оставив после себя один едва различимый запах больницы.
Александр выскочил следом, на ходу набрасывая шинель, крикнув степенно-безразличному коридорному, чтобы грел самовар, выбежал в молочный, к вечеру сгустившийся, пахнувший паром, тёплый туман, сочившийся каплями влаги, разглядел что-то с трудом, что медленно, осторожно подвигалось навстречу ему, угадал, что это извозчик, вскочил на ходу, громко крикнул адрес аптеки, долго, как показалось ему, плавал в непроницаемых серых парах, торопил аптекаря строгим голосом несколько раз, не считая денег, не требуя сдачи, заплатил за лекарства, появился в дверях, гнал извозчика сколько глотки хватало, так что извозчик только шеей вертел и молчал, влетел в коридор, крикнул на ходу подавать самовар, терпеливо поил ослабевшего Сосницкого с медной ложечки сушёной малиной, тут же заваривая её крутым кипятком, который с бульканьем и шипеньем вырывался из медного крана, укрыл его всем, что нашлось под рукой, подумав о том, что надо бы было прибавить немного рому к малине, ругая себя, что вовремя не надумал такой чепухи, дождался, пока Сосницкий весь взмок, ловко переодел в сухое бельё, опасаясь, как бы тот в другой раз не простыл, выхватил из ящика хромого комода свежие простыни, закутал старательно, подоткнул кругом одеяло, дождался, пока Сосницкий тревожно уснул, тотчас заметавшись во сне, сбегал в номер, где жила Воробьёва, в которую влюблён был Иван и которая, как болтали в кулисах, в Сосницкого была влюблена, однако дома её не застал и, мгновенно прикинув, где бы она могла быть, поспешил на чердак к Шаховскому, нашёл её именно там, незаметно увёл под грозные взоры Ежовой, рассказав по дороге, что Сосницкий, понимаете, простудился немного, ничего опасного нет, а всё-таки нужен глаз, что напоил его сушёной малиной и что вот надо бы приглядеть за ним эту ночь, за полночь воротился домой и тотчас повалился на постель, и в тяжёлом, каком-то порывистом сне очень явственно приснилось ему, что он снова едет куда-то, а в стороне от дороги церковь стоит, деревянная, небольшая, с крошечной луковицей и с чёрным высоким крестом, старинные берёзы вокруг, под берёзами низкие холмики и тоже кресты да кресты, а на холмиках и между ними согбенные фигуры стоят, ходят, сидят, все в исчерна-чёрном, словно чиновники днём, но в разных костюмах, даже словно бы в шушунах, точно явились издалека, все молчат, не глядя ни на кого, такие оборванные, печальные, одинокие — сердце рвалось, глядя на них, и он, растерянно, не понимая, чего они хотят от него, чего ждут, тихонько тронул возницу и прерывистым, испуганным шёпотом вопросил, чего они здесь собрались, и тяжёлый возница, в медвежьем тулупе, обернувшись к нему со светлым лицом, ответил громовым, раскатистым голосом:
— Это чтоб ты помнил об них!
Он так вскочил.
Утро настало довольно давно. Солнце, бьющее в окна, слепило глаза.
Он испугался, что опоздал, быстро оделся, выпил наскоро чаю и тотчас вышел из дома.
Было ужасно тепло, градусов до двадцати, снег весь растаял, кругом простиралась непролазная грязь, лёд в канале вздулся и почернел, однако оставался неподвижен, не растопленный внезапным сильным теплом.
Александр добрался до Офицерской. Доктор уже побывал и определил, что больному после вчерашнего значительно лучше, что, верно, ночью кризис прошёл и теперь на поправку пойдёт, а завтра непременно вновь навестит — нельзя упустить.
В самом деле, приложив ладонь ко лбу, он обнаружил, что жар значительно спал. Сосницкий, слабо улыбаясь ему, попробовал было благодарить, но Александр ласково его оборвал, пристыдив, что друзей за то не благодарят, что они сделали то, что обязан сделать каждый христианин, присел рядом на стул и заговорил о ролях, к которым Сосницкому надлежало тщательно готовить себя, не то без истинной практики талант пропадёт, бесчестное дело, мой друг, наперёд предугадывая, как со временем тот станет лучшие роли играть.
Так бывал у него всякий день, только под вечер от него уходил и жил одиноко, всё реже бывая на людях, оскорблённый сплетней грязной и гнусной, пущенной в него дураком Якубовичем — позёром, восторженным проповедником благородства и чести; со странным равнодушием ожидая, чем заключится его превосходная выдумка с продвижением разом на два чина вперёд, ещё наверное не решив, поступит ли в миссию и, если поступит, отправится ли в Северо-Американские Штаты или на воинственный, беспокойный Кавказ, между тем прощал Якубовичу и эту глупейшую сплетню и даже безвинную смерть Шереметева, как и должно прощать даже низким врагам, особенно в эти строгие дни. Однако прощение выходило какое-то странное и в оскорблённой, непримиримой душе он всё настойчивее желал поскорее встретиться с подлецом у барьера.
В первый день Пасхи с утра до вечера валил большой снег, завернул в белое улицы, пышно украсил деревья, клоками повиснув на голых ветвях.
Александр одиноко дремал у камина, возвратившись от утрени, без праздника в сиротливой душе. К счастью, Степан напомнил о себе из Москвы. Встрепенувшись, перебравшись к столу, полувесело, полугрустно он принялся отвечать:
«Христос воскрес, любезнейший Степан, а я от скуки умираю и вряд ли воскресну. Сделай одолжение, не дурачься, не переходи в армию; там тебе Бог знает, когда достанется в полковники, а ты, надеюсь, как нынче всякий честный человек, служишь из чинов, а не из чести...»
Приостановился, раздумался, с какой-то стати поставил тире. Странно, ближе Степана не было у него никого, а и тому не решался высказать всё, что накопилось и клубилось в смущённой душе. Был ли он скрытен? Застенчивость ли мешала ему? Как знать? Только всякий раз что-то поневоле стесняло полетевшее по бумаге перо. Об чём же ещё написать, когда не раскрывалась настежь душа?
С грустной улыбкой он продолжал:
«Посылаю тебе «Притворную неверность» два экземпляра, один перешли Катенину. Вот видишь ли отчего сделалось, что она переведена двумя. При отъезде моём в Нарву Семёнова торопила меня, чтоб я не задержал её бенефиса, а чтоб меня это не задержало в Петербурге, я с просьбой прибегнул к другу нашему Жандру. Возвратясь из Нарвы, я нашёл, что у него только переведены сцены двенадцатая и тринадцатая; остальное с того места, как Рославлев говорит: «я здесь, всё слышал и всё знаю», я сам кончил. Впрочем, и в его сценах есть иное моё, так, как и в моих его перемены; ты знаешь, как я связно пишу; он без меня переписывал и многих стихов вовсе не мог разобрать и заменил их своими. Я иные уничтожил, а другие оставил: те, которые лучше моих. Эту комедийку собираются давать на домашних театрах; ко мне присылали рукописные экземпляры для поправки; много переврано, вот что заставило меня её напечатать...»
Что-то гулко, протяжно зарокотало над домом — невозможно писать.
С недоумением положил он перо и встал у окна.
Было пасмурно. Всё небо закрывали низкие тучи, вдруг освещаясь бледными молниями, за которыми нехотя следовал медлительный гром.
Боже мой, первая гроза в этом году! Да ещё вся в снегу — не часто случается, в столетие раз. Стало быть, зима уж прошла, а он почти не приметил нынче её. Время летит, не оставляя следа, и, без сомнения, так и станет лететь в этом сумрачном городе без глубоких корней и, представилось ясно, без прочного будущего. Как же не покинуть его наконец, если жаждешь беспрестанного движения жизни? Как же оставить его, покинувши хоть и немногих, неблизких, да всё же друзей и надежды сделаться чем-то?
В раздумье и не сразу он воротился к столу и почти искренне и разборчиво написал:
«Однако довольно поговорено о «Притворной неверности»; теперь объясню тебе непритворную мою печаль. Представь себе, что меня непременно хотят послать, куда бы ты думал? В Персию, и чтоб жил там...»
Что за притча, отчего так лукаво поворотилось перо? А с другой стороны, как бы растолковал он Степану, что охотой своей покидает его, единственную отраду свою? Да и вправду сказать — у нас на почте письма вскрывают подряд, так не худо бы в эту лукавость поверить и тем, кто ему нынче два чина сряду хлопочет. Без дипломатии, верно, не проживёшь, напролом валят одни дураки, которых у нас предовольно и без него; говорят, голосят, правду-матку режут в глаза, ан поглядь, из правды-то гадость выходит одна. Это, что ли, и прозывается трезвостью мысли, как прошлым годом пьяный Каверин твердил?
И он с весёлой иронией подхватил эту странную ложь, представляя всё, что случилось, в неверном, почти фантастическом свете:
«Как я ни отнекиваюсь, ничто не помогает; однако я третьего дня, по приглашению нашего министра, был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина, тотчас при назначении моём в Тегеран. Он поморщился, а я представлял ему со всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне цветущие лета провести между дикообразными азиятцами, в добровольной ссылке...» — вот оно, важное слово! Слово-то всё же сказалось, — добровольная ссылка и есть. За все беспутные проделки свои нельзя своей волей себя не сослать. Верно, никак не осилишь преподлой натуры своей, не приучишь лукавить даже с друзьями — с друзьями лукавить нельзя, — добровольная ссылка — чтоб смысл отгадал. «...На долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещёнными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен. Словом, невозможно мне собою пожертвовать без хотя бы несколько соразмерного возмездия».
« — Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования».
« — Нисколько, ваше сиятельство. Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии...»
«Мы ещё с ним кое о чём поговорили; всего забавнее, что я ему твердил о том, что сроду не имел ни малейших видов честолюбия, а между тем за два чина предлагал себя в полное его распоряжение...»
Грибоедов так и присвистнул: в самом деле, что за комедию он отломал! Да и правду сказать, если делать дельное дело — так не ступишь без клоунады ни шагу, если только намерен толку добиться, то есть дельное дело свершить. И не век же ему сложа руки сидеть и без пользы бранить целый свет? Бранить целый свет много ли ума надо?
И он по-иному, деловито и кратко, окончил письмо:
«При лице шаха всего только будут два чиновника: Мазарович — любезное создание, умён и весел; а другой — я либо НН. Обещают тьму выгод, поощрений, знаков отличия по прибытии на место, да ведь дипломаты на посуле, как на стуле. Кажется, однако, что не согласятся на мои требования. Как хотят, а я решился быть коллежским асессором или ничем. Степан, милый мой, ты хоть штаб-ротмистр кавалергардский, а умный малый — как ты об этом судишь?»
Запечатав письмо, отправив с Сашкой на почту, он снова пристроился подремать у камина, вытянул ноги к огню, да вдруг подумал о том, как всё-таки глуп его молодой человек, который, ставши нечаянно персонажем комедии, хотя бы ещё не написанной, уже отделился от него самого и над которым после его пресмешного демарша с чинами стало смешно и полезно смеяться вовсю: горе уму, который имеет постоянное жительство в одних эмпиреях и вечно витает в одних мозглявых туманах Жуковского — вот ужо я ему!
Нет, от трезвости, жёсткой, сухой, никуда не уйдёшь, в жизни с одним благородством души да с просвещённым умом далеко не продвинешь себя; то есть в Персию, конечно, должен удрать, а не то с одним умом и благородством души как раз попадёшь в дураки.
Как бы только об этом печальном событии попрозрачней намекнуть дуракам?
Позволь, из чего намекать? Выйдет ужасная скука, чуть не пропись из азбуки — от азбуки скулы воротит и дураку. А вот как-нибудь так, чтобы самый пошлый дурак, особливо из умных, из крикунов, за чистую бы монету всё принимал и только истинно умный мог бы об истине догадаться и надорвать от смеху живот?
Нет, этот молодой человек, без сомнения, благороден. Как же — из чинов не желает служить, из одного лишь высокого духа; и умница, умница, должен так говорить, чтобы остроты сыпались градом, и от того, разумеется, в остервенении, в противоречии с обществом, которое его окружает. Его не понимает никто, да и трудно понять. Никто из глупцов не в силах простить — на то и глупцы, — для чего он немножко повыше других, подлости не терпит ни явной, ни тайной, остёр на язык, не видит ни в ком ни одной благородной черты оттого, что мало в ком она есть, это призрак в ночи, и так далее.
Задача, признаться сказать...
Может быть так: эта, как её, скажем для краткости, Ферзь, с этим всю ночь напролёт провела, с Сахаром Медовичем со своим, что там и как между них, об этом, ясное дело, потом, пока же кому в толк не взять, из тех, кто вечно в креслах торчит всякий день, какой дьявол сводит нас с ними ночью, всяк на этом месте с приятностью и с пользой бывал, а тут этот умник, бац, три года прошло, впопыхах на порог, едва свет за окном, и с жаром требует вечной любви от неё?
В креслах, натурально, гогот и смех: трезвый опыт житейский велит нам трёх дней сряду не верить лукавому полу: лукавый пол на всякие штуки куда как горазд, а тут три года, помилуй, что за болван, она же с другим ночь всю у нас на глазах!
В таком повороте, пожалуй, имеется смысл, всё дело, выходит, не в пылких словах об истинах прописных, а в тонкой интриге. Умён истинно автор один, на то и комедия, в трагедии истинный подвиг и ум.
Стихи замерещились. Он вскочил, впопыхах записал, стал ходить от стены к стене, чуть не стукаясь лбом, как помешанный, сам с собою бормоча, Сашку пугая. Дни полетели, как ветры, Сашка только моргал.
Между тем Мазаровичу, верно, пришёлся он по душе, Семён Иваныч при встрече продолжал уговаривать, дёргая ухо, на трёх языках:
— Помилуйте, как не согласиться служить при Ермолове? Любезный, искательный, властный. Владеет Кавказом, замышляет сам войны, не признает никого, в письмах своих читает нотации самому государю, а с Нессельроде прямо до невыносимости груб. Что вам здесь лишний чин? При Ермолове возможность имеете сделаться кем вам угодно, хоть меня возьмите в пример: вчера лекарь, нынче полномочный министр.
Взглянул своим мефистофельским оком, показал в открытой улыбке белые зубы, с удовольствием рассказал:
— Вы не знаете, как явился он ко двору персидского шаха? Да откуда и знать! Досюда ещё, поди, не дошло.
И прищурился:
— Ну, само собой, тьма у персиян церемоний — восточные люди, мой друг. Так эти черти уведомили, что в покои наследного принца, тем паче его величества шаха невозможно взойти в сапогах, а надлежит чулки натянуть, красные по какой-то причине — своего рода, должно быть, ихний красный колпак[117], — а свиту оставить снаружи, по той, знаете ли, оказии, что таким образом поступали все европейские дипломаты: французы и англичане. Э, товарищ мой дорогой, видели бы вы в тот час лицо генерала — в этом лице воплотились достоинство и праведный гнев!
Слушал с удвоенным любопытством, вбирая в закрома памяти все эти дипломатические приёмы и тонкости, чтобы с первого разу явиться на новом поприще не простаком, но умудрённым, опытным деятелем, припоминал невольно грозных проконсулов могучего Рима и ещё более грозных проконсулов недавней якобинской республики, бесконтрольно управлявших провинциями, по всей строгости ответственных за содеянное лишь перед Сенатом или Конвентом, не ранее как после окончания срока отправления должности.
Александр замечал, что Мазаровичу тесно и душно в стенах казарменной канцелярии, что предводителю миссии хочется двигаться; может быть, куда-то бежать или сломя голову скакать на коне — венецианец, горячая южная кровь, отчего Семён Иваныч словно привскакивал и ёрзал на стуле, часто перебирая чьи-то бумаги, брошенные лежать на столе. Чёрт побери, секреты дипломатии у всех на виду — русские нравы, беспечность и лень; рассеянно подносил отношения и депеши к глазам, тотчас с тенью испуга возвращал на прежнее место, загадочно улыбался, напоминая опять Мефистофеля, и весело говорил:
— Весь вспыхнул, сузил глаза, гордо вскинул свою исполинскую голову, громко приказал толмачу перевести и заговорил отрывисто, как в бою, что он не удивляется низкопоклонству французов, что французам после красного колпака свободы и братства, должно быть, слишком нетрудно было напялить красные чулки унизительной лести, когда они стремились делать России вред, но что он прибыл не с подлыми намерениями шпиона Бонапартова и не с корыстными расчётами приказчика Англии, этой страны торгашей, а потому не может согласиться ни на чулки, ни на прочие унижения со стороны персиян.
И громко захохотал:
— Видели бы вы изумлённые азиатские физиономии в своих холёных крашеных бородах и эти неверные лисьи глаза, полные ненависти! Этак выхватят из-за пазухи кинжалы и перережут всех до единого в защиту красных чулок, как французы резали гильотиной в защиту красного колпака!
Стрельнул в него своим шельмовским взглядом, всё заманивая, всё соблазняя его, того и гляди, что до бесовской клятвы на крови дело дойдёт:
— Ну, генерал взглянул на них так, что все опустили глаза, душа, я полагаю, в пятки ушла, и вступил в диван-хане в сапогах, из особенной милости разрешивши слугам смахнуть с них дорожную пыль; положил на стул перчатки и шпагу, сам твёрдо сел на другой и приказал всем нам садиться. Сидим. У них там тоже обычай: на вошедшего смотрят только тогда, когда он пройдёт половину пути, а зала довольно большая. Вот те на нас и не смотрят. И что бы вы думали? Генерал раскричался: что, мол, куда его привели, в караульную или в Сенат, что он рода Чингизова, должно быть выдумав свою родословную на ходу; так ему не положено терпеть подобные унижения; всех обругал, всех обсмеял, грозно поднялся и сам без церемоний отправился к шаху. В комнате шаха для него уже было приготовлено кресло, видать, смекнули, что он не позволит шутки шутить. Генерал небрежно опустился в него и начал переговоры. Что поделаешь, дорогой мой товарищ, на Востоке в цене только сила, кулак да картечь. Кто силён — перед тем шею гнут, а кто слаб — того забивают в колодки. Да вот скоро увидите сами.
Присовокупили между тем к миссии Андрея Карлыча Амбургера, покладистого, худого и добродушного лекаря. Немец, знакомясь, заговорил с ним, должно быть из деликатности, на смешном немецком французском. Александр с улыбкой отвечал ему по-немецки с нарочитым саксонским произношением, ещё в юности перенятом у Богдана Иваныча. Изумлённый Амбургер, помаргивая реденькими ресничками, пришёл в детский восторг, открыв рот и несколько даже присев:
— О, такая редкость у русских немецкая речь, с вами приятно станет служить!
Александр засмеялся в ответ, приведя немца в новое изумление, всё не веря, что в самом деле отправится на этот нелепый, к тому же коварный Восток. Но уже стремительный слух об его насильственном отправлении в Персию, в наказание за дуэль, в которой по бумагам он не участвовал, разлетелся как вихрь, точно Петербург был владимирская деревня. Иные косились, когда он забредал в Английский клуб, теряясь, как в таком случае поступить с отлучённым от общества за дуэльный скандал. Иные остерегались подать ему руку, один Александр Всеволожский, знакомый домами ещё по Москве, кавалергардский поручик, владелец заводов и рыбных промыслов на море Каспийском, друг сердечный, собеседник отменный во всякой всячине политической экономии, предприниматель двадцати пяти лет, явился, обнял прекрасно, поздравил с вступлением на дорогу жизни практической, взял слово описывать торговые перспективы Кавказа и Персии, упросил секретаря ещё не рождённого подыскать агента толкового, на которого можно было бы положиться в торговых делах, расцеловал и помчался сбирать чемодан, известив, что скачет в Макарьев на ярмонку, а там на промыслы краем глаза взглянуть.
Нечего делать, коль все решили, что он с глаз долой отослан чёрт знает куда. Он точно смирился, а месяца через два подлинно вышло определение в Персидскую миссию, а ещё месяц спустя его пожаловали титулярным советником, зажилив ещё один чин, и отступать вдруг стало некуда, хоть криком кричи.
День отъезда неминуемо приближался. Александром овладела тоска, его несносная вечная спутница, в этот раз дремучая, неотвязная, как зима. Он заметался, не находя себе ни приличного, ни удобного, ни даже неприличного места: то пробуя по привычке напропалую кутить, как славно кучивал в недавние дни с до смерти надоевшим Кавериным; то вступал с растревоженным Ионом в пространные философские прения, и несчастный Богдан, взглядывая детским беспомощным взглядом, отвечал ему то простодушными сетованиями на пространные капризы судьбы, то излюбленными словами Спинозы, которого совместно штудировали под руководством многосведущего Буле:
— «Тот, кто правильно пользуется своим разумом, должен сначала необходимо познать Бога, который есть высшее благо и совокупность всех благ. Отсюда с неопровержимостью следует, что тот, кто правильно пользуется своим разумом, не может впасть и в печаль. Ибо как? Ведь он пребывает во благе, которое представляет собой совокупность всех благ и в котором заключается вся полнота радости и наслаждения. Таким образом, печаль происходит от заблуждения и непонимания». Вы, Александр, ехать решились, так поезжайте, о чём горевать, а мне, честное слово, страсть как жаль расставаться.
Ничто не помогло ему. Кутежи, забавные прежде, разгонявшие желчь, вдруг сделались нестерпимы и скучны. Каверин сделался пошлый дурак, а немецкие доводы Богдана Иваныча с кучей добротных немецких цитат, сдобренных искренним сожалением по поводу скорого расставанья надолго-надолго, чуть не на целую жизнь, легко разбивались его находчивым, смелым умом:
— Заблуждение в том, что решился ехать чёрт знает куда, к азиятам, оттого и печаль.
Богдан Иваныч только страдальчески взглядывал на него, со стула вскакивал точно ужаленный и беспокойно шагал, журавлём переставляя длинные ноги, не ведая, из какого Спинозы на довод его отвечать.
Мысли же Александра вновь были заняты прожитой жизнью, точно старость для него с этим проклятым отъездом настала. Какой жизнь его была прежде весёлой, даже счастливой по-своему, чёрт побери! А нынче? Нынче опять в его жизни всё было не то и не так! Он перебирал, перебирал, когда же и где он так славно сглупил, не распознав своим закружившимся разумом высшего блага, и не мог с определённостью отыскать рокового сворота с прямого пути, а близкий отъезд сделался вдруг ненавистен. Он отрывал и не мог оторвать своё мягкое сердце от этих широких проспектов, дворцов, площадей, от этих вечерних, блещущих светом и смехом театров, от немногих не так уж и близких, однако ж умных людей, которых умел находить в Петербурге, не из самых известных, Александр Всеволожский пример, без которых умному человеку невозможно прожить, по этому печальному случаю легко забывая о том, что сам же жестоко бранил этот каменный город без будущего, без глубоких корней, пущенных в подземелья истории, и что ни с кем из самых умных и близких людей никогда в полной мере не был открыт, Александр Всеволожский опять же пример.
И что там впереди?
Впереди не слышалось музыки, не виделось книг. За три тысячи кое-как меренных вёрст едва ли дотащишь за собой фортепьяно, книжные новости едва ли дотуда дойдут. Европейская, даже бедная русская мысль в его отсутствие станет делать открытия важные, искусства обогатятся, на сцене лучших театров заблещут новые, может быть, славные имена, а до него едва ли долетит хотя бы слабый шелест об этих важных открытиях, об этих блестящих талантах, а ум его жаждущий, может быть, так и зачахнет и сморщится без сытной разнообразной умственной пищи.
Как легко и внезапно над ним это стряслось!
Прогоны, подорожная, тесная бричка, дорога возьмёт целый месяц, если в какой-нибудь обширной канаве не увязнешь по горло в грязи, а там кровожадные дикие племена, примитивные пошлые лица, из которых по необходимости набирается забубённое кавказское войско, искатели двойного оклада, разжалованные, изгнанные из российских полков за бесчестье, за воровство, всякого рода балбесы, крикуны и бретёры да прочая рвань, с ними и копоть случайных ночлегов, глухие места, одни противные толки об чинах да об службе где-нибудь в гарнизоне с ротой солдат, мелкая хитрость, интриги, повседневный изысканный тонкий обман с его стороны и со стороны враждебных нам персиян, а там, глядь, может быть, ничтожная смерть за одно неосторожное слово на развилке горных дорог или в теснине глухого ущелья, кинжал в спину — да вниз.
Боже, кои веки он выдержит муку в этом аду? Что Дант, Дант ребёнок, фантаст, а там действительный ад! К тому же Данту не в пример было нескучно в пути: шёл у Данта в проводниках сам великий Вергилий — умница, философ, поэт, тогда как ему, горемычному, в проводники не отпущено мудрецов, разве что Мазарович, ликом похожий на чёрта, воспетого Вольфгангом Гёте, добрый и славный, кажется, человек, авось в самом деле не завалит ненавистной канцелярской вознёй, которая много сквернее и Дантова и персидского ада.
Сашка укладывал в неподъёмные ящики лучшие книги. Оставалось обшить фортепьяно. Александр не решался этого приказать. Ему сердце теснило чёрной мыслью об рогожах и досках, точно лучшего друга должен был в гроб уложить или к ногам привесить ядро.
Однако ж, заколотив ещё один ящик, старательно оглядев все углы, точно что-то искал, Сашка, набычась, спросил:
— Фортепьяны-то что, давно бы пора?
Александр рассердился:
— Куда же я-то без фортепьян?
Сашка с рассуждением поглядел на него:
— Вы в дорогу со мной, куда в дороге на фортепьянах стучать.
И приволок из сеней куль пахучих рогож.
Александр придержал его за плечо:
— Погоди, время есть.
Распрямившись, пнув в сердцах рогожи ногой, Сашка сердито изрёк:
— Мне-то что, я погожу, я хоть целый век погожу, не припоздать бы. Глядите, спешка посля из-за вас, хошь, галопом скачи, хошь, волосами тряси.
Он облегчённо вздохнул:
— Не опоздаем, ещё не приехал Степан.
Склонив на сторону кудлатую голову, Сашка упрямо стоял на своём, характер такой, чёрт знает в кого:
— Степан Никитич прибудет как раз, при них-то и вовсе времени недостанет минуты, уж знаю я вас, пойдут чудеса.
Он ласково попросил, точно друга:
— Вот и ладно, а ты погоди.
И когда пылавшее воображение представляло ему его беспросветное будущее в жутких картинах — всё серым по чёрному либо наоборот, которые противувольно заимствовал он из суровой «Комедии» немилосердного Данте, он присаживался, словно бы на минуту, на стул и одну за другой играл для себя одного любимые сонаты Бетховена.
Тогда мужество возвращалось к нему, и он с облегчением, хоть и печально, думал о том, что отслужить-то ему предстоит года два, если, конечно, шальной Якубович по приезде сдуру не застрелит его — обещал.
Наконец ввалился пропылённый Степан. Александр кинулся его обнимать, ощущая сильный запах дальней дороги и крепкого мужского и лошадиного пота:
— Как я ждал, как я ждал, как я, Степанушка, тебя ждал! Заждался совсем!
Сердце Степана гулко било в его жаркую грудь, обветренные губы шептали в самое ухо:
— Ах, Александр, Александр...
Он, тоже в ухо, сквозь слёзы шептал:
— Славно, брат, что застал!
Они оторвались друг от друга. Степан, красивый даже с тёмным от дорожной пыли и пота лицом, отступил на два шага, оглядел его пристально и вскрикнул с тревогой:
— Александр, опять не спишь по ночам, под глазами-то, под глазами-то что!
Грибоедов засмеялся сквозь слёзы, в свою очередь оглядывая его с блаженным лицом:
— Ба, слава Богу, как прежде, кавалергард!
Степан отозвался, раздёргивая крючки:
— Мундир-то красив, об чём толковать, да ты на то не гляди, я в армии нужен по нынешним временам.
Александр ходил ошеломлённо вокруг, всё приглядываясь к лучшему другу, не проникая в смысл его загадочных слов, будто бы в армии нужен чёрт знает зачем:
— Нужен для чего? Опять ты об чести песню споёшь? Письма-то не получил?
Степан сбросил пропотевший мундир и властно крикнул:
— Эй, приготовьте умыться!
И поворотился к нему:
— Не слышу чести нынешним служить подлецам, в этом пункте я согласен с тобой.
То-то и есть, что согласен, верно, голову заморочили там, он воскликнул, переполненный обжигающей радостью встречи, на миг позабыв, что у них расставанье:
— Так я ж и толкую тебе!
Степан плюхнулся на диван, со стиснутыми зубами стянул сапоги с распаренных ног, мечтательно протянул:
— В баньку бы, а? Экая благодать! Веник берёзовый, пару квасом поддать! Так ведь не дадут, сейчас должны быть, эскадрон!
И снизу, с дивана, пошевеливая занемевшими пальцами, значительно взглянул на него:
— И потому мы должны служить нынче там, где от нас с тобой более пользы Отечеству!
Не понимая, кто сейчас должен быть, какой эскадрон, присев рядом с диваном на стул, но тотчас вскочив, он поверхностно, не ожидая ответа, блуждая в своём блаженном тумане, чуть не в беспамятстве, безразличным тоном спросил:
— Ты полагаешь, этот фокус нынче возможен?
Степан упруго поднялся, переступил на кривоватых кавалерийских ногах, ощупал лицо, колясь об щетину, и, откашлявшись несколько раз, прохрипел:
— Погоди, дай умыться, наговоримся ещё.
И пошёл умываться, захватив с собой зазвеневшие шпорами грязные сапоги.
Александр двинулся вслед, так хотелось быть вместе, времени-то на тары-бары как раз почти не осталось, он это знал, это Степану пока невдомёк, письмо получил, а забыл.
Степан, слыша его торопливые шаги за спиной, нагнувшись над тазом, подставил пригоршни ковшом, глухо сказал:
— Чем невозможней, тем и нужней.
Денщик лил холодную воду в подставленный ковшик ладоней, но Александру чудно казалось: всё не то, всё не так. Он выхватил кувшин из неуклюжей солдатской руки и сам принялся бережно поливать, в радости бормоча:
— Э, да что же мы? Ты сперва расскажи, ты-то как? Гляжу, всё здоров. Отчего так редко писал? Я чай, меня разлюбил?
Степан, обтирая размашисто шею, лицо и подмышки холодной водой, затем чистым, хрустящим льняным полотенцем, беспечно смеялся, в самом деле письмо позабыл, позабыл:
— Да ты сам, почитай, почти не писал!
Ткнув в сторону опустелый кувшин, тут же подхваченный денщиком почти на лету, как-то боком продвигаясь вслед за Степаном, точно привязали его, он с видом самым серьёзным оправдывался, хоть в оправданиях смысла не находил — ведь друзья, понятно и так:
— Помилуй, оттого не писал, что пример брал с меня? Вот уже истинно зря! Мне, поверь, здесь было не до того, чтобы письма писать!
Степан прилёг на диван и почти простонал:
— Дай, брат, отдохнуть полчаса. Хорошо-то как, тепло, тишина...
Да тут же поворотился всем телом к нему И голову локтем подпёр:
— Вот и писал бы, до чего тебе было, а я бы и знал. Одни слухи об тебе, уж подумывал вгорячах, что это ты меня разлюбил.
Александр присел в ногах у него:
— Это я тебя разлюбил? Полно, брат, стыдно тебе! Я разлюбить тебя никак не могу, сил моих нет! И в тебе был уверен, что любишь и, следственно, помнишь меня. Так просто, сболтнул языком, однако ж, помилуй, нехорошо. Парады парадами, а другу ни строчки!
Перевернулся на спину, заложил волосистые руки под голову, Степан протянул, как-то слишком серьёзно глядя перед собой, прежде как будто этаким коршуном не глядел:
— Э, брат, погоди, в старушке Москве такие заварились дела, возможности не представилось сказать на письме.
Наклонившись к нему, чтобы пристальней разглядеть, тот ли нынче воротился Степан, он рассеянно бормотал, не вникая в смысл Степановой речи, наслаждаясь звуками милого голоса:
— Полно, полно, мой милый, за какой надобностью тебе такие дела, об которых в письмах при нашей замечательной почте не пишут? Не для умного человека такого рода дела. Ты домосед. Расскажи.
Степан светло улыбнулся:
— Потом расскажу, хоть не велено никому говорить, а дайка сперва нагляжусь на тебя.
Александр почти испуганно, коротко рассмеялся:
— Э, милый, что ж глядеть на меня, вот я гляжу на тебя и наглядеться никак не могу: круглый, румяный, кровь с молоком, здоровьем лет на сто так и несёт.
Степан сел, подтянув колени к себе:
— Может, и так, да ты погоди, на тебе лица нет, худ и бледен как смерть, отчего? Всё сидел взаперти?
Он с искренним негодованием возразил:
— Как можно! Для моциону шлялся что ни день по каналам, как тебе обещал.
Степан мизинцем почесал по голове:
— Верно, меланхолия сызнова, в какой раз? Ну, погоди, вмиг поправим тебя! Халат, брат, долой, нынче гости у нас, а заутра чуть свет — и в манеж!
Разводя руками, Александр послушно поднялся, чтобы тотчас сбросить халат, коли надо:
— Какой, мой милый, манеж?
Степан повёл взглядом вокруг и вскочил:
— Да что у тебя беспорядок какой? Сашка-то что? Бездельник, лежебока! Сию минуту прибрать!
Александр сообщил, беспомощно держа в дрожащих руках только что снятый халат:
— Так ведь я уезжаю, мой милый.
Степан, должно быть, не понял его, не разобрал:
— Вечные шуточки! Все будут свои. Нет, нынче я тебя никуда не пущу, а завтра, пожалуй, после манежа с визитом или в театр, дело твоё, не стану держать, запретить не могу.
Выходя из другой комнаты в сюртуке, выправляя кружевные волны жабо, он улыбнулся почти виновато:
— Что, мой милый, визиты? Здешние визиты ку-ку! У меня нынче визит на Кавказ, к Ермолову под крыло, а там, глядишь, тот же день к персиянам, в Тегеран.
Степан так и сел и громко хлопнул себя по колену:
— Так послал тебя? Я верить глазам не хотел, как читал! Что ж, за то дело с несчастной дуэлью?
Александр не решился тотчас всю правду сказать, правда трудная вещь, подавиться легко:
— Пожалуй, что так.
Степан возвысил свой густой голос, истинный дар на парадах, с таким бы голосом в опере петь, а не скакать весь свой век на коне, повзводно марш:
— Что ж ты стоишь? Садись, изложи по порядку, как было.
Можно и сесть, правда и сидя что камень, Александр затоптался на месте:
— Да, брат, сяду, погоди, расскажу...
Однако ж, по счастью, ни присесть, ни рассказать не успел. По деревянным ступеням забухали вразнобой походные сапоги, в сенях, надрываясь, взлетел колокольчик.
Александр поспешно ретировался в соседнюю комнату, повязал кое-как чёрный галстук и появился с принуждённой улыбкой гостей нежданных встречать: из похода пришли, так веселье у них, обычай такой — что гусар, то гуляка.
В кабинете, служившем также гостиной, заварилась уже теснота, точно каша. Его окружили молодые, здоровые, сильные прапорщики, поручики, капитаны, крепко стискивали протянутую для пожатия руку, дружески хлопали его по плечу. Одни решительно и умело сдвигали стулья, другие ловко выхватывали из принесённых корзин бутылки с шампанским и ромом. Сашка метался с разнообразной посудой, тотчас смекнув, вертихвост, что к чему. Чей-то ражий денщик молчаливо и споро, как на ученье, распечатывал коробки с закусками. Говорили все разом охриплыми, громкими голосами, точно забыв, что уже не поход, да и некогда вспоминать, завтра манеж да развод:
— Хорошее житьё у вас тут, чистота!
— Не в походе, что говорить!
— Ну, не скажи, потесней, чем в походе. В походе такой, брат, простор!
— А не пойти ли нам лучше всем к Бордерону?
— К чёртовой матери Бордеронов кабак! Славно у Грибоедова попируем! Он, чай,без нас одичал!
— Чёртов подход! Женщин хочется видеть, море огней!
— Сашка, ещё свечи подай, больше свечей, пускай на огни поглядят!
— Всё, что есть, запалил, других в доме нет.
— А ну, мигом слетай!
— У всякого теперь три пути: на одном лошадь твоя будет сыта, а ты голоден и в грязи — это полк; на другом и лошадь, коли не околеет, и сам, того гляди, подохнешь медленно с голоду — это приятное стихотворство; на третьем и ты, и лошадь твоя, а за тобой ещё куча скотов и людей будет сыта и пьяна — это попади в какое ни на есть министерство, где нынче не столько чины, сколько взятки жутко дерут.
— За чем же дело стало? В отставку подай.
— Я, брат, военный, от макушки до пяток, так в отставку мне не с руки, а взяток сроду не брал, рука не берёт.
— Денёк-другой дадут отдохнуть, а там снова фрунт, точно мы немцы какие, точно воевать не умеем без этой собачьей гоньбы, как у нас завелось искони.
— Тебя не гоняй, так разучишься ногами ходить.
— Э, нет, брат, мы и без фрунта, а таки бирали Берлин и Париж.
— Что за притча, тогда все русские были, шпагу наголо, братцы, в атаку, за мной, и сам первый пошёл, а нынче, глядь, в командёрах одна немчура.
— Что за притча, мой Боливар опять с правой передней подкову сронил.
— Скверно, брат, ты его лучше продай поскорей, дело тёмное, я тебе говорю.
— Люблю негодяя, так жаль продавать.
— Э, да ты славный гусар! Здоровье твоего Боливара!
— Налейте вина, хочу выпить здоровье хозяина дома!
— Постой, да хозяин здесь кто?
— Грибоедов, ура!
— Что толковать, засиделись в Москве, парад за парадом, как держались в седле?
— Как ты полагаешь, Пишегрю[118], генерал, якобинец, славный рубака, был удавлен приказом или повесился сам?
— Эк ты вспомянул на ночь глядя! На кой чёрт тебе сдался удавленник, хотя бы и Пишегрю?
— Знать, брат, всё любопытно.
— Ты же не генерал!
— Мадам Клико необыкновенные мысли рождает в твоей голове!
— Самые существенные наши законы неизвестны даже в судилищах, в коих вершатся по ним приговоры. Так вот, законы должны быть все собраны наконец для торжества справедливости в наших судах, на основании здравого рассудка обновлены и обнародованы для сведенья всех.
— Особливо для тех, кто читать не умеет.
— Дело нужнейшее, что толковать, да наше правительство ни об законах, ни о грамотности хотя бы начальной не желает и думать, чиновникам взятки станет не за что брать.
— Тогда надо заставить правительство, и чиновники взяток пусть не берут!
— Эк, чего захотел! Что за правительство, коль не берёт да не врёт?
— Снова кровь, как в Париже лилась Робеспьером?
— Однако Пётр Великий погубил больше людей, заложив Петербург на чухонских погиблых болотах, чем Комитет общественного спасения ради справедливого распределения податей и установления единых законов для всех, не разделяя сословий и состояний.
— Мы, брат, Россия, у нас невозможны Конвент и Комитет общественного спасения. Мы страна государственных переворотов, начиная от царя Годунова и Бог весть насколько вперёд.
— Переверни бутылку и выпей за это до дна!
— Что хорошо, так это с похода в баньке помыться: жаром пышет, банщик, знай, веником хлопает, а ты кряхтишь да подставляешь бока, а обмылся — и хоть на крыльях лети, в пору новый поход отломать! Чудеса! Какой в России Конвент? Братцы, выпьем и в баню айда!
— Пётр Великий больше сделал для нас, чем ихний Конвент, во главе с гильотиной.
— А тоже, между прочим, голов не жалел, по-русски, правду сказать, простым топором.
— Всё же топор, не машина.
— Твоей голове топор-то милей?
— Открыт был, а нынче дела государственные творятся в тайне от всех, а таинственность затрудняет движение и их укрывает не только от граждан, но даже и от правительства самого.
— Постой, откуда ты граждан-то взял? В России отродясь не заводилось граждан.
— По этой причине у нас привычная тайна в делах гласностью заменяться должна, везде и во всём, это первейший вопрос.
— Как же чиновники станут тогда воровать из казны?
— Ты за чиновников не страдай, эта сволочь сворует всегда.
— Я за чиновника не страдаю, ни-ни, только при чиновниках какие же граждане, какая же гласность в делах, вот в чём вопрос?
— Чиновников выгнать — и дело с концом!
— А возможно ли в делах государственных обойтись без чиновников, это ещё больший вопрос.
— В каждом гражданине просвещение рождает идею не животного эгоизма, но общего блага, вот что вернее всего понять надобно всем да вводить просвещение.
— Вводить как налог?
— На кой дьявол чиновнику просвещение? Скорей просветишь моего Боливара!
— Отец который месяц копейки не шлёт, а ты мой видел мундир?
— Что твой мундир? У меня у самого отца нет!
— Эй, кто-нибудь, трубку!
— Управление государством должно подчиняться не своенравию или добронравию лиц управляющих, но правилам неизменным, правилам чести прежде всего.
— Э, полно мечтать, в России на этот счёт одно только неизменное правило есть!
— Это какое?
— Россией управляет то дурак, то подлец, то демагог, а уж неучи — решительно все!
— Это ты брось, а Екатерина Великая?
— Ты что, лишку хватил? Помяни ещё времена Мономаха!
— А что, это он чистую правду сказал, Екатерина славная баба была, хоть и немка, многие в князи вышли из грязи на ней.
— Дома-то до чего ж хорошо! Целый год, почитай, не бывали, а надобность в чём?
— В благоустроенном государстве одни дарования должны призываться содействовать общему благу, а назначение чиновников на места, особенно высшие, должно утверждаться общественным указанием для отдаления от государственных дел лихоимцев, кривдолюбцев, а пуще невежд.
— В исполнение того, чем ты бредишь, необходима Палата, избираемая свободно.
— А кому избирать? Всем поголовно или одним головам просвещённым? Тоже вопрос.
— Тоже, скажу вам, вопрос! Избирать поголовно в самую высшую власть, тогда дело пойдёт!
— Полно, брат, и тогда не пойдёт.
— Отчего не пойдёт?
— Изберут дурака.
— Отчего?
— Оттого что у нас поголовно все дураки, просвещённые тоже. Сперва, брат, надобно умных завесть.
— Главное же, представляется мне, употребление общественных сумм должно быть у всех на виду, и строжайший отчёт по всякой копейке, вот оно как! Тогда поди укради!
— Всё одно со счёту собьёшься, тут и возьмут.
— Отчего?
— Не свой, поди, кошелёк, с тем кошельком прежде надобно высшую математику знать.
— Нет, братцы, этак у нас не получится ничего.
— Отчего?
— Что ты заладил!
— Высшая математика, отчёт в каждой копейке публично — важная вещь, спорить нельзя, да главное и позабыли!
— Что позабыли?
— Вчерашний день, полагаю.
— Ты этим, брат, не шути!
— Чай, голову оторвёшь?
— Оторву!
— Хороша, брат, свобода, коли за каждое слово головы отрывать, коль оно не по нраву тебе, хорош гражданин!
— Так что позабыли?
— А честь.
— Честь, кого ни спроси, как будто у всякого есть; у последнего подлеца, не моргнёт, отрапортует, что есть, а поди ж ты, воруют, да как! Миллионами! Нет уж, там, где казённые деньги, плоха надежда на честь, попомните слово моё.
— Торговля и промышленность должны быть избавлены от учреждений самопроизвольных и обветшалых!
— А не хочется тащиться к себе на Миллионную!
— Ежели пьян, так молчи, сделай милость, трезвым рассуждать не мешай.
— Вон оно что, а трезвый-то кто?
— Все трезвые, ты один пьян.
— Нет, ты позволь! Я не один!
— Не позволю!
— А народ должен сам собой управлять или как?
Тут Александр всё пропустил, сидя очень прямо на стуле, напрягая все силы ума, чтобы глупости не сказать и не выкинуть какой-нибудь штуки. Он поднялся только тогда, когда стали прощаться, и с широкой неверной улыбкой пожимал чьи-то горячие, потные, то слишком вялые, то слишком сильные руки, ощущая только одно: улыбка куда-то плыла, а удержать её как?
Катенин придвинулся совсем близко к нему и зачем-то грозно кричал, точно он был глухой:
— Рад был снова видеть тебя! К чему тебе ехать?
Он вытянул шею, улыбку поймал, подвигав губами, подался вперёд и согнулся вперёд, показалось, что пополам, а Катенин не так уж был мал, что за чёрт:
— Спасибо, мой милый, никуда не хотел, да вдруг увидел, куда указует...
Но кто, кому и куда указует, сам понять не успел. Всё перед ним завертелось. Он глотнул воздух широко распахнутым ртом и провалился куда-то, без указания.
Затем не было ничего.
Он открыл глаза поздним утром. В голове что-то страшно и мерзко скрипело.
Над ним склонился бодрый и свежий Степан, поглядел, покачал головой, засмеялся беззвучно.
Александр вяло спросил, едва шевеля языком:
— Ты это об чём?
Степан выпрямился, оглушительно крикнул, круто оборотившись к дверям:
— Сашка! Тащи!
Он сел на горячем диване и тут же бессильно приткнулся к холодной стене.
Сашка, издевательски, кажется, улыбаясь, стервец, сечь бы надо таких, внёс на подносе громадный кофейник, белый молочник со сливками и две синие чайные чашки. Что он смеётся, других не нашёл, брандахлыст?
Степан, став серьёзным, собственноручно налил кофе в эти большие, широкие чашки и радостно загудел:
— Я уже поправился водкой и огурцом, малосолёненький, славный, подлец, а ты вот кофию выпей-ка, брат. Это я тебя вечор проглядел, виноват, ты прости, за год-то позабыл, что ты пить совсем не умеешь, точно младенец, а ещё дипломат.
Он с благодарностью глядел на Степана, не в силах слова сказать, не в силах двинуть обвислой рукой. Наконец кое-как лепетнул:
— Радость, мой милый, видеть тебя...
Степан чуть не силой вложил чашку в какие-то ватные пальцы, строго сказал:
— Пей и молчи. На радостях можно, конечно, кто против этого говорит, дело святое, а вперёд не сердись, отберу, капли лишней не дам. Слабенек ты выбрался из чрева природы на эти дела, оттого, должно быть, что уж больно умён, а впрочем, может, наоборот, так умён, что не можешь лишнего выпить, я не философ, ты, брат, прости, а только пьют помногу одни дураки, сколько раз примечал.
Отхлёбывая кофе со сливками, ощущая, как болезненно-горячо вливается каждый глоток, он отозвался смущённо:
— Помилуй Бог! Ну, эти тосты, и все за свободу, не счесть!
Степан покачал головой:
— Слишком пылок ты во всём, Александр, за что ни возьмись. Да теперь я снова рядом с тобой, вечная нянька твоя. Эх, славно мы заживём, Александр! В Москве-то, представь, мне только это и снилось!
Сильно тряхнув головой, ощутив страшную боль, что чуть не завыл, Александр через силу сказал:
— Э, ваше флегмомордие, да ты, вижу, тоже был вчерась несколько пьян.
Степан засмеялся привольно, не в насмешку, а от души, выставляя белейшие зубы:
— Ну вот, это, брат, хорошо. Вижу, что полегчало, валишь с больной на здоровую, с похмелья всё так, на-ка, ещё чашечку выпей зелья, кто его к чёрту придумал, не иначе немец какой.
Он мешком сидел на диване, с опущенной головой, упрямо твердил:
— Пьян был, как собака, всё позабыл, а кофе придумал монах.
Степан спокойно, уверенно возразил, ничуть не сердясь, подливая из кофейника в чашку:
— Да как теперь вижу твою побледневшую рожу, губами этак шлёп-шлёп, а уж и вымолвить слова не мог, я было за тебя испугался, да кто-то об государственном устройстве принялся хлопотать, так за этим делом тебя прозевал, а монах твой — последний дурак, разве монаху мало вина?
Он нахмурился сильно, припоминая своё, всё прочее отстраняя слабой рукой, поминутно сбиваясь:
— Монахи вино бочками пьют, правда твоя, верно, на тот случай вина под рукой не случилось, а ты, мой милый, постой, не путай меня. Я же тотчас тебе доложил, как увидел, что в Персию с миссией еду, на этих же днях, а ты то да сё, какой-то монах, да славно так заживём. Должен был тебе доложить в тот же секунд, не иначе, а монаха в покое оставь, пьёт так пьёт, разве жаль.
Степан прикрыл глаза, припоминая с трудом:
— Верно, ты в это роде что-то мне возвестил, до монаха...
Он с усилием оживился:
— Кто из нас валит с больной головы на здоровую?
Степан поморщился и вновь задал тот же вопрос:
— Так тебя всё же выслали за эту дуэль?
На этот раз, не смея притворяться, в том более смысла не видя, он ответил, махнув рукой на монаха, который, как назло, так и лез на язык:
— Для чего высылать? Я своей волей себя высылаю.
Степан прикрикнул сердито:
— Перестань валять дурака, ты мне толком скажи! Кто кого выслал? За что?
Ощущая, что после крепкого кофе в разбитом теле шевелится обычная сила да трезвость ума, отделившись от спинки дивана, которая прежде с малым успехом, но всё же придерживала его, пока он лечился подручными средствами, сев, как сумел, попрямей, он попробовал в первый раз разъяснить и себе и Степану, вопросительно глядевшему на него:
— Вот видишь, мой милый, я слишком привязан к свободе, а здесь что-то живу как в тюрьме.
Сдвинув брови, для верности тряхнув головой, точно хмель прогонял, Степан возразил нетерпеливо и резко:
— Постой, никак в толк не возьму, в Первопрестольной вечно бабьи сплетни одни, то да сё, языками вертят, как на фортепьяно бренчат, что причина этой дуэли?
Александр вздохнул тяжело, со вниманием поглядел, слегка подразнил, без подъёма — привычка одна:
— Человек, кажется, умный, как не возьмёшь?
Степан руками развёл, с недоумением говоря:
— Да ведь ты, говорят, отперся, что на той дуэли был приглашён секундантом?
Кто бы другой, из слухов этих, из готтентотов, из пошляков[119], но Степан, он и губы скривил:
— Хорош бы я был дурак, когда бы истины изрекал на суде нечестивых.
Степан помялся, подумал, закусивши губу, наконец осторожно спросил:
— Прости, а прочая братия тоже молчала, как ты?
Он слабо кивнул:
— Молчали из чести.
Степан подёргал в раздраженье усы:
— Так, хорошо, допускаю, молчали из чести, и Якубович тоже молчал?
Так оно и должно быть, все сплетни да сплетники пуще всего, наглецы, и он зло усмехнулся в ответ, должно быть совсем протрезвев:
— И он.
Степан покружил по комнате, глядя растерянно, точно что-то искал, потёр на этот раз уже чисто выбритый подбородок и раздумчиво произнёс:
— Ну вот, благоразумный ты человек, а я и не знал и не ведал, прежде как будто благоразумия за тобой не водилось, очертя голову в омут скакал.
Он просительно поглядел:
— Ну, ты об моём благоразумии судить погоди.
Лицо Степана, красивое, круглое, мужественное, сделалось чересчур озабоченным и некрасивым, усилие мысли на пользу не шло.
— Что, Якубович всё-таки проболтался, подлец?
Э, да что тут ещё толковать, и, решивши с досады одеться, Александр ноги на пол опустил:
— Не проболтался, однако ж наболтал и налгал по гостиным, из принципа наболтал и налгал, нынче, вишь, принцип такой, из высоких идей, да всё дело вовсе не в том, кто об ком чего наболтал и налгал, ты хоть эту малость пойми.
Проведя по курчавым густым волосам, точно решая, что ему теперь делать, Степан наклонился к нему, заглядывая в глаза с беспокойным вниманием:
— Стало быть, слухи-то всё же дошли кой-куда?
Он встал, ожидая, что снова в темя ударит несносная боль, точно гвоздь, однако ж, видать, голова попришла в нормальное состояние, и он отозвался, довольный собой:
— Или дошли кой-куда, или не дошли никуда, малейшего отношения ко мне не имеет, слово даю.
Степан опустился на стул, расставил кривоватые кавалерийские ноги, принялся разглядывать носки начищенных новых сапог, внезапно осведомился, глухо, чуть не страдая:
— Отчего же писал ты в Москву, что всенепременно тебя послать хотят в Персию, а?
Он с брезгливостью скинул с себя всю измятую, перекрученную рубашку, в которую с вечера кто-то его обрядил, и медленно стал одеваться: верный Сашка уже всю амуницию поместил под рукой.
— Ага, припомнил, однако! Они и думают, Стурдза и Нессельроде, что хотят, я им так это ввернул, понимаешь?
Степан вскочил, заорал в приоткрытую дверь:
— Сашка, водки подай!
Застёгивая рубашку, плохо попадая пуговкой в просторную петлю, ощущая ладонью, как сильно и гулко колотится сердце, он было вздумал отговаривать друга:
— Полно, не пей.
Степан обернулся, глазами сверкнул:
— Твои вечные шуточки — хоть у кого голова затрещит, хуже похмелья, клянусь!
Теперь, после сражения с пуговкой, предстояло поднять одну ногу и миг устоять на другой, да он не сумел, повалился на стул и рассудительно возразил, натягивая отчищенные, отутюженные штаны:
— Ну, какие же шутки? Впрочем, я без тебя здесь точно довольно много шутил, так что министр и сам, пожалуй, полагает теперь, что миссия в Тегеране без меня невозможна и что он меня в эту миссию чуть ли не силком затащил. Я по этому следствию нахожу, что в самом деле, должно быть, сгожусь в дипломатах. Твоё мнение об этом какое?
Схватив с протянутого Сашкой подноса полный стакан, одним духом выпив не морщась, славно хрустнув пупыристым зелёным огурчиком, Степан отмахнулся:
— Какое тут ещё мнение? Ты всегда был большой дипломат, что ни слово — загадка, эпиграмма, кроссворд, да почто тебе придумалось этак-то заморочить его?
Застегнувши штаны, обуваясь, притопывая каблуком сапога, который был начищен не хуже Степанова, верно, Сашка отличался вперегонки со Степановым денщиком, тоже честолюбивей, пострел, он сам удивился:
— Хотел взять с него два чина зараз.
Степан застыл, жевать перестал, рот открыл широко, затем очень тихо сказал со страдальческим выражением на простодушном лице, несколько даже попятясь, или уж это с похмелья помнилось ему:
— Два чина зараз? Однако ж перед отъездом моим ты не был честолюбив, Александр, сам собой в отставку пошёл, извини.
Александр засмеялся ещё несозрелым, кудахтающим смешком, в другой сапог всунул ногу, за ушки сапог потянул на себя:
— Вот славно, вы сговорились, то же самое я твердил Нессельроде, а между тем понуждал дать два чина вперёд. Дьявольски хотелось смеяться, да удержался, не ведаю как. Это, пожалуй, меня радует в этой странной истории больше всего.
Вскочил, сильно дёрнул шнурок, приказал тотчас возникшему Сашке:
— А ну, франт-собака, чаю подай.
Кряжистый и плотный, в белой рубашке, грудь нараспашку, в тугих кавалергардских лосинах, размашисто шагая на кривоватых кавалерийских ногах, с недоумением на простодушном круглом лиде, Степан резко крикнул в Сашкину спину:
— Да трубки подай!
Покрутил нервно ус, сердито сказал:
— Так отписал бы мне прямо, по-русски, у меня от догадок вспухли мозги.
Ощущая, что понемногу приходит в себя, разглядывая Степана с дружеской весёлой насмешкой, радуясь, что снова видит его, Александр вдруг спросил:
— Постой, ты недели две из Москвы, что Александр Яковлич там, здоров ли, поживает-то как?
Не оборачиваясь, вышагивая с опущенной головой, Степан пробурчал:
— Это который?
Принявши трубки от Сашки, который тотчас снова исчез, выразительно стрельнувши шельмовскими глазами, знаю, мол, что за чистка идёт, да я ничего, хотя поделом, одну подавши Степану, Александр с шутливой иронией изъяснил:
— Булгаков, конечно, почтдиректор в Москве, аль не знаешь об нём?
Принявши трубку, Степан грузно сел, глубоко, с наслаждением затянулся и пробурчал виновато, не взглянув на него, мол, что за допрос:
— Булгаков, ясное дело, здоров чёрт его дери, и говорун всё такой же, вылитый брат, если не сделался хуже.
Тоже затянувшись несколько раз, раскурив хорошо, поглядывая, как Сашка, нынче слишком старательный, сервирует с важностью завтрак, он воскликнул, умело изображая серьёзность:
— Какое счастье, подумай! Здоров, полон сил! Здесь у нас его брат почтдиректор, тоже здоров, полон сил, непременнейший говорун, а письма друг дружке с курьером шлют что ни день, даровая посылка кого, мой милый, в грех не введёт!
Степан трубку оставил, как-то по-женски застенчиво поднял большие глаза:
— Ты что же, уверен, коль так говоришь?
Расхаживая по комнате уже на твёрдых ногах, попыхивая лёгким ароматным дымком, он говорил равнодушно, дивясь, как это умный Степан мог не видеть таких очевидных вещей, что за притча, практический человек, чёрт возьми:
— Как не знать, мне об их проделках передавали не раз. Они, понимаешь ли, из одного своего удовольствия наши письма читают. Им желается, экая слабость у них, в свете, и не в одном только свете, блистать новостями, а до новостей у нас, как ты по опыту не можешь не знать, падки все возрасты страсть, от грудных младенцев включительно, а где самые свежие новости, коли не в письмах? Так они новости в наших письмах отыскивают, разносят затем по петербургским да по московским гостиным, ты мою новость узнал небось прежде письма. Впрочем, это всё вздор. Долг их по службе — и в иные места доносить, понимаешь, мой милый, так и доносят, и почтдиректору жалованья зазря не дают.
Степан потупился:
— Вот в самом деле далеко до письма разнеслось, что такая беда у тебя, а мне ни к чему.
Жалея Степана, не став и глядеть на него, чтобы хоть взглядом своим не стыдить, Александр негромко, но жёстко сказал:
— А мне больно нехорошо, когда бы дурачество моё этак преглупо кому не надо открылось. Я и подумал, что моё дело будет раз в десять верней, когда те об письме оповестят весь Божий свет, мне Якубовича милая сплетня вот где сидит. Посылают, понимаешь ли, не ехать нельзя, те донесут, а ты и сквозь строки, думал, поймёшь, да те, сукины дети, не донесли. К тому же — второе, матушка на Москве у меня, ей об моих дурачествах не следует знать, и без того огорчится она.
Степан хмурился, недовольно ворчал:
— Почтдиректоры... матушка... сквозь строки гляди... Экие тонкости с другом... а все из каких-то чинов...
Поставив трубку на место, сжав и разжав несколько раз просившие сильного движения пальцы, он улыбнулся тепло, точно прощенья просил:
— Не из одних, как видишь, чинов; однако ж и об чинах в наше время весьма озаботиться следует, много ли доброго сделаешь в малых чинах, а иначе-то как, да и состоянья мне Бог не послал, я из хлеба слуга государю, а по чину и хлеб. Давай-ка завтракать, брат.
Пыхтя громко откурившейся трубкой, размышляя над чем-то упорно, глубокая складка пролегла среди лба, Степан отозвался не сразу:
— Постой, хлеб ли, слуга ли, так ты решился служить из чинов?
Усевшись за стол, не дожидаясь его, между ними давно завелось, густо намазывая жёлтым маслом свежий румяный калач, знать, Сашка уж в булочной был, решивши более не вдаваться в подробности, один чёрт, проку на грош, хитрость малая, загадка невелика, он только сказал:
— И тебе повторю тот же благоразумный совет. Тебе в гвардии куда как скоро выйдет в полковники, сам рассуди. Да чего ты застрял? Тебе чаю налить?
Степан виновато, отчасти и сумрачно поглядел на него, вновь призадумался о своём, точно жёрнов таскал, нерешительно вслух говоря:
— Я, брат, уж и есть не хочу. Ты и прав, может быть, что скорей дипломат, да мне всё равно, вперёд ли аль годом поздней.
Он отозвался, жуя, наливая заварку из темно-красного пузатого чайника:
— Вот что значит: годик имел счастье пожить в премилой, в предоброй старушке Москве! Ум за разум зашёл.
Степан вопросительно улыбнулся:
— Городок, верно, привольный и милый. Выйдя в отставку, в Москве непременно на старости лет поселюсь.
Экая силища в этой напасти, тепло, хорошо, и враз заберёт человека в тенёта, вчера скакал верхом на коне, нынче без тёплой фуфайки ни-ни, вот вам Москва, на смех, в сатиру её, кабы не подорожная на Кавказ, и принялся отговаривать, разбавляя горячайший чай молоком:
— Полно, мой милый, остановившись в Москве, хоть кто соскочит с ума, даже из немцев, об русском что говорить, русский ум на чертовщину не стоек. И с чего тебе толковать об отставке? Карьера твоя едва началась. Добудешь полковника, наконец развернёшься, как есть, твоей натурой чего не возьмёшь. Даже истинный гений останется дурак дураком, командуя одним эскадроном. Всякий ум для своего применения нуждается в поприще, лучше огромном. Да ты на меня не сердись, поди, брат, сюда, чай твой давно остывает.
Неловко поднявшись, стоя с трубкой в безвольно висевшей вдоль тела руке, точно толком не знал, куда пристроить её и пристроиться самому, Степан возразил:
— Когда охота тебе, ищи себе поприща, хоть и всемирного, у тебя на что захочешь предовольно ума, а меня так уволь, Александр, я не гений и далее полковника положил себе не служить, как раз впору натуре моей. Чин хороший, разумный, достойный, а большего я ничего не хочу.
Он это знал, Степан именно ничего не хотел, угол тихий, отставка, жена, живот до грудей, вероятно, из шерсти домашней фуфайка, однако ж поди ты, из чего-то настаивал, бодро и веско, поднося чашку с чаем ко рту:
— Помилуй, с твоей-то благородной натурой! Тебе же только начать, а там зашагаешь, мне тебя нипочём не догнать! Когда не тебе, так кому у нас нынче служить? Иль в бедной России судьба одним белозубым Паскевичам выходить на пустом месте в генералы да делом ворочать большим?
Севши наконец перед ним, опустив ненужную трубку на пол рядом с собой, точно не помнил об ней, положивши сильные руки на стол, Степан возразил с душевной тоской:
— Не бранись, Александр, ум у меня, признаюсь, имеется кое-какой, да один ум, полагаю, стоит немногого. Для прохождения истинной службы, то есть благородной и честной, надобно сведений тьму, сколько раз ты об этом твердил, браня на все корки наших невежд, а я, известно тебе, толком никогда не учился, как-то не думал об этом, всё было не до ученья — такая беда.
Вот оно, извечное несчастье Степана, умного, верного, без цели вперёд, он тут и голос возвысил, со стуком поставя чашку на зазвеневшее блюдце:
— Тебе до полного генерала годов пять или шесть — книги возьми, приготовься в любые стратеги. Суворов, Бонапарт, Ермолов чем тебе не пример.
Степан с сожалением покачал головой:
— Нет, брат, уволь, давно уж я выбрал себе вполне заурядное поприще, какой я тебе Бонапарт.
То есть похоронил себя заживо, доброхотно, нерадетельной волей своей, и, обжёгшись внезапно, раскашлявшись, не терпя ни в ком, ни в себе никакого смирения, Александр возмутился, чуть не крича, сдержался, друга жалея, когда надо бы благим матом орать:
— Экое флегмомордие, чёрт побери! Одумайся, мой милый, пока я не уехал, не то всю дорогу не на месте душа, до письма от тебя. Да ты чаю-то выпей, авось в ум войдёшь, китайские мудрецы говорят, помогает.
Приняв свою чашку, брезгливо поглядев на неё, тут же осторожно поставив прямо на скатерть, всё же немного плеснув, Степан вопрошающе поглядел на него:
— Сам рассуди, Александр, из какой надобности человеку натуру ломать? Сломать-то, положим, сломишь, это дело нехитрое, натура податлива на излом, натура хрупка, да натуре всякая ломка во вред, а для блага следовать надо натуре, натура-то знает сама, кого на какое место взнуздать, кого от чего остеречь, только со вниманием слушай её, я и слушаю, да и ты, погляжу, не ломаешь своей.
Выплеснув остатки чая своего в полоскательницу, полную чашку нацедив себе в другой раз, однако тут же отставив её, покусывая разочарованно губы, собираясь с мыслями на ходу, Александр недовольно, отрывочно заговорил:
— Ты зарезал, мой милый, меня... Экую философию развернул, тотчас в стратеги ступай, в учителя жизни, Вольтер... Впрочем, к тому времени возвращусь, авось найду тебя в мыслях иных... Натуру-то точно не имеется смысла ломать, да натура твоя чем плоха, изъясни?.. Чаю-то выпей, остынет... Эк ты запутал меня...
Степан послушался, отхлебнул, отчего-то поморщился, пить больше не стал, вдруг спросил, пожимая плечами:
— Чем же запутал, никак не пойму?
Александр сморщился:
— Думал, станем вместе служить.
Степан воззрился на него с изумлением:
— Как это вместе — я в военной, а ты дипломат, завтра поэт, послезавтра добудешь Доктора прав? Ты лучше мне растолкуй, отчего тебя в эту сторону поворотила дуэль? Мало ли дуэлей у нас, а всё ничего.
Он вскинул голову, быстро спросил:
— Что, так заметно?
Степан открыто глядел:
— Глазам не верю, смотря на тебя.
Отрезал кусок калача, маслом намазал, подал ему, он отозвался нехотя, чуть не сквозь зубы:
— Ты лучше поешь, а я сам, душа моя, понять не могу, может быть, вовсе и не дуэль, а одни глаза Шереметева.
Вертя калач перед носом, точно примеряясь, с какого места начать, Степан осторожно спросил, как бывало всегда, когда чего-то не понимал, а впросак попасть не хотел:
— Что, по-прежнему мучат видения наяву?
Постукивая черенком ножа по столу, несколько поотвернувшись от лучшего друга, чтобы тот на него не глядел, безучастно разглядывая, как за окном прозрачное белое облачко прикрывало жаркое летнее солнце прозрачным крылом и всё быстро темнело вокруг, он признался с трудом:
— Как и не мучить? Дня не проходит, всё вижу, как корчится Васька на белом снегу, и эти детские, большие, расширенные глаза, точно он, выйдя к барьеру, не верил, что может теперь умереть, и вдруг в один миг от одного удара кусочком свинца поверил и страшно перепугался, что вот она, смерть, а тута балбес Каверин над ним, что, говорит, Васька, как редька? До того бессмысленно всё приключилось, по коже мороз. Вот живёшь, живёшь со дня на день, вкривь живёшь, вкось живёшь, не понимая своего непотребства, и всё тебе нипочём. И одно что-то вдруг всю жизнь повернёт, с мясом вывернет, с кровью и, пуще всего, со стыдом. Оно ещё хорошо, когда бы своя только смерть, а то ведь чаще того от тебя выходит чужая. И как глянут вдруг такие глаза на тебя, тут поймёшь, как огнём обожжёшься, что завесь грех ответ на тебе и что ответ этот надобно честно держать, когда подлецом себя почитать не желаешь.
Степан облегчённо вздохнул, калача откусил, принялся за чай, с полным ртом изъяснил:
— Так вот оно что! Теперь понимаю, к чему Якубович наболтал на тебя.
Александр бросил нож, со вниманьем поглядел на него, протянул:
— А я так, признаться, понять не могу.
Степан задумался и вдруг испугался:
— Совесть, должно быть, мучит его, да вот в чём беда, он человек единственной мысли, такой не успокоится до тех пор, пока сам не всадит тебе пулю в голову или в живот, как пожелает, рука у него довольно верна, говорят. Дуэль с тобой он полагает после всего делом чести, а ты же и едешь туда!
Он обозлился:
— И для чести своей бесчестит меня? Экий подлец! Ладно бы бесчестил за то, за что я сам бесчещу себя, в чём истинное бесчестие всякого человека, так нет, он перед отправкой своей говорит несуразное, распускает здесь клевету, будто я струсил, будто по вине моей нарушены какие-то правила и что по этой причине Васька убит, а своей не чует вины, это же мы вместе с ним своей глупостью мальчика загубили!
Степан потянулся было за трубкой, да трубка погасла давно, он отставил её и раздумчиво произнёс:
— Ну, брат, ты берёшь чересчур высоко, а ещё дипломат. У таких людей совесть слишком короткая. Тут какая вина? Якубович только хотел, чтобы выбора у тебя не осталось, чтобы ты от пули не ушёл.
Александр с гневом ударил ладонью об стол, так что Степанов чай расплескался:
— И поверили, конечно, ему, оттого, что дурак, а не мне, оттого, что умён. У нас клевета именно к умным ужасно легко прилипает. А ведь кто поверил-то, кто? Как же, известное дело, Грибоедов служил по резервам, как же не трус! Вот и вся логика, брат!
Степан вздохнул, не подняв головы, передвигая с места на место намазанный маслом калач, надкусанный всего один раз пропал аппетит, сильный любитель поесть:
— Вот и ты попался, как все: едешь в миссию, однако ж едешь за тем, чтобы по дороге как-нибудь встретить его и всенепременно убить. Твоя рука ещё больше верна: в тире твою руку видел.
Александр усмехнулся презрительно:
— Для чего ж непременно убить?
Степан поморщился, покрутил головой:
— Я и говорю, рука у тебя, хоть мне-то не лги. Ты слеп-слеп, а мимо цели стрелять давно разучился. Признавайся, без меня всякий день упражнялся небось?
Грибоедов с жёстким лицом попросил:
— Сделай милость, не открывай никому.
Внимательно поглядев на него исподлобья, через мгновение снова сидя с полуопущенной головой, всё упрямо размышляя о чём-то, Степан резко поворотил разговор:
— Хорошо, никому не открою, помни одно: Якубовича мне не жаль, но тебя; а вот что ты мне растолкуй: какой удой поддел на крючок ты министра?
Облегчённо вздохнув, удивляясь в какой же уже раз душевной деликатности друга, он охотно заговорил:
— Представь, поддеть оказалось нетрудно. Из-под руки довелось мне узнать, что составляется миссия к персиянцам. Я поддержал разговор, расспросил и сделал самый лёгкий намёк, а там уж завертелась карусель без меня, уговаривали, представляли, любо-дорого было глядеть.
Выплеснув остывший чай из чашки и блюдца, Степан попросил, протягивая к нему:
— Налей-ка в самом деле чайку, в горле пересохло с тобой.
И, глядя, как он управляется с самоваром и чайником, засмеялся:
— Экая вдруг основательность в твоей ветреной голове, дай я тебя обниму.
Подав ему полную чашку, заодно наливая себе, Александр оживился:
— В самом деле, представь, оказалось, что стоит только серьёзно приняться за дело, как тотчас становишься иным человеком, самому себя не узнать. Выходит, ничем иным нельзя лучше проверить, верно ли думаешь об себе, каков человек, как одним практическим делом, да и всякого тоже, каким манером он берётся за что, хоть бы жениться решил, завёл сватовство, а не тем, какие молотит языком словеса, язык-то беспутен, что хочешь сболтнёт, известно, что язык без костей. Правило мне на всю жизнь. Довольно дурачиться да без толку по гостиным приятные и неприятные вздоры молоть.
Степан рассудительно согласился — основательный человек, вздоров никогда не молол, с аппетитом принимаясь за чай и калач, прежний Степан мог бы уплести и быка.
— Ну, теперь ты об себе думаешь верно, так оставь эту глупую мысль, ещё можно поворотить. Персия чёрт знает где.
Подставив открытый чайник под кран самовара, забыв кран отвернуть, он откликнулся с недобрым блеском в глазах:
— Поворотить, говоришь? Нет, душа моя, поворотить мне нельзя! И какой способ поворотить, хотел бы я знать?
Степан тотчас решил:
— Обратимся к друзьям, к Трубецкому, к Тургеневу, их влиянием нынче многого можно достичь.
От наивности этой практической мысли он тотчас остыл, отвернул остывающий кран и глядел, как льётся в чайник переставший бурлить кипяток, всё-таки негромко побулькивая, брызгая и шипя, забавный такой, и усмешливо проговорил:
— Трубецкой — милейший и славный, не возражу, я его страсть как люблю, да Трубецкой ни с каким делом не сладит, мягок и добр чересчур; а Тургеневу всякое частное дело чересчур незначительно, Тургеневу прежде общее подавай, а частные лица как пыль — государственный человек.
Степан с любезной твёрдостью возразил, откидываясь назад, держа чашку перед собой:
— Я бы в этом поспорил с тобой, однако же не хочу, можно просто-напросто выйти в отставку.
Завернув резко кран, накрыв чайник крышкой, водрузив его на верх самовара, чтобы попрел, Александр выговорил сквозь зубы, глядя Степану прямо в глаза:
— Вот-вот, уж был в отставке, вы с матушкой бранью бранили меня, что повеса, аль позабыл, вот нынче образумился, принимаюсь серьёзно служить, так по-вашему снова дурак!
Степан примирительно изъяснил, однако чашку поставил на стол и глаза опустил:
— Помилуй, я теперь об другом. Многие наши нынче выходят, порядочному человеку достойно служить, кто против этого говорит, да нам нынче велят пресмыкаться перед всяким дерьмом, да ещё перед паршивыми немцами пуще всего, тот же твой Нессельроде, он немец или еврей? А твой Мазарович каких будет кровей?
Александр резко поднялся:
— Не пресмыкаться отправляюсь я с миссией, но России верой и правдой служить на её рубежах, к тому же мой Мазарович — венецианец природный, против немца громадная разница, и с первого слова отнёсся ко мне как товарищ, хотя чином будет повыше меня.
Степан, в сердцах двинувши чашку, снова плеснувши изрядно, так что на скатерти уже лужа плыла, хмуро взглянул на него, чего, мол, беситься, дело тебе говорю:
— Ты за три года от службы отстал, не ведаешь в службе порядков новейших времён.
Александр потянулся, противно зевнув:
— Вот именно, от службы отстал? и чем же стал я без службы? Да и мне растолкуй, коли так, к чему оставаться?
Всем телом поворотившись к нему, обхватив спинку стула руками, глядя необычайно, как-то уж больно серьёзно, как не глядел никогда, — повелитель, оратор, философ, чёрт знает кто — Степан негромко, значительно проговорил:
— Здесь ты нужен для общего дела, поверь, с твоим-то умом, и это отлично, что решился кстати проверить себя, порядочному человеку в нынешних обстоятельствах отыщется благородное дело не легче, чем в Персии, куда там, много, много важней.
Подойдя к окну, с безразличным видом поглядывая на то, как прозрачное белое облачко, чем-то неуловимо похожее на медведя, выпускало ясное солнце из лёгких объятий своих, он отрезал:
— В России дела мне нет ни лёгкого, никакого.
Помолчав у него за спиной, точно через силу решался на что-то, Степан уклончиво начал:
— Видишь ли, я откроюсь тебе.
Грибоедов насмешливо оборотился через плечо:
— Неужто страшные тайны завелись от меня? Вот Москва так Москва! Кого хочешь оплетёт!
Пряча глаза, продолжая сидеть к нему полубоком, Степан вдруг скоро, с усилием заговорил:
— Там, в Москве, ты не прав, мы много рассуждали о положении дел. Ты, я уверен, видишь и сам, что день ото дня у нас становится гаже. Обещания даны нам большие, да обещания эти остались без исполнения, как есть.
Он, прерывая, спросил:
— Легко ли исполнить такие-то обещания?
Степан не задумался:
— Надобно исполнять, коль даны. Ты погляди: народ обезличен и закоснел в неподвижности умственной, в непростительном безразличии ко всему, что производят над ним. От такой неподвижности множится пьянство, которое разрушает самую душу народную, это как? Лихоимство, прямое грабительство из казны становится повседневным, как в Петербурге погода дурная, а это худший всякого пьянства для народа разврат. Полное и явное со стороны высших неуважение к личности человека во всём, пренебрежение человеком бесстыдное, отчего разврат горший втрое. Власть у нас до того утратила совесть и честь, либо никогда этих свойств не имела, что в глазах подданных обратилась в прямое посмешище. Власть высшая удерживается только насилием.
Неторопливо разглядывая, сквозь думы, как жаркое солнце выставляет свой огненный край, точно отодвигает нахальную муть облаков, Александр усмехнулся на эти неожиданно пылкие речи, Степану прежде чужие:
— Правда твоя, не только что чести, совести, расположение высшее, обыкновенной честности встречаешь всё меньше в людях властных и в людях подвластных, так что?
Слышно сглотнув, помолчав напряжённо, точно непосильную ношу поднял, Степан несмело признался, похоже, что грех совершал, неизвестно какой:
— Вот мы и решили в Москве, что отныне порядочным людям такого рода бесстыдства терпеть уже невозможно, а ещё более противно чести нашей и совести, вот.
Отодвинувшись от окна, скрестив руки, опершись на прохладную стену спиной, Александр с холодной улыбкой спросил, вкрадчиво, кое-как сдерживая себя:
— И что же после этого постановили вы предпринять?
Степан поднялся, помедлил и точно бросился в воду вниз головой:
— Из нас составился «Союз благоденствия».
Он брови вскинул:
— Ага, стало быть, прежний союз[120] по рецепту нашего общего брата Руссо вам не подходит? Что так?
Степан чуть смутился, хоть знал его острый язык, приноровившийся над чем ни попало язвить, однако ж мгновенье спустя поглядел ему бесстрашно в глаза:
— Да, по мнению общему, как оказалось на заседаньях в Москве, не оправдались надежды, которые нами возлагались на этот союз.
Предполагая давно, что это непременно случится, слишком много на эту глупость соединения благородных людей возлагалось великих и величайших надежд, однако ж пряча улыбку, чтобы лучший друг в обиду не взял, он только спросил всё-таки вместо того, что хотел:
— Позволь, мой милый, узнать, отчего же не оправдались надежды, как изволишь изъяснить свою мысль?
Степан признался открыто, подступая к нему, вразвалку и близко, чуть не вплотную, точно помощи ждал или сам собирался помочь:
— Причин мы и сами в толк не возьмём, если всю правду сказать, а только дело само за себя говорит, то есть дела никакого не вышло, так чего ж тут судить да рядить.
Приметив, как сосредоточенно Степан размышлял, собирая глубокими складками лоб, невысокий, но светлый, вовсе не глупый, рассудив, что другого не дождётся ответа, кроме излюбленного русским человеком «Бог весть», он полюбопытствовал всё же, понадеясь, что Степан в этой глупости, хоть и новой, но старой, разубедит себя сам:
— Позволь, помнится, вы полагали проповедовать всеми силами уничтожение рабства, а с ним произвола властей. Не так давно мне в другой раз довольно пространно изъяснял Трубецкой, верно, желал меня в это дело вовлечь. Так что же порешили на этот раз предпринять?
Остановясь напротив шага на два, освещённый вышедшим из-за облака солнцем, безмятежно глядевшим прямо в окно, Степан убеждённо сказал, точно просил отбросить сомненья и спор прекратить:
— Уничтожения рабства и произвола властей проповедовать также и нынче, однако же общество наше вызывается вместе с тем поддерживать те меры правительства, от которых могут случиться благие последствия для Отечества, и осуждать те меры правительства, которые могут быть Отечеству вредны.
Любопытство его разбирало узнать, каким верным способом намеревались упрямые чудаки поддерживать да осуждать, не своего брата гусара, а всё же правительство, не опять ли одними речами по казармам да по светским гостиным, однако ж из жалости к другу решился только спросить:
— Помилуй, давно ли остроумный Павел Петрович за одни французские шляпы да фраки засобачивал мигом в каземат да в Сибирь? Нынче-то что?
Сделав ещё один шаг, вплотную сблизившись с ним, крепко ухватившись за борт сюртука, уставясь широко раскрытыми глазами прямо в глаза, хоть сей миг на трибуну в Конвент, Степан с возмущеньем проговорил:
— Однако ж нынче у нас Александр, а не Павел.
Не шелохнувшись, хоть неудобно стало стоять, иронически расширив глаза, он напомнил известную истину:
— Помнится, сыну в прямое наследие Аракчеев достался, прохвост и фельдфебель, с палкой в руке, аль об Аракчееве ты позабыл?
Степан не сдавался, твёрдым голосом возразил, что было на него никак не похоже, другой человек, вот так Москва, да ещё жёстко щурил глаза, всё сильнее стискивал борт сюртука, точно собирался его оторвать, не дошло бы до ножа гильотины, вот они нынче как говорят:
— Нет, об Аракчееве никто не забыл, по этой причине именно обязуется общество преследовать всех чиновников, от высших до низших, за всякое злоупотребление должностью, несправедливости исправлять, которые имеют от такого рода злоупотреблений происходить, разглашать полезные и благородные поступки людей должностных, распространять убеждение в необходимости уничтожения рабства, которое противно совести просвещённого человека, распространять чувство любви к Отечеству, ненависть к несправедливости и к угнетению, вот что себе вменяет в обязанность общество.
Оттолкнувшись спиной от стены, решительно разжав железные пальцы Степана, оправив сюртук, Грибоедов с сомнением покачал головой:
— Это всё бы хорошо, намеренья ваши благие, кто говорит, да какая власть вам распространять такие вещи дозволит, однако ж, положим, сглупит и дозволит, чего не бывает, у нас власть безрассудная, из чего же тогда вы похоронили ваш прежний прекрасный союз, изделье умов, которые не решусь поименовать просвещёнными, хотя, разумеется, преусердно корпят над Руссо?
Степан замялся, глаза опустил:
— В уставе нашлись несогласия.
Подтолкнув его властным движением к стулу, стоявшему близко, тотчас сам усевшись против него, Александр нервно, подавляя растущее раздраженье, заговорил:
— Вот она, презамечательная черта, самый дух великорусского племени! Покуда не истребим в себе этой черты премерзейшей надругательством злейшим, хохотом площадным, шутовством, все останемся племенем жалких холопей. Ведь вы же ещё, сколько знаю, ничего нигде никому не сказали, разве что мне, никак не заявили себя, ведь все только собирались ещё разъяснить бестолковому, обществу владетелей и казнокрадов преумное что-то об деспотизме и рабстве, а уже между вами завелись несогласия, перепалки и смуты, слава Богу, до кулаков не дошли. И мнения в обществе владетелей и казнокрадов ещё не посеялось самого малого семени, ещё самим вам предстоит осознать, что вы, из чего собрались, а уже добранились до роспуска одного и учреждения другого союза. Но где же деяния, хотя бы одни дела и поступки, где если уже не плоды, так хотя бы первая подготовка к посеву? Какая, если обдумать, уродливая национальная наша черта: ором орём один на другого, галдим, вопием, а всё ни деяний решительных, ни мало-мальски полезных поступков, ни сколько-нибудь серьёзных познаний об том, над чем сообща положили трудиться чуть не в поте лица, ещё нам, многогрешным, фельдфебель заменяет ум и остроты Вольтера, а я дельное дело делать хочу, а не одним языком вертеть вкривь и вкось целый век!
Заложив ногу на ногу, обхватив колено руками, Степан с обыкновенным своим простодушием возразил, не всю, видать, душу заполонила Москва:
— Ну, ты, брат, я погляжу, тоже из наших, природный русак: если в обществе побольше пяти человек, так всё больше молча сидишь, а как поменьше пяти, все свои, так до того разойдёшься порой, что хоть криком кричи, не остановишь тебя, а напрасно, пообдумай сперва. В Москве между нами именно об этом и завёлся разговор, что все наши намеренья славные не смогут полезными для Отечества быть, пока сведений подробных не станем иметь об его состоянии политическом, пока не приобретём глубоких познаний в науках, благородной целью имеющих скорейшее усовершенствование нашего гражданского быта. Доложу тебе более, приобретение такого рода познаний и сведений поставлено в прямую обязанность веем нашим нынешним членам, числом не менее ста человек. Некоторые даже положили между собой приговорить профессора для курса политической экономии и права естественного да всем сообща и прослушать его.
Грибоедов вскинулся, возмутился, зубы оскалил:
— Господи, прости раба грешного, так у вас ещё ни познаний, ни сведений, сами признались себе, а уж вы печётесь о благе Отечества! И откудова же, с какого ветру приобретутся они? Ведь российских профессоров по сие время хоть сколько-нибудь порядочных нет, а немец примется читать курс по-немецки или, чего доброго, станет с него, по-латыни, а кто из вас, офицеров гвардейских, столько ведает латынь и немецкий, чтобы профессора понимать, хоть дурака? Три человека, вкупе со мной! Вот, выходит, откудова надобно попеченья свои начинать: засесть за латынь, за немецкий, ваши-то лета, помилуй, да уж после того только профессора дельного приговаривать, да не одного, с его помощью заготовить впрок познаний и сведений, не в одной политической экономии да в праве естественном, на что у меня, слабоумного, почитай, полжизни ушло, да, ими вооружась до зубов, и решать, за что приниматься, чтобы из прекрасного начинания вашего полезное нечто произошло, а не жеребячий смех для добрых людей!
Степан с нехорошим дребезгом рассмеялся на его программу решительных действий, хлопнул два раза в ладоши, точно в креслах театра сидел:
— Браво, ты, как я понимаю, насчёт блага Отечества всё давным-давно порешил? Как же, познаний, сведений тьма, языки иноземные, эта латынь, то да се, все кирпичи давно изготовлены у тебя.
Александр рассердился:
— Что кирпичи? Ничего я ещё не решил, погоди! Тут ещё незадача одна: по познаньям и сведеньям может даже так приключиться, что милой нашей России пока что и конституция не нужна!
Степан нахмурился. Всегда тихий, покладистый, вдруг пальцем ему пригрозил:
— Постой, постой, ты думай, что говоришь!
Грибоедов продолжал решительно, веско, играя вздутыми желваками, стискивая кулак, — в прямое негодование вводила его всякого рода родимая дичь:
— Или у Карамзина познаний и сведений, по-вашему, не довольно имеется в кладовой, а ведь вот же порешил образованный, истинно порядочный человек, что конституция русскому человеку ни на понюх табаку. Это вам как? Хорошо? Какими познаниями, какими сведениями из русской истории, из русской действительной жизни можете вы эту мысль опровергнуть? Теми ничтожными крохами, какие повыхватили у Монтескье, у Руссо, да ещё и повыхватили на скорую руку, между маневрами да парадами, не поспев разжевать? Так нет же, давай конституцию, на том достаточном основании, что конституция в Англии да во Франции давно завелась, — так, мол, что ж мы, хуже других? Великой России от европейских держав нехорошо отставать. А потом, ты заметь, после того как уж положили между собой, профессора за гроши нанимаем ту науку наспех учить, которую зелёные студиозы обязаны для годового испытания знать.
Степан начал бледнеть, отстранился, нетерпеливо боднул головой:
— Ты постой, у меня от тебя голова кругом идёт! Ты что же, противник конституции, да?
Вечно с ними галиматья, одну мысль с другой неспособны связать, а люди неглупые, уж не благородство ли сводит с ума, он вскочил, зашагал в дальний угол, нестерпимо крича:
— Из какой надобности мне противником конституции быть, в толк возьми! Я противник лишь несносной глупости умных людей, я противник всего лишь бестолковых благородных мечтаний, которые не чуют ног под собой. Вот, вот я противник чего! Что за странный вывих ума!
Степан заворочался, скрипя стулом, растерянно бросил в спину ему:
— Так ты так прямо нам и скажи, коли в том убеждён и по сведеньям именно этак выходит.
Он огрызнулся:
— Я молчал? Говорил тому да другому, а из чего говорить? Всё одно из вас ни один не поймёт, что не дельный профессор нам нужен теперь позарез, не латынь — чёрт с ней, с этой латынью, совсем! Мы в таком теперь находимся умственном положении, что нам сперва надобно своего Вольтера нажить или что-то похожее на него, чтобы заставил свет целый слушать себя, всю Россию, чтобы язвительным словом своим все наши умы освежил, а у нас пока, на беду, один Карамзин, да и тот проповедует громко одну приятную благодетельность деспотизма! Кто же поймёт?
Степан точно попятился, увещевая его:
— Полно-ка, успокойся, кричал, кричал, а куда заметнул! Вольтер, Карамзин! Да у нас сочинения Вольтеровы слишком многим довольно известны, и вольтерианцем давно уже все староверцы нашего брата костят.
Стоя посреди кабинета, скривясь, точно от мерзкой боли в зубах, Александр почти застонал:
— То-то и есть, что на это мы мастера — опакостить всякое славное имя, хоть чужое, а пуще своё. По одной хоть причине и надобно нам хоть несколько имён выдающихся, которых вся нация, вся, понимаешь, приняла бы в вожди и пророки свои, пошла бы без колебаний за ними, как французы за Вольтером пошли, как немцы за своим Гёте пошли, и по ним, по мудрым наставникам их, научились бы настраивать мысли, и в особенности вещую совесть свою, чтобы какой-нибудь сукин сын Аракчеев и тот не смог бы не оглянуться на них да в затылке у себя почесать: сволочь, мол я, подлец подлецом.
Степан руками развёл, лицо простодушное, дитя и дитя:
— Опять ты бранишься, экая страсть у тебя, любишь сильное слово сказать, а ведь и это уже предусмотрено в нашем новейшем уставе, чего ты не знал, признаюсь, а кричишь.
Он грозно выкрикнул:
— Что-о?!
Степан засмеялся беззлобно и встал:
— Не знаю, как бы понятно тебе изложить... Обыкновенно весёлый такой, всё остроты, всё смех, а нынче точно тебя подменили, совершенно другой человек... Да вот, постой... Не хотел тебе говорить, у нас постановлено строго, страшную клятву давал, то да се, да ты же наш человек, без сомнения, хоть и бранишься ужасно, а наш. Вот у нас говорится, что полезнейшие из познаний суть те, которые делают человека способнейшим споспешествовать общему благу, и что по этой причине следует в особенности распространять те науки, которые просвещают насчёт обязанностей и споспешествуют исполнению оных.
Грибоедов открыл в изумлении рот:
— Помилуй, каким же манером эти фокусы, этот цирк, эту дребедень прикажешь понять?
Степан, отмахнувшись, сел на диван:
— Что за охота тебе дураком притворяться. Отчего дребедень?
Он всем телом подался к нему, расширив глаза:
— Постой, это какие же такие науки, которые насчёт наших обязанностей нас просвещают, позволь мне, круглому дураку, идиоту последнему, хоть эту важную вещь узнать от тебя, коли я у вас кругом выхожу бестолков?
Степан отвернулся к окну:
— Ты рассердишь меня наконец, ведь истины эти всякому человеку должны быть известны.
В самом деле, из чего благим матом орать, когда всякому человеку известны, приготовленья не надо, профессора вон, и он заговорил примирительно, присаживаясь за свой письменный стол, давно заброшенный им по случаю сборов в отъезд:
— Что ты, душа моя, не сердись, а только любопытно мне знать, как мыслите вы об искусстве, сделай милость, открой, не стыдись, припомни сей пункт, чай, и об искусстве имеется особая запись у вас, бюрократов прогресса?
Степан с большим вниманием поглядел на него, проверяя, должно быть, не шутит ли он, не морочит ли головы, как обыкновенно морочит, всерьёз ли интересуется знать:
— Об искусстве?.. Ах да, ты поэт, ты меня так закрутил, что я об этом забыл... Так об искусстве?.. Тем, кто нынче занят словесностью, определено печать изящного налагать на творения, однако же не теряя из виду, вот именно не слово в слово, а смысл, что только то истинно изящное суть, что в нас вызывает высокие и к добру влекущие чувства, как есть.
Он хохотнул, оборвался, довольно бюрократов прогресса, в самом деле обозлится Степан, оскорблённо сказал:
— Полно, мой милый, морочить меня, такого рода определение вовсе уж глупо, остальному под стать, сил нет, что за удача составлять и распространять галиматью. Поэт творит, как живёт, свободно и свободно, ему на песни правил не писано никаких.
Степан возмутился:
— Да что тебе тут-то неладно, открой?
Александр заговорил торопливо, проникновенно, не сводя с дивного друга страдальческих глаз:
— Степан, голубчик, душа моя, человек ты добрейший, как побыл в Москве, так узнать не могу, подменили тебя, дураки. Ты мой единственный друг. В меня поселил или, лучше сказать, во мне развернул мои лучшие свойства души, к добру любовь и всё прочее. Я с тех пор только начал честью и честностью дорожить и всем, что составляет истинную красоту человека, с того времени, когда подружился с тобой, — не могу не признать.
Внезапно размякнув, чувствуя благодарные слёзы и в горле комок, он порывисто сел, обхватил Степана за плечи, прижался к груди его отуманенной своей головой и стыдливо, горестно, горячо, сдавленным голосом попросил:
— Клянусь тебе, ты мне верь! Когда побываю с тобой, становлюсь нравственно лучше, много добрей. Вот в чём твоё среди прочих людей назначенье! Не изменяй ты натуре своей, заклинаю тебя!
Стыдясь своей слабости, откинулся на спинку дивана, запрокинул горячую голову, глядя туда, где изрезанный тенями потолок сходился прямым углом со стеной, раздумчиво, с горестным сожалением продолжал:
— В этом назначенье действительное всех лучших людей на земле, то есть хочу я сказать, чтобы прочие, живущие неосмысленно, кое-как, во грехе, пламенем справедливости загорались от них, ясным пламенем подвига, чести, добра, чтобы совестно было сделать дурное потому одному, что нас лучшие воочию существуют на свете, может быть, рядом с тобой, и вот взглянешь только на них — и тотчас вперёд!
Поворотился к Степану, застенчиво улыбнулся, как редко улыбался когда — всё больше язвительно; тревожно спросил, часто взмаргивая от прихлынувших слёз:
— Ну, для чего, для чего, со своим добродушием, со всей своей мягкостью доброго сердца, втемяшился ты в эти бумажные конституции? Не тебе бы к ним применяться, какие науки наспех в зрелые годы зубрить, а каких не зубрить за ненадобностью для общего блага, а им бы у тебя доброты сердца, прямоты ума понабраться!
Взял его за руку, принагнулся, поглядел в глаза снизу вверх:
— Вот ты сказал, что не узнаешь меня после долгой разлуки, и я тебя не узнаю. Ты точно воротился ко мне в ослеплении. Ну, вот подумай, скажи мне начистоту: какой умник Вольтера учил: «Будь сперва гражданин, а после того на стихи, на трагедии, на сатиры свои черты изящного налагай»? Так ведь и в голову целой Европе эта дурь не вошла! Вольтер явился гражданин без приказу, велением сердца, размышлением ума, как только и должно всякому быть гражданином. Но это ли всё? Нет, душа моя, этого мало. Вольтер явился гражданином великим и своим величием, а не приказом какого-то дурака или сообщества дураков обращал в граждан позаснувших духом своих современников. Вот его современники, пробудившись мыслью, возродившись страстью, обогатившись примером его, и добыли себе после него конституцию!
Выпустил руку Степана, вскочил на ноги с разгорячённым лицом, точно сам прямиком собрался не в Персию, а в Вольтеры, не в силах больше на месте сидеть, вновь нервно заметался по комнате, гневно глядя перед собой, вскидывая время от времени руку, стискивая тонкие пальцы в кулак:
— Возьмите же в толк наконец: человеку необходимо прежде величие духа, необходимы громадные, небудничные силы души и ума. Лишь в этом случае каждое из деяний его возвысится стать деянием героическим. А иного человеку не надо. И никакой общественный быт не воспрепятствует Вольтеру явиться Вольтером, как никакой общественный быт не воспрепятствует Гёте быть Гёте. Ты это брось, это юношам безумным одним всё кто-то мешает сделаться человеком достойным и полезным для общества, точно под ноги швыряет бревно! А когда в обществе появляются Вольтеры да Гёте, никакая власть не посмеет действовать вполне деспотически, сама власть, какой бы она ни была, перед гением отступит на шаг. Вот тому года два, как великий Гёте вышел в отставку, однако ж Карл-то Август и без наставника своего всё не смеет никак развернуться, как не смел развернуться во всю ширь при нём, остановляемый одним нравственным авторитетом великого Олимпийца!
На ходу обернулся с просиявшей улыбкой:
— Полно тебе, нынче в особенности такого рода величие посильней конституций, о будущих временах судить не могу. Пример французов тут вернее всего. Конституцию народ французский сам себе добыл. Этого деяния не приветствовать не могу, я, ты знаешь, республиканец по убеждению и по душе. Да что же дала им кровавая конституция? Голод, из приличия хлебом равенства именуемый, неправедный нож гильотины да воинственный порыв Бонапарта, который спалил нам Москву, супостат. Нет, душа моя, если бы мне выбирать, я захотел бы сделаться не Бонапартом, не безумным предводителем воинственных полчищ, но российским Вольтером. По меньшей мере, не спалил бы смешливым французам Париж!
Степан с сожалением покачал головой:
— Ты и тут, прости, ничего не выразил нового, и в этом пункте ты вместе е нами, поверь. Когда Павел Пестель на общем сборе сказал, что Франция благоденствовала под управлением Комитета общественного спасения, восстание против этого мнения среди наших оказалось всеобщим и у всех нас впечатление от него осталось невыгодное. Да вот, погляди, с собой привёз я в чемодане тетрадь.
Так и выхватив тетрадь в толстом кожаном переплёте, Александр присел тотчас к окну и стал жадно читать, едва слыша, как Степан кликнул Сашку, трубку спросил, приказал прибрать со стола, как Сашка возился с самоваром и с грязной посудой, как Степан расхаживал, трубку куря, у него за спиной, наполняя комнату ароматом американского табака, однако ж с каждой новой страницей тетради, писанной отчётливым равнодушным писарским почерком, злился всё больше и наконец громко хлопнул по тетради возмущённой рукой:
— Ишь ты, всюду «слово», «слово», «слово». У вас о Шекспире слыхом, видать, не слыхали! Вот, погляди сам: «О воспитании юношества», дело нужнейшее, дело прекрасное, кто возразит, так нет, «слово» и «слово» пестрит: «В разговорах о воспитании член должен стараться убеждать, сколь сильно действие воспитания на целую жизнь человека, сколь мало теперь пекутся об истинном воспитании и как бедно заменяет его наружный блеск, коим стараются прикрыть ничтожность молодых людей, что главный предмет в воспитании должен быть нравственность и что никакое средство к возбуждению в юноше любви ко всему истинно доброму и великому не должно быть при оном отмечаемо, что укрепление молодого человека в правилах веры и приверженности к оной есть сильнейшее средство к образованию его нравственности». И ещё «что» и ещё «сколь» — восемь пунктов всего! Точно матушка в детстве: будь таким, будь сяким, этого в рот не бери, а сама то и дело девок своих из собственных рук по мордасам. И вот я ни таким, ни сяким, ни этаким точно не сделался, а от сладкого всё одно за уши не оттянешь — страсть как люблю. А меня за сладкое матушка чуть не секла. Слова в воспитании, слова в прочем во всём — да от слов-то и вред!
Степан, пыхтя трубкой, окутанный сладостным дымом, тяжело топая каблуками сапог, отозвался у него за спиной:
— Ты, я гляжу, нарочно решился нынче меня рассердить. У нас не всё же слово одно, в особом пункте записан у нас и личный пример.
Эк писать мастера, он сузил глаза, язвительно рассмеялся — сдержаться не мог:
— В самом деле? В особенном пункте? Вот чудеса! Дай-ка и эту прелесть прочтём, образуем малость себя! Ага, вот оно где! Да ты послушай-ка сам, что за дичь: «Они обязаны по возможности сами заводить учебные заведения для воспитания молодых людей, и сии заведения должны быть склоняемы к целям Союза. Члены, имеющие поместья, должны по возможности учреждать... Касательно частного воспитания, члены, имеющие в этом участие, то есть воспитывающие своих или чужих детей, должны стараться внушать... При воспитании должны они сколько возможно избегать чужестранного...» Помилуй, Степан, да в каком же месте тут именно личный пример? Сызнова те же «слова» и «слова»!
Степан с неожиданной строгостью возразил, вдруг встав перед ним, держа трубку в руке:
— Ты нынче несносен, с похмелья, должно, не велеть ли ещё одну чашку кофию дать?
Александр вскинул голову, ласково поглядел на него:
— Мой милый, ты не сердись. Мы точно никогда прежде не трактовали с тобой об этих вещах, надобности не виделось в том, помилуй, к чему? Однако ж заговорили когда, так сделай милость, выслушай до конца. Я тебе вместе с Фаустом говорю: «В начале было Дело»!
Степан заворчал, отходя от него:
— Очень новая мысль, об чём говорить!
Грибоедов круто поворотился на стуле, чуть не упал, пошатнулся, но усидел, с тетрадью в дрожащей руке, с укоризной глядел ему вслед:
— А ты погоди. Конечно, не ново, да справедливо. Для чего так пространно о пользе хорошего воспитания нам толковать? Надобно всякому порядочному человеку самому себя хорошо воспитать, вот, к примеру, как ты себя воспитал, а уж прочие от тебя безо всяких наставительных слов воспитаются славно, как я от тебя воспитался. Об этой материи ещё Руссо трактовал умно и пространно. Истинное воспитание не может не явиться процессом естественным, утверждал обожаемый вами мудрец. Стало быть, без приличных нотаций: это, мол, хорошо; а это, мол, дурно — гляди у меня, в рот не бери, сукин сын. Нет, душа моя, воспитание надобно с себя начинать, с самого воспитателя, хоть это и трудно. Много трудней, чем раздавать наставленья. Всей жизнью своей показать, сколь воздейственно хорошее воспитание на судьбу человека. Сам в себе воспитай высшую нравственность, это я не про тебя, это я про себя да про умных твоих дураков говорю, что о прелестях свободы громко вопиют по гостиным, а после того приятеля подводят, не сморгнувши глазом, под пулю аль репутацию безвинно чернят клеветой. Всегда сам люби истинно доброе. Сам твёрд будь в правилах веры. И ежели это чудо свершится, не надобно никому никаких преумных речей говорить, пример твоей жизни скажет получше тебя. Вот себя-то бы воспитать, образовать бы ум свой, сделаться истинно честным да истинно добрым да посильную пользу Отечеству принести! Или между вами уже решено, что вы-то сами себя воспитали отменно, что полное право имеете прочих всех наставлять?
Глубоко затягиваясь, продолжая неспешно прохаживаться — точно дневной моцион совершал, Степан укоризненно качал головой:
— Ты искушаешь терпение Бога! Кто же в таком случае образован, воспитан, коли не ты? Кандидат словесности, изъясняешься, точно по-русски, на пяти — на шести языках, латынь превозмог. Сам уверяешь, что у нас не много таких, да, пожалуй, правду сказать, и не видать никого. Во всяком случае, я не встречал, а в Москве наши собрались чуть не все. Что же ты мне час битый плетёшь, что тебе ещё надобно бы себя воспитать и прочее всё?
Александр отмахнулся рукой, в которой была зажата тетрадь, от смущения покраснев, вечно стыдясь такого рода похвал:
— Э, душа моя, это всё вздор! Для того, кто жаждет быть истинно полезен Отечеству, мало иметь несколько разных слов для означения одного и того же предмета, как говорит Ривароль — неглупый француз.
Степан наконец разозлился, что было ужасно смешно при его всегда добродушном, круглом лице и невинных глазах, густой голос Степана возвысился, однако ж, разумеется, не до крика — кричать Степан не умел, даже в полку, на плацу, разве когда у Сашки трубку просил:
— Да вспомни же наконец, кем я был, покуда не встретил тебя! Из иноземной литературы знал я одну лишь французскую, в творениях Корнеля, Расина, Мольера видел верх совершенства, а ты, отдавши полную справедливость этим талантам великим, твердил: «Да зачем они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трёх единств и не дали воли воображению?» Мне подобные мысли и в голову не приходили тогда! И это именно ты познакомил меня с Гётевым «Фаустом». Ты уже в те времена знал почти наизусть многие творения Шиллера, Шекспира и Гёте, а я вот прошлого года прочёл их впервой, да и то в изувеченном переводе французском, дурацком, который бранишь ты сквернейшим враньём.
Александр всё краснел, однако же не сдавался и бормотал, неловкой улыбкой отвечал на праведный крик:
— Полно, мой милый, этих авторов узнал я шутя, не хотел в пансионе учиться как должно, всё более себе в удовольствие читал кое-что, вводя поминутно матушку в гнев, об том об сём понемногу, бывало, затрещины от неё получал: книг не читай, говорит, а учись. Всё это тешит, пожалуй, тщеславие, самолюбие лелеет мелким успехом в обществе неучей, тем паче в обществе дам, этим ядом сильнейшим разъедает духовную силу. После многих беспорядочных чтений мне четырёх месяцев гусарского шарлатанства достало с избытком, чтобы и Шекспир, и Шиллер, и Гёте полетели к чертям, точно я и не читал никогда ничего. Четвёртый год не попаду на истинный путь. С утра, как поднимусь, затеплятся благие порывы, а ввечеру, гладь, в какой раз у актрис. Ну, с актрисами, сам понимаешь, без головы. И вот достойный итог: Шереметев убит. Нет, душа моя, железная воля — вот всё для серьёзного человека! Нынче, кажется, я спохватился. В трудах непрестанных на благо Отечества надлежит нам вырабатывать силу характера.
Степан поднял голову:
— Постой, Александр, все полагают, что ты готовил себя к литературному поприщу, великие замыслы так и кипят в твоей голове, сколько раз говорил, что ж они?
Он отвернулся:
— Что замыслы, хотя бы великие? Один звук мимолётный, мираж, пока строками не легли на бумагу.
Степан воскликнул, протягивая руку к нему:
— Так берись за перо и за пером вырабатывай силу характера, ежели истинно сомневаешься, что сила характера уже приобрелась у тебя!
Александр выпрямился:
— Ещё два, ещё три намарать водевиля? Нет, брат, уволь. По мне пера лучше вовсе в руки не брать либо нечто нетленное выработать вдохновением истинным!
Гневно перед лицом его Степан руками затряс, высыпая из трубки огонь — того гляди, подожжёт:
— Так садись, созидай!
Александр отодвинулся, искры стряхнул с сюртука, усмехнулся беззлобно:
— Созидать? Однако ж как возможно играючи жить, а за столом у себя самодовольно посягать на шедевры? У меня точно было такое же затемнение здравого смысла, как теперь у тебя. Слава Богу, нынче одумался. Кем, рассуди, каким человеком засяду я созидать? Этаким лёгоньким прожигателем жизни, навроде Каверина, каким было уже сотворился, и сам не приметив того; шутником, препустейшим забавником, каким ты меня любя аттестуешь в глаза; смешным обожателем крикливого пола, от которого столько раз мне пришлось невтерпёж? Известно уже: рожу впопыхах водевиль! Ты как-то просил ознакомить тебя с биографией Вольфганга Гёте. Так вот, Вольфганг Гёте жизнью своей куда основательнее учёных трактатов умел доказать, что одно исполнение обязанностей человека и гражданина приводит к обдуманным, к всемирным трудам, коли Бог влил при рождении в душу талант — это уж само собой, и не спорь.
Степан, кажется, уже и без просьб обессилел с ним спорить, возражал как-то нехотя, вяло, наконец отходя от него к противоположной стене, не угрожая более трубкой наделать пожар:
— Какие тебе ещё обязанности человека и гражданина? Тебя послушать, если близко не знать, как знаю я, — помилуй Бог, безнравственный человек, дурак дураком, да это всё — одно гнусное настроение у тебя, только и всего! Одна надежда — завтра погода изменится, так скоро пройдёт.
Кинув на подоконник тетрадь, расставивши ноги, ссутулясь, переплетя холодные пальцы перед собой, Александр всё своё твердил с убеждением, с болью сердечной — нарвало, так гной выходил:
— Полно, мой милый, меня утешать, это брось! Мы все здесь, если попристальней поглядеть, ужасная дрянь. В этом городе мерзком, в котором между домами простору, воздуху нет, долго выжить могут только погибшие, омертвелые души. Что слышим мы уже в течение целых семнадцати лет? Одна ложь, одни обещания, которых исполнить либо не хотят вовсе, либо не могут за скудостью умственных и нравственных сил. И эта вседневная ложь незримо истребляет в нас душевное мужество. Вот погоди. Ежели когда-нибудь, каким-нибудь чудом, в чём слишком я сомневаюсь, друзья твои доковыляют через «слово» да «слово» до настоящего дела, они, чего доброго, испугаются в последний момент решительных действий, без которых, поверь мне, ничего не бывает — ни дурного, ни доброго; да так и не совершат ничего, разве что в жертву себя принесут Бог весть чему. Ну кто, скажи откровенно, из наших друзей конституции во главе?_Сергей Трубецкой? Ты меня не смеши — слишком он мягок, слишком раздумчив конституции утверждать. Никита? Слишком книжный он человек. Якушкин? Герой витийствовать в гостиных. Один Тургенев хромой между нами истинный государственный человек. При Штейне недаром служил, понабрался ума, однако ж ему ли знамя в руки и грудью вперёд на картечь, как Бонапарт на Аркольском мосту[121]? А без того, брат, никаких мостов не берут. Довольно, я здесь нагляделся на всех и на всё! Я с ненасытностью страстной хочу новых мест, новых занятий, новых мыслей и новых людей, дел необычных, познаний великих, не из одних только книг, но какие из жизни одной, именно так, пойми ты, познаний великих! Жизнь моя должна сделаться громкой, деятельной, разнообразной, или уж лучше вовсе не жить, чем так жить, как жил я все эти сквозь пальцы мелькнувшие годы.
Серьёзный, с прищуренными глазами, Степан возразил с грустью в голосе и в лице:
— Опять, вижу, твоя злость в тебе закипела. Правду сказать, таким тебя и люблю, да ты становишься несправедлив и к другим, и даже к себе. Разве Сергей Трубецкой не достойный среди нас человек? Разве Никита Муравьёв не воплощает в себе благородство, какого у Бонапарта не слышалось ни на грош? Разве Тургенев... Впрочем, ты сам признаешь, что Тургенев имеет ум государственный!
Совсем не уставший, напротив, точно очищенный, возрождённый этим упорным дружеским прением, Грибоедов вскочил, схватил за широкие плечи милого друга, весело выговорил ему прямо в лицо, широко улыбаясь, а то и смеясь:
— Душа моя, кто говорит! Эти все из немногих, из наилучших, из наидостойных у нас! При встрече обниму и от души расцелую! Однако ж пойми, Трубецкой слаб, как телёнок, характером; Никита не имеет никакой силы на некнижное дело; о Тургеневе я говорил. Клянусь, ни один не годится в вожди! Ты их представь-ка в провинциях, проконсулом Рима. То-то что нет, представить нельзя, разведут в провинциях чёрт знает что. Мне последнее время так и вертится настрочить о ком-то уж больно с этими схожем. Умён, умён, тьму книг проглотил, а всё как-то умеет впросак, в глупейшее положенье попасть, в какое ни один самый пошлый дурак во весь век не затешется сдуру, имей он практического смысла на ломаный грош. Представь: прекраснейший человек, изъясняется превосходно, очи так и пылают благородным огнём, остротами всякого так и песочит, так и хлещет наотмашь, точно из пистолета палит, ужасный якобинец в речах, непременный гроза ленивого московского барства, того гляди, на страх казнокрадам да дуракам водрузит гильотину в гостиной, а сам спасует перед первой недозрелой девицей, как я перед Элизой; девица в бараний рог его гнёт, всё, естественно, оттого, что ему невдомёк, что всякой девице не прекрасные речи, не остроты нужны, а муж с приличным доходом, семья, спокойствие жизни, вседневная лесть — мол, краше тебя не видывал свет; а что он, он всё язвит да гордится собой, что из казны не крадёт, весьма как хорош, тогда как надобно либо забросить к чертям все эти дурацкие бредни, либо взять да уехать от московской кузины хоть на Кавказ.
Степан ласково, влюблёнными глазами поглядел на него, дрогнувшим голосом подтвердил:
— Славно задумано, поздравляю, вот бы и славное дело тебе, оставайся — в руку перо, бумагу на стол да бутылку чернил, хоть сей миг велю принести!
Обхватив сердечного друга, к окну подведя, ослеплённому полуденным солнцем, он взволнованно возразил, точно сам, в какой раз, проверяя свою правоту:
— Видишь, солнце какое! Светит на нас с высоты, вон купол блестит, а там грязь, канава. И я было вздумал за стол, да одна гнуснейшая мысль меня поразила: сам-то я больно ль хорош, чтобы об этом витязе насмешки марать? Как смею я с совестью чистой кого-нибудь попрекнуть фанфаронством, коли Васька убит, коли сам по макушку увяз чуть не в том же дерьме, перед московской кузиной не такие слюни распускал! Знаешь ли, душа моя, после этого что-нибудь гаже на свете? Я, мой милый, не знаю, а искусство, каким я искусство видеть хочу, точно зеркало, в один миг, по первой строке подлеца разглядишь, не станешь дальше читать, ведь я сам до сего времени всё только праздно болтал да болтал, ещё слава Богу, что в самом тесном кругу, мало кто знает об том. Ещё бы немного — я сделаюсь здесь хуже бабы. Здесь мне в пору плевать на себя, а не выводить в комической образине на подмостки других. Нет, душа моя, я теперь немного знаю себя, оттого и поступаю, как должно. Будь средства, пустился бы в путешествие просто так, без скучных обязанностей походной канцелярской возни, без твёрдой воли, которая свяжет одним каким-нибудь местом, пересёк бы страны, материки, повсюду изучал бы нравы и быт, вмешался бы в те события, которых бы очутился невольным свидетелем, решал бы судьбы народов, может быть, судьбы всего человечества, когда только бы повезло, оставаясь везде независим. Жаль до слёз, что приходится свой круг ограничивать службой и снова сделаться подневольным из человека свободного, я, повторю, слуга государю из хлеба, да что я, не на кого за это несчастье пенять.
Степан обратил на него всё своё внимание, снова румяный, должно быть, от солнца, с сожалением искренним произнёс, с горькой усмешкой на мрачном лице:
— Ты всё говоришь о себе, и так страстно, так горячо, а я было думал, что ты едешь для пользы Отечества.
Ведь вот толковал же он о судьбах народов, которые стал бы и сумел бы решать, когда бы ему повезло, заикнулся об самом человечестве сдуру, так ведь всё это пущено мимо ушей, и Александр, зубы стиснув, чтобы криком кромешным его не пугать, резко сказал, выпуская его и на шаг отступя:
— Что загадывать вперёд, коли не знаешь, завелись ли в наличии силы на это, однако ж заведись у меня такие силы, тогда, известно, дело иное, тогда ты обо мне раньше писем услышишь, которые, говорят, с Кавказа целую вечность бредут, Булгаковым-братьям в досаду.
Степан будто бы понял, потупился, шмыгнул носом от напряжения, застенчиво проговорил:
— Но ежели из хлеба должен служить, так хлебом я бы по-братски с тобой поделился.
Александр схватил друга в охапку, стал целовать:
— Дай обниму тебя за участие, а всё ты виноват, ежели правду сказать, начальная причина в тебе. Вечно попрекаешь меня малодушием! Что-то, моё золото, скажешь, коли вытерплю два года в диком краю, как в бумагах мне то предуказано?
Степан сопел, уткнувшись ему носом в плечо:
— Стало быть, поезжай, когда твёрдо решил.
Он так и стиснул его:
— Что за притча, мой милый, теперь-то, пожалуй, и никуда б не поехал!
Степан плечами повёл, разжав его руки, высвободился из жарких объятий, забормотал:
— Фу, чёрт, голова от тебя кругом идёт, что так?
Грибоедов засмеялся открыто и честно:
— Я лучше, душа моя, с тобой становлюсь!
Степан отмахнулся, притворно-сердито сказал:
— А, ну это пустое, бредни твои, известное дело. Поезжай, тебе говорят!
Он руки скрестил, прогнулся назад — любимая поза его, когда слышал душевный подъём, всё смеялся беспечно, искренно клялся сквозь смех:
— Мой милый, ворочусь к тебе непременно, Тифлис ли, Тегеран ли, я там тебя ни за что не забуду!
Глаза Степана его клятве страстно хотели верить, тогда как густой голос добродушно ворчал:
— Тоже пустое. Там повстречаешь людей позначительнее меня. И то хорошо, если несколько слов иногда пришлёшь о себе, хоть раз в год.
Александр снова прильнул к нему кружившейся головой:
— Вот нет же, мой милый, ты занимательней для меня всех Плутарха героев, чем хочешь клянусь!
Так изливаясь в дружеских чувствах, наконец оба оделись и вышли, поворотили к каналу и двинулись вместе. Степан был обязан непременно явиться после похода по службе. Александр его проводил до казарм и завернул по привычке к Катенину.
Съёживши тонкие дуги бровей, сверля его испепеляющим взглядом красивых, чуть выпуклых глаз, Катенин с порога встретил своим обычным пристрастным допросом, равнодушно говорить ни об чём не умел:
— Подобно Катону[122], возвещавшему разрушение ненавистного Карфагена, не могу не спросить, ответ, разумеется, предузнавая заранее, нашёл ли наконец достойный предмет для небездарного пера твоего, которое, как вижу по последним новостям, установилось вполне? Отвечай!
Александр, ставя в угол трость, бросая цилиндр, ответил серьёзно, придавая словам своим форму шутки, дружески улыбаясь новоявленному Катону, облачённому, за неимением тоги, в форму гвардейского капитана:
— Ты как в воду глядишь, мой милый Катон, предмет недостойный наконец отыскался.
Оглядев его строго, ещё больше нахмурясь, Катенин проговорил с чуть проскользнувшим самодовольством учителя, который наконец, после многих тяжких трудов, навострил на путное дело беспутного лежебоку, лодыря, любимого ученика своего:
— Убеждён, что предмет для трагедии истинной, которой только и должен отдавать себя высокий талант. Говори.
Александр воздел комически руки:
— Жаль разочаровывать тебя, о пророк и воздыхатель высокого, скорбный чтитель своей Андромахи[123], однако ж на этот раз ты заблудился жестоко — млад я летами для высокой трагедии, и также умишком моим далеко не созрел — ещё дурь в голове.
Катенин сморщился, брезгливо, с невыразимым презрением проговорил:
— Э, чёрт возьми, опять водевиль, кухни французской надувной пирожок, отыскал Шаховской, наш шут, наше зло, развратитель русских талантов, давай-ка поговорим об другом.
Грибоедов ссутулился, обхватывая плечи руками, взглянул на Катенина выше стёкол очков:
— Ты второй раз ошибся, Катон.
Катенин, подозрительно поднял проницательные глаза, ближе к нему подступился:
— Неужто, не водевиль? Что тогда? И что скажет об тебе презренный шут Шаховской?
Ревнив и страшно ревнив, надо было бы над тем пошутить, да настроение оказалось не то, язык от Степана чуть не отсох, шутить не хотел. Александр лишь слегка козырнул, засмеявшись:
— Шаховской, хоть и шут, не станет браниться, как ты.
Катенин посуровел, принялся декламировать, выставив ногу перед собой, вытянув руку, как делывал неподражаемый и великий трагик Тальма, его беспорочный, бессменный кумир:
— Ну, знаешь, не верю ушам, ты ли передо мной, младой Грибоедов? Уж не возомнил ли ты себя новым старцем Гомером, не решился ли скудоумного Гнедича обороть, не затеял ли эпическую поэму на русские нравы тачать?
Ревнив, разумеется, и Гнедичу тоже тайно и явно завидовал, поэтому и шумно бранил, отчасти за дело, а декламировал мило, впрочем, что же, экспромт. Александр ещё потянул, подразнил, улыбаясь:
— А что? Это мысль! Эпическая поэма привела бы тебя в изумленье?
Катенин враз изменился, как один он меняться умел, нервозность чрезмерная, губы скривил, с презрением отмахнулся рукой небольшой и красивой:
— Чему изумляться? С тобой станется всё — непостижимой судьбы человек.
Он вновь рассмеялся, заливисто, весело, как не смеялся давно, любуясь искренно помрачневшим лицом, оттого что искусство Катенин благодарил, ставил превыше всего, а в службе служил из карьеры, по службе тоже большая ревность была.
— Вижу, ты не пророк, самозванец, коли сряду дал промах три раза.
С ещё большим презрением на лице Катенин отступил от него, брезгливо ворча:
— Промах три раза? Так остаются стишки в честь какой-нибудь доверчивой юбки для всех; впрочем, не исключается острый пук эпиграмм — ты у нас славный мастер расточать своё дарованье на вздор.
Грибоедов не обиделся. Это ж Катенин, ценитель и чуть не Катон, страстно ждал от него непременно величайший шедевр — за что ж обижаться, надо бы благодарить, на колени упасть; да и правду, горькую правду сказал. Александр с шутливым величием произнёс, любя от души шутовство:
— Я тебя пощажу, друг мой Катон, предмет вдохновенья, должно быть, обратится в комедию.
Приблизившись к своим возлюбленным полкам, сплошь уставленным книгами, неистощимый кладезь премудрости, взявши в руки аккуратный, свиной кожей обтянутый том, с величайшим удовольствием, написанным на лице чуть ли не горящими буквами, скоро листая его, Катенин ответил довольно небрежно:
— Из комедий великих истинное чудо на свете один лишь Мольеров «Тартюф». Не его ли задумал переложить на российские нравы — ты у нас в таком деле мастак.
Он сделал театрально-пренебрежительный жест:
— Довольно перекладывать, сам твердишь одно и одно, надоел, за своё, мол, приниматься пора.
Весь встрепенувшись, нерешительно просветлев, Катенин заговорил горячо:
— Боже мой, Александр, ты заговорил, как подобает мужчине. Жду от тебя столько лет, это похвально, трижды похвально, виват! Главный герой, разумеется, то есть я об герое и об языке, которым станет он говорить. Кто нынче в России герой для высокой комедии? И каков тот истинно русский язык, которым пристало изъясняться герою в истинно русской комедии, другой не жду от тебя? Другой не пиши!
Это был вечно он — энтузиаст и искатель, поклонник истинно русских речей, заклятый полемист против нового стиля, находка Карамзина. И, подумав о том, как верно Катенин в самую точку попал и с героем комедии и с языком, жалея, что на долгое время придётся расстаться, что другого Катенина ему ни в каких краях не сыскать, как бы ни взгромождался творец Андромахи иногда на ходули, что некому станет первые сиены читать, а без чтения другу вдохновенью капризному скоро конец, — Александр проговорил, напуская небрежность, чтобы искренне скрыть сожаление:
— Этот важный вопрос мы отложим с тобой на два года, разумеется, при условии непременном, ежели от диких персиян и не менее диких чеченцев я ворочусь абсолютно живым.
Катенин воскликнул чуть не с испугом:
— Помилуй, так ты, стало быть, едешь?
Пытаясь скрыть замешательство — прекрасное сердце, а как любит, как истинно любит его, как он бы хотел, чтобы любили другие; на Кавказе, тем более в Персии никто так, всем сердцем, не станет любить, никто так истинно не узнает его; Александр тоже ответил вопросом:
— А, так ты слышал уже?
Вставив книгу на прежнее место, позабыв, что в назиданье из великого имел намеренье что-то читать, подходя к нему быстрым невоенным шажком, враг парадов, хоть в службе педант, нервно дёргая глазом, Катенин сказал:
— У нас говорят, что тебя высылают.
Грибоедов улыбнулся, довольный, что шутка его удалась, несколько лестно для чести его:
— Пусть говорят.
Катенин же с пристальным вниманием поглядел на него, о чём-то подумал и вдруг весело продолжал:
— Впрочем, и славно, что едешь, присылай нам свои замечания, а мы здесь, друзья твои верные, предадим твои замечанья тиснению. В журналах тоска, пустота, по мере сил распространим просвещение.
Ну, уж этого нет, чепуха, несуразица, бред, он высокомерно вытянул тонкие губы:
— Решительно возражу: я не выдам в свет ни строки моего путешествия, просвещайтесь здесь без меня.
Катенин с жаром стал уговаривать:
— Полно, делать заметки вовсе не трудно, ты только попробуй начни, сидя в коляске или прибыв на бивак, в пример себе возьми Свиньина, который так верно описал для нас Петербург[124]!
Он язвительно вставил:
— Который точно красив и великолепен даже под хромым пером Свиньина!
Катенин непритворно обиделся:
— Острота остра, хромое перо ломит зубы как хорошо, однако ж острота напрасна.
Он спохватился, зная Катенина замечательно обидчивый нрав, ласково попросил:
— Ну, душа моя, не сердись, ты ведь не можешь не знать, как я тебя много люблю, обидеть, стало быть, не хотел, сорвалось с языка — врага моего.
Однако ж Катенин возразил с холодным лицом, вернее сказать, с ледяным:
— В таком случае решительно не в силах тебя понимать, отчего оттудова, из дали, нам неизвестной, не поместить две-три коротких странички?
Александр изъяснил самым искренним тоном, надеясь тоном искренности смягчить так легко уязвимую душу, — станет страдать, близко к сердцу всякую мелочь берёт, уж такой человек — из чего:
— Поверь, что ты говоришь лестно для меня чрезвычайно, да учёность разбалтывать водой не умею, к тому же книги мои уже в чемодане, вряд ли станет времени раскрывать их в пути, чтобы по легкомыслию моему не соврать, просвещенью во вред, в чём наши пошлые умники тотчас меня обличат. А впрочем, предпочитаю естественность жизни, охота ли записывать всё, что увидишь. Я жмусь, когда холодно, расстёгиваюсь, когда слишком тепло, не справляясь с термометром, и не стану записывать, на сколько делений опускается или поднимается ртуть, тем более к самой земле припасть поленюсь, чтобы распознать её натуральные свойства, и не стану себе ломать головы, чтобы придумывать по обожжённым кустам, к какому роду принадлежала их бывшая зелень; а без всего этого вздора мои записки никто не станет печатать, тем паче читать, помилуй, какой к чёрту Свиньин!
Катенин в самом деле смягчился, несколько отступил, хоть и зол, а доверчив и прост:
— Я бы вею эту галиматью оспорил на десять разных ладов, ты меня слишком знаешь, я легко не сдаюсь, да и не хочу на дорогу тебя огорчать, дорога немалая. Скажи, отправка когда?
Александр чуть не с радостью возвестил, уже чуя прелесть дальней дороги и то, что в миссию затесался недаром:
— Дня через три.
Катенин так и вздёрнулся, так и стрельнул неприязненным взором блеснувших очей:
— Нельзя ли выразить точно?
Экая вежливость королей, и он посоветовал, сам ещё в точности не представляя себе день и час; когда едет:
— Пришли узнать своего денщика.
Катенин крепко пожал его руку:
— Пришлю и непременно провожу тебя до Ижор — долг верного друга, — не вздумай благодарить.
Грибоедов был рад, верный друг, хорошо, от счастья сердце его трепетало. Однако ж так вышло, что один вернейший Степан проводил его до проклятых Ижор.
Стоя друг против друга, они оба спешили, оба сбивались, со слезами в глазах:
— Пиши ко мне непременно! Стыдно тебе, когда позабудешь меня!
— Ты во мне можешь не сомневаться, мой милый, сам-то хоть когда напиши две строки, несчастье моё, знаю, как любишь писать!
— Я тебе буду, буду писать, непременно, клянусь!
— Скверно мне без тебя, так скверно, Степан! Хочешь, не верь, уж полон тоски по тебе!
— Ну, прежде времени себе душу не рви, в тебе всякое чувство скоро проходит, я знаю, и вот принял меры свои — там, у Сашки в шкатулке, дорожная чернильница, тебе от меня, вспомянешь, как станешь писать.
— А я, напротив, в тебе слишком уверен, что без чернильницы своего верного друга не позабудешь, так что тебе на память чернильницы нет!
— Перестань быть повесой, умоляю и заклинаю тебя, сделайся наконец практическим человеком!
— Что ж, я бы слишком не прочь, да что для этого предпринять, чтобы утешить тебя?
— На первый случай Павлова разыщи, едва въехав в Москву, Ермолову жена его сестра, она об тебе перед ним похлопочет, без этого, брат, в этой жизни нельзя, а все московские горазды на хлопоты за друзей, за родню, знаешь сам, ретивый народ.
— Когда ты велишь, разыщу непременно.
— Тогда, брат, прощай!
— Прощай, душа моя, на целых два года прощай!
Они горячо обнялись.
Наконец со слезами оторвался он от Степана, ступил нетвёрдыми ногами два шага, влез в бричку, ссутулился, спрятал в ладони лицо.
Лохматый ямщик, исчадие и отрада русских дорог, засидевшись, сморкнулся, в подражанье звуку иерихонской трубы, и с места поскакал во всю прыть.
В уши ударил жалобный бряк колокольчика. Несколько тут же попавшихся рытвин внезапно толкнули его, подбросили вверх, пребольно ударили головой обо что-то, прозаически напомнив ему, что он скачет по родимой дороге и по этой важной причине обязан сугубо блюсти осторожность, если не желает потерять понапрасну скудельного живота своего, а, напротив, желает добраться до места хоть и побитым весьма, однако ж непременно живым.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
н очнулся от горя разлуки, и покатилась, покатилась без остановки коляска, против его воли, как ударило вновь, увозя от нелюбимой Петровой столицы, где слишком много стряслось для него огорчений, нечувствительных испытаний и самых горьких душевных утрат; но на пятидесятой версте он вдруг с изумлением обнаружил, что порой в той грустной, уже недостижимой столице был счастлив; а после сотой твёрдо был убеждён, что как нельзя более славно ему на ней жилось. И всего прошедшего так стало жаль, что новые слёзы то и дело наворачивались ему на глаза, ещё не просохшие от первых слёз расставания, туманя стёкла очков неразлучных, и он прятал свои невинные слёзы от весёлого немца, беспечно глядевшего по сторонам, в первый раз благословил судьбу, что она ему на нос нацепила эти два узких стекла и что под этими стёклами его глупых слёз не видать; и тоска не только не проходила, не уменьшалась, но пуще росла, угнетая его, и он с ненавистью глядел на дорогу, думая злобно, что от этого беспрестанного противувольного движения в дорожной коляске всё вперёд нетрудно сбрендить с ума, пока Амбургер, лекарь, товарищ его по походу, не воскликнул на родном своём языке:
— Славное дело дорога! Так бы и мчался целый свой век! Хорошо!
Александр засмеялся: кто из них сбрендил с ума?
Немудрено, в дороге есть отчего. Ещё только первая станция, а уже лохматый ямщик, истязатель исправный боков и спины, отворотил наконец свои широченные плечи, намозолившие изрядно глаза, хриплым басом обратился к нему:
— Пожалуйте, батюшка барин, на водку.
Пока Александр, несколько потерявшись от неожиданного натиска трудолюбия, шарил в кармане двугривенный, прыткий маленький Амбургер в своём замысловатом мундире дипломатической миссии, зажавши подорожную в кулаке, кинулся на половину смотрителя, однако ж отбит был в упор обыкновеннейшим, непременно лицемерно-смиренным отказом:
— Нет лошадей.
Тыча со страстью в подорожную поросшим рыжим волосом пальцем, Амбургер визгливо орал, забавно мешая русский с немецким, что господин секретарь государственной миссии так торопится в Персию, в Персию, разумиешь, майн Готт, что можно было подумать со стороны, что в этой неведомой смотрителю Персии непременно стрясётся повальный пожар, ежели господин секретарь, по бумагам титулярный советник, опоздает хотя бы на час, да русский чиновник, как следовало, явным образом нисколько не радел о благополучии загадочной Персии и твёрдо стоял на своём — монумент непреклонности — хоть оду пиши:
— Нет лошадей.
Александр, довольно поколесивший в должности адъютанта при командующем кавалерийских резервов, знал преотлично, что на российских смиренных смотрителей безотказно действуют только три лиха: чин генерала, гусарский костистый кулак и добровольное подношение в сумме от целкового до пяти рублей ассигнациями, в прямой зависимости от числа лошадей, которые всегда в полной исправности томятся в укромной конюшне, нарочно устроенной где-нибудь за версту.
Не вылезая из брички, не столько от спешки мчаться тушить персидский пожар, сколько от ленивого дорожного любопытства, Александр, переходя на французский язык, посоветовал ретивому немцу, в немом гневе прыгавшему перед носом смотрителя на тонких ногах, применить на выбор второй или третий испытанный русский приём доставать лошадей. Кулак Амбургера явным образом не тянул на гусарский. Амбургер пометался самую малость, плюнул с досады, всунул в лапу смотрителя мятую трёшку, и свежая тройка запушённых, довольно тощих коней вскоре явилась на свет и впряглась под весёлый покрик ямщика, уже вожделевшего обычаем утверждённого оброка на водку.
Они поскакали. Сменный ямщик, ростом пониже, поскромнее в плечах, на третьей версте затянул свою невесёлую песню, так что поневоле припомнились остроумные чьи-то слова:
«Кто знает голоса народных русских песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сём музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдёшь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека: найдёшь его задумчива. Если захочет разогнать скуку, как он сам называет, если захочет повеселиться, то идёт в кабак. В веселии своём порывист, отважен, сварлив. Если что-нибудь случится не по нём, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагрённый кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской...»
Что за притча — с какой страшной медлительностью текут времена под низким небом России? К тому же выходит, что все дороги ума философского изъезжены далеко прежде нас.
Господи, знать бы, ведать ему, проложит ли он где-нибудь дорогу свою?
Ночью на путников вместо ответа обрушился ливень. Земляная дорога в сухое время была ещё сносной, хотя и она немало доставляла хлопот толчками и тряской. После дождя она превратилась в жидкую грязь, вылитую кем-то в корыто, и сделалась почти непроездной. Ямщики тут и там валили топором всё, что ни возвышалось окрест, большей частью молодые берёзки, и подсовывали как попадя под колеса, чтобы как-нибудь выдраться из хляби и рытвин, глубина которых поражала воображение. Вся дорога точно вымостилась разнотонкими стволами осин и берёз, точно рёбрами каких-то исполинских животных. Эти рёбра беспрестанно отзывались в неприобвыкших боках.
Амбургер то вскрикивал, то стонал, то испуганно просил милости у своего лютеранского Бога. Может быть, молитва помогала ему. Во всяком случае, из русских рытвин немец вышел живым и блаженно затих, когда бричка снова выбралась на сухое.
Александр молчал, озираясь по сторонам, находя в дороге великое множество любопытного.
Кругом дома были серые, плетни не везде занимали привычное своё положение. Вдруг ближе к Новгороду замелькали какие-то странные, непривычные русскому глазу деревни, слишком уж чистые, голые и пустые, а в полях обритые мужики жали рожь, для какой-то свыше придуманной надобности построясь в шеренги, и за каждой шеренгой важно шествовал усатый фельдфебель в мундире и шляпе.
Амбургер удивился, хорошо, но слишком твёрдо выговаривая по-русски:
— Что это, майн Готт?
Александр откликнулся сухо:
— Военные поселения.
Амбургер старательно таращил глаза и всё же не понимал ничего в загадочной жизни не виданной прежде страны.
— Ваши военные трудятся в поле? А когда же учатся ружью и штыку?
Не хотелось, а пришлось объяснять тарабарщину:
— Представьте необыкновенную вещь: солдат расселили по деревням, приказали выписать жён — у кого жёны, понятное дело, в наличии есть; холостяков же, без долгих раздумий, переженили на порожних дочерях мужиков.
У Амбургера, кажется, перехватило дыхание, глаза полезли явным образом из орбит:
— Позвольте, что я...
Грибоедов холодно пошутил:
— Вы тут ни при чём.
Амбургер улыбнулся несмело, верно давая понять, что не совсем понимает загадочный русский язык. Извинился:
— Простите, никак не привыкну к вашей манере шутить. Вы так серьёзны всегда, что я тотчас разобрать не могу, довольно после потом.
Что с немца взять, русских видов не видывал. Александр глядел в сторону, на траву, пробегавшую мимо.
— Полно, я не шучу.
Амбургер замахал руками, похоже на мельницу где-нибудь на холме в мирном селении, именуемом «дорф», и с возмущением закричал, точно это он был во всём виноват:
— Вы не шутите? Вы изъясняете серьёзно этот предмет? Переженили на порожних дочерях мужиков? Это дикость! Разве такие поступки делать возможно, где тут закон?
Эва, чего захотел! В России ни на что не бывает закона. Дёрнув головой, точно хотел от него отвязаться, Александр спокойно сказал:
— Таков вышел приказ от начальства. Вы немец, вам должна быть понятна неизъяснимая непреложность приказа. У нас, как и у вас, заметьте себе, приказы исполняются без рассуждений, однако большей частью как-то дубиноголово: ать-два, ать-два, по порядку номеров разочтись!
Амбургер уставился на него, напоминая историю барана и новых ворот, даже потянул за рукав:
— Позвольте, но мужики тоже люди!
Как знать, может быть, всё-таки немцем родиться приятно. Александр поверх очков взглянул на новое чудо природы, из его нервно стиснутых пальцев освобождая рукав:
— Разумеется, люди, по вашим понятиям. Однако наше правительство не получило европейской привычки считаться с людьми. Наше правительство большей частью всё как-то так, века и века, считается с одними высшими целями, в чём оно отчасти и право; правительству без высших целей нельзя, без высших целей оно и чёрт знает что натворит. В одной деревне, мне говорили, приказали в кивер сложить имена всех солдат, в кучу согнали всех незамужних и каждой предложили вынуть наудачу билет.
— И что же?
— Дело известное: ревели, волосы рвали на голове — однако ж против рожна не попрёшь, у нас говорят; вынимали билет и становились тут же солдатскими жёнами.
— Прости меня, Господи, я вам не верю, майн Готт.
— Немцу точно поверить нельзя. У русского человека, напротив, натура пошире, русский человек верит во всё, что к нему сверху идёт. Мы народ государственный.
— И после такого мероприятия, чем занимается русский солдат на земле?
— Мужик-поселенец, как прежде, занимается хлебом, а сверх того тянет лямку солдата. Солдат-поселенец тянет прежнюю лямку, а сверх того помогает мужику по хозяйству. Дети что тех, что других от рождения поступают в военное ведомство. Для детей этого рода учреждаются школы, а это, согласитесь, прогресс — во всех прочих деревнях школы заводить не положено. В школах принято взаимное обучение.
— Чёрт побери, взаимное обучение большая новость даже в школах просвещённой Европы!
— Я вижу, вы начинаете постигать сущность прогресса по-русски. В таком случае я поведаю вам более интересную вещь. Все работы и службы на поселениях производятся сообща, под началом фельдфебеля и офицера, как вы изволите видеть: взгляните сюда — вон шагает плюгавый такой, в рыжих усах. Вся жатва забирается в общественный магазин, в качестве гарантии от голода и расточительства в пище, то есть от кабака.
— Прошу вас, перестаньте дурачить меня! То, о чём вы трактуете, никак невозможно! Общий труд! Общие магазины! Ваш государь, человек просвещённый, видать, перешёл в ученики Сен-Симона[125]!
— Вы, я вижу, знакомы с оригинальным учением графа? Рад, представьте, за вас.
— По-вашему, на эти поселения снизошло благоденствие — неизбежный результат общих работ и распределения, как полагает в трудах своих граф де Сен-Симон?
— Да как вам сказать? Когда государь прибывает на смотр, из всех деревень, имеющих счастье находиться поблизости, сбирают всю наличную живность в одну, чтобы благоденствие как можно явственнее било в глаза, а в скирдах приказывают выкладывать снопы только сверху, оставляя внутри пустоту; случается также, что для прочности окрестный мусор сгребают вовнутрь, чтобы ветром не сдувало скирды.
— Хоть убей, ничего не пойму! По законам политической экономии совместный труд много прибыльней, чем то же количество затраченного труда, однако затраченного раздельно.
— Это справедливо по одним законам экономии политической, да законы экономии, верно, писаны не для нас. В России почитают за благо труд принудительный, а труд принудительный ни в какое сравнение не идёт с трудом хотя бы отчасти свободным. Таким образом, по русским законам армия и земледелие повсеместно приходят в общий упадок.
— И русский народ остаётся спокоен?
— Отчего же, бунтует по временам. В таком случае наше правительство, не располагающее утруждать себя ни законами экономии политической, ни какими иными законами, поселенские бунты подавляет с жестокостью, которая затмевает казнь бунтовавших стрельцов, учинённую Петром Алексеевичем, и, возможно, злодеяния Грозного Иоанна — хотя Грозного-то Иоанна превзойти мудрено — на расправу был зол. А в мирные времена непокорные поселенцы забиваются палками, засекаются розгами насмерть, говорят очевидцы — доски пола не просыхают в земских избах да в канцеляриях.
— Господи, майн Готт, что же это такое?
— Ряд злодейств, холодно и систематически совершаемых нашим правительством.
Амбургер был убит открытием ряда злодейств, известных также Европе, да нынче полу- или вовсе забытых, и наконец замолчал.
У Александра вновь стояли слёзы в глазах, на этот раз от бессилия гнева — тоже русский был человек.
Куда он скачет? Зачем? Что делать с умом и талантом в этой несчастной стране в такое бесчестное, бесстыдное время? Отыщет ли он где-нибудь место своё?
Ямщик, высокий, худой, с коричневым, мрачным лицом, с редкой нечёсаной бородёнкой, тянул всё ту же заунывную песню, точно вёз их один и тот же ямщик.
Кругом стелилась низменная равнина с признаками болот: кривые берёзки, осинки, кусты.
И рад он был добровольному изгнанию своему, которое на время избавит его от бессильного созерцания этих нищих, точно неприятелем захваченных мест, и пуще прежнего грызла тоска: родимая сторона — она родимая и в лютой беде, а что-то ждёт его на немилой чужбине?
Наконец над щёткой чёрного леса поднялись в немой красоте золотые кресты, которых он давно поджидал.
Амбургер заморгал, точно протирал расширенные изумленьем глаза, сорвавшимся шёпотом выдавил из себя:
— Это мираж?
Вздрогнув, Александр с сухим смехом ему возразил:
— Это Новгород.
Город новый.
— Старый, замечательный город.
— Ошень, ошень красифт.
— Представьте, род Грибоедовых берёт начало отсюда. В здешней летописи имя Грибоедовых встречается в самом начале шестнадцатого столетия. Это уж после, в прошлом веке срамном, из трусости или из подлого угожденья фавориту из немцев стыдливые предки утвердили облыжное мнение, будто они происходят из Польши и по-тамошнему именуются Грибоедовскими, но пишутся тут Грибоедовыми.
Он выпрыгнул из коляски на середине моста. Внизу струилась и плескалась обогретая солнцем река. С этого места буйные его соплеменники кидали вниз неугодных властителей, и он сквозь плеск мелкой, такой с виду мирной волны явственно слышал нестройные грубые голоса горластых ушкуйников, гулящих людей и голодного сброда, бравших верх над гостями богатыми на польных сборищах неуживчивых новгородцев.
На низменном берегу перед ним размахнулось новгородское чудо. Не говоря ни слова, бросив коляску скакать куда хочет, Александр порывисто зашагал навстречу ему. Встревоженный Амбургер бросился следом.
Вот она перед ним, наша северная София!
Александр молча ходил, смотрел, вновь ходил и смотрел — насмотреться не мог! Вся история мудрого Ярослава, приказавшего заложить в ещё не оставивших язычества землях этот храм во славу громких деяний своих, не припоминалась ему, вовсе нет, а словно сама собой оживала в его с готовностью настежь растворившейся памяти.
Вот было славное время, в котором ему было должно родиться! Тогда, без сомнения, отыскалось бы применение его энергии, отваге, сметливости и уму. Он не отказался бы главенствовать возведением этого храма, ходить на струге по Волге на Каспий за товаром арабским, персидским, хивинским или представлять республику вольных купцов в тяжеловесном, торжественном, полном преувеличенного достоинства русском посольстве где-нибудь во французской или царьградской земле.
Что говорить, что мечтать понапрасну, время не выбирают — без нашего глупого ведома безучастное время ставит на нас свою раскалённую мету.
Лишь однажды, разглядывая эти строгие, стройные стены восторженным взором современника и потомка, он вдруг с гневом и болью сказал:
— Вот бы каким образом надлежало представить нам историю государства Российского!
Амбургер, в почтительном безмолвии сопровождавший его, встрепенулся, несмело выступил из-за плеча:
— Что вы сказали?
Он без учтивости огрызнулся:
— Так, ничего.
Внутренность храма расчленена была на два крыла. В нижнем крыле с подновлёнными сводами хор было прохладно, полутемно. Верхнее заливал яркий свет. Это крыло предназначалось для князя, из лестничной башни выступавшего в торжественном одеянии.
Ступал ли на эти хоры сам Ярослав, узреть поспел ли воочию то, что представляло воображение истинной веры и созрелая мудрость властителя?
Кажется, возведение храма завершилось ещё при жизни его, богатой благодеяниями важными, длительной. Однако ж память Александра в этом случае подвела — он никак не мог припомнить наверно и пожалел, что для освежения памяти не имеет никакого пособия под рукой. Всё же он мог бы поклясться, что соименник его, победитель шведов и немцев, стаивал на этих хорах не раз, сперва отправляясь на кровавую сечу, после с победой и пленными возвращаясь с неё, когда возносилось благодарение Господу, даровавшему счастливое избавление истерзанной Русской земле от коварства и алчности иноплеменников.
Не в этом ли храме впоследствии служилась заупокойная панихида?
Впрочем, эта славная жизнь, проведённая в грозных битвах, в державных трудах, в молитвах усиленных, в дипломатических интригах с татарами, оборвалась не в этих стенах. Светлый дух покинул бренное тело его счастливого соименника, когда тот, как ни странно, возвращался из дикой воинственной Азии, куда он сам теперь отправлялся интриги плести, почти так же, как тот, на поклон и остереженье азиатским владыкам.
Что за мысль? Может быть, оттого, что нынче случились его именины? Мрачное чувство смутило его: может быть, и секретаря дипломатической миссии, тоже по прихоти матушки или попа нареченного Александром, ожидает та же злая судьба, только с той отвратительной разницей, что навряд ли попадёт он в святые?
Эх, сидеть бы ему в Петербурге! Боже мой, в Петербурге нынче новый балет!
За походным обедом в довольно сносном трактире кусок не шёл ему в горло, стиснутое глупым предчувствием. С досады он выпил вина и с томительным ожиданием притаившейся на дороге беды продолжал добровольно избранный путь, с упрямством философа отдаваясь на волю судьбы.
Амбургер, тоже подавленный, но не диким предчувствием, а благодетельным созерцанием чуда старинного русского зодчества, с немецким восторгом пустился распространяться о водоворотах и подводных течениях российской истории, нисколько не заботясь о внимании и поощрении невольного своего собеседника:
— Я мало, слишком мало познакомился с вашей историей, однако слышу её мрачный, повсюду трагический дух.
Он нехотя пробурчал, лишь бы от него отвязаться — только немецкого толкования русской истории не хватало ему для ободрения закисшего духа:
— Какая ни есть, а своя.
Амбургер между тем продолжал:
— Что было бы с вашей дикой страной, если бы скандинавские викинги не утвердили бы на ваших пространствах закон и порядок своей железной рукой!
Он вдруг озлился, нахохлился, сквозь зубы заговорил:
— Ваши учёные немцы нас оболгали, будто к нам варяги пришли, чтобы нам дать государственность, устроить правопорядок и осчастливить нас вашей культурой, когда сами вы были в те времена дикари. Разве вам не видать, что культура Великого Новгорода была самобытна, что она с немецкими образцами не имеет общего ничего? Полноте, у нас во все времена рождались великолепные мастера. Одно обстоятельство в особенности может быть для вас любопытно: резиденция князя располагалась вне детинца, то есть вне городской цитадели, которая, по вашим немецким обычаям, всегда охраняет учреждения власти и олицетворяет её перед строптивыми гражданами. У вас так извечно завелось: взял крепость на щит — стало быть, вся власть за тобой. А что выходит у нас? Из того обстоятельства, что резиденция князя располагалась вне крепости, неукоснительно следует, что сама крепость существовала прежде появления князя, а с ней прежде появления князя водились порядок и власть. Вече могло князя к себе пригласить, могло и не пригласить, как желало. «Мы, новгородцы, вольны в князьях: где нам любо, там и князя поимеем», а не люб, так и гнали взашей. Может быть, оттого и призвали однажды варягов к себе, чтобы своего-то полегче было согнать? Варяжский Олег, по свидетельству летописца, под 862 годом поплыл отсюда походом на Киев, нашёл поселение без стен крепостных, взял без битвы, город поставил и резиденцию в него перенёс. Уж не вольные ли граждане Великого Новгорода выперли его восвояси, как стал им нелюб, оттого и уплыл?
Размышления о своеобычности российской истории несколько его развлекли, однако растревоженным чувствам нипочём не приходил желанный порядок, любезный покой. С каждой новой верстой приближалась Москва, в которой пронеслась его юность, которую лет пять или шесть с таким старанием он избегал.
Это были трудные, странные годы, тоже вроде изгнания. Матушка то убавляла, то прибавляла его исправно по законам природы восходящему возрасту целых пять лет, точно впадала в сомнение, в котором году её Александр появился на свет. К тому же, Сергея Иваныча, бесталанного отца своего по бумагам, он видел от случая к случаю и не знал о нём почти ничего.
Немцу он сущую правду сказал: Грибоедовы были не древнего, однако ж старинного рода, впервые отмеченного именно в XVI веке. На страницах российской истории фамилия эта напечатлелась в 1503 году, в делах новгородских и правление великого московского князя Василия III. Затем Грибоедовы верой и правдой служили Отечеству в тяжкое Смутное время. Михаиле Грибоедову выбранный царь Михаил пожаловал в Вяземском уезде деревни в благодарение за многие службы, как писалось в дарственной грамоте, «против врагов наших польских и литовских людей, которые до конца хотели разорить государство Московское и веру христианскую попрать, а он, Михайло, будучи во московской службе, противу тех злодеев наших стоял крепко и мужественно, и многое дородство и храбрость и кровопролитие и службу показал, голод и наготу и во всём оскудение и нужду всякую осадную терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился».
Отпрыск верного воина Сенька, как он писался в челобитной митрополиту Сарайскому и Подольскому, возвёл своим попечением в пожалованной Хмелите каменный храм. Другой Грибоедов, Иван, ехал во главе поезда царицы во время похода царя Алексея Михайловича на Кашин; ещё один, Фёдор Акимыч, дьяк приказа Казанского двора, член комиссии по составлению Соборного уложения 1649 года, после разрядный дьяк в течение семи лет, особо же был награждён за составление «Истории о царях и великих князьях земли Русской», которая была написана им для наставления малолетних царевичей. При великом Петре Тимофей Грибоедов служил воеводой в Дорогобуже, позднее был пожалован Вяземским комендантом. В тёмное время дворцовых переворотов, к которым Россия, по его наблюдениям, более склонна, чем к бунтам, многие Грибоедовы несли службу в лейб-гвардии Преображенском полку, криком которого претенденты, а более претендентки возводились на привольный российский престол; да, видно, от этого пьяного крику достоинство их поубавилось. Фёдор, сын Алексея, родной его дед, дослужился, однако, до статских советников и успел нажить состояние, из которого матушке пришлось по наследству душ двести, тогда как дядя наследовал от него три тысячи душ — в таких славных долях закон разделял сына и дочь. Передавали, что Фёдор, ещё будучи капитан-поручиком, перестроил Хмелиту на европейский манер, заведя в ней громадный господский каменный дом о двух этажах, четыре каменных флигеля, раскинул парк регулярный с открытыми и глухими аллеями, заложил два пруда, наставил тут и там идолов, соблазнился множеством иноземных затей, а заодно преобразовал Сенькин храм в новый каменный трёхпрестольный с двухъярусной колокольней при нём.
Родной его дядя, Алексей Фёдорович Грибоедов — тоже преображенец, гремел по Москве одним необъятным гостеприимством, расточительством да необъятными своими долгами. В характере дяди развилась какая-то непостижимая смесь пороков с любезностью: извне рыцарство в обхождении, а в сердце отсутствие всякого чувства, так что при Суворове с турками сражался как лев, затем пресмыкался в передних всех случайных вельмож Петербурга; в отставке жил сплетнями, был дважды женат: на княжне Одоевской, а после на девице Нарышкиной; носил бесчестность в душе и лживость на языке, пылал неодолимой страстью обманывать женщин в любви, мужчин же в карты или иначе, а по службе уловлять подчинённых в разные подлости обещаньями, каких заведомо исполнить не мог, тем не менее с постоянством неслыханным впадал в нравоучение, начиная всякий раз поток наставительских излияний неизменным: «Я, брат!»
Род Грибоедовых распался где-то на переломе столетий. Младшая ветвь осела в нехоженых владимирских дебрях и там захирела. О Семёне Лукьяныче его предполагаемому потомку оказалось ничего не известно, кроме имени с отчеством. Леонтий Семёныч имел безвредный чин отставного капрала. Иван Никифорыч прошёл тернистый путь от солдата гвардии до капитана в армейском полку, в отставку выпущен был секунд-майором, а в магистрате Владимирском дослужился до надворных советников и в другой раз вышел в отставку, переместился на жительство в сельцо Федорково, Митрофановна тож, имея за собой душ не более девяноста, к тому же разбросанных там и сям по округе, верно, покупались полегонечку и на незримые деньги добровольных даятелей, каким у нас ни числа, ни перевода не слышно.
И следа прежних доблестей не обнаружилось в неприметном Сергее Иваныче. Происходя от владимирских обедневших дворян, по пятнадцатому году вступил предполагаемый батюшка кадетом в полк смоленских драгун, в Ярославский пехотный полк перебрался с чином поручика, лет двадцати уже временно освободился от службы Отечеству по каким-то домашним делам во Владимире, притянув компанию таких же юных балбесов, занятых единственно мотовством, мошеннически обыграл в карты дворянского недоросля на четырнадцать тысяч рублей, так что эта шалость докатилась до генерал-губернатора, повелевшего неправедный куш отобрать да вернуть в законные руки, то есть недорослю на новый кутёж. Кое-как извернувшись из этой грязной истории, Сергей Иваныч определился в штат генерал-поручика Юрия Никитича Трубецкого, чем неизменно гордился и за ерофеичем витийствовал пылко; имел случай быть походом в Крыму и в Кинбурнском полку получить капитана, каким-то чудом избежавши участия в тогдашних славных баталиях; и двадцати пяти лет попросился своей волей в отставку, будто по имевшимся разного рода болезням, которую получил, награждённый, подобно отцу, тем же скромным чином секунд-майора. Спустя ещё несколько лет безвестного жития, а точно в каком году неизвестно, Сергей Иваныч вступил в брак со своей дальней родственницей Настасьей Фёдоровной Грибоедовой, однако, по странности характера или более тайным причинам, решился иметь с ней раздельное жительство.
Супруга своего Настасья Фёдоровна была лет на десять моложе и богаче раз в сто, поскольку её странный суженый вовсе ничего не имел, даже постоянного места для жительства. Была она хорошо образована, не в пример многим в ленивой и бездельной Москве, к тому же умна, что редкость повсюду, не только в Москве; с сердцем добрым и любящим, однако чересчур нетерпимым, своевольная, страстная, резкая, с характером пылким и властным, независимая во всём и со всеми. Как приключилось, что она, по состоянию и родству имевшая надежды на приличную партию, вышла за неприметного, нищего, нечиновного, едва одолевшего простую русскую грамоту домоседа, всё беспредельное время своё проводившего то в глуши худой владимирской деревеньки с одним Бахусом наедине; то в провинциальном Владимире; то в Москве, за картами и тем же вином, любимыми горячей и нежней, чем жена? Что за блажь взошла в её своенравное сердце? Очаровалась ли она по ошибке? Иные ли замешались причины? Й много ли, мало ли правды имелось в тех криках, плаксивых и злобных, какими Сергей Иваныч, встрёпанный, с шальными глазами, будучи пьян, разъярённую матушку обличал, когда между ними доходило до ссор; а до ссор у них доходило всегда, поскольку один другого они терпеть не могли.
Правды, верно, имелось довольно. Дворовые девки у нас говорливы, о господах же не могут всей подноготной не знать: у них господа день и ночь на виду — в собственном доме укрыться нельзя. Довольно скоро он от дворовых девок знал, что матушка его пригуляла, что окрещён он в церкви Рождества Святой Богородицы, что у Спасских ворот, месяца сентября, а записан младенцем неизвестно кем незаконно рождённым, а уж это много потом, как Сергей Иваныч прикрыл её грех, и у них народился сын Павел, вскоре умерший, она стала всем говорить, что её первенец явился на свет Божий в январе, без должной твёрдости всякий раз обозначая годы рождения.
Свой грех она оплатила сполна — несчастием жизни семейной и в придачу чуть ли не всем своим достоянием. Года в три принуждённого безрадостного супружества от матушкиных четырёхсот крепостных осталось едва шестьдесят, и кумушки всей Москвы ломали головы над загадкой явной, но неразгаданной — каким таким образом эта никем не замеченная в расточительстве или щедрости женщина не только препоручила всё имущество мужу, но и дозволила почти всё прокутить?
Бедной матушке круто пришлось. Не имея приличных, главное, твёрдых доходов, выходила крайняя надобность перебраться в деревню, однако ж в какую? Сергей Иваныч не нажил ни кола ни двора и приживался в батюшкином сельце Фёдоркове. Делать нечего — на какие-то последние деньги, девять тысяч рублей, приобрела несчастная матушка у полковника Якова Иваныча Трусова сельцо Тимирево со всем господским и крестьянским строением, с прудишком, с хлебом стоячим и в землю посеянным, со скотом, с птицей, с людьми, коих числилось по бумагам семь мужских и девять женских душ.
Таким-то образом в глухом мимоездном сельце, утонувшем в непроходимых еловых лесах, в ветхом домишке, без дворянских колонн, зато с подгнившими скрипучими половицами, с тягучим угаром сквернейших, собственным мужиком сварганенных деревенских печей проваландались его детские годы, в тяжкой сытости незатейливых русских кулинарных чудес, в таком же малозатейливом домодельном кафтанце и смазных сапогах, почти без присмотра, на волюшке вольной, в ватаге сопливых, нечёсаных крестьянских ребят, без мамок и нянек, не только без французских, но и без русских учителей. Невероятно: девяти лет он не умел ни читать, ни писать! Деревенское воспитанье известно: ежедневные утрени, молебны, всенощные, чтение славословия, кафизм, паримий, пение ирмосов, кондаков, антифонов. О воспитании нравственном не могло быть и речи! Пример матушки и Сергея Иваныча, живущих без ладу и складу, слишком рано его развращал. Он рос сам собой и непременно бы мохом зарос, если бы между матушкой и Сергеем Иванычем отношения совсем не разладились, а кое-какие приобретения по наследству, по смерти радивых родных, не дозволили обратным путём окончательно перебраться в Москву.
В Москве дядя Алексей Фёдорыч, матушкин брат, счастливый обладатель, предоставил кочующему семейству дом деревянный, в приходе Девяти мучеников, близ Пресни и Кудрина, доставшийся ему по наследству от тётки Анны Алексеевны Волынской, который дядя, счастливый также в судах, оттягал у менее хваткой родни её покойного мужа.
Сергей Иваныч по-прежнему, точно и не был женат, в деревенской глуши коротал свои однообразные дни; раз в году вменял себе в обязанность появиться в Москве, недели две квартировал в тесных, нероскошных, однако опрятных хоромах жены, точно отбывал противувольную службу; впрочем, и тут пропадал главным образом в Английском клубе да в известных игорных домах, просаживал за зелёным сукном немалые суммы — к концу его пребывания из кабинета неслись довольно громкие, всегда недовольные голоса; в конце концов возмущённая матушка соглашалась оплатить шальные долги, после чего Сергей Иваныч, присмиревший, точно побитый, возвращался в своё захолустное одиночество, чтобы почти вовсе исчезнуть из памяти домочадцев и спустя ровно год вновь объявиться для променада в Москве.
По какой-то прихоти души он не слышал в Сергее Иваныче никакого родства, а вся эта несуразная жизнь без отца, в которой он вдруг очутился невольно странным центром загадки сам для себя, вскоре представилась ничтожной и пошлой. Алексей Фёдорыч, дядя, в его отрезвлении слишком преуспел.
Редким невежеством племянника дядя истинно был потрясён, его простонародная речь так и резала французское дядино ухо. Немудрено, что без промедления были приняты серьёзные меры к скорейшему его просвещению в беспечном духе любезной Европы. Он чуть не переселился в дом дяди — роскошный и шумный, чтобы иметь безденежно тех же дорогостоящих учителей, какие были приставлены дядей к Элизе.
Он был нелюдим — сельский житель и недоросль, без этикета и правил: не знал, где сесть, как ступить; всем чужой, открытая мишень для колких насмешек остроумной Элизы, для дядиных наставлений благодатный объект.
Выросший вольно, наставлений он не терпел и, с первым проблеском мысли, положил правилом их избегать. Для того пришлось ему потрудиться чуть не в поте лица. Этикет и правила обхождения, стеснительные для его непокорного духа, оставил он в стороне навсегда. Зато в манерах и в умении одеваться вдруг пробудился естественный вкус, и через месяц-другой дядя чуть рта не раскрыл, увидя на нём длинные брюки, остроносые туфли и детскую курточку с искусно выпущенным белым воротничком, воззрился, приставил пальцы к виску, засмеялся довольно:
— Экий пострел! Не иначе как вырастешь дамский угодник!
Помолчал, как-то уж очень пристально его оглядел, прибавил значительно, пониженным голосом, точно не желал, чтобы кто-нибудь его услыхал:
— Нашего роду, одначе, как я погляжу.
Матушка как-то усиленно, с вечной тревогой в глазах хлопотала исполнить из него москвича, не жалея своих наставлений; ещё больше старалась, чтобы тёмная игра с его днём и годом рождения никого не наводила на ложную мысль, отчего её наставления порой делались нерешительным, даже несколько виноватым, пониженным тоном, словно он был должен её за что-то простить; всеми силами избегала видеть законного мужа, что лишний раз именно наводило на мысль — кто же случился его настоящий отец? Затем каждым летом, когда пустела Москва, когда в дворянских особняках оставались млеть от жары одни обязанные служить в государевой службе да злостные должники, которых удерживали властью закона неумолимые их кредиторы, целым обозом вывозила семейство в деревню, однако ж в направлении, противоположном Владимиру, по дороге Смоленской, в Хмелиту — Грибоедовых родовое гнездо, перешедшее по наследству к весёлому и разгульному дяде, который, между прочим, сестры не любил и пренебрежительно к ней относился.
По всегдашнему разговору в гостиной, летний отдых в Хмелите учреждался матушкой исключительно ради здоровья бедных и бледных детей. К тому же Алексей Фёдорыч привозил в Хмелиту Элизу, свою дочь, надёжную память своего первого брака, а Элизу, кстати, сопровождали учителя: Бодэ, французский аббат, англичанин Адаме да немец Майер, рисовальный учитель, необыкновенный чудак; тогда как матушка, для полноты домашнего университетского курса, чтобы летних месяцев зазря не терять, когда прежде были потеряны целые годы, привозила для него и для Маши Петрозилиуса Ивана Данилыча, который слыл между ними поэтом, поскольку старательно составлял тяжеловесные оды на все торжественные происшествия дня, и который между тем состоял учителем немецкого и латинского языков — фигура странная, потешная: халат, колпак, перст указующий и ломаная речь — хоть целиком в комедию вставляй.
Точно в сравнении с владимирской глушью Хмелита представлялась ему и сказкой и чуть ли не раем. Усадьба возвышалась на пологом холме, отроге Валдая, при ручье Скоробовке, в зарослях хмеля, речка Хмелитка протекала в версте от неё. Дом господский был каменный, о двух этажах, настоящий ампир, четыре колоссальные колонны сторожили крыльцо, по сторонам располагались четыре же флигеля, регулярный парк с аллеями открытыми и глухими, два пруда копаных с саженой рыбой, статуи, цветники, сад яблоневый, малина, ежевика, смородина, земляника, жасмины, садовая калина, сиреней множество: лиловой, тёмно-лиловой, белой и розовой; конный завод, конюшня, манеж, в котором учился Александр ездить верхом, мастерские, свои кузнецы, слесари, столяры, ткачи, каменщики, ружейники, живописцы, архитекторы, которых дядя отдавал на оброк по двадцати пяти рублей в год; в деревне двадцать дворов. Мужиков Алексей Фёдорыч держал строго, наказывал регулярно, однако же справедливо, как с важностью рассуждали они, а не зря.
Казанская трёхпрестольная церковь, при ней колокольня двухъярусная, построенная попечением Фёдора Алексеича, деда, упокоенного за эти деяния Богу в приделе Иоанна Крестителя, икона Казанской Божьей Матери, в доме икона Смоленской Божьей Матери старинного письма, икона Божьей Матери «Взыскание погибших» с обнажённым Младенцем Христом на руках, икона святителя Николая, почитаемая за чудотворную, в громадной библиотеке грамоты царя Михаила Романова; во втором этаже южного флигеля театр с крепостными актёрами, в котором в первый раз прельстился Александр волшебством сценических действий; хор цыган из цыганского табора, поставленного в дальнем дворе; через один из прудов перекинут был мраморный мост — непременно этим мостом следовали экипажи окрестных дворян, жаловавших с визитом почтения или на бал, с оркестром, фейерверком и поздним ужином, который продолжался так долго, что неприметно превращался в обед.
Кто бы спорил: этакой благодати и тени не виделось в запущенном бедном сельце Тимиреве. Однако ж нечто странное он примечал и в Хмелите. К примеру, в громадном каменном доме учреждён был такой же громадный, таинственный, сумрачный зал, оживавший только на время разудалого крикливого сельского бала. На парадной стене громадного зала красовались писанные маслом портреты сестёр Грибоедовых, но отчего-то Елизаветы, Александры и Анны, и когда случайные гости — не из родни — задавали дяде не совсем деликатный вопрос, отчего не заведёт он такого же портрета Анастасии, Алексей Фёдорыч, посерьёзнев, что приключалось с ним редко, отвечал, запинаясь немного, что сестрица Настасья ликом своим, на его вкус, не совсем хороша. Однако же Александр, слыша экспромтное дядино сочиненье, не находил своей матушки до того некрасивой, чтобы в одном ряду с младшими сёстрами не висеть портрету её. Другой странностью представлялось и то, что между своими тётушку Анну иной раз именовали женой Разумовского, графа Алексея Кириллыча, автора чуть не дюжины незаконных детей, известных Москве, тогда как Алексей Кириллыч на Анне Грибоедовой не был женат.
Что бы это могло означать?
А матушка? Суровая, безжалостная со всеми, ни от кого слова не терпевшая впоперёк, не говоря о прислуге, даже от благодетеля-брата, она сына любила какой-то судорожной, страстной, чрезвычайной любовью, дозволяя ему почти всё, чего бы он ни хотел, не подвергая его наказаньям за шалости, однако всё это с таким недосягаемым видом, с таким неприступным лицом, так внезапно, так резко, с таким ворчаньем, с такими престранными выговорами подчас, что жить ему с ней всегда было непривольно и трудно, хотя и он её тоже страстно, всём сердцем любил.
В Хмелиту то и дело наезжали кузины, на всё лето поблизости поселялись Якушкины и Лыкошины — тоже родня. Таким образом, составлялся целый табор, не меньше цыганского: шумный, весёлый, живой, любитель поврать, как они хохотали между собой, да придумывать разные штуки над соседями, над соседками, в особенности над полным штатом забавных учителей — людей подневольных, живущих по найму, оттого много сносивших от сорванцов.
Да, в Хмелите и веселились, и бегали, и как ни в чём не бывало продолжали учиться рисованию, музыке, языкам. Он не веселился даже тогда, когда все вкруг него веселились взахлёб. Меланхолическая задумчивость слишком часто на него нападала. Приткнувшись обыкновенно куда-нибудь в уголок, забравшись в глубокое старинное кресло с ногами, он сосредоточенно размышлял, сам нередко не отдавая отчёта о чём, разрешал какие-то страшные тайны, смысл которых не мог быть в те годы доступен ему; как вдруг посреди этих тревожных раздумий вселялась в него какая-то судорожная весёлость, он словно с цепи срывался, как матушка изволила в сердцах изрекать, принимался над всеми трунить, сестриц изводил язвительными насмешками, скакал по стульям и по столам; тогда, стоило попасться ей на глаза, матушка останавливала его криком испуганным, любящим, хватала за руки трясущимися руками, прижимала к трепетавшей груди и, казалось, готова была разрыдаться над ним, однако через минуту сурово отстраняла его от себя и усаживала прилежно учиться.
Правду сказать, его ученье заботило её чрезвычайно, ещё более, чем чванливого дядю. Никаких денег она на учителей не жалела; хотя, как ворчала, остатки имений, спасённых от московских набегов Сергея Иваныча, приносили доходов всё меньше, вопреки мерам самым крутым, которые она принимала к своим мужикам — лентяям и пьяницам, по твёрдому убежденью её. Иван Данилыч был замечательный книжник, Ивана Данилыча сменил Богдан Иваныч — студент, слушавший профессора Буле в Гёттингене, чуть не пешком следом за ним прибывший в Москву, рекомендованный им домашним учителем, мечтавший о звании доктора — чем не сокровище для недавнего сельского неуча.
Сомнения нет, тот и другой своё жалованье получали недаром. Русскую грамоту одолел он шутя, а двенадцати лет говорил по-французски не хуже Элизы, чего Элиза никак ни понять, ни простить не могла; по-немецки изъяснялся изрядно, что по всей России почиталось исключительной редкостью; прилаживался ломать язык по-английски и вдохновлялся высокой латынью, которую страстно любил, так что для приятного упражнения в наречии римлян постоянно переводил что-нибудь из Цицерона, Плутарха и Ливия, однако ж никогда не слыхивал от матушки похвалы, хотя прилежанием и пуще успехами заслужил не одну похвалу. Полно мечтать, сколько бы он ни делал по учебной части успехов, матушке всё было мало. В других науках, кроме музыки, рисования и языков, сердечный дядя пользы не видел, и она сама обучала с пристрастием сына первым сведениям из всех подобающих школьных предметов, и он нередко ощущал на себе её нетерпеливый взгляд, едва случалось замяться в ответах, точно она и подгоняла и обвиняла его.
Она хлопотала не зря. Любознательность его пробудилась, точно бес вселился в него, внезапно сам собой стал он запоем читать, так что в дядиной библиотеке сделался полный хозяин. Он приладился глотать разнообразные книги, находя то на тесных, то на просторных страницах такие необыкновенные, такие предивные вещи, такие сведения из жизни иных — и ныне здравствующих, и давно отошедших — народов, в особенности из громозвенящих седовласых времён, что эти дивные вещи затмевали все сказки, слышанные от нянек в деревне, тем более малоприютную жизнь в прозаичной, нисколько для него не славной Москве. Книги стали ему вместо лучших и верных друзей. Он готов был проводить над ними всё время, всю жизнь. Они занимали все мысли. Они пробуждали мечты.
Невинный дядя устрашился его книжных бдений — так несчастливо, сокрушённо ворчал, — посетивших вчерашнего недоросля, поскольку, набравшись опыта жизни, единственную всепроникающую силу бытия полагал не в книгах, до которых сам не имел ни малейшей охоты, несмотря на то, что отличнейшей библиотекой владел, а в родстве и в познании света. Мрачная физиономия, с какой всё чаще перед ним появлялся племянник, требовала незамедлительного вмешательства с его стороны. Не прохлаждаясь ни часа, с его стороны были приняты самые серьёзные меры. Исполняя бесценно чтимый родственный долг, дядя решился дать заблудшей душе воспитание самое лучшее и преподал самый первый и главный урок:
— Помилуй, всякий москвич обязан всюду бывать, во избежание об нём заключений, а заключение — беда, брат, в Москве!
Расхаживая перед ним, высокий, осанистый, толстый, заложивши за спину руки в кружевных длинных манжетах, величественно гудел:
— Надобно, чтобы все тебя видели, помнили, знали, что ты мой племянник, — без этого тебе ничего не видать, мне поверь. Я вот, правду сказать, отроду книжек твоих не люблю, однако ж весь мой век на виду, принят в лучших домах, вся Москва у меня; в бостон то с тем, то с другим, а, гляди, надворный советник, важная вещь.
Шагая, как сделал привычку для моциона, не сомневавшийся в том, что его слушают с полным вниманием, когда изволит он рассуждать, Алексей Фёдорыч с важностью первого барина рекомендовал ему московских лучших людей, у которых несмышлёный племянник обязан постоянно быть на виду, в предвкушении будущих благ:
— Всеволожский, Сергей Алексеич — человек достойный и милый, ещё при государыне Екатерине её двора камергер, весь вечер трактует об том да об сём без умолку. Толпой девиц окружён что ни день, числом с дюжину, не менее того, так и с девицами умеет найтись, всякое разное отпустит словцо. Иван Петрович Аржаров, что ни говори, губернатор военный, теперь отставной, а пусть толкует что взбредёт в ум, однако ж без сердечной доброты так радушно и ласково невозможно принять человека самого маловажного и даже не годного ему ни на что. Тотчас умницей назовёт, милым, родным, прикажет завтрак подать, на обед пригласит, велит откупорить бутылку Клико. Если по военной пойдёшь, как не бывать у него? Тому-другому сочинит рекомендательное письмо, хоть писать не мастак, глядь, уж ты и поручик, слава тебе! Иль к Михаиле Федотычу Каменскому, графу, — воитель известный, фельдмаршал, этим, брат, не шути: и строг по заслугам, присесть при его особе не смей, коль без чина да в молодых ещё летах, так и уничтожит, так и пронзит: «В полку бы тебе солдатом служить, повытерли бы скоро тебя», — хорошо!
Не слыша отклика: ни согласия, ни благодарности — дядя скоро далее наставлений пошёл. Соображением высшим вменялось в обязанность сопровождать благоразумного дядю в продолжительных экспедициях с визитами по широко и вольготно раскинувшейся Москве.
Дядя без стука вступал в его комнату, громко звонил, грозно приказывал подавать одеваться, оглядывал придирчивым оком, одобрял изрядную выправку и, глядь, уж отчитывал лакея в сенях, что истуканом на дороге стоит. Чуть не в полдень усаживались они в экипаж, заложенный четверней англизированных, подобранных в масть лошадей. Дядя ужасно считался родством, без изъятия помнил все роди́ны, крестины, погребенья, поминальные дни и возведения в чин, а в родстве у него состояла половина Москвы; так что, бывало, кругом шла голова, в какую сторону кучера гнать, и кучер иной раз торчал столбом полчаса, пока дядя крикнет в окно:
— В Поварскую пошёл! Да не спать у меня!
В экипаже, как в доме, беспрестанно шло обучение высшей науке: кто камергер и с ключом, кто богат, сколько душ, кто в чинах и звёздах, кто удачно женат и удачно женил сыновей, кто дурак и бедняк и на безродной женат по любви, кто с рогами, кто от ветру брюхат. Восхищался, был влюблён, восклицал, любимейшие были слова — в пору высечь их на меди:
— Что за тузы в Москве живут и умирают!
Племянника имел за правило возить в одни полезные дома: к Нарышкиным, Одоевским, Всеволожским, Салтыковым, Шереметевым, Юсуповым, Измайловым. Вздыхая, говорил:
— Служи, брат, не служи, немногова наслужишь без родства!
Тащил на праздник, на именины, на бал, которые что ни день гремели в Москве, чуть не силой принуждал его прыгать под музыку. Нет слов, как он натерпелся в те дни! Москва славна необъятным гостеприимством. Двери настежь хоть перед кем!
В те поры нашатался он по паркетам и мраморам, нагляделся на пышную роскошь престранного русского просвещения, было что посравнить с тем из рук нероскошным сельцом, в котором беззаботно, бездумно детство его протекло. Вступал не без трепета в двусветные залы, в библиотеки обширные с богатырскими шкафами, полными нетронутых книг, в кабинеты с бронзами, с картинами редких художников, с достоинством, невесть откуда явившимся, делал поклон, отлично по-французски произносил несколько приветственных слов, вызывая немое одобрение дяди, и отступал тихо в сторону, теряясь от громкого говора, мелкости мыслей и пустоты просвещения, беспечно размененного на бабьи сплетни и шутовство. Чванство так и лилось через край. Никто не посадит, стой перед ним час или два истуканом, пока старички не наговорятся о прежнем житье, когда всё велось не в пример лучше, чем нынче.
Понятное дело: чем далее, тем становилось скверней. Доброму дяде вздумалось с той же испытанной идеей благодетельного познания света таскать его на московские балы. Только что не прямиком из деревни, неприхотливой и скромной, попал он в московскую бестолковую толчею. У подъезда усы и султаны; в сенях гром сабель и шпор; в залах тьма важного и более важного люда; жар, духота, пируэты, прыжки до рассвета. Невесты, кузины все в кружевах — изделье мастериц из Брюсселя. Кавалеры в мундирах, в жабо, подбородка ни одного не видать: последний моды приказ. К полуночи свечи начинали тускнеть, самые прехорошенькие личики, на которые, признаться, любил он измлада смотреть, таращились рожами пьяных вакханок, волосы развились и рассыпались, украшения пришли в беспорядок, парижские платья обдёргались, перчатки промокли от пота чуть не насквозь, матушки, тётушки, бабушки суетились, сбивались с ног, поправляли, силились вид придать хотя отчасти пристойный, товарный, для-ради нужнейшей оказии иные выпрыгивали прямо из-за бостона, иные, расплываясь от жара, тяжко дыша, обегали кавалеров чуть не в истерике, предпочтительно из офицеров, налетавших из Петербурга на московский хлебосольный простор, кланялись им:
— С моей-то дурой, батюшка, потанцуй!
В поместительном кабинете хозяина, человека по всем отзывам просвещённого, вольтерьянца, даже масона, игра кипит до утра. На двух, на трёх громадных столах испытывают фортуну в банчок; старички за другими, поменьше, в цветных атласных камзолах, в белых пудреных париках, с обсыпанными алмазами табакерками — знак благодарности государыни, сражаются в пикет или в бостон. Ассигнации и золото грудами. Банк мечут Рахманов, Чертков, Киселёв, Дурново и Раевский, понтирует множество известных особ.
Под утро, изнеможённые, в поту, с посерелыми лицами, садились за ужин. На обильных столах бездна яблок и груш, хоть на дворе в середине зима, в разгаре весна; осётры в полстола, стерляди, сливочная телятина, гречанки-индейки, каких он отродясь не видал. Шампанское текло как вода. Хозяин с хозяйкой по очереди подходили к каждому гостю, приглашали откушать да выпить ещё бокальчик вина.
Самые оживлённые разговоры в танцах и за столами: кто и к кому сватался; кто успел, а кто не успел; кто сколько приданого взял, кто награжденье схватил. Молодой человек, воротом мундира укрытый до самой макушки, утопив подбородок в высоченном жабо, поверял приятелю свои неудачи:
— Я бы уж нынче достиг до полковника, да батюшка упустил случай обо мне князя просить, а ведь батюшка с князем даже очень знаком.
Другой, с большим бриллиантом в булавке, сетовал не таясь, что старик его зажился, а давно бы пора помереть, лет тридцать в отставке, куда ещё, он же мог бы располагать отцовым именьем, жить преотлично, отправиться в европейский вояж:
— Помилуй, что увидишь, что узнаешь в здешней глуши!
Иногда подплывал к нему раскрасневшийся дядя, мокрый от пота, пыхтя от удовольствия или усталости — нельзя разобрать, и важно указывал на какой-нибудь раритет:
— Вон, погляди, старичок, на ножках тонких, как лучины, крошечный весь, худерьба, мордочка с твой кулачок, в дамский ридикюль поместится весь с каблуками, а в молодые лета красавец был писаный и толщины необъятной, при графе Чернышеве служил, адъютант. Такому-то, кажется, куды в адъютанты? Так вот ты поди-ка, и тут заслужил: в особенной колясочке ему было дозволено сопровождать графа Зиновея, тогда как прочие скакали верхом. Вот так-то, брат, какие люди, гляди!
А ещё, кроме званых, громко объявленных, водились тихие балы, когда велели всех и каждого зазывать, кто являлся утром поздравить с днём ангела. Если особняк именинницы, именинника возвышался где-нибудь у Трубного на углу, вся Поварская бывала запружена экипажами: коляски, каретки, рыдваны вереницей тянулись по обе стороны до самых Арбатских ворот. В гостиные бывал втиснут весь город, от главнокомандующего в звёздах до студента в синем мундире с малиновым воротом: граф Ростопчин, Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, Обрезков, князь Вяземский, сенатор Алябьев, Мухановы, князья Голицыны, Марков, Кутузов, Волконский, Матвей Григорьич Спиридон, Лопухины, Мамонов, Обольянинов, граф Салтыков и неразлучный с ним Брок.
Во всех гостиных на виду Ростопчин: анекдот за анекдотом, насмешник, довольно злой на язык, одной чертой умел обрисовать всего человека, лишь бы человек был чином не выше, а ниже его. Не успев при государыне Екатерине, граф Фёдор Васильич весьма кстати и вовремя стал искать в наследнике Павле Петровиче, никем не любимом, проявил не одно предприимчивое внимание, но и самую преданность, что по сердцу не могло не прийтись человеку оскорблённому, обиженному, оттёртому в угол собственной маменькой: умной, распорядительной, властной, жадной до власти пуще прочих утех; с видом самым серьёзным участвовал в потешных гатчинских экзерцициях, даривал оловянных солдатиков и сделался избранным при малом дворе цесаревича: вторым Аракчеевым; а тем временем в супруги взял племянницу любимейшей фрейлины императрицы Елизаветы Петровны, что не спасло его, впрочем, от высылки в родную деревню — однако ж и высылка пошла ему как нельзя больше на пользу: едва воцарившись, бедный Павел Петрович, обманутый всеми, осыпал Ростопчина милостями чрезвычайными, жаловал чины, звания, деревни, земли, дома, сотни тысяч в звонкой монете, разумеется, тысячи душ; граф заведовал военным ведомством, затем департаментом почт, председательствовал Иностранной коллегией, сдуру направляя государя на сближение с Францией, всегда противной нашей как восточной, так и европейской политике; отводя от традиционной близости с Англией. Впрочем, его большей частью трудами Грузия влилась в обширные пределы Российской империи и тем спаслась от полного растерзания хищными своими соседями. Тем не менее предусмотрительным заговорщикам удалось устранить фаворита, чуть не всесильного. Граф Фёдор отстранён был от дел и в другой раз выслан в свою подмосковную, где надоумился на все руки мастак, экономические выгоды добывать при помощи механической обработки земли. Воротившись вторично из ссылки, прочно обосновался в Москве. Не принятый новым государем на службу, ужасно фондировал в первопрестольной столице, приходил в ужас при всяком упоминании о необходимости перемен в государственном управлении: благодетельных, хотя и малоуспешных; об отмене крепостных обязательств трактовал чуть не как об чуме, а тем временем подкапывался в доверие к новому государю через посредство Екатерины Павловны, великой княжны — интимно близкой и сильно влиявшей на мнения Александра, своего брата; переменил своё представление о коварных французах и сильно нападал на узурпатора Буонапарте:
— Мужчинишка в рекруты не годится: ни кожи, ни рожи, ни виденья. Раз ударить — так дух вон, простынет и след.
Другой герой был Измайлов, Лев Дмитрия: несметный богач, одних душ одиннадцать тысяч, жизнь распутная, всем порокам настежь отверст. Его крепостные дожаловались каким-то чудом до государя, государь расследовать приказал, что за постыдные для крестьян, утеснительные жертвы своему любострастно приносить изволит неукротимый Лев Дмитрия, однако же следствие результатов положительных не удосужилось никаких, в ответ на что рязанское доблестное дворянство тотчас произвело Льва Дмитрича губернским своим предводителем и затем вновь избирало несколько трёхлетий подряд, видимо находя себя весьма достойным его предводительства; а московские рифмачи слагали в его честь панегирики; льстецы просвещённые его обступали гурьбой, тогда как Лев Дмитрия всей Москве был известен как неуч первостатейный, не пропускающий случая с необыкновенной язвительностью поиздеваться не над одними науками, но и над теми, кто посвятить наукам прельстился свою жизнь и свой труд — недаром же был неизменный участник афинских вечеров графа Зубова, тоже вандала, впрочем, с туманным позывом на просвещение.
В толпе раритетов времён Екатерины и Павла, во всех гостиных от Арбата до Красных ворот, царили два Пушкина[126]: Алексей Михайлыч — переводчик Мольера, Расина дурными стихами, чуть не блистательный любитель на сцене всех домашних театров Москвы, остроумный и колкий; и Василий Львович — природный москвич, владевший латынью и новыми языками, декламатор, тоже актёр, король экспромта, царь буримэ, предмет насмешек, колких и едких, далее жестоких порой, каких добряк, по правде, не заслужил: да уж такая скверная участь у нас для всех добряков безответных — добродушный, ни для кого не опасный, весельчак, балагур, даровой развлекатель московского братства.
Попавши на тихие и громкие московские балы прямиком из деревенской глуши, Александр во все глаза глядел на этот зверинец, молча пристроившись где-нибудь в уголке, с головной болью, разбитый, с непритворным отвращением ко всем этим знаменитым уродам, как вскоре начал их про себя величать; возвращался домой и падал с ног от усталости, не танцевавши ни разу, проклиная дядины хлопоты о прекрасном его воспитании.
Следствие стояний, толков, сплетен, речей, осётров, бостонов было одно: ему необыкновенных захотелось дел и людей, не от мира сего; просвещения истинного, мыслей значительных, неподдельного жара души, а пустое, ничтожное побоку всё! Да как было тотчас решиться против воли доброго дяди пойти? Он чуть не рыдал, а с дядей скакал по Москве.
Между тем убеждение дяди, что он станет тибрить чины по родству, а не добывать их кровью и честью, подобно героям Плутарха; или место займёт, его достоинствам выше; или станет подлецу Измайлову панегирики подносить — до глубины души оскорбляло его. Он с головой уходил в свои любимые книги. Великие люди, в блеске заслуженной славы проходившие по блистательным страницам истории, в душе его рождали жаркую зависть. Походить он жаждал на них. Тут было странным только одно: даже в те времена не мечталось ему воплотиться в поработители мира, как Цезарь и Александр. Отчего-то Солоны, Ликурги и Цицероны его сердцу были дороже, были понятней уму, и в самих деяниях великого Цезаря ему были близки не кровавые битвы, а дерзкие свершения миротворца, законодателя, проницательного правителя, каким император представал перед ним в последний год своей полной превратностей жизни.
Отчего? Как было знать? Звучал ли это неумолимый голос призвания, сказалось ли пристрастие случая, проступила ли роковая игра обстоятельств — порою всесильных? Эта загадка оставалась для него неразгаданной. Однако следствием чрезмерного чтения вскоре обнаружилась сильная у него близорукость. Уже лет с десяти на носу его закрасовались очки. Извольте с таким украшением совершать незабвенные подвиги и грозно командовать в битвах.
К чему же готовить себя? Что совершать? Долго от него укрывалась цель жизни, может быть, укрывалась и до сих пор. В одном он рано лишился сомнений: пустое, ничтожное, чему дядя так разнообразно учил, надобно побоку все; он только способ упорно искал, и нашёл, но какой!
В этом круге порочном к нему не мог не подцепиться порок: спустя год или два он приучился хитрить. Едва дядя своим любимым караковым цугом с шумом и громом въезжал к ним во двор, он стаскивал платье и мигом забирался в постель. Дядя являлся, грузный, румяный, довольный собой, в зелёном бархатном длиннополом кафтане, в пудреном парике и в белых чулках, весело гудел во весь свой раскатистый голос:
— А ну, брат, сбирайся проворней, едем к Одоевским, к Вяземским, к Разумовским!
Он натягивал одеяло чуть не до самых бровей и ответствовал голосом искусственно слабым, с самым постным лицом — до каких не доведёт нужда изворотов ума:
— Помилуйте, дяденька, никак не могу, ночь глаз не сомкнул, голова разболела, едва дышу.
Дядя требовал себе широкое кресло, опускался с достоинством точно на трон, водружал с важностью правую ногу на низенькую скамеечку, опирался на колено рукой и с непритворной заботой внушал:
— Всё, брат, от книг, помяни моё слово, все наши беды от них, и Настасья-то дура была, тоже, бывало, книги читала, дочиталась, одначе, плоды налицо. Брось ты их, честное слово! Поедем со мной. У меня голова никогда не болит.
Едва ворочая языком, он возражал:
— Я б не прочь, да головы поднять не могу.
Дядя вздыхал, сочувственно качал головой:
— Вчерась маялся животом. Настасья-то куда смотрит, за лекарем надо послать. Что за беда, я дожил вот до почтенных седин, а всё буду покрепче тебя. У Петра-то Егорыча, слышь, вся Басманная до самых Мясницких ворот запружена была экипажами, и, что бы ты думал — всё цуги да цуги! Кучерам раздавали пенного по стакану, по калачу, мол, наших-то знай, а музыка слышалась ещё издалече: экосез[127] и а-ля грек так и нудят прохожих подпрыгивать. Ты Петра-то Егорыча знаешь? За ним светлейшего князя, Потёмкина, родная сестра, с таким не шути. В доме его случай прошедшего дня. Обер-полицмейстер с визитом был у него, правил строжайших, с ним не шути. Ну, глядит, перед ним вертопрах, впрочем, лучшей московской фамилии, уже вовсе как-то престранно одет, что воротник, что жабо, носа и того не видать, тогда как нос-то приметный издалека. Полицмейстер к нему, вежливо этак напоминает о непристойности такого рода нарядов и приказывает, по обыкновению, строго: галстук перевязать. Вертопрах, не будь дурак, обещался, однако ж мнение старшего чином и возрастом не удосужил уважить, в том же виде повстречался с ним в другой раз. Что же ты думал? Полицмейстер терпение взял, приказал галстук перевязать, а тот ему отвечает: «Да, помилуйте, — говорит, — ваше превосходительство, со мной здесь нет моего камердинера, кто станет мне перевязывать галстук?» — «А, — говорит, — так у вас камердинера нет?» И, призвав полицейского офицера, приказал ослушника взять, те под руки подхватили и вывели вон наглеца из собрания. Так-то у нас. Благоразумные вполне одобрили полицейскую меру, что же станется с нами, коль ни в чём не захотят повиноваться законным властям? Глупцы возроптали — дело известное; пустили что-то о правах человека. Какие права? Поедем-ка, брат.
Тогда он заболевал окончательно, а добродушно-настойчивый дядя продолжал соблазнять, переложив на скамеечку левую ногу:
— Авдотья Селиверстовна именинница нынче, я был поутру, однако ж не принимали ещё, так швейцар внизу объявил, что покорнейше просят на вечер. «Да много ли ожидают гостей?» — «Да всех велят приглашать, кто приезжал, а званых нет, потому как нарочно назначен у нас тихий бал». Знаю, громких не жалуешь, так вот и поедем на тихий-то, а?
Он притворно стонал:
— Небось Поварской не проедешь до Арбатских ворот, а пешком я шагу ступить не могу.
Дядя привольно вытягивал ноги вперёд, сплетал пальцы на большом животе, рассуждал преохотно:
— Да уж точно весь втиснуться город не прочь, она ж принимать мастерица: всякому одинакий поклон, знакомый ли коротко, незнакомый ли вовсе, лишь бы природный был дворянин; ласковое слово, а делай, что хошь, играй, молчи, говори, ходи либо сядь посиди, одно только — не спорь, особливо запальчиво, громогласно и с жаром — страсть как боится, уж лучше вовсе молчи. У Авдотьи Селиверстовны узришь всю Москву, от альфы до самой омеги, вся наша лучшая знать, все лучшие наши умы.
Он твёрдо, как дядя ни бился, лежал на своём и оставался большей частью с любимыми книгами, а дядя, ворча и желая ему поправляться, в одиночестве отправлялся к лучшим московским умам.
Обнаружив, что он пустился с простоватым дядей на хитрости, матушка приняла свои меры, безоговорочные, крутые, даже понеся немалый расход, хотя на расходы была нещедра: его, году на тринадцатом, а в бумагах чуть не семи, обрядили в синий форменный фрак и определили в университетский благородный пансион — неумолчная гордость всей знатной Москвы, учреждённый единственно ради того, чтобы повесы и недоросли знатных фамилий, толком ничему не учась, получали университетский диплом, дававший право на чин, и пятнадцати лет вступали в гвардейскую или в статскую службу, поскольку, житейская мудрость гласит, чины-то не ждут, а без чина человек на Руси испокон не человек, но сморчок.
Его встретил любезной улыбкой инспектор, Антон Антоныч Прокопович-Антонский, вежливый, высокий, сутулый, худой как доска, в строгом мундире профессора, с длинным носом и длинными нерешительными губами, с добрейшими голубыми глазами, с угловатыми неопределёнными жестами, с голосом ласковым: ни дать ни взять, родимый отец всем несмышлёным питомцам своим.
Пансиону основание было положено поэтом Херасковым[128] лет тридцать назад, и однако ж много позднее Антон Антоныч, именно Прокопович-Антонский, явился душой и создателем истинным того благородного пансиона, который приобрёл громкую славу в барской и даже в просвещённой Москве.
В юные лета Антон Антоныч приготовлял себя исключительно к духовной карьере, пребывание имел в духовной академии в Киеве, но однажды вместе с другими против воли доставлен был приказанием начальства в Москву и определён студентом в университет, когда в этом заведении обнаружилось, как на грех, до ничтожества мало доброхотных студентов, поскольку дворянству российскому, тем паче повесам и недорослям, истинно учиться был большой недосуг. Курс окончил довольно успешно, был принят в масонскую ложу, сблизился с Новиковым, свои переводы печатал в новиковских журналах, затем определился в профессора энциклопедии и натуральной истории, обрёл призванье своё в педагогике, от университета отделил пансион, повёл своё детище одной своей волей и уже не только готовил пансионеров в студенты, а прямо, выхлопотав именное распоряжение, выпускал в военную или статскую службу, что в мнении московских матушек имело преимущество неоценимое, и пансион уже наполнялся без хлопот и тревог.
По первому взгляду пансион был поставлен прекрасно. Во всех помещениях царили порядок и образцовая чистота. Антонский с воспитанниками всегда был ровен, приветлив и добр. Программа обучения была составлена широко, в намерении приготовить истинно просвещённого человека, так что умещала в своих пределах все мыслимые предметы, числом, должно быть, до тридцати; однако ж благоразумно дозволялось воспитанникам, согласно наклонностям, как то предполагает Жан-Жак Руссо, из обширного списка предметов избрать для себя пять или шесть, не обременяясь знакомством с другими, нисколько или мало им интересными. Предметы излагал лично Антонский и подобранные по его вкусу профессора, причём, склонив голову на правую сторону, с всепрощающей, мягкой улыбкой Антон Антоныч повторял свою любимую истину:
— Главная цель воспитания истинного есть та, чтобы младые отрасли человечества, в силах телесных и в цветущем здравии возрастая, получали необходимое просвещение и приобретали навыки в добродетели, дабы, достигая зрелости, принесть себе, родителям и Отечеству драгоценные плоды правды, честности, благотворения и счастия неотъемлемого.
Мысль, бесспорно, благая, однако ж нечто сходное беспрестанно слыхивал он и от дяди, отчего заподозрил неладное, по опыту зная о прилипчивой прельстительности лукавства. В самом деле, воспитанники благородного пансиона большей частью не помышляли ни об истинном просвещении, ни о приобретении навыков в добродетели, ни тем более о пользе Отечеству. Вместо истинного просвещения, добродетелей и пользы Отечеству они чрезвычайно спешили принести пользы как можно больше себе, то есть прямо из простодушных объятий Антона Антоныча, благополучно избегнув слишком жёсткой университетской скамьи, вступить в службу, как и ему проповедовал дядя; и лет в двадцать пять, в двадцать шесть, ничему не учась, приобретя не заслуги, а отличные связи, выхлопотать соблазнительный чин генерала.
Истинно просвещаться, по его наблюдениям, жаждали слишком немногие, однако ж в простодушных объятиях Антона Антоныча было просветиться им мудрено. Сам Антон Антоныч, много хлопотавший по делам управления, предмет свой читал крайне редко, но и в том случае, когда являлся читать, оставался на возвышении кафедры не более четверти часа, так что никоим образом не удавалось составить понятия ни об натуральной истории, ни тем более об мифической энциклопедии, смысла которой, похоже, и сам Антон Антоныч толком не разузнал. Коллеги Антона Антоныча, вероятно, для того, чтобы его не затмить, не более умудрились в познаниях, и, случалось, пансионеры с большим успехом сдавали латынь, вытвердив наизусть две-три латинские фразы, преимущественно из Корнелия Тацита или поэта Горация, которых Антон Антоныч, как всем было известно, всем сердцем любил и ценил высоко.
Чему ж удивляться, что он учился легко, не особенно утруждая себя прилежанием, и уже в меньшем возрасте, как определились классы по системе Антона Антоныча, получил первый приз за успехи в истинном просвещении. Приз, натурально, доставил ему удовольствие, однако ж дядя, враг ученья, беспечно посмеялся над ним:
— Твой Прокопович не так уж и глуп, в Москве все об этом твердят слово в слово, не гляди, что профессор, а отъявленный плут, стоит только ему намекнуть, как тотчас смекнул, что почём.
Дело, как водится, выходило прескверно, нечисто — урок нравственности житейской, урок добродетели в исполнении по-русски просвещённого деятеля. Он вгляделся внимательней — и Антон Антоныч потерял в его глазах уваженье. В простодушном наставнике обнаружился хитрец и искатель, умеющий всем угодить. На воспитанников ворча для порядка, наставляя их в добродетели по прописям Жан-Жака Руссо, Антон Антоныч умел сделать так, что каждый пансионер имел полное право считать себя единственным любимцем инспектора, а гаже всего было то, что, желая привлечь в пансион повес и недорослей из лучших, то есть из богатейших семей, Антон Антоныч откровенно сгибался и заискивал пред сильными мира сего, выдавая награды не по заслугам, но по важности, по родству да по чину отцов — на этот раз дядя был прав. Своими подвигами низкопоклонства Антон Антоныч не смущался нисколько и возвышался до замечательной мысли об том, будто молитва в стенах Донского монастыря несравненно быстрее доходит до Неба, чем даже из Троицкой лавры, ибо — тут вверх внушительно воздвигался указательный палец — архимандритом в Донском его брат.
Впрочем, все эти понятные слабости не мешали Антону Антоновичу почитать всей душой и проповедовать своим высокородным питомцам Карамзина. В духе Карамзина, сентиментальном до слёз, велась вся литературная подготовка алчущих поскорее попасть в генералы. Гладкий, переполненный восклицаньями и восторгами стиль Карамзина и бессчётных его подражателей выдавался за недосягаемый образец. Вменялось в обязанность непременную чтение «Приятного и полезного препровождения времени» — журнала, выдаваемого в свет Пошиваловым, когда-то преподававшим в пансионе словесность, за то именно, что в этом бесцветном журнале над страждущим человечеством проливались преизобильные слёзы. На пансионском театре, обставленном хорошо, имевшем свой особый оркестр, совместными усилиями немногих пансионеров разыгрывались унылые драмы вроде «Доброго сына», битком набитые поучительными сентенциями вроде того, что красть нехорошо, как и лгать. Сочинения задавались непременно на того же сорта моральные темы, в которых следовало развивать похвальные мысли о том, что хорошо поступать добродетельно и дурно коснеть во грехе, или, разнообразия ради, посвящать свои юные думы одиноко скорбящей луне и все эти высокородные повесы и недоросли от двенадцати до пятнадцати лет, обращая принуждённые взоры к безвинному ночному светилу, твердили о своих бесцветно завядших годах, о невыразимой тягости жизни, к которой не успели ещё приступить, и милых радостях загробного бытия и слагали приблизительно такого рода стишки:
О человек! почто гоняться За призраком и за мечтой? Чем в мире хочешь наслаждаться? Он весь наполнен суетой!Баккаревич, Михаил Николаич, пылкий, совсем молодой, с взволнованным бледным лицом, профессор российской словесности, величайшей похвалой отметивший такого рода стишки, к груди прижав молитвенные руки, не обращал внимания, что грудь обтянута грубым казённым сукном, возглашал, что поэзия принадлежит к разряду самых приятных наук и является, представьте себе, усладительницей человеческой жизни, и самой солью поэзии объявлял её благозвучность:
— От некоторых рифмы почитаются пустыми гремушками, и это сущая правда, когда в стихах только и достоинства что рифмы, когда в них нет ни огня, ни живости, ни силы, ни смелых вымыслов, которые составляют душу поэзии, — одним словом, когда в стихотворце нет дара. Стихотворный язык — это музыка. Иногда одна нота, нестройно, неправильно взятая, может испортить симфонию!
Вытянувшись, переставившись с каблуков на носки, декламировал наизусть:
Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетённых, Несчастных счастие и сладость огорчённых! О, меланхолия! ты им милее всех Искусственных забав и ветреных утех. Сравниться ль что-нибудь с твоею красотою, С твоей улыбкою и тихою слезою?Вздыхал разнеженно, блаженно, помятым фуляром обтирал наполненные влагой глаза и с чувством продолжал излагать условия счастья, единственно возможного на этой суетной, грешной, изувеченной ложью земле:
Душою так же прям, как станом, Не ищет благ за океаном И с моря кораблей не ждёт, Шумящих ветров не робеет, Под солнцем домик свой имеет, В сей день для дня сего живёт И мыслей вдаль не простирает, Кто смотрит прямо всем в глаза, Кому несчастного слеза Отравы в пищу не вливает, Кому работа не трудна, Прогулка в поле не скучна И отдых в знойный час любезен, Кто ближним иногда полезен Рукой своей или умом, Кто может быть приятным другом, Любимым, счастливым супругом И добрых милых чад отцом, Кто муз от скуки призывает И нежных фаций, спутниц их, Стихами, прозой забавляет Себя, домашних и чужих, От сердца чистого смеётся (Смеяться, право, не грешно Над тем, что кажется смешно!), Тот в мире с миром уживётся.[129]Уже начинал он жить свободно, ускользнув из школы дядина воспитания. Дух необыкновенного, дух великого в нём возрастал. Стремления к мелкому, прозаическому, малоприметному были ему смешны и противны. Ну нет, твердил он сам себе беспрестанно, с усмешкой взглядывая на вдохновенного Баккаревича, он не желал удаляться в свой тихий домок от во все стороны распростёртого мира; не желал стеснять свою ненасытную мысль столь ничтожными, хотя и добрыми вседневными нуждами, и несчастье ближнего отравляло его, и ближним желал бы он быть полезным всегда, а не по одним случайным вдохновениям скуки; и друг ему необходим был не приятный, а верный; и уж когда суждено ему было писать, в стихах или в прозе, — как Бог призовёт, — то никак не для забавы себе и домашним своим, то есть дяде, которого, кстати, забавляли не стихи, а бостон. Ему жизнь представлялась не прозябаньем, а подвигом.
Да и время ли было для сладостных меланхолий? Время приступало иное. Молодой государь решился возвратить бесценное благо свободы безвинно заточенным и сосланным силой монарших капризов в прежнем правлении, упразднил злодейство канцелярии Тайной, дозволил ввозить европейские книги, объявленные прежде крамольными все до единой, учредил три новых университета, устремился отыскивать способы, которыми бы отныне утверждались законность и справедливость, объявил о намерении законом определить деяния самой власти верховной, ничем не ограниченной у нас никогда, положил себе целью предоставить свободу всем своим подданным, что в одной просвещённой Франции утвердилось единственно силой народного бунта и мстительным ножом гильотины.
Вещь несбыточная, невероятная: благие намерения подтверждались на каждом шагу. Отставлялись многие прежние крючкотворы и выжиги, которые, кляня порядки неслыханной новизны, толпами переселялись в ветхозаветную старушку Москву, на раздолье немой оппозиции, утопающей в сплетнях, в бостоне и в балах. На их место приближались новые лица. От новых лиц просил молодой государь совета в делах. Всюду ожидалось обновление русского общества, одни жили в страхе комическом, другие кормились надеждами — тоже комическими, как стало известно потом.
В самом деле, ни один государь во всей российской истории никогда не считался с законом — вдруг явилось самое слово: закон! Испокон веку просвещение у нас почиталось опасным государством и Церковью — вдруг учредилось Министерство народного просвещения! Крепостное рабство почиталось гранитным фундаментом российского гражданского бытия — вдруг явился указ о вольных хлебопашцах, которым разрешалось отпускать крепостных на свободу!
Алексей Фёдорыч, дядя, добровольный его воспитатель, в его уединённой комнате являлся по-прежнему часто, нападал, беспокойно изворачиваясь в кресле то туда, то сюда, на новых советников, избранных без его ведома государем:
— Что нынче творится на свете? Молодые люди, почти ещё юноши!
Он с усмешкой, уже тогда в иные минуты внезапно посещавшей его:
— Сказывают, Новосильцев сорока уже лет.
Дядя вскидывался и грозно пучил глаза.
— Что за возраст! А ты помолчи! К старшим никакого не стало у молодых уваженья! Ни к чему иному не ведёт новизна! Я тебе говорю: молодые, едва затвердившие понятия о теориях новейших французских писак, шайка бунтовщиков у подножия российского трона! Куды им до нас! Мы Екатерине Великой служили верой и правдой, мы осторожны да опытны, мы привыкли к обычному ходу вещей! Разрушать, что от века заведено? Да это восстание против святыни! Это французские штучки, дух конституции! Эти господа изволят опыты производить над Россией, долго ли тут до беды? Всякий день газеты разносят указы, всякий день являются учрежденья, быстрота равна единственно легкомыслию и невежеству молодых учредителей. И на чём, на каких принципах, основаны перемены? На идеях гипотетических, на несваренном чтении, вроде тебя, ты молчи, не подозревая о том, что опыты хороши в одной химии, однако в администрации, в законодательстве, в политической экономии прямо губительны!
Самая радость, какой было встречено воцарение нового государя, когда москвичи целовались на улицах, впрочем, от восхищения, что к ним воротилось право свободно следовать модам парижским, указывала ему, каковы были правление прежнее и прежние лица у трона, и пока что новые лица не поставляли себя выше законов, как прежние, отставленные от дел, отчего он язвил, возмущённый замшелым дядиным староверством:
— Подумаешь, республику Платона учредить решились в полудикой России?!
На что дядя, морщась точно от укуса змеи, отмахиваясь белейшей, изнеженной, пухлой рукой, украшенной тяжёлыми перстнями, сердито кричал:
— А ты помолчи, помолчи, не твоего ума дело! Лучше мне укажи, новые-то законы вводить для-ради какого рожна? У нас, слава Богу, законов достаточно. Плохи-то чем? Мне и при старых жить хорошо, уж поверь. Пожалуй, я соглашусь, что законы следует в больший порядок привесть, однако ж не больше, слышь, не больше того! И на что?
Он уж тоже сердился, в запальчивости тоже кричал, несмотря, что надворный советник и дядя:
— Славны законы, когда как ни в чём не бывало всюду несправедливость и произвол!
В изумлении вздёрнув седеющие мохнатые брови, дядя вопрошал с сердечной тоской:
— Вот я, сударь мой, как знаешь, в довольных чинах. Так это, выходит, несправедливо? Не хахалься, стыдись, лучше прямо скажи: несправедливо, по твоему разумению?
Александр продолжал улыбаться довольно язвительно. Какие резоны он мог против чина сказать?
В бездельной Москве страх перед новым порядком вещей был повсюду ужасно велик. О грядущем носились самые нелепые толки. Всякое новшество, даже пустое, тут же рождало недоумение или протест. В самом деле, беглецы из Петровой столицы о молодом государе передавали невероятные сведенья, решительно непонятные для матерых московских тузов, сроду не сделавших шагу без цугов:
— Представьте, ровно в один час пополудни выходит из Зимнего совершенно один, по Дворцовой не шибко идёт, у Прачешного мосту делает поворот на Фонтанку до Аничкова мосту, после возвращается Невским проспектом к себе! И всякий-каждый может сподобиться видеть его! И он раскланивается со всеми знакомыми, точно простой человек! И так всякий день! В одном сюртуке, в эполетах серебряных, в треугольной шляпе с султаном, надвинутой на левую бровь!
Со всех сторон неслись ошеломлённые голоса, наддававшие жару повествователю:
— Каков он, каков из себя?
Повествователь, вдруг ставший центром особенного внимания, поспешно и с видимым удовольствием изъяснял:
— Сутуловат, на мой вкус, близорук, всё щурится эдак, то и дело поднимает лорнет; лорнет привешен к кисти правой руки, вот, знаете, тут, вот где косточка у меня, я поглядел, а плечи округлые, лоб высокий, несколько обнажённый, глаза голубые, в глазах ровно бы какая-то грусть и задумчивость, я полагаю, Всевышнего воле благая покорность.
— И без конвоя? Один?
— Совершенно один.
— Боже мой!
Передавали ещё, что молодой государь отыскивает где ни придётся истинно просвещённых, истинно даровитых помощников, однако ж, к удивлению своему, мало кого удаётся найти, случись, как на грех, недород.
Ахали, злорадствовали, разводили руками, он же не видел ничего мудреного в этой горькой неудаче нововводителя. Далее сословие высшее, по его наблюдениям пристальным, серьёзно не училось почти ничему, твёрдо сберегая традиции прежних московских бояр, и ничуть не помышляло о благе Отечества, в чём, как он себе представлял, глубокой причиной именно служило глухое невежество.
Князь Вяземский, Андрей Иваныч[130], отвратившийся от общества непросвещённого, из принципа не бывавший нигде, с немногими, которых милостиво к себе подпускал, делился своими чёрными мыслями, а немногие, знакомые с идеей сохранения тайны, условиями доверительности лишь понаслышке, в тот же день разносили мысли чудившего князя по жадной до слухов Москве:
— Так говорит: отсутствие людей способных да просвещённых — вот черта нашего ничтожного времени. Бездарность и с ней вкупе нахальство, опасное даже при великих талантах, являются страшным пороком, облачённым в комизм оскорбительный. Впрочем, последнюю мысль невозможно понять. Далее говорит: отсутствие дарования объединяется с самоуверенностью неимоверной, шепчущей на ухо: мол, могу, да и баста! К тому всеобщая распущенность, забвение всего нравственного, всего честного и высокого. Это уж, князь, через край. Толкует: лишь бы нажиться, а каким путём — всё равно, лишь бы наслаждаться, лишь бы насытить самые низменные, самые животные страсти. Это уж клевета! Уверяет: у нас есть законы, однако ж беспрестанное противоречие одного и другого, особливо же наглость, с которой законам не повинуются именно те, кто их издаёт, открытое и нахальное лихоимство, безграничная роскошь, которая и есть первейшая причина всех зол, невнимание, даже презрение, с которым относятся к должности, ежели она многих выгод не доставляет, этого единственного для всех божества, перед которым решительно все преклонились, пороки, свойственные самой форме правления, самому строю общественному, которые разом поправить без опасности неминуемой невозможно, ибо пороки никогда не восходят снизу вверх, а нисходят сверху вниз. Тут необходимо нравственное воспитание целому обществу, о котором мы не имеем понятия. Далее нечто туманное: изучая историю, много размышляя над прихотливым ходом её, доходишь до того убеждения, что для государства, как и для отдельного человека, выпадают эпохи несчастные, когда при самых благих побуждениях не достигнешь и самых малых целей своих, даже наоборот, обнаруживаешь себя у прямо противоположно поставленной цели. Что бы это могло означать?
В самом деле, в уединённых размышлениях князя были резоны: вновь открытые университеты почти пустовали, не привлекая в свои гостеприимные стены довольно студентов. Сколько-нибудь даровитых русских профессоров в наличии обнаружилось до ничтожества мало. Молодой государь, сам принявший европейскую образованность от гражданина вольной Швейцарии, почитатель Руссо и Мабли, толковых профессоров распорядился выписать из просвещённой Европы, однако ж прибывшие немцы ни в какой мере не владели российским наречием, тогда как довольно многие из студентов не располагали столь обширно французским, чтобы разуметь предметы учёные, а не одну пустую светскую болтовню, не говоря уже о немецком или латыни, лишь немногим избранным доступных во всей своей полноте. К тому же в университеты вступать не имелось охоты, пристрастие к бескорыстному просвещению было явлением исключительным, повесы и недоросли предпочитали службу коронную или развесёлую, привольную жизнь, обогатясь заразительным примером отцов. Дошло до того, что Школа права, имевшая высокую цель поставлять русской службе понимающих дело юристов, необходимых для правильного исполнения хотя бы изданных в прежнее время законов, не набирала охотных для законоведенья слушателей.
Поразмыслив над странной прихотью русского просвещенья, молодой государь изволил распорядиться каждого, кто изъявит похвальную жажду определиться в столь несчастливую Школу, обеспечивать казённой квартирой, выдавать триста рублей содержания в год и поощрять четырнадцатым классом охоту к учению, однако ж и после объявления таких заманчивых привилегий явились слишком немногие, влекомые одним корыстным расчётом, а не иссушающей жаждой творить правосудие, так что у этих немногих при всём попустительстве педагогов не было обнаружено хотя бы минимальных способностей, надобных для прохождения курса, тогда как в Париже, в Сорбонне считалось до четырёх тысяч доброхотных студентов.
И в такое непостижимое время ему предаться нежной чувствительности, удалиться на мирное лоно сельской природы, в свой скромный домик, к ручейкам и лужкам, отворотившись от закостенелого мира, в котором пока что не принесла плода никакая свежая мысль, прозябать, ничего не жалея, кроме наслаждения сладкими звуками, чириканьем воробьёв да сознанием той крохотной пользы, какую изредка принесёшь, весьма заскучав, такому же погруженному в нежные страсти соседу?
Да никогда!
Наместо слезливого он желал иметь отважное сердце, наместо слабости духа, которая уводила в уединение и понуждала томно вздыхать при всяком восходе что-то нынче бледной луны, он жаждал прочной веры в себя, в торжество благородства и чести. Наместо расслабляющей меланхолии он желал действовать, бороться, побеждать и творить. Наместо жалостной лиры он предпочёл бы сжимать карающий бич. Наместо туманного Оссиана и Юнга[131], наместо чувствительного Карамзина он приходил в восхищение от язвительного Вольтера, от всеобъемлющего Шекспира и бесконечно мудрого Гёте. Наместо погруженного в тягостные сомнения Гамлета он влюблён был в могучего Просперо, однажды открытого в мало кем читаемой и почитаемой «Буре», и дорого дал бы за право сказать вслед за ним:
— Я всё устроил.
Не заунывные баллады Жуковского, клятва Фауста его приводила в восторг:
Пусть мига больше я не протяну, В тот самый час, когда в уединенье Прислушаюсь я к лести восхвалений, Или предамся лени или сну, Или себя дурачить страсти дам, — Пускай тогда в разгаре наслаждений Мне смерть придёт![132]И потому неуютно приходилось ему в вольном обществе нескольких юношей, приметных характером и умом, какими находил он Боборыкина, Дурново, Жихарева, Бурцева и Якубовича — слишком беспокойных и шумных, чтобы ему захотелось с ними поближе сойтись; тем более бежал он компании тугоумных, прозревавших смысл жизни в чинах да вдруг ни с того ни с сего бредивших об спасительном мраке гробов и кладбищ.
Он стоял в стороне и выглядывал пристально родимую душу, имея перед собой образец на страницах Плутарха и Корнелия Тацита, и не мог не увидеть, что Плутарх и Корнелий Тацит сделались настольными книгами едва ли не для него одного. Он жаждал тесно сойтись, да не с кем было тесно сойтись, и он почти ни с кем не сходился.
Пожалуй, Николай Тургенев, невысокий, хромой, был уже в те времена ему симпатичней других. По видимости, одинакая страсть испепеляла обоих: не сговариваясь, вдохновлялись они образом и примером Вольтера. Впрочем, Николаю Тургеневу представлялась истинной мысль, которой вполне разделить он не мог: что причиной мятежа и террора явились Вольтер и Руссо, об чём однажды категорически кратко Тургенев ему сообщил:
— Я приметил из сочинений Вольтера, что он много, по крайности, способствовал этому.
Он готов был распространиться о благодетельной власти ума просвещённого, которой пленял Вольтер своих современников, да Тургенев слишком скоро его обрывал, перескакивал от Вольтера к Жуковскому, и он не умел слушать без смеха, когда румяный, совсем ещё юный молодой человек ни с того ни с сего принимался его уверять, будто жить оставалось немного и будто близость земного предела нисколько не печалит его, что-то вроде того:
— Я не предвижу, чтобы мог быть счастлив и весел. Меня не прельщает ничто. Надеюсь как-нибудь в забвении провести годы юности и буду этим доволен. Но долго ли продолжится юность?
Что за вздор! Не желая выслушивать несуразности заблудившейся мысли, он слишком подолгу оставался наедине с любимыми книгами и, может быть, легко сделался бы совсем нелюдим, да, по счастью, душа его излечивалась театром и музыкой. У сестры его Маши открылся неподдельный талант, матушка, не жалея расходов, пригласила к ней лучших московских учителей, он, в свою очередь, выучился на фортепьянах от Маши, сам себя услаждал и то и дело сбегал на концерты: благо в Москве концерты давались чуть не во всех родных и знакомых домах.
Полнейший и лучший оркестр имел Всеволожский, Всеволод Андреич, богач, чуть не дворец на Пречистинке, в роскошестве жил, знаком всей Москве, гостеприимен, приветлив, вся московская знать набивалась в концертную студию, мало того, в четверги разыгрывались квартеты лучшими музыкантами, какие на этот час случались в Москве, первую скрипку держал одно время Роде, смещённый Дальо, альта вёл Френцель, виолончель Ламар, чудо как хорошо. Второй по силе оркестр принадлежал, без сомнения, Дурасову, несметному богачу и столь же несметному моту, владельцу сказочных причуд Люблина и к тому же отличного крепостного театра. Славный оркестр, хоть и силой пониже, имел Цианов, первостатейнейший враль, беспечнейший хлебосол, ухлопавший на обжорство званых обедов шесть тысяч душ.
Театры чуть не на каждом шагу. На первом месте, разумеется, считался казённый театр, владевший замечательной труппой, большей частью приобретённой за немалые деньги у Столыпина и Волконского, Михаила Петровича. Апраксин, Степан Степанович[133], привёз из Смоленска, которым правил в качестве генерал-губернатора, своих подневольных актёров, свою подневольную музыку и устроил на широкую ногу славный дом на углу Знаменки, выходящий на Арбатскую площадь. Затем Иван Александрович Загряжский, окружённый пышностью и привычками роскоши, благоприобретенными при штабе Потёмкина, которого был любимец и собеседник, привёз собственную балетную труппу в Москву и поместил за известную плату в Немецкий театр. Да и сам Нарышкин, Александр Львович[134], императорских директор театров, славный как блестящим образованием европейским, так и дурачествами вроде того, что раскуривал трубку свою не иначе как воспламенёнными ассигнациями, балагурством на царских обедах, выслуживший тысячи душ и бриллианты чуть не пригоршнями, расточитель и мот, тоже отпускал актёров своих на оброк по московским домам, а чаще театральному ведомству, которым сам управлял.
Его театробесие скоро стало известно. Матушка возмущена была расточительством бесценного времени, потребного ему на уроки, но промолчала. Антон Антоныч ласково щурился, выговаривал по-отечески мягко:
— Вот каковы-та студенты у нас, на лету всё-та ловят, а кабы поменее-та по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали.
Тем и кончилось, как у Антона Антоныча кончалось всегда, лишь бы порядок в пансионе держался, как прежде, патриархально, благообразно, с тихим успехом, который хитроумный инспектор умел-таки превратить в гром и в парад, в утешение и восторг охочей до парадов Москвы.
Александр же был без ума от тяжеловесного русского классицизма с его громокипящим хромающим александрийским стихом, с пристрастием к высокозвучным, уже выходящим из употребления славинизмам и старорусским речениям, в особенности с предпочтением высокого низменному, героического вседневному, подвига дрязгу, с его преклонением перед трагедией как жанром, самым достойным и благородным, пробный камень дарований Создателя, в чём он уже никогда не сомневался с тех пор.
Однако ж и тут его светлейшие чувства были отравлены ядом чуть не смертельным. Слишком скоро обратил он внимание на некоторую странность наших театральных афиш. Обыкновенно в афишах перед именем актрис и актёров ставилась известная буковка «г», что означала почтительное, достойное обращение «госпожа», «господин», однако ж перед иными, чуть ли не многими, этой маленькой буковки не имелось, а все известные, с большим дарованием были актёры: Уваров, Кураев, Баранчеева, Волков, Лисицина. Что за притча? Отчего к ним такая немилость? По какой причине публично разделяли на два класса людей, которые в глазах его были чуть не братья на сцене, отличные один от другого лишь мерой и степенью своего дарования?
Он, конечно, узнал, ни для кого на Москве эта подлость была не секрет. Никчёмной буковкой отличали свободных от крепостных, сданных в аренду просвещёнными их господами, на которых чуть не молилась Москва. Участь этих сданных в аренду бывала отвратительна, даже ужасна. В наказе театральной дирекции предписывалось поступать с ними как с собственностью, что означало, иными словами, телесное наказание за ослушание или ошибку на сцене, а они ошибались изрядно. Сердобольный директор из принципа просвещённого гуманизма рекомендовал родителям подвергнуть провинившегося строгому наказанию, однако ж келейно, из уважения к званию. Не все родители изъявляли желание на экзекуцию из собственных рук, да не у всех и родители к тому времени оставались в живых, в таком случае виноватого отправляли на съезжую. У Всеволожского, Дурасова, Цицианова, Апраксина, Нарышкина, Столыпина или Волконского просто-напросто секли на конюшне. В Хмелите, как он допытался, актёров дядиных тоже секли. Недаром «Северный вестник» задавался вопросом прямо трагическим:
«Может ли Баранчеева при хороших способностях быть хорошей актрисой? Пусть другие рассудят, а не я. Заключи Рубенса, Гаррика в крепостные, они не были бы славою своего отечества...»
Имея воображение пылкое, сердце чувствительное ко всему вдохновенному и тайную склонность к перу, он некстати и вдруг осознал, что там не могут истинно уважать ни певцов вдохновенных, ни гениев сцены, ни равных Шекспиру и Шиллеру сочинителей пьес, где достоинство исчисляется количеством орденов и рабов. Сквозь зубы он иногда говорил:
— Явись в России Гомер, его бы Шереметев затмил — счастливый владетель Останкина, однако ж вельможа и скот. У нас похабные оргии старца Юсупова, придворного подлеца, славнее спектаклей Шекспира.
Уже мученье пламенным мечтателем быть на Руси коснулось его. Как потерянный бежал он от этих раззолоченных зал, бродил в одиночестве или смешивался с простонародьем во время гуляний в Сокольниках, под Новинском, на Девичьем поле. Народ и в праздники был страшно беден, скверно одет, к тому же любил-таки хватить лишнюю чарку простого вина и поглощён был одними примитивными животными нуждами, однако был весел и бодр, остроумен и жив, перекликаясь и зубоскаля на таком ядрёном, образном языке, что у него то и дело скулы сводило от зависти, и с горечью он думал о том, уже затемно возвращаясь домой, сколько мог бы великого, славного, может быть, фантастического произвести этот юный, этот ещё первозданный народ, получи он свободу во всём и на всё, предоставленный не барам и господам, а единственно себе самому!
Что же он? Сделаться Шереметевым или Гомером, попасть в Юсуповы или в Шекспиры? Оставаться мечтателем пламенным или пуститься на добычу орденов и чинов, Останкина и Юсупова сада? Чему учили, к чему призывали его?
И когда приблизился в очередь полугодичный акт пансиона, которые с таким блеском и жаром речей устраивал проворный Прокопович-Антонский, он без колебаний решил, что все три года, проведённые им в пансионе, потеряны были напрасно; что ему, чтобы не сделаться ни Шереметевым, ни Юсуповым, ни Измайловым, ни Храповицким, ещё только предстояло истинно себя просветить и что, как он пренаивно тогда полагал, ему необходимы настоящие университетские лекции, — чтобы приобрести хоть сколько-нибудь приличные сведения и ни в чём на самом деле не походить на почтенно-развратное московское барство.
Матушке не терпелось определить его в статскую, а лучше в военную службу. Она не чаяла дожить поскорее до лет, когда её первенец, ради жизни которого ей пришлось пожертвовать честью, тоже станет, по примеру и при помощи дяди, бригадиром или надворным советником; однако ж она — непреклонная женщина, ни в ком не терпевшая своеволия, ни в какой даже малости не смела противоречить ему.
К тому времена наступили суровые, когда в службе, так чтимой военной, приходила надобность самую жизнь положить. Вся Москва кипела необыкновенным волнением: как раз вышел рескрипт о войне. Ненависть к французам, ненависть к Бонапарту росла с каждым днём, любовь к молодому государю, поднимавшему меч, доходила до обожания, из уст в уста перелетали вести о том, что вот-де государь наш прибыл в Берлин, затем почтил своим пребываньем Потсдам, затем в Саксонии, именно в Дрездене, поставил свою штаб-квартиру. Князь Пётр Иваныч Одоевский нарочно снял небольшую квартирку прямо против почтамта, единственно для-ради того, чтобы собственными глазами следить приходящую почту и, поймав почтальона, первому, за червонец и более, получать известия самые верные прямо с театра войны, которые тотчас сам развозил своим цугом гнедым по близким знакомым да в Английский клуб, вечный штаб любознательного московского барства, где вкруг него в мгновение ока прилепливались целые толпы отставленных министров, сенаторов, камергеров, а следом за ними прочего бродячего праздного люда. Казалось, одушевление патриотизма достигло предела. Какой-то помещик, прапорщик отставной, толстый телом и голосом, в величайшем раздражении на подлых французов в Английском клубе гремел:
— А подайте мне этого мошенника Буонапартия! Я его на верёвке в клуб приведу!
Заслыша сию жестокую похвальбу, Писарев, Иван Александрыч, скромнейший тихоня, только что воротившийся из деревни, в которой благодушествовал в полном неведении касательно злодейских проделок Буонапартия, тихонечко вопросил Василия Львовича Пушкина на ухо, не известный ли это какой генерал подымает на треклятых полки, и ежели генерал, так в какой дивизии этакий бравый государеву службу служил? Василий Львович ростом стал выше вершком, приосанился, лихо сверкнул озорными глазами, точно генералом-то истинным был именно он, и экспромт обронил:
Он месяц в гвардии служил И сорок лет в отставке жил, Курил табак, Кормил собак, Крестьян сам сёк — И вот он в чём провёл свой век!Натурально, экспромт часа в три разлетелся по всем гостиным Москвы, в одном ряду с историей Мака — генерала австрийского, дурака, и осады неприступной будто бы ихней крепости Ульм. Москвичи пылали жаром полной и скорой победы. Во всех умах коренилась твёрдая вера, что кампания окончится первой же схваткой наших чудо-богатырей с неприятелем, позабывшим себя. Лишь самые осторожные, большей частью из молодых, поклонники гения Бонапарта предполагали вполголоса по углам, что одним выигранным сражением эта кампания не окончится. На рауте у князя Несвицкого исчислялись все свойства военачальника истинного, нынче, за смертью Суворова, присущие одному Михаиле Кутузову: ум, необыкновенное присутствие духа, величайшая опытность и ничем непоколебимое мужество. Припоминали при этой оказии, что сам Александр Васильич, гений бесспорный, именовал фельдмаршала своей правой рукой. Ожидали чего-то необычайного. Главнокомандующий Москвы принимал у себя во всякое время, в его гостиных яблоку негде было упасть. Граф Ростопчин, остроумец известный, всех и каждого уверял, что русская армия теперь такова, что не понуждать её надо, а скорее удерживать воинский пыл, и если что может заставить страшиться за неё иногда, так это излишняя храбрость, запальчивость даже в бою.
— Нашим солдатам стоит только сказать: «За Бога, за Царя, за Русь святую!» — так они без памяти бросятся в бой и ниспровергнут и не такого врага.
Впрочем, матушки, слыша естественный ропот натуры, тревожились за детей, кровинку свою, служивших все в гвардейских да в армейских полках. Одна Настасья Офросимовна[135], у которой числилось в гвардии разом пять сыновей, разъезжала по знакомым домам и уговаривала подруг не дурачиться:
— Полно, что вы, плаксы, разрюмились? Будто уж так Бонапарт и проглотит наших-то целиком! Чать, на всё есть воля Божия, и чему быть, так того не минуешь. Убьют так убьют, тогда и наплачетесь.
Затем слухи разом сделались тёмными. Старички съезжались у Орлова, у Остермана. Митрополит прибыл из Троицкой лавры. В Английском клубе Долгорукий, Валуев и Марков садились особняком и подолгу об чём-то шептались, вызывая во всех завсегдатаях любопытство неутолимое. Дмитриев, Карамзин, князья Оболенские сбирались к князю-затворнику Андрею Петровичу Вяземскому, у него непременно заставали Нелединского с Обресковым, углублялись в историю войн, ожидали. Москва вострила уши, смекая, что вот-вот, не успеешь глазами моргнуть, непременно нечто важное должно было стрястись.
И стряслось. Наконец разразилось известие о жестоком разгроме Аустерлица. Подробностей поначалу не донеслось никаких, только мрачно гудел большой колокол Ивана Великого. Однако ж день ото дня известия из армии становились определённей. Оказалось: полки бежали, расстроив ряды, батареи злодея, поручика артиллерии, ядрами били по неокрепшему льду, на котором сгрудились, отступая, наши потерявшие голову чудо-богатыри, так что многие потонули в холодной воде.
Притихла Москва, избалованная громом непрерывных побед, одержанных русским оружием доблестным на протяжении полустолетия. Призадумались старички, припомнили Очаков, очищение Крыма от диких татар, флот Севастополя, Потёмкиным внезапно открытый Екатерине Великой да вместе с ней всей свите иноземных послов, коварно против нас замышляющих как в нынешние, так и в прежние времена; указали на всегдашние измены поляков, австрийцев и немцев, которых мы же обороняли штыком и картечью на бессчётных европейских полях. Москвичи ожидали, что они предскажут на будущее. Старички порешили между собой, что нельзя, таким образом, чтобы мы во всякое время знали одни только громы побед, поговорка недаром гласит: «Лепя, лепя и облепишься», а мы столько лет лепим и столько уже налепили, что почти вдвое расширили пределы прежде утеснённой России, обрезанной степью да немцами. К тому же, прибавляли со строгостью в голосе, австрияки виноваты во всём — басурманы; а в котором случае мы действовали одни, так действовали беспримерно прекрасно, недаром и чудо-богатыри. Указывали на вид, что мужеством князя Багратиона спасён арьергард и вся армия спасена. Вестимо, потеря в людях немалая, да у нас народа достанет не на одного Бонапарта: народом берём во все времена, и не нынче, так завтра русским штыком подавится Бонапарт окаянный.
Москва тотчас воспрянула духом. В Английском клубе в один вечер было выпито более ста бутылок шампанского, все за чудо-богатырей. Однако ж, едва головы освежели после старичков и шампанского, стало понятно, что кампания затянулась и что предстоят новые и немалые жертвы, а дети московские большей частью в полках, по статской-то мало кто шёл, вот теперь и гляди.
В самый разгар этих внезапных и суровых событий в благородном пансионе прошёл полугодовой заключительный акт. Экзаменаторы спрашивали только известное, экзаменуемые твёрдо отвечали заученное; представляли судебное действие, поставленное попечением Горюшкина, в котором никакого действия не обнаружилось; полюбовались рисунками, которые составлял, под видом лёгкой поправки работ, рисовальный учитель Синявский; разыграли на клавикордах те же музыкальные пьесы, которые разыгрывались со дня основания пансиона, лишь бы с такту не сбиться; протанцевали тот же балет, который старик Морелли поставил четверть века назад; «Благость» Мерзлякова[136] читали, «Гимн истине» Грамматина с поправками Жуковского и очень несчастливое «Счастие» Соковнина произнесли наизусть. Тузы московские осыпали комплиментами Антона Антоныча. Антон Антоныч с приятной улыбкой передавал комплименты профессорам и даже воспитанникам. Большей половине участников торжества, тем, что из самых видных семейств, в ознаменование замечательных знаний, полученных благодаря усердию Антона Антоныча, вручили награды. Акт прошёл как и всегда.
Александр награды не получил, может, оттого матушка согласилась, чтобы он слушал лекции философского факультета; может, гром пушек напугал её чуть не до смерти; может, быть, ещё оттого, что числилось ему по бумагам всего десять лет, — куда ж его было девать?
Антон Антоныч вопросил с укоризной:
— И ты со всеми, бросаешь меня?
Ему сделалось жаль старика, он едва слышно промямлил:
— Да, ухожу.
Антон Антоныч печально взглянул, должно быть страшась, что, чего доброго, не нынче, так завтра останется в родном пансионе один.
— Как Митрофан-та: не хочу учиться, а хочу жениться?
Он возразил серьёзно и твёрдо:
— Нет, я учиться хочу.
Взгляд Антона Антоныча вдруг прояснился:
— А стихи-та новые Жуковского знаешь?
Он ответил чистосердечно:
— Не знаю.
Антон Антоныч головой покачал:
— Что так?
Александр в дискуссию вступать не хотел и обронил то, что первое явилось на ум:
— Досуга часа не имел.
Антон Антоныч вздохнул:
— Вот то-та, все мы гордецы.
Наставил:
— Для этакой благодати досугу-та нада, нада иметь.
Возвысился:
— Отрок, внемли!
Звучно, видимо наслаждаясь, прочёл:
Поэзия! С тобой И скорбь и нищета теряют ужас свой! В тени дубравы, над потоком, Друг Феба с ясною душой, В укромной хижине своей, Забывший рок, забвенный роком, Поёт, мечтает — и блажен! И кто, и кто не оживлён Твоим божественным влияньем?[137]И далее стихов ещё двадцать — что-то чудное, всего-то ради лапландец, следом оратай, должно быть, славянин, который, на плуг наклонясь, в этакой позе, представьте себе, распевает про лес, про луг и отчего-то про сладость зимних вечеров, а окончивши пение, засыпает мирно в полночь, не помня свой пролитый пот на бразды, с какой-то радости, дикие.
Не примечая всех этих нелепостей, сочинённых поэтом, Антон Антоныч вздохнул глубоко, заключил растянуто, чуть не со всхлипом:
— Лепота.
Хитро покосился и адресовался другим уже голосом:
— Не по нраву тебе?
Александр чуть не расхохотался на эту разнеженность сердца, столь искательного, приладистого к житейским делам, да вдруг пожалел старика и поддел лишь слегка:
— Отчего ж... Вот разве что в наших селеньях започивают до полуночи весьма далеко, часов эдак после семи, чтобы лучину понапрасну не жечь, да с петухами встают.
Антон Антоныч губы поджал, помрачнел:
— Экий, братец, занозистый ты. Аттестат изготовить велю, Христос с тобой. Да съезди в Донской, уважь старика, молебен проси отслужить, дабы Господь вразумил.
Он молебна в Донском не служил, не разделяя высокого мнения Антона Антоныча о феноменальных способностях брата-архимандрита, однако ж с аттестатом представился прямо Чеботарёву[138], как предписывалось университетским уставом. В аттестат Чеботарёв взглянул нехотя, мельком, отложил в сторону лист, ни об чём не спросил, выдал табель, исполненный по-латыни, предварительно обозначив крестиком лекции, которые обязывал его посещать. Тем и окончилась церемония его поступления под своды храма науки на Моховой, точно он перешёл из комнаты в комнату. В университете считалось не более двухсот человек, и всякому новичку были рады, тем более с аттестатом благородного пансиона университета, в своём роде меньшого брата.
Впрочем, и без аттестата принимали без особых хлопот. Тогда же прибыли из деревни его кузены Лыкошины: Владимир и Александр, в сопровождении гувернёра — немца Мобера, на пансион сговорились к профессору Маттеи, что-то за тысячу рублей с небольшим. Маттеи пригласил к обеду человек пять-шесть коллег, тоже немцев, в их числе Гейма и Баузе. Обедали мирно. Подали кофе, десерт. Профессора предложили Моберу сделать небольшой экзамен своим подопечным. Владимир был спрошен о том, кто был Александр Македонский и каково именуется столица французов, на что Владимир отвечал довольно уверенно и был включён в товарищество студентов сразу после обеда, а между тем не имел понятия о русском правописании. Меньший брат залился слезами, едва заслыша вопрос, тем не менее получил от ректора табель, по-латыни не понимая ни звука. А эти, как Александр увидел потом, ещё были из лучших.
Несмотря на такие чрезвычайные послабления, студентов на словесном отделении обнаружил он слишком немного. Большей частью под гостеприимные своды на Моховой поступали безусые мальчики, которым юный возраст не позволял ещё определиться на службу. Безусых мальчиков заветной мечтой, как и безусых мальчиков благородного пансиона, была гвардия, полки Преображенский, Семёновский, конногвардейский, завлекавшие воображение необширное не одним только мундиром, в самом деле блестящим, но и приятной возможностью браво служить на виду государя, не обременяясь тяжким грузом тёмных наук, до которых отцам-командирам ни малейшего не было дела, оттого на артиллерию, на Генеральный штаб, на инженерную часть глядели с открытым пренебрежением, чуть не с презрением, по русскому нежеланью учиться. Немудрено, что безусые мальчики большей частью весело жили, всей душой предаваясь проказам и танцам. Одни семинаристы, уже брившие бороды, крепкие латинисты, хватившие всласть риторики и берёзовой каши, учились прилежно, поскольку не имели доступа в гвардию, да и в армию далеко не всегда.
Однако ж чему и эти могли научиться? В университете едва проклюнулось новое время, и это новое время было прискорбным. Под предлогом высших наук профессора излагали самые элементарные сведения, не на большие расстояния отошедшие от славного запроса о столице французов, затверженные лет тридцать назад; излагали без всякого метода, не прибегая даже к последовательности, косноязычно и вязко.
Тут развёртывалась обыкновенная российская драма. У профессоров не имелось ни надобности, ни вдохновения следить за последними успехами выбранной ими науки. Профессора, как водится, искали чинов, иное прочее не подстрекало громадного их честолюбия. Немудрено, что любви к науке профессора не имели, успехи преподавания не шли им в зачёт, начальники любили смиренных, чинами награждалась покорность, да и кем в целом обществе уважалась наука? Никем! Оттого и жалованье назначалось самое скудное, от шестисот до семисот рублей в год; один Чеботарёв отхлопотал себе тысячу триста; следом Страхов целых две тысячи, да и тот за исполнение разом двух должностей, так что и тут сказывалась плата бесчестная.
Чеботарёв, Харитон Андреич, явился первым добровольно избранным ректором, однако ж скорее по летам преклонным, чем по громким учёным заслугам. В годы былые Чеботарёв и в самом деле несколько потрудился на этой скудно ещё у нас вспаханной ниве, издал «Географическое методическое описание Российской империи», перевёл «Всеобщую историю» Фрейера, приложивши «Краткий российский летописец» к изданию, составленный по Ломоносову, из русских летописей делывал выписки для «Записок о древнейшей русской истории», которые предприняты были по монаршему повелению Екатерины Великой, затем был страстный гонитель Фонвизина на посту цензора, целой сворой самых нелепых придирок излаял знаменитого «Недоросля», в последние годы составлял свод всех Евангелий, вышедший под неказистым заглавием «Четвероевангелие», числом в шестьсот экземпляров, с посвящением государю — однако ж в два года издание едва разошлось. Необходимо признать, что и к шестидесяти годам своим Чеботарёв не утратил рассудительности историка, отличался примерною честностию, добродушием, простотой, обходился со всеми по-дружески, говорил всякому «ты», однако ж незавидное положение учёного в обществе, составленном из отпетых и самогордящихся неучей, равнодушие, даже презрение большинства к учёным трудам, наконец нищета и преклонные лета глубоко утомили его; Чеботарёв пристрастился к чрезмерным вакхическим действам и ввечеру окончательно погружался в свой собственный отуманенный мир, так что обыкновенно не представлялось возможности оттуда его извлекать, разразись хоть пожар; в бессмысленные эти часы странно было глядеть, как старый профессор, облачённый в протёртый длиннополый сюртук, по невниманию обутый в сафьянные спальные туфли, в треугольной шляпе с плюмажем, с простой, необделанной палкой, какой гоняют собак, отправлялся в обход по дортуарам казённых студентов.
Нечего причин объяснять, отчего на посту ректора Чеботарёва вскоре Страхов сменил, Пётр Иваныч, серьёзный учёный, оратор, по поручению Новикова прежде переводивший «О заблуждениях и истине» — мудреный трактат Сен-Мартена; «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» Бертелеми; затем определившийся в профессора опытной физики, любимый студентами, любившими наблюдать его опыты, славные неподдельной наивностью и простотой.
Снегирев, Михаила Матвеич, излагал историю философии, а также историю Церкви, под видом значительных сведений множеством анекдотов и соблазнительных повествований разного рода наполняя свой тощий курс.
Сандунов, Николай Николаич, профессор-юрист, не раздобывшийся серьёзными сведениями, поскольку науку сам презирал от души, отвергая самую возможность и полезность её, законодательство российское изведал практически, в службе приобрёл клад бесценный, собрание наших нелепостей, и заманчиво, весело, живо передавал своим тоже неизменно веселившимся слушателям немыслимые судебные казусы, из которых в России, по его уверению, составлена вся судебная практика с древнейших времён; сеял зёрна и сеял, не помышляя о том, что сеял зерно за зерном вольномыслие — извольте не сбеситься от его повестей:
— Харьковского помещика обокрала дворовая девка и с крадеными вещами благополучно сбежала. Помещик объявил о побеге и покраже вещей. Девку, известное дело, поймали, взяли под караул, представили в суд. Нуте-с, извольте видеть — девка смазливая, у судьи же сердце чувствительное, ибо сказано: се человек. Чувствительное сердце потребовало красавицу оправдать, и судья красавицу оправдал, не справляясь со сводом законов. Хитроумнейший, надо сказать, сочинил приговор: «А как из учинённого следствия оказалось, что означенная дворовая девка, Анисья Петрова, вышеозначенных пяти серебряных ложек и таковых же часов с табакеркой не крала, а просто взяла и с оными вещами не бежала, а как только пошла, то её, Анисью Петрову, от дальнейшего следствия и суда, как в вине не признавшуюся и не изобличённую, освободить навсегда». Харьковский помещик, таким манером, с носом и остался. А вы говорите: закон!
Черепанов, Никифор Евлампиевич, профессор всеобщей истории, семинарист, переложивший с французского и немецкого несколько скудных числом страниц и мерой ума учебных пособий, устаревших за древностью лет, ныне читавший по Шреку; в рыжем, коротко остриженном парике, в полинялом коричневом форменном фраке, в брюках ядовито-жёлтого цвета, в жилете невиданной пестроты, весь в пятнах жира и соусов, немытый, с не бритой неделями бородой, простак, со смирением ангельским, несвязно и путано толковал о вавилонских, ассирийских, индийских и персидских монархиях, вяло, длинно, монотонно, голосом точно из гроба, и вдруг изъяснял, не подняв от записок своих головы:
— Милостивые государи, с позволения вашего, Семирамида была великая блядь.
Славен же он был между молодыми людьми изречением, которое со смехом любили они повторять:
— Оное Гернеренево воздухоплавание не столь общеполезно, сколь оное финнов Петра Великого о лаптях учение есть.
Мягков, Гаврила Иваныч, своим домком на Мясницком валу предовольный весьма и весьма, ввечеру услаждался игрою на арфе, студентов приглашал в свои чертоги на пунш, на лекции влетал застёгнутым наглухо, по самое горло, затянутый в какой-то несгибаемый галстук и не своим голосом выкрикивал пункты фортификации, на философский факультет затесавшейся неведомо для чего:
— Господа! Об артиллерии! На поля!
Цветаев, Лев Алексеич, профессор уголовного и римского права, приверженец строгой французской догматической школы, по всякому случаю выражал пожелание, чтобы законы были одинаковы для всех граждан, видимо забывая о том, что сперва надобно граждан иметь, затем с той же бестуманной наивностью распространялся о законности рабства, ибо надобно помнить, милостивые государи мои, — тут очи непременно горе, — что некоторые обещались тому-другому служить в продолжение своей жизни и с потомством своим; с той же чистотой и невозмутимостью в голосе нередко бранился, приплетаясь чёрт знает к чему:
— Многие молокососы, скачущие в каретах, своим форейторам дозволяют бить бедных простолюдинов на улицах, несмотря, однако, на то, что полицейские чиновники стоят на улицах сами.
Действительно одарённым был, пожалуй, один Мерзляков, недаром хор приверженцев пел его гениальность, профессор красноречия, домашний учитель братьев Тургеневых, державший на пансионе Ивана Якушкина, дружный с Жуковским, пермяк, приземистый, с плечами широкими, с открытым лицом, приглаженными блестящими волосами, нежный сердцем, горячий душой, доверчивый, прекрасный поэт, переводчик мечтательных и нежных идиллий и знаменитейших латинских поэтов, которым выпала честь впервые явиться по-русски в прекрасных, звучных и сильных стихах; чрезвычайный почитатель Хераскова, в большом обществе диковатый, неловкий и странный; в тесном, дружеском круге простодушный, открытый, за нескудеющей чашей свободный, увлекательный и живой, блестящий импровизатор, несколько сбивчивый теоретик искусства, уверявший, с одной стороны, что изящные искусства строгим правилам не подвержены, не могут иметь установленной прочно системы и оттого без врождённых способностей сделаться сносным поэтом нельзя; однако ж, с другой стороны, полагавший, что свод правил строжайших для изящных искусств необходимо иметь и что знание правил пиитики весьма много способствует к развитию врождённых способностей, в особенности к лучшему их направлению, придавая врождённым способностям стройность, совершенство и блеск; объявлявший, что истинную силу настоящего красноречия составляют не ум, не логика, не обширность познаний, даже не верно поставленный голос, а единственно непоколебимое убеждение оратора в том, в чём убедить пожелает других.
Взобравшись на возвышение кафедры, Алексей Фёдорыч лучшим образом подтверждал своё убеждение, тотчас весь проникаясь предметом, о котором выпало волей судьбы говорить, охватывался дивным роем внезапно налетевших идей, слегка заикался, не рыскал по сусекам в поисках подходящего слова, но тотчас выражал мысль свою красочно, живо, неподдельно и убедительно хоть на минуту:
— В предыдущем чтении своём, милостивые государи мои, старался я доказать, что искусство и успехи в стихотворстве предполагают и великие таланты, и великие труды, а также опровергнул нелепое мнение тех, которые смелость берут утверждать, что стихотворцу не нужно ученье и что талант его всё заменяет сам собой. Подкреплю мысли мои словами знаменитейшего поэта, столь отлично своё искусство постигшего:
Лучшую вещь создаёт ли природа или искусство? Вот вопрос. Но не вижу я, что без талантливой жилы В силах наука создать или даже талант без искусства.Пламенным взором обегал слушателей, равнодушных большей частью к искусствам, приверженных к высоким чинам, и торжественно, звучно гремел:
— Каковы же сии исключительные таланты, отличающие питомца, любимого музами? По какому знамению допускается он к таинственному источнику Иппокрены и восходит на крутую гору Парнас, для тех недоступную, которых Минерва, в минуту рождения их, не осветила благодетельною своею улыбкой?
На кого в час рождения, Мельпомена, упал взор твой приветный...Не освещённые благодетельной улыбкой Миневры пучили изумлённо глаза, туго соображая, чудак перед ними или ясновидец, тогда как счастливый вдохновеньем профессор, не примечая, перед кем именно расточает отборные перлы своего красноречия, превращался в пророка:
— Все измеряющие учёные, которые иногда, подобно человекам Вольтеровым, гнездящимся на ногте Микромегаса, дают системы тому, чего сами не постигают, обыкновенно способности души нашей делят на два рода, на низшие и высшие. Одни называют умственными, другие чувственными; первые оказываются во всех высоких, или так называемых основательных, науках, последними занимается эстетика, или наука вкуса, ибо все творения, по словам сих учёных, имеют целию воспламенить воображение и чувства. Мы благодарны господам учёным. Господа учёные нехотя уступают нам многое. Это значит — дают художникам и стихотворцам Амуровы стрелы, от которых иногда кружилась и выспренняя голова великого Юпитера. Когда воспламенено воображение, тронуто сердце, тогда что значит гордость холодного ума, облачённого в броню силлогизмов? Не будем спорить и рассмотрим удел наш. Память и воспоминание, способность растить идеи или сочленять их, воображение, чувствительность и энтузиазм, разум, рассудок, ум, доброта сердца и вкус — вот таланты, из коих каждый более или менее участвует в произведениях изящного, и всё, по различному смешению своему, составляют различия между гениями. В поэте воображение и чувство должны господствовать, но если разум не управляет ими, если не примет на себя труда быть скромным, невидимым их путеводителем, то они теряют настоящую свою дорогу и заблуждаются. Острый ум и есть глаза гения, воображение и чувство есть его крылья. Державин в разобранной мною оде имел орлиный взор и, при всех видимых отступлениях, стремился быстро к солнцу. А господин сочинитель драмы[139], который заставил страстного любовника в часы самые опасные отчитывать длинным монологом утомившуюся свою любовницу, кажется, в этом случае имел только крылья без глаз. И то надобно сказать, что все упомянутые мною способности не суть необходимые для каждого рода поэзии, но ум везде воздействует. Ум ложный искажает все таланты, ум поверхностный, мелкий не умеет ни одним из них пользоваться. Но! Сохраним порядок, принятый нами. Я имел честь сказать, что каждое изящное искусство в особенности занимается чувственными способностями нашей души, хотя оно в то же время действует и на высшие силы нашего ума. Что же принадлежит к чувственным, или низшим, способностям нашей души?..
Живое, крупное слово, в котором жаром пылала неподдельная любовь к изящным искусствам, порой одушевляло даже не освежённых трепетной улыбкой Минервы; освещённые же потрясались благоговением, и одна такая лекция приносила больше здоровых плодов, чем все прочие лепетанья смехотворных невольников просвещения, а блистательный, умный разбор какой-нибудь оды Ломоносова или Державина обнажал такие заветные, невидимо разлитые в звуках и рифмах тайны многоликой поэзии, что уже и в творениях любого другого поэта, не потревоженного страстным анализом Мерзлякова, явственней проступало тревожное обаяние гения, если, разумеется, в наличии гений имелся.
Да в том гнездилась беда, что, непоследовательный во всём, сам нередко пренебрегая и наукой и разумом, к тому же несклонный к усидчивым, кропотливым трудам, слишком пристрастный любитель китайского чая с прибавлением крепчайшего напитка с Ямайки, причём с каждым стаканом пропорции изменялись в пользу последнего, — Алексей Фёдорыч вспоминал об лекциях в самый последний момент, впопыхах выбирался из своего любимого покойного кресла, выхватывал с полки шкафа первый подвернувшийся том, уже на возвышении кафедры раскрывал его наугад, читал слишком громко, возбуждённый русской смесью китайского аромата и ямайского зелья, не менее того опозданием, сверкнувшие из страницы стихи и с раскалённым лицом импровизировал толкование, порой залетая в такие непроходимые дебри, из которых благополучно выдирался далеко не всегда, а бывало, и вовсе не находил дороги на возвышение кафедры, сражённый где-нибудь на пути предательским дружеством с Бахусом.
Довольно понаглядевшись на нестройное полчище доморощенных наставников ветреной юности, Муравьёв, Михаила Никитич[140], определённый на пост попечителя, — ум глубокий, истинно просвещённый, — перезвал в Москву одиннадцать профессоров из Германии, надеясь подвинуть вперёд позастоявшееся дело российского просвещения. Казалось, правота его была несомненной, поскольку многие из принявших любезное его приглашение имели действительные заслуги перед европейской наукой, однако ж, как приключается с поразительным постоянством, вино немецкое, может быть, в высшей степени полезное немцам, разом и в немалом количестве влитое в русские мехи, возымело действие весьма неожиданное.
Повесы и недоросли, к тому же в нежном возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, немецким языком не владели, исключение составлялось человек из пяти, из шести. Опешив от столкновения с обстоятельством, явным образом непредвиденным, светила европейской науки перешли, соблазнённые бесом самонадеянности, на латынь, не помышляя о том, что студентам университета, к тому же обладавшим прекрасными пансионскими баллами, может быть недоступно стройное наречие римлян, однако в ответ на своё сострадание они узрели широко раскрытые рты и глаза, вопрошавшие: что это, братцы, за бред? Известное дело, немца, который обязался служить, никаким открытым ртом одолеть не дано, и вновь прибывшие с неумолимым упорством честных наставников перешли на французский. Тут уже заварилась невообразимая каша. Немцы изъяснялись по-французски с невыносимым, ни на что не похожим германским акцентом, российские повесы и недоросли, птенцы московских гостиных, свободно мешали французский с нижегородским и чуть не китайским, так что из этой тарабарщины уже никто не понимал ничего, даже сами профессора. Натурально, повесы и недоросли нисколько не унывали, прехладнокровно ожидая своего звёздного часа вступления в гвардию, и недоразумение окончилось очаровательной российской нелепостью: аттестаты об успешном окончании курса наук университет выдавал без исключения всем, в аудитории к немцам заглядывало человека два-три; сами немцы, облегчённо вздохнув, воротились к родному наречию и на всё прочее по-русски махнули рукой.
После чего заварился прямой кавардак. Знамёна победителей, одержавших победу без боя, взвились чрезвычайно. Профессора русские с поразительной ревностью отнеслись к пришествию просветителей иноплеменных и приняли его не иначе как злокозненное засилие немцев, нарочно вломившихся для развращения невинной русской души. В университете завертелись интриги, наговоры и дрязги, учинённые яростными российскими патриотами из числа самых малоспособных и малопочтенных, так что случалось, за временное обладание пустой классной комнатой между неуступчивыми тевтонами и не всегда трезвыми российскими патриотами возгоралась крикливая рукопашная схватка, кончавшаяся ощутимым уроном в волосах как одной, так и другой стороны.
Усердия с избытком доставало и своего, так нет, нежданно-негаданно патриоты получили внушительную поддержку из самых влиятельных сфер. К несчастью, Муравьёв покинул сей чёртом придуманный свет, не довершивши смелых реформ, открывавших дорогу просвещению истинному. Место попечителя вверилось Разумовскому. Выбор престранный! Вельможный потомок неграмотного малороссийского гетмана, проходивший образование в Гёттингене, Риме и Лондоне, вольтерьянец, покровитель Общества испытателей природы, владелец дворца, одна меблировка которого оценивалась в четыре миллиона рублей, высокомерный и замкнутый, с колким умом, то утончённый и обаятельный, располагавший к себе, то желчный, вспыльчивый, меланхоличный, масон, привередливый воспитатель целой когорты своих внебрачных детей, на поприще попечителя внезапно сделался гонителем просвещения, ярым ненавистником немцев и вместе непобедимым бездельником. Удостаивая университет своим посещением изредка, ещё реже являясь в заседания Общества, презренного им, Алексей Кириллыч упорно молчал, а все дела его именем вершил расторопный угодливый молодой человек Каченовский, Михаила Трофимыч; передавали, что прежде харьковский грек, урядник в екатерининском ополчении, затем сержант в Таврическом гренадерском полку, в канцеляристы прыгнувший из военного звания ротмистра, введённый Алексеем Кириллычем в дом, в течение двух лет высоким его покровительством приобретший звание магистра и звание доктора, вельможным капризом преобразованный из сержанта Качони в профессора истории и археологии Каченовского, в издатели журнала «Вестник Европы» и в управители канцелярии бездельника попечителя.
Некоторые тайные умыслы понемногу проступали наружу. Алексей Кириллыч явил покровительство нескольким русским профессорам, пригласил одного-второго-третьего во дворец на обед, что явилось чрезвычайной честью и редкостью, а недолгое время спустя Андрей Перовский, воспитанник — как это именовалось ради приличий — Алексея Кириллыча, был выпущен из университета в звании доктора. Каченовский, которого непримиримый Катенин именовал без оглядки глупцом, недоучкой и раболепным педантом, в мгновение ока тоже сделался вдохновенным гонителем иноземцев. Сей подвиг угодничества возмутил кое-кого из благородных людей. Князь Шаликов в гостиных и в клубе грозился прибить прохвоста до полусмерти и до того беднягу перепугал, что бывший ротмистр, сержант и урядник испрашивал защиты московского полицмейстера, потешивши изрядно Москву.
Рассудите, каково уму прямодушному пришлись эти скользкие глупости? Грибоедова бесила несносная скудость некстати воинственных русских наставников, однако ж ещё более сводило с ума, что, русский до мозга костей, он истинных познаний должен был набираться у добросовестных немцев, да ещё принимать сторону горделивых тевтонов против восстания родных идиотов. После этого нечего говорить, что дурацкие склоки и стычки профессоров его доводили до бешенства, и он не прощал, что прочие только хохотали до слёз.
Александр был весёлый, беззлобный, отходчивый, страстный любитель остроумной, но дружеской шутки, а тут поневоле в душе его воспламенялся саркастический жар. Издевательские стихи проливались точно сами собой при всяком новом профессорском скоморошестве. Чернила не просыхали, а он уж громко читал свои ядовитые стрелы на тот миг подвернувшимся слушателям и, кажется, только ими многим становился известен, поскольку мало кого близко к себе подпускал.
И, верно, было уж так суждено, что два безобразия свершились вдруг одно за другим. Первое разразилось на сцене. Была разыграна трагедия Озерова «Дмитрий Донской». В московской публике, тоже не освещённой благодетельной улыбкой Минервы, трагедия имела шумный успех. Между тем интрига, положенная в основу трагедии, представлялась ему неправдоподобной насквозь. Подумайте только, в стане ополчившихся воинов, съединившихся на грозную битву, таскается Ксения, вопреки стародавнему обыкновению русских, державших девиц и жён под домашним арестом в своих теремах. Смешнее всего, что княжна влюблена в князя Дмитрия, женатого человека, мнением летописцев вовсе лишённого сентиментальной чувствительности, и то и дело изводит зрителей монологами, прямо невозможными для разумения русской княжны. И от всего этого вздора приходит в восторг профессор истории Каченовский! В пору благим матом орать.
Затем, уже не на сцене, прогремела баталия между Сохацким, редко соблюдавшим естественные правила трезвости и не всегда на своих ногах державшимся крепко, и Спешневым (с одной стороны русский стан) и Рейтардом, Геймом, Шлёцером и Буле (с другой стороны стан немецкий), причём неслись слухи о том, что двух дураков подзуживал опять-таки прохвост Каченовский, посягавший не мытьём, так катаньем занять приглянувшееся место Буле.
Как было ему не вскипеть? Он вскипел! Экспромтом сочинялась пародия на трагедию Озерова, которую поименовал он «Дмитрий Дрянской». Пародия открывалась военным советом. На военном совете российские патриоты составляли экспозицию битвы, имея в виду изгнание злокозненных немцев, захвативших места, затем, как и следует, ни с того ни с сего, точно Ксения, в университете возникала Аксинья, после чего изготовлялись воители к бою. Вдруг патриоты одерживали полнейшую, однако ж нечаянную победу: на сцену выдвигался профессор Дмитрий Дрянской, конечно, издатель журнала, нападавший на подражание всему иноземному, и принимался вслух читать первый нумер изделия пера своего. И такой замечательной силы была эта чушь, что изумлённые немцы тотчас заснули. Только тем и могла окончиться, по его убеждению, бестолковая битва российских и германских витий.
А всё же Александр был несчастен, ощутительно, глубоко, потому что сердце его оставалось пустым, он никого не любил. Наконец матушка стала примечать угрюмость его одиночества, забросала его запросами глупыми, причитаньями бабьими, не идущими ни к чему. Он молчал. Она волновалась всё пуще. Дядя заприставал к нему вновь с московскими балами, наставляя заботливо, искренно, что в его возрасте пора уж, пора не противиться чарам прекрасного пола. Ничему он противиться не хотел, этот ларчик нетрудно было открыть, имей дядя хоть немного ума: на вкус его, московские барышни были слишком жеманны, слишком глупы, слишком пусты, ни одна не могла завлечь его гордого сердца, одна Элиза своей живостью его занимала, да с этой девочкой двенадцати лет не мог идти он далее прешумных ребяческих игр.
Матушка наконец надоумилась, каким способом заставить его прыгать под музыку. Машенька подрастала, обгоняя Элизу, и тем подала матушке мысль: вечерами, два раза в неделю, устроить в доме своём модный танцкласс с приглашением за немалые деньги знаменитого немца Иогеля и для успеха своего предприятия назвать на свои вечера пол-Москвы ещё неловких, но уже созревающих кавалеров и барышень. Может быть, в соображенье приняв, до чего не терпит он принужденья, она, переломив характер вспыльчивой деспотки, покорившей плясать под свою дудку весь дом, полную свободу предоставила молодёжи, и шаловливая молодёжь скоро превратила танцклассы в весёлые детские балы, до упаду танцевала, веселилась, проказила, и в первых рядах скакал и проказил Володька Лыкошин, кузен, из пустых и несносных, с которым близко сойтись ему не всходило на ум.
Матушкин план завлечь его в светские экивоки таким образом вполне провалился, университет мало чем наполнял его сильный, жаждущий ум. Тем не менее в этой смешной доморощенной катавасии обнаружилось преимущество неоценимое, на его вкус. Характер у него складывался чересчур независимый, верно, матушкин семейственный дар. Принуждением ничего не давалось ему, а тут свобода предоставлялась самая полная, хоть не учись ничему. Подгоняемый своим праведным бешенством, он зарывался в книги с каким-то злобным азартом, его познания углублялись и множились неудержимо день ото дня.
Другая беда и тут подстерегала его: дельных книг почти негде было достать. Русских являлось слишком немного. Хорошие переводы приключались нечасто. Из французских книжные лавки заполнялись большей частью романами. Английских, итальянских, немецких почти невозможно было найти: на них спрос был слишком невелик, чтобы книгопродавцам было выгодно с ними вожжаться. Матушка много читала, однако ж читала вовсе не то, что хотелось ему. Алексей Фёдорыч не пристрастился ни к серьёзному, ни даже к лёгкому чтению, не находя в нём особенной пользы для человека, занявшего достойное положение в обществе, так что библиотека его пополнялась случайно и для Элизина чтения. Вообще серьёзные собрания книг заводились в слишком немногих московских домах. Понемногу голод на книги его доставал.
Между тем многие события быстротекущей общественной жизни твердили ему, что дарование, образованность, ум, наконец, получают признание выше, у самого государя, непреклонно и у всех на глазах отодвигавшего несколько в сторону невежественную, угодливую посредственность.
В особенности кичливое московское барство взбаламутило внезапное возвышенье Сперанского. И в прежние времена, так любимые безвредными отставными фрондёрами, безымянные, бесприметные поднимались до самого верху, однако поднимались законным путём, пролегавшим сквозь просторную опочивальню благодетельной государыни, тогда как этот неугодный семинарист все понятия перевернул и низверг. Сын священника, кадившего в церквушке владимирского сельца, овладел вполне доверием государя! И чем же? Единственно успехами в каких-то нелепых науках! И всё не ползком, не лестью сладких речей! Да разве возможно? Да мы-то что ж, дураки? Или уж последние настают времена?
Алексей Фёдорыч расхаживал порывисто, нервно, заложив руки за спину, глаза беспомощно бегали на привычно важном лице:
— Куракин-то безродного пригрел и взял в секретари, а всё, брат, за что? Да всё, брат, за то, что деловой, за что же ещё?
Александр задиристо возражал:
— О Сперанском передают как о человеке приветливом, благородном, просвещённом весьма.
Алексей Фёдорыч сухо смеялся и тряс головой:
— Сын попа у тебя благородный? Эк ты куда! А просвещеньем-то в службе немного возьмёшь, уж ты мне хоть в этом деле поверь, лямку-то потянул, послужил, мозоли натёр. Востёр, соглашусь, что востёр, да только вот в чём? В толк не возьму, при Обольянинове-то как же удержаться сумел? Обольянинов бешеный, Обольянинову просвещение тьфу. Стало быть, смирением взял, угодлив, стало быть, вот оно что, а ты мне всё свои книги под нос суёшь.
Натурально, за верное никто не знал ничего, однако ж не без опаски передавали друг дружке, будто этот Сперанский, пострел, составляет полный план преобразования государственного устройства, в частях решительно во всех, от государева кабинета до волостного правления, в основание же решился, сукин сын, положить препакостную идею о воле народа, как единственного, истинного источника власти, за что перетревоженный дядя, хотя давно не служил, честил Сперанского то якобинцем, то подлецом, в чём разницы, впрочем, не знал, да и знать не хотел; на его изъяснения возражал, что хрен редьки не слаще, на том и стоял.
Туманные слухи вдруг подтвердились, хотя бы отчасти. Измышленный Сперанским указ потребовал от коллежских асессоров да статских советников либо представить начальству университетский диплом, либо проследовать сквозь испытания по исчисленным в указе предметам, о коих прежде из служащих слыхом никто не слыхал. На время вакаций в университете учредились занятия для приготовления к предуказанным испытаниям. Служилое сословие было возмущено от души. Алексей Фёдорыч прямо негодовал, точно испытания предстояли ему самому:
— Это что же, равенство хотят завести? Да слыханное ли дело у нас? Матушка Екатерина смолоду об том же старалась, «Городовое положение» приготовила, «Устав благочиния» издала, да и с ней приключился конфуз, а правительница была — нынешним не чета. Вот я случай один расскажу, в толк возьми, в русском характере замечательная черта. Как-то раз посреди эрмитажной приятной беседы изволила она изъяснить, что отныне и самые знатные уравниваются в обязанностях своих перед начальством городовым с наипоследним простолюдином. «Ну, вряд ли, матушка», — Нарышкин ей возразил, Лев Александрыч, головы умнейшей был человек, сын пошёл не в отца, хотя отродясь ничему не учился, даже не припомню, знал ли читать. «Я тебе говорю, это так, и ежели бы люди твои и даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушались бы полицию, то и тебе не станется спуску». — «Э, матушка, завтра увидим, — ответствовал Нарышкин на то, — завтра же ввечеру тебе донесу». И вот другим днём, вставши из постели чуть свет, надевает на себя богатейший кафтан со всеми регалиями, пожалованными самой матушкой за усердную службу, а поверху накидывает старенький, изношенный сюртучишко истопника своего, первейшего пьяницы, нахлобучивает дрянную шапчонку и отправляется на торговую площадь пешком, где под навесами продаётся всякая живность, небось не видал. «Господин честной купец, — адресуется к первому же курятнику, какой попал на глаза, — а почём изволишь цыплят продавать? » Ну, дело известное, курятник хамски ему: «Живых, — говорит, — по рублю, а битых по полтине пара». Что же Лев Александрыч? А Лев-то Александрыч и прикажи забить две пары живых и расплатись за них, как за битых, каков? Ну, курятник кричать, так, мол, растак. Лев Александрыч резонно стал изъяснять, что платит верно, поскольку за битых. Курятник сдуру призвал полицейского. Полицейский холуй, тоже естественный хам, чуть не кулак в рожу сует: плати, стало быть, твоя мать. Ну, Лев Александрыч словно бы этак нечаянно и распахни свой драный-то сюртучок. То-то была красота! Полицейский холуй так и кинулся на курятника, в самом деле уже с кулаками, едва в бараний рог не согнул дурака, только что Лев Александрыч хама остановил, заплатил курятнику вчетверо против живых, полицейского холуя за службу благодарил, а ввечеру в Эрмитаже матушке происшествие доложил, как умел докладывать он один, пошучивая да представляя в лицах себя, курятника-хама и полицейского холуя. Все смеялись, а матушка, поразмыслив, сказала: «Завтра же обер-полицейскому доложу, что у них, верно, как прежде: расстегнут — так прав, а застегнут — так кругом виноват». Каково? И до сего дня тот и прав на Руси, у кого вся грудь в орденах, в другом разе для чего ж ордена, а без орденов-то, как ни крути, завсегда виноват. И что ж, нынче кто учился — так прав, а кто не учился — так виноват? Шалишь, этакой злейшей неправды не бывать на Руси!
Александр не смеяться не мог — шутка была в самом деле забавна, однако ж не верить не мог, что время такое настанет, может быть, уже настаёт на Руси, и спешил наивозможно себя просветить.
Слава Богу, судьба его сберегала. В университете он набрёл на Ивана Щербатова, годами четырьмя моложе его, почти ещё мальчика, замечательного не своими вполне обыкновенными дарованиями, а тем, что в родстве состоял с Михаилом Щербатовым[141], нашим первым серьёзным историком, который своими трудами, большей частью не изданными, был отлично известен в тесном кругу ценителей нашего всё ещё мало известного прошлого.
Юный князь ввёл его в дом отца своего, сына историка. В лице князя Дмитрия предстал перед ним другой дядя, то же бестолковое барство, те же замашки произвола и важности, пожалуй, замечалась одна только разница, та, что чванливость и самомнение дяди князем Дмитрием возведены были, по меньшей мере, в квадрат. Ни в единой черте не проклёвывался сын и наследник большого мыслителя, несмотря и на то, что был отправлен просвещённым отцом слушать лекции в Кёнигсберг. Что и как слушал князь в одном из славнейших центров германского просвещения, оставалось неразрешимой загадкой. Изумительно было узнать, что не слыхал он не только ни единой лекции знаменитого Канта, но даже самого имени одного из величайших германских философов. Более занимала князя военная служба, в особенности лейб-гвардии Семёновский полк, впрочем, и на этом поприще потомок Щербатова не произвёл ничего замечательного, вышел в отставку, сказывали, что в чине полковника, и барином зажил в Москве, богач и капризник, устроитель великолепных приёмов, собеседник скучнейший, поскольку, вопреки полученному от природы кой-какому уму, об одном только себе умел говорить с увлечением.
Всё честолюбие князя вложено было в детей. В своём потомстве высокомерно прозревал он блестящее будущее и с похвальным усердием порывался обеспечить его. Для сына и двух дочерей с этой целью приглашались лучшие гувернёры и лучшие представители московской учёности, в обязанность которым вменялось предоставить образование необыкновенное по разнообразию и глубине. К родным своим детям князь Дмитрий пристегнул и племянников — двух сирот, сыновей в молодом ещё возрасте умершей сестры, скорее по обязанности, чем по чувству родства, едва ли знакомого этой самолюбивой и чёрствой натуре.
В доме Щербатова свёл Александр знакомство с Петром Чаадаевым. Сердечно они не сошлись. Для сердечного сближения они оказались слишком различны во всём, от понимания, что есть счастье жизни, до мелких привычек, включая привычку сигары курить. Пётр Яковлич бывал ему слишком смешон. Красавец неописуемый, утомительный привередник в одежде, всегда безукоризненно модной, переменяемой на дню десять раз, неутомимый труженик во всех танцевальных залах Москвы, кудесник кадрилей, чёрная зависть всех московских повес, из убеждения эгоист, самолюбец по семейной традиции, холодный как лёд, тогда как он искал всюду сердечности и тепла.
Одно их только сближало, но важное свойство: ненасытимая алчность ума. Они оба в совершенстве владели французским, английским, немецким, а также латынью и греческим. Они оба перечитывали решительно всё великое, что можно было отыскать в обширной Москве.
Сходясь вместе, наговориться они не могли. Они спорили почти обо всём. Их занимали предметы высокие: философия, религия, искусство, история. Благодаря Петру Чаадаеву Грибоедов был допущен к неизданным трудам Михаила Щербатова, в его хранилище летописей, а с ними документов бесценных нашей внутренней и внешней истории. Святая старина открывалась ему не в лекциях Черепанова с Каченовским, к слову сказать. С той поры он не расставался с Ярославом и Мономахом — великими устроителями Древней Руси, которые были уважаемы также и Чаадаевым, но которые для него явились предметом невольной зависти и подражания.
Эта ненасытимая алчность ума обжигала и завораживала других. Понемногу их жаркие прения обратились в собрания, на которых Ваня Щербатов большей частью молчал, брат Чаадаева, Миша — медлительный, словно бы вялый, с увлечением трактовал об ораторском искусстве историка Боссюэ и углублялся в древности горячо любимой Эллады, Ваня Якушкин восхищался республиканским правлением Древнего Рима, а Тургенев, хромой, красивый и странный, с печальным лицом, толковал, как были бы счастливы люди, когда бы истинными философами сделались бы все до единого.
Он тосковал, если недомогание не дозволяло ехать к Щербатовым, и записочкой призывал дорогое собрание отужинать у себя, чтобы затем в дружеской беседе засидеться всю ночь.
Окончивши философское отделение кандидатом, чем присуждался ему по табели о рангах двенадцатый чин, решился он одолеть ещё юридический, отчасти ради того, чтобы наилучшим образом подготовить себя к предстоящему поприщу, ещё неизвестному, но непременно значительному, отчасти ради того, чтобы не разлучаться с собранием, в особенности с Петром Чаадаевым, в университет ещё только вступившим.
Может быть, это было наилучшее время. Мало того, что собрания их продолжались. Вместе с Петром Чаадаевым у него на дому они слушали по-немецки Буле. По контракту, заключённому князем Щербатовым, Дмитрием, дядей, Буле читал им эстетику, науку об изящных искусствах, в действительности профессор, умевший читать, мечтавший выпестовать учеников и последователей, к тому же видный масон, к изящным искусствам вплетал право естественное, историю европейских держав, метафизику, философию Фихте, Канта и Шеллинга, сам живая энциклопедия, наставник, горевший желанием, чтобы живой энциклопедией сделался каждый из них. Отчасти они исполняли его желание. В общем, Буле был ими доволен, своим лучшим учеником называл Петра Чаадаева, ему же в знак своих бессомненных надежд преподнёс с лестной надписью первый том «Сравнительной истории философских систем» Джерандо, верного последователя и пропагандиста Спинозы.
Однако ж пир познания продолжался недолго. Отбыв положенный срок, Чаадаев оставил студенческую скамью семнадцати лет, и настоянием дяди Дмитрия, непреклонного хранителя семейных традиций, вступил в Семёновский полк.
Александр был поражён. В растерянности спросил он лучшего из своих собеседников, отчего тот едет служить в Петербург. Пётр Яковлич улыбнулся своей тонкой неприятной улыбкой:
— У нас возможно только в Петербурге служить.
Он ещё задал дурацкий вопрос, точно надеялся Чаадаева удержать:
— И непременно в военной?
Пётр Яковлич холодно рассмеялся:
— В какой же ещё?
Нет, в военную службу он не желал. Если в последние годы он посещал университет вольным слушателем, то, оставшись так больно и горько один, решился вступить своекоштным студентом в этико-политическое отделение и выйти из него со званием доктора, то есть с чином десятого класса, подобно Андрею Перовскому, недаром же Алексей Кириллыч своего незаконного сына направил: у нас чины, что законным, что беззаконным, законом и личное и потомственное дворянство дают; а важнее всего было то, что уж если поприще начинать, то не в канцелярии же писцом, как Пётр Яковлич начал подпрапорщиком. Он иначе хотел начинать.
Однако ошибся весьма. Обстоятельства оказались сильнее расчётов ума. Супостат явился на Русь, в какой уже раз. Верно, каждому русскому, как он знал по влажным от крови страницам седой старины, суждено становиться грудью своей на защиту Отечества. Он без промедления записался в полк Салтыкова, не подозревая о том, какие испытания ожидали его. Не успев набрать положенный по уставу состав, полк уже изрядно буйствовал на Москве; когда же пришлось оставить Москву, полк точно с цепи сорвался: где-то в Покрове питейные дома и подвалы разбил, вина выпустил на пол, в кабаках бил стёкла и высаживал двери, вино таскал в вёдрах, в штофах, полуштофах, манерках, а также в кувшинах, добытых силою в домах обывателей, брал без денег всё, что ни находил, разграбил имущества более чем на двадцать тысяч рублей и с тем же шумом и гамом последовал далее на Владимир, на Муром, в Казань.
Его здоровье, и прежде неатлетическое, лопнуло от одного вида непотребного сумасбродства. Расстройство нервов, простуда, бессонница совместно свалили его, полк оставил его на выздоровление во Владимире, благо и матушка с Машей сюда отступили. Владимир был переполнен больными и ранеными. Его перевезли подальше от города, в Сущёво, сельцо, принадлежавшее Лучиновой Наталье Фёдоровне, с которой суровая матушка состояла в особенной дружбе. Он поселился в бревенчатом домике. Знахарка лечила его настоями, травами, а больше добрым взглядом выцветших глаз и тихой беседой в бессонные, бесконечные зимние ночи. Тем и поставила на ноги. Уезжая, он хотел с ней расплатиться, но она, ласково покачав головой, отказалась:
— Что ты, милай, Христос с тобой! Деньги брать за лечение грех; а коли возьмёшь, так лечение впрок не пойдёт.
Полк он догнал уже в Бресте и попал в компанию всё родных или близко знакомых. Не хотелось припоминать, а как не припомнить: князь Голицын, граф Ефимовский, граф Толстой, Алябьев-младший, граф Шереметев, Ланской, братья Шатиловы. Он закружился. Как вспомянется, тотчас голова заболит.
Подумалось мрачно:
«В самое время...»
Сознание пропасти, на краю которой он очутился по своей же вине, вновь закружило, замучило до озноба в спине. Он очнулся от дум, огляделся вокруг.
Экипаж тяжело, скрипя и покачиваясь, взбирался на вершину холма. Усталые лошади, покрытые потом, из последних сил, показалось, тянули постромки. Ямщик с оттопыренными ушами ободрял их сорванным голосом и выпрастывал из-под сиденья кнут, да кнут под сиденьем застрял, ямщик дёргался, но привстать не хотел. Сашка дремал, ко всему безучастный. Амбургер откинулся всем телом назад, прикрыл глаза потемневшими веками, сосредоточенно думал о чём-то или тоже безмятежно дремал.
Они подъезжали. Александр это знал и, когда лошади наконец одолели долгий подъём и, все в мыле, втянули экипаж на вершину холма, тронул Амбургера за плечо:
— Глядите.
Амбургер встрепенулся, подался вперёд, бросил ещё затуманенный взгляд на широко и привольно раскинутый город, на золото куполов, на высокие кровли дворцов и в изумлении ахнул:
— Что это?
Александр отозвался с довольной улыбкой:
— Москва.
Он не слышал в душе своей нетерпенья, не взирал с восхищеньем на сквозные золотые кресты, на белый камень церквей и дворцов. Встречу после долгой разлуки омрачало смущенье. Отсюда выехал он почти молодым человеком, без опытов жизни, полным надежд, а кем и чем возвращался к пенатам? И куда, и какой предстоит ему путь? Матушка не сошла бы от горя с ума.
Амбургер перебил:
— Долго пробудем?
Он отозвался безлично, чуть не сквозь зубы:
— Дня два.
Александр не бросился к матери, когда увидел её после долгой, теперь показалось — бесконечной разлуки, спешившей навстречу ему с руками, крепко притиснутыми к пятидесятилетней, всё ещё высокой груди, с величественным, мелко дрожавшим лицом.
Она не обхватила его, не прижала к себе, а только горячими ладонями взяла его голову, крепко поцеловала в склонённое темя и в лоб, отстранила властным движеньем и лишь тут смигнула слезу, привычно громко ворча:
— Ну, наконец дал увидеть себя. Не благодарю за милость сию — исполнение долга, обязан давно, однако же рада, рада, весьма. Я мать, ты не знаешь, как болит материнское сердце. Нынче могу в глаза людям прямо глядеть: мой сын, мол, не плоше других, вот так-то, любуйтесь, а Бог даст, так стану гордиться тобой. Ты с честью служи, а я за тебя во всякое время Бога молю. Да что это: у нас тут врут, там у тебя поединок, с этим, с черкесом-то, как его звать-величать?
Он давно приготовился, зная Москву — языки с коломенскую версту, усмехнулся слегка:
— Дело чести.
Она сурово сдвинула брови, оглядывая его от сапог до макушки, точно в детстве, хорошо ли одет, — у Одоевских бал:
— Так знай, что ежели бы ты себя бесчестно повёл, не как дворянин, мне было бы стыдно, но ежели бы убить себя дал дураку, мне было бы больно, слепенький мой; однако ж дай теперь слово, что все силы приложишь дело покончить и с честью и с миром — живым тебя видеть хочу!
Он прямо и смело поглядел на неё, как она не любила, чтобы он глядел на неё, оттого что смягчалась всегда, точно обминалась от этого взгляда:
— Вы знаете сами, как и я, что мне не пристало в это дело мешаться, из чести.
Она глаза отвела:
— Ах, я позабыла, да кто секундант?
Он представил ей Амбургера, топтавшегося у него за спиной; представил в выражениях цветистых, но лестных.
Матушка вскинула брови и только спросила с неприступным лицом, как со старостой говорила своим:
— Из немцев, поди?
Он засмеялся:
— Именно немец и отличнейший человек.
Она обратилась ледяным снисходительным тоном, испытующе глядя на Амбургера, точно тот, известный подлец, из оброка то да се утаил:
— Стало быть, жизнь сына моего в ваших руках?
Добрый Амбургер поклонился почтительно, точно суровости тона, вполне неуместной, не примечал:
— Ваша правда, мадам.
Матушка вдруг изменилась, до белых пятен стиснула сплетённые пальцы и заспешила со сморщенным, постаревшим, только что не жалким лицом:
— Вверяю судьбу его вам, любезнейший Андрей Карлыч! Поклянитесь, поклянитесь, молю вас, что все старанья приложите за мирный исход! Спасите его!
Вытянувшись, ставши серьёзным, надутым, смешным, Амбургер отрапортовал, как солдат на смотру:
— Клянусь!
Она недоверчиво улыбнулась, губы едва разлепив, смешалась, несмело тронула Амбургера за рукав сюртука:
— Я вам этой милости никогда не забуду.
Затем обедали долго, с передачей московских всех новостей. Спали очень недолго, он рано вскочил, помчался, разыскал Павлова, точно как в Петербурге себе положил; от Павлова отправился по лавкам заказывать всё, что почёл нужным для Персии, однако ж не удержал практического своего настроения, ещё непривычного, заворотил по дороге к приятелю, от приятеля известился, что Чебышева в тоске оттого, что Алексей Семёныч-то, Кологривов, скоропостижно скончался и что мужа её нет на эту минуту в Москве; часа в три остервенился от пустой его болтовни, отправился прямым путём в ресторацию, плотно поел, выпил, обнадежась найти утешенье, бутылку шампанского и, настроенный до крайности беззаботно и весело, явился в театр.
Орда прежних знакомых — числом миллион — залобызала его, точно он с ними расстался вчера, а не шесть лет назад: постоянна Москва, тогда, как он, по всегдашнему невниманию к ним, известным глупцам, большей частью не помнил ни имён их, ни даже лиц. На подмостках шла «Сандрильона». Он яростно хлопал, отбивая ладони, оттого что москвичи не хлопали вовсе, и слёг после театра в постель с чрезвычайной болью в клокочущей голове, на опыте убедясь, как в один день трудно сделаться практическим человеком, быв им до этого только в уме.
Матушка примчалась в испуге, за три комнаты расслыша его тяжкие охи, приказала незамедлительно и всенепременно положить патку с одеколонью на потом покрывшийся лоб, и эта любезная патка за одну ночь ему всю кожу сожгла — свидетельство сильного действия первобытных лекарств.
Наутро он всё-таки был посвежей, отправился поглазеть на молоденькую прежнюю экономку, которая жительствовала из окна в окно против них, тотчас с ней снова сдружился, обещал ввечеру пожаловать вновь и с тем отправился изображать человека практического да делать визиты, горько вздыхая чуть не на каждом шагу:
— Ах, Персия! Дурацкая земля!
Москва процветала по-старому, однако ж вся ему была нова. Александр всю её позабыл, даже расположение улиц, ещё тут и там в ожогах пожара, зажжённого супостатом, когда он вышел с буйным полком из Москвы, и оттого острей ощущал, как далеко расстояние от него до неё.
Он прежде увидел, а после уж недоверчиво вспомнил московскую, заведённую исстари неподвижность, обернувшуюся с течением лет натурой или насущной потребностью москвичей, падких на одни только новости, тотчас истерзавших его, раз он имел неосторожную глупость к ним препожаловать из Петербурга — вертепа разврата, в их головах:
— Ах, что там у вас? Да может ли быть?
У всякого семейства обнаруживал он свой обжитой, всем известный приход, свой круг неизменных родных, знакомых и непременных завсегдатаев дома в заведённые дни, свои предания, свой обиход, свою заветную мебель, свои нажитые привычки, девок, мосек да согбенных партнёров в бостон.
Он узнавал то и дело дома, седовласых швейцаров в широко гостеприимных подъездах вельмож, бабушек, тётушек и кузин на тех же присвоенных чину местах, в тех же вольтеровских креслах, с тем же капризным достоинством на тех же сморщенных лицах, даже в позах всё в тех же, в каких их оставил и позабыл, за теми же пяльцами, точно смерч не прошёл по Европе, точно не горела Москва, разве что место подросших кузин, подхвативших мужей, заняли походившие на них как две капли воды молодые кузины.
На театре давали «Притворную неверность», его шалость пера, известную уже всем москвичам, представление посещавшим с тем же грандиозным спокойствием, как и Английский клуб. Кокошкин, директор театра, племянник Хвостова, известный, довольно смешной, переводчик Мольерова «Мизантропа» в тяжёлых и грубых стихах, точно в кучу необтёсанные камни свалил, роста ничтожного, с непомерно большой головой, в рыжем растрёпанном парике, с нарумяненными провалами щёк, в длинных чёрных чулках, в башмаках, украшенных старинными фигурными пряжками, каких давно никто не носил, до суеверия, до язычества прочно державшийся замшелых театральных обычаев, олицетворение самодовольства и пафоса, униженно перед ним извинялся, видя на нём незнакомый мундир:
— Прелестные ваши стихи так варварски терзают на сцене, однако ж в безобразии том не я виноват, уж вы мне поверьте, ваше превосходительство, никто здесь не слушает и не слушается меня.
Отвязавшись от старика кое-как, отсмеявшись, на прощанье ужаливши лёгкой остротой, Александр поспешил отойти, но его тут же поймали и подвели к нему сутулого невысокого Гейера, который в недавнем времени прибыл с Кавказа и который с большим недоверием задал вопрос, слышанный им в два всего дня сотню раз:
— Говорят, вы туда?
Делать нечего, он сквозь зубы ответил, надеясь нелюбезным приёмом напрочь отпугнуть дурака:
— Туда.
Гейер, верно, бывалый, ничуть не смешался, не изменился в лице, спросил вновь, заглядывая снизу в глаза:
— По доброй воле?
Не удалось отпугнуть, он сдержался, хотя у него уже дёргался глаз:
— Не совсем.
Гейер потянул его к себе, ухвативши за пуговицу мундира:
— Вернитесь, если возвращенье возможно, примите совет.
Он отстранился, пуговицу вынул из цепкой руки, зная отлично об том, что перепуганный насмерть с удовольствием величайшим, чуть не в истерике, ещё пуще пугает других:
— Что так?
Гейер очень громко оповестил, должно быть домогаясь так дёшево лестной славы героя кавказской войны:
— Да ведь проезду нет никакого! Сам не ведаю, каким судьбами добрался цел до Москвы. Недавно ещё на транспорт напало пять тысяч черкесов! У этих диких племён в заведенье одни грабежи!
Да есть ли у дикого племени столько бойцов, он иронически улыбнулся:
— Целых пять тысяч? В горах?
Гейер голову, небольшую, лохматую, вскинул и чуть не кровно обиделся — энтузиаст:
— Не меньше пяти!
Хотелось спросить, где бы этой ораве развернуться в горах, да чёрт с ним, он холодно рассмеялся:
— Да вы прямо герой, а с меня так довольно и одного, с кинжалом или ружьём.
Поворотился на каблуках, через минуту столкнулся нос к носу с незабвенным князем Иваном Гагариным, старинной мишенью для стрел, и от души посмеялся над ним:
— Пожалей, милый князь, Мельпомену. Нехорошо.
Князь, сенатор и действительный статский советник, доверчивый и простой, точно младенец с хилым умом, искренно был удивлён:
— Кого пожалеть?
Его простодушное удивление только и было нужно ему. С жаром принялся Александр морочить беспокойно глядевшего князя:
— Будто не знаешь? Экий шалун.
Князь поёжился, поправил висок, неуверенно возразил:
— Как Дух Свят, да ты растолкуй.
Он подхватил князя под руку, задвинул в угол поукромней, свидетельство тайны чуть ли не страшной, склонился к самому уху его:
— Катерину Семёнову, говорю, пожалей.
Князь изумился, припрыгнул на месте, глаза распахнул и широко и скоро моргал:
— Да что же тут я?
Александр выпрямился, сделался мрачным, строго глядел, внутренне хохоча — что за милый простак, чудеса:
— Перестань ей делать детей, не то она вовсе погибнет для сцены, а грех на тебе.
Князь высунулся из-за угла своего направо, налево, сглотнул, доверительно зашептал:
— Да полно, что ты, в рождении последнего я ни при чём, слово чести.
Отступивши на шаг, разглядывая любовника странного с изумлением, почти непритворным, он выдержал паузу и укоризненно покачал головой:
— А кто же при сем?
Князь остолбенел и рот приоткрыл:
— Да где же мне знать?
Александр возразил, наивно расширяя глаза:
— Не Святой же Дух старается за тебя?
Втянувши повинную голову в плечи, князь с тоской безнадёжной вздохнул:
— Может, и Он.
Александр в самом деле чуть рта не раскрыл, да удержал себя, пригрозил ему пальцем:
— Ты гляди, такой актрисы трагической дождёмся не скоро.
Князь заспешил его успокоить:
— Здесь, право, Медведева хороша.
Он отмахнулся:
— Полно, ваше сиятельство, Медведева балерина.
Князь искоса поглядел, точно почуял подвох:
— Так и что?
Он помолчал, вываживая его:
— А и то, что ты прав, она прехорошенькая, в «Сандрильоне» я ей гораздо хлопал вчерась, однако где же ей до Семёновой, и глас и статура не та, уж ты, брат, не шали, молю не за себя одного, за театр.
Точно не слыша его возражений, Гагарин с увлечением подозрительным продолжал расточать похвалы:
— Здесь нынче позавелись и иные, ты приглядись, приглядись, которых публика вызывает с охотой.
Александр сердился притворно:
— Полно тебе, здешние готтентоты не аплодируют ничему, точно вперекор петербургским, которые рады, что Господь им ужасные ладони пожаловал из каких-то расчётов своих, неведомых мне, и при всяком случае готовы греметь.
Князь испытующе ещё раз его оглядел:
— Это же почему?
Тут он и важности подпустил:
— Да всё потому, что тот, который играет Льва в Петербурге, истинный Росций[142] в сравнении с первейшими здешними неграми, на кого тут прикажешь глядеть?
Князь наконец рассердился, кажется, от души, верно, и тут кое-что завелось — за кулисами гость преисправный:
— Мочи нет, что ты за глупость несёшь!
Впрочем, не ему бы мешаться в такого рода дела, довольно с него Шереметева, он вздрогнул, некстати вспоминая об нём, выпрямился, напустил на себя чёрт знает что и с комедийной серьёзностью произнёс монолог, хоть на подмостки ступай, лишь бы боль в душе заглушить:
— Это участь всех умных людей большую часть жизни проводить с дураками, ведь какая их бездна у нас, ты заметь, чуть ли не больше солдат, и этих слишком, на вкус мой, довольно. Возьми хотя Петербург. В Петербурге мужского населения в три раза больше, нежели женского: все полки, брат, полки. И всю дорогу сюда тоже полки да полки.
Гагарин тут рассмеялся, оправился, тоже начал шутить:
— Так ты по статской нынче вот отчего? Стало быть, из дураков-то в умники норовишь?
Он притворно вздохнул, всё чувствуя в груди точно лёд:
— Куда мне в умники лезть? Павлов через жену перед Ермоловым берётся хлопотать за меня, не поверишь, сам предложил, она же генералу сестра, а у нас сёстры и от генералов чего не добьются, никакого не надо ума, так если изволит препроводить меня по военной, я и не прочь, выходит, что дважды дурак.
Дома ожидал его новый сюрприз: назавтра матушка приказала парадный обед по случаю назначения в миссию. Он было рот приоткрыл. Она пустила в него наставленье. Он сбежал к себе спать, в этот раз соврав насчёт головы, да в тот же миг пожалел: она чуть новой патки не налепила на лоб, то-то бы он спал хорошо.
Обед, по всему видать, разворачивался сугубо московский, зевотный и чинный, каких он с малых лет не любил, и он опоздал, нарочно без всякого дела шляясь по городу, обновлённому после пожара. Большое общество уже было в сборе, чуть не в десятом колене родство и родство. Матушка с обычным неудовольствием, с живостью, не утерянной с летами, воскликнула на весь зал, точно кричала на тот берег реки многоводной:
— Александр, как же ты не узнаешь дочь Мироньи Ивановны Лыкошиной?
Помня, что матушка, с удивительным постоянством покрикивая на нерадивость его, с истинной нежностью опекала старших братьев закрасневшей кузины, когда они трактовали об Македонском герое, посещали университет без особенной пользы для себя и Отечества и до седьмого поту прыгали у неё на танцклассе, он С терпением выслушал, как дочь Мироньи Ивановны лепетала с робостью деревенской, и вдруг побледнел до ушей:
— Вы были, я помню, весёлый и резвый.
Он нехотя улыбнулся:
— Нынче я постарел, уже не резвлюсь, и что за резвость двадцати восьми лет?
Девица смутилась совсем, затеребила какие-то рюши, долу опустила глаза:
— Настасья Фёдоровна до того добра ко всем нам, как родная, мы вашу матушку привыкли от младенчества уважать, как родительницу и самого близкого друга. О братьях она имела самое нежное попечение, а с какой горячей любовью, с какой неусыпной, исключительной заботой она об вашем пеклась воспитании и о воспитании Марьи Сергеевны. Я была простая деревенская девушка, и вот она...
Он перебил:
— А я вам всё же скажу: не любите света, не любите побрякушки его, будьте девушкой деревенской, вы в деревне будете больше любима, а главное, в деревне сама научитесь лучше любить.
Матушка между тем возвещала отчётливо, громко, чтобы слышал весь стол:
— Я рада за тебя, рада, мой друг, с успехом служи. Отнюдь Катенину не подражай, приятелю твоему, он, может быть, человек, по-твоему, умный, да честностью и прямотой немного взял, а ты на Антона Андреича погляди: подлец он, как знаешь, первостепенный, а всё прёт вперёд да вперёд, а иначе-то как, Сам Господь, кому своими молитвами всё докучаем, страсть как любит Он нас, чтобы мы перед Ним беспрестанно кувырк да кувырк. А стихи твои плохи, в стихах, как в службе, надобно глядеть почаще на тех, кто имеет полный успех.
Он покраснел:
— Не Кокошкину ли прикажете подражать?
Матушка не щадила его, с намереньем охоту к службе его поддержать, сама не подозревая наносимых обид:
— И прекрасно! И лучшая мысль! Уж не в самом ли деле ты поумнел? Ему-то и подражай, подражай; Кокошкин, мой друг, предавно генерал!
У него духу недоставало сдержаться, как себе не однажды в дороге твердил, и понеслась карусель, вертеть которую он не хотел, да уж она вертелась сама:
— Этому низкопоклоннику и дельцу? Панегирики Измайлову и Храповицкому составлять?
— Оскорблять не смей достойного человека, ещё нос не дорос! Вся Москва уважает его, об людях таких ты ещё молод, слышь, молод судить!
— Помилуйте, да он совершенно немыслимо перепёр на наш язык «Мизантропа»!
— В первую голову, как известно тебе, Фёдор Фёдорыч женат на Варваре Ивановне Архаровой, дочери главнокомандующего Москвы и шефа полка своего имени, что редко удаётся кому — на носу себе заруби.
— Ну, полк Архарова точно славно известен.
— Не смей, говорю! Помни себя, а я тебе мать! Когда, бывало, при Павле Петровиче, в тогдашние времена, в немилость он впал и был отправлен на жительство в Тулу, так вся Москва провожала его до заставы.
— Господи, да кого только до заставы за свой век не провожала Москва! Стыд и срам!
— На дорогу конфекты, пироги привозили корзинами, и наш любезный Николай Михайлыч-то Карамзин самолично учебники привёз для детей.
— Как он ещё не заплакал при этом, как гувернантка, плакать точно горазд. Вот Кокошкин — Кокошкин речь бы часа на два сказал, все в дубовых стихах!
— Да ты просто завидуешь ему, как я погляжу!
Амбургер обронил очень тихо, не обращаясь ни к кому, даже, как видно, не обращаясь к нему:
— Нехорошо, нехорошо.
Александр прощал матушке от души и хотел помолчать, унимая про себя наставленьем свой запальчивый нрав, уж тысячи раз подводивший некстати его, она же своего капризного нрава никогда унять не могла:
— К Архарову-то и по сию пору езжает всё лучшее общество, стол его всем и каждому без зова открыт, много ли таких людей в Петербурге видал, ты вот что скажи?
Он вынужден был отвечать:
— К кому это лучшее общество не езжает, одно бы — стол был накрыт от утра до утра.
Она сверкнула гневно глазами:
— И потом, Фёдор Фёдорыч-то состоит, чай, директором московских театров и оттого, по уму моему, плохо писать не умеет, шалишь, иначе не может и быть, государь-то на что глядел, назначая его, Александр?
Он вскричал, от подобных подлых истин неизменно приходя в исступленье:
— Стало быть, стихи мои плохи единственно оттого, что я не коллежский асессор?
— Почти так, повторю, заруби себе на носу.
— Спору нет, должность директора он исполняет куда как исправно! Баранчеева от его усердия белугой ревёт!
— Твоя Баранчеева, чай, крепостная раба! Ей и надобно белугой реветь, коли в вине у господ! Я гляжу, совсем перепортил тебя Петербург!
— В Петербурге, по крайней мере, есть люди, которые глядят на меня с той стороны, с какой я хочу.
— А я на тебя гляжу, как я хочу, ты мне не указ, и я тебе желаю добра, оттого что люблю, как тебя не любит никто!
В самом деле, матушка была к нему очень привязана, как не был привязан никто отродясь, пусть и не с той стороны, с какой он хотел, и он извергом в своих был бы глазах, когда бы не отплатил ей чем-нибудь, если не такой же страстной любовью, какой не имел. По этой причине в Москве он пробыл неделею долее, чем себе положил, хотя всё ему в старой столице было не по душе, это если помягче сказать.
Во всех открытых домах царили праздность и праздность, роскошь и роскошь, бескрайние, не сопряжённые ни с чем живым, не говоря уже — с великим: ни с малейшим чувством к прекрасному, какое прежде он кое в ком здесь находил. Жить в Москве весь свой век ему было бы невмоготу.
Терзаемый горькими мыслями, смятенный беспокойной душой, искавший Бог весть чего, перед самым отъездом попал он на бал. Музыка гремела без перерыва. Он стоял неподвижно, руки скрестив, прислонившись к колонне спиной. К нему подошёл, отдуваясь, невысокий лысый толстяк и жалобным голосом попросил:
— С моей-то потанцуйте, голубчик, второй уж танец дура дурой торчит.
— Да вы кто такой?
— Я Прасковьи Юрьевны муж, разве позабыли, голубчик? Мы ведь знакомы давно.
Александр отворотился демонстративно и перешёл из душной залы в гостиную. В гостиной сгрудились с подобострастным вниманием вокруг иноземца, француза, как будто из пленных, удальцов супостата, как было слыхать из нескольких слов, которые до него сквозь толпу донеслись; пустейшего болтуна, как понял он, едва подойдя.
Негодованье его возрастало. Наконец натура запальчивая высказалась в порывистой речи против несчастного увлечения всем иноземным. Его язвительной речью все решительно были оскорблены, как он и хотел. У кого-то сорвалось с языка:
— Да этот умник спятил с ума!
Он чуть не плюнул, уехал, лёг спать и спал хорошо. Другим днём, едва открыл он глаза, ему стали делать визиты, с любопытством повышенным оглядывая его с головы до ног и спереди и с тылу, чего понять он тотчас не смог, как ни ломал головы.
Наконец вступил к нему в комнату Эванс, Фома Яковлич, как его величали по-русски, лектор английского языка и английской словесности, у которого брал он в юные годы уроки, превосходно владевший виолончелью и как новыми, так и древними языками, твёрдо знавший по-русски, в отличие от легиона своих соплеменников, презиравших русскую речь, милый умница и страшный добряк.
Александр вскочил навстречу с дивана:
— Ну, сознавайтесь, пожаловали зачем?
Напуганный решительным приступом, точно к горлу приставили нож, Эванс ему отвечал, старательно и неловко скрывая смущение:
— Я более любезного приёма от вас ожидал, мы в былые годы были знакомы.
Он решил настаивать, горько смеясь:
— Нет, признайтесь, скажите чистую правду.
Эванс мялся, пряча глаза:
— Видите ли...
Вдруг угадав, он вскричал:
— А, вы тоже захотели взглянуть, точно ли я спятил с ума? Не так ли, признавайтесь, не рассержусь!
Эванс опешил:
— Как можно...
Александр с саркастической улыбкой успокоил его:
— Полно, нынешний день вы не первый уже приезжаете на меня поглядеть.
Эванс исподлобья смотрел и с усердием основательным шляпу свою теребил, угрожаясь поля оторвать:
— Изъясните, ради Христа, что подало повод к этой басне московской?
Он торжествующе вскрикнул:
— Стало быть, я угадал. Так садитесь, я вам расскажу, с чего вся Москва меня провозгласила безумным.
И рассказал, тревожно шагая взад и вперёд, что с ним стряслось вчера ввечеру, и угрожающе заключил:
— Я им покажу, что в своём я уме! Я пущу в них комедией, в неё целиком внесу этот вечер: не поздоровится им! Весь план у меня уже в голове, чувствую я, что комедия получится хороша, не прежним чета!
Он в самом деле готов был тотчас броситься за перо, да медлить, по счастию, было нельзя. Александр едва дождался сестры, которая приехала наконец в тот же день.
Некрасивая, с умными живыми глазами, лучшая ученица известного Фильда, лучшая музыкантка равнодушной Москвы, все свои дни проводившая за фортепьяно и арфой, лучшая подруга его детских лет, с которой он прежде делился своими мечтами и с которой проводил целые вечера, разыгрывая пиесы в четыре руки, возбуждённая и растерянная, она всё твердила, прижимая беспомощно руки к невзрачной груди:
— Саша! Саша!
Он целовал её и нежно шептал:
— Машенька, голубушка, дождался-таки.
— Ах, Саша, Саша, как много мне надо сказать.
— Говори! Говори!
— Да погоди, как же сразу-то, едешь когда?
— Заутра в поход.
— О Боже, как скоро!
— Нельзя, и без того неделей более пробыл, чем должно и чем даже имел право дозволить себе. Ты говори, говори.
— Как же так? Тебе говорили, матушка всё торопит меня выйти замуж — двадцать шесть лет, в самом деле, давно уж пора. В Москве невесты пятнадцати лет, однако не я не хочу, не хочу. Я бы с тобой только одним, да с ней, а больше не надо мне никого-никого, мы бы все играли, играли с тобой, помнишь, как прежде, на фортепьянах, ты помнишь?
— Помню, как не помнить, голубушка, Машка, те дни как мне позабыть!
— И так долго не приезжал, всё в Петербурге своём, в Петербурге! Как ненавижу я твой Петербург!
— Прости: я вижу, я понимаю теперь, ты прости!
— Простить? Я тебя, милый, ни в чём ни капельки не виню. Я только всегда хочу быть вместе с тобой, во всю мою жизнь, понимаешь?
— Ты всюду права, а я эгоист, эгоист. Погоди, даст Бог, из чёртовой Персии ворочусь невредим, перевезу вас с собой в Петербург!
— Опять в Петербург, в Петербург? Для чего? Мы с тобой родились в Москве.
— Ах, Машка, Машка, уже двадцать шесть лет, в Москве нынче всё не по мне!
Так всю ночь, то и дело перебивая друг друга, проговорили они почти до утра. Насилу он вырвался, но всё-таки вырвался наконец. Плачевная сцена прощания повторилась почти как в Ижорах. Матушка с Машей промокли от слёз, почти и слова связно сказать не могли, а только беспрестанно благословляли его, точно ложился он в гроб, и долго ещё, всё тоже в слезах, он видел, оборотившись назад, как они то махали ему своими измятыми батистовыми большими платками, то быстро и мелко прикладывали те же платки к своим потемневшим глазам, то издали мелко, поспешно крестили его.
Он твердил за Курской заставой:
«Я был эгоист, эгоист...»
Чувство неискупимой вины перед матерью и сестрой терзало его. Ещё хорошо, что в дорожном его чемодане припасены были на одоление скуки, ему ненавистной, непременного спутника долгих дорог, Голикова первый том «Деяний Петра»[143] да «Путешествие в Персию» француза Шардена, выпущенное в свет чуть не два века назад, что, уверяли его, не имело никакого значенья, поскольку эти два века персиянцы коснели в любезной своей неподвижности и нового к жизни своей не прибавили решительно ничего. Насилу он отчитался от боли разлуки.
Однако ж в Туле довелось провести целый день за неимением, по обычаю, лошадей. Он было сунулся разыскивать знакомцев Степана, да те проводили, как водится, лето в деревне, чтобы надышаться на полную зиму целительным воздухом лесов и полей. Он сунулся туда и сюда: кругом пустота. Он было попробовал разогнать неимоверную скуку сидения на месте, во время которого против воли не мог быть волен в себе, и проглядел годовую подписку «Музеума», напичканного глупейшими стихами и прозой, ещё больше глупейшей, развешанного по стенам в назидание произволом смотрителя остановленным путешественникам.
Далее пошло ещё гаже. Обида, нанесённая матушкой, в гордом сердце торчала острой иглой. Чувство вины возвращалось. Он вопрошал себя беспрестанно, для чего он уехал от них, от немногих друзей, каких ему нигде не найти? Разве невозможно сделаться нравственным человеком в столицах? В самом ли деле все поприща перед ним не открыты? В самом ли деле должность секретаря при дипломатической миссии одна оставалась ему для спасенья души? Не сошёл ли он в самом деле с ума, пустившись в невообразимую даль?
Дорога кое-как отвлекала его от чёрных его размышлений, иначе бы он себя истерзал. На всех почти станциях приключались задержки, для него оскорбительные, поскольку всюду раболепством униженные смотрители судили об нём по его подорожной, у нас что ни щель, то холуйская рожа торчит. Ещё слава Богу, что Амбургер, как окончательно имел он опыты убедиться, малый хороший, натура горячая, бич на смотрителей, с бою выбивал лошадей, как на приступ бросался в штыки. Глядя на его дорожные подвиги, Александр для рассеянья скуки принялся его уверять, что быть немцем на свете чрезвычайно глупая роль и что для начала своего возрождения архивариусу дипломатической службы российской надо бы себя подписывать Амбургев, а не Амбургер, чтобы глазастый русский смотритель, почтительный с одним генералом да кулаком, не путал его с малопочтенной колбасной породой.
Поразвлёкшись такого рода злобными шутками, кое-как устроившись боком, чтобы раскрытая книга менее прытко скакала у него на колене, отвечая неровностям почвы, всюду несносным, вновь углубился он в Голикова и делал, сам ещё твёрдо не ведая, с какой именно целью, заметки, может быть, для трагедии, славословя друга Степана за счастливую мысль преподнести ему годную для походов чернильницу.
Он отлично понимал страстную нелюбовь государя Петра Алексеича к азиатски неподвижной Москве, и его непритворно восхищала прозорливость правителя, когда он читал, как безродный калмык, из чужих краёв возвратившийся со своим господином, был пожалован царём в офицеры и дошёл впоследствии до контр-адмиральского чина, тогда как ленивый его господин, дурак первостатейный и неуч, определён был в простые матросы, однако же произвол, ничем не прикрытый, произвол деспотизма, не шутя сердил его на каждом шагу. Что за дикость учреждать Тайную канцелярию на борьбу с той же дикостью калёным железом и дыбой? Для чего лукавым лакеям дозволять доносить на неосторожных господ в том, например, что они, наглухо запёршись в кабинете, что-то изволят писать? Могут ли способствовать процветанию государства великого такие безмерные подати, каких прежде никто не платил? Что может быть отвратительное введения рабства через введение подушного обложения и запрещения мужикам переходить от одного господина к другому? А убиение сына?
Взбешённый, он сердито толковал хладнокровно внимавшему Амбургеру:
— Вот, Андрей Карлыч, полюбуйтесь на нас, православных скотов! Алексей, царевич, будущий царь, укрывается под покровительство австрийской короны, тогда в Европе весьма почитаемой. Письмом из Амстердама, через Румянцева да Толстого, Пётр ему обещает прощение. Алексей к нему возвращается, поверивши царскому слову. Пётр, по видимости, прощает его, однако ж лишь с тем, чтобы тот объявил свои умыслы и тайные преступления, а без того, мол, шалишь, прощения нет, и, не дожидаясь сего объявления, хотя бы приличия ради, обезнаследил его, то есть отрешил от наследования престола, заранее, без суда признав его виноватым, каков?
Пробежав ещё три страницы, он вновь выходил из себя, докрикиваясь до благодушного Амбургера сквозь топот копыт и скрипенье колёс:
— Вот, полюбуйтесь, царевича принуждают признаться, что он в замыслах мятежных своих опирался на православное духовенство, и таковое признание объявляется всенародно, соглашусь, что полная правда была, ещё прежде духовенство стрельцов подстрекало на бунт, однако ж с намереньем объявляется подорвать уважение к Церкви, шаткое в народе и без того! Каково? А далее обличают обвинённого в том, что тот — возмутительный факт — не как-нибудь, а на исповеди духовному лицу говорил! Извольте исповедуйтесь после того! Добро этими ли приёмами сеется, а? Да не молчите же вы!
И себе в память записывал, что со временем исследовать надлежит:
«Смерть царевича будто бы от удара, при выслушивании приговора. Может быть правда...»
Наравне с неправым судом над царевичем возбуждала его любопытство бурная и туманная юность Петра. Клевета на Хованских и гибель на плахе целой семьи, по его убеждению, не делали чести будущему правителю, бегство в Троицкий монастырь от шестисот стрельцов Щегловитого вызывало недоумение:
— Послушайте, Андрей Карлыч, для чего ему было бежать, когда посреди потешной своей гвардии он находился? Число мятежников ему было же ведомо от двоих перебежчиков. Что это: несказанная трусость или недоверчивость к его окружающим?
Отношение многих историков к Софье ему представлялось очевидно сомнительным:
— Что-то не приметно никак, чтобы властолюбие Софьино много вредило Петру и так ему было опасно, как стараются нам сделать внушение. У неё тогда была своя партия у Нарышкиных, последняя восторжествовала, ей в пользу, как пишут, однако ж мешала ли Софья избранию рекрутов в Преображенский да в Семёновский полки? Не могла же она почитать войска сии шуткой, как силятся нас уверить писатели, придающие ей свою глупость? Всё это, сдаётся мне, было вовсе не так. Вот послушайте-ка: явным образом Пётр к Голицыну, её любимцу, немилостив, что же она? Она за своего любимца ходатайствовать принуждена! Или ещё: гнев Софьи на Петра и гнев Петра на неё во время крестного хода, что и приблизило полный разрыв между ними. Об чём это всё говорит? Я полагаю, что об превосходстве силы и власти Петровой, а вовсе не Софьиной. Вы не согласны со мной?
Все эти догадки, важные сами в себе, но важные также и для его будущей миссии, требовали от него разысканий, между тем как они всё далее откатывались от мест, где серьёзные разыскания были возможны, и он, может быть, в первый раз совершенно отчётливо ощутил, сколько много он потерял, избрав себе не европейскую, но азиатскую службу.
Неровные, круто замешенные на тугой чёрной грязи уже предстепные дороги об размерах глупости этой беспрестанно напоминали ему, то затвердевая наподобие камня, то распускаясь и схватывая колеса, подобно тискам. В Воронеже чинили европейскую бричку, не выдержавшую тяжких, а всё кратковременных испытаний, пока что российских, и задержались два дня, которые провёл он поневоле в полном бездействии, истомившем его.
Раздражение накалялось уже чересчур. Он кликнул Сашку, спросил бумагу, перо и уселся за стол, от которого кислыми щами несло. Э, наплевать, на всё наплевать, коли надоумился в Азию! Заранее привычка нужна! И полетела рука:
«Сто раз благодарю тебя, любезнейший, дорогой мой Степан, и за что бы ты думал? Попробуй отгадай?.. За походную чернильницу: она мне очень кстати пришлась, зато чаще всего буду её выкладывать, чтоб к тебе писать. Получил ли ты письмо моё из Новагорода, другое из Москвы и несколько строк через Наумова? Сделай одолжение, уведомь; а пашпорты ко мне доставлены в самый день моего отъезда из Москвы, в которой я пробыл неделю долее, чем предполагал. Наконец, однако, оттуда вырвался. Там я должен был повторить ту же плачевную прощальную сцену, которую с тобою имел при отъезде из Петербурга, и нельзя иначе: мать и сестра так ко мне привязаны, что я был бы извергом, если бы не платил им такою же любовью: они точно не представляют себе иного утешения, как то, чтоб жить вместе со мною. Нет! я не буду эгоистом; до сих пор я был только сыном и братом по названию; возвратясь из Персии, буду таковым на деле, стану жить для моего семейства, переведу их с собою в Петербург. В Москве всё не по мне. Праздность, роскошь, не сопряжённые ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче она в пренебрежении; ни в ком нет любви к чему-нибудь изящному, а притом «несть пророк без чести, токмо в отечестве своём, в сродстве и в дому своём». Отечество, сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребёнка, который теперь вырос, много повесничал, наконец становится к чему-то годен, определён в миссию и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят. В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели. В Москве совсем другое: спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях, и ещё заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными. Я это ей от души прощаю, но впредь себе никогда не прощу, если позволю себе чем-нибудь её огорчить. Ты, мой друг, поселил в меня, или, лучше сказать, развернул свойства, любовь к добру, я с тех пор только начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души, как с тобою познакомился, и — ей-богу! — когда с тобою побываю вместе, становлюсь нравственно лучше, добрее. Мать моя тебя должна благодарить, если ей сделаюсь хорошим сыном. Кстати об родных, или некстати, всё равно. В Туле я справлялся об Яблочковых, посылал к Варваре Ивановне Кологривовой, но мне велели сказать, что они в деревне, а если от тебя есть письмо, то чтобы прислал. Жаль, что не удалось, а время было с ними познакомиться: я в Туле пробыл целый день за недостатком в лошадях и тем только разогнал скуку, что нашёл в трактире на стенах тьму глупых стихов и прозы, целое годовое издание покойника «Музеума». Вообще везде на станциях остановки; к счастию, мой товарищ — особа прегорячая, бич на смотрителей, хороший малый; я уже уверил его, что быть немцем очень глупая роль на сем свете, и он уже подписывается Амбургев, а не — р, и вместе со мною немцев ругает наповал, а мне это с руки. Один том Петровых акций у меня в бричке, и я зело на него и на его колбасников сержусь; коли найдёшь что-нибудь чрезвычайно забавное в Деяниях, пожалуй, напиши, я этим воспользуюсь. Ещё моя к тебе просьба: справься через Аксинью, Амлихову любовницу, о моей Дидоне. Илья Огарёв пришлёт ей из Костромы деньги на твоё имя, а если уедешь в отпуск, препоручи это Жандру, да также заранее меня уведомь, куда к тебе адресовать письма. Прощай, мой милый, любезный друг; я уже от тебя за 1200 вёрст, скоро ещё дальше буду; здесь, однако, пробудем два дня, ближе не берутся починить наших бричек. Катенина ты напрасно попрекаешь ко мне совершенною холодностию, он был у меня на квартире на другой день после того, как я исчез из Петербурга, и очень жалел обо мне и досадовал. Так, по крайней мере, рапортует Аксинья Амлиху...»
Брички подправили. Вновь они тронулись в путь бесконечный. За Воронежем потянулись холмистые длинные степи, прокалённые долгим бездождьем и кипучим полуденным солнцем. Дорога сделалась ровной и лёгкой. Холмы постепенно снижались, точно вступить готовились в море. Травянистая равнина делалась плоской. Куда-то пропали долгие сумерки севера. Ночь падала тотчас после короткого душного вечера, точно глыба валилась с чернейшего неба, усеянного высокими мелкими звёздами.
С приближением азиатской границы становилось тревожно, исподволь, малоприметно, но очевидно. Стали попадаться странные всадники в высоких шапках, сшитых из вывороченной наружу овчины, в длиннополых непривычных одеждах, с набором патронов, с зачехлёнными винтовками за спиной, непременно по двое, по трое, никогда в одиночку, сторожкие, с внимательным взглядом окрест. Наконец на облучок взгромоздился ямщик в такой же одежде и шапке и весь перегон винтовку держал на коленях.
Побуждаемый любопытством, Александр разговорился с возницей и узнал от него, что странная одежда зовётся черкеской, что лохматая шапка мехом наружу зовётся папахой и что винтовку в этих местах лучше всегда держать под рукой:
— Неспокойно у нас, господин, чеченцы шалят, как без оружия, так, глядишь, нападут, откуда возьмутся, хитрые бестии, ограбят, в плен уведут, затребуют выкуп, особливо как случится проезжающий из России, стало быть, офицер, у них уж заведенье такое, девка не выйдет за парня, пока парень не украдёт у казака коня, одно слово, разбойники, а так ничего.
Он поневоле задумывался об том, что в диком краю ожидало его. Он ехал служить под началом великого человека, в величии которого давно сделались уверены все, и он в их числе. Об Ермолове лет уже десять бродили легенды. Всюду вспыхивали ермоловские остроты: то просился произвести его в немцы, то в ответ на замечание Аракчеева сожалел, что репутация офицеров зависит у нас от скотов, то на запрос самого государя об одном генерале ответил, что тот генерал ведёт себя в сраженьях застенчиво. Каково? За такого рода остроты кого у нас не возводили в герои? Тем более гордились Ермоловым, чем менее находили других, истинно достойных и заслуженных истинно.
К такого рода дивам ума и характера влекло его целую жизнь. В этот раз к бескорыстному восхищению прилеплялось немало корысти: истинные достоинства, не пронумерованные чином и званием, какими владел, как твёрдо знал об себе, лишь великий ум способен приметить и лишь великому сердцу дано оценить.
Ах, как нуждался он в том, чтобы приметили наконец, по достоинству наконец оценили его!
Однако ж Ермолов, Ермолов...
Тот ли генерал человек, чтобы приметить и оценить? Мало ли у нас что об ком говорят...
Вот чеченцы на дорогах шалят, воруют людей и коней, а Ермолов на что? Отчего не положит разбою предел?
Он с другим разговорился возницей.
Возница скалил прокуренные, жёлтые зубы, смеялся, мотал головой, винтовку не вынимал из чехла:
— Э, господин, ничаво! Народ бойкий, а где ему против нас, одно озорство. Две пушки в конвое, тесно в горах, а не нападут никогда, а уж если поднимутся наши в штыки на завал, так мало кого удаётся догнать, бегают шибко, только что в спину стрелять мастера.
В самом деле, не стряслось ничего. К началу дождливого октября сквозь песчаные ногайские степи, то и дело увязая чуть не по ступицу скрипящей, расшатавшейся брички, дотащились они до Моздока, окружённого яблоневыми садами и виноградниками, с мазаными хатами, поставленными на сваи, с вооружённым народом от мальчишки до старика, и застряли в этой тесной скверной дыре, снизу наполненной жидкой грязью, смешанной с коровьим навозом и конской мочой, а сверху покрытой непроницаемым склизлым туманом, в особенности опасным от близости всё тех же диких чеченцев, в поисках добычи и пленников то и дело спускавшихся с гор, так что бродячую миссию тотчас предупредили, чтобы не удалялась от крепости ни на шаг, если не скучает желанием рисковать головой, а на вопрос, каким же способом передвигаются странники в этих пучинах, изъяснили вполне равнодушно, что два раза в неделю от крепости к крепости бывает конвой и что без конвоя не стало никакого житья от чеченцев, сладость собственности вкусивших в первозданной своей нищете и грабивших на равнине решительно всё, что плохо лежит, каждый год убивая с этой стороны десятки русских, рискующих путешествовать без оружия, а с той стороны десятки и сотни мало приспособленных к миру грузин, всегда готовых к ответной резне.
Войска, в составе двух батальонов, оборванные, усталые, грязные, с убитыми и ранеными не в открытом бою, а коварным нападением из засад, только что воротились из горной Чечни, где прокладывали широкие просеки в непроходимых лесах, рассчитывая таким варварским способом одолеть ещё большее варварство и сделать невозможными набеги на Грозную, русскую крепость, выдвинутую вперёд для противодействия неуёмной алчности горцев. Близ Андреевской была заложена крепость Внезапная. Торг невольниками, которые туда прежде свозились из ближних и дальних аулов и которые с незапамятных времён продавались в Константинополь на потребу турецких пашей, был насильственно прекращён, что до крайности возмутило горские племена.
Офицеры, расположившись по казачьим хатам на отдых, едва обмытые в тазах и корытах, за неимением бань, в чистом белье, но в обношенных и потёртых мундирах без эполет, довольные успехом похода, а более довольные тем, что живы остались, несмотря на частые перестрелки с шальными чеченцами, переговаривались о скудности батальонной казны, о задержанном жалованье, по осеннему бездорожью где-то застрявшем, о достоинствах и недостатках в походе черкески против мундира, о фейерверкере, спьяну пальнувшем картечью по стаду диких свиней, по шороху принявши их за чеченцев, пили с утра до вечера русскую водку и приготовляемый в здешних станицах чихирь, с вечера до утра резались ва-банк и оттого не годились ему в собеседники, как ни изголодался он за время пути. Один Талызин, ермоловский адъютант, человек простодушный, открытый, многим близкий приятель, в числе их Якубовичу, каждый день забредавший в комнаты миссии выкурить трубку, передавал интересные, большей частью ужасные вещи.
Прежде о положении Кавказа и Грузии Александр знал только то, чем располагала канцелярия Стурдзы и корреспонденты английских газет, то есть что в согласии с Георгиевским трактатом 1783 года[144] над раздираемой распрями Грузией учреждался российский протекторат, чем правители Грузии были чрезвычайно довольны, размыслив иметь таким образом надёжную защиту как от персов и турок, так и от бесчинных горских племён, которые, точно соревнуясь в жестокости, из года в год истребляли воинственное, однако беззащитное грузинское племя, что этим ранним трактатом безопасность Грузии вовсе не обеспечивалась, поскольку русские полки не получали возможности постоянного пребывания за крутым Кавказским хребтом, а их проход через теснины Дарьяла был весьма затруднителен, так что персидский шах Ага-Мухаммед[145], истинный живодёр, мог беспрепятственно продвинуться вплоть до Тифлиса и был отбит лишь отрядом генерала Гудовича, с великими трудами пришедшим на помощь обращённой в пепел грузинской столице, что грузинский царь Ираклий Второй[146] молил Екатерину Великую о присоединении Грузии к Российской империи, дабы избегнуть полного истребления со стороны энергичных соседей, восстановить в его царстве порядок и дать правильное развитие приведённому в полный упадок хозяйству, что его сын Георгий Двенадцатый[147] мольбы отца настойчиво повторил, что при Павле Петровиче приступили к составлению положения о новой российской провинции, согласно которому в Грузию вводились войска и административное управление по российскому образцу, при сохранении царского трона, однако неурядицы и междоусобия, захватившие несчастную Грузию после кончины Георгия, принудили упразднить грузинский престол, после чего Грузия обратилась в неотъемлемую часть Российской империи, поступив таким образом под безоговорочную защиту русских штыков, наконец гарантировавших ей безопасность внешнюю и прекращение междоусобной резни.
Теперь от Талызина узнавал он кое-какие подробности, от которых волосы не раз поднимались дыбом на его голове. Выяснялось, к примеру, что Грузия при грузинских царях не располагала ни малейшей возможностью останавливать на границах ни алчных горцев Большого Кавказа, ни иноверных и оттого беспощадных турок и персиян. Когда полчища Ага-Мухаммеда ворвались в пределы грузинские, большая часть грузинских дворян отказалась вступить в ополчение, а царевич Юлон, любимец царицы, поставленный во главе обороны Тифлиса, бесстыдно покинул свой пост в предерзкой надежде после разгрома отца и старшего брата самому сделаться грузинским царём, так что Ираклий смог собрать под знамёна свои едва ли три тысячи человек, поистине песчинка в море песка в сравнении с воинством Ага-Мухаммеда. Последствия двойного предательства были ужасны. Персияне легко овладели Тифлисом. Всё живое было предано огню и мечу, царский дворец обратился в груду развалин, мост через Куру был разрушен, окружность Тифлиса устилали трупы женщин, стариков и детей, а персиянские воины, опьяневши от крови, остроту испытывали мечей, хватая за ноги грузинских младенцев и с одного разу рассекая надвое хрупкое тельце, немудрено, что все, кому посчастливилось остаться в живых, разбегались в разные стороны, превратившись в народ истребляемый и кочующий, не подоспей отряды Гудовича, грузинский народ мог быть истреблён до самого корня, да и после Ага-Мухаммед не оставлял навязчивой мысли довершить своё преступление, да спустя года два, как и следовало, был прикончен своими же нукерами.
И что же? Талызин долго пыхтел своей трубкой. По его мнению, эти грузины были неблагодарный народ. Когда случился неурожай и русским солдатам, приведённым единственно на спасение народа беспомощного от неистовой кровожадности персиян, полуотрезанным от России коварством чеченцев, нападающих на караваны с мукой и патронами, пришлось конфисковывать зерно на хлеб и фураж, в Восточной Грузии вспыхнул мятеж, русские успели укрыться в Сигнахе, позднее, маломощные без подкрепления, запёрлись в монастырь, так что выбить их силой воинственные грузины никак не могли, тогда выманили на переговоры обманом, раздели нагими, пустили бежать в разные стороны и хладнокровно безоружных расстреливали, как дичь, а коменданту Сигнаха вырезали язык и заставили съесть, а после шашками на мелкие куски искрошили всего, так что нечего было похоронить. Что же с персиянами-то не резались так? Мы бы к ним не пришли.
Александр ощутил, что в самом деле забрался в воинственный край. Что в этом краю ожидало его, человека маловоинственного? Возможно, что ничего, что всё окончится месяцем позже от железной руки Якубовича, и он, несколько отвлечённый от кровавых картин этой меланхолической мыслью о близком конце, всякий день упражнялся в стрельбе, метя по мухам, устилавшим стены и потолок грязной мазанки, в которую был поселён, разряжая то и дело свой пистолет.
Дни медлительно проползали в этом нехитром занятии, пока наконец привелось ему своими глазами увидеть Ермолова.
С громадной головой на чрезвычайно крутых и широких плечах, с мясистым круглым лицом, с седыми жёсткими волосами, встававшими дыбом, пронзив его острым взглядом серых огненных глаз, с мощной выпуклой грудью, в простом офицерском мундире без эполет, генерал пружинисто поднялся навстречу, стиснул властно его узкую руку своей небольшой широкой железной рукой и коротко приказал:
— Прошу садиться, будьте как дома, это Кавказ.
Он сел, вглядываясь сквозь стёкла очков в это властное непроницаемое лицо с крутыми бровями, крючковатым, книзу расширенным носом, плоским, стиснутым ртом и тяжёлым, выступающим вперёд подбородком, не сообразив от растерянности, об чём после этакого странного приступа начать говорить, ощущая во всём этом облике властителя, воина несокрушимую силу, пытаясь как можно скорее определить, чего ему ждать от него.
Генерал, склонив тяжёлую голову, устремив на него исподлобья испытующий взгляд, грудным низким голосом громко спросил, точно командовал на плацу:
— Ну-с, как изволили ехать в наши край?
Он тотчас ответил с какой-то непонятной ему осторожностью, точно разом проник, что с этим имеющим и любящим бесконтрольную власть человеком быть открытым, опасно, опасно весьма, если вовсе не глупо:
— Дороги сквернейшие, ваше высокопревосходительство, а так ничего.
Генерал улыбнулся неприятной, потому что откровенно притворной улыбкой, механически, как на театре, прираздвинувшей тонкие губы:
— Величания не люблю, у нас без чинов, просто зовите, Алексеем Петровичем.
Он оживился, предчувствуя счастливую возможность сближения, тонко улыбнулся в ответ:
— Дороги сквернейшие, Алексей Петрович, да без чинов хорошо.
Генерал нахмурился, раздумчиво проворчал:
— То-то что скверные, недостойно России, державы единственной, у нас ещё гаже, одна порядочная и есть, сквозь Кавказский хребет, всего двести вёрст, а и то... да вот не в дальнем времени увидите сами. По какой надобности пожаловали сюда?
Он разглядывал это ставшее, оттого что нахмурилось, прекрасным лицо и отозвался легко:
— Служить, Алексей Петрович, посольская миссия.
Генерал с нетерпением возразил:
— Что служить доложили, не об том говорю. Моего назначения на Кавказ я всегда желал чрезвычайно, и тогда даже, как по чину не мог иметь на то права.
Он было вставил:
— Чин и на мне небольшой.
Генерал, должно быть, не слушал его, надобности в том не имея, говорил чётко, раздельно, видать, что славных римлян Цезаря, Тацита[148] много читал, глядел испытующе, прямо в глаза:
— Государь, постоянно мне благотворящий, мне объяснил, что не решился бы определить меня в Грузию, кабы не имелись свидетельствующие, что я желаю того, ибо сам он думать не мог, чтобы сие назначение могло согласоваться с моими намереньями. Я хоть не государь, однако ж любопытствую знать, на Кавказ назначение согласуется ли с вашим намереньем?
Хитёр, петербургских историй не мог же не знать, он смешался, соображая, что отвечать, поскольку в мнении непосвящённых его намерение лечиться Кавказом выглядело несколько странным, а вдаваться в подробности интимного свойства он не хотел и не мог, так что поневоле пришлось изъясниться неопределённо и по-цезарски кратко:
— Намерение служить.
Казалось, генерал таким ответом остался чрезвычайно доволен и заговорил веселей:
— Посольская миссия мне нынче чрезвычайно нужна. До сей поры я был принуждён сам исполнять важную должность посла, мне неприятную. Меня устрашают дела, по роду своему совершенно мне неизвестные. К тому же я наслышан и на своей шкуре изведал хитрость и коварные свойства наших противников, по какой причине отчаялся исполнить с успехом поручение государя. Да и это не всё. Не могу не признать, что так не оскорбляет ничто, по моему мнению, самолюбия, как обманутым быть, а с персиянами я никак не могу надеяться избежать сего поношенья. Надеюсь, вы довольно умны, чтобы самолюбие ваше не пострадало от них.
Он отозвался не дрогнув:
— Самолюбие ставлю я высоко.
Генерал рассмеялся:
— Прекрасно. Надо вам знать, что я определил здесь систему медления и, подобно Августу, императору римлян, имею право сказать: «Я медленно спешу». Так надобно поискуснее дипломатничать в Персии, чтобы не мешала нашей осаде Кавказа, осадившего нас нападениями непрестанными на наши посты, караваны и подданных наших, прежних и новых, доброй волей отдавшихся нам, которых обязаны мы защищать. Потому важно, кому намерены служить вы, именно вы: либо Отечеству, либо себе, то есть карьере, разумею сказать.
Осада Кавказа, нас осадившего, — мысль глубочайшая, в особенности нравился этот открытый вопрос, он не колебался, признался открыто:
— Намерен Отечеству.
И, помедлив, прибавил, вдруг улыбаясь, сверкая очками:
— Да и карьере не хотел бы чувствительного вреда нанести, чинов не стыжусь.
Генерал пооттаял, в первый раз улыбнулся глазами:
— Вот и славное дело, это по мне. Мы здесь не для потехи стоим, а единственно для того, чтобы ещё более возвысить Россию успешным замирением целого края, чрезмерно воинственного между собой. А чинов и я не стыжусь, из чего, карьера сама собой на службе Отечеству. Карамзина «Историю» читали, позвольте узнать?
Угадывая, что запрос неспроста, не угадывая, в чём его тайный смысл, поскольку без тайного смысла тут быть никак не могло, он ответил лукаво, то есть усиленно кратко:
— Читал.
Генерал расставил толстые ноги, одну руку опустил на колено, другой крепко стиснул угол стола и с гневом, с брезгливой складкой заговорил:
— Я этой «Историей» весьма недоволен, признаться сказать, не знаю, как вы. Я бы желал, чтобы не слащавое, но пламенное перо изобразило переход народа русского из ничтожества доисторической древности к могуществу и славе новейших времён, вплоть до славной победы над Бонапартом, полководцем искусным. Записки Курбского[149] — дело иное, человек мужественный так и виден во всякой строке. «И разсмотрив тамо положения места, поки по лете едином или дву, град тамо превеликий, зело прекрасен, абие поставити повелел на реце Свияге, от Волги за четверть мили, а от великого Казанского места аки миль пять. Так близу приближался». А, каково? А вы с какими авторами беседовали в пути?
Разгадав наконец, что это допрос, он с некоторой хвастливостью отвечал, уже уверенный в том, что придётся генералу по вкусу:
— С Голикова «Деяниями Петра».
Генерал, однако ж, поморщился:
— Великолепное чтение, да мне преизвестно давно, а вот новенького не везёте ль чего?
Он признался, дивясь в генерале интересу литературному, даже учёному:
— Чемодан и без того был тяжёл, а багаж, должно быть, где-то в дороге застрял.
Генерал поморщился в другой раз, кивком головы указывая на стол, обыкновенный, походный, изготовленный для обедов, не для письма, где узнал он Тита Ливия по тиснённому золотом корешку:
— Скверно, скука смертная, читать жаждется много, а всё, что имею, зачитал наизусть.
Он полюбопытствовал, по-прежнему не доверяя ему, надеясь вывести на чистую воду, петель, мол, не вяжи:
— Какая же скука в походах?
Генерал огрызнулся, точно ножом полоснул:
— В походах известное дело: скука ума!
И вдруг, точно выждал момент, в другой форме задал свой прежний вопрос:
— Да вы присланы к нам или волей своей?
Он вновь уклонился от прямого ответа:
— И прислан и волей своей.
Генерал тяжело засопел:
— Отношения на вас оттуда не поступало. Впрочем, Кавказ у нас почитается тёплой Сибирью, разжалованных и сосланных тьма, авось, мол, пули чеченские вольные мысли или бесчестье повыбьют из головы. Выбивают исправно. Я государя просил дать особое положение об их производстве, не то с ними беда, все храбрецы, производства достойны после каждого дела, однако ж храбрость, известно, гораздо лучше, чем ложь. Ваша история с Якубовичем дошла до меня, в сомнении быть не извольте. Якубович прислан ко мне против воли своей. Так вы прямо отрапортуйте: драться пожаловали в наши края?
Он выпрямился:
— Дело чести, не воля своя.
Генерал покраснел сразу весь, шеей, лицом и ушами, гневно прикрикнул, точно на денщика:
— Так я вам с Якубовичем драться не дам! Мне живые дипломаты нужны!
Он побледнел:
— Ваше высокопревосходительство, смею сказать...
Генерал, яростно сузив глаза, перебил:
— Я твои петербургские вирши читал. По моему пониманию, поэты суть гордость нации, заруби себе на носу, долг велит поэтов пуще дипломатов беречь. Вдвойне заруби: драться не дам. С Богом ступай!
Он вышел как пьяный, с душой, выступавшей из привычных своих берегов. Впечатление переливалось таким свежим, светлым, огромным, что хотелось хоть кому-нибудь его передать. Однако ж Амбургер благодушный только бессмысленно улыбался в ответ. Перед Талызиным было бы изливать своё восхищенье подозрительно или нелепо. Кому бы ещё? Он ощутил, как ужасно он одинок. Тогда, махнувши рукой на приличия, он излился в письме к Мазаровичу, человеку почти ему незнакомому, застрявшему в Грозной чёрт знает зачем:
«Любезный и достойный Семён Иваныч, вот мы и у подножия Кавказа, в сквернейшей дыре, где только и видишь, что грязь да туман, в которых сидим по уши. Было б отчего с ума сойти, если бы приветливость главнокомандующего полностью нас не вознаграждала за все напасти моздокские. Здешний комендант передал мне Ваше письмо, полное любезной заботливости об тех, кого Вам угодно называть Вашими товарищами и кто по существу лишь подчинённые Ваши. Правда, что с тех пор как я состою при Вас в качестве секретаря, я не нахожу уже, чтобы зависимость бедного канцелярского чиновника так была тяжела, как прежде в том был уверен. Вздор истинный, в чём я ещё более убедился в тот день, когда представлялся его превосходительству господину проконсулу Иберии: невозможно быть более обаятельным. Было бы, конечно, безрассудством с моей стороны, если бы за два раза, что я его видел, я вздумал бы выносить оценку его достоинствам, но есть такие качества, которые в человеке необыкновенном видны сразу же, причём в вещах, на вид наименее значительных, например, своя манера особенная смотреть и судить обо всём, с остроумием и изяществом, не поверхностно, но всегда становясь выше предмета, о коем идёт речь; нужно признать также, что говорит он чудесно, так что я часто в беседе с ним не нахожу, что сказать, несмотря на уверенность, внушаемую мне самолюбием.
Что до Вас, любезнейший мой начальник, очень бы хотелось мне пространнее и подробнее изложить здесь всё, что я об Вас думаю, но лучше об этом помолчать, чтобы не заслужить упрёка в пошлости, не принято восхищаться людьми в письмах, к ним обращённых. Я вам скажу только, что мне не терпится поскорее сердечно Вас обнять, зачем же Вы, дипломат, проводите на лагерных бивуаках дни свои, которые должны были бы быть посвящены одному поддержанию мира? Как только будем вместе, расскажу Вам пространно о всех дорожных наших бедствиях: об экипажах, сто раз ломавшихся, сто раз починяемых, о долгих стоянках, всем этим вынужденных, и об огромных расходах, которые довели нас до крайности. Вот рассказ, Вам отложенный до Тифлиса, нынче мы направляемся к Кавказу, в ужасную погоду, и притом верхом. Как часто буду я иметь случай восклицать: «О Коридон, Коридон, какое безумие тебя охватило!..»
Всё это, однако, кончится, когда мы увидимся. Амбургер просит передать Вам нижайшее почтение, он сам Вам не пишет, так как не имеет ничего прибавить к тому, что я Вам сообщил, поэтому благоволите читать мы всюду, где встречается я, меня, мне и проч.
С чувством совершенного уважения честь имею быть преданным Вам.
Тот, кого я попрошу передать Вам это письмо, привезёт Вам и письмо от матушки. Сверх того, у меня много других писем для Вас в багаже. Простите мне моё маранье, у нас перья плохо очинены, чернила сквернейшие, и к тому же я тороплюсь, сам, впрочем, не зная почему...»
Едва настал светлый день, они выступили походом, окружённые плотным конвоем и пушками с зажжёнными фитилями, поскольку в любую минуту можно было ожидать нападения беспокойных чеченцев. Верхи снежных гор просвечивали иногда из-за туч, облегавших всё небо неприветной своей пеленой. Цвет пелены был светлооблачный, перемешанный с бледной лазурью. Караван в шестьсот человек из полуроты пехоты и отряда ружейных армян. Конные разведчики на рысях уходили вперёд, то возвращаясь для отдачи доклада, чуть не каждый куст обглядев со вниманием, то вновь исчезая за чёрной скалой.
Ветер дул с заснеженных гор, погода беспрестанно менялась. Небо заволакивалось всё гуще, грозя непогодой на всё время пути. Быстрина Терека, обсаженного лесом от Моздока до Шелкозаводска, преградила им путь. Переправа шла очень медленно, представляя для чеченцев мишень. Караван, сгрудившись, ждал, выставив пушки, заряженные картечью, вперёд. Прислуга была наготове. Фейерверкеры взяли в руки слабо тлевшие фитили.
Вдруг из кустов на том берегу грянул выстрел, пуля визгнула, гребенской казак был убит наповал, медленно в сторону относило синий дымок. Ермолов взглянул с седла на убитого, упавшего шагах в пяти от него, ничего не сказал, не переменился в лице и снова стал наблюдать, как переправлялись стрелки, тут же рассыпаясь по правому берегу в возможно редкую цепь, укрываясь кто за камень, кто просто за куст, видимо уже переняв разбойничьи приёмы чеченцев.
Наконец переправились и пошли на редут Кабардинский. Молодой офицер, с которым Александр успел свести знакомство поближе, рассказывал, держась свободно в казачьем седле:
— Видали, как пальнул и исчез, как сквозь землю пропал. У них здесь это на каждом шагу. Край мирный, а повсюду бой не бой, война не война, беспокойный, а ничтожный народ. В станицах старообрядцы и жёны на службе у гребенцов, вооружены даже дети, от пятнадцати до ста лет. Вы не поверите, из тысячи шестисот жителей тысяча четыреста под ружьём.
Слушая, держась ещё не совсем твёрдо в седле, после того как свалился в Бресте с коня, Александр в самом деле несколько раз повторил из второй эклоги Вергилия стих, который шутя помянул в письме к Мазаровичу.
Ветер усилился. Небо сплошь обложилось. Он оборотился назад, придерживаясь за луку седла: темно, обозы, смятение, бой барабана для сбора, впереди в редуте огни, на нижнем склоне горы.
Бивуак разбили против ворот, заложили костры. Солдаты грелись у печальных огней, варили свой неизменный кулеш, с которым проделаны походы и войны.
На другой день стали подниматься длинной извилистой цепью медлительно в гору. Путь был излучистый, грязный и скользкий, с крутизны на крутизну, час от часу теснее от густевших кустов, которые скоро у него на глазах обратились в дубраву. Времена года смешались. Становилось тепло, так что можно было откинуть башлык. Затем снова зимняя стужа. Верхние листья деревьев замёрзли. Иней и зелень причудливо смешались на них.
Переполненный впечатлениями, с непривычки в этой толпе, всегда малоприятной ему, он пустил лошадь в сторону наудачу, полчаса вдыхая приятное здесь одиночество, облегчавшее душу, однако ж приноровленная к кавказским обычаям лошадь вскоре сама собой воротилась к собратьям своим.
Версты через три поехали гусем, один за другим. Одни ястребы и орлы, потомки Прометеевых кровожадных терзателей, величаво парили над ними, высматривая добычу. Было пасмурно. Снег, как белое полотно, висел в складках гор.
Александр вновь, на этот раз с десятком казаков, пустился вперёд. Они скакали берегом Терека, который мчался между диких круглых камней и неровных обломков скатившихся скал, увлечённых с верхов гор неумолимым потоком, издававшим оглушительный шум.
Владикавказ открылся на плоском месте, в красивой долине, зелёные огороды кругом и седые величавые верхи над ними. На чугунных воротах прочитал он известную надпись, которая здесь ему показалась уместной. Он прежде читал, что эти места благодатные изобилуют фазанами, сернами, вепрем, однако ж во всём Владикавказе негде было поесть. В дрянной гостинице, где они разместились, нашли трёх инвалидов в просторных мундирах старинного образца, от старости едва гремевших большими ключами. Из окна виднелись невысокие белые домики, сбегавшие к берегу Терека. Из-за гряды ближних гор выглядывал величавый Казбек, точно на страже стоял.
На другой день караван двинулся далее. Терек, разливаясь здесь широко на несколько рукавов, встречал их издали сердитым, неприветливым гулом. Под ногами конных и пеших хрустела крупная галька, обкатанная буйной рекой. Ущелья становились теснее. Налево открылся осетинский аул со своими плоскими саклями. Солдаты в шинелях что-то делали в той стороне. Подгоняемый любопытством, Александр пустил в ту сторону рысью коня. Осетинов, обитателей сакли, не было видно нигде, только заливались бешеным лаем собаки, и куры с треском крыльев вылетали из-под часто и дробно стучавших копыт. Солдаты перед ним расступились. На дереве, склонив голову набок, висел осетинец в богатой черкеске с серебряными газырями и в ноговицах. Потрясённый, поворотил он коня и подскакал к генералу.
Ермолов менял уставшую от его непомерной тяжести лошадь и уже взялся за луку просторного, обитого начищенной медью донского седла свежей гнедой пятилетней кобылы, которую ему подвели.
Сдерживая рвущийся крик, Александр дерзко спросил, точно право имел, указывая нагайкой на опустевший аул:
— Что это, ваше высокопревосходительство?
Ермолов вставил ногу в стальное стремя с мелкой насечкой внутри, с необыкновенной лёгкостью взбросил грузное тело в скрипнувшее кожей седло, выправил полы распахнутого офицерского сюртука, разобрал поводья и спокойно проговорил:
— Прежде здесь на базарах выводили захваченных людей на продажу, а нынче моим приказом вешают самих продавцов. Каково?
И, хлопнув гнедую кобылу ладонью по лоснящейся шёлковой коже, неторопливо отъехал, не ожидая ответа на свой вызывающе странный вопрос.
Александр остался стоять в негодовании прежнем, но пристыженный, усиливаясь сделать понятие о правилах и нелепостях кавказской войны, которая как будто всюду велась и как будто никем и нигде не велась.
Талызин, с чеченскою шашкой через плечо, подъехал к нему на высоком донском жеребце.
Александр молча тронул коня.
Они поехали рядом. Талызин указал на редут, возведённый русскими напротив аула, и стал многословно рассказывать, как на этом месте многих наших порезали, занятых сенокосом и оттого не поспевших добежать до ружей своих, составленных пирамидой, как наш устав говорит.
Слушая этот невозмутимый, без тени ярости и состраданья рассказ, Александр думал о том, что Ермолов, какого он прежде знал по легендам, как-то здесь не на месте, на этой нерегулярной, дикой войне. Утёсы между тем становились всё выше, всё ближе, всё теснее прижимались друг к другу, ни выхода не видать, ни исхода, одна узенькая полоска серого неба над головой. Дорога делалась всё кривей и кривей. Между утёсами висели дымные облака. На вершинах мрачно виднелись брошенные башни и замки. Только в одной, с виду прочной и грозной, сквозь неширокую прорезь в стене курился дымок.
Талызин с весёлой усмешкой сказал:
— Видите эти лесные скважины, изображение окон, причуда воинственных горцев? Это Амилахваров, слыхали?
Запрокинув голову, разглядывая, как неровно, однако же прочно, на глаз была выложена прямоугольная башня из дикого горного камня истощёнными руками осетинских рабов, как в Египте выкладывались руками рабов пирамиды, он отозвался:
— Нет, не слыхал.
Талызин толкнул своего жеребца, и они двинулись дальше, касаясь стременами друг друга, невольно теснясь в тесноте:
— Забавная история, на здешние нравы, я вам доложу. Этот Амилахваров служил в Кахетии военным начальником, исправно служил, надо правду сказать. Его сменили единственно за старостью лет и назначили, как положено, пенсию, в две тысячи русских рублей серебром. И что же? Тут о пенсиях никогда не слыхали, так пенсия его испугала. У него там, внизу, сторожа, сам он занимает средний! этаж, а на верхнем хранится казна, в казне он пенсию свою сберегает, всю, до рубля. «Русские даром ничего не дают, — говорит, — коли придерутся к чему: вот им вся пенсия обратно за четырнадцать лет». Каков князь?
Терек шумел.
Вдруг в этом беспрестанно нарастающем шуме защёлкали беспорядочно выстрелы, две пушки грохнули одна за другой, завизжала картечь. Караван тотчас встал, не дожидаясь приказа. Егеря схватились за ружья. Несколько казаков, пригнувшись к гривам коней, на рысях поскакали вперёд. Через минуту по цепи каравана стало известно, что обстреляли наш авангард и что, по счастью, никого не задело.
Двинулись дальше, держа ружья на изготовку, с подозрением озираясь по сторонам. Через полчаса открылся Дарьял. Отвесные чёрные скалы с обеих сторон вздымались к самому небу. Как сказано у Плиния Старшего[150], именно это место мудрые римляне запирали деревянными, окованными железом воротами, таким простым способом избавившись от набегов диких племён. Между скалами просвечивал крохотный синий клочок. Сверху сливались ручьи, наполняя душный воздух ущелья мелкими брызгами. Терек метался и выл в завале чёрных камней. В новые времена нужда заставила смекалистых русских расширить Дарьял. Узкая дорога была проложена взрывами пороха, а вместо ворот служили картечь и штыки. Напротив Дарьяла виднелись развалины крепости, далее паслись лошади, стояли стога, ещё первый признак цивилизации в этих первобытных краях.
Ночевать решили в казармах. От непривычки и тесноты Александр большей частью не спал, слушая несмолкаемый рёв бесновавшихся вод.
Поутру пошли из Дарьяла. Поход сделался труден из-за множества в беспорядке наваленных крупных каменьев, скатившихся с гор. Терек прошиб себе тесную щель сквозь завал. Завал пришлось далеко огибать. Арбы с поклажей то и дело мешались с артиллерийскими зелёными ящиками. В разных местах несколько раз перешли Терек. По сторонам живописно лепились нищие аулы мирных осетин, из жажды собственности так и не ставших грабителями, в отличие от разбойных соседей.
Вёрстах в двадцати пяти открылся могучий Казбек. Посередине горы виден был монастырь, в стороне от обители построен был замок, внутри замка церковь, покрытая гранитной плитой, и тюрьма.
Чем выше поднимался отряд, тем больше открывалось глазу селений и башен, большей частью лежавших в руинах, брошенных жителями, уходящими с бедных гор на равнину, в соседство зажиточных русских станиц. Ветер становился сильнее. Снегу всё прибывало. Дорога, идущая косогором, обледенела, а сбоку Терек ярился, и солнца не было видно. Солдаты сопровождения падали беспрестанно. Его лошадь скользила и оступалась на каждом шагу. Александр продвигался большей частью пешком, ведя её в поводу, не имея желания шею свернуть. Он страшно устал и до Крестовой горы добрался с величайшим трудом. Внизу лежала Чёртова долина, тоже покрытая снегом. Спуск в неё был короткий, всего версты две, но ужасно крутой. От изнеможения Александр падал несколько раз, однако ж из самолюбия, из нежелания, чтобы опытные кавказцы пожалели его или посмеялись над ним, тотчас вставал и двигался дальше.
Подъём на Гуд-гору совершался по преузкому косогору, который обрывался неизмеримою пропастью, с едва различимой речкой на дне, похожей на нитку, а по ту сторону пропасти вздымались такие же превысокие горы и, точно детские домики, редкие осетинские аулы на них. Дорога обвивала гору кругом. Мелкий рассыпчатый снег хрустел под ногами, точно на московских улицах на Рождество. От редкого воздуха становилось трудно дышать. По сторонам все развалины, развалины, развалины замков и башен.
Вот и вершина. Койшаурская долина в своей невиданной прелести простиралась внизу. С боков ещё тянулись неприступные горы и красноватые скалы, окрашенные купами чинар и зелёным плющом, а там из мрачного ущелья вырывалась Арагва, вся в кустарниках, в пашнях, в лугах, со стадами, сверкая ослепительным серебром, снова башни, сакли, церкви, монастыри и снова руины, руины, куда глаз хватал, без конца, мрачные следы беспрестанных набегов лезгин.
Отряд спускался в долину. Снегу становилось всё меньше, пока он совсем не исчез. Кругом стало зелено всё, как будто и камни. Арагва быстро неслась и шумела, как Терек, её брат, по ту сторону гор. Дорога извивалась, точно в первозданном саду: яблони, груши, лимоны.
Отряд сделал короткий привал. Перемазанные, расхристанные солдаты сосредоточенно чистились, старательно приводили в порядок громоздкую свою амуницию. Александр прилёг в стороне, между обгорелыми пнями и старым развесистым буком. Позади него безымянная речка текла под горой. Кругом тянулся к солнцу высокий кустарник. Между кустарником взлетали к небу большие деревья. Сквозь деревья проглядывали холмы. Фазан выклёвывал что-то в осенней пожухлой траве. Талызин, не видя его, грелся в лучах заходящего солнца, подняв кверху лицо, зажмурив глаза. Лошади переступали, неспешно кормясь.
Смеркалось. На долину легла длинная тень от монастыря, стоявшего на снежном верху. Впереди в беспорядке громоздились сплошные горы Востока, но, представлялось издалека, не такие громадные, рослые, страшные, как позади высились те, что прошли.
Они пересели на дрожки. Амбургер правил, ласково беседуя с грузинскими лошадьми по-немецки. Впереди последними блестками румянились пышные облака. Дорога шла берегом, была обсажена буками, яблонями, грушами, сливами, тополями и клёнами. На скалах и здесь торчали руины, оскорбляя взор своим безобразием. Налево остались Ананур, где во время ужасной резни, устроенной Ага-Мухаммедом, укрывался Ираклий Второй и сидел, от стыда оборотившись к стене, и Душет. Дрожки взбирались всё выше. В темноте вокруг выли шакалы и слышался лай сторожевых пастушьих собак.
Где-то ещё провели одну ночь в полусне, с невольно то бьющимся громко, то замирающим сердцем, а наутро снова перед глазами побежала дорога. Сверху увиделся горами сдавленный город, даже не город, а сваленные в кучу обыкновенные горские сакли с плоскими крышами, между ними много руин из нагромождённых в беспорядке камней, грязный след, оставленный Ага-Мухаммедом и набегами диких лезгин. Через Куру, быструю, мутную, в завитках коричневой пены, переправились по древнему мосту, неизносимому наследию хозяйственных римлян, восстановленному русской администрацией, единственный признак цивилизации в этих краях. Крупной рысью въехали в главную улицу и тут же замедлили бег, а вскоре пришлось тащиться медленным шагом. Кругом стояли и двигались ишаки, груженные плетёными корзинами с овощами и фруктами или бурдюками с вином, тяжёлые возы с сеном и хворостом, запряжённые круторогими буйволами с деревянным ярмом, конные грузины в черкесках всех возможных и невозможных цветов, русские офицеры в мундирах без эполет, женщины, накрытые чёрной чадрой, собаки и дети. Ряд улицы сплошь был занят мастерскими ремесленников, армян и грузин, открытыми настежь. Немногие покупатели тут же толпились, придирчиво, часто цокая языками, разглядывая и ощупывая выставленный на продажу товар. Не обращая на них никакого внимания, ремесленники работали тут же, точно выставляя на вид, что делалась каждая вещь без обмана, искушая подозревать, что обман был в немалом ходу. Плавилось золото, чеканилось серебро, ковались кинжалы, кроились бешметы, обшивались позументом башлыки и папахи, брились наголо круглые азиатские головы, варился плов, дымились на углях шашлыки, распространяя удушливый запах горелого мяса, выделывались из глины кувшины, ковались кони, выстругивались сёдла для ишаков, гремело железо, сеялись искры, сверкали алмазы, струилось вино, курился под ногами свежий навоз.
Это было средневековье во всей своей наготе, которое знал он только по книгам и не чаял в нём очутиться, увидеть своими глазами, погрузиться в него, точно в омут какой, пятнадцатый или шестнадцатый век.
Александр окончательно позабыл о себе, что с ним прежде сделало утомленье похода.
Они должны были на первое время остановиться в трактире у Поля, как им сказали, когда они, оставляя отряд назади, направлялись в Тифлис, чтобы дня через два или три получить билет на постой. Он соскочил с дрожек, весёлый и лёгкий, засмеялся счастливо и побежал, желая через три ступеньки скакать, точно мальчик, ничего не разбирая перед собой.
Не тут-то было. На верхней площадке его поджидал Якубович. Усы распушил, выпятил грудь, брякнул шпорами, сделав навстречу всего один шаг:
— Не извольте сердиться, что поспешил.
Нижегородский драгунский мундир, тоже без эполет, загорел, усищи какой-то непомерной длины, взор орлиный и дикий, голос грубый и громкий, на другой стороне непременно слыхать, точно в кузнице золотом громыхнул по железу, так и рвётся пустую башку поставить под пулю или пулей своей другого насмерть сразить придуманный человек, готтентот.
Александр увидел глаза на снегу, глядевшие на него со смертной тоской, которых не видел с тех пор, как попал на Кавказ, хотя об Якубовиче помнил всегда, чуть не во сне, и холодно отозвался, высокомерно брови подняв:
— Что ж, дело начато — пора и кончать.
Якубович слегка поклонился, точно они были крест-накрест враги и обыкновенный светский поклон мог бы унизить его, вновь громыхнул:
— Дозвольте узнать, кто нынче ваш секундант?
Александр усмехнулся, предвкушая эффект, кивнул головой себе за плечо:
— Амбургер, Андрей Карлыч, мой актуариус, письмоводитель, к вашим услугам.
Якубович с учтивостью, нарочито подчёркнутой, обратился к побледневшему немцу, точно не понимая, что ниже письмоводителя не было чина, впрочем, сам был по-прежнему всего лишь драгунский корнет:
— Нынче вечером сходка у Муравьёва, с ним условитесь окончательно обо всём.
Бряцнул шпорами, дёрнул куда-то вверх головой, сбежал вниз с таким выражением на лице, точно дельное что-нибудь совершил, а не знакомцу, им же оболганному, осрамлённому, хоть глаз никуда не кажи до конца своих дней, всучил в день приезда, в миг приготовленной встречи, на смертный поединок картель.
Прошедшее не оставляло, прошедшее держало его, точно беспечную муху терпеливый кровожадный паук. Не вырваться ему, видать, никуда не уйти.
Номер в захолустном трактире достался слишком посредственный. Две узкие походные постели с каким-то неопрятным, серым бельём, стол обыкновенный, убогий, для письма непригодный, поставленный не из надобности для приезжающих, офицеров армейских, а для порядку, привезённому из иных палестин, истёртые кресла, исшарпанный пол.
С дороги хотелось вымыться, переодеться, но он не чувствовал сил даже на то, чтобы просто умыться. Он встал у окна с окаменевшим лицом, брезгливо глядел сквозь немытые стёкла, видел гору, довольно высокую, сакли, монастырь на самом верху, мрачный, далёкий, чётко очерченный на фоне ясного неба, и точно не видел: ни гора, ни сакли, ни монастырь не занимали его.
Амбургер метался у него за спиной, твердил, что Настасье Фёдоровне слово честное дал, что в долг вменил себе остановить и спасти. Тщательно брился, фыркал над умывальником, переоделся в чёрные брюки и в чёрный сюртук, точно на погребение шёл, шёлковый галстук обернул кругом шеи, наконец затоптался на месте, в спину сказал:
— Обязанность секунданта мне неизвестна.
Александр обернулся, всё каменный, нелюдимый, ушедший, невнятно сказал:
— Знал, что встречу непременно, так должно быть, да нынче не ожидал. Куда он спешит?
Амбургер обдёрнул сюртук, несколько раз неуверенно повторил:
— Мирить и мирить?
Он слышал смутно, примиренья хотел всей душой, как воздуха на этой, как её, Гуд-горе, да позволить не мог себе об этом просить, проговорил отчуждённо:
— По его понятиям, я должен выстрел ему, так скажите, долго быть должным я не люблю.
Амбургер руками всплеснул:
— Какой вы должник? Кому и за что? С ума вы сошли! Ничего не пойму!
Он непримиримо, с нотой вражды процедил:
— Подите.
Амбургер выскочил вон, мелко протопал по коридору, пропал.
Он ссутулился, заложил руки за спину, следил невидящими глазами, как день угасал, видел как-то внезапно и по частям то убогие азиатские сакли с плоскими крышами, на которых кто-то сидел, по которым кто-то ходил, точно не крыша, а двор, затем гору, затем монастырь наверху, думал томительно о поруганной чести своей, глупо поруганной, дураком и тьмой дураков, ни за что ни про что, силой сплетен, неотвратимой, у нас сокрушительной, поскольку мы народ молодой; в Петербурге трусом прослыл, в Москве ославили сумасшедшим, на Кавказе объявят уродом каким? Объявят, объявят, сомнений тут не было никаких. Проклятый мир! Изволь жить посреди дураков!
В дверь постучали, негромко, неторопливо, отчётливо, с достоинством стучал человек. Ужели пришли? Он обернулся, хотел лицо изменить, крикнул сухо, что можно войти, а сам на дверь глядел так, точно увидеть ожидал пистолет. Дверь подалась, но не тотчас, уж не взгляд ли его давил изнутри, наконец скрипнула, поползла на него, отворилась. Спокойно, вежливо вступил офицер, в эполетах, неместный, это видать.
Александр сощурил глаза, удивлённый, всё-таки весь обмирая, да Обмирал и сжимался напрасно.
В самом деле, Быков, Василий Васильич, лейб-гвардии Павловского полка штабс-капитан, старинный знакомец, не близкий, не доверительный, а всё же искренно рад, милый, в такую минуту бесконечно желанный, как на шею не бросился, невозможно было понять.
Быков улыбнулся приветливо, сказал, что из Петербурга, только два дня, поклоны от Толстых, двух Семёновских, от Всеволожского, от Никиты, верно, Александр всё в делах да в бегах, от капитана Фридрихса, все здоровы как нельзя лучше, со своей стороны желают здоровья, успехов, удачи отъехавшему вдаль Грибоедову, так и сказал, простой и добряк, тотчас видать, он всегда знал за Быковым эту черту, да не изволите ли шампанского бутылку открыть на праздник, встречи в этаких-то краях, не чаял, что занесёт, в гвардию людей отобрать, ростом чтоб вышли, ну и, знаете сами, чтоб лицом тоже богатыри.
Натура здоровая, без прикрас, без красот, да прямая, открытая, ума не палата, да, первейшее дело, отнюдь не дурак, с порученьем серьёзным, нешумным, есть об чём толковать без затей, шампанское кстати, впрочем, вовсе не кстати, рука завтра станет дрожмя дрожать, славная пища тем дуракам, пришлось извиниться, а вот не изволите ли пригласить отобедать назавтра в ресторации здешней, и нынче бы с удовольствием величайшим, об чём разговор, да обедал и ужинал, с дороги смертельно устал, дороги не наши, а и наши хоть брось, так завтра, завтра всенепременно, в четыре часа, и Быкова, штабс-капитана, со всей надлежащей любезностью до дверей проводил.
Остолбенел: завтра тот-то, с усами, должен выстрел готтентоту отдать, хорошо, как убьёт наповал, а если тот его наповал, с пулей в черепе какой же обед, ей-богу, балаболом ославит штабс-капитан, простодушнейший человек, а ославит, оттого и ославит, что простодушен, нелукав, нехитёр, верно, на роду ему писано ославленным жить и ославленным в могилу сойти, оттого и не должно в могилу сходить, так что же, тому-то — пулю в живот? В поединке две пули — выбор слишком простой.
А как выбирать, благо Амбургер прибежал, запыхался, прохрипел сухим ртом:
— Положили завтра стреляться на квартире, Талызин какой-то, им друг, шесть шагов, барьер у стены, положили.
Он чуть не равнодушно сказал, оттого что всё как-то вдруг опустилось в душе:
— Барьер у стены? В самом деле: выбор слишком простой.
Амбургер замахал, закричал:
— Какой выбор? Какой? Да вы поглядите: вот, вот!
Оборотился суетливо, смешно, худыми ногами, как цапля, ступил, спиной прижался к стене, засипел:
— Палкой возможно достать, а тут пистолет, и этот, ваш-то, громадный, ручищи с оглоблю, убийство, не поединок, так-то нельзя!
Он не слушал, твердил почти в забытьи:
— Именно, именно: выбор слишком простой.
Амбургер прыгал:
— Настасье-то Фёдоровне что я скажу?
Он с усилием разлепил губы в улыбке:
— Скажете, что выбор слишком вышел простой, а честь, мол, дороже всего.
И встал у окна. Там черно, не видно ни зги, а он всё стоял и глядел, повторяя без мыслей, что выбор вышел слишком простой, Амбургера спать отправлял, чтобы только отстал, слышал, что лёг наконец, ворочался всё, звал, поспите, мол, заутра-то бой, он откликался, соглашался на всё, а лечь все ноги не шли, умудрился новую жизнь начинать, для оказии сей пропёрся чуть не три тысячи ломаных, верченых, скачущих вёрст, и вот тебе на: выбор вышел слишком простой!
За полночь лёг, как упал, уснул в тот же миг, спал мертвецки, без снов, Амбургер его разбудил:
— Глядите, записка, нельзя у Талызина, Талызин им отказал, верно, порядочный человек, руку не стыдно пожать, после обеда мне снова идти, к этому, к Муравьёву[151], того секундант, так идти?
Он потянулся, притворно зевнул:
— Конечно, идти.
— Что сказать?
— Что более должен быть не хочу.
— Это что? Вы больны? Лихоманка такая у вас?
— Абсолютно здоров, аппетит превосходный, славно обедать хочу, штабс-капитан, молодец.
— Какой ещё штабс-капитан?
— Быков, Василий Васильич, познакомлю, увидите сами, что молодец.
— Э, с ума с вами сойдёшь!
Оделся, отправился прогуляться, чтобы в самом деле аппетит нагулять, хороший аппетит первейшая вещь, матушка не зря, бывало, шпыняла его. Вчерашние мысли пропали, он знал, что только на время ушли, опять затерзают его, коль отпустит беда, да уж это потом, а пока хорошо, он всё шире и шире глаза раскрывал.
Собственно, города не было никакого, место жительства, мало удобное, не больше того, великие города как один на холмах, вовсе не то, что Москва, да и в Петербурге, даже в Бресте он получше видеть привык. Тесные улочки, кривые, куда там арбатским до них, к тому же горбатые, грязные страсть, все как одна лезут на гору вверх, сакля на сакле, десяток европейских домов, всюду криком кричат, по-грузински больше всего, догадаться не надо ума, хотя по-грузински он пока что ни звука не знал, а вот персидский, русский, арабский, французский, возможно, армянский — по типу лица, смешение языков, новый Вавилон за Кавказским хребтом, пьют вино, едят шашлыки, играют в орлянку, воет какая-то дикая музыка, воет ишак, кто-то гортанно задушевно поёт, папахи, кинжалы, фуражки, столпотворенье великое, жизнь кипит, какой он никогда не видал, библейские времена.
В ресторацию явился он бодрым, чуть не весёлым. Огляделся, не смог удержаться от смеха. Быков поднялся с открытым лицом, рукой помахал, давая знать о себе. Амбургер рядом, видать, что-то уже нашептал. Он приблизился, иронически улыбаясь, Амбургера представил, сел свободно, не успел оглянуться, уж какое-то местное варево перед ним на столе, в бокалах вино. Амбургер пригнулся, кивнул, таинственно прошептал:
— Там Муравьёв, за пятым столом.
Прямо взглянул: недурно сложен, мундир с эполетами, застегнут доверху, лицо припухлое, жирное, видать, что хозяин сильному действию предпочитает неподвижность и лень, кудри на голове, прямые узкие бакенбарды, острота, неприветливость взгляда, высокомерность в углах прямого длинного рта.
Неприятного чувства не испытал, нехороша была мысль, что его жизнь отчасти в этих руках.
Об Муравьёве слыхал он в Москве от Перовских, после от Ивана Якушкина, который был им завлечён в какую-то особого рода артель из пяти-шести офицеров, имевшую положить основание чему-то вроде отгремевшего якобинского братства. Тип у нас ещё новый, русский мечтатель, с французского перевод, лет в пятнадцать, в шестнадцать, прежде решительно ни одной дельной строки не читав, ознакомился, весь в слезах, сперва с романом «Новая Элоиза», затем с трактатом «Общественный договор» замечательного мечтателя Жан-Жака Руссо, вспыхивал славной идеей всеобщего равенства, сей же миг вознамерился учредить всеобщее счастье на каком-нибудь острову, чтобы никто не мешал, избрал Сахалин, на котором, естественно, никогда не бывал и которого дикие жители были должны воспитаться в духе справедливости и добра, натурально, под благородным водительством самого основателя да десятка соратников, каковых он себе на школьной скамье подобрал, таких же неучей, само собой, как и он. Одна бесценная добродетель выработалась из этих бесплодных мечтаний: понятие высшее о службе Отечеству, которому всего себя посвятить надлежит и отдать жизнь, если надо. Сия добродетель так скоро понадобилась, как и не чаял никто. Уже восемнадцати лет стоял он храбро в Бородинском сражении, при отступлении супостата имел под командой роту сапёр, стоял при Кульме и Лейпциге, вступал с войсками в Париж. Воротившись, проповедовал того же Жан-Жака Руссо своим родным и двоюродным братьям да двум-трём приятелям по казарме, с намереньем общественный договор учредить уже не на острову, а во всей Российской империи, не рассчитав малых сил своих немногих соратников этого бреда, надеясь Бог весть на что, не обогатившись соображеньем об том, что общественные договоры, то бишь конституции, добываются всюду народами, а не горсткой докучных мечтателей. Судьба сурово с ним поступила. Посредине сладких мечтаний об розовом счастье всего человечества Муравьёв имел неосторожность влюбиться в Наталью Мордвинову, история слишком известная. Неименитому, нечиновному, неимущему офицеру не могло быть дозволено породниться с семейством вельможи. Мордвинов не поцеремонился предложить неугодному жениху навсегда убраться из Петербурга. На благо ему, Ермолов его подобрал, увёз на Кавказ, увлёк в персидскую миссию, оставил служить при себе. Муравьёв не мог не влюбиться в Ермолова, однако ж служил как-то вяло, в походах участия не принимал ни в одном, предпочтя невидные, неблагодарные хлопоты квартирмейстера. Изломанный был человек, а всё отчего?
Быков равномерно, спокойно, не жалуясь, не кипятясь повествовал о многих трудностях своего поручения.
Александр слушал вполуха, углубившись, не помня приличий, в свои размышления.
Вдруг, может быть уловив на себе его пристальный взгляд, Муравьёв мешкотно поднялся, грузно, медлительно преодолел расстояние, их разделявшее, неуклюже, несветски представился сам, без приглашения сел за их стол, проговорил как ни в чём не бывало, видимо полагая свой поступок абсолютно естественным, поскольку ему пришла в голову мысль познакомиться и побеседовать о вещах, знать которые необходимо его собеседнику:
— Я наслышан, что вы направляетесь с миссией в Персию. Я был в тех краях с Алексеем Петровичем и могу быть вам полезен.
Пустился неторопливо повествовать о трудностях непредвиденных первых переговоров с уклончивыми, вероломными азиатцами, о быте и картинах страны, доселе неведомой, всюду выказывая верный и ясный глаз очевидца.
Александр из вежливости ему отвечал, смело выжимая все соки из сведений, почерпнутых им у Шардена.
Муравьёв наконец заключил:
— Страна ничтожная, однако ж радость для путешественника истинно просвещённого, неисчерпаемый источник его наблюдений.
Александр усмехнулся:
— Благодарю, что решились многое мне присоветовать. Одно не по мне: не слышу в себе истинной страсти быть наблюдателем.
Муравьёв с пристальным вниманием его оглядел и стал подниматься:
— Рад повстречать в вас человека начитанного, однако ж вы кажетесь мне слишком занят собой, что весьма понятно в поэте, но может весьма и весьма повредить дипломату.
Он отозвался язвительно:
— Есть отчего заняться собой!
Быков долго глядел в сутулую спину уходившего Муравьёва, отвернулся, выпил вина, ополоснул рот последним глотком, неторопливо сказал, точно продолжал свою прежнюю мысль:
— Сами видите, с кем приходится дело иметь. Об офицерах судит, об ком ни спрошу, по убеждениям, а не по службе, а нам в гвардии служба, служба нужна. Офицеры об нём говорят: до мелочности педант, до уродливости самолюбив, недоверчив ко всем до обиды, упрям, от суждения своего никогда не отступит, враг наказаний, как зависит от него одного, так спускает любую вину, хорошо, от полков далеко, не то с дисциплиной беда.
Он резко поднялся, громко благодарил за компанию, для него весьма лестную, обед похвалил, хотя почти не съел ничего, приказал подскочившему половому из местных татар подать счёт к себе в номер, стремительно поднялся к себе, точно там его кто-нибудь ждал, вдруг обессилел, упал в заскрипевшее, готовое рассыпаться кресло и снова окаменел.
Амбургер долго его тормошил, требовал, просил, умолял следовать за ним на переговоры о поединке. Александр в толк не мог взять, для какого дьявола понадобился он на переговорах таких, ибо противно кодексу чести, который чтится у готтентотов до тошноты, противники не должны встречаться до поединка. Амбургер стоял на своём, тысячу раз потревожил святое имя Настасьи Фёдоровны, безутешной, несчастной, перед которой за жизнь его отвечал своим словом, твердил, что обязан Александра Сергеича с этим псом Якубовичем помирить, страсть надоел, покориться пришлось.
Все порядочные квартиры Тифлиса в двух шагах друг от друга, он не успел оглянуться, а уж пришли.
Якубович сидел в офицерской фуражке и на этот раз в эполетах, момент, стало быть, почитая торжественным.
Не имея права участвовать в переговорах о поединке, Александр отодвинулся в сторону, словно бы невзначай, к противоположной стене и тут не убедиться не мог, что стреляться в комнате было бы слишком похоже на самоубийство или убийство: с такого короткого расстояния и с зажмуренными глазами нельзя не попасть.
Амбургер так и ринулся в бой, сильно моргая:
— Первый долг секундантов состоит в том, чтобы противников помирить, так вот я и требую, категорически требую, чтобы с этим предложением вы обратились к своему компаньону.
То ли этот компаньон, от волнения вставленный немцем не к месту, его поразил, то ли у него сам собой ум за разум зашёл, только напыщенный Муравьёв внезапно, напустив мрачность уязвлённого демона, тоже не к месту отрезал:
— Я в дело сие не мешаюсь.
Амбургер так опешил, что и рот распахнул, очень похоже, будто воздуху недостало где-нибудь на вершине горы:
— Как так?
Муравьёв не шелохнулся, не моргнул глазом, изъяснил совершенно невозмутимо, то ли выдержки адской, то ли бесчувствен совсем:
— Меня призвали тогда, когда уже было положено драться, следственно, Александр Иванович знает сам, обижена его честь или нет. Я со своей стороны могу лишь вам объявить, что образ мыслей Александра Ивановича насчёт многих предметов мне очень нравится. Таким образом, извольте условиться, не из чего время тянуть.
Амбургер так и бурлил, всплёскивал живо руками, всё быстрее моргал:
— Вовсе нет, на время плевать, мы обязаны, вы обязаны, выслушайте меня!
Муравьёв слушать ничего не желал. Амбургер, окончательно потерявшись, выйдя, видимо, из себя, вдруг схватил его под руку и с неожиданной силой потащил в соседнюю комнату. Оттуда послышались голоса. Противники, на смех курам, остались наедине, так что кодекс дуэльный чуть не рыдал. Якубович тотчас вскочил и, чуть не зелёный от злости, бросился бранить его за безвинную смерть Шереметева, хотя обязан был как рыба молчать, витийствовал сильно, да всё невпопад, нисколько не принимая во внимание никаких обстоятельств. Как тут было не выскочить из себя? Александр, разумеется, выскочил и в свою очередь, плюнув на кодекс дуэльный, закричал во весь дух, что в тот вечер о встрече Истоминой и Завадовского не видел даже во сне. Якубович заорал ещё громче, что он сам на Истомину виды имел. Он заорал, что они с Истоминой были друзья. Якубович заорал, что между мужчиной и женщиной дружба бывает только в романах, а в жизни действительной всё это дичь. Заваривалась какая-то не то кавказская, не то якобинская дрянь, хуже пули, и они уже оба разом орали, плохо разумея о чём.
Муравьёв выглянул и как ни в чём не бывало поманил Якубовича выйти к нему, точно дуэльный кодекс в камине сгорел и пеплом вышел в трубу.
Александр остался один и за голову схватился, едва не стеная: чего они хотят от него? Они, кажется, об нём позабыли. Он нервно шагал, останавливался, снова шагал, приходил понемногу в себя, обретал благую способность мыслить разумно, а не чёрт знает как, решил сам принести извинения, когда с ума сошли секунданты, взошёл к ним, отчётливо, медленно произнёс:
— Я лично вас не обижал никогда.
Якубович заложил руки за спину:
— Это справедливо, так что ж?
Александр чувствовал, что руки стали мелко дрожать, и втиснул их за спину, тут же сообразив, что оба они как две капли два петуха:
— А я так вами обижен. Почему же вы не хотите оставить этого дела?
Якубович и зубы оскалил и глазами сверкнул, скоморох:
— Я обещал честным словом покойному Шереметеву при смерти его, что на Завадовском и на вас отомщу.
Он хотел засмеяться, да вовремя одёрнул себя, что смех неуместен, хотя ужасно смешно, готтентот, он и есть готтентот, только вздёрнул в изумлении брови и резко спросил:
— И по этой причине меня всюду поносили трусом?
Верно, преставление света уже началось, поскольку скоморох Якубович, опустивши руку на эфес короткого кавалерийского палаша, с совершенным сознанием своей правоты возразил:
— Поносил и был до этих пор должен поносить.
Он так и вскрикнул:
— Должны поносить человека безвинного?!
Якубович не смутился нисколько:
— Теперь вижу, что вы человек благородный.
— Прежде не худо бы в том убедиться!
— Я уважаю ваши поступки.
— Прежде не худо бы уважать!
— Тем не менее я долгом своим полагаю начатое дело покончить и сдержать своё слово, покойнику данное.
— Да кто от вас это слово просил?!
Оставалось им только подраться. Что ж секунданты? А ничего. Муравьёв выступил шагом вперёд и вмешался в их спор о чести живых и покойных, хотя обязан был спор прекратить:
— Предлагаю драться на квартире у Якубовича, в шести шагах и от барьера назад один шаг.
Амбургер побледнел и воскликнул:
— Это нельзя!
Муравьёв свысока оборотился к нему:
— Отчего?
Амбургер, волнуясь до крайности, обкусывая ноготь мизинца, исподлобья взглядывая на всех, с неожиданной логикой выпалил, точно прозрел:
— Якубович, может быть, уже приметался стрелять в своей комнате.
Гром грянул, чудо стряслось, Муравьёв плечами пожал, пораздумал и согласился:
— Что ж, вы правы отчасти, съедемся где-нибудь в поле, однако ж для этого надобно бричку достать и лекаря подходящего уговорить.
Амбургер чуть не подпрыгнул:
— Отлично, я попрошу бричку у Мазаровича брата и сам найму лошадей.
Муравьёв коротко поклонился:
— Я поговорю с лекарем Миллером. Снова встретимся у меня через час.
И что же, встретились в полном составе, лошади и бричка нашлись, Миллер согласился оказать помощь раненому или констатировать смерть, сели как ни в чём не бывало за ужин, противники вместе ели, пили вино, все были веселы, дружны, разговаривали, мало разговоров — шутили, мало шуток — смеялись, точно заутра не ждал поединок.
Разошлись близко к полуночи, сытые, полупьяные, равнодушные ко всему, дуэль так дуэль, а что стреляться велят не по правилам, так станем стреляться без правил, Кавказ не Россия во всём, эту правду надобно кстати сказать, мечтателям какое дело до правил, у них одна справедливость и счастье всего человечества на уме, задаром пристрелят и объявят за высшую честь, остаться бы жить, добрался бы он до мечтателей, он бы им показал.
Он не помнил, что возмечтал непременно мечтателям показать, уснул мёртвым сном, бесстрашный, озлобленный, охладелый к лучшему жизни, готовый на всё.
Пробуждаться он не хотел. Голова была тяжела, да и от всех этих дел воротило с души. Однако беспокойный Муравьёв его растолкал, с бесчиновным секундантом трактовать презирал, ему объявил, что преотличное место нашёл, возле Куки, на дороге в Кахетию, могила татарская, на могиле той монумент, неподалёку овраг, с дороги на дне оврага никого не видать, выезжать под предлогом осмотра окрестностей, не спросил одобрения товарища своего секунданта, хотя в обязанность входило по кодексу чести в непременном согласии обеих сторон выбирать, с видом одолжения личного удостоил вымерить с Амбургером порции пороха, который полагалось положить в пистолет, после каковой процедуры исчез, заверив его, что вся процедура добровольного убиения проделается в полном порядке, поскольку все участники действа движутся в проложенных для них направлениях, и что по сигналу самого Муравьёва, во избежание путаницы или прямо ошибки, каждый выступит на ристалище в свою очерёдность, один за другим, лишь получит знак из кулис.
Александр глядел насмешливо, улыбался учтиво, назло суетливой распорядительности бесцеремонного квартирмейстера облачился в зелёного цвета сюртук, точно в самом деле положил себе сделать прогулку в окрестности, а между тем внутренне был до того напряжён, что не удосужился разглядеть, какое утро стояло, должно быть, хорошее, как обыкновенно извещается во всех повестях о дуэлях.
Они сели в бричку, покатили по кахетинской дороге, на своём месте обнаружили монумент, бричку поставили под горой, проследовали мимо одинокой заброшенной татарской могилы, спустились в глубокий, с пологими берегами овраг.
На дне оврага не встретили никого.
Постояли в молчании.
Амбургер то и дело выхватывал из кармана жилета часы, толстые, старинного серебра, верно, наследие бережливого прадеда, и щёлкал крышкой с такой нервной силой, точно стрелял.
Очевидно, у квартирмейстера выходило что-то неладно.
Александр засмеялся: хороша была бы коммуна на острову, ещё лучше пропаганда всемирного братства посреди ошарашенных дикарей.
Амбургер с беспокойством на него поглядел, попытался успокоить его:
— Ничего, подождём, ничего, вы успокойтесь, твёрже будет рука.
Наконец ещё одна бричка простучала по краю оврага и тоже скрылась за монументом. Муравьёв к ним с удивительным присутствием духа спустился и тоже стал ждать, видать, скорейшего исполнения плана, начертанного в его деловитом уме.
План, однако ж, не исполнялся.
Александр огляделся, подступил к квартирмейстеру и спросил, точно не верил своим близоруким глазам:
— Где Якубович?
Муравьёв отвечал, что его бричка назначалась сигналом, что, стало быть, должен уж быть, и вдруг всполошился:
— Чёрт побери, я позабыл, что Александр Иванович должен по замыслу укрываться за монументом.
И, быстрым шагом поднявшись наверх, стал громко звать, позабывши об самим им начертанной конспирации.
Якубович выглянул из-за монумента.
Миллер решил, что это сигнал для него, выдвинулся из-за куста и поскакал ходкой рысью к горам, видимо позабыв, что на ратоборство назначен овраг, и Муравьёв, приоткрыв рот, долго слушал стук и скрежет подков по камням.
Якубович всё-таки спустился в овраг, в высокой армейской фуражке, в распахнутом сюртуке, не позабыв пристегнуть эполет, а по инструкции был на прогулке.
Шаги были отмерены, барьеры поставлены, пистолеты вложены в руки, противников развели и отступили по сторонам.
Якубович ловко сбросил свой военный сюртук и не глядя его отшвырнул.
Александр сбросил свой, теперь почти неразличимый в траве, и некстати припомнил:
Сосед! на свете всё пустое: Богатство, слава и чины; А если за добро прямое Мечты быть могут почтены...Якубович, не дав окончить стихов, рассужденье Гаврилы Державина, смелым, вызывающим шагом встал на барьер, пистолетом и рукой прикрыл правый бок и стал ждать.
Первый выстрел по праву дуэли назначался ему, но Александр стоял ещё весь открытый, с опущенным пистолетом и размышлял, как ему поступить, улыбаясь учтиво, насмешливо глядя петуху Якубовичу прямо в глаза.
Решать нелегко. Благородно и чрезвычайно картинно было бы в воздух пальнуть, да готтентот взбесится его благородством и непременно пристрелит его, так глупо готтентота дразнить, лучше бы ранить легко, куда-нибудь в руку, да готтентот взбесится от приступа боли и опять же пристрелит его, оставалось самому пристрелить готтентота, однако ж убийство было противно ему с той поры, как увидел Васьки глаза на измятом снегу.
Якубович выстрелил первый, в какой уж раз презрев кодекс чести, стервец.
Пуля свистнула и пронзила левую кисть.
Александр приподнял окровавленную ладонь, увидел тонкую, почти чёрную струйку и показал всем, не понимая, что хотел своим жестом сказать.
От бешенства разум его помутился.
Якубович оскалился, громко выкрикнул по-французски, верно, роль заготовлена, исполнял, скоморох:
— По крайней мере, на фортепьянах перестанешь бренчать.
И ждал выстрела по себе, всё прикрываясь правой рукой с пистолетом, однако ж в позе величественной, Катенина бы сюда, чуть не Тальма.
Александр с бешено колотившимся сердцем слышал только в себе, что должен, должен этого скверного, этого ненавистного, этого бесчестного человека всенепременно убить, и, не подвигаясь к барьеру, хотя по праву дуэли имел возможность сократить расстояние, их разделявшее, на два шага, целя оскорбителю в пустую башку, привычным движением навёл пистолет прямо в цель.
Выстрел грянул.
Якубович вздрогнул всем телом, схватил обожжённый затылок левой рукой и с изумлением, широко раскрыв рот, поглядел на ладонь с полураскрытыми искривлёнными пальцами.
По счастью, пуля просвистела под самым затылком, не оставив не только царапины, но даже никакого следа.
Александр, с сердцем отбросив ненужный теперь пистолет, мягко, расслабленно опускаясь на землю, тоже по-французски, точно хотел поддразнить, с трудом выдавил из себя:
— Несправедливая судьба...
Якубович к нему подбежал, тоже сел, положил его голову к себе на колени, оглядел руку, сказал, что пуля прошла сквозь мякоть ладони, задела мизинец, что опасности для жизни нет никакой.
Доктора, вопреки мудреной диспозиции Муравьёва, не оказалось на месте. Муравьёв, похожий на кошку, хватая руками траву, вскарабкался на берег оврага и поскакал сломя голову в горы на поиски пропавшего доктора.
Якубович, склонившись над ним, говорил возбуждённо и с облегчением, точно выстрелом тяжесть с сердца свалил:
— Отныне мы квиты, ничего между нами. Я слово, мёртвому данное, честно сдержал, правила были выше меня. Против вас я зла не держу. Да, вот ещё, прошу извинить, что погорячился, выстрелил первым, это я признаю.
Александр мучительно улыбался, страшась, что потеряет некстати сознание, что при лёгкой ране в ладонь и стыдно и ужасно смешно, а кем-кем, а смешным он выглядеть не хотел:
— Пусть это будет конец Петербурга.
Доктора наконец привели. Доктор сделал плотную перевязку. Муравьёв суетился, распоряжался тем, как уложить пострадавшего в бричку, уговаривался со всеми, что, мол, охотились вместе, что тут с лошади Грибоедов упал, что лошадь копытом ударила по руке.
Бричка прыгала на неровной дороге, качалась. От потери крови и нудной, ноющей боли к горлу то и дело подступала тошнота, слабость во всём теле, разбитом и вялом, сменило нервное возбуждение поединка — ему было нехорошо. Мысли всплывали как-то толчками, с перерывами, без видимой связи между собой. Он внезапно подумал, что навсегда потерял фортепьяно — слишком большой была плата за шалость; рыданья рвались у него из груди, да стыд разрыдаться прилюдно его удержал, и он только спросил, не открыв глаз:
— Пальцы потеряют способность движения?
Отчего-то Муравьёв тотчас склонился над ним, громко и радостно отвечал:
— Доктор нам подал надежду!
Александр с трудом раскрыл непослушные губы, но всё же отозвался со слабой иронией:
— На то и доктор, чтобы надежду нам подавать.
Они шли по бокам брички, точно не решались оставить его одного. Муравьёв не в силах был удержать восхищения, так что голос его временами звенел:
— Я думаю, что ещё никогда не было подобного поединка, совершенное хладнокровие во всех четырёх из нас, ни одного неприятного слова, ни одного недозволенного поступка между противниками. Как всё это было прекрасно!
Он слышал глупость ужасную. В самом деле, он между ними вечно был жить обречён, до самой могилы, достанет ли сил?
Мысль о жизни поразила его. Он был жив, ему была оставлена жизнь, он будет жить, по крайней мере, ближайшее время, год, или два, или двадцать.
Ликования по этому прекрасному поводу он не испытывал. Подумалось только, что уже ничто не помешает ему, что возрождение растленного духа, к которому он устремился, внезапно своей волей отправившись на Восток, может наконец состояться.
В другой раз он повторил про себя, что его возрождение может наконец состояться, и с горьким чувством исправил себя, что не состоится само собой ничего, что возрождение будет стоить труда, может быть, до кровавого пота, а откуда почерпнуть нравственных сил на такого рода труды Геркулеса, ведь только что, назад тому полчаса, он жаждал истово и не шутя пытался убить человека. Когда же он станет независим от несносных обстоятельств минуты, когда отвоюет свободу оставаться таким, каким есть: добрым, отходчивым, никому не желающим зла?
Господи, помоги!
С тайной целью, ему неизвестной, завезли его к Муравьёву и уложили в постель. Он опомниться, тем паче возразить не успел. Над ним захлопотали, как над ребёнком, матушка с её чудотворными патками так хлопотать не смогла, так что временами наворачивалась слеза умиленья, да никак не решалась пролиться, слишком усердно все делали вид, что друзья неразлучные, что в самом деле неспокойная лошадь по глупости лошадиной саданула его и разбила мизинец. Якубович кругами ходил, то и дело подсаживался к нему, декламировал разного рода романтический вздор, ненавистный ему. Приятели Якубовича показывали усиленно, что между ними дурного ничего не случилось, впрочем, показывали неизвестно кому, разве сами себе, поскольку ни одна кочующая душа не завернула на огонёк.
Александр кое-как промаялся нескончаемый вечер, ночь скверно спал, едва дождавшись первого блеска над вершинами гор, и чуть свет своим ходом перебрался к себе. Рука ныла, но заживала. Быков явился, от простого сердца посетовал, что лошадь попалась норовистая, скромно посидел полчаса, подосадовал, не нахмурив бровей, что дело служебное — отбор в гвардию молодцов — остановилось за отсутствием второй день квартирмейстера, предложил выпить по стакану шампанского, твёрдо заверив, что сам лично от всех болезней излечивается только шампанским.
Несколько дней он был вынужден провести взаперти, как хмурый доктор велел, чтобы рана совершенно закрылась. Едва нервы и мысли воротились в прежний порядок, ближайшее будущее напомнило ему о себе. В ожидании Алексея Петровича, без напутствий которого миссия лишалась возможности тронуться в путь, он принялся за «Историю Персии» англичанина Малколма, дипломата, историка, выпущенную три года назад, и не мог не подивиться хитрой политике британского кабинета, основательно, хоть и неспешно крадущегося к новой восточной добыче, едва ли не стоившей Индии, и пролагающего путь сквозь умы, тогда как у нас не имелось ни малейшего представления о восточных провинциях, как тех, которые поневоле уже были заняты нами, так и тех, которые постоянно нам угрожали войной. Предстояла встреча, как он убеждался на каждом шагу, с серьёзным, хитроумным, с ног до головы вооружённым противником, который с первого дня ринется его победить, поскольку влияние, как материальное, так и духовное, могущества Российской державы в областях, расположенных между Чёрным морем и Персидсксим заливом, для отдалённой Великобритании не могло не быть роковым. Новый Давид, он пред британскими Голиафами не желал предстать без пращи. Вдохновенье познания захватило его. Он обо всём позабыл.
Между тем мечтатели, переполошённые ничтожной дуэлью, ему не давали покою. Муравьёв явился к нему в тесный номер трактира, по-прежнему в эполетах, причёсанный тщательно, как на свидание шёл, и с беспокойством в глазах. Слух о поединке разнёсся в тесном мирке Тифлиса, вызывая невероятные толки среди праздных умов, — это скверно, да ещё ничего, Муравьёв улыбнулся несмело; а скверно то, что некто предательски донёс этот слух до Наумова — дежурного офицера при штабе. Без Ермолова первый в здешних местах человек, власть желает свою показать, определённого пока ничего не известно — Муравьёв протяжно вздохнул, любопытство ужасное, передаёт, хитрец, через доверенных лиц, чтобы все участники поединка явились к нему, повинились, он имел бы верные сведенья о происшествии во вверенном ему гарнизоне, пожурил бы за молодость, затем поправил бы дело, которое, Муравьёв презрительно сузил глаза, нечего поправлять, поскольку преотлично велось, а слух о поединке всенепременно исходит от Быкова.
Александр бросил сказанье о персах рядом с собой на постель, с которой ещё не вставал, и рассмеялся:
— Почему от него?
Муравьёв поглядел на него с оскорблённым видом пророка, которому изначала известна вся подноготная:
— Он был вместе с вами. От кого же ещё?
Необыкновенная лёгкость суждений, притом обвинительных, была ему неприятна, Александр издавна презирал её от души, а потому и ответил сквозь зубы, изъясняя всем видом своим, что не имеет желания продолжать разговор:
— Вы, кажется, прежде сами предлагали драться нам на квартире Талызина?
Муравьёв боднул назад головой, наставляя на него подбородок, с презрением вопросил:
— Так что?
Он сморщил улыбку, не скрывая брезгливости:
— А единственно то, что Талызин, сколько известно, состоит в адъютантах Ермолова и в штабе корпуса, стало быть, человек не последний.
Муравьёв вспыхнул, разгорячился, вскочил, кулаки стиснул, вскричал:
— Совершенно напротив тому! Наумов именно напал на Талызина, наговорил неприятностей тьму, прямое выдвинул обвиненье в обмане должностного лица, поскольку, сказал, Якубович стоял на квартире Талызина, отчего Талызин об поединке должен был знать, да Талызин молчок.
Вечно у них катавасия, тайны и тайны чёрт знает в чём, он голос возвысил, чтобы впредь неповадно было строить из него дурака:
— Ах, вот оно как! Отчего я об этом не знал?
Муравьёв не смутился, не умея смущаться, увереннейший в себе человек, только руками развёл широко, мол, всё это вздор и придирки одни:
— Мы не видели нужды известить вас об том.
Он прямое презрение ему показал:
— Однако ж имеете нужду непохвальную разыскать, кто разнёс этот слух и до штаба довёл.
Муравьёв сокрушался, точно не слыша, что его презирают и с ним говорить не хотят, верно, любые преграды привык побеждать:
— Бедный Талызин Наумову клятвами клялся, что ни об каком поединке не знал ничего.
Он отрывисто оборвал, дивясь упорству того, кто сам назвался ему во спасители:
— Так ищите, сделайте милость, другого. Я не в доверительных отношениях с Быковым. Возьмите хоть то, что он не Талызин, в одном номере со мной не стоит и уж точно о поединке возможности знать не имел.
Пожевав губами, не возразив, лишь с пристальным вниманием поглядев на него, Муравьёв покинул номер своей протяжной ленивой походкой, но удивительно оказался подвижен и не более часа как воротился к нему — добровольный глашатай всех городских новостей:
— Наумов призывал Якубовича, самым глупым образом надеялся выведать от него, да ошибся. Представьте, стал уверять, что всё ему доподлинно известно давно. Как бы не так! Якубович с достоинством ему отвечал: «Коли знаете всё, так зачем же спрашиваете меня?» Каков? Я в восхищении от Александра Иваныча!
Александр улыбнулся нехорошей улыбкой:
— Верно у нас говорят: свой свояка видит издалека.
Муравьёв посмеялся натянуто, нервно, снова исчез — наважденье, хоть клади крест на него, а на вечер притащил к нему дурака Якубовича, всё для того, изъяснил, довольный собой, чтобы отвести подозрение от поединка, да всё отчего-то был неспокоен, вскакивал часто, ломал бедную голову, из какого места неугодные слухи пошли и каким образом преобразились в предположение почти фантастическое, вроде того, что пуля ударила в мякоть ладони, а вышла прямо из локтя. В офицерском собрании пресерьёзно об том говорят, ужасные, верно, стрелки. Прямой как столб Якубович бодрился, усердно показывал вид, что ему никакая напасть нипочём, тем паче в делах, где затронута честь, однако ж несколько раз благодарил Муравьёва, громко и хрипло, за всё, что верным другом было сделано для него в эти дни, точно тот его, по меньшей мере, все эти дни от смерти спасал, а не к смерти толкал, да ещё с пафосом зычным голосом громыхал, не разбирая, что не в поле кричит, а в номере тесном, что раненый здесь:
— Я теперь должник ваш надолго и за удовольствие почитаю признавать себя обязанным вам.
В общем, надоели своей конспирацией до того, что голова у него разболелась, и он с облегченьем вздохнул, когда дверь за ними затворилась со стуком, от которого задремавший Амбургер подскочил в расхлябанном кресле, заскрипевшем всеми нотами, и выпучил глаза так смешно, не понимая привычек истинно русского братства, что он засмеялся, да легче не стало — уморили декламаторы общего счастья, почитай, всю ночь не спалось.
Когда он проснулся, глазам не поверил, сморгнул невзначай: пред ним Муравьёв, выбритый, озабоченный, бледный, с новейшей историей, позанимательней старой, героем которой тот же Наумов, не возжелавший без законных последствий оставить злополучное дело:
— Вот незадача, Наумов прислал сказать Якубовичу, что полковник Наумов приказывает корнету без промедления выступить из Тифлиса в расположенье полка в Карагаче, а Сергей Александрович дозволяет любезному Александру Ивановичу остаться нынче до вечера. Каков шут?
Александр потянулся, протяжно зевнул, чертыхаясь в душе:
— Начальник штаба армейского корпуса отправляет младшего офицера в собственный полк, который младшему офицеру не следовало покидать без приказу, так в чём шутовство?
Муравьёв так и встал, поглядел на него с сожалением, чуть не со скорбью в глазах и только нашёл возможным с глубочайшей обидой сказать:
— Теперь ждите грозы над собой.
Никакой грозы над собой он не ждал, рассуждая резонно, что дальше чёртовой Персии всё одно не зашлют, а в эту самую Персию ему нынче самому не терпелось.
Ещё менее у него отыскалось малейших причин горевать, когда Якубович отправился вспять восвояси, в полк, в Карагач, под ружьё, и был искренно рад, что после отбытия внезапного друга, чуть не в слезах — точно Карагач несусветная Камчатка была, Муравьёв оставил его навещать. Благодать покоя на него опустилась, точно тихая звёздная ночь. Положение руки с каждым днём улучшалось, благодаря равномерным усилиям доктора, с серьёзным видом делавшим ему перевязки, ещё более благодаря упрямым усилиям самого организма, не желающего поддаться случайной болезни. Пальцы понемногу приходили в своё обыкновенное состояние. Один мизинец отвратительно скрючился и остался в этом положении навсегда. Увечье, пусть и ничтожное, наводило его на мрачные размышленья, понятные всякому, кто был сам музыкант, однако ж он утешал себя тем, что дурацкая эта история могла окончиться увечьем худшим, если не самим окончанием бесславного его бытия.
Он стал выходить. Ни близких, ни дальних, ни даже шапочных знакомых в Тифлисе у него не имелось; тотчас видать, что Тифлис не Москва, исключая, признаться, одного Муравьёва, к которому не хотелось идти, чтобы не обремениться восторгами, почти беспрестанными, о немыслимых подвигах бесценного Якубовича, совершённых в пределах Кавказа в три месяца, сиднем сидючи в глухом гарнизоне, до которого ни одна пуля долететь не могла, мука пуще ранения, да исключая ещё простодушного Быкова, по счастью не совершавшего подвигов, с которым сколько-нибудь серьёзный разговор не представлялся возможным, да ермоловского адъютанта Талызина, которого любящий службу Наумов отправил с бумагами в Грозную.
Он бродил по Тифлису, по окрестностям с Амбургером, того чаще один. Впрочем, самый город, нынче столицу неизвестного государства, обошёл он вдоль и поперёк без большого труда. Запертый в глубокой глухой котловине, городишко был невелик и всё ещё страшился расширить пределы, опасаясь набегов ближних племён, между которыми с вступлением русских полков поутихла, однако ж и не прекратилась истребительская резня — это следствие жадности и варварской мести. В самом городишке четверть века спустя тут и там встречались выразительные следы другого варвара — Ага-Мухаммеда: груды разрушенных стен, обгорелые останки домов, прежде заселённые, а нынче пустые места. По справкам, наведённым в библиотеке офицерского клуба, довольно обширной, хоть и недавней, — сердечное попечение Алексея Петровича, — в Тифлисе насчитывалось не более трёх тысяч годных домов, из них менее тысячи можно было признать лишь отчасти благоустроенными жилищами, об зданиях вполне европейских до вступления русских и вовсе никто не слыхал. В этом слишком скромном числе жилых помещений ютилось и кучилось около сорока тысяч жителей, включая русских офицеров, чиновников и солдат, рассованных кое-как на постой по квартирам, отчего теснота, и прежде значительная, становилась невыносимой, а местным жителям создавались неудобства весьма ощутительные по причине слишком разительного несходства обычаев народа горского, большей частью пастушеского или бездельного, и народа равнинного, землепашеского и деловитого.
Жизнь городишка его поразила. Население разноязычное, южное, грузины в поразительном меньшинстве, армян большинство, немало турок и персиян, все наружу, с криком и смехом, жестикуляция пылкая, мимика быстрая, переменчивая, самому Шаховскому на зависть, его бы сюда, однообразия нигде и ни в чём. Жили на улице, соседки перекликались с крыши на крышу, перебегали на двор со двора по каким-то головоломным ступеням, грубо высеченным прямо в дикой скале, вопили разносчики, пробираясь проулками, крутыми, кривыми и грязными, до самого верху, таща на себе свой нехитрый товар, трубили вездесущие ишаки, развозившие хворост и воду, зачерпнутую прямиком из мутной Куры, дрались, ревели, смеялись, во что-то играли полуоборванные, полураздетые дети, в духанах немилосердно стенали оркестры, составленные из двух или трёх инструментов — неприхотливое изделье Востока; пылали жаровни, скворчал жир тут же убитых овец, шипела баранина, воняло горелым мясом и жареным луком; из бурдюков с бульканьем переливалось в медные и глиняные кувшины вино, из кувшинов тут же переливалось в стаканы и кружки, прислужники метались между столами, гульба шла целый день, с громким говором, смехом, слезами и заунывными, медлительными, мелодичными песнями; на крытом базаре столпотворение вавилонское, продавцов едва ли не более, чем покупателей, торгуют, спорят, кричат, сбиваются в кучки, меняются новостями, зубы скалятся, сверкают глаза, ладони само собой ложатся на рукояти кинжалов, того гляди, начнётся резня, да, вишь ты, солнце садится, по-южному скоро темнеет, ладони, опять сами собой, снимаются с рукоятей кинжалов — и сию минуту чуть не враги только что не в обнимку, с миром и нехотя разбредаются по домам, чтобы немного поспать, отдохнуть и вновь, как всякий день, спозаранку встретиться в ближнем духане или в приманчивых торговых рядах.
Зато на всех оконечностях вполне азиатского приземистого грязного городишки слышался родной говор вятичей, костромичей, калужан и ровный шум правильной стройной европейской застройки. Прямо над городишком высились полуразрушенные стены турецкой крепости, занятой караулом, полуротой русских солдат, и тут же развалины древнего грузинского замка — свидетели кровавой и бесплодной грузинской истории, величественные, живописные, ласкающие впечатлительный глаз беспечного наблюдателя, бродяги противувольного, с перебитой рукой. Крохотные, едва различимые, по этим стенам карабкались люди, снимали уцелевший кирпич, вьючили на терпеливых, выносливых ишаков, спускали вниз и поднимали вновь на крутую скалистую гору, которая возвышалась напротив. Там, за большим старым мостом, по распоряжению Алексея Петровича, умевшего строить, как вешать, возводилась новая крепость, с казематами, с ордонанс-гаузом, арестантскими клетками для важных преступников и с больницей для них, с трёхэтажными башнями, замок Метехский, обещающий стать украшением ютящейся внизу кучи плоских азиатских домов.
По течению ниже моста, за Авлабаром, с базаром и церковью, сноровисто от зари до зари — Алексей Петрович всюду ждать не любил, рассудителен да горяч — возводились каменные казармы для русских солдат, а версты за две от них уже закладывались фундаменты госпиталя, домов для чиновников и целого городка для лекарей, санитаров и прочей медицинской прислуги. По правому берегу, в северной части, на возвышении, продуваемом ветрами, где воздух здоровый, где легче дышать, чем внизу, с той же сноровистой спешкой перестраивался старый дворец, отведённый под штаб-квартиру Алексея Петровича, возводились заново депо провиантское, комиссариат, штаб корпуса, присутственные места, гауптвахта, дома частных лиц в два и три этажа, с колоннами, с европейскими островерхими крышами, неизвестными нижним азиатским постройкам, все вместе замыкая небольшую площадь, впрочем, неправильной формы — следствие неровностей гор. На левом берегу, выше моста, на участке земли плодородной, и вовсе место, из ряду выходящее вон: кирпичные домики с красными черепичными кровлями — совместное творение русских солдат и пришельцев из далёкого Виртемберга, заманенных в закавказскую глушь рачительным Алексеем Петровичем, многие льготы исхлопотавшим для них у правительства и чуть ли не миллион на обустройство русских рублей.
Волей одного человека поселение беспорядочное, азиатское преображалось у него на глазах, его сердцу деяние милое, ещё заноза одна, чуть не острее других: Шаховской в комедии лёгкой, Карамзин в истории русской, Ермолов в преобразовании целого края, прежде малоподвижного, точно из соображений немыслимых кем-то отданного на регулярное разграбление иноверцам, иноплеменникам и собственным природным неукротимым страстям. Радость, боль и тоска смешались в одно беспокойное чувство. Нигде не обнаруживал он себе пристойного места для ума и призвания, точно обыкновенный был человек, а что впереди?
Облазив все новостройки, с горы Давида полюбовавшись на великолепную панораму строений и гор, поупражнявшись в немецком языке с поселенцами, испробовав настоящего немецкого горьковатого пива, без которого, кажется, истинный немец не мыслит дня ни в каком уголке обойтись, хоть в Камчатке, хоть на коралловых островах Полинезии, если судьба каким-нибудь лихом вздумает занести и туда, Александр наконец пустился делать визиты, которые обязан был сделать давно как новый чиновник по дипломатической части и которые, из отвращения к сухости казённых отношений, отложил, под предлогом болезни, на несколько дней.
Первый, по обстоятельствам ему неприятный, был к дежурному офицеру Наумову. Полковник, старый служака в потёртом мундире, без эполет, по всеобщей моде кавказской, заведённой Алексеем Петровичем, хотя нынче был старшим офицером при штабе, в самом деле принял его с любопытством усиленным, несколько раз со значением, мол, понимаю, голубчик, поглядел на его обвязанную ладонь, однако, видимо стеснённый присутствием ещё одного офицера, грузина обличием, в прекрасно сшитом элегантном мундире, также без эполет, вставшего при его появлении, ничего не сказал, выразил только надежду, обычную при оказии представления, что приятно будет вместе служить на благо Отечества, посоветовал, в ожидании Алексея Петровича, переменить трактир на квартиру, для чего обратиться к гражданскому губернатору, его высокопревосходительству генерал-майору фон дер Ховену, и представил всё ещё стоявшего перед ним офицера:
— Князь Чавчавадзе[152], командующий Нижегородским драгунским полком, вам, должно быть, известным по слухам, в нём имеет честь служить корнет Якубович, вам, говорили, приятель?
Чавчавадзе сделал поклон, изящный, вежливый, с достоинством истинным, содружество верного воспитания и хорошей семьи, и с приятным грузинским акцентом, немного картавя, пожимая дружески руку, сказал:
— Александр Герсеванович, будем знакомы.
И тотчас прибавил, видя, что новый знакомец готов уходить:
— Кажется, нам по пути.
Александр тотчас сделался высокомерен и важен, противувольно, само собой, не любя и не поощряя случайных знакомств, однако из вежливости кивнул, изъяснил, что весьма благодарен иметь провожатого по незнакомым местам, вышел первым и только на улице поворотился к грузину с холодным лицом, надеясь тотчас проститься, желательно раз и навсегда.
Чавчавадзе в ту же минуту разгадал его нехитрый маневр, улыбнулся открыто, заговорил по-французски, тоже с восточным акцентом, верно неистребимым:
— Прошу простить, что навязчив. Мне стало известно, что вы из Петербурга месяца два, для вас причина, известно, не важная, но важная для меня, я в Петербурге родился, в Петербурге учился, в Петербурге служил, мне оттуда всякая весть была бы слишком приятна.
В самом деле, причина слишком не важная, чтобы незнакомого человека посреди улицы хватать за рукав, весть из Петербурга мало ли кому дорога, впрочем, удивительно странно одно, что родина там — он князь и грузин, следственно, должен родиться если не на горной вершине, так между гор. Александр отозвался со светской лёгкостью разговора, столько же скрывавшей, сколько и обнажавшей его безразличие и к более веским причинам к чему-нибудь его принуждать:
— В таком случае удовлетворите моему любопытству, которое вам удалось возбудить, отчего вы избрали такое ненастное место, чтобы явиться на свет?
Чавчавадзе рассмеялся искренно, от души, махнул рукой кучеру, терпеливо его ожидавшему, изъяснил, что ежели к Ховену, так им необходимо направо свернуть, пошутил, опять по-французски:
— Согласитесь, что выбрал удачно, хоть место ненастное, в этом вы правы.
Он не улыбнулся, всё оставался холоден, чуть не брезглив:
— Мне трудно судить, я родился в Москве.
Чавчавадзе взглянул на него, верно понял его настроение и согласился мягко, по-русски, должно быть желая его посмягчить:
— Вы правы.
Его любопытство в самом деле слегка разгорелось, он, всё ещё стоя на месте, спросил с безразличным лицом:
— Так отчего же вам таким образом повезло?
Глаза Чавчавадзе стали полны печали.
— Это история длинная, к тому же не меня одного, но отчасти история Грузии.
Что ж, до истории он был давний охотник, тем более любопытен был человек, который вмешался в историю своей печальной отчизны, согласиться пришлось:
— В самом деле? Тогда расскажите, я не спешу.
Чавчавадзе неторопливо, призывая его за собой, двинулся в сторону, противоположную той, которую только что указал к дому Ховена:
— Вам, конечно, известно, что моя Грузия своей волей вступила в обширные пределы вашей Российской империи.
Он последовал за ним без охоты и сожаления:
— Я дипломатической миссии секретарь.
— Простите, это вопрос риторический.
— Вы обучались риторике?
— Нет.
— По такому случаю лучше обойтись без риторики.
— Мой отец Герсеван Чавчавадзе, владетельный князь Цинондала...
— Ваши родовые владения в окрестностях Карагача?
— Скорее Карагач в окрестностях наших владений.
— Так штаб полка стоит рядом с домом? Вам действительно повезло куда больше, чем мне, моя штаб-квартира обещает быть от родимого дома за три тысячи вёрст.
— В самом деле, такая близость удобна, семейство проводит в усадьбе всё лето и только на зимние месяцы перебирается в город, который зародился на месте чересчур нездоровом.
— У вас в Тифлисе дворец?
— В Тифлисе дворец? Ну, что вы, я не настолько богат, мы нанимаем флигель Ахвердова, начальника артиллерии здешнего корпуса, а свой дом, небольшой, только что начали строить.
— Стало быть, ваш отец не оставил вам достаточно наследства?
— Отец оставить достаточного наследства не мог.
— Как я понимаю, ему пришлось жить одной службой, как нам?
— Больше, чем службой, я полагаю, для него это было служением.
Они шли, то обгоняя, то пропуская мимо себя бесцельно бредущих навстречу прохожих, то расходясь в стороны, то снова сближаясь, говорили отрывочно, то приближаясь к ней, то удаляясь от истории жизни, которой завлёк его Чавчавадзе, должно быть, страстный любитель рассказывать или с кем-нибудь на досуге пространно перекинуться словом, а с кем перекинешься словом, командуя в глухом захолустье драгунским полком, в котором главный герой дурак Якубович? Разносчик истошными воплями призывал покупать стеклянные бусы — утеху красавиц, забавно мешая русский с грузинским; мальчишки с пронзительными, резкими криками играли во что-то, походившее на простецкие русские бабки; ревел упрямо стоявший на месте ишак, и чуть не плакал его оборванный всадник, остервенело колотивший голыми пятками под самое брюхо бесчувственного строптивца. Александр морщился, хмурился, привыкший неторопливо беседовать перед уютно тлевшим камином или неспешно бродя вдоль решётки канала; в крайнем случае где-нибудь в уголке большого собрания. Чавчавадзе взглядывал на него, улыбался, наконец предложил, когда волна пешеходов их сблизила вновь, пропустив хромую старуху в низко повязанном чёрном платке:
— Не хотите ли у меня отобедать?
Должно быть, это Кавказ, зовут первого встречного в дом, или в самом деле вдруг живо припомнился сиятельный Петербург, два-три близких приятеля, об нём предавно позабывшие, или свела тоскливая скука с ума, в гарнизонах чего не бывает, многие горькую пьют, не всё ли равно, сторонние дрязги ему не резон, да в том беда истинная, что некуда деть ни времени своего, ни себя самого, и он согласился внезапно:
— Пожалуй, я ваш гость.
Не медля, точно страшась, что нечаянный спутник его передумает, Чавчавадзе повлёк его за собой. Они чуть не бегом протиснулись в какую-то щель, обогнули низкие вонючие сакли — недалёкий потомок первобытных пещер, несколько раз поднялись по высоким ступеням, высеченным в скале, довольно скоро очутились над городом, точно утонувшим в зеленоватой толще тесного ущелья спёртого воздуха, и вступили под своды обширного сада. Беззвучие оглушило его. Было свежо от ровного восточного ветра. Они двинулись длинной аллеей, полого возвышавшейся по неторопливому склону горы, ведущей Спутников к горе Святого Давида, точно гнездом висевшей над вершинами тополей.
Чавчавадзе, заложив руки за спину, шагал легко, задумчиво, неспешно повествовал, словно длительно ждал и дождался наконец собеседника:
— Мой отец был полномочным министром царя Ираклия при российском дворе. После варварского нашествия Ага-Мухаммеда переговоры с вашим правительством вёл именно он, по поручению царя. Как известно, по итогам этих переговоров прекращалась династия наших царей и Грузия становилась одной из провинций Российской империи, отдавшись, изъясняясь поэтическим слогом, под сень победоносных русских штыков. Переговоры тянулись несколько лет: Грузии, вы понимаете, нелегко было отречься от своей независимости, как ни грозило ей полное истребление со стороны Ирана и Турции; России, как представляется мне, нелегко было взвалить на себя ещё одну ношу, то есть защиту столь обширных и трудных границ. Оттого наша семья в течение нескольких лет принуждена была обитать в Петербурге. В Петербурге я и родился тридцать два года назад, лишь в наших покоях, отведённых посланнику царя Грузии, слыша родную грузинскую речь, тогда как повсюду говорили непривычно, признаюсь — и неприятно, по-русски. Государыня Екатерина Алексеевна, великая была дипломатка, оказала отцу высочайшую честь, согласившись явиться моей крестной матерью. Когда пришло время учиться, отцу рекомендовали лучший, один из множества, частный пансион. По счастью, в пансионе в ходу была французская речь. Не могу не признаться, что Россия моему сердцу оставалась чужой. Родину я увидел первый раз уже тринадцати лет. Незнакомая, разорённая, нищая, истерзанная войной грузин с турками, войной грузин с персами, войной грузин между собой, войной непрестанной, ожесточённой, бессмысленной, она была всё-таки родиной, надеюсь, вам это чувство знакомо. В пансионе, между русскими мальчиками, я обид не сносил, я гордился собой, должно быть, кровь говорила, кровь грузина и князя. Воротившись с чужбины домой, я жаждал гордиться и родиной, однако яс не смог, хотел её видеть великой и сильной, какой видел Россию, и не мог не видеть её унижения. Манифест государя Павла Петровича о вступлении Грузии в пределы Российской империи в глазах отца был величайшим благом для Грузии, надёжной гарантией от бесчинства внешних врагов, в особенности от бесчинства бесчисленных внутренних войн. Он приветствовал введение русского корпуса в Грузию. Моё юное чувство, только что обретшее родину, было оскорблено. Я вступил в отряд царевича Парнаоза, чтобы сражаться за независимость Грузии. Слава Богу, наш детский заговор был скоро раскрыт. Я был арестован. Отец бросился в Петербург. Конечно, он пустил в ход свои прежние связи; конечно, прежние связи ему помогли, но ещё больше, я думаю, помогла расчётливость государя Александра Павловича, который умел понимать, что русским не удержаться за хребтами Кавказа без прямой поддержки знатных грузин. Меня сослали на три года в город Тамбов, крохотный, тихий и пыльный, вскоре помиловали, повелели прибыть в Петербург, поместили в Пажеский корпус, из которого я выпущен был подпоручиком в полк лейб-гусар. Воевал, имею золотое оружие по приговору офицеров полка. Видел русских в несчастья нашествия страшного, видел в бою. Вот тогда я прозрел, до сердца дошло, что счастье Грузии единственно в единеньи с Россией, иной участи ей не дано. В Петербург воротился с полком лейб-гусар и познал наконец необыкновенность этого города и открытость русской души. В этом городе белых ночей, в столице Петра, испытал я счастье истинной дружбы. Мы в разлуке теперь, разлуке конца не видать. Мои воспоминанья покрыты печалью.
Он споткнулся. Их печаль была сродной. В том же городе он оставил своих истинных, своих лучших, своих несравненных друзей, и друзья его позабыли, ни писем, ни вестей с того скорбного дня расставанья, один Быков приветы привёз, да приславших приветы друзьями души признать он не мог, знакомцы приятные, славные, он благодарен был от души, а что же друзья?
Он не находил, что отвечать на столь открытый рассказ, хотя понимал, что молчать неприлично, неловко, может быть, оскорбительно для того, кто с первого взгляда, с первого слова решился открыться ему. Он не мог образумиться, а кругом был виноват.
Его спутник отчего-то заторопился, вдаль поглядел на цепь гор, повторил, что там без родины были друзья, а здесь милая родина без лучших друзей, первым именем произнёс Чаадаева, с которым совместно в лейб-гусарах служил и менялся мыслями о странностях грузинской и русской истории.
Имя друга, чудное имя, пронеслось как магический звук. Нестройность мыслей и чувств утишилась, улеглась. Ясность мысли к нему воротилась. Чувства вспыхнули ровным теплом. Неожиданно для себя, минуту назад готовый провалиться сквозь землю, он заговорил с волнением, горячо об неисчислимых достоинствах Петра Чаадаева, сильнейшего из нынешних русских умов, высказал надежду свою задушевную, что этот зоркий, скептический, а всё же пророческий, склонный к внезапным прозрениям ум в самом скором времени выразит себя непременно чем-нибудь чудным и громким, для России не менее славным, чем недавний Карамзина исторический труд.
Чавчавадзе глядел с пониманием, вспыхнул румянцем, выразил горькое сожаление, что у истерзанной Грузии на прославление нет ни такого историка, каким для России внезапно стал Карамзин, ни такого, каким для Франции явился Вольтер. Не менее ста лет мысль о трудах исторических не приходит в головы враждой ослеплённым грузинам. Последний раз, если память не изменяет ему, вдохновителем и попечителем трудов исторических был Вахтанг VI[153], царь Картлии, правитель, без сомненья, великий. Найдя многие земли разграбленными, опустошёнными, запустевшими, царь Вахтанг заселил их переселенцами из высоких горных аулов, поощрил чуть было не вымершее искусство виноградной лозы, ввёл посевы хлопчатой бумаги, предоставил льготы внутренней и внешней торговле. Трудами его Картлия выдвинулась на первое место среди прочих княжеств и царств, обособленных, враждующих между собой. Может быть, тогдашнюю Картлию было бы опрометчиво назвать процветающим царством, однако едва ли могут возникнуть сомнения в том, что нынешняя Картлия, сравнительно с временами Вахтанга, переживает горький период упадка. Попечительством царя истинно просвещённого, благоразумного в Тифлисе основана была типография. В типографии печатались труды богословские. Вахтанг лично изготовил к печати национальную гордость — «Витязя в тигровой шкуре»[154] и для него составил введение. Ему принадлежит свод законов, следование которым могло бы сделаться благодеянием и для Грузии нынешней, успевшей позабыть законы Вахтанга и не успевшей принять законы Российской империи, отчасти чуждые, отчасти малопригодные для неё. Вахтанг основал комиссию для составления грузинской истории. Собиранием и обработкой источников заведовал царевич Вахушти, Вахтангов сын, безусловный родоначальник грузинской исторической мысли. В царствование Вахтанга расцветает поэзия Давида Гурамишвили. В кругу его верных сподвижников светится имя Сулхана Орбелиани[155] — дипломата, поэта, баснописца, составителя грузинского словаря, наконец одного из почтенных предков жены моей Саломе.
Александр нахмурился, потемнел, не без злости сказал:
— Держу пари, он был гоним, как Вольтер.
Чавчавадзе удивился, не понял, к чему эта злость:
— Кто?
Александр пояснил враждебно и резко:
— Царь ваш Вахтанг.
Чавчавадзе расширил глаза, улыбнулся неловко, сбитый с толку внезапной резкостью, тем более внезапной враждой:
— Каким образом вы угадали?
Александр спохватился, тон смягчился, а всё не мог воротить равновесие духа:
— Несть пророка в своём отечестве — это несносный закон, но закон.
Чавчавадзе взглянул на него продолжительно-пристально, согласно кивнул и продолжал примирительно:
— В самом деле, своевольные князья испугались, что успехами земледелия, ещё более успехами торговли и просвещения личная власть царя возрастёт, рассудительный царь возвысится богатством и гласом народным, как обыкновенно возвышается достойный правитель; при таких обстоятельствах своеволию княжескому будет положен окончательный, твёрдый конец. Заговоры составились — заговоры трусливые, подлые. Персидскому шаху полетели доносы, точно истинному правителю Грузии. Шах призвал Вахтанга к себе, принудил переменить веру с христианской на мусульманскую и под новым именем Шахнаваза, оскорбительным для грузина, ввёл в ранг главнокомандующего своими войсками. Лишь годы почётного плена спустя шах пожаловал даря разрешением воротиться в отечество, полное бедствий. Видя отечество поруганным, вновь обнищавшим под управлением своекорыстных князей, не имея более нравственных сил терпеть оскорбительное владычество персидского шаха, Вахтанг обратился к России, государю Петру Алексеевичу бил челом, как у вас говорят, ввести в Картлию русскую армию и тем поставить нерушимый предел хищным домогательствам Персии. Момент был выбран неподходящий. Северная война хоть и близилась к окончанию, но окончена не была. Государь Пётр Алексеевич не располагал ни одной лишней дивизией для помощи народу далёкому и малоизвестному. Тем временем происками непокорных князей Вахтанг лишился престола, однако успел бежать к русским, забрав семью и немногих вернейших сподвижников. Человек неукротимый, активный, истинный почитатель правления просвещённого, благоразумного, он и в пределах России продолжал трудиться над осуществлением своих заветных идей. О многом за дальностью расстояния, ещё более за дальностью лет позабыто. Знаю только, что под Москвой, во Всехсвятском селении, им основана была ещё одна типография, в которой печатались грузинские книги, в надежде, должно быть, споспешествовать возрождению древней грузинской культуры. Жаль, что в этом начинании благородном он мало преуспел. Из Всесвятского переселился в Астрахань, может быть, для того, чтобы жительствовать к отечеству ближе, едва ли в то время рассчитывая на русскую помощь, при несчастных преемниках государя Петра Алексеевича уже невозможную. Так и вышло. Помощи он не дождался. В Астрахани и умер, на счастье себе, не увидя, в какое ничтожество впали грузинские царства.
История печального Вахтанга, святое имя Вольтера, съединенные необычайно и странно, истинно сблизили их. Уже собой овладев, Александр предчувствовал, смутно ещё, что в этом просвещённом грузине найти может здешнего друга, не взамен, в дополнение к друзьям петербургским, ныне далёким, погруженным в молчание, и нашёлся только отрывисто, сурово сказать, уверенный в том, что будет понят как должно:
— Не век же нашим отечествам оставаться в младенчестве непросвещения скотского.
Чавчавадзе отозвался негромко:
— Все надежды на то.
Они замолчали, точно страшась свои светлые надежды спугнуть, омрачить многословием, прибавили шаг, своротили в боковую аллею, скоро увидели низкий, одноэтажный, в длину растянувшийся флигель, вошли; взвилась беготня, захлопали двери, начались знакомства с княгиней — статной, величественной, простой в обхождении; с княжнами, лет шести и лет двух, с порывистым, нетерпеливым княжонком с шапкой чёрных кудрявых волос. Глядь, накрыт уже стол. Расселись весело, быстро, непринуждённо. Обедали с аппетитом. Русские блюда мешались с грузинскими. Разговор сделался общим, стало быть, незначительным, о мелком и будничном, в котором он участвовал скупо, чуть не в одних междометиях. После обеда перешли с хозяином в кабинет, тесный, необжитой. Закурили сигары. Хозяин, в распахнутом мундире, с сигарой в крепких желтоватых зубах, принялся разрезать разноцветные бандероли, прибывшие, если по пёстрым наклейкам судить, из Петербурга, Лондона, Парижа, Берлина, обнажал из обёрток новую, источавшую терпкий запах типографии книгу, взглядывал на имя автора и заглавие и молча, с любезной предупредительностью передавал изумлённому гостю.
Александр чуть не ахал. Здесь, в Тифлисе, на краю света, в глуши несусветной, где предполагал он найти одну первобытную дикость и ничтожество мысли — плод невежества неизбежный, перед ним дефилировали, чуть не шагом парадным, сокровища философии, истории, политической экономии, стихотворства, драматургии и прозы на всех тех языках европейских, на которых только и стоило нынче читать.
Он вопросительно поглядел на хозяина, возвращая одно из этих сокровищ на стол.
Чавчавадзе поймал его пристальный взгляд, тотчас понял, сказал, передавая книжечку тощую, формата карманного, чуть не игрушку, забаву искусного типографщика:
— Вся библиотека моя в Цинандале, в Тифлисе перевалочный пункт, у меня письменный договор со всеми книгопродавцами в важнейших столицах Европы, шлют все новинки сюда.
И засмеялся, верно припомнив:
— Не пребывать же в младенчестве непросвещения всюду и здесь, за хребтами Кавказа.
«Паломничество молодого Гарольда»[156] чуть не обожгло ему жадные руки. Четвёртая песнь. Он вздрогнул, раскрыл, взгляд метнул, охватывая тотчас по нескольку строк. Ага, и последняя! В нынешней поэзии вещь беспримерная. Едва ли в Петербурге он мог её прежде увидеть, чем здесь, за Кавказским хребтом — чудеса! Он страшился расстаться, спешил, чуть не разом охватил глазами итальянский эпиграф, три стихотворных строки, Ариосто, третья сатира:
«Я видел Тоскану, Ломбардию, Романью, те горы, что разрезают Италию надвое, и те, что отгораживают её, и оба моря, которые омывают её».
Его сердце забилось. Совпадение странное, может быть, пророчески важное: он тоже видел могучий хребет, отделяющий Европу от Азии! Далее что?
Посвящение:
«Джону Хобхаузу, эсквайру».
Страниц пять убористой прозы английской, Бог с ними.
Стихи,стихи,скорее стихи!
Вот первая предстала строфа:
В Венеции на Понте деи Соспири, Где супротив дворца стоит тюрьма, Где — зрелище единственное в мире! — Из волн встают и храмы и дома, Где бьёт крылом История сама И, догорая, рдеет солнце Славы Над красотой, сводящею с ума, Над Марком, чей, доныне величавый, Лев перестал страшить и малые державы.Боже праведный! В самом деле улыбка Минервы, кто-то дельный верно изрёк! Что за чудо! Поэзия, мысль! Против воли жарко вырвалось вслух:
— Истории крыло!
Разбиравший надпись другого пакета, Чавчавадзе чуть ли не вздрогнул, вскинул голову, искренно удивился, взглянул вопросительно:
— Какое крыло?
Александр не смутился, весь светлый и чистый — истинный праздник в душе, захлебнулся словами, рад изъясниться:
— Это Байрон! Сколько калёной поэзии! Какая сила созрелого в продолжительных думах ума!
Чавчавадзе согласно кивнул, улыбнулся:
— Да вы, я вижу, тоже поэт!
Рядом с Байроном нарекаться поэтом, помилуйте, срам, Александр воспротивился с жаром:
— Э, далеко кулику до Петрова дня!
Глаза Чавчавадзе так и вспыхнули ироническим смехом.
— Это у вас, у русских, в таких выражениях отзываются о хорошем поэте?
Александр шутить не хотел, дёрнул губами, с гадливой гримасой сказал:
— Да, у нас, у русских, этак-то говорят о поэте ничтожном.
Глаза Чавчавадзе тотчас угасли, сделались строги, зато голос сделался мягче:
— Вы всегда так строги к себе?
У Александра похолодело лицо.
— Похвастать тем не могу, приключается иногда, ежели заглянуть построже в себя, что надобно много, много учиться, чтобы нашему кулику вровень с Байроном встать.
Чавчавадзе пристально поглядел, помолчал, улыбнулся тепло:
— Что ж, учитесь, возьмите на время.
Он тоже пристально поглядел, снисхождения, тем паче жалости к себе не терпя, да тут, как видно, не жалость была, тут засветилось в душе, может быть, первое дыхание истинной дружбы он угадал, а всё же кратко спросил:
— А вы?
Чавчавадзе извлёк новый том из обёрток, пробежал глазами названье, протяжно вздохнул:
— Государева служба берёт много времени, хоть в деле мой полк давно ни в каком не бывал, этой кучи достанет на месяц, на два.
Он оживился:
— До возвращения Алексея Петровича мне как раз время некуда деть, а там к персиянцам в поход, тоже государева служба всё время волком прижмёт.
Чавчавадзе погладил книгу ладонью:
— Вот и славно, пока время, учитесь у Байрона, учитель великий — подарок судьбы.
Он поверил не тотчас, с пылом вскричал:
— Благодарю!
Они замолчали. Он Байрона нервно листал, вырывая на разных страницах бессвязные строки. Чавчавадзе неспешно, любовно потрошил свои бандероли. Нежданно-негаданно вечер настал. Свечи внесли. Надвигалась быстрая чёрная южная ночь. Он вскочил. Изъяснил, что обязан у Ховена быть. Благодарил ещё раз от души и простился.
Чавчавадзе проводил его до крыльца.
Экипаж дожидался.
Чавчавадзе что-то быстро, негромко сказал по-грузински. Высокий возница, грузин в белой папахе, в чернейшем веере бесподобно густой бороды, произраставшей от самых, тоже чернейших, бровей, так что углями сверкали только глаза на смуглом лице, молча кивнул и взялся за вожжи и плеть.
Чавчавадзе обернулся к нему:
— Вас отвезут.
Он взобрался, уселся и нашёлся только спросить:
— Когда снова в Тифлис?
Свет трепетал, вился дым факела у него за спиной, Чавчавадзе весь чёрный, с неразличимым лицом, таинственный, однако не мрачный, придвинулся, тихо ответил, точно он его видел во сне:
— Как служба позволит. Я вас разыщу.
Александру сделалось одиноко и грустно, он уезжать не хотел и чуть не плача выдавил из себя:
— Буду рад.
Чавчавадзе что-то почувствовал, ласково потрепал его по задрожавшей руке:
— До свидания.
Возница что-то крикнул гортанно и резко, лошади взяли с места дружно и бойко, колеса мягко зашелестели по песку въездной аллеи, затем заскакали на неровных камнях мостовой, верно изготовленной ещё простодушным уменьем местных циклопов прямо из обломков скалы, и коляска вскоре, по счастью, остановилась перед ярко освещённым европейскими фонарями подъездом, и возница, не обернувшись к нему, что-то по-своему пробурчал и указал свёрнутой плетью на дверь.
Одиночество и грусть растрясло на несносных камнях. Go ступеньки Александр спрыгнул легко, в горячую ладонь возницы вложил серебряный рубль, точно царской щедростью отвечал на его суровую неприветность, с достоинством, но проворно вступил в освещённые обширные сени и приказал доложить о себе.
Некрасивый лакей, вчерашний мужик, в чёрном фраке, в белоснежных перчатках на широких кистях разлапистых рук, в белом галстуке и белой манишке, точно сбирался на бал, с отличной выучкой не менее как петербургской прислуги, поклонился ему и вежливо изъяснил, что ужинать сели и что приказано всех принимать без чинов, кто взойдёт, впрочем, у господина губернатора взято за правило во всякое время всех принимать, хоть бы ночь на дворе, так извольте взойтить.
Не более двух часов как после обеда, он, разумеется, ужинать не хотел, откладывать визит тоже было неловко, на улице тьма, к тому же как знать, как отнесётся дрессированный величавый лакей об новом лице, которые объявляются в захолустном Тифлисе наперечёт, а портить первое впечатление было бы неразумно, не всё же торчать при тёмном персидском дворе, придётся и на этот свет по делам наезжать, так следовало оставить о себе приятное впечатление, и он взбежал по широкой лестнице из какого-то полированного местного крепкого дерева, очутился перед новым лакеем, ростом пониже, в том же бальном наряде, и в другой раз приказал о себе доложить.
Лакей одним плавным движением распахнул обе створки высоких белых дверей и густым басом, точно дьякон на отпевании в архиерейском соборе, прогудел:
— Александр Сергеевич Грибоедов.
Натурально, все мерно жующие головы оборотились к нему.
Он взошёл, поклонился, предстал перед хозяином дома, невысоким и полным, с полным, здоровым, румяным лицом, в цвете лет, с первыми блестками седины в висках, ещё раз поклонился, уже этому одному, и в двух словах изложил свою нижайшую просьбу назначить его на постой.
Роман Иваныч фон дер Ховен, в распахнутом мундире без эполет, в белоснежной сорочке, на несколько пуговиц расстёгнутой на гладкой пухлой груди, по-отечески просто сказал, что знакомству искренно рад, что покорнейше просит отужинать в тёплой компании чем Бог послал, а уж после ужина, голубчик, речь о постое, иначе нельзя, у нас за хребтом обычай таков.
Нечего делать, этот немец истинно русский был человек, чуть не москвич, стол накрыт для званых и незваных. Александр сел, пригляделся, налил вина, из местных, кахетинской лозы — заведенье благочестивого Вахтанга Шестого, которую Роман Иваныч витиевато и многословно хвалил, находя её во вкусе ординарных бордосских, от телятины отказался и принялся за фрукты и сласти, которые нестерпимо любил.
За столом собрались в едином порыве плотного насыщения главным образом чиновники губернаторства высшего ранга, уже в летах почтенных, без орденов, которых по давности службы не могли не иметь, верно, тоже заведено за хребтом своеобычным Алексеем Петровичем, серьёзные, медлительные, с негромкими голосами, значительными, тотчас видать, что человек говорящий себе цену знал, хлебал щи не лаптем. Рассуждали о неодолимых трудностях снабжения армии, по их мнению, весьма многочисленной и ненасытно прожорливой; о передвижении турецких войск вблизи новой границы империи; о новом слёте европейских монархов в Аахене, о котором в горделивых британских газетных листках писалось как о важной победе их дипломатии, да писалось как-то неопределённо и глухо, видать, секретные принимались статьи, басурманы-то шевелятся недаром, тогда как в наших газетах не писалось никак, и обратились за разъясненьем к нему как доверенному лицу того молчаливого ведомства, точно все самые тайные тайны европейской политики не могли не быть до нитки известны секретарю дипломатической миссии.
Александр дипломатически отвечал, что приехал с неделю, с пять дней, что в дороге, всюду ужасной, не видал ни британских, ни французских, ни австрийских, ни даже русских газет и что дипломатическая почта ещё где-то скачет по русской равнине в пределы Кавказа, а должна быть непременно, нельзя без того, прямые указания по итогам конгресса[157].
Напитав себя до отвала, сытые, потные, разомлевшие, чиновники разошлись понемногу, большей частью тучные люди, отдуваясь и еле дыша; Александр с хозяином дома наконец остался вдвоём, чуть не на разных концах большого стола. Он сидел молча, вертел перед глазами нож для десерта, взглядывал изредка, ждал терпеливо, когда квартиру дадут, с недобрым чувством размышляя о том, что ещё одну гнусную ночь придётся провести в затрапезном номере единственного и оттого переполненного трактира, хуже горькой редьки надоевшего за несколько дней, поскольку к трактирам, тем более захребетным, он не привык и от скрипов, криков, ходьбы беспрестанной в «Истории Персии» и два и три раза перечитывал всякий абзац, а всё в издерганной голове удерживались одни лоскутки.
От выпитого вина, от обильной долгой еды фон дер Ховен точно расширился в разные стороны, погрузнел, раскраснелся, прижмурился, с наслаждением почёсывал толстым мизинцем обнажённую грудь, напоминая сытого, разморившегося кота, готового поваляться, свернуться в клубок и сладко заснуть, до новой обильной еды и вина.
Свечи тускнели. Была тишина. Не хотелось ни двигаться, ни говорить.
Облизнув жирные губы, приоткрыв блестящие жирным блеском глаза, Роман Иваныч неторопливо, негромко сказал:
— Вот что, голубчик, не помню, как звать, ночуйте-ка у меня, завтра уж познакомимся, а там и распоряжусь об чём просите, утро-то вечера мудренее, не зря говорят, уж поверьте.
Левый глаз блаженно прикрыл, правым поглядел, уловил, что неизвестный проситель готов возразить, как и должно, рассудительно изъяснил:
— Голубчик, мы тут, с позволенья сказать, на задворках империи, в краю, от цивилизации слишком далёком, примерно вот как Марс от меня, к тому же необжитом, ещё менее, я полагаю, чем Марс, так что я нарочно держу наготове несколько комнат ради вашего брата, баловня Петербурга, который, положим, навещает нас, сирых, редко и с непривычки весьма как часто хандрит. Вы возразите: у меня тоже не Петербург. Соглашусь, и соглашусь на все сто. А всё попристойней, чем в здешнем промозглом трактире и на здешних туземных квартирах, блох не имеется вовсе, удобства кое-какие, люди простые, любовь и покой. Да и правду сказать, со свежим человеком перекинуться словом приятно. Охота до новостей — в здешних краях род недуга. Погодите, не нынче, так завтра познакомитесь сами. Чать, Невский-то проспект хорошеет? Давно, давно не бывал, экая жаль.
Отчего ж не остаться? Он и остался. Подали трубки. Александр затянулся, тоже прижмурился, пересказал первейшие петербургские новости двухмесячной давности, отрывчато, кратко от непривычки к таким пустякам, — матушку бы сюда, до утра не сомкнули бы глаз; об родне, об кузинах, об Архарове, об Марье Петровне, от стыда за себя оборвался внезапно, умолк.
Роман Иваныч со вздохом, медлительно выпустил дым, улыбнулся будто сквозь сладостный сон, ободрительно протянул:
— Экая у вас там благодать! Хорошо! В здешних краях положенное своё отслужу и тю-тю! Угодил, голубчик, благодарю-с.
В своей комнате, отведённой ему, уютной и милой, с коврами по стенам, увешанными пистолетами в серебре, кинжалами в серебре, саблями в серебре, — точно арсенал был какой, осаду можно держать, — с просторной восточной тахтой, покрытой белоснежным хрустящим бельём, пахнущим какими-то травами, Александр внезапно припомнил о Байроне, об юном скитальце Гарольде, разделся, приготовился всласть почитать при свече, но едва лёг, чудная истома охватила усталое тело, мысли от Байрона как-то само собой перепрыгнули к нечитанным британским газетам, прокричавшим о какой-то победе, стало быть, новых гадостей в Персии жди; затем перенеслись к хозяину дома, человеку, видно, добрейшему — тот же Степан; затем он из тёмного переулка вывернул на Невский проспект, толпа знакомых и незнакомых его обступила, Шаховской совался к нему с водевилем, Катенин престрого пальцем грозил, он с обоими страсть как желал объясниться, да голос куда-то как сквозь землю пропал, он только пучил глаза и чувствовал страшную сухость во рту.
Были скрыты плотными шторами окна, а всё-таки утро уже пробивалось сквозь них. В комнате тонкий, неясный, пленительный сумрак стоял. Комната была незнакома. Рядом на столике до основания выгорела свеча. Возле подсвечника таилась тонкая книжица, название которой он позабыл, верно, крепок был сон, умудрился заспать.
Он потянулся, поднялся, босыми ногами прошёлся по ковру, освободил окна от штор, увидел бледное осеннее солнце, вершины заснеженных гор, к виду которых ещё не привык, воротился в тихом раздумье, на что потратить нынешний день, почти машинально поднял книжицу со стола, очки нацепил, развернул: в самом деле посвящается Джону Хобхаузу, эсквайру, в Венеции писано, января 2-го дня, 1818 год, любопытно бы знать, чем знаменит сей английский эсквайр неизвестный, что его любезным вниманьем своим нынче бессмертит великий поэт. Он присел на тахту, стал читать, дивясь с первых строк энергии краткости, красоте несомненной прозы английской, чего по-русски ещё не встречал:
«Восемь лет прошло между созданием первой и последней песни «Чайльд Гарольда», и теперь нет ничего удивительного в том, что, расставаясь с таким старым другом, я обращаюсь к другому, ещё более старому и верному, который видел рождение и смерть того, второго, и пред которым я ещё больше в долгу за всё, что дала мне в общественном смысле его просвещённая дружба, хотя не мог не заслужить моей признательности и Чайльд Гарольд, снискавший благосклонность публики, перешедшей с поэмы на её автора, — к тому, с кем я давно знаком и много путешествовал, кто выхаживал меня в болезни и утешал в печали, радовался моим удачам и поддерживал в неудачах, был мудр в советах и верен в опасностях, — к моему другу, такому испытанному и такому нетребовательному, — к вам...»
Верно, единственного, несравненного друга всякому поэту ниспосылает в опору и в помощь милосердный Господь. Недаром видел он нынче Шаховского, Катенина. Ах, куда же подевался прелюбезный сердцу Степан? Нет, Степана он не забыл. С именем Степана он проделал всё путешествие от Петербурга до Моздока и от Моздока в Тифлис, на суд Степана готовил беглые путевые заметки свои, которые собирался расширить, чтобы сделать из них что-нибудь. Жаль, что пока не расширил, что нечего путного ему посвятить, не то непременно это прекрасное имя украсило бы собой его благодарное посвящение, не в пример горделивому Байрону, который в глазах его не возвысился до примера, но из жажды одинокого сердца верного друга хоть словом типографского привета почтить. Да что, к стыду своему, посвящать? Свет вдохновенья не озаряет его бесплодной, иссохшей души, а без этого плодотворящего света всё выйдет сущая дрянь, что ни замысли положить на бумагу, хоть простое письмо, хоть бесстрастный отчёт в несносную канцелярию Нессельроде. Вот, гляди-ка, и Байрон об том говорит:
«Писатель, не находящий в себе иных побуждений, кроме стремленья к успеху, к минутному или даже постоянному успеху, который зависит от его литературных достижений, заслуживает общей участи писателей...»
Но, право же, общей участи он не желал.
С тем сложил книгу, умылся, оделся с небрежностью истинной элегантности и отправился искать губернатора, от души возмущаясь, что ни в каком закоулке не попадалось лакея, обязанного путь указать.
Губернатора отыскал он в столовой, одетого с вчерашней небрежностью провинциального большого начальника, который не привык стесняться ничем, точно тот всю ночь не вставал от стола, лишь тщательно выбритый подбородок и неподдельная свежесть лица без спору свидетельствовали о том, что Роман Иваныч спал превосходно и не уклонился исполнить утренний туалет.
Александр с холодной вежливостью случайного гостя, с вечера до утра уже позабытого, пожелал ему доброго утра и тотчас спросил, готов ли его билет на постой.
С брезгливой миной облупливая яйцо, подцепляя скорлупки коротким пальцем небольшой пухлой руки, Роман Иваныч, не взглянув на него, отозвался простецки, точно служил губернатором на Москве, сыздетства знаком был домами и, по меньшей мере, в трёх поколеньях считался близким родством:
— Э, голубчик, пожалуйте завтракать, а билет, вестимо, готов, как билету быть неготову, службой обязан, да куда ж вам спешить, квартира сквернейшая, в здешних краях не бывает иных, гаже разве что в пошехонской деревне, поспеете, наживётесь в хлеву.
Довод был капитальный, согласиться пришлось, он сел как пришлось, сам налил себе из кофейника кофе, с громадного блюда, точно заведённого для роты солдат, румяную булочку взял, но угрюмо молчал, почитая в чужом доме завтрак насилием над собой.
Нисколько не озаботившись мрачным его настроением, Роман Иваныч во всё время неторопливого завтрака безобидно брюзжал на Тифлис, свой пост губернатора поминал как изгнание, изливал жалобы на несносные летние жары, происходящие от спёртого воздуха, стеснённого отовсюду горами, — точно в колодце живём; на страшные лихоманки, которые с особенной яростью нападают на русских, избалованных свежими ветрами своих необъятных равнин; пространно сетовал на неодолимые трудности службы, насланные единственно для того, чтобы покруче нагадить ему, естественное следствие ужасного бесплодия здешних плодородных долин. Тут Роман Иваныч позабыл про еду, откинулся в своём поместительном креслице, возглавляющем обширное пространство стола, и от возмущенья забрызгал слюной:
— Голубчик, представьте, чёрт их задери, всякий гвоздь, каждый паршивый сухарь приходится караваном тащить из России, это за столько-то вёрст! Хозяйственное убожество не поддаётся никакому воображению. В самом Тифлисе до сего времени завели всего-навсего пушечный, пороховой и стекольный заводы, естественно разорённые Агой-Мухаммедом во грозное имя Аллаха — то-то расстарался, стервец; а к ним монетный двор и типография с такими машинами, что противно глядеть, а более ничего путного не производится ни в самом Тифлисе, ни где бы то ни было по горам и долам — вот и живи, и государеву службу служи! На базаре-то были? Как не бывать, куда ж и пойти! Все русские первейшим делом туда! А там что? А там все товары турецкие и персидские. Свои-то грузинские одни кинжалы да шашки, да дивиться тут нечему, что ни день, то резня. Хлеба бы первостатейные могли при здешнем климате вызревать, а тут чуть не голодом мрут, куда ни глянь, везде перелог[158], когда в самой захудалой пошехонской деревне трёхполье давно, землицу доводят до полного истощения, о навозе не имеют понятия, под посев ковыряют чуть не руками, пошехонские мужики в сравнении с грузинцами чуть не вольный народ, пошехонского-то, крайнее зло, на борзую собаку могут сменять, а князья-то грузинские своих в полное рабство продают мусульманцам чуть не отарами; после этого варварства, голубчик, какие будут хлеба! А мне каково? Мне строить, мне ораву рабочих кормить! А я, голубчик, не семи пядей во лбу, не-ет, не семи, сам погляди! А и был бы семи, так и что? Тут и с семью-то пядями ум за разум зайдёт, вот те и начальник губернии, чёрт их задери! Первейшее дело — отсюда бежать, да сколько ни хлопочу, в России путного места не сыщут, и точка! Надо терпеть!
С легкомыслием, свойственным отъезжающим в края неизвестные, Александр неторопливо, с видом полного равнодушия, мол, гость должен вежливым быть, задал непраздный вопрос:
— И ничего сделать нельзя, никаких перемен?
Роман Иваныч насупился, собрав морщины на лбу, пошевелил в воздухе пухлой рукой, изображая отрицательный жест, упавшим голосом произнёс:
— Хлопочу.
Хлопотуна было жаль, хлопотун, должно быть, изрядный, а смешон, куда как смешон. Александр улыбнулся одними глазами:
— И что же?
Роман Иваныч развернул пустую ладонь:
— Естественно, ничего, не берут-с в Петербург.
Александр хладнокровно перевёл разговор на другое, что истинно ему было любопытно:
— Хлопочите, непременно возьмут. А что предлагаете вы изменить в хозяйственном положении Грузии?
Роман Иваныч хозяйственной жилки был человек — тотчас видать, рассудительно отвечал:
— Надеюсь, колонисты, немцы приезжие, дадут нам достаточно хлеба, а более что? Как приохотить к производительному труду население, которое тысячу лет воюет между собой и с соседями, воинственности которому ещё не положен прочный предел? Вот лет пять обживётесь в здешних краях, так увидите сами, ежели, натурально, вас лихоманка не съест.
Александр поневоле вздохнул:
— В миссии я всего два года.
Роман Иваныч покрутил головой:
— Это вот жаль. Народам нетронутым образованные люди ох как нужны для совета.
Образованные люди точно повсюду нужны, да он в душе своей не слышал намеренья первобытным народам советы давать, он возразил:
— Авось как-нибудь своих заведут, если не для советов, так для того, чтобы было кого проклинать.
Роман Иваныч руками всплеснул:
— Помилуйте, батюшка, дело труднейшее, ещё возьмёт тысячу лет. И, позвольте, из чего проклинать?
Александр рассмеялся беспечно, однако ж прищурил глаза:
— Нам куда торопиться, мы подождём. А проклянут непременно, замучат до смерти — образованного человека отчего-то слишком не любят в своём-то отечестве.
Роман Иваныч покривился, почесал раскрытую грудь:
— Можно бы подождать и тысячу лет, когда бы не провинция империи нашей, а на что она нам, никак в толк не возьму, голь перекатная, нищета, теперь у нас от них боли голова.
Смешно ему стало, да он не согласиться не мог:
— Точно, голове нашей болеть и болеть, и долго болеть.
Они всё-таки окончили завтрак. В сопровождении инвалида — ветерана блистательных походов Суворова, отправился он на квартиру. Владелицей низкого туземного домика оказалась старая женщина в чёрной одежде, в чёрном платке до самых бровей, худая, морщинистая, с сухими глазами, хромая, с клюкой.
Инвалид с важным видом подал ей распоряжение на постой, казённый бланк желтоватой плотной бумаги, заполненный русским чиновником, конечно, по-русски, однако ж постояльца представил ей по-грузински, должно быть изъясняясь с трудом, поскольку угрюмая женщина несколько раз, отрывисто и гортанно, переспросила самородного переводчика, определённого в службу откуда-нибудь из-под Орла, затем заговорила быстро, порывисто, глядя пристально в недоумённое лицо незваного гостя, настойчиво дёргая ветхий рукав инвалида, чтобы переводил побыстрей. Инвалид добросовестно клонил голову, подставлял правое ухо, шевелил выцветшими морщинистыми губами, пересказывал с остановками, запинаясь, переменяя слова:
— Это она вам говорит, дело такое, говорит, что у неё там сын и муж, значится, в Персии, надо сказать. Просит найтить. Это как же? Что в стогу сена искать, бестолковый народ. Ещё говорит, что коли в миссии вы, так это ваш долг, то есть просит она Христом Богом. Говорит, персиянцы, злодеи, сгубили отца, её обесчестили, сволочи, азияты, под коленом жилу подрезали, чтобы, значит, долго помнила доблестных посланцев Аллаха, экие звери, в сраженьях двадцать три года пять месяцев как один день, а таких зверюг не встречал, а тоже попадались иные, увели мужа и сына двенадцати лет, стало быть, вырос, взрослый мужик, где же найтить. Говорит, станет вечно молиться за вас, это как водится, одной молитвой и жив человек.
Александр твёрдо сказал, зная, что лжёт:
— Хорошо.
Отведённая комнатка оказалась чуть не пустой, с голыми стенами, с потёртым ковром на полу, с широкой тахтой и низеньким столиком, за которым невозможно писать, с оконцем немногим более носового платка, так что в комнатке среди белого дня царил полумрак.
Он отправил инвалида за Сашкой с приказом устраиваться и закупить побольше свечей, а сам, не представляя, что станет делать в этой дыре, отправился бродить по Тифлису, уже успевшему ему надоесть, обедал у Ховена, которого от скуки пространно благодарил за постой, рассеянно слушал пустейшую болтовню офицеров и служащих, обсевших стол губернатора, точно полчище мух, ощущая неизреченную тяжесть на сердце от мысли, наконец пришедшей к нему, какую ношу взвалил, отправившись с миссией чёрт-те куда; сколько невидимых глаз, сухих или мокрых от слёз, станут денно и нощно молить не кого другого, шалишь, а его одного, Грибоедова, чтобы отыскал и вернул обесчещенным, ограбленным, обездоленным жёнам и матерям полузабытых супругов, ненаглядных детей, которых только в ту войну было взято, по слухам, тысяч до двадцати; раскланялся, благодарил за обед, снова бродил, едва чуя от усталости ноги, отчаянно сознавая ничтожество собственных сил: разве целое озеро горя вычерпать миссии, составленной мудрым правительством из трёх человек?
Всё же пришлось воротиться в жилище, отчасти казённое, полное старого, а вечно нового горя. Он постучал. Дверь растворилась. Он чуть не ахнул. Свечи пылали. В их трепетном свете распустилась, рассеялась убогая нищета, какую не встречал он и в самых бедных польских домишках, когда нёс свою добровольную службу в кавалерийских резервах. Призрак покоя, уюта встал перед ним. Точно разжалась рука, что-то оттаяло, отпустило усталую душу.
Сашка предстал перед ним, скептически улыбаясь, с кувшином воды. Они вышли на задний захламлённый дворик. Он умылся, в комнате сбросил сапоги и сюртук, накинул халат, сел на тахту, раскрыл последнюю песнь о бесцельных скитаньях молодого британца, надеясь скоро уснуть, и уже не уснул всю ночь. Его чувства раскрылись, наполнились мысли, поэзия Байрона взволновала его, потрясла. Было странно читать, находясь среди народа нетронутого, едва вступившего на первые, залитые бесплодной кровью крутые ступени истории, как медлительно, величаво умирает Венеция, уже свершившая, по неизгладимым впечатленьям поэта, свой исторический путь:
Но смолк напев Торкватовых октав, И песня гондольера отзвучала. Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав, И не тревожит лютня сон канала. Лишь красота природы не увяла. Искусства гибли, царства отцвели...И потекли замысловатой чередой картины настоящего, картины прощедшего, воспоминанья, размышленья, прихотливо рассчитанные либо строгим разумом, либо внезапным чутьём вдохновения, тягостные раздумья над разрушительным ходом истории, над не менее разрушительным течением Жизни, над Смертью, над сомнительным правом на долгую память потомков, над твореньями мысли — этими бессмертными, этими неистребимыми светилами веков и тысячелетий, над могуществом Тасса, над скромной гробницей Петрарки[159], и вдруг чёрным ужасом ударило в обнажённое сердце наставленье, пророчество, угрюмая весть издалека:
И тот, кто смертность ощутил свою, Приволье гор, укромное селенье Иль пинию, склонённую к ручью, Как дар воспримет, как благословенье. Там от надежд обманутых спасенье, — Пускай жужжат в долинах города, Он не вернётся в их столпотворенье, Он не уйдёт отсюда никогда. Тут солнце празднично — в его лучах вода, Земля и горы, тысячи растений, Источник светлый — все твои друзья, Здесь мудрость — и в бездеятельной лени, Когда часы у светлого ручья Текут кристальны, как его струя. Жить учимся мы во дворце убогом, Но умирать на лоне бытия, Где спесь и лесть остались за порогом И человек — один и борется лишь с Богом Иль с демонами духа, что хотят Ослабить мысль и в сердце угнездиться, Изведавшем печаль и боль утрат, — В том сердце, что, как пойманная птица, Дрожит во тьме, тоскует и томится, И кажется, что ты для мук зачат, Для страшных мук, которым вечно длиться, Что солнце — кровь, земля — и тлен и смрад, Могила — ад, но ад страшней, чем Дантов ад.Горькая, непостижимая весть — он вдруг испытал, ещё в первый раз, как принял решенье и двинулся в путь, неопределённое, точно медлительным ядом напоенное чувство, шептавшее в испуге, в смятенье, что уже никогда ему не воротиться в жужжанье, в столпотворенье обеих порочных столиц, что он, давно проведавший о том, что смерть — удел всего живого, обманутый в надеждах сотни раз, завлёкся точно бы помимо воли в приволье древних гор, в укромные селенья, к гремящим рекам и ручьям, чтобы оставить всё, чем прежде сердце жило и здесь найти свою обитель смерти.
Боже мой!
Он швырнул книжку в сердцах, точно она обожгла ему руки, и огляделся. Полутьма угрюмо глядела от двери, завешенной чуть не холстиной, с небелёного потолка, из тесных углов. Свечи, оплыв, догорали.
Он вскочил в одном нижнем белье, заметался безвольно, в тоске, с гулко бьющимся сердцем, с холодным потом на лбу. Он ещё не хотел умирать ни в каменистых теснинах Кавказа, ни в каменных саклях, как склепах, с плоскими крышами, вызывавшими у него отвращение, с грязью веков, с оскорбительной нищетой, от которых его отвращала брезгливость; и нигде не хотел умереть — он был ещё молод и свеж, и светлые надежды ещё не угасли вполне, и замыслы бодрую душу томили, вызревая вседневно, наружу просясь, и сильный, жаждущий ум изведал не все пространства Неба, в пространствах Земли, в нехоженых подземельях Истории, в подлом ничтожестве и в завидном величии Человека. Как много он ждал впереди!
Всё чушь, всё наважденье этой мрачной дыры, усталость телесная, воздух дурной, одиночество — какой месяц без сердечного друга, да и лорд Байрон что за Кирховша, а и та дура дурой, об его будущем толком ничего сказать не могла, деньги сманила, и кто всесильный мог бы без ошибки предвидеть, что с ним в жизни стрясётся на всякой версте, и где его, многогрешного, неизменная смерть подберёт, — тот, право, был бы истинный Бог, а он, как ни мыслил о себе высоко, и близко к Богу не годился, стало быть, глупей глупого бедную душу терзать и терзаться.
Он свечи сменил, завернулся в подобие одеяла — тяжёлое, жёсткое, чуть не попона; с остановками, с раздумьем внимательным пустился дальше читать, о Ферраре неведомой, о Данте, о пожарах, бунтах, гуннах, обломках античного фриза, брошенных, точно бессмысленный мусор во рву.
Уж он успокоился, обошлось без смятений, без собачьих скулений души. Всё же две вещи глубоко поразили его. Первая вещь была нестерпимая дерзость поэта, счастливое изобретенье безоглядного его вдохновения. Точно подстрекаемый озорством остроумного насмешника Стерна[160] — романиста лукавого, недавнего его соотечественника, британский поэт воспринял паломничество — эту извечную идею скитания, изобретённую ещё беззрячим старцем Гомером, лишь как слабую нить для обширной поэмы, которой выпустил уже четвёртую песнь, как удобную раму, которую прихотливо, свободно, беспечно заполнил всего несколькими малоопределительными штрихами из жизни героя, а более картинами жизни прошедшей и нынешней и размышленьями собственными, видимо, неотвязными, о странности и суровости бытия, и вся занимательность выходила в картинах и размышлениях, тогда как безличный герой в стороне, правду сказать, занимательность высшая, для немногих, для избранных, околдованных прелестью пытливого размышления.
Вторая вещь, поразив более, возвышала его в глазах собственных, вечно открывающих одни его недостатки, показав ему с возможной на то достоверностью, что и он также не лыком шит, втеснился в ограниченный круг немногих и избранных, если не более, поскольку чуть ли не все мысли британца — поэта, безусловно, всемирного, к тому же из главных, давно все об этом твердят на всех языках — назад без малого, впрочем, ещё до войны, сами собой открылись ему, упорным его размышлением, мало когда оставлявшим его, даже посреди самых громких дурачеств.
Глубоко, как только доступно просвещению нынешнему, ещё ограниченному нашим общим невежеством, заглядывая в самые тесные, в самые тёмные и необжитые подземелья истории европейской и русской, древнейшей и нынешней, он понемногу пришёл к убеждению, с горечью ненавистной, что вся она состоит из непрестанного разрушения, столь же непрестанного созидания и вновь разрушения только что созданного, так что без следа в умах, в пергаментах, в песках или в дебрях лесных исчезают цивилизации пышные, державы великие, народы премудрые, которым обязано человечество открытиями непреходящими, блистательными искусствами, и потомкам с течением разрушительных лет достаются, благодарение премудрому Богу, если хотя бы руины, забросанные песком и навозом, бессвязные обрывки блистательных сочинений, изувеченные обломки поражающих своим неземным совершенством скульптур, так что на месте раззолоченной столицы, покорившей чуть не весь мир непобедимой империи, нынче процветает, неприметно, бесславно, убогая деревушка или вовсе невзрачная цепь бесплодных голых холмов; и от многих поэтов, философов прежней Эллады до нашего времени едва долетели одни имена. Что же, какие же вздоры достанутся нашим потомкам через тысячу лет от наших жалких смятений, пророчеств и пирамид? Может быть, вонь пожарищ и немного золы.
Ещё горше, ещё непереносимей того, как и Байрон, он увидел отчаянность жизни. Всё тленно под здешними небесами, решительно всё, всё кончено, как и самая жизнь: любовь и дружба и слава, всё, что вечно смущает и гложет сердце и ум, всё, за чем сломя голову гонится, пока жив, человек, подчас впадая в беспамятство, в исступление, подчас преступая закон, не один человеческий, но и Божеский — единственно вечный.
Отчаянью жизни отрывчатый Байрон дал всего несколько строф — пять или шесть. Уже сама эта строфа изумила его построением, доселе не виданным: девять строк, стройно связанных перекрестиями рифм. Ещё более изумила его выразительность, стройность и плавность стиха, вмещавшего свободно и ясно размышленья глубокие, сложные, достойный мыслителя древности, не столько поэта.
Ничего сходного ещё не родилось в бедной талантами русской поэзии, слишком ещё молодой. Он сам, с его самолюбием, с его самомнением, с такой потрясающей мощью писать не умел.
Жажда соревнования — его всевечная страсть, вдохновила его. Ему не терпелось выразить то же отчаянье жизни более кратко, не менее сильным и властным стихом, однако по-русски. Он выхватил лист из портфеля. Походная чернильница, благодаренье Степану, отныне всякий час была под рукой. Враг переводов буквальных, он импровизировал вольно и вольно, не только слушая Байрона, сколько самого себя, набрасывал так, как под перо попадало, ещё не заботясь о чёткости ритма и связности рифм:
Не наслажденье жизни цель, Не утешенье наша жизнь. О! не обманывайся, сердце. Мечты! меня не увлекайте. Нас цепь должностей угрюмых Опутывает неразрывно. Когда же вглубь души проникнет Хоть искра счастья и любви Как неожиданно! как дивно! Мы молоды и верим в рай, — Но скоро бросишь кисть, и прочь Бежишь от радужной палитры. За ярко брезжущим виденьем, Стой! смертный! И вот мы, И что ж с тех пор? — Мы мудры стали, Ногой измерили пять стоп. В душе создали тёмный гроб, И в нём живых себя хороним. Вот опытность! — её урок: Принять ярмо чужих властей, Надежду от... И веру в собственную силу, И дружбу, честь, любовь и всё... Согреем душу тем, что было, Как люди весело шли в бой, Когда мы весело шли в бой, И вера в нас жила, Что так обманчиво и мило.С тем бросил перо, свечи задул, дунув сильно, точно озлился на их догорающий свет, не став перечитывать, предощущая и без того, что выплеснул хаос и вздор, и, показалось, в то же мгновенье заснул тревожным, бесформенным, томительным сном, который не успокоил, не насытил его, а пуще разбил, так что пробужденье было длительно, неприятно, с тоской безысходной, с разбитыми членами, точно его долго чем попадя били во сне.
Нехотя выпил какой-то безвкусной, хорошо, если безвредной бурды, оказавшейся чёрным, несладким, для него нынче слишком жидко сваренным кофе, нехотя что-то надел на себя, с великим трудом натянул сапоги, принудил себя выйти на слабый осенний солнечный свет, резавший болью глаза, сощурился, сморщился, побрёл Бог весть куда, не различая прохожих и улиц, часа три спустя попришёл немного в себя, в ненарушимом молчании отобедал у Ховена, морщился и страдал, слыша во время стола презренный обыденный разговор, точно форменные служители градоправления сговорились нарочно поминутно его оскорблять плоскостью своих мимолётных суждений. После обеда выкурил до половины сигару, вдруг бросил её, резко поднялся, неверным языком пробормотал извиненья, пошёл вон, отметил едва, что бледное солнце заволоклось непроглядными тучами, чуть не безумный, едва взошёл в дверь, тотчас сел, не разглядевши на что: подобие табурета, камень, чурбан — и замер, точно замёрз; да и в самом деле, изрядно трясло.
Амбургер явился обнародовать глупую весть, что прискакал из Петербурга курьер и что, в какой уже раз, бумаг не привезли, без которых дипломатической миссии невозможно следовать далее в Персию; верно, в Аахене нечто стряслось, что инструкции Нессельроде задержал; вдруг попристальней вгляделся в него, заметался, запричитал, вихрем умчался, воротился чуть ли не той же минутой, таща за собой эскулапа — незнакомого, длинного, в чёрном, с золотой массивной печаткой на большом, да что-то уж слишком маленьком пальце, который приказал ему вовсе раздеться, обглядел, обстучал и, по обыкновению всех эскулапов, мудреных и важных, соврал, что у него расстройство серьёзное нервное или простуда, угнездившаяся внутри, не выступившая пока наружу; из двух этих зол ни расстройства, ни простуды не предпочёл, приказал неделю дома сидеть, всего лучше потеплей завернуться в постель и вспотеть; принял от Амбургера в левый карман и с достоинством грузинского князя, не переводимым на язык простых смертных, растворился в дверях.
Амбургер бережно его уложил, точно нянька, одеяло кругом подоткнул, близко присел на тот же чурбан, на котором он прежде камнем сидел, принагнулся дугой, поскорбел, в неосторожности непростительной упрекнул, чуждый климат гнилого Тифлиса ругнул, заговорил об городских новостях, из которых главнейшей была та, что Алексея Петровича ждут и что волей его добрая сотня курьеров скачет едва проходимыми тропами по горным аулам, призывая в Тифлис грузинских князей и старейшин лезгин, в этаких вздорах исправно просидел дотемна и, когда Александр, жалея его, сделал вид, что уснул, удалился, ступая на цыпочки, без малейшего шума, без скрипа притворивши скрипучую дверь за собой.
Он пожмурился, приподнялся, засветил свежие свечи, кем-то вставленные вместо сгоревших, поглядел пристально, не тотчас решась, приблизил вчерашний листок, по счастью не примеченный заметавшимся Амбургером, медлительно, с долгими остановками прочитал, ужаснулся, не поверив ни уму, ни глазам, и чуть не заплакал: всё написанное поспешно, стремительно, точно в бреду, представилось истинным бредом. Не один русский язык тут испытывал он, как то проделывал в Петербурге с Мольером, он тут сам себе неподкупный экзамен сдавал на зрелость собственной мысли, на верность руки. Какие мысли? Об чём? Какая способность к рифме и ритму? В водевилях пустое изливалось ровно, гладко, ручьём, а тут что за дичь? Обрывки чего-то, хромота, слепое ковылянье пера! Готовил, готовил — и вот курам на смех приготовил себя!
В помрачающем ум раздражении он чуть не разодрал в клочья проклятый листок, да в миг последний что-то громко ему помешало. Верно, Байрон сильно ему досадил или в самом деле он простудился, болезненным жаром горел, только раздирать ничего не хотел и этому чёртову Байрону изо всех сил желал доказать, что тоже не лыком шит и что напевные реченья дедов и прадедов не менее способны облекать серьёзные мысли в стихи, чем скрипучий деревянный британский язык, которым вдруг противно стало владеть. Воля яростно в нём напряглась. Он точно горячечным лбом уставился в стену и ни за какие пироги отходить не хотел.
Вновь он читал, останавливался надолго, натужно, насильственно размышлял, одолевая ровный гуд и туман в голове, до конца листа добредал со стиснутым ртом, встряхивался, подбирал повыше подушки, возвращался к началу, «мечты» и «меня» зачеркнул в четвёртой строке, поставил «О! призраки» таким неловким движеньем пера, что сам после едва разобрал, вдруг огорчился, перо уронил, с подушек к чёртовой матери сполз, свернулся в калач, чуть не к подбородку приткнув худые колени, провалился в безмолвие сна, без мрачных видений, без сладостных грёз.
Взаутре подняться не смог. Верно, в самом деле простыл глубоко и нервы наконец сорвались, бестолковой пальбой с дураком Якубовичем закрученные винтом, — мудрый эскулап выходил кругом прав, а как подумать, так лучше бы искренно врал.
Он лежал в духоте грузинской вонючей избы, неподвижно, безразличный к простуде и нервам, довольный единственно тем, что живёт. После долгого отдыха ночи с вечера капризная, вялая мысль точно бы поокрепла, точно бы сил набралась. Передумывая строфу за строфой, перебирая стихи: неуклюжие, тёмные, вовсе нескладные, чем ближе к концу, он сперва смутно, потом всё уверенней обнаруживал странность, которой в миг импровизации непредвиденной, в хаосе мыслей и чувств вовсе в голове не держал: он не был с Байроном заодно. Нельзя отрицать, несомненные истины и его приводили в отчаянье, не приводить не могли, поскольку он наблюдал их во все времена. Что дружба, что слава, что честь, что любовь? Одна мечта безопытной юности, лишь тень от мечты, была вчера, а нынче нет, остались боль и пустота. Чего же ради жить? В сей жизни смысла, толку, цели нет, а всё живём, и чем живём? Вот где она — загадка бытия. Отгадки нет.
Тут ни с каким расперебайроном согласиться не мог он ни за что, не хотел, к чёртовой матери и расперебайрон пошёл. Русский был человек, ум с сердцем не в ладу, упрямейший пасынок здравого смысла. Буквально всё неотразимо влекло к убежденью неоспоримому, что пыль всё да прах, к чему ни влечётся сыздетства душа, а душа не смирялась, душе никакая логика была нипочём. Пыль да прах? Наплевать!
Что-то иное таилось в последней строфе. Он поглядел в какой уже раз. В последней строфе против логики всей, против собственной воли стояло: «Согреем душу тем, что было». Он и всегда согревал, оборачиваясь на Владимиров да Мономахов, на непостижимый гений Петра, который ведь тоже истинно русский был человек. Верно, кровь дедов и прадедов в нём говорила, умевших без рассуждений, без стенаний да слёз сносить бытие и без логики душу класть за Отечество.
Нечто сродное вдруг приключилось с ним. Все надежды его, все мечты, все друзья, его позабывшие месяца в три, оставались за тяжким Кавказским хребтом, и ему досталась на долю та же судьба непроглядная, какая всякому русскому написана на веку, оттого и выкидывалось как-то само собой желание вопреки разуму жить.
Он сузил глаза, приподнялся и по верху листа крупно, уверенно написал:
«ПРОСТИ, ОТЕЧЕСТВО!»
Ещё подумал о бедном Байроне, о непостижимости русской души, усмехнулся злорадно и сильной чертой подчеркнул.
Затем в течение нескольких дней, что болел и постели не оставлял, перечёркивал, переправлял, отыскивая верное слово и верный, несбивчивый ритм, пока три строфы не превратились в нечто подобное месиву, в котором он сам с трудом то разбирал, то вновь вписывал и что из прежнего оставалось после жестокой расправы.
Наконец решился перечитать:
Не наслажденье жизни цель, Не утешенье наша жизнь. О! Не обманывайся, сердце. О! призраки, не увлекайте... Нас цепь угрюмых должностей Опутывает неразрывно. Когда же в уголок проник Свет счастья на единый миг: Как неожиданно! как дивно! Мы молоды и верим в рай, — И гонимся и вслед, и вдаль За слабо брезжущим виденьем. Постой! и нет его! угасло! — Обмануты, утомлены... И что ж с тех пор? — Мы мудры стали, Ногой измерили пять стоп. Соорудили тёмный фоб И в нём живых себя заклали. Премудрость! — вот урок её: Чужих законов несть ярмо, Свободу схоронить в могилу И веру в собственную силу, В отвагу, дружбу, честь, любовь!!! — Займёмся былью стародавней, Как люди весело шли в бой, Когда пленяло их собой, Что так обманчиво и славно.Перечитал и увидел, что не достиг. Неразлучная, главная мысль, пожалуй, определилась слегка, однако ж в поисках завершения поэтического вдруг расплывалась, блуждала, как прежде, суровые стихи спотыкались — тут, брат, не водевильный лепет пера, — закруглялись рифмами слишком простыми или вовсе оставались без рифм. Наглым образом обнажалась дурная привычка или наклонность слишком вольной натуры — приступом брать, подвигаться вперёд одним приятным усилием вдохновения, прискорбное неуменье труда.
Перебеливать было стыдно. Александр отложил, в тревожной надежде на то, что когда-нибудь вновь сам собой возгорится в душе поэтический жар, и воротился к истории Персии, брошенной, полузабытой, с жадностью глотая страницы, поскольку неторопливо, с кровью холодной и читать не умел, не только писать.
Нервы улеглись понемногу. Он намеревался уже выходить, когда явился незнакомый ему адъютант объявить, что Алексей Петрович прибыл нынче из Грозной и сейчас господина Грибоедова ожидает к себе.
Он явился в неформенном сюртуке. При дворце наместника, ещё не во всех частях обновлённом, не нашёл он ни часовых, которые в зашнурованном Петербурге торчали чуть ли не у каждых дверей, ни дежурного офицера, без которого не помнил он ни одного генерала. Он остановился в громадных сенях в замешательстве, куда повернуть. Наконец юноша не старше шестнадцати лет, отчего-то облачённый в венгерку, взошёл следом за ним, смекнул неловкость его положения, улыбнулся, как показалось, высокомерно и без тени официальности, чуть не приятельским тоном пригласил его следовать за собой. Он и последовал, но не своим лёгким, стремительным шагом, а скованно, стуча каблуками, хотя чего-то подобного именно ожидал, уже слегка ознакомясь с манерами Алексея Петровича.
Владетель венгерки широко, без доклада, без стука распахнул высокую дверь и как ни в чём не бывало взошёл, точно с прогулки верхом по наследственным лугам да полям воротился домой. Он за ним, уже досадуя на себя, что с толку несколько сбит, тогда как воспитанный в свете, к тому же дипломат, быть обязан готов ко всему и равнодушие полное изображать на лице.
В комнате очень просторной нашёл он обширный, неопределённого назначения стол, равно годный, казалось, на любые занятия, хоть на обед. При дальней его стороне увидел он Алексея Петровича, в том же обношенном сюртуке, в черкесской шапке крупной шерстью наружу, какие сплошь носят терские казаки на линии. По обе стороны от него, вперемешку и вольно, сидели военные разных возрастов, тоже без эполет и без шпаг, кто в шапке черкесской, кто в армейской фуражке, кто простоволос и плешив, свежебритые тоже не все.
Ничуть не усталый после долгой трудной дороги от Грозной, Алексей Петрович только взглядом повёл и обыкновенно сказал, точно соседа принимал в деревенской избе:
— Здравствуйте, Павел Иваныч, как поживаете? Здравствуйте, Александр Сергеевич, благодарствую, что пришли.
Павел Иваныч, владетель игривой венгерки, как ни в чём не бывало взял в отдалении стул, сам принёс, приставил к столу и уселся бок о бок с Наумовым, ничуть не чинясь, что Наумов был старший офицер при штабе наместника, полковник и лет уже более сорока.
Сообразив, что этакая вольность была нарочно заведённым порядком, какой мог прийти в голову одному Алексею Петровичу, презиравшему вытяжку малоумных петербургских штабов, Александр поздоровался по возможности запросто, тоже взял себе стул от дальней стены и уселся подле Павла Иваныча, несколько развалясь, этим видом противусветским нарочно показывая, что ничуть не смущён.
Сделалась пауза.
В тишине и при всех ровным голосом, по-домашнему, однако же так, что было тотчас видать, что сердит, Алексей Петрович его распушил под орех за дурачество поединка, объявил, чтобы Якубович не смел попадаться ему на глаза, и распространился об том, что в корпусе каждый офицер ему дорог, дипломат же дорог вдвойне, и что поединков до сей поры не терпел, не потерпит и впредь, последнее уже самым дружеским тоном попросил всех зарубить себе на носу; дослушал доклад Вельяминова, начальника штаба, сидевшего вольно, и попросил Павла Иваныча ввести старейшин лезгин.
Павел Иваныч бодро вскочил, побежал по-мальчишески бойко и ввёл депутацию две минуты спустя. Лезгины взошли нестройной гурьбой, все старые, с кривыми ногами, обутые в кожаные чулки под видом сапог, в высоких мерлушковых шапках, в ветхих черкесках, с дорогими кинжалами в серебряных чеканных ножнах на поясе, встали в дверях напряжённо и тесно, опершись узловатыми старческими руками на суковатые костыли, и молчали, глядя прямо перед собой тусклыми сосредоточенными глазами, на дне которых таился испуг.
Алексей Петрович громко поздоровался с ними. Старики ответили общим степенным поклоном, точно на ярмарке куклы, дёрнутые сзади за нитку. Алексей Петрович так же громко, раздельно, холодно произнёс:
— Господа старики! Вы меня знаете. Я на ветер слов не бросаю. Не брошу и впредь. Ваши сородичи, которые будто у вас под рукой, пропитание добывают грабежом и разбоем, как добывали ваши деды и прадеды. Не один путешественник не смеет явиться в здешних местах, не страшась быть ограбленным или зарезанным джигитами вашими, с позволенья сказать, а по-нашему татями без чести, без совести, без стыда. Торговые турки и персияне не наезжают в пределы Российской империи без крепкой охраны мирных своих караванов, да и охрана не всегда ваше разбойное племя страшит. В Российской империи, как и во всех благоустроенных державах Европы, грабителей и разбойников, взятых с оружием, вешают за шею в людных местах, чтобы другие грабители и разбойники имели пред глазами пример, подражания недостойный. В ваших горах я грабежей и разбоев терпеть не намерен и делаю то же, как мне повелевает долг и закон. Однако ж мне донесли о недовольстве средь ваших племён. Чем недовольны, господа старики?
На шаг вперёд выступил самый древний старик, длинный, как жердь, и худой, с тощей жилистой шеей, в высокой серой папахе, с таким широким кинжалом на поясе, что твой меч времён Мономаха, зашамкал чуть слышно, выказывая в пустом рту единственный кривой жёлтый зуб:
— Вешают многих, мой господин.
Алексей Петрович отрезал, не меняясь в лице:
— Грабителей и убийц станут вешать и впредь — так не убивай и не грабь, останешься жив и поступишь под охрану российских законов.
Старик напряжённо слушал, вытянув шею вперёд, едва разбирая по-русски, сморгнул точно бумажными от старости веками, прошамкал, сокрушённо помотав головой:
— Кушить нада, мой господин, конь иметь нада, деньги нада, где взять? У нас один овца на горах, мала-мала овца, а джигит без коня сам овца.
Алексей Петрович посоветовал неторопливо, отчётливо, громко, делая долгие паузы, чтобы старики могли его понимать:
— Так пасите больше овец, продавайте многих на базаре в Тифлисе, деньги возьмите за них, купите джигиту коня. Грабить и убивать Господь не велит.
Старик охотно закивал в знак согласия, облизнул сухие губы сухим языком и вдруг возразил:
— Овца деньги мала, конь деньги многа, как взять коня за овца? Аллах справедлив, возьми у неверного, говорит, неверного можна убить.
Взглянув пронзительно из-под нависших бровей, Алексей Петрович возвысил угрожающе голос:
— Мне Аллах не указ, а вы лучше всем передайте в горах: ваши грабители да убийцы на ваших деревьях будут висеть. Моё слово твёрдо, вам ли не знать.
Старик поклонился почтительно, просипел:
— Твоё слово твёрдо, мой господин. В горах твоим именем мамки пугают детей, Ярмул придёт, говорят, погоди, Ярмул задаст, нам ли твоё слово не знать. А ты укажи, как джигиту жить без коня?
Алексей Петрович отрезал:
— У нас коль нету коня, так ходят пешком, а глоток не режут, джигитам скажи.
Помолчал и резко, недружелюбно оборвал разговор:
— Ступайте, я вас не держу. Да впредь звать не стану, господа старики, солдат приведу.
Старики склонились степенно, показали костлявые гнутые спины, вышли бесшумно в своих чулках-сапогах, дверей за собой никто не прикрыл. Вскочил Павел Иваныч, выглянул в коридор, засмеялся негромко, но весело, дверь притворил, растянулся на стуле, далеко выставив молодые длинные ноги, с дурашливым видом сказал:
— А у этих лезгинов разбойники долго живут, лет по сто, должно быть — не народ, а кремень, на даровых-то хлебах.
Алексей Петрович поставил локти на стол, пальцы сцепил, подбородок уткнул, раздумчиво произнёс:
— Мне на шею этот кремень сколько ни вешай, а не вешать нельзя, одна казнь сберегает сотни русских голов от погибели и от измены тысячи мусульман.
Заговорил неторопливо, негромко, с долгими паузами, глядя перед собой, точно вслух размышлял, не обращаясь ни к кому из сидящих, и его слушали не так, как начальника слушают подчинённые, но как должно слушать вождя:
— Весь Кавказ подобен этим лезгинам. Без коня джигит не джигит, а коня негде взять, так надо украсть, без воровства джигит опять не джигит. Там, где красть и резать почитается доблестью, бессилен закон. Взять для примера Аварское ханство. Его жители бедны, их жизнь по этой причине сурова, а нравы воинственны. Чем в здешних странах знаменит их владетель? Военными подвигами. Не раз удачные делал на Грузию нападения, разорил заводы её, серебряные и медные. Пользуясь дружбой паши алхацыхского, сквозь земли его вступал войной в Имеретию. Однажды беспрепятственно прошёл всю Эриванскую область, близ Нахичевани только был разбит персиянами. Счастие благоприятствовало ему многие годы, что привязало к нему чуть не весь подлунный Кавказ, алчный насилия и добычи. Везде сопровождали его сотни джигитов. Он потворствовал их грабежам, и Грузия, можно сказать почти беззащитная, истребляемая внутренними раздорами, удовлетворяла их алчности своими развалинами. Долго ещё после смерти своего Умай-хана авары врывались в Грузию многочисленными шайками, да уж не было счастливого предводителя, а Грузия покоилась под защитой русских штыков, от которых незадолго до смерти Умай-хан испытал поражение. Теперешний хан получает от нас жалованье, в год пять тысяч рублей, будто за то, что удерживает племена Дагестана от нападений на Грузию, чему я делаю вид, что искренне верю, а между тем сей шельмец даней не платит и никаких обязанностей перед нами не принимает, каков? В Чечне едва ли считается шесть тысяч семейств, а между тем это злейшие из разбойников, которые нападают на Линию. Земли чеченские пространством своим не соответствуют количеству жителей, многие поросли лесами непроходимыми и недоступными для хлебопашества, отчего народ этот не занят никакими трудами и средства к жизни добывает единым разбоем. Их сообщество, весьма малолюдное, пополняется злодеями всех прочих народов, оставляющими свою землю, совершив там преступление, страшась кровной мести. Дружественных сообщников они находят в Чечне, тотчас готовых к отмщению или разбою, они же служат чеченцам проводниками в тех землях, которых сами чеченцы не знают. Свои набеги они проводят с наглостью беспримерной. Перебежав на свою сторону Терека, они у меня на глазах потешаются над моими солдатами, не поспевшими настигнуть их и рассеять огнём, и показывают похищенную ими добычу. Странное дело, солдаты их не преследуют. От пехотных офицеров толку я не добился. В чём дело, Сергей Александрович?
Наумов, не переменив вольной позы, точно к приятелю в гости взошёл, изъяснил неторопливо, толково, точно с приятелем о соседе своём толковал:
— Вашим предместником надумалось так. Его превосходительство дай да и запрети войскам преследовать хищников на их стороне. По связям закубанских народов с народами кабардинскими и кабардинских народов с чеченцами все они знают о запрещении, а дело известное, разбойнику попущение дай, разбойник теряет рассудок, и без того весьма небольшой.
Алексей Петрович почесал согнутым пальцем щёку, хмыкнул презрительно:
— Отчего ж изволили запретить?
Наумов не улыбнулся, однако ж брови слегка приподнял:
— Из спасенья заразу принять, моровая язва нередко приключается от грязи кромешной тел и жилищ в тех местах.
Алексей Петрович насторожился:
— В самом деле прямая опасность язву поймать?
Наумов на этот раз улыбнулся:
— Самые малые меры прими, так опасности нет никакой, наш-то народ искони содержит себя в чистоте.
Алексей Петрович точно бы посоветовал, а не отдал распоряженье по штабу:
— Так вы, Сергей Александрович, сделайте одолжение, изготовьте приказ: на той и на другой стороне преследовать разбойников до последней возможности и потачки никакой не давать, однако ж твёрдо внушить офицерам и нижним чинам: тех, кто не защищается или бросает оружие, щадить непременно.
Наумов ответил тем ровным будничным тоном, который показывал, что исполнит с точностью в срок, однако ж не станет из служебного рвения горячки пороть:
— Будьте спокойны.
Алексей Петрович оглядел офицеров:
— Надеюсь, не будет упущен ни один случай отмщения.
Один Наумов отозвался за всех:
— Точно так.
Алексей Петрович всей ладонью потёр подбородок:
— А и точно разбойники эти кремень, куда ни оборотись, отовсюду искры летят.
Умолк и сидел недвижим.
Приближёенные офицеры из почтенья молчали минуту-другую.
Алексей Петрович точно застыл.
Кто-то кашлянул. Кто-то двинулся стулом. Кто-то негромко спросил у соседа, какое нынче число. Глядь, уж всё без порядка, без внимания к наместнику и генералу оживлённо переговаривались между собой. Главной темой, всех занимавшей, был оконченный поход в Дагестан. Участники похода передавали свои геройства тыловым офицерам, живо и в красках, смеялись над слабостью соседних отрядов, бранили джигитов за глупость фронтальных атак и жестокую хищность завалов.
Понемногу, из разрозненных эпизодов и реплик, Александр уяснил, из чего заварился осенний поход в Дагестан. Аварский хан, присягнувший на верность и на всех встречах с русскими офицерами хвалившийся тем, что удерживает горские племена от разбоя, не удержал от соблазна своей разбойной природы, поднял эти самые племена, собрал головорезов тысяч до тридцати, впрочем, их никто не считал, и ударил на селенье Башлы, занятое небольшим русским отрядом, которым командовал генерал-майор Пестель. Всечасно ожидая измены, так свойственной беспокойным джигитам, опытный генерал на подходы к селенью выдвинул батарею и хорошо её укрепил. Его предусмотрительность оказалась более чем своевременной. Когда нестройные толпы конных абреков бросились на батарею с одними шашками да гортанными визгами, они отбиты были картечью. Та же бесславная участь постигла все нападения, которые следовали одно за другим до наступления темноты. Однако с наступлением темноты коварные жители, столь же неверные данному слову, впустили в селение своих воинственных соотечественников. Тем не менее Пестель держался целые сутки, ожидая подмоги, и в полном порядке отступил на Дербент, не удержанный тем, что разбойники всюду перекопали дороги и истребили мосты. В общей сложности за дни боев его потери составили убитыми и ранеными до четырёхсот человек, что, по мнению офицеров, было немного.
Под рукой Алексея Петровича находилось всего около трёх тысяч штыков и четырнадцать пушек. За дальностью расстояния он не имел возможности прийти на помощь отряду, атакованному в Башлах. Он растянул свои батальоны так, чтобы лазутчикам его отряд показался более многочисленным, и двинулся на Параул, прежнюю ставку аварского хана, уверенный в том, что многие из смутьянов оставят позиции против Пестеля и устремятся защищать свои неразумно оставленные жилища, что и подтвердилось впоследствии. Лезгины заняли вершины и перекопали проходы в горах. Отряд Алексея Петровича принуждён был встать на ночлег. Остановку легкомысленные лезгины приняли за победу, всю ночь жгли костры, пили вино и пели свои кровожадные песни. Ночь выдалась ветреной, бурной. Алексей Петрович пустил в обход батальон с двумя пушками. Уже на рассвете батальон приблизился к караулам, беспечным и пьяным. Передовая линия сделала залп, ударила в барабаны и с криком ура бросилась в штыковую атаку, каких не выдерживали даже французы. Лезгины всюду бежали, бросая награбленный скарб и оружие. Параул был оставлен без боя. Лезгины остановились только у селения Большой Джангутай, заняли возвышения, сделали окопы и засеки, однако ж бежали и тут, едва испытав на себе штыковую атаку. На острастку тем, кто соблазнится впредь изменить, Алексей Петрович приказал истребить большую часть селения и в нём дом брата аварского хана и всюду разослал прокламации, в которых извещал окрестные племена, что властью, данной ему императором, лишает аварского хана генеральского чина и жалованья. Потеряв убитыми и ранеными до пятидесяти нижних чинов и трёх офицеров, он возвратился на Линию, не помышляя о завоевании гор, бесполезных для русских.
Слушая тех, кто был очевидцем или сам водил солдат на завалы с открытой грудью, с саблей, в штыки, Александр не мог не понять, что угрозы, обрушенные Алексеем Петровичем на старейшин лезгин, все эти обещания палок, пожаров и казней, назначены напугать примитивное воображение людей ограниченных, из века в век и между собой говорящих языком кинжала и пули, а лишь доходит до дела, затеваемого жаждой грабежа и насилия, Алексей Петрович убивает и жжёт более в силу необходимости, чем по склонности к убийству и разрушению, потому что генерал не кровожаден, а добр по природе своей, с чувствами мягкими, которым умеет не давать воли по приказу рассудка.
Из задумчивости его вывели два денщика с большой миской супа в руках. Стол в самом деле оказался годен на всё. Обед был накрыт, приборы расставлены, офицеры рассаживались кто где хотел, не справляясь с чинами, — явным образом заведение Алексея Петровича, желавшего видеть не механизмы тупого повиновения, но товарищей возле себя. Суп задымился в тарелках. Ложки с аппетитом были пущены в ход. Пили вино, переговаривались, шутили, смеялись, как ни на одном обеде в чинной Москве. Отобедали, передвинулись, дали денщикам прибрать со стола, одни без доклада ушли, другие сели играть. Партнёры, верно, привычные, заняли места возле Алексея Петровича, и Алексей Петрович с вниманием неподдельным сыграл два роббера в вист.
Подали кофе, ликёры, коньяк, что было диво дивное в этой глуши. Алексей Петрович обвёл присутствующих пристальным взглядом, похоже избирая себе собеседника, остановился на нём, пораздумал и кивком головы указал на свободнее место рядом с собой. Александр перенёс свой стул и сел, ожидая новых браней за детскую шалость дуэли. Алексей Петрович прищурился:
— Верно, ждёшь, что в другой раз разбраню?
Александр внутренне сжался, сдержанно отвечал:
— Брань по заслугам уместна.
Алексей Петрович запустил пальцы правой руки в непокорную гриву волос, усмехнулся печально:
— Тут не заслуга, глупость одна.
С тем он был совершенно согласен, да чуть было не встал на дыбы:
— Иго чести тяжче татарского, глупость не глупость, против воли извольте по счёту платить — есть отчего снести и пущую брань.
Алексей Петрович приглаживал волосы, но волосы поднимались, может быть раздражая его, и голос тоже стал раздражён:
— Сейчас поэта видать, а лучше глупости брось, впредь под пулю не лезь — молодечество детское, да и не любит повторяться судьба.
Он ответил дерзкой иронией:
— Талантов ваших не слышу в себе.
Алексей Петрович выпустил волосы, пальцы стиснул, но тут же вновь распустил, а всё же твёрдо сказал:
— Гляди, я тих, да дерзких и дерзостей не терплю.
Он всё же новую шпильку пустил:
— Слыхал об том, вон ваше имя страх на детишек наводит в горах, кабы мне так.
Алексей Петрович взглянул с интересом:
— Тебе на кого?
Он известил, улыбаясь одними глазами:
— На дураков.
Алексей Петрович не отводил пристальных глаз.
— На дураков, говоришь? Что ж, имя грозное предпочтительней кровавой грозы батарей, да в чувство приводит не всех, не всегда, дураками преобильна земля.
Он откинулся на спинку стула, руки скрестил, жёстко спросил:
— Верно, оттого вы так часто пускаете в ход свои батареи?
Алексей Петрович слегка улыбнулся, может быть, одобрительно, однако ж ответил властно и жёстко:
— По одной необходимости, смею уверить, когда по мне палят из завалов, а более действую зверской рожей, огромной фигурой, которая на зрителей производит ужасное действие, да горлом широким, так что предводители диких племён не могут не убедиться, что не может же человек так сильно орать, на то не имея причин, основательных и справедливых.
Он иронически улыбнулся:
— Виноват — ни фигурой, ни глоткой не вышел.
Алексей Петрович слегка прищурил глаза:
— Тебе для чего? Твои дураки не то, что мои дураки, вот что заметь.
Он не хотел уступить:
— Всё же, философски сказать, образ действия более азиатский, чем европейский.
Алексей Петрович тоже не уступал:
— Ты прав, из необходимости я придерживаюсь многих азиатских обычаев.
Он усмехнулся:
— А мне влетает и за обычаи европейские.
Алексей Петрович заговорил просто, без поучения, точно сам с собой говорил:
— И европейские обычаи не во всём хороши, а за хребтами Кавказа нельзя не видать, что проконсул Кавказа жестокость здешних наследственных нравов не может укротить мягкосердечием европейским, тем паче европейский парламент вводить. Вот тебе на размышление пример. При первом свидании с Измаил-ханом, управителем ханства Шекинского, одной из сильнейших и знатнейших фамилий персидских, я сделал ему замечание насчёт злоупотребления власти и ему поручил к народу своему быть снисходительным. Едва ли ты не предвидишь, что мои слова имели малое действие, то есть никакого действия не имели. Что ж, я приставу, поставленному при нём от правительства, поручил собрать всех несчастных, которых он подвергал истязаниям жесточайшим, нередко из одного развлечения скуки, свойственной всем азиатцам, да поместить у него во дворце до той пресветлой минуты, когда изволит удовлетворить, по крайней мере, семейства их, обеспечив благосостояние по возможности сносное.
Говорит хорошо, частью и верно, слушать приятно, многое новое можно узнать — истинная причина и услада беседы, Александр ещё подзадорил его:
— В общем, как говорят, с волками жить — по-волчьи выть.
Алексей Петрович покачал большой головой:
— Не во всём, не совсем. Жестокость лишь устрашает жестоких, однако ж не искореняет жестокости, а вгоняет жестокость вовнутрь, в то же время ещё поощряя её. Кавказ — это громадная крепость, защищённая гарнизоном в полмиллиона бойцов. Полагаю правильной осадой загнать его за его гранитные глыбы и там обезопасить пределы России. Вот погляди, сделай милость.
Грузно поворотился, тяжело двинувши кресло к стене, завешенной обширной картой Кавказа, в северной части провёл властно черту сильным движением руки:
— Без сомнения, пределы России не идут далее Кубани и Терека, которые служат ей так же естественным укреплением, как горные кручи служат естественным укреплением Дагестану, Чечне, Кабарде. Эту линию надеюсь должным образом укрепить, так сказать, против азиатской жестокости плодами европейской науки. Естественной крепости противопоставим рукотворные крепости. Ныне чеченцы отодвинуты от среднего течения Терека за реку Сунжу, где предоставляю им пребывать в своей варварской независимости, если оставят в покое мои гарнизоны. Здесь заведены укрепления Преградный стан и Нарзановское, а теперь крепость Грозная, которую прочной цепью укреплений соединим с Владикавказом — нашим сторожем при начале Военно-Грузинской дороги. Далее на восток пока что дорога чеченцам открыта, напротив аула Андреевского — главного рынка торговли рабами, поставим крепость Внезапную и замкнём ею путь в Дагестан, а затем возведём другую цепь укреплений до Грозной, таким образом оставим чеченцам одну возможность беспрепятственно резать друг друга, если того пожелают. На западе дорогу от Моздока придётся оставить, она слишком опасна, а Моздок устроился в местности, смертельной своими болезнями. От Екатеринодара проложим новую дорогу, которая с севера прикроется Тереком, а с юга прикроем её, возведя ещё одну прочную цепь укреплений. Наша рукотворная крепость сделает набеги горных племён безуспешными: клока шерсти с паршивой овцы не возьмут. Если же воинственность первобытная, несмотря на доводы разума, поднимется в набег, отразим гарнизонами укреплений и вольными отрядами казачьих станиц, рассеем в преследовании, настигнем в аулах и там истребим. Каково?
С жадностью следил он за ходом его обдуманных рассуждений и в тот же миг подтвердил:
— В самом деле, мысль европейская.
Алексей Петрович вновь отворотился от карты и, хитро сверкнувши глазами, спросил:
— А вот угадай, кому первому пришла у нас в голову эта замечательно европейская мысль — отгородиться от диких племён умело расставленной стеной укреплений?
Он терялся в догадках и ответил шутя:
— Полагаю, что вам.
Алексей Петрович явным образом остался доволен и поспешил щегольнуть обширностью своих исторических сведений:
— Как бы не так! Царю Иоанну, который в писаной нашей истории ославлен как мрачный злодей.
К ним неприметно приставший, молча слушавший Муравьёв, недовольный, нахмуренный, со сдвинутыми бровями — живое изображенье завистника из драмы Шекспира, — тут не удержался ему возразить:
— Он и есть самый мрачный, самый кровавый злодей!
Алексей Петрович взглянул на него хладнокровно, ответил спокойно, точно сам с собой рассуждал:
— У тебя все монархи злодеи и праведники все президенты, каких я нигде не видал. А вот грозный царь Иоанн первым у нас шагнул за Оку и отгородился от татарских набегов правильно поставленной чередой укреплений, от самой Волги до левых притоков Днепра, что позволило привольному русскому племени мирно осваивать опустошённые набегами заокские земли. Его мысль меня вдохновила.
Мысль о грозном царе Иоанне, противная чувствительным обличеньям Карамзина, была интересна, нова, её надлежало веско обдумать, пока же не терпелось знать все стороны столь обширного замысла генерала, и Александр подхватил:
— Положим, привольное русское племя станет мирно осваивать новые земли, нынче не обжитые, не знающие плуга и семени, под покровом вами задуманных укреплений и вступать в сожительство мирное с народами, ему чуждыми по обычаям, формам жизни и религиозным обрядам.
Алексей Петрович с любопытством взглянул на него:
— Так что?
Он с удовольствием поворотил к началу их случайно затлевшего, неторопливого спора:
— А то, что от защиты пределов России вам непременно придётся перейти к управлению перешедшими под вашу руку народами, чуждыми нам.
Алексей Петрович склонил голову несколько вбок, пошевелил пальцами, отозвался:
— Здравая мысль.
Александр выпрямился, с твёрдым убеждением напомнил известную истину:
— Управление истинное есть управление, которое согласно с законами.
Алексей Петрович тотчас с ним согласился:
— Как наши войска вдвинулись в Грузию для-ради решительной её безопасности, суды улучшаются, доходы с земли приходят в большую степень определённости. Прежде хотя бы отчасти благоустроенное правление имелось в одном ханстве Шекинском, то есть с определением доходов и пошлин; во всех прочих землях царил вполне тлетворный дух беззакония, на месте которого вводится теперь постепенно наш образ правления, всё-таки европейского, как мы ни желаем его улучшения при действии законов грузинских, составленных царём Вахтангом Шестым.
Александр уже волновался и голос противувольно возвысил:
— Однако чиновники русские не владеют нисколько местным наречием и владеть не хотят, а потому не имеют возможности следовать Вахтангову кодексу. Было бы великодушно и мудро перевести его на русский язык.
Алексей Петрович согласился без тени сомнения:
— Надлежит исполнить без долгого ящика.
Собеседник обнаруживал себя глубоко знающим, сильным, в то же время способным признавать мнение постороннее — вечная редкость в высоких чинах, — хотелось быть полезным ему, не столько оспаривать его убеждения, к чему он не стремился, сколько научить чему-нибудь нужному, что он знал лучше его, и он поспешил развить его мысль:
— Однако ж и самый лучший, самый справедливый закон бессилен между племён, в которых воинственность порождается презрительным незнанием труда и лютой бедностью — непременным следствием праздности.
Алексей Петрович возвысил голос, что с ним приключалось до крайности редко:
— Послушать вас, так жестокость здешних грабительских нравов никогда не искоренится ничем.
Отрадно было слышать этот возвышенный голос, возбуждавший Александра, придававший уверенности в себе, и он возразил поучительно, твёрдо, медлительно выговаривая каждое слово:
— Жестокость нравов искореняется общим достатком, а достаток начинается там, где процветает торговля, рождающая необходимость труда, плоды которого становятся предметом торговли.
Алексей Петрович не хотел уступить, явным образом сбивая его своим знанием местных обычаев:
— Даже если это здешняя торговля рабами — весьма разветвлённая, от полона во время набега до похищенья мирных людей? Иных предметов торга в бесплодных горах не находится и вряд ли найдётся когда.
Сказано верно, неоспоримо; он уже знал, что в здешних краях без конвоя шагу небезопасно ступить, однако ж Александр нашёлся и тут:
— Злодейское следствие, но верный инстинкт, человеку присущий на всех полюсах.
И он воспел гимн торговле как вечному двигателю общего благоденствия и расцвета великих цивилизаций. Он утверждал, что жизненная сила обильной страны фараонов питалась не одним плодородием Нила, которое у всех на виду, не одними грабительскими походами в близлежащие цветущие страны, перед которыми хищные набеги голодных чеченцев немногим страшнее детской забавы, — но ещё более питалась оживлённым обменом с торговыми городами Междуречья и Семиречья, а через них с Китаем и Индией, благодаря чему не могли не оживиться благодетельные ремесла. Он указывал на поразительный расцвет Карфагена, на несметные богатства Родоса, Пергамского царства и нашего царства Боспорского, Киммерийским наименованного торговыми эллинами. Он повествовал о караванных торговых дорогах, которые тысячелетиями прокладывались бесстрашными путниками из Китая на Семиречье, из Семиречья на Волгу, по Волге на Пермь, на Новгород и на Псков, из Новгорода и Пскова к беспокойным варягам, размерами своих грабежей тоже оставившим задорных чеченцев далеко назади, и в добродетельный Ганзейский союз. Он напоминал своим слушателям, которые присоединялись к их кружку один за другим, что захирение стольного Киева стряслось задолго до злодейского разграбления кровожадной монгольской ордой, одним перенесением торговых путей от Цареграда к коварной Венеции. Он напоминал, что ещё в ветхозаветные времена караваны шли из Семиречья в Армению, из Армении в Трапезунд и Пергам, из Баку на Дербент, по мирным предгорьям в Тмутаракань. Он чуть ли не требовал от могущественного проконсула, не теряя ни дня, восстановить эти обильные доходом пути и тем вдохнуть новую жизнь в пространства огромные, захиревшие от разрушения и забвения этих животворящих путей. Он тем же властным движением проводил черты от каспийского побережья к Чёрному морю, от восточного побережья на Одессу или Стамбул.
Алексей Петрович не переменился в лице и тоном голоса не выразил неодобрения, однако ж возразил обстоятельно, что у него фантазия чересчур разыгралась, — известное дело, поэт; что в прежние, невозвратимые веки, точно в здешних местах водились какие-то дороги, так именуемые единственно по снисходительным местным понятиям о средствах передвижения, что до нынешних дней от прежних дорог остались одни едва различимые тропы и что от Редут-Кале до Тифлиса кое-как проползают повозки с порохом и свинцом, а больше тощими вьюками, да и тут небезопасно от постоянного нападения горцев; прибавил спокойно, опять знанием края утверждая свою правоту:
— Впрочем, в недальнее время сам ознакомишься с прекрасным состоянием здешних квазидорог: небось славные мозоли набьёшь.
Точно фантазия его разыгралась, он воочию видел длинные караваны глупо-гордых верблюдов, груженных хлопчатой бумагой и шёлком, индиго, китайским фарфором и пряностями, и потому возразил возбуждённо, с жаром, с трепетом в голосе, что дороги можно, что дороги прямо необходимо построить как должно, в том учась у рачительных римлян, и уже тем дать местному празднолюбию правильный труд, а с ним и закон.
Алексей Петрович нахмурился, побеждаемым быть не любя, проговорил неторопливо, негромко, точно рассуждал сам с собой — такая у него манера, видно, была:
— Дорогу придётся проложить через перевал на Телави: мне без снаряжения воинского никак нельзя воевать, да и на ту дорогу славные деньги нужны — где тут наберёшься государственных средств, казна у нас слишком нища.
То-то и есть, казна у нас небогата, да и после сотен хищных покраж из неё в дельное дело пускается самая малая часть, иные тут средства нужны, он тоже негромко, принуждая себя успокоиться, однако явственно подчеркнул:
— Государство бессильно без вспоможения частных владетельных лиц, как частные лица бессильны без вспоможения разумного государства, этим единством только созидаются цветущие гражданские общества.
Алексей Петрович почесал мочку уха, искоса поглядел на него:
— Знать, многие дельные сочинения изволишь с пользой читать, хорошо, да где они, твои владетельные частные лица, ни аварский хан, ни грузинский князь на дороги не даст ни гроша, сам норовит с меня хоть бы сколько урвать, точно моя должность вся в том, чтобы их злодейскую алчность без устали насыщать из казны.
В мнении Алексея Петровича обстоятельства ясным образом представлялись безвыходными, чего он принять, с чем он примириться не мог. Уж и вовсе в полубеспамятстве, не соображаясь с разностью лет и эпох, он напомнил об легионах Юлия Кесаря, которые в столь же девственной Галлии во всех направленьях проложили дороги, в известном смысле бессмертные, чуть не в полной исправности дошедшие до нашего времени, дерзнул Алексею Петровичу бросить в глаза:
— Не вы ли, ему в подражание, возлагаете на себя смелое наименование: проконсул Кавказа?!
Тут попал он нечаянно в самую точку. Юлий Кесарь и прямой его наследник в управлении и в войне Наполеон Бонапарт были прямыми героями Алексея Петровича, которым частью вольно, частью противувольно он подражал, и которых главнейшие мысли без преувеличения знал наизусть. Небольшие глаза генерала сверкнули острым огнём из-под навислых бровей. Голос возвысился и зазвенел. Алексей Петрович с одушевлением искренним расхвалил дороги величайшего римлянина, которыми любовался, когда делал победный европейский поход, и не успел Александр оглянуться, как углубился в дебри Галльской войны и в сравнение походов Юлия Кесаря против воинственных германских племён с собственными предприятиями против разбойных чеченцев. Ни об торговле, ни об плачевных дорогах кавказских более не помянулось ни единого слова, точно Алексей Петрович был рад предлогу от них отвязаться.
Ещё новые офицеры приблизились, смешались в одно сообщество с прежними, сгрудились и слушали его с восхищением неподдельным, как дети. Александр отодвинулся в сторону и вскоре был у себя, недовольный собой, что не взял верха там, где явным образом имел перевес в энтузиазме и в знаниях, восхищенный непредвиденным сближением с человеком особым, незаурядным, как знать, может быть, с новой славой России, от которого сам запасёшься редкими свойствами, когда что-нибудь небывалое свежее вдруг вскопошится в душе. Он не уставал повторять: «Славный человек! Мало того, что умён — нынче все умны; но совершенно по-русски на всё годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи, вот что удивительно в нём. Притом тьма красноречия, и не нынешнего, отрывчатого, несвязного, Наполеонова риторства; его слова хоть сейчас положить на бумагу, а кажется, ничего замечательного пока при нём не сказал. Говорить любит много, однако позволяет и другим говорить, иногда толкует о вещах, которые понимает слишком немного, однако ж и тогда, если не убедится, всё-таки заставляет слушать себя...»
Всё прежнее от него отступило, будто ненужное, недостойное минуты внимания. «История Персии» лежала раскрытой на той же странице, которую раскрыл, уже не помня когда. И безрадостный Байрон, и неровные собственные попытки в стихах были отложены, только что не позабыты. Каждый день он видел Алексея Петровича, каждый вечер игрывал в карты в обширном его кабинете, обольщаясь лестной надеждой с ним говорить; при первом предлоге с ним говорил, не всегда ограничивал себя одним разговором, часто дозволял себе роскошь затевать спор против его властно излагаемых мыслей, прямой, однако ж нераздражительный, не доходящий до личностей, как не в обычае у русских людей побивать один другого каменьями, единственно спорил о том, в чём твёрдо был убеждён, однако ж не переспорил ни разу, надеялся только, что кое в чём хоть немного исправил, раскрывая перед ним иные стороны власти, почти беспредельной, кроме суровой власти штыков.
Неприметно прискакал фельдъегерь с дипломатической почтой в кожаной сумке через плечо. В этой кожаной сумке просторно ютилась сухая бумага с отчётом о свидании государей в Аахене, начало имевшем ещё двадцатого сентября. Было прежде известно, что наш государь, повсюду наталкиваясь на твёрдое противодействие со стороны британского кабинета, на свиданье в Аахене намеревался пригласить всех действующих лиц примирительного конгресса, протёкшего в Вене, в особенности Испанию, с тем чтобы поднять коварный вопрос об колониях, которых не имеет Россия и которыми в наибольшем числе владеет кровопийственная Британия, и тем воспрепятствовать усилению опасной сей хищницы в Южной Америке. Теперь из бумаг открывалось, что скользкая, как угорь, Британия предложение сие отклонила, измыслив подходящий предлог, какие у хорошего дипломата всегда под рукой, а предлог в том, что, мол, предстоит обсудить лишь единственный наболевший вопрос об отношении победоносных союзников к Франции, причём Британию с удовольствием поддержали против России австрийский император и прусский король, несмотря даже на то, что без российской грозной поддержки штыками существовать не могли — такова вековечная к России европейская неприязнь.
Вследствие пакостного закулисного заговора в Аахене четыре державы встретились с Францией. Вывод из Франции оккупационного корпуса между ними предрешён был заранее, не позднее конца ноября. Французский министр Ришелье, друг и ставленник императора Александра, устроитель Одессы, убеждённый, однако умеренный роялист, защитник ограничительных конституционных начал, напуганный кровожадным белым террором, предложил превратить союз четырёх в союз пяти, приняв в него Францию на равных началах, для чего надобно было всем позабыть, что Франция побеждённая сторона. Натурально, император Александр поддержал предложение герцога де Ришелье. Ему возразил британский министр. Речь, сказал он, не в том, чтобы воротить Франции её прежнее положение в содружестве европейских держав, а в том, какую политику после вывода войск станет проводить в отношении Франции союз четырёх, чтобы воспрепятствовать ей злоупотребить своей вновь обретённой свободой, ибо Франция, как никогда, собой представляет очаг революций и разрушений; и вновь Австрия и Пруссия взяли британскую сторону против одинокой России.
Отстранив таким образом Францию, четыре державы подписали конвенцию, которой подтверждали полнейшее согласие между собой по всем важнейшим вопросам европейской политики и оставляли за собой безапелляционное право вновь соединить свои армии и вводить их во Францию, в тех случаях, разумеется, если в ней вспыхнут волнения, которые окажутся опасными для спокойствия и безопасности её ближайших соседей, что при неопределённости этой ловко составленной формулы означало полнейший произвол в отношении Франции, причём Британия схитрила и тут, поставив условием всякий раз обсуждать вопрос о спокойствии и безопасности, исключая воцарения кого-либо из проклятой династии Бонапартов.
Одержав очередную победу чужими руками, изворотливая Британия первой сообразила, что слишком было бы нерасчётливо ссориться с императором Александром, который располагает самой многочисленной и самой победоносной армией в мире, и Франция, только что схваченная добродетельными союзниками за горло, была беспрепятственно включена в союз четырёх, причём оговаривалось единственное условие: Франция тоже обязана вставать на защиту порядка, Венским конгрессом предписанного Европе по пунктам. После этого хитроумного акта все пять держав договорились о том, что каждый раз они станут съезжаться на встречу, как только возникнет необходимость кого-нибудь приструнить и туда ринуть свои войска, где займётся ненавистный пожар революции; правда, по приглашению той страны, где займётся пламя свободы, имея в виду не жаждущий свободы народ, а его государя, против которого война за свободу и занялась. Натурально, все пять держав приняли на себя приятное обязательство неукоснительно исполнять высокие принципы международного права, подавать пример правосудия, умеренности, согласия, все свои помышления направлять на покровительство мирным искусствам, на увеличение благосостояния и на пробуждение тех религиозных и нравственных чувств, которые так прискорбно ослабли под воздействием преступных идей освобождения личности, освобождения собственности и ниспровержения всех привилегий, благоразумно умалчивая о том, что отныне эти пять великих европейских держав станут решать, что есть правосудие и что есть международное право.
Что поджидает после этого бедную миссию в Персии? Ничего хорошего там не поджидает её, а скверность одна, поскольку британская дипломатия стёрла все заслуги России, всего четыре года назад освободившей Европу, связала ей руки, восстановив против неё её ближайших соседей, и уж без оглядки ринется пакостить ей на всех направлениях — в Персии прежде всего, с этими безотрадными мыслями Александр поспешил к Алексею Петровичу.
Уже ознакомившись с точно такой же бумагой, полученной штабом наместника, дав ему говорить, Алексей Петрович охотно с ним согласился. По его сведениям, полученным от надёжных лазутчиков, в Тебризе нарушением пункта трактата и на деньги британского кабинета полным ходом идёт подготовка к новой войне, которая, в мечтаниях Аббаса Мирзы, выбросит Россию из Грузии за Кавказский хребет и поднимет на неё весь Кавказ, чем и заняты персидские эмиссары в Дагестане, в Чечне и Кабарде.
Между тем наше положение за Кавказским хребтом самоубийственно. Алексей Петрович оборотился к карте Кавказа, вечному спутнику его военных трудов, и пригласил Александра и своих офицеров, которых не упускал случая чему-нибудь научить, вдоволь наученный их только что не полным невежеством, вглядеться попристальней в её очертания:
— Русская равнина, которую исстари мы обживаем, имеет естественные пределы в течении нескольких рек, удобно обороняемых в случае нападения. На западе это Днестр, по течению которого наша летопись расселяет уличей и тиверцев — две ветви могучего славянского племени; а к северу верховья Буга и Немана. Мы долго большой кровью возвращались к этим пределам, принадлежавшим нам искони, однако идти далее было нашей ошибкой. Самой крупной и самой глупой ошибкой великой Екатерины была та, что она дала согласие на разделение Польши.
Привыкнув, что в этом обществе слушают его со вниманием, Александр не мог не вставить своего возражения:
— Если я правильно помню, раздел Польши был спровоцирован Австрийской империей, когда, пользуясь тем, что мы заняты турецкой кампанией, Мария Терезия приказала отторгнуть два польских воеводства, на что бессильная Польша уже не могла возразить.
Алексей Петрович покачал головой:
— Недаром она ограничилась двумя воеводствами. Военная мощь России была так значительна, что на больший грабёж австрийская государыня не решалась и запросила разрешения Екатерины продвинуться далее, тотчас то же сделал и Фридрих, прусский король. Наша государыня, как на грех, согласилась и тем нанесла России непоправимый урон.
Дельно, дельно, да что ж, Александр вновь не находил нужным удерживать своё возражение:
— По разделам Польши Россия воротила свои старинные земли, отторгнутые от нас не столько силой оружия, сколько ничтожеством, в какое мы впали после кровавого нашествия хана Батыя.
Тут спор завязался, и оба заговорили хоть и спокойно, однако ж решительно:
— И вместе с тем мы усилили Австро-Венгрию на семь, а Пруссию на четыре миллиона славян, заполучив таким образом сильных вместо прежних слабых соседей. Не приобрети. Австро-Венгрия и Пруссия столь серьёзной подпоры своим притязаниям, они не затеяли бы европейской войны против Франции, не противустояли бы на Венском конгрессе, не угрожали бы нынче освободительным движеньям в Европе.
— Совместно с нами, нельзя не сказать.
— А без них не стали бы и мы угрожать.
— Во всяком событии имеется и счастливая сторона.
— В этом случае изъяснитесь какая?
— Извольте. Австрийская империя и Прусское королевство принадлежат к разряду наших естественных союзников на западе континента, по той довольно веской причине, что они наши соседи. Таким образом, вступив в Польшу, мы получили возможность непосредственно им угрожать, устраняя соблазн внезапного нападения: между соседями и союзниками обыкновенная и весьма полезная вещь.
— Вместо этого преимущества много благородней и выгодней иметь слабых соседей, но не угрожать никому. Россия слишком могуча, чтобы прибегать к иезуитским уловкам растленных европейских держав. Вы не находите?
— Я нахожу, да растленная Европа того не находит.
— Отлично, оставим в покое польский вопрос. На юге наши естественные пределы составляются Кубанью и Тереком, переступать за которые было бы ещё более крупной и более тяжкой ошибкой — я имею в виду наше безрассудное вступление в Грузию.
— Спасение Грузии от убиения совместными усилиями турок и персиян, согласитесь, было благородное дело.
— Ещё более благородное дело было бы оборотиться к нашему внутреннему благоустройству с того самого дня, когда мы воротились к естественным пределам Русской равнины. Мы до сего дня живём рабским или полурабским трудом, отчего имеем нищее население; от нищего населения имеем крайнюю скудость в казне, ещё истощаемой непомерно разросшейся армией, тогда как давно могли бы обходиться и меньшей; так что нам спасенье бестолковых грузинцев? Много благородней спасти от разоренья своих мужиков! Аристократам золото, а народу если и останется кусок железа, и тот безжалостная судьба исковывает в цепи рабства и редко в острый меч на отмщение угнетенья.
— Однако ж вступление в Грузию имело целью не одно спасение бестолковых грузинцев.
— Не согласиться нельзя, наше вступление в Грузию имело целью угрожать Оттоманской империи с тыла, тогда как с фронта мы с упорством людей, потерявших рассудок, желаем воротить, по внушенью наших попов, крест о восьми конец на Святую Софию.
— Странная идея русского православия, ещё тишайший царь Алексей Михайлович грозился за неё весь русский народ положить до последнего человека.
— Самоубийственная идея.
— Однако водружение российского знамени на берегах Босфора есть овладение всей торговлей между Азией и Европой, доход от которой стоит копей царя Соломона.
— Только овладей мы торговлей между Азией и Европой, как сладко снится нашим попам и нашей казне, тотчас англичане натравят на нас всю Европу, как всю Европу натравили на безвредных для них якобинцев и Бонапарта, и полками всех за деньги купленных европейских держав, своего не выставив ни одного, станут воевать против нас лет двадцать пять, как воевали против якобинцев и Бонапарта, не потратив ни единого солдата со своей стороны, если не считать топтанья Веллингтона в Испании[161]; и таки сократят нас до ничтожества, подобно тому, как некогда нас сократили монголы, — так что самое время молиться, чтобы не пришлось нам до Святой Софии доставить креста.
— С вами, конечно, не согласиться нельзя, да идеи этого рода чуть не бессмертны.
— С этим тоже не согласиться нельзя. Таким образом, следствием беззаконного совокупления, по меньшей мере, двух безумных идей мы очутились в положении, мало чем отличном от мышеловки. Нынешняя граница на западе за Кавказским хребтом начинается Шурагельской провинцией, совершенно открытой и ровной. Далее к ней прилегает область Бамбацкая, которую окружает довольно высокий горный хребет. Граница затем простирается через провинции Казахскую, Шамшадильскую и Елизаветпольский округ и, охватив некоторую часть Карабахского ханства, оканчивается на берегу Аракса. Здесь имеет протяжение по Араксу и через Муганскую степь, а ханство Талышинское, протягиваясь по берегу Каспийского моря и входя внутрь персидских владений углом, составляет оконечность границ наших к востоку. Через горы, образующие нашу границу, проходит несколько довольно удобных дорог, где только не может пройти артиллерия, а пехота проходит свободно. В ханство Карабахское вход отверст неприятелю по всему пространству течения Аракса, однако выход опаснее, ибо река Араке в тылу имеет места открытые, в которых обнаруживается движение. Степь Муганская, представляющая наилучшие пастбища, зимой принимает множество народов кочующих; в прочие времена единственная её оборона в змеях, в ней обитающих. Ханство Талышинское имеет границу совершенно открытую. С запада лежит хребет гор, в которых вершины и отлогости их, обращённые к нам до самой подошвы, и почти все дороги, входящие в ханство, находятся в руках персиян. Таким образом, не видеть нельзя, что в случае войны оборонительной обширность и неудобность границ требуют значительного количества войск, тогда как у нас всего две пехотные дивизии, бригада резервная, три гренадерских полка, полк драгунский и казачьи полки — всего не более тысяч пятидесяти, при сорока восьми батарейных, шестидесяти лёгких и двадцати четырёх конно-казачьих орудиях, да до семи тысяч казаков на линии, которых в Грузию ни при каких обстоятельствах перебросить нельзя. При таком ничтожном количестве войск единственный и удобный способ обороны есть война наступательная. Для войны наступательной возможны два направления: через Эриванскую область, в которой имеются крепости, и через Карабах, землю гористую, однако ж имеющую кратчайшую дорогу в Тебриз. Впрочем, надо прибавить и тут, что в случае совокупления турок и персиян наступательные действия едва ли для нас станут возможны.
— Стало быть, по-вашему, к лучшему; из Грузии выйдем, пусть бестолковых грузинцев перережут совместными ордами персияне и турки, мастера вырезать всех без остатка, а мы встанем на естественные пределы по Кубани да Тереку, от одного вида такого количества войск в один миг угомонятся и Дагестан, и Кабарда, и Чечня, а мы вкусим все сладости мира — верно я понимаю?
— Эх, Александр Сергеич, кабы этакое чудо было возможно, так я бы век об этом Бога молил; да уж раз вошли, так не по-русски грузинцев бросать на ножи, какой ни бестолковый народ: груздем назвались — как у нас говорят, — придётся нам за этих грузинцев насмерть стоять, иначе мы не умеем. А пока вот вам задача для миссии, из первых первейшая: от войны оборонительной нас оберечь, то есть Аббаса Мирзу[162] от войны отклонить, а с ним и вторая: оберечь от совокупного действия турок и персиян, то есть перессорить их между собой, а много лучше, если Аббас Мирза устремится вместо нас на Стамбул, поскольку к войне наступательной мы ещё не готовы, для нас нынче первое дело Чечня, путь безопасный от Моздока в Тифлис.
— На сей подвиг миссия как будто мала.
— Я Христом Богом молил, да в Петербурге глухи и слепы на нас, в Европу сильно глядят, большей миссии нам не дадут, вся надежда на Мазаровича да на вас, порадейте, сердешные, басурманам не выдайте нас.
Александр был рад порадеть, да каким чудом они вдвоём с Мазаровичем, венецианцем, нерусского подданства, удержат Аббаса Мирзу от войны против нас, да ещё напустят стервеца на Стамбул, он не мог ума приложить. Всякую цель поставить легко, вот только путь к ней лежит по горам.
Алексей Петрович взглянул на него испытующе:
— Ничто не оскорбляет так самолюбия, как быть обманутым, а между тем должно вам знать, персияне славятся свойствами коварства и хитрости, тогда как русский народ доверчив и прост.
Уж тут не одна важная цель, уж тут борьба да борьба, неприметная, тайная, оттого и обманчивая, оттого и чрезвычайно опасная.
Что ж, он стоял в начале пути. Он был образован, пожалуй, умён, по-русски доверчив, но вовсе не прост. Владимиры и Мономахи его вдохновляли. Он был знаком с блестящими уловками Талейрана и по возможности изучил те интриги, какими кишмя кишел далеко не мирный Венский конгресс. Однако ж был ли он дипломат по природе своей? Что на это он мог отвечать? Стремглав бежал из Петербурга, от безделья, от скуки, от разврата, какой неизбежен в столице, ан глядь, что в полымя из огня. Как постичь тут игры судьбы? Всё та же бездна зол! Неужто он обыкновенный человек?!
Обыкновенным человеком страсть как быть не хотелось. Он было попристальней вгляделся в себя, да быть пристальным ему помешали. Тифлис напропалую праздновал православное Рождество, Новый год, учреждённый Петром, съезд русских офицеров отдыхом с Линии и волей зимы съезд грузинских князей, которым отсутствие грамот дворянских пить и плясать с утра до утра ничуть не мешало. Балы гремели кругом, лишь бы имелось пространство для столов и пространство для танцев, что в азиатских постройках была крайняя редкость. Новостройки Алексея Петровича кстати выручали сей празднолюбивый народ. В необжитых, порой в полуобстроенных залах дни и ночи клубился, смеялся, гремел бал не бал, праздник не праздник, столпотворенье людское, смесь черкесок, мундиров и фраков, чёрных глаз, алых роз, азиатских благовоний и парижских духов.
Александр в водоворот раз попал, и его понесло, без ума, без запросов к себе и к своей точно пьяной судьбе; танцевал до усталости ног, в вист пускался по маленькой и по большой, по счастию, без урона для своего кошелька, музицировал на радость раскрасневшимся дамам, слава Богу, искривлённый мизинец ему не мешал, так он до того был тому рад, что, присев к фортепьянам, об себе забывал.
Блужданья по гостиным и залам вдруг прекратились. Однажды он пробудился около полудня. Его ожидал задумчивый Амбургер. После двух бутылок шампанского, выпитых в кругу офицеров, незнакомых, казалось, ни с опьянением, ни тем паче с похмельем, голос Амбургера показался скрипучим:
— Вчерась вас разыскивал Мазарович, да, клянётся, нигде не смог отыскать.
Помилуйте, так и сказал, совсем обрусел, точно свет увидел в Тамбове, эка пленителен русский-то дух; Александр хохотнул, ощутил резкую боль в голове и всё-таки пошутил:
— Вчерась я бы сам себя нигде не нашёл.
Амбургер, верно, не пил вчерась ни глотка и не был склонен шутить, поглядел с осуждением, со значением объявил:
— Выезжаем в конце января.
Александр присел на измятой постели:
— Слава Богу, давно уж пора, как я погляжу, в Тифлисе нынче второй Петербург.
Амбургер указал кивком головы:
— Кстати, из Петербурга почта для вас, два письма да толстый пакет, разбирали вчерась у Наумова, так я принёс. Едем верхом. Мазарович приказал купить лошадей и выдал деньги из миссии. Деньги при мне и для вас. Я как раз на базар. Вы со мной?
Александр встрепенулся, с жадностью схватил долгожданные письма, скороговоркой проговорил:
— Андрей Карлович, будьте другом, идите один, купите мне что-нибудь, вы, я чаю, лучше меня разбираетесь в лошадях, хоть я и в кавалерийских резервах служил.
Амбургер угадал его нетерпенье, тотчас поднялся и с доброй улыбкой сказал:
— С удовольствием. В кавалерийских резервах я не служил, а люблю лошадей.
Не успела дверь за ним затвориться, Александр, лохматый, немытый, уже наслаждался бесценными петербургскими письмами. Друзья, конечно, его не забыли, просили известий, где он, а Катенин особенно требовал писем об ходе его путешествия по местам, загадочным для петербургского жителя; все в один голос шутили, что он вечный повеса, куролесит напропалую, об них позабыл и, как они предрекали ещё в Петербурге, никому без крайности не станет писать; так вот не крайность ли сердечное участие дружбы?
Он раскраснелся, чуть не облился слезами, стыд его так и сжигал, ещё пуще были несносны упрёки друзей, так верно направленные в самую цель. Выходило, что человек он обыкновенный, если так хорошо его знали, как сам себя он не знал, выезжая из Петербурга, более чем уверенный в том, что чуть не с каждой станции станет писать, поскольку своей жизни не мыслил без милых сердцу друзей, да пятый месяц не писал, почитай, ни к кому, дорожные заметки не переправил, Степану не дал знать об ходе своего путешествия, а уж гнуснее падения нельзя и представить себе.
Он поклялся, горячо, от души, что станет исправно писать, непременно с этого дня, и содрал бумагу с пакета. В пакете обнаружился сероватый листок «Инвалида»[163], помеченный декабрём, отправленный чьей-то услужливой, но безымянной рукой. Одна заметка обведена была рамкой, чтобы тотчас было видать. Он её прочитал. «Инвалид» брал на себя смелость перепечатать известие стамбульских газет, имевшее быть напечатанным 26 числа октября. Сим турецким известием оповещалась почтенная публика, будто бы в Грузии в недавнее время стряслось возмущение, необычное по своим кровавым последствиям, учреждённое под водительством одного богатого татарского князя, имя которого, разумеется, не было названо.
Он тотчас учуял намеренно пущенную в ход провокацию, вскочил как ошпаренный, умылся, причесался самым тщательным образом, облачился в до сего дня праздный мундир иностранной коллегии и минут двадцать спустя входил к Мазаровичу с официальным поклоном, с официальным лицом.
Симон Иванович его визиту был искренно рад, пожал крепко руку, извинился, что лично не имел возможности объявить о скором отъезде, сообщил, что вчерашний день доставались наконец инструкции от Нессельроде и что он уже распорядился готовить припасы в поход, заметку «Русского инвалида» рассеянно выслушал в его переводе на французский язык, широко улыбнулся, руками развёл:
— Помилуйте, что за надобность обращать внимание на маранье газетных писак, паразитов всякого рода известий, хоть об конце света им доложи, тотчас сунут в печатный станок — кто ж им поверит, лганье их вечный удел.
Александр пытался ему изъяснить, что лганье очевидное, однако ж измышленное, верно, недаром, как раз по первому слуху об том, что русская миссия отправляется в Персию, что не может понравиться ни правительству Турции, ни англичанам.
Симон Иванович остался беспечен и мил и только сказал, снисходительно улыбаясь, давая понять, что русская миссия в надёжных руках:
— Э, полноте, какое нам дело до сплетен стамбульских.
Александр вышел вон, не сердясь: Симон Иванович не русский был человек, на русские дела чутья не имел — невольник хитроумной венецианской политики, и пустился отыскивать Алексея Петровича. В доме наместника Грузии толку он не добился. В штабе Наумов, вежливый и сухой, его известил, что Алексей Петрович с конвоем казаков пустился в инспекцию строительных работ вниз по Куре и приказал ожидать не ранее вечера.
Вечером, как было установлено, он явился на бал грузинского князя генерала Мадатова. Первое лицо, которое он повстречал, был Муравьёв, в новом мундире, сидевшем без единой морщинки на его плоской груди, с великолепной причёской от местного куафёра, с напомаженными усами и с сосредоточенным, строгим лицом. Муравьёв поздоровался, придержал его за вырез фрака и с видом угрюмым поглядел ему прямо в глаза:
— Итак, настала пора нам расстаться.
Александр освободил фрак свой из невольного плена, себя от улыбки поостерёг и только добродушно сказал:
— Именно так, разлука нам предстоит, миссии назначен день и час отправленья, на мой вкус, давно бы пора.
Муравьёв отступил шаг назад и просверлил его укоризненным взглядом:
— Представьте, мне тоже, назначено с отрядом отправиться в Бухару и Хиву.
Александр удивился:
— Кем назначено?
Муравьёв вспыхнул весь, приблизился вдруг и прошипел чуть не прямо в лицо:
— Не играйте со мной, умоляю! Это вы настроили Алексея Петровича. Вы, как я убеждался не раз, его надуваете, а он в вас полагает пространные и глубокие сведения, каких вы не имеете, а всего лишь умеете действовать осторожно и мнение своё излагаете только тогда, когда Алексей Петрович скажет своё. Таким-то способом вы направили его мысль на Бухару и Хиву.
«Помилуйте, как бы шут не затеял с ним поединка — экий огонь, так и дрожит. Предовольно поединков с него, что за нелепая мысль из чести под пулей стоять». Александр отодвинулся, сделал вид легкомысленный, бальный, отвечал беззаботно:
— Мысль полезная, вы не находите?
Лицо Муравьёва стало враждебным и злым, кулаки стиснулись, покраснели, голос обрывался, хрипел:
— Для вас, для вас, может быть, весьма, весьма полезная мысль!
Он вдруг резко сказал, отходя:
— Для России.
Алексея Петровича отыскал он в тесном кругу восторженных дам, вечных любительниц попадать на глаза генералам. Дамы наперебой предлагали ему танцевать. Алексей Петрович отказывался, однако ж говорил комплименты. Завидя его, живо сказал, разрывая их раздушенный круг:
— Простите, сударыни, этот молодой человек нуждается в моём наставлении.
Вышел навстречу большими шагами, точно вырывался из плена, подхватил под руку, увлёк в тень за колонну, отозвался смеясь:
— Благодарю, голубчик, вырвал из окружения, невмоготу.
Раздражённый дурацкими упрёками Муравьёва, неуместными, несправедливыми пуще всего, не обращая внимания на шутливое настроение Алексея Петровича, Александр холодно, чётко принялся изъяснять, что нападение на Башлы либо доплелось до Стамбула в весьма и весьма искажённом, преувеличенном виде, либо нарочно искажено турецким правительством, которое не может не понимать, хоть, слава Богу, нынче министры его подгуляли, что наш корпус в Грузии намеревается действовать в восточных пределах, как только нашим полкам заблагорассудится перешагнуть через Дунай; тоже, между прочим, не могу не напомнить, естественный предел для обширной Русской равнины, из чего следует, что, в свою очередь, турецким властям очень хочется нанести двойной удар по нашим тылам, поскольку, с одной стороны, ложные сведения о потере полка под Башлы позволят их эмиссарам успешно действовать против нас в Дагестане, в Чечне и в Кабарде, а с другой стороны, удача какого-то безвестного татарского князя разгорячит аппетит Аббаса Мирзы, и без того слишком обширный, и подвигнет его на войну против нас, что обезопасит турок с востока. «Инвалид» же, перепечатав заметку стамбульских газет, даёт почти официальное подтверждение этой заведомой лжи, из чего следует, что проконсул Кавказа обязан в самое короткое время дать опровержение в петербургских газетах, что позволит миссии несколько укоротить аппетит Аббаса Мирзы.
Алексей Петрович не дал значения его дипломатическим выкладкам. По убеждению генерала, часто опального, заметка была сфабрикована в самом Петербурге без одолжения стамбульских листков, оттого что успехи в Грузии его тамошним недоброжелателям спать не дают. Удерживая его за плечо, неторопливо двигая тяжёлыми челюстями, Алексей Петрович отозвался с презрением:
— Чего, братец, им хочется от меня? Я забрался в даль и в глушь чрезвычайную, им предоставляю все почести, себя обременяю одними трудами, никому не завидую, никому не мешаю, а всё у них как банный лист.
И не без картинности заключил по-французски:
— Господа, укажите мне моего победителя, и я его брошусь обнимать.
Александр взял на себя смелость настаивать. Наконец Алексей Петрович с ним согласился, простодушно ворча:
— Пожалуй, что-нибудь отпиши от себя, свидетельство очевидца, я чаю, станет довольно. Отпиши я, враги мои тотчас зачуют подвох.
Александр поспешил удалиться, обходя бойко танцующих стороной, в сопровождении казака, нёсшего зажжённый фонарь перед ним, воротился домой, крикнул Сашке подать побольше огня, кое-как притулился к шаткому столику и пустился писать, вдруг ощутив необычайную сладость пера, о котором в целый месяц и думать забыл. Он воспользовался своим положением литератора, водевили которого всё ещё давались на сцене, единственно волей случая занесённого за Кавказский хребет, и придал своим возражениям лёгкую форму дружеского послания, столь прославившего громкое имя Карамзина:
«Вот уже полгода, как я расстался с Петербургом; в несколько дней от севера перенёсся к полуденным краям, прилежащим к Кавказу (не мысленно, а по почте: одно другого побеспокойней!); вдоль по гремучему Тереку вступил в скопище громад, на которые, по словам Ломоносова, «Россия локтем возлегла», но теперь его подвинула гораздо далее. Округ меня неплодные скалы, над головою царь-птица и ястреба, потомки Прометеева терзателя, впереди светлелись снежные верхи гор, куда я вскоре потом взобрался и нашёл сугробы, стужу, все признаки глубокой зимы; но на расстоянии нескольких вёрст суровость её миновалась; крутой спуск с Кашаура ведёт прямо к весенним берегам Арагвы; оттуда один шаг до Тифлиса, и я уже четвёртый месяц как засел в нём, и никто из моих коротких знакомых обо мне не хватится, всеми забыт, ни от кого ни строчки! Стало быть, стоит только заехать за три тысячи вёрст, чтобы быть как мёртвым для прежних друзей! Я не плачу им таким же равнодушием, тем, которых любил, бывши с ними в одном городе; люблю и теперь вспоминать проведённое с ними приятное время, всегда об них думаю, наведываюсь у приезжих обо всём, что происходит под вашим 60 градусом северной широты; всё, что оттуда здесь узнать можно, самые незначащие мелочи сильно действуют на меня, и даже газетные ваши вести я читаю с жадностию...»
Наделивши неподдельными чувствами необходимый зачин, внезапно всколыхнувший воспоминания о слишком любезных одинокому сердцу друзьях, его позабывших, он коротко изложил легкомысленную заметку, найденную им на безответственном листке «Инвалида», и пустился в пространные свои рассуждения, доставившие ему удовольствие:
«Скажите, не печально ли видеть, как у нас о том, что полагают происшедшем в народе, нам подвластном, и о происшествии столько значащем, не затрудняются заимствовать известия из иностранных ведомостей, и не обинуясь выдают их, по крайней мере, за правдоподобные, потому что ни в малейшей отметке не изъясняют сомнения, а можно б было, кажется, усомниться, тем более что этот слух вздорный, не имеет никакого основания: вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально, не чрез Константинополь. Возмущение в народе не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она даёт дурной спектакль: оно отзывается во всех концах империи, сколько, впрочем, ни обширна наша Россия. И какие есть татарские князья в Грузии? Их нет, во-первых, да если бы и были: здесь что татарский князь, что немецкий граф — одно и то же: ни тот, ни другой не имеет никакого голоса. Я, как очевидец и пребывая в Тифлисе уже с некоторого времени, могу вас смело уверить, что здесь не только давно уже не было и нет ничего похожего на бунт, но при твёрдых и мудрых мерах, принятых ныне правительством, всё так спокойно и смирно, как в земле, издавна уже подчинённой гражданскому благоустройству. Вместо прежнего самоуправства ныне каждый по своей тяжбе идёт покорно в дом суда и расправы, и русские гражданские чиновники, сберегатели частных прав, каждого удовлетворят сообразно с правосудием. На крытых улицах базара промышленность скопляет множество людей, одних для продажи, других для покупок; иные брадатые политики, окутанные бурками, в меховых шапках, под вечер сообщают друг другу «рамбании» (новости) о том, например, как недавно здешние войска в горах туда проложили себе путь, куда, конечно, из наших никто прежде не заходил. На плоскик здешних кровлях красавицы выставляют перед прохожими свои нарумяненные лица, которые без того были бы гораздо красивее, и лениво греются на солнышке, нисколько не подозревая, что отцы их и мужья бунтуют в «Инвалиде». В караван-сарай привозятся предметы трудолюбия, плоды роскоши, получаемые через Чёрное море, с которым ныне новое ближайшее открыто сообщение сквозь Имеретию. В окрестностях города виртембергские переселенцы бестревожно обстраиваются; зажиточные исчисляют, сколько веков, годов и месяцев составят время, времена и полувремена, проповедуют Штиллингов золотой Изерусалим с жемчужными вратами, недостаточные работают; дети их каждое утро являются на улицах и в домах с духовными виршами механика К***, которых никто не слушает, и с коврижками, которые всё раскупают, и щедро платят себе за лакомство, им на пропитание. Вечером в порядочных домах танцуют, на «саклях» (террасах) звучат бубны, и завывают песни, очень приятные для поющих. Между тем город приметно украшается новыми зданиями. Всё это, согласитесь, не могло бы так быть в смутное время, когда богатым татарским князьям пришло бы в голову возмущать всеобщее спокойствие...»
Передав коротко несложные события осеннего похода против неугомонных чеченцев, которые покидают свои лесистые верхи единственно ради того, чтобы грабить в низменной Кабарде, растолковав, каким образом учреждаются нелепые слухи в далеко лежащем Константинополе и какие последствия слухи такого рода, пересказанные в русской официальной газете, могут иметь для русской миссии в Персии, он завершил своё послание просьбой к издателю «Сына отечества», куда решился доставить его:
«Потрудитесь заметить почтенному редактору «Инвалида», что не всяким турецким слухам надлежит верить, что если здешний край в отношении к вам, господам петербуржцам, по справедливости может назваться «краем забвения», то позволительно только забыть его, а выдумывать или повторять о нём нелепости не должно».
Сдав запечатанный пакет для издателя «Сына отечества» в штабе Наумова, ведавшем также почтовыми сношениями с Центральной Россией, Александр завертелся вместе с Амбургером и Мазаровичем точно во сне.
Миссия отправлялась надолго, по меньшей мере на несколько лет. С собой приходилось тащить всё насущное, каждый лист бумаги для переписки с Тифлисом и Петербургом, каждую канцелярскую скрепку, пуды свечей, посуду, бельё. Кое-что закупалось на крытом тифлисском базаре, всё прочее выписывалось в канцелярии гражданского губернатора и получалось на складах армейского корпуса, под громкие стенания точно страдавшего от набега грабителей Ховена, то и дело напоминавшего служителям неизвестного бога, сколько трудов и хлопот стоило протащить по Военно-Грузинской или Имеретинской дороге эти прекрасные гвозди, этот порох, эти столы.
Лишь накануне отъезда Александр воротил себе бесценную способность соображения, а лучше бы она не возвращалась к нему. Вдруг Тифлис представился невольно покидаемым раем цивилизации. Отсюда предстояло ему углубиться в пустыни неведомой Азии, заселённые слабо, большей частью безлюдные, неисхоженные, чуть не запретные для возросшего в широтах умеренных европейца. Ещё около тысячи вёрст протянется между ними: неведомым странником и милыми сердцу друзьями — неприступные вёрсты, едва ли одолимые неуклюжей службой почтовой, хотя бы единожды в месяц достигавшей заоблачного Тифлиса, роскошь неслыханная, безразличная погруженным в себя азиатам. И с кем предстоит ему жить? Ни слова русского, ни русского лица!
Душа его заскулила, захлебнувшись тихой тоской. Слёзы выступили у него на глазах, по счастью прикрытых очками. Он торопливо, неумело, дрожащими пальцами раскрыл свой дорожный портфель, уже назначенный быть втиснутым в седельные сумки, извлёк лист бумаги, бесценный в тех диких краях, в которых мало жаждущих излагать свои мысли пером и в которых не имел он желания себя хоронить, и поспешил начертать последний привет петербургским друзьям, наудачу адресуя Якову Толстому и Всеволожскому, собеседникам громким, упрямым, застольным друзьям, неразлучным с лампой зелёной[164]:
«Усердный поклон любезным моим приятелям: Толстому, которому ещё буду писать, особенно из Тавриза, Никите Всеволожскому, коли они оба в Петербурге, двум Толстым Семёновским, Тургеневу Борису, — Александру Евграфовичу, которого сто раз благодарю за присылку писем от людей, близких моему сердцу. Фридрихсу... — тут он пустил по-французски, шутя насмехаясь над его выговором истинно варварским, — очаровательному капитану Фридрихсу, очень лысому и очень остроумному. Сделайте одолжение, не забывайте странствующего Грибоедова, который завтра опять садится на лошадь, чтобы трястись за 1500 вёрст. Я здесь обжился, и смерть не хочется ехать, а нечего делать. Коли кого жаль в Тифлисе, так это Алексея Петровича. Бог знает, как этот человек умел всякого привязать к себе, и как умел... Трубецкого целую от души. Объявляю тем, которые во мне принимают участие, что меня здесь чуть было не лишили способности играть на фортепьяно, однако теперь вылечился и опять задаю рулады.
Грибоедов.
Сложил листок и голову опустил, закручинился, припомнил славные стороны жизни, которых не лишён развратный, пустой Петербург и которыми вдоволь он насладился; облился тоской, что уж более не видать ему тех наслаждений, в особенности не быть на театре, который чуть не больше жизни всем сердцем любил, по которому тосковал беспрестанно, и горькие слёзы, слёзы отчаянья, выступили ему на глаза. Так сидел он в тишине и в молчании час или два, то видя на сцене Семёнову, то слыша плеск ладоней, то в ушах звучал голос Катенина, которому более всех был обязан зрелостью зрителя, обдуманностью лёгких своих водевилей, оригинальностью неисполненных замыслов, витавших в его голове, и который по-прежнему сурово в чём-то его наставлял. Очнулся, раздумался, стыдливо обтёр украдкой глаза, лист развернул, всё это время зажатый в руке, и приписал:
«Коли кто из вас часто бывает в театре, пускай посмотрит на 1-й бенуар с левой стороны и подарит меня воспоминанием, может быть, это отзовётся в моей душе и заставит меня икать где-нибудь возле Арарата или на Араксе».
Наутро конвойный казак, приставленный к нему на всё время передвижения кочующей миссии, в сапогах, в шинели и в башлыке, перепоясанный туго, с шашкой на поясе, с ружьём за спиной, подвёл ему рослую гнедую кобылу под узорчатым грузинским седлом — приобретенье бесценного Амбургера, и он, невесело глядя перед собой в тесные улочки, украшенные одним солнечным светом, отправился исполнять обязанность противных ему прощальных визитов.
К его немалому изумлению, не повстречав ни одного нового сердечного друга, он в три месяца успел перезнакомиться чуть не со всем русским и отчасти армяно-грузинским Тифлисом, так что визиты заняли целое утро. К ещё большему изумлению, у него обнаружилась куча приятелей, среди них неизменный Талызин, Рыхлевский, Каховский, даже Якубович и Муравьёв. Эти приятели, радость нечаянная, втайне приготовили завтрак прощальный и вдруг ввели его в залу трактира, усадили за стол, одарили громкими тостами, точно в самом деле не хотели с ним расставаться, вызвались его провожать, всей толпой явились к дому наместника, шутили, смеялись, подходили к нему пожать руку и сказать несколько всегдашних ободрительных слов, так что необходимость отъезда вдруг обратилась в нестерпимую, однако ж сладкую муку.
Алексей Петрович вышел его проводить, крепко обнял за плечи, улыбнулся неопределённой улыбкой, неожиданно объявил:
— В Персии-то себя приструни, ты, я гляжу, повеса отчаянный, а впрочем, прекрасный со всем тем человек.
Он стеснился душой, но глядел пристально, разбирая, тревога ли то человеческая, милость ли генеральская к собеседнику скуки вечерней, который сказками прогоняет её, разобрать не сумел и согласился, повинно голову наклонив:
— Увы, не сомневаюсь ни в том, ни в другом.
Поворотился было идти, да остановился, оборотился к нему, с такой же неопределённой улыбкой по-французски сказал:
— Не обрекайте нас на жертву, ваше превосходительство, если вздумаете воевать когда-нибудь в Персии.
Алексей Петрович рассмеялся заливисто, громко:
— Бог мой, что за странная мысль!
Александр ответил очень серьёзно:
— Вовсе не странная. Государем вам дано право объявлять войну и мир заключать; вдруг придёт в голову мысль, что со стороны Персии наши границы не довольно определены, так и двинетесь их определять по Араке.
Алексей Петрович, всё продолжая смеяться, спросил:
— Что, тебе жаль персиян, которых не смогу не побить?
Он натянул перчатку на левую руку:
— Персиян-то не жаль — им поделом, а вот с нами что тогда будет в Тебризе или в Тейране?
Александр натянул вторую перчатку, поднялся в седло, расправил полы походной шинели, дал повод и выехал со двора. Толпа приятелей повалила за ним. Они поскакали грязными улицами и догнали хвост каравана. Он развернул к ним свою гнедую кобылу и стоял перед ними, не находя верных слов. Они по очереди подъезжали к нему, целовали его по-братски в обе щеки, желали удачи в пути, просили поскорей возвращаться назад, так что вдруг показалось ему, что двум или трём расставаться с ним действительно было жаль.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1795 год
4 (15) января 1795 г. (по другим данным 1794) — В Москве в семье гвардейского офицера Сергея Ивановича Грибоедова, женатого на своей дальней родственнице Настасье Фёдоровне Грибоедовой, родился сын — Александр Сергеевич Грибоедов.
1802 (1803) — 1805 годы
Учёба в Московском университетском благородном пансионе.
1806 год
Поступил в Московский университет на философский факультет.
1810 год
Январь — Грибоедов с блеском выдерживает экзамены по юридическому факультету и получает звание кандидата права.
Окончив два факультета — словесный и юридический, Грибоедов продолжал оставаться в университете, изучая естественные науки и математику и готовясь к учёной степени доктора, вплоть до закрытия его в 1812 г. в связи с занятием Москвы Наполеоном.
1812 год
После падения Смоленска поступил добровольцем в Московский гусарский полк, формировавшийся под командой генерал-фельдмаршала Салтыкова, который после Бородинского сражения получил приказ вывести полк в Казань, где он простоял до весны 1813 г.
1813 год
Грибоедов находился адъютантом при известном в Москве генерале А. С. Кологривове, формировавшем кавалерийские резервы.
1812 год
К пребыванию на военной службе относятся первые выступления Грибоедова в печати. Он опубликовал в «Вестнике Европы» корреспонденции «О кавалерийских резервах», «Письмо из Брест-Литовска к издателю».
Грибоедов знакомится с театральным деятелем и известным драматургом А. А. Шаховским и под его воздействием обращается к драматическому творчеству, склонность к которому испытывал ещё на студенческой скамье.
1813 год
Опубликована и поставлена на сцене комедия Грибоедова «Молодые супруги» — переделка комедии французского драматурга Крезе де Лессера, вызвавшая критику М. Н. Загоскина, на которую Грибоедов ответил памфлетом «Лубочный театр».
1814 год
Грибоедов выходит в отставку и поселяется Петербурге.
1815 год
Грибоедов зачисляется на службу в Коллегию иностранных дел.
Совместно с Катениным пишет комедию «Студент».
Грибоедовым написано несколько сцен для комедии Шаховского «Своя семья, или Замужняя невеста».
Грибоедов вместе с Жандром переводит пьесу французского драматурга Барта «Притворная неверность».
Ноябрь — В качестве секунданта принимает участие в дуэли офицера В. А. Шереметева и графа А. П. Завадовского из-за актрисы балета А. И. Истоминой.
1816 год
Пьеса «Притворная неверность» поставлена на сценах Петербурга и Москвы.
Грибоедов назначен секретарём русской миссии в Персию.
По дороге в Персию в Тифлисе дрался на дуэли с будущим декабристом А. И. Якубовичем, который ранил его в Руку.
1817 год
Февраль — Приехал в Тавриз.
Усиленно занимается изучением восточных языков и древностей, финансовых и политических наук.
У писателя сложились твёрдые очертания комедии «Горе от ума», первоначальный замысел которой, по свидетельству С. Н. Бегичева, появился ещё в 1816 г.
1822 год
Грибоедов переводится в Тифлис секретарём по иностранной части при знамени том проконсуле Кавказа генерале А. П. Ермолове. В Тифлисе тесно сошёлся с поэтом и будущим декабристом В. К. Кюхельбекером, которому читал сцены из «Горя от ума».
1823 год
Грибоедов получает отпуск и приезжает в Москву, привозит с собой почти готовые два акта комедии.
Лето — Грибоедов проводит в имении С. Н. Бегичева Дмитровское Тульской губернии, где он закончил последние два акта «Горя от ума».
Совместно с П. А. Вяземским и композитором А. Н. Верстовским Грибоедов написал оперу-водевиль «Кто брат, кто сестра».
1824 год
Лето — Не надеясь провести комедию, направленную против Москвы и всего московского через местную цензуру, Грибоедов поехал хлопотать о ней в Петербург. Несмотря на большие связи, все усилия Грибоедова провести пьесу не только на сцену, но и в печать оказались тщетными.
1825 год
В альманахе «Русская Талия», издаваемом Ф. В. Булгариным, появляется значительная часть комедии, хотя с изменениями и цензурными изъятиями.
Весна — Грибоедов возвращается к месту своей службы на Кавказ через Украину и Крым, где встречается с видными деятелями Южного общества.
1826 год
Январь — После разгрома восстания декабристов был арестован и привезён с Кавказа в Петербург.
С 22 января по 2 июня — Грибоедов находился под следствием по делу декабристов.
Сентябрь — Возвращается на Кавказ, где выступает уже как государственный деятель и выдающийся дипломат.
1827 год
Грибоедов ведает дипломатическими сношениями с Турцией и Персией, принимает участие в вопросах гражданского управления на Кавказе, составляет «Положение по управлению Азербайджана».
1828 год
При участии Грибоедова основаны «Тифлисские ведомости», он участвует в составлении проекта об «Учреждении Российской Закавказской компании».
Грибоедов вёл мирные переговоры с наследником персидского престола, закончившиеся подписанием Туркманчайского мирного договора, выгодного для России.
С текстом Туркманчайского трактата Грибоедов был отправлен к царю, в Петербург, получил крупную денежную награду и назначение полномочным министром в Персию.
Август — В Тифлисе перед отъездом в Персию обвенчался с Н. А. Чавчавадзе.
1829 год
30 января — Убит вместе с составом всей русской миссии толпой персидских фанатиков.
Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе Св. Давида.
ОБ АВТОРЕ
ЕСЕНКОВ Валерий Николаевич — современный писатель-историк. Родился в 1935 году. Окончил Ярославский педагогический институт, преподавал историю и литературу в учебных заведениях Ярославля.
В периодических изданиях были опубликованы повести о русских писателях: Грибоедове, Гоголе, Тютчеве, Гончарове, Достоевском, Льве Толстом. Повести о Гончарове и Достоевском выходили отдельным изданием в издательстве «Современник». В 1997 году там же вышел роман «Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове». В издательстве АРМАДА в 1998 году вышли романы «Гоголь» и «Игра» (о Ф. М. Достоевском).
Роман «Дуэль четырёх» — новое произведение писателя.
Примечания
1
Сосед! на свете всё пустое... — Г. Р. Державин «Философы, пьяный и трезвый» (1789).
(обратно)2
Завадовский, чопорный и прямой... — Речь идёт о графе Завадовском Александре Петровиче (1794-1826), камер-юнкере, сослуживце Пушкина и Грибоедова по Коллегии иностранных дел.
(обратно)3
Шереметев Василий Васильевич — офицер кавалергардского полка, убит на дуэли графом Завадовским.
(обратно)4
Якубович Александр Иванович (1792-1845) — капитан Нижегородского драгунского полка, участник восстания 14 декабря.
(обратно)5
Каверин... прославленный дерзким бретёрством. — Каверин Пётр Павлович (1794-1855), поручик лейб-гвардии гусарского полка (1816-1819), член «Союза благоденствия». Впоследствии полковник в отставке.
Бретёрство — от бретёр (фр. bretteur, brette — шпага) — заядлый дуэлянт, задира.
(обратно)6
На ментике матово отливало золотое шитьё. — Ментик — предмет гусарской униформы, верхняя куртка, расшитая шнурами и опушённая мехом.
(обратно)7
Кивер — головной убор русских войск (1807-1862) в форме усечённого конуса.
(обратно)8
...когда выйдет Катерина Семёнова. — Екатерина Семёновна Семёнова (1786-1849) — русская актриса. Прославилась на петербургской сцене (1803-1836) в трагедиях В.А. Озерова, Ж. Расина.
(обратно)9
...сослуживец Степана... — Имеется в виду Степан Никитич Бегичев (1785-1859) — беллетрист, близкий друг А. С. Грибоедова.
(обратно)10
...красавица молодая Истомина... — Евдокия (Авдотья) Ильинична Истомина (по мужу Якунина) (1799-1848) — балерина. С 1816 г. — ведущая артистка петербургской балетной труппы.
(обратно)11
Шаховской Александр Александрович, князь (1777-1846) — драматург, поэт, театральный деятель. С 1810 г. — член Российской АН. В 1811-1815 гг. входил в общество «Беседа русского слова». Руководил драматической труппой и театральным училищем в Петербурге (1802-1826), среди его учеников — Е. С. Семёнова, В. А. Каратыгин. Пьесы Шаховского оказали влияние на молодого Грибоедова.
(обратно)12
...ежели уж так не терпится милейшему Александру Иванычу подставить свой медный лоб... — т. е. Якубовичу А. И. (см. выше).
(обратно)13
К Жандру, к Жандру пошёл! — Жандр Андрей Андреевич (1789-1873) — поэт, драматург, переводчик, друг Грибоедова.
(обратно)14
Иерихона труба — по ветхозаветному преданию, стены палестинского города Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей.
(обратно)15
Платон (428 или 427 — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ.
(обратно)16
Буле Иоганн Феофил (1763-1821) — профессор Московского университета, преподавал философию, историю изящных искусств.
(обратно)17
Чаадаев Пётр Яковлевич (1794-1856) — русский религиозный философ, член Северного общества (1821), в 1823-1826 гг. — за границей. За критику самодержавия в «Философических письмах» (одно письмо опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г., после чего он был закрыт) объявлен сумасшедшим.
(обратно)18
Плавт Тит Макций (сер. III в. до н. э. — ок. 184 до н. э.) — римский комедиограф.
(обратно)19
Новая Элоиза — «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — роман Жан-Жака Руссо (1712-1778).
(обратно)20
...восхищался мещанскими драмами Коцебу... — Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761-1819) — немецкий писатель, драматург и романист.
(обратно)21
Уж не переметнулся ли в слезливый стан Карамзина и Жуковского? — Грибоедов критически относился к чувствительному сентиментализму Карамзина и Жуковского и их последователей — арзамасцев.
(обратно)22
Степан Никитич приехали, да? — т. е. Бегичев (см. выше).
(обратно)23
Доломан — предмет гусарской униформы, короткая куртка, расшитая на груди шнурами, на которую накидывался ментик.
(обратно)24
...всякое государство... держится... общественным договором... — Речь идёт о сочинении Жан Жака Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762), в котором обосновано право народа на свержение абсолютизма.
(обратно)25
...помнишь... «весну Александра»... — Александр I (1777-1825), старший сын Павла I, российский император с 1801 г., в начале правления провёл умеренно либеральные реформы, подготовленные Негласным комитетом и М. М. Сперанским.
(обратно)26
Правление Павла... — Павел I (1754-1801), российский император с 1796 г., ограничил дворянские привилегии, ввёл в армии прусские порядки. Убит заговорщиками-дворянами.
(обратно)27
Эти ожидания подтвердились как будто первыми указами нового императора. — Имеется в виду указ Александра I от 15 марта 1801 г. «О прощении людей, содержащихся по делам, проводимым Тайной канцелярией».
(обратно)28
Сперанский приглашён был для составления конституции... И вскоре был сослан без следствия и суда по наветам прежних вельмож. — Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — граф, ближайший советник Александра I. По поручению царя составил «План государственного преобразования», предусматривающий ряд конституционных реформ. План был в целом отвергнут, Сперанский был уволен и в 1812-1816 гг. находился в ссылке.
(обратно)29
...воспитанного республиканцем Лагарпом... — Лагарп Фредерик Сезар де (1754-1838) — швейцарский адвокат, республиканец, гуманист, человек высоких нравственных качеств. В 1784-1795 гг. воспитатель будущего русского императора Александра I. Через Лагарпа Александр воспринял идеи французского просвещения, позднее выразившиеся в лозунгах Великой французской революции.
Мабли Габриель Бенно де (1709-1785) — французский коммунист-утопист.
(обратно)30
В просветители даны нам Магницкий и Рунич. — Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844) — попечитель Казанского учебного округа.
Рунич Дмитрий Павлович (1778-1860) — попечитель петербургского учебного округа, один из рупоров реакционной части дворянства, сторонник усиления влияния религии в вузах. Вместе с Магницким автор проекта цензурного устава (1826).
(обратно)31
Цицерон Марк Тулий (106-43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.
(обратно)32
Бенжамен Констан — Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767-1830) — французский писатель-публицист.
(обратно)33
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778) — французский писатель и философ-просветитель.
(обратно)34
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832) — писатель, мыслитель, основоположник немецкой литературы нового времени. Автор философского итогового сочинения «Фауст» (1808 — 1832).
(обратно)35
Милая, каешься ты, что сдалася так скоро? — Гёте «Римские элегии», перевод Н. Вольпин.
(обратно)36
Кто с хлебом слёз своих не ел... — Гёте, «Арфист» (1782), перевод Б. Пастернака.
(обратно)37
Счастливец Уваров. — Уваров Сергей Семёнович (1786-1855) — министр народного просвещения, президент Академии наук, председатель Главного управления цензуры.
(обратно)38
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.
(обратно)39
...влюблён в героев Плутарха... — Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий писатель, историк, философ-моралист. Главное сочинение — «Сравнительные жизнеописания выдающихся греков и римлян» — включает 50 биографий.
(обратно)40
Андрей Семёнович Кологривов — генерал, в 1813 г. занимался формированием кавалерийских резервов, у него адъютантом служил Грибоедов.
(обратно)41
...из Тургеневых хромой Николай? — Тургенев Николай Иванович (1789-1871) — государственный деятель, литератор, историк, декабрист.
(обратно)42
Пётр Яковлевич — Чаадаев (см. выше).
(обратно)43
Загоскин Михаил Николаевич (1789-1852) — писатель, автор исторических романов. Был близок к писателям «Беседы любителей русского слова».
(обратно)44
...вечер у графа Шишкова... — Шишков Александр Васильевич (1754 — 1841) — русский писатель, адмирал. Глава литературного общества «Беседа любителей русского слова».
(обратно)45
«Сын отечества» — исторический, политический и литературный журнал в Петербурге, основанный в 1812 г. Н. И. Гречем. В 1816 — 1825 в журнале приобретали влияние члены декабристских организаций.
(обратно)46
...любовники в романах мадам Скюдери? — Скюдери Мадлена де (1607-1701) — французская писательница, автор любовных романов.
(обратно)47
Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий поэт-комедиограф.
(обратно)48
Лагарп говорит... — Жан Франсуа де Лагарп (1739-1803) — французский драматург и теоретик литературы.
(обратно)49
Княжнин Яков Борисович (1742(40?)-1791) — русский драматург, поэт, представитель классицизма.
(обратно)50
...призвав себе в помощь Катенина... — Катенин Павел Александрович (1792-1853) — поэт, переводчик, критик. Член «Союза спасения». Вместе с Грибоедовым автор комедии «Студент» (1817).
(обратно)51
«Молодые супруги» — перевод Грибоедовым пьесы французского писателя Крезе де Лессера (поставлена на сцене в 18Г5 г.).
(обратно)52
Это те, где вы бросаете взор... — Здесь и далее Грибоедов разбирает оду «Вольность» (1817) А. С. Пушкина.
(обратно)53
«Лубочный театр» (1815) — памфлет Грибоедова в ответ на критику М. Н. Загоскиным его пьесы «Молодые супруги».
(обратно)54
Озеров Владислав Александрович (1769-1816) — русский драматург, его творчество соединяет черты классицизма и сентиментализма.
(обратно)55
Мадемуазель Жорж служила ей подлинником... — француз скал трагическая актриса. Настоящее имя Жозефин Веймер (1787-1867).
(обратно)56
Дмитревский (псевдоним, наст, фамилия Дьконов-Нарыков) Иван Афанасьевич (1734-1821) — русский актёр, драматург, переводчик.
(обратно)57
Гнедич Николай Иванович (1784-1833) — русский поэт, переводил Ф. Шиллера, Вольтера, У. Шекспира, «Илиаду» Гомера (опубл. в 1829 г.).
(обратно)58
Она одушевила измеренные строки Лобанова. — Лобанов Михаил Евстафьевич (1787-1846) — поэт, драматург и переводчик.
(обратно)59
Глагол времён! металла звон!.. — Г. Р. Державин, ода «На смерть князя Мещёрского» (1779).
(обратно)60
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...» — Псалтирь, псалом 1.
(обратно)61
Иван Фёдорович Паскевич (1782-1856) — генерал-фельдмаршал (с 1829 г.), в 1827-1829 гг. наместник на Кавказе. Был близок к императору Николаю I. Дальний родственник Грибоедова.
(обратно)62
Талейран Шарль Морис (1754-1838) — французский дипломат. Глава французской делегации на Венском конгрессе 1814-1815 гг.
(обратно)63
...включены в бенефис Нимфодоры Семёновой... — Нимфодора Семёновна Семёнова (1788-1876) — оперная певица, сестра Екатерины Семёновой.
(обратно)64
Так вдруг сошлось, что комедия Шаховского... явилась громким возобновлением прежней жестокой войны... — Комедия Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» была поставлена 23 сентября 1815 г., литературные друзья автора увенчали его в доме писательницы А. П. Буниной лавровым венком, арзамасцы неё торжественно «отпели» А. А. Шаховского, исполнив кантату Д, В. Дашкова, которую Пушкин считал «очень остроумной пьесой».
(обратно)65
...собрались Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов — основатели литературного общества «Арзамас»: Александр Иванович Тургенев (1784-1845) — историк и литератор, Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) — поэт, Дмитрий Васильевич Дашков (1788-1839) — чиновник Коллегии иностранных дел, Степан Петрович Жихарев (1788-1860) — переводчик, театрал, чиновник Коллегии иностранных дел, московский губернский прокурор (1823-1827), Дмитрий Николаевич Блудов (1785-1864) — граф, государственный деятель.
(обратно)66
...отчего-то обыватели Арзамаса... — Само название «Арзамас» возникло благодаря шутливо-пародийному произведению Д. Н. Блудова «Видение в какой-то ограде» об арзамасских любителях словесности.
(обратно)67
...автора... трактата о слоге старинном и новом... — Речь идёт об Александре Семёновиче Шишкове (1754-1841) — писателе, государственном деятеле, убеждённом консерваторе, главе литературного общества «Беседа любителей русского слова» (1811-1816). Его книги «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) и «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804), в которых Шишков ориентировал литературу на старославянский язык, вызвали острую полемику.
(обратно)68
Я царь — я раб, я червь — я Бог... — стихотворение Г. Р. Державина «Бог» (1784).
(обратно)69
Сенеки искажали латинский язык, но Квинтилианы его поправляли. — Сенека (ок. 4 до н.-э. — 65 н. э.) — римский философ, писатель. Квинтилиан (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства.
(обратно)70
«Петра Великого» перечитывал... — «Пётр Великий. Лирическое песнопение в осьми песнях» (1810) — поэма Сергея Александровича Ширинского-Шихматова, поэта, члена «Беседы любителей русского слова». Его стихи подвергались осмеянию в эпиграммах Пушкина, Вяземского, Батюшкова.
(обратно)71
Навис покров угрюмой нощи... — А. С. Пушкин, «Воспоминания в Царском Селе» (1814).
(обратно)72
...лекции Галича... — Галич Александр Иванович (1783-1848) — преподаватель российской и латинской словесности в лицее, впоследствии профессор Петербургского университета.
(обратно)73
Он бывал в казармах Семёновского полка... — Далее перечисляются будущие декабристы: Сергей Иванович Муравьёв-Апостол (1795-1826), Матвей Иванович Муравьёв-Апостол (1793-1886), Александр Михайлович Муравьёв (1802-1853), Никита Михайлович Муравьёв (1795-1843), Сергей Петрович Трубецкой (1790-1860), Постель Павел Иванович (1793-1826).
(обратно)74
Штейн Генрих (1757-1831) — глава прусского правительства в 1807-1808 гг., провёл, вопреки сопротивлению юнкерства, ряд буржуазных преобразований.
(обратно)75
Я стану действовать согласно указу о вольных хлебопашцах. — Речь идёт об указе Александра I «О вольных хлебопашцах» (1803), по которому крепостные крестьяне с согласия своих помещиков могли выкупаться на волю.
(обратно)76
Каменский Михаил Фёдорович, граф (1738-1809) — генерал-фельдмаршал.
(обратно)77
Монтескье Шарль-Луи (1689-1755) — французский просветитель, философ. Выступал против абсолютизма.
(обратно)78
...позу оратора, заимствованную им у Тальма. — Тальма Франсуа Жозеф (1763-1826) — французский актёр. Во время Великой французской революции участвовал в создании «Театра республики» (1791-1799).
(обратно)79
Феофан имел порывы, красноречия, Кантемир ум образованный... — Прокопович Феофан (1681-1736) — церковный и политический деятель, писатель, историк. Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) — русский поэт, дипломат, один из основоположников классицизма.
(обратно)80
Василий Львович Пушкин (1767-1830) — поэт, член «Арзамаса», дядя А. С. Пушкина.
(обратно)81
Дидот (Дидо) — семья французских типографов, издателей. Речь идёт о Фермене Дидо (1764-1836).
(обратно)82
Новиков Николай Иванович (1744-1818) — просветитель, писатель, журналист.
(обратно)83
Вскоре воротился из деревни Степан... — т. е. С. Н. Бегичев (см. выше).
(обратно)84
...Ивана-то Фёдорыча... — т. е. Паскевича (см. выше).
(обратно)85
К князю бы хорошо... — т. е. к А. А. Шаховскому (см. выше).
(обратно)86
Едва увидел я сей свет... — Г. Р. Державин «На смерть князя Мещёрского» (1779).
(обратно)87
Ликург и Солон. — Ликург (IX-VIII в. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель. Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — провёл в Афинах реформы, способствующие ускорению ликвидации пережитков родового строя.
(обратно)88
Мирабо и Дантон. — Мирабо Оноре Габриель (1749-1791) и Дантон Жорж Жак (1759-1794) — деятели Великой французской революции.
(обратно)89
Тассо (Тасс) Торквато (1544-1595) — итальянский поэт.
(обратно)90
Хотел почитать из «Семелы» — А. А. Жандр переложил вольными стихами прозаический перевод «Семелы» Ф. Шиллера, сделанный Грибоедовым.
(обратно)91
...величаво восседала Ежова... — Екатерина Ивановна Ежова (1788-1836) — драматическая актриса, с 1817 г. гражданская жена А. А. Шаховского.
(обратно)92
Каратыгин Василий Андреевич (1805-1879) — трагический актёр, ученик А. А. Шаховского.
(обратно)93
...Кокошкина есть перевод! — Кокошкин Фёдор Фёдорович (1773-1838) — драматург, переводчик, в 1820-е годы управлял московскими театрами.
(обратно)94
Меттерних Клеменс (1773-1859) — министр иностранных дел и глава австрийского правительства в 1809-1821 гг.
(обратно)95
...победивших держав, соединившихся в Вене... — Речь идёт о Венском конгрессе (1814-1815), завершившем войну коалиции европейских держав с Наполеоном.
(обратно)96
Адам Смит (1723 — 1790) — шотландский экономист и философ. Один из крупнейших представителей буржуазной политической экономики.
(обратно)97
Певец бедной Лизы... — Н. М. Карамзин, по названию его повести «Бедная Лиза».
(обратно)98
Каченовский Михаил Трофимович (1775-1842) — профессор Московского университета по русской истории и словесности. Критик и переводчик, издатель «Вестника Европы».
(обратно)99
В лавке Сленина... — Сленин Иван Васильевич (1789-1836) — петербургский книгоиздатель и книготорговец, поэт-дилетант.
(обратно)100
...Оссиана и Грея... — Оссиан — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в 3 в. Известна литературная мистификация Дж. Макферсона (1736-1796), исполненная в духе предромантизма. Грей Томас (1716-1771) — английский поэт, сентименталист.
(обратно)101
...читать со вниманием Сэя... — Сэй (Сей) Жан Батист (1767-1832) — французский экономист, один из родоначальников вульгарной политической экономии.
(обратно)102
Стурдза Александр Скарлатович (1791-1854) — чиновник Министерства иностранных дел, автор работ по религиозным и политическим вопросам.
(обратно)103
Каподистрия Иван Антонович, граф (1776-1854) — глава Коллегии иностранных дел и управляющий делами Бессарабской области. В 1827 г., уволившись с русской службы, был избран президентом Греции, выступал за сближение с Россией. Убит заговорщиками.
(обратно)104
Священный союз — союз Австрии, Пруссии и России, заключённый в Париже в 1815 г. после падения Наполеона.
(обратно)105
Арнаутские варвары — албанцы.
(обратно)106
Порта, Оттоманская Порта, Высокая Порта (фр. Porte, ит. Porta, букв, дверь, врата) — принятое в документах и литературе название правительства Османской империи.
(обратно)107
Карагеоргий (Георгий Петрович) (1768-1817) — руководитель Первого сербского восстания (1804-1813) против османского ига. После поражения бежал в Австрию, затем в Россию. В 1817 г. тайно вернулся в Сербию, убит.
(обратно)108
...братья Ипсиланти... — Александр (1792-1828) — участник Отечественной войны 1812 г., с 1820 г. руководитель греческой революционной организации. В1821 г. поднял антиосманское восстание в Молдове, явившееся сигналом к началу греческой народно-освободительной революции (1821-1829). Дмитрий (1793-1832) — офицер Русской армии. В ходе греческой народно-освободительной революции командовал войсками Восточной Греции (с 1828 г.).
(обратно)109
Карл Васильич Нессельроде, граф (1780-1862) — управляющий Коллегией иностранных дел, министр иностранных дел (1816-1856).
(обратно)110
Ад референдум (лат. ad referendum) — до референдума.
(обратно)111
Левант — (от. фр. Levant или ит. Levate) — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря, в узком смысле Сирии и Ливана.
(обратно)112
Мужайся, твёрдый росс и верный... — Г. Р. Державин, «Осень во время осады Очакова» (1788).
(обратно)113
Боливар Симон (1783-1830) — руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке. В 1824 г. освободил Перу и стал во главе образовавшейся на территории Верхнего Перу Республики Боливия, названной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы (1813) провозглашён Освободителем.
(обратно)114
Инсургенты — повстанцы (лат. insurgents — воюющий).
(обратно)115
И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф... — Здесь и далее цитируется Ветхий Завет, Первая книга Царств (17, 439, 41-51).
(обратно)116
Гюлистанский трактат. — Имеется в виду Гюлистанский мир, завершивший русско-иранскую войну; заключён в ноябре 1813 г., по которому к России перешёл ряд закавказских провинций и ханств. Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море, русские и иранские купцы могли свободно торговать на территории обоих государств.
(обратно)117
...ихний красный колпак... — символ свободы, во время Великой французской революции XVIII в. его носили якобинцы, санкюлоты. То же, что фригийский колпак — головной убор древних фригийцев в виде высокого колпака (обычно красного цвета) с узким верхом, загибающимся вперёд, позже его носили освобождённые рабы.
(обратно)118
Пишегрю Шарль (1761-1804) — французский генерал. В 1795 г. вступил в связь с роялистами. Арестован за подготовку покушения на Наполеона I и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)119
...из пошляков... — Здесь и далее слово готтентот употребляется в смысле варвар, пошляк. Любимое ругательное слово Грибоедова.
(обратно)120
...прежний союз... — Речь идёт о «Союзе спасения», первой тайной организации декабристов в 1816-1817 гг. Разногласия между членами организации привели к самороспуску и созданию «Союза благоденствия».
(обратно)121
...как Бонапарт на Аркольском мосту? — Во время Итальянского похода Бонапарта (1796-1797) у селения Арколь на р. Альпоне в ноябре 1796 г. Бонапарт малыми силами разбил австро-сардинскую армию.
(обратно)122
Подобно Катону... — имеется в виду Катон Старший (234-149 до н. э.). Консул в 195 г., непримиримый враг Карфагена.
(обратно)123
...скорбный чтитель своей Андромахи... — намёк на трагедию П. А. Катенина «Андромаха» (1809-1819), поставлена в 1827 г.
(обратно)124
...Свиньина, который так верно описал для нас Петербург! — Павел Петрович Свиньин (1787-1839) — русский писатель, художник, историк, географ. Здесь речь идёт об его книге «Достопримечательности Петербурга и его окрестностей» (1816-1828), иллюстрированной самим автором.
(обратно)125
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-1825) — граф, французский мыслитель, социалист-утопист.
(обратно)126
...царили два Пушкина, Алексей Михайлыч... и Василий Львович. — Алексей Михайлович Пушкин (1771-1825) — дальний родственник Пушкина, писатель, переводчик Мольера, актёр-любитель. Василий Львович Пушкин (см. выше).
(обратно)127
Экосез — старинный шотландский народный танец, получивший с конца XVII в. широкое распространение в виде парного бального танца.
(обратно)128
Херасков Михаил Михайлович (1733-1807) — поэт, драматург, романист.
(обратно)129
Душою так же прям, как станом... — Здесь и далее цитируется стихотворение Н. М. Карамзина «Послание к Алексею Алексеевичу Плещееву» (1796).
(обратно)130
Князь Вяземский, Андрей Иваныч (1746-1807) — действительный тайный советник (1796), сенатор (1796), отец поэта Петра Андреевича Вяземского (1792-1878).
(обратно)131
Юнг Эдуард (1683-1765) — английский поэт.
(обратно)132
Пусть мига больше я не протяну... — Гёте, «Фауст»., Часть первая, перевод Б. Пастернака.
(обратно)133
Апраксин, Степан Степанович (1747-1827) — генерал в отставке, славившийся своим хлебосольством, литературными чтениями, концертами и спектаклями.
(обратно)134
Нарышкин, Александр Львович (1760-1826) — обер-гофмаршал, обер-оберкамергер, меценат.
(обратно)135
Настасья Офросимовна — своенравная московская барыня, прототип Хлестовой в «Горе от ума», изображена в «Войне и мире» под именем Марьи Дмитриевны Ахросимовой.
(обратно)136
Действительно одарённым был... Мерзляков... — Мерзляков Алексей Фёдорович (1778-1830) — профессор Московского университета, критик и поэт, теоретик литературы.
(обратно)137
Поэзия! С тобой / И скорбь и нищета теряют ужас свой! — В. А. Жуковский, стихотворение «К поэзии» (1805).
(обратно)138
...представился прямо Чеботарёву... — Чеботарёв Андрей Харитонович (1784-1833), магистр философии и физико-математических наук Московского университета.
(обратно)139
А господин сочинитель драмы... — Мерзляков разбирает трагедию В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).
(обратно)140
Муравьёв Михаил Никитич (1757-1831) — писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета.
(обратно)141
Щербатов Михаил Михайлович (1733-1790) — князь, русский историк, публицист.
(обратно)142
...истинный Росций... — Квинт Росций (ок. 130 до н. э. — ок. 62 до н. э.) — древнеримский комедийный актёр. У него учился декламации Цицерон.
(обратно)143
...Голикова первый том «Деяний Петра»... — Имеется в виду труд русского историка, археографа Ивана Ивановича Голикова (1735-1801) «Деяния Петра Великого».
(обратно)144
Георгиевский трактат 1783 года — договор между Россией и Восточно-Грузинским царством, заключённый в Георгиевске (на Северном Кавказе), по которому царь Карталинии и Кахетии Ираклий II признавал протекторат России. Грузинские цари утверждались русским императором, Россия контролировала внешнюю политику Грузии. Георгиевский трактат подготовил окончательное присоединение Грузии к России в 1801 г.
(обратно)145
Ага-Myхаммед (Ага-Мохаммед) — хан Каджар (1742-1797) — шах Ирана с 1796 г., основатель династии Каджаров.
(обратно)146
Ираклий Второй (1720-1798) — царь Кахетии с 1744 г., Картли-Кахетского царства с 1762 г. Учредил постоянное войско, заключил с Россией Георгиевский трактат.
(обратно)147
Георгий Двенадцатый (1746-1800) — последний царь (с 1798 г.) Картли-Кахетии, сын Ираклия Второго. Просил императора Павла принять Грузию в подданство России.
(обратно)148
Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк.
(обратно)149
Записки Курбского... — Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) — князь, боярин, писатель. Опасаясь опалы за близость к казнённым Иваном IV боярам, бежал в Литву. Оставил ряд сочинений, среди которых послания к Ивану Грозному и памфлет «История о великом князе Московском», описывающий события политической жизни России времени царствования Ивана IV.
(обратно)150
Плиний Старший (23 или 24-79) — римский писатель, учёный.
(обратно)151
Муравьёв — Муравьёв-Карский Николай Николаевич (1794-1866) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Служил на Кавказе, участвовал в военных действиях против персиян (1826-1827) и в Турции (1828-1829), где особенно отличился при взятии Карса.
(обратно)152
Князь Чавчавадзе Александр Герсеванович (1787-1846) — генерал Кавказского корпуса, грузинский поэт, тесть А. С. Грибоедова.
(обратно)153
Вахтанг VI Законодатель (1675-1737) — наместник, затем царь Картой (1703-1724). В 1724 г. низложен иранцами, эмигрировал в Россию.
(обратно)154
«Витязь в тигровой шкуре» — поэма грузинского поэта XII в. Шота Руставели, родоначальника нового грузинского литературного языка.
(обратно)155
...расцветает поэзия Давида Гурамишвили... — светится имя Сулпхана Орбелиани... — Давид Гурамишвили (1705-1792) — грузинский поэт, автор поэм «Беды Грузии», «Пастух Кацвия», оказал влияние на развитие грузинской поэзии. Сулхан Саба Орбелиани (1658-1725) — грузинский писатель, учёный, политический деятель. Автор книги «Мудрость вымысла», направленной против пороков грузинского феодального общества.
(обратно)156
«Паломничество молодого Гарольда» — поэма Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) «Паломничество Чайльд-Гарольда». Цитируется в переводе В. Левика.
(обратно)157
...по итогам конгресса. — т. е. Венского конгресса (см. выше).
(обратно)158
Перелог — поле, покинутое для перелёжки, в трёхпольном хозяйстве это пары, земля под паром (Даль).
(обратно)159
Петрарка Франческо (1304-1374) — итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения.
(обратно)160
Стерн Лоренс (1714-1768) — английский писатель, зачинатель литературы сентиментализма.
(обратно)161
...топтанья Веллингтона в Испании... — Артур Уэсли Веллингтон (1769-1852) — герцог (1814), английский фельдмаршал (1813). В 1808-1813 гг. командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове против Наполеона I.
(обратно)162
Аббас Мирза (1789-1833) — государственный и военный деятель Ирана. Командовал иранскими войсками во время русско-иранских войн 1804-1813 и 1826-1828, иранотурецкой войны 1821-1823 гг.
(обратно)163
«Инвалид» («Русский инвалид») — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813-1917 гг. Основана в патриотическо-благотворительных целях: доход предназначался в пользу инвалидов войны, солдатских вдов и сирот. С1816 г. выходила ежедневно (в 1869 г. — 3 раза в неделю).
(обратно)164
...Якову Толстому и Всеволожскому... неразлучным с лампой зелёной... — Яков Николаевич Толстой (1791-1867) — литератор, член «Союза благоденствия». Никита Всеволодович Всеволожский (1799-1862) — актуариус Коллегии иностранных дел, театральный завсегдатай, переводчик французских водевилей. Основатель литературно-политического общества «Зелёная лампа» (апрель 1819 — осень 1820), объединявшего передовую дворянскую молодёжь.
(обратно)



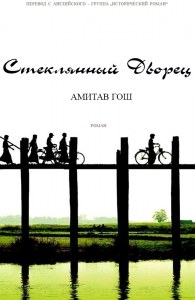



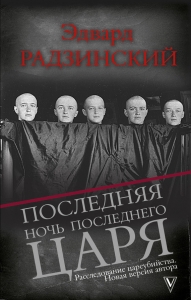
Комментарии к книге «Дуэль четырех. Грибоедов», Валерий Николаевич Есенков
Всего 0 комментариев