Догмат крови Сергей Степанов
© Сергей Степанов, 2016
Корректор E. Некрасова
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
20 марта 1911 г.Ничто не предвещало того, что перед окончанием Великого поста на окраине Киева завяжется клубок странных и удивительных событий, которые привлекут к себе пристальное внимание всего мира. Никто и предположить не мог, что Лукьяновка, Загоровщина, Верхне-Юрковская — названия, знакомые только коренным киевлянам, — в скором времени зазвучат на разных языках, понесутся точками и тире по телеграфным проводам в Европу, помчатся по гуттаперчевому кабелю, проложенному по дну океана, в Северо-Американские Соединенные Штаты, запестрят в газетах и журналах. Об этих событиях напишут десятки книг и статей, снимут фильмы. Сто лет минует, а дело это по-прежнему будет вызывать споры и будоражить умы.
И уж точно такого не могли представить двое мальчишек, бежавших по Загоровщине — обширному, поросшему кустарником и деревьями склону, любимому месту игр лукьяновской детворы. Был первый по-настоящему погожий день после долгой зимы. Снег еще лежал в ямах и под деревьями, но весна уже вступила в свои права. А еще было воскресенье, единственный день за всю неделю, когда не нужно идти в гимназию, зубрить латинские исключения и решать арифметические задачи из ненавистного учебника Малинина и Буренина с неизменным купцом, покупавшим на каждой странице столько-то пудов ржаной и столько-то пудов пшеничной муки. Причем, скотина, умудрялся каждой муки прикупить несколько сортов, так что приходилось ломать голову над его хитрыми торговыми операциями. Вся учащаяся Россия ненавидела купчишку из задачника и искренне желала ему провалиться под землю с его дурацким мучным лабазом. Воскресенье приносило свободу, и потому мальчишки были такими радостными.
— Петь, а Петь! Шо ты сделаешь со своей долей в гайдамацком кладе? — спрашивал младший.
Его товарищ, едва обернувшись, бросил снисходительным тоном, как подобало гимназисту второго класса в разговоре с приготовишкой:
— Я, Борька, куплю себе мотор, и не какую-нибудь рухлядь, а самую последнюю модель месье Луи Рено. Говорят, их целую партию приобрели для государя. Восемнадцать лошадиных сил!
— Не может быть! Ежели все восемнадцать лошадей запрячь цугом! Вот силища! Только хватит ли денег?
— Рено три с половиной тысячи стоит.
— Рублей? — ахнул Боря.
— А ты думал копеек! — отрезал Петя, негодуя на наивность приготовишки. — Будет языком трепать, добрались уже. Вот пещера.
Мальчишки остановились около дерева, выросшего на краю глубокой ямы. Ее стенки были размыты ручейками воды, стекавшей с ближайшего пригорка, на дне скопилась ледяная жижа вперемешку с прошлогодними бурыми листьями. Между обнаженными корнями виднелся лаз, наполовину закрытый подтаявшим сугробом. Петя сокрушался:
— И как это я запамятовал, что здесь пещера? Мы с тобой все склоны зря облазили, а клад-то тут, больше ему негде быть! У меня есть верная запись, я тебе показывал, все сходится!
Мальчишки с жадным любопытством глядели на узкий лаз. Слухи о гайдамацких сокровищах издавна будоражили окрестную детвору. Из поколения в поколение передавались предания о том, как жгли шляхетские поместья ватаги Жилы, Шилы и Медведя, как лихо ворвался гайдамак Грива в Винницу. Но особенно захватывали воображение мальчишек подвиги запорожского казака Железняка и сотника Гонты. Сколько костелов и синагог разграбили казаки! Сколько сияющих червонных перекочевало из сундуков шинкарей и ростовщиков в карманы широких казацких шаровар, сколько золотых перстней было снято с отрубленных панских пальцев, сколько пропито изумрудных подвесок, яхонтовых браслетов, жемчужных ожерелий! А что гайдамаки не успели прогулять, то сложили в кованый сундук и спрятали в пещере. Только не пришлось им увидать своих сокровищ, потому что всех гайдамаков предал лютой казни польский гетман. Так и остался клад нетронутым.
— Там вода. Папаша заругает, если я сапоги попорчу, — сказал младший.
Петя даже спорить не стал с дураком. Внизу куча золота, а он о сапогах толкует! Ну да ладно, черт с ним, с трусишкой, другое запоет, как полушки не получит. Петя спрыгнул в яму и, пачкая шинель о грязный снег, на четвереньках пролез в пещеру. Он зажег серную спичку и поднес к глазам узкую бумажку, которую обнаружил среди закладок журнала «Киевская старина», валявшегося на столе отчима: «Ця опись писана в Туретчини за Дунаем перед смертью, бо я уже умираю и уже последний. Помоги, Боже, добрим людям найти наш клад, да не забувайте нас грешных бурлаков-запорожцев». Колеблющееся пламя спички освещало низкий свод и неровные глиняные стены. У входа образовалась лужа воды, в глубине было сухо. Через несколько шагов пещера заканчивалась тупиком. Справа была ниша примерно в аршин шириной и в три аршина длиной. Гимназист с разочарованием убедился, что в пещере уже кто-то побывал — на полу валялась смятая газета и грязное тряпье. Он повернул назад и при свете угасающей спички увидел слева от входа еще один ход. Пламя погасло, он ощупью пробрался в это разветвление пещеры и чиркнул вторую спичку.
Прямо перед гимназистом на расстоянии вытянутой руки сидела фигура в белых одеждах. «Привидение» — мелькнуло в голове. Окаменев от ужаса, он простоял несколько секунд. Фигура не шевелилась, и гимназист с облегчением подумал, что это соломенное пугало. Но уже в следующее мгновение он понял, что перед ним мертвец, поджавший под себя голые ноги и опустивший голову на грудь. Пламя догорающей спички ужалило пальцы, привело Петю в чувство. Он бросился к выходу и поспешно выкарабкался из ямы, едва выговорив пресекшимся от ужаса голосом:
— Борька, там, кажись, мертвяк.
Приятели помчались сломя голову, не оборачиваясь, как будто за ними гнался покойник. Около высокой вербы, где Загоровщина незаметно переходила в Нагорную улицу, младший Борька кинулся в сторону своего дома, а Петя, пробежав вдоль покосившегося забора, свернул в Якубеновский переулок.
В свое время богатые застройщики накупили множество земельных участков на Лукьяновке, которую по всем расчетам ожидало блестящее будущее. Киев разрастался, за десять лет его население увеличилось почти вдвое. Отдаленные предместья постепенно приобретали городской вид. Лукьяновку часто называли Горой, а иногда киевской Швейцарией. Склоны Горы, изрезанные глубочайшими оврагами, ярами на малороссийском, были столь же живописны, как ущелья швейцарских кантонов. Предполагалось, что Лукьяновка превратится в фешенебельное дачное место, но застройщики упустили из виду лихую славу Горы. В заросших кустарником ярах скрывались нищие и бродяги; сюда не смела сунуть носа полиция, а если какой-нибудь настырный сыщик спускался в яр, например, в сырой и таинственный Бабий Яр, то потом его находили с проломленным черепом или не находили вовсе. Да и все приземистые, полуразвалившиеся мазанки, прилепившиеся к склону Горы, представляли собой сплошную воровскую малину. Добрая половина лукьяновцев кормилась вокруг фартовых ребят, занимавшихся грабежами в городе.
Имелись на Лукьяновке и церкви: святого Федора и святого Макария. Но гораздо больше было винных лавок и пивных. На Верхне-Юрковской улице монополька размещалась в единственном двухэтажном доме № 40, а еще через шесть номеров была пивная Добжанского, а еще через четыре номера — опять винная лавка. Свои пивные и свои лавки существовали на примыкавших к Верхне-Юрковской улицах Половецкой, Татарской и Печенежской, сохранявших в своих названиях память об ордах завоевателей, прокатившихся через Гору. А кто считал тайные шинки, торговавшие горилкой! Нет, решительно нельзя было строить виллы в такой пьяной и воровской Швейцарии! Вот и пустовали обширные усадьбы, приобретенные земельными спекулянтами. В некоторых из них были устроены глинища и кирпичные заводики, другие зарастали бурьяном. Так и жила Гора под сенью возвышавшегося поодаль Лукьяновского тюремного замка.
Был час дня, солнце светило вовсю, по переулку ходили люди, а Петю пробирал мороз по коже, когда он вспоминал темную пещеру и фигуру в белом. Около своего дома мальчик встретил отчима, служившего фельдшером при полицейском участке. У пасынка немел язык всякий раз, когда ему приходилось обращаться к суровому отчиму. Вот и теперь он, запинаясь и робея, попытался рассказать о страшной находке. Выслушав его сбивчивые слова, отчим проворчал:
— Выдрать тебя треба. Великий пост, добрые люди о душе думают, а он клад шукает. Пойдем, проверим!
Когда они подходили к пещере, гимназист удивленно сказал:
— Гляньте! Борька уже папашу привел. И городовой там.
Действительно, у кустов ходили пожилой чиновник, Борькин отец, и городовой Лященко. Городовой, придерживая шапку из черной мерлушки с посеребренной бляхой и металлической лентой с трехзначным номером, полез в пещеру. Он пробыл там довольно долго, потом выбрался наружу и доложил:
— Так што небижчик. Мертвый хлопчик, — он мучительно поразмышлял над чем-то и прохрипел. — Треба в участок рапортовать.
— Сходите на станцию электрички, — посоветовал фельдшер, — оттуда можно протелефонировать, а мы посторожим пещеру.
Электричкой в Киеве называли трамвай, устроенный по новейшей системе Спрага, которая получила распространение в Америке. Долгое время город не имел средств передвижения, отставая в этом отношении не только от Петербурга, но даже от старушки Москвы и провинциальной Варшавы. Состоятельные киевляне держали собственные экипажи, а всем остальным приходилось ходить пешком. Однако Киев, как былинный Илья Муромец тридцать лет и три года сиднем просидел, а потом распрямился и весь свет удивил. В два-три года город обзавелся сразу конкой, паровыми локомотивами и электричкой. Правда, конка оказалась совершенно непригодной для киевских холмов. И хотя на особенно крутых подъемах в вагоны впрягали дополнительную третью лошадь, от этого было мало проку, потому что животные из последних сил преодолевали кручи и падали на колени в изнеможении. Паровые локомотивы продержались немного дольше. Пыхтя черным дымом, они весело катили по рельсам на ровных участках, но замедляли свой ход на подъемах и спусках. И хотя однажды такой локомотив в качестве опыта спустился по Александровскому спуску, проехал до Кирилловской и даже сумел самостоятельно вернуться наверх, всем стало ясно, что дни парового движения сочтены.
Конку и локомотивы вытеснил трамвай на электрической тяге. Генерал-майор Струве, построивший для города водопровод и мост, взялся устроить трамвайное сообщение, используя уже проложенные по улицам рельсы конки. Трамваи легко взбирались на холмы и ныряли вниз по склонам. Они без видимых усилий поднимались даже по Круглоуниверситетской улице, что казалось невозможным из-за перепада высот. Постепенно в городе появилось двадцать постоянных маршрутов и один загородный в Пущу-Водицу, где проводили лето состоятельные киевляне. По воскресеньям трамвай № 19 приезжал с открытым прицепным вагоном, на скамьях сидели музыканты духового оркестра и играли для дачников бравурные марши. Кроме того, была линия на Дарницу за Днепром; по ней бегал трамвай на керосиновой тяге, и его непочтительно окрестили «примусом». Лукьяновка также не осталась в стороне от прогресса; по изрезанной оврагами «киевской Швейцарии» трамваи добирались аж до Куреневки.
Пока городовой ходил на станцию, фельдшер развил бурную деятельность. Осмотрев место преступления, он крикнул:
— Хлопчика звали Андреем Ющинским
— Как вы узнали?
— У ног лежит пояс с бляхой Софийского училища, а на оборотной стороне написана фамилия. Опять же в стене над головой имеется углубление вроде печурки, куда воткнуты тетради с той же надписью. Тильки чудно как-то! — усомнился фельдшер. — Пояс положен надписью вверх. Словно убийца хотел, чтобы сразу определили, кто убит. Чтобы, значит, ошибки никакой не было.
— Слушайте, ведь вокруг пещеры тоже разбросаны тетрадки с чьим-то именем, — воскликнул его приятель, поднимая обрывок синей обложки, на которой корявым детским почерком было написано «…ндрея Ющинско…».
— Ющинский? Ющинский? Где-то я недавно натолкнулся на похожую фамилию. Постойте! Несколько дней назад в «Киевской мысли» было объявление о пропаже подростка. Не Ющинским ли его звали?
— Не знаю. Впрочем, сейчас будет у кого спросить.
К пещере приближалась толпа людей. Впереди бежала стайка мальчишек, за ними, зевая и крестя рот, шагал старший городовой Осадчий, а за городовым шествовали местные обыватели, привлеченные слухом о найденном на Загоровщине трупе.
— Що таке? — спросил Осадчий.
— Хлопчик убитый. Посмотрите сами, — предложил фельдшер.
— Поспиим побачить як начальство придет, — флегматично отозвался старший городовой.
Он отошел в сторону и закурил трубку, безучастно наблюдая за суетящимися зеваками. Между тем толпа становилась все гуще. Казалось, к пещере сбежалась вся Лукьяновка. Из пожелавших своими глазами посмотреть на тело образовалась длинная очередь.
— Пане городовой, — обратился к Осадчему какой-то мещанин.
— Старшой городовой, — важно сказал Осадчий, поправляя оранжевые плечевые жгуты, перехваченные тремя посеребренными гомбочками.
— Пане старшой городовой, мы того хлопчика знаем, — сказал мещанин. — То Андрюшка-байстрюк, сынку Сашки Приходько. Вони туточки жили, писля съихали за Днипро. Сашка, вона, замуж вышла за Луку Приходько, переплетчика.
— Буде пустограить, — зевнул городовой. — Пан околоточный приедут, протокол напишут.
Околоточный, которого пришлось вызывать из квартиры кумы, появился только час спустя. Он был сильно не в духе и, застегивая темно-зеленый кафтан русского покроя с прямыми бортами, посулил дюжину чертей вестовому, ожидавшему его в прихожей. На трамвайной станции, куда околоточный забежал, чтобы протелефонировать о происшествии приставу, он распек городового Лещенко и не переставал ругаться всю дорогу. Шагов за десять до пещеры околоточный, не в силах сдержать свой гнев, заорал:
— Осадчий, болван! Почему на месте преступления посторонние?
— Не могу знать, вашбродь, — засуетился старший городовой, с которого слетела вся флегма. — Набежали откуда-то, бисовы дети!
— Гони всех в шею! Из пещеры гони, дурак!
Городовые оттеснили толпу. Околоточный, стараясь не испачкать в глине теплую шинель с каракулевым воротником, забрался в пещеру. Молчаливый Лещенко отодвинул труп от стены. Посветив стеариновой свечой, околоточный убедился, что заведенные за спину руки мальчика были связаны веревкой. Городовой, которому было приказано проверить одежду убитого, вынул из кармана курточки обрывок ткани, вышитый красными и черными крестиками. Околоточный помял в руках находку и велел засунуть обрывок обратно. Когда они вылезли, околоточный приказал старшему городовому принести лопаты.
— Пристав-то наш, сам знаешь, каков! — пояснил он, для наглядности широко разводя руками.
— Вашбродь, неужто пана пристава к вечеру будем беспокоить? — изумился Осадчий.
— Болван, — цыкнул на него околоточный, — разве не знаешь, какое сегодня число! Кабы не это, стал бы я начальство тревожить!
Часам к четырем приехал пристав Рапота, дородный мужчина пудов десяти весом. Он встал на подножку пролетки огромными ступнями в сапогах с галошами, в которых имелись окованные медью прорези для шпор. Пристав рявкнул знаменитым на весь Киев басом:
— Почему допустили скопление зевак?
Околоточный надзиратель беспомощно пожал плечами, показывая, что несколько городовых не в состоянии удержать толпу. Но это только раззадорило пристава.
— Потрудитесь доложить, что произошло!
Околоточный, взяв под козырек, начал было рапортовать, но пристав, не выслушав и двух фраз, сделал жест, означавший «Знаю уже все», и прошел к пещере. Там старший городовой и несколько мобилизованных им лукьяновцев расширяли вход. Пристав несколько минут понаблюдал, как из-под лопат летят комья глины, а потом, потеряв терпение, отогнал копавших и полез внутрь, но тут же застрял. На выручку ему бросились городовые и после долгой возни вызволили начальство из подземного плена.
— Уф! — выдавил из себя пристав, стряхивая комья глины. — Как там тесно!
— Ваш высокобродь, прикажите внутри расширить? — подлетел к нему старший городовой.
— Оставь, — отмахнулся пристав и, обращаясь к околоточному, спросил. — Личность убитого установлена?
— Так точно. Местные жители определенно удостоверяют, что убит Андрей Ющинский, незаконнорожденный сын некой Александры Приходько. В Софийское духовное училище, где он воспитывался, отправлен городовой на предмет выяснения возраста и обстоятельств исчезновения их ученика. Кстати, вот еще одна свидетельница рвется, — прибавил околоточный, показывая на женщину, которую городовые не пускали к пещере.
Женщина, перехватив взгляд пристава, ловко выскользнула из-под локтя полицейского и оказалась перед начальством. По развязанным ухваткам ее можно было принять за типичную обитательницу киевского предместья. Но своей одеждой — длинным приталенным дипломатом — она отличалась от лукьяновских мещанок. Лицо ее было и вовсе необычным для здешних мест, матово-смуглым, цыганистым.
— Хочу засвидетельствовать, — бойко сказала женщина. — Если в пещере Андрюша, я его мигом узнаю.
— Хлопца уже опознали, — отозвался околоточный.
— Не случилось ли ошибки, — настаивала женщина.
Пристав, поняв, что любопытной особе было до слез обидно прибежать к шапочному разбору, когда полиция прекратила доступ к телу, сделал разрешающий жест. Женщина мгновенно исчезла в пещере. Спустя несколько секунд раздался ее голос.
— Точно он, Андрюшенька бедный!
— От оглашенная, погодь, — увещевал ее городовой, полезший за ней со свечой, — як ты тут бачишь в темноте? Дай посвечу.
— Вижу, вижу! Без сомнения Андрюша!
— Тьфу, балаболка, — ворчал городовой, вылезая вместе с женщиной, — тильки полицию беспокоит.
Женщина набросилась на городового.
— Выбирай выражения! Перед тобой не деревенская баба, а жена почтово-телеграфного чиновника. Я опознала мальчика по вороту рубахи. Там крестик белый, крестик красный. Я у Андрюшиной матери образчик брала, чтобы своему сыну на тот же манер вышить. Женька мой с Адрюшей были первыми друзьями.
— Ваше высокобродь, разрешите доложить, — старший городовой Осадчий с таинственным видом наклонился к уху пристава. — Так што я эту особу знаю. Неодобрительного поведения.
— Кто здесь на Лукьяновке одобрительного? — рассеяно отозвался пристав.
Он прислушивался к разговору двух лукьяновцев и постепенно наливался гневом. Лукьяновцы стояли неподалеку от него, опершись на лопаты, и вели между собой приглушенную беседу.
— Пасха через двадцать дней, — вздыхал один.
— Точно, Пасха, — вторил ему другой.
— Геть, мерзавцы! Подберите свои поганые языки! — налетел на них пристав.
— Мы, вашбродь, ничего не знаем, — испугано оправдывались лукьяновцы.
— Еще раз услышу, насидитесь у меня в кутузке! — рявкнул пристав.
Наблюдавший за этой сценой околоточный надзиратель позволил себе усмехнуться в усы. Пристав спросил его:
— Слышали, о чем эти скоты болтали?
— Ваше высокоблагородие… — вытянулся в струнку околоточный.
— Полно вам, — скривился пристав. — Прошу по-товарищески, без субординации.
«То-то, без субординации. А сам давеча меня с рапортом обрезал»! — подумал про себя пристав, но вслух ответил, что дело, сразу видать, поганое.
— Ох, поганое! — пожаловался пристав. — В Киеве еще ничего, а вот служил я на Волыни, так задолго до Христова Воскресенья начинаешь молиться: «Господи, пронеси»! Поверите ли, как Пасха минует, всем участком неделю на радостях горилку трескали.
Полицейские помолчали. Пристав, искоса поглядывая на околоточного, спросил:
— Как бы нам это дело с рук сбыть, ума не приложу?
— Сбыть-то, пожалуй, можно, — задумчиво произнес околоточный.
— Неужто? — обрадовался пристав. — Научите, как это обставить.
— И очень просто, — уже увереннее сказал околоточный. — Я вообще полагаю, что это дело принадлежит до Плосского участка.
Пристав остановился в недоумении, потом в его заплывших жиром глазках мелькнула искра понимания.
— Здесь же граница двух участков!
— Верно изволили заметить, граница, — развивал свою мысль околоточный, — у нас в практике установилось: если имеются постройки, выходящие на Нагорную или Верхне-Юрковскую улицы, то это наш Лукьяновский участок, а если построек нет, то это Плосский участок.
Пристав обвел руками вокруг себя и радостно констатировал:
— Какие здесь постройки! Пустырь да яры!
— Были бы дома, тогда точно участок наш.
— Если бы постройки, то я бы слова не сказал. А так с какой стати мы будем к соседям лезть, — подтвердил пристав.
Сообразив, что неприятное дело удастся сбыть с рук, он начал выговаривать околоточному надзирателю:
— Выходит, вы подняли переполох по ошибке. Хорошо еще, что быстро сообразили. Немедленно протелефонируйте Вышинскому, пусть этот польский выходец потрудится провести полицейское дознание. И настоятельно попросите, чтобы он немедленно прислал из участка городовых для охраны пещеры. Я своих людей ночью морозить не намерен. Утром отрапортуете о передаче дела в ведение Плосского участка.
Околоточный молча козырнул, подумав про себя: «Погоди, толстый боров! В следующий раз будешь своей головой соображать». Он предвидел неприятное объяснение с соседним полицейским участком и мысленно посылал тысячу чертей умчавшемуся на резвых конях начальству.
Его мрачные предчувствия не замедлили подтвердиться поздно вечером, когда после долгих препирательств и мелочных придирок он был наконец приглашен в кабинет пристава Плосского участка Вышинского. Пристав, известный щеголь и кутила, хваставший, что происходит из шляхетского рода, давшего миру знаменитого кардинала-примаса, даже не предложил околоточному сесть и в разговоре был до крайности холоден и язвителен.
— Прискорбно, что чины киевской полиции ведут себя, как хлопы, которые обнаружили на меже мертвое тело и перетаскивают его из владений своего пана на соседнее поле, — цедил сквозь зубы Вышинский.
— В практике установилось… — начал было околоточный.
— Я сам знаю, что установилось в практике. С чего это пан Рапота стал таким формалистом в вопросе о границах между участками. Пасхи испугался, что ли? — допытывался пристав.
Околоточный возвел глаза к потолку, всем своим видом показывая, что он не смеет рассуждать о начальственных распоряжениях. Наконец, Вышинский понял бесполезность своих язвительных комментариев и перешел к делу, спросив, установлена ли личность покойного?
— Так точно. Ученик Софийского училища. В сопроводительных бумагах, адресованных вашему высокоблагородию, все указано. Пещера охраняется нашим постом до тех пор, пока вы не сочтете нужным прислать своих людей, — дипломатично ввернул околоточный.
— Судебным властям дано знать?
— Так точно. Я телефонировал исправляющему должность судебного следователя пятого участка. Только он… Сами изволите знать.
— Уж это точно. Господа судейские считают, что хлопоты — это удел полиции, а их дело прийти на все готовенькое. Мы будем бегать, высунув языки, а следователь раньше полудня не появится.
Все полицейские были искренне убеждены, что следователи и прокуроры так и норовят отпустить преступников.
— Они ю-р-ы-сты, — смачно выговаривая каждую букву, протянул Вышинский, — они о правах каторжников пекутся. А кто позаботится о семьях городовых, которых разбойники, как каплунов, режут?
— Ну, в нашем участке, надо отдать должное Рапоте, с налетчиками никогда не миндальничали, — заверил околоточный, сжимая здоровенный кулак.
— Беда только, что киевская магистратура нас не поддерживает, — жаловался пристав. — Все руки обтрепешь, чтобы выбить признание, а чистоплюи в окружном суде этого понимать не желают. Есть у меня непутевый родственничек, сынок кузина Януария. Молодчику до тридцати лет некогда было курса закончить, связался с нигилистами, побывал в тюрьме. Хорошо, что опомнился, ходатайствовал о восстановлении в киевском университете. И надо же, ведь вчера еще висел на волоске, а сегодня он мне советует гуманно обращаться с подозреваемыми. Я его учу: «Брось, Анджей, свои теории, неприкосновенность личности и прочую марлехлюндию. Запомни — преступников били, бьют и всегда будут бить! Вот на чем зиждется храм правосудия, а не на учебниках по римскому праву».
Потолковав с околоточным о глупых придирках судебных властей, пристав отпустил его, а сам сел за письменный стол. Он подумал, что надо будет поскорее закончить все формальности и утром вручить бумаги судебному следователю. Вышинский прекрасно понял хитрость Рапоты, но успел прикинуть, что толстый сосед вряд ли выиграет от своей уловки. Все огрехи можно было запросто списать на Рапоту и его дуболомов, оправдавшись, что ему, Вышинскому, пришлось принять окончательно изгаженное дознание и исправлять чужие ошибки. Относительно дальнейшего хода дела пристав совершенно не беспокоился. Он не первый год служил в Юго-Западном крае и нюхом чуял, что убийством в канун Пасхи будет заниматься не его участок, а сыскная полиция или даже охранное отделение.
Обдумав все это, пристав повеселел и взялся за сочинение рапорта судебному следователю: «На основании 250-й статьи Устава уголовного судопроизводства сообщаю Вашему Высокоблагородию, что около часа дня 20-го марта 1911 года гимназисты 6-й гимназии Борис Белошицкий, 10 лет, и Петр Элланский, 12 лет, проживающие на Лукьяновке, гуляя в усадьбе Бернера (где кирпичный завод, фронтоном усадьба выходит на Кирилловскую улицу, а задняя граница к Нагорной улице) в одной из пещер глубиною в сажень, в углублении — при входе в пещеру влево, обнаружили труп неизвестного мальчика, о чем сообщили своим родителям, а те чинам Лукьяновского участка, а около 7 час. вечера сообщили в Плосский участок. При осмотре оказалось, что труп в ночном белье, без сапог, в полусидячем положении, голова и грудь в крови, с разложенными ногами и связанными назад веревкой руками; над головой в углублении пещеры, найдены тетради и пояс с бляхой с надписью „ученика приготовительного класса Киевского духовного училища Андрея Ющинского“. Из забранных справок в училище (в ограде Софийского собора) видно, что Андрей Ющинский последний раз был в училище 11-го сего марта; мать его Александра Ющинская, мещанка, живет в Никольской слободке Остерского уезда. Об исчезновении сына заявила администрации училища 13-го марта. Покойному 13 лет от роду, поведения хорошего и аккуратно посещал училище. Труп охраняется до прибытия Вашего Высокоблагородия. Одновременно с сим сообщено об этом товарищу прокурора Окружного Суда, по участку».
Глава первая
26 марта 1911 г.Исправляющий должность судебного при Киевском Окружном суде следователя по важнейшим делам Василий Иванович Фененко, подняв воротник шинели, шел по дорожке сквера. Дождь лил как из ведра, но следователь не обращал внимания на холодные струи. Он был погружен в невеселые размышления о переданном ему дознании об убийстве малолетнего Андрея Ющинского. Даже беглого знакомства с протоколом осмотра места преступления было достаточно, чтобы впасть в отчаяние. Чины полиции затоптали все следы, снежный покров при входе в пещеру был срыт до основания, а труп отодвинут от стены и теперь трудно было определить его первоначальное положение. «И ведь каждый раз одно и то же! Талдычишь им, талдычишь: не прикасайтесь ни к чему до прибытия представителей судебной власти — как об стенку горох!» — раздраженно думал Фененко.
В протоколе судебно-медицинского вскрытия говорилось, что в желудке убитого были непереварившиеся остатки картофеля и свеклы. Это позволяло предположить, что мальчик был убит не позднее двух-трех часов после принятия пищи. Еще при осмотре белья убитого были обнаружены три волоса — черные, грубые, волнистые — явно из бороды взрослого мужчины. В остальном же протокол был на удивление бестолковым и небрежным. Фененко протелефонировал городовому врачу Карпинскому, производившему вскрытие, но в ответ на свои недоуменные вопросы выслушал сбивчивый монолог о том, что труп Ющинского было пятым за дежурство: «Да-с! Представьте себе, пятым! Я вам не ссыльно-каторжный!» Пришлось назначить повторное судебно-медицинское вскрытие и попросить об этой услуге самого опытного киевского патологоанатома, декана медицинского факультета профессора Оболенского.
Сейчас следователь направлялся в анатомический театр, и путь его лежал через большой сквер с хорошо шоссированными, сухими даже в дождь дорожками. Фененко вспомнилось, что во времена его студенческой молодости на месте сквера был пустырь, ночное прибежище грабителей, раздевавших до исподнего всякого, кто пытался сократить путь с Бибиковского бульвара на Шулявку. Быть может, прохожих грабили бы и по сей день, если бы бразильский император Дон Педро Второй, однажды осчастлививший своим визитом Киев, не подал бы мысль облагородить вид перед университетом. «Эх, Русь-матушка! Без бразильского императора даже сквера не догадались разбить», — вздохнул Фененко.
Потом, когда он уже был кандидатом на судебные должности, в центре сквера поставили памятник императору Николаю Первому в военной форме, опирающемуся на тумбу с планом Киева. На высоком постаменте были укреплены четыре барельефа, иллюстрирующие главные благодеяния, которые монарх оказал городу: строительство Университета, Первой гимназии, Кадетского корпуса и Цепного моста. Два барельефа вызывали в душе Фененко особенные чувства. Он учился в Первой гимназии, действительно первой в городе по всем предметам, а потом провел четыре незабываемых года в университетских стенах. При взгляде на громадный параллелепипед с восьмью высокими стройными колонами, над которыми золотыми буквами сияла надпись «Императорский университет св. Владимира», у Фененко потеплело на душе. Много воспоминаний было связано с этими темно-вишневыми стенами в цвет ордена святого Владимира: убаюкивающая тишина малой и большой библиотеки, шумная разноголосица внутреннего двора, занятия по философии права.
Этот предмет вел приват-доцент князь Трубецкой. Для его лекций отводилась четырнадцатая, самая большая аудитория, и она всегда была полна студентами даже из других учебных заведений. Особенно много было курсисток, влюбленных в князя, изумительного оратора и светского человека. Трубецкой первым завел неслыханное новшество, разрешив студентам выступать с публичными рефератами. Фененко тоже делал доклад, а потом выдержал диспут с двумя оппонентами: Евгением Тарле, студентом историко-филологического, и своим собратом-юристом Николаем Бердяевым, членом марксистского кружка, организованного гимназистом Анатолием Луначарским.
В сравнении с элегантным князем остальная университетская профессура выглядела провинциальной и неуклюжей. Были и совсем курьезные личности, но даже о них Фененко сейчас вспоминал с большой теплотой. Чего стоило одно только появление профессора Владимирского-Буданова. Несколько поколений студентов держали экзамены по его учебникам, однако в годы учебы Фененко профессор был уже в преклонном возрасте и держался в университете благодаря старой славе. Его приводили на лекции пожилые родственницы, долго раскутывали из многочисленных пледов, потом ставили за кафедру. Владимирский-Буданов начинал вещать нечто, имеющее отношение к истории русского права, причем большинство фраз застревало в его обвисших казацких усах. Через четверть часа, когда речь профессора окончательно превращалась в невнятное бормотание, заботливые родственницы снова упаковывали старика в пледы и бережно уводили из аудитории, а студенты направлялись в ближайшую портерную, каких было множество в «Латинском квартале», как называли улицы Тарасовскую, Паньковскую, Жилянскую, Никольско-Ботаническую и Жандармскую, где снимали дешевые комнаты и углы приехавшие вкусить науку молодые люди. Бывало, студенты за стаканом дешевого портвейна до хрипоты спорили обо всем на свете.
Увы, где теперь пылкие спорщики! Тарле приват-доцентом в столице, Бердяев отошел от марксизма, пишет что-то в славянофильском духе. Другие спились или превратились в пошлых обывателей. «А все-таки студенческие годы — прекрасное время, когда кажется, что все еще впереди!» — думал Фененко, поравнявшись с шумной очередью студентов, пришедших в канцелярию за отпускными свидетельствами на пасхальные каникулы. Фененко по мере сил старался сохранять верность идеалам молодости. Он мог себе позволить либеральные взгляды, поскольку имел до известной степени независимое положение. От отца, Кролевецкого уездного предводителя дворянства, они с братом унаследовали имение Морозовка и еще кое-какие земельные владения, которые сдавали в аренду местным крестьянам. В крайнем случае, если бы на чиновничьей службе стало совсем невыносимо, следователь мог подать в отставку, уехать в свою Морозовку и вести там ленивую жизнь помещика.
Анатомический театр киевского университета находился далеко от красного параллелепипеда с колонами. Фененко миновал Ботанический сад, пересек широкий Бибиковский бульвар, прошел всю Пироговскую улицу и вступил в рустированное классической архитектуры здание. Анатомический театр был устроен по последнему слову науки. Стеклянная крыша пропускала свет, и даже в ненастный день внутри было достаточно светло. Длинный зал, уставленный тремя рядами цинковых столов, был пуст, и только в дальнем углу несколько студентов в белых халатах склонились над вскрытым трупом. Бесшумно открылась дверь на противоположной стороне, и в зал пружинистой походкой вступил морщинистый старик — декан медицинского факультета Оболонский. Сопровождавший его доктор-прозектор Туфанов свернул к группе студентов, и до ушей следователя донеслись слова:
— Кто вам, господа студиозы, выдал свеженький труп? Эй, служитель! Кому было велено: свежаков беречь!
Пока прозектор разбирался со студентами, декан Оболонский успел облачиться в плотный кожаный фартук.
— Начинаем? — спросил прозектор, присоединившийся к декану.
Оболонский кивнул. Двое служителей внесли носилки с трупом и переложили его на цинковый стол. Следователь впервые видел тело подростка, чьих убийц ему предстояло найти. «Какой он маленький! На вид не скажешь, что ему было тринадцать лет», — жалостливо подумал он. Андрей Ющинский лежал на столе, сложив руки на груди. Курносый нос, скошенный назад лоб и щеки были белыми, без единой кровинки. Короткие веки едва прикрывали глаза, как будто подростка сморило от усталости. Казалось, стоит его окликнуть, как он встрепенется и помчится по своим мальчишеским делам. Но в следующее мгновение следователь заметил на левом виске мальчика множество мелких запекшихся ранок, резко выделявшихся на белой коже, словно свинцовая дробь, рассыпанная на снегу неосторожным охотником. На тонкой шее подростка висел трогательный кипарисовый крестик, а под ним зияла открытая рана, словно дикий зверь вцепился в горло мальчика зубами и безжалостно истерзал его.
Оболонский и Туфанов приступили к наружному осмотру. С мертвого сняли курточку и брюки. Оболонский перечислял расположение и характер ранений:
— На шее с правой стороны от средней линии имеются два овальной формы ссаднения, проницающие в глубину ранения… Сердце отсутствует… Печени нет, имеется лишь левая доля… Мозг в брюшной полости…
— Виноват, где? — изумился следователь.
Прозектор Туфанов досадливо поморщился.
— Все пораженные внутренние органы при первом вскрытии взяты для препарирования. А мозг этот коновал Карпинский засунул в брюшную полость. Черепная коробка тоже в кабинете судебной медицины. Обычное дело. Наверное, вы, как и мои бездельники студиозы, не слишком любите заглядывать в анатомический театр?
Следователь сконфужено отошел в сторонку. Минут через сорок служители унесли тело. Оболонский и Туфанов удалились в кабинет судебной медицины. Фененко застал медиков у стеклянного вытяжного шкафа. Они вполголоса разговаривали, но замолчали сразу же, как только к ним приблизился следователь. На вопрос, что они могут сказать по результатам вскрытия, Оболонский, выдохнув струю сигарного дыма в вытяжной шкаф, ответил, что с учетом пасхальных каникул результаты экспертизы будут готовы не раньше чем через месяц.
— Помилуйте, ваше превосходительство, — всплеснул руками Фененко, — за это время преступник преспокойно скроется!
— Мда… — пожевал губами Оболонский. — Хорошо, с самыми предварительными выводами, так сказать, brevi manu — короткой рукой, ознакомить можно. Что вас, собственно, интересует?
— Имеются ли указания на то, что преступление могло быть совершено на половой почве?
— Гм! На фрагменте ткани, найденной в кармане курточки, есть следы спермы.
— Так я и знал, — закивал головой Фененко. — Сексуальный маньяк! Много их развелось в наше бедовое время!
— Не спешите, господин следователь, — остановил его Оболонский. — Вчера был проведен анализ, показавший, что в сперме содержалось очень небольшое количество живчиков. Это не сперма взрослого, скорее подростка.
Прозектор Туфанов с циничной ухмылкой прокомментировал:
— Мальчишка просто занимался рукоблудием.
Профессор, неодобрительно покосившись на своего помощника, заметил, что причиной действительно мог быть онанизм, которому частенько предаются подростки в период полового созревания. Так или иначе, это к делу не относится. Гораздо важнее, что преступников было несколько. Судя по брызгам крови на одежде, Ющинский был убит в стоячем положении. Его держали вертикально с некоторым отклонением в левую сторону, зажимали рот, вязали руки — по отекам кистей видно, что это было сделано в момент агонии, — и наносили раны колющим предметом. Один человек не смог бы одновременно выполнить все перечисленные операции, следовательно, орудовала группа преступников. Первые удары были нанесены в висок и в шею, затем, через некоторый промежуток времени, мальчику было нанесено несколько десятков ран в правую боковую часть туловища и в спину. При этом мальчика душили, и наконец один из убийц нанес последний удар прямо в сердце, причем с такой нечеловеческой силой, что на коже отпечатался след ручки стилета или швайки, послуживших орудием преступления. Из сорока семи ран, которые насчитали при вскрытии, только рана сердца являлась безусловно смертельной. Это, по французскому выражению, coup de grace — удар из милости. Убийца просто добил свою жертву, чтобы не мучилась.
— Вы в таких подробностях живописуете картину преступления, словно были свидетелем убийства. Но откуда известна последовательность нанесения ран? — спросил следователь.
— Ну, это проще пареной репы, — снисходительно объяснил прозектор Туфанов, — как известно любому медику, признаки последовательности повреждений характеризуются признаками наибольшего кровотечения. Самое обильное кровотечение дали ранения на виске, темени и шее. Следовательно, данная группа повреждений была нанесена еще здоровому организму. Остальные раны кровоточили гораздо меньше, поскольку к этому времени деятельность сердца была значительно ослаблена. Впрочем, все это ерунда, вопрос в другом: зачем преступникам потребовалось все это кровопускание. Я осмотрел органы, положенные в специальный раствор. У Ющинского оказалось «пустое сердце», то есть в самом сердце и в сердечной сумке набралось не более двух чайных ложек крови — редчайшая вещь в моей богатой практике. Будет справедливо утверждать, что мальчик был почти полностью обескровлен.
— Вы подтверждаете слова господина прозектора? — обратился следователь к Оболонскому.
Декан, не переставая выбивать пальцами барабанную дробь, кивнул головой. Следователь взволнованно подытожил:
— Итак, господа эксперты, что мы имеем в результате? Убийц несколько, из мальчика выточена кровь.
— Хуже всего не это, хуже всего …я даже сказать боюсь… — профессор Оболонский остановился и попытался унять нервный тик, перекосивший его рот. — Загвоздка в том, куда делась кровь? На коже ее мало, на одежде незначительное количество, в пещере вовсе нет. Надо полагать, что убийцы тщательно собрали выточенную кровь, возможно, подставляли какие-то сосуды.
— Вы отдаете себе отчет, что это означает в канун Пасхи?
— Прикажете фальсифицировать результаты экспертизы? — желчно осведомился Оболонский и, отбросив сигару, глухо сказал:
— Нет, милостивый государь, против фактов не пойдешь! Убийцы намеренно извлекли всю кровь!
Путь от красного университета до желто-белой громады здания присутственных мест, выходившей одной стороной на Большую Владимирскую улицу, а другой — на сквер перед Софийской площадью, следователь Фененко проделал в подавленном настроении. Когда он миновал вестибюль, вечно наполненный толпой адвокатов в черных фраках с портфелями в руках, и поднялся по гулкой чугунной лестнице в так называемый «прокурорский» коридор, его остановил хлыщеватый, набриолиненный чиновник по особым поручениям и спросил, правда ли, что следователю передано убийство на Лукьяновке?
— Удивляюсь болтливости наших судейских, — с сарказмом заметил Фененко. — Не успел получить дело, как во всех закоулках уже обсуждаются подробности.
— Убийство в канун Пасхи не может остаться незамеченным, — убежденно сказал чиновник. — Помяните мое слово, начнется большая драчка. Вы же знаете, окружной прокурор Брандорф рассчитывал на повышение, но его высокопревосходительство, господин министр юстиции предпочел Чаплинского. Понятно, вашему патрону до смерти обидно. Двум медведям в одной берлоге не ужиться. А тут еще это убийство. Надо полагать, окружной распорядился передать вам дело, чтобы все козыри на руках иметь?
— Покорнейше прошу не впутывать меня в интриги, — сказал Фененко и, холодно поклонившись собеседнику, вошел в кабинет.
Прокурор Киевского окружного суда Брандорф, сидевший за огромным письменным столом, поднял голову и сказал Фененко:
— А, Василий Иванович! Я сейчас заканчиваю.
Присев на краешек стула, Фененко искоса взглянул на своего патрона. Брандорф имел внешность типичного остзейского немца, которые тысячами наполняли казенные учреждения. Бытовала шутка, что у русского царя нет более верных слуг, чем немцы. Они не блистали остротой ума, зато были исполнительными, аккуратными и не выходили из воли начальства. Однако Брандорф являлся редким исключением, ни перед кем не заискивал, взглядов он придерживался самых либеральных и благоволил Фененко, что вызывало зависть у всего состава окружного суда.
Брандорф кончил правку и показал исчерканный черновик.
— Полюбуйтесь, чем приходится заниматься. После ревизии сенатора Нейдгардта день и ночь отписываемся.
Сенаторская ревизия всколыхнула весь чиновный Киев. Открылось множество махинаций. Чего стоил один только сговор между чинами крепостного управления и арендаторами земель, принадлежащих Печерской крепости-складу! По самому скромному расчету угодья должны были ежегодно приносить двухмиллионный доход, на деле же в казну поступило в сто раз меньше. Крали везде и всюду, даже в госпитале для увечных воинов, где, как установила ревизия, на ремонт отхожего места было списано сорок тысяч рублей. По этому поводу повторяли крылатое изречение римского императора Веспасиана «non olet pecunia» — деньги не пахнут.
— Господин сенатор не похож на безупречного рыцаря казенных интересов, — заметил Фененко. — До назначения в Сенат он был градоначальником Одессы и, говорят, таких дел натворил, что избежал уголовного суда только благодаря своему деверю Столыпину.
— Ну, в свете последних событий родственная протекция ему не поможет, — отозвался Брандорф.
Прокурор намекал на только что завершившийся министерский кризис, связанный с введением земства в шести западных губерниях. Председатель Совета министров и министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин протолкнул законопроект через строптивую Государственную думу. В одобрении «Звездной палаты» — так называли Государственный совет, состоявший в основном из отставных сановников, — у премьер-министра сомнений не было. И тут произошло неожиданное — звездоносные старцы зарубили проект, выразив таким способом недовольство политикой Столыпина, и в первую очередь его амбициозными попытками превратить русских крестьян-общинников в фермеров. Премьер-министр не остался в долгу. По его настоянию обе законодательные палаты были распущены на три дня, а во время искусственного перерыва земство ввели высочайшим указом. Скандал получился грандиозным. Брандорф, обожавший разговоры на политические темы, две недели изводил Фененко рассуждениями о подоплеке событий. Вот и сейчас он оседлал любимого конька.
— Триумф Столыпина кажется бесспорным только человеку далекому от политики. На самом деле его эпоха закончена. От него отвернулись даже крайне правые, ранее носившие его на руках. Более того, этим господином недовольны при дворе. В Царском Селе уже собирались подмахнуть Столыпину чистую отставку, но он повел интригу через вдовствующую, или, как ее чаще называют, злобствующую императрицу Марию Федоровну. Она потребовала принять все столыпинские условия. Рассказывают, что наш полковник… — Брандорф с усмешкой кивнул на портрет Николая II в военном мундире, — полковник выскочил от матушки с горящими ушами, словно наказанный за проказы гимназист. Уверяют, что он затаил глубокую обиду. Не удивлюсь, если Столыпина не пригласят на торжества в Киев в конце лета.
Прокурор сделал паузу, давая возможность взвесить его пророчество, а потом от вопросов высокой политики перешел к текущим делам.
— Боюсь только, — сказал он, — как бы торжества в Киеве, со Столыпиным или без оного, не были осложнены преступлением на Лукьяновке. Убийством мальчика постараются воспользоваться крайне правые. Они будут оказывать давление на судебные власти и прежде всего на прокурора судебной палаты Чаплинского, которому в виду его польского происхождения и недавнего перехода из католичества в лоно православия трудненько будет противостоять натиску квасных патриотов. Я поручил вам расследование для предотвращения досужих толков вокруг этого ужасного дела. Что дало повторное вскрытие?
Фененко сжато доложил о беседе с профессором Оболонским:
— Когда он сказал, что из мальчика выточена кровь, я остолбенел, словно на мою голову упал купол анатомического театра.
— Н-да! Неутешительные известия! — нахмурился прокурор. — Необходимо быстрее обнаружить настоящих убийц. Я поручил предварительное дознание начальнику сыскной полиции Мищуку и с минуту на минуту ожидаю его рапорта.
Не успел Брандорф закончить фразу, как на пороге кабинета появился дежурный чиновник, доложивший о приезде начальника сыскного отделения. Прокурор кивнул, и через минуту порог переступил плотно сбитый господин в штатском платье, туго обтягивавшем его грудь и плечи.
— Чем обрадуете, Евгений Францевич? — спросил его Брандорф.
— Счастлив доложить вашему превосходительству, что агентами сыскной полиции задержаны подозреваемые в убийстве мальчика Андрея Ющинского.
— Надеюсь, мотивы преступления не имеют отношения к Пасхе?
— Ни малейшего-с! Задержана мать убитого.
— Слава Богу! Значит, мы имеем дело с сыноубийством. Как вы раскрыли дело? Да вы присаживайтесь, Евгений Францевич, — спохватился прокурор. — Набегались, наверное, по городу.
— Привычка-с. Служба в сыскной полиции такая, что по кабинетам прохлаждаться не приходится.
«Камешек в мой огород», — подумал Фененко. Начальник сыскной полиции слыл столичной штучкой и третировал киевлян как провинциалов. В Киеве он появился после фантасмагорической эпопеи заведующего сыскной полицией Спиридона Асланова, при котором сыщики вступили в сговор с грабителями, наводя их на верные места, в основном на магазины торговцев, имевших глупость обратиться за помощью к полиции. Вскоре Асланову показалось невыгодным делить барыши с преступниками, и сыщики принялись грабить сами. Нельзя было различить, где кончалась сыскная полиция и начиналась воровская шайка. Когда его отдали под суд, департамент полиции рекомендовал на должность начальника сыскного отделения молодого петербургского сыщика Мищука. Первые полгода он занимался чисткой сыскного отделения, и не всем понравилось его самоуправство. Судебному следователю он тоже казался излишне самоуверенным и вульгарным.
Вот и сейчас Мищук развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Фененко никогда не позволял себе подобных вольностей в прокурорском кабинете, зная, что Брандорф при всем его либерализме был истым немцем, впитавшим субординацию с молоком матери. Мищук же, небрежно попросив разрешения закурить, достал тяжелый серебряный портсигар и продемонстрировав всем (как делал каждый раз) крышку с благодарственной надписью петербургского градоначальства. «Ох, нарывается Мищук!» — подумал Фененко.
— Дельце-то оказалось простеньким. Впрочем, по порядку, — начал начальник сыскной полиции.
Из его рассказа следовало, что ключом к разгадке явилось объявление о пропаже подростка Андрея Ющинского, опубликованное его матерью в газете «Киевская мысль». Означенное объявление принимал конторщик редакции Шимон Барщевский, показавший следующее: «С первого же слова женщины, назвавшейся матерью Ющинского, мне показалось странным ее отношение к факту исчезновения сына. В то время, как обычно в таких случаях матери, являющиеся в редакцию сообщать о пропаже детей, всегда плачут, крайне расстроены и поведением своим ясно высказывают горечь утраты, Ющинская относилась к случаю крайне равнодушно, говорила спокойно, точно дело шло не об исчезновении мальчика, а о факте, не имеющем серьезного значения. Я спросил, нет ли подозрений, чтобы Ющинский мог куда-нибудь уехать. Ющинская категорически опровергла такое предположение. Затем я попросил указать адрес, по которому можно было бы сообщить о месте нахождения ребенка или же доставить его лично. В ответ на это мужчина, бывший с Ющинской, улыбнулся и сказал, что это, мол, все равно — куда сообщить, — можно в полицию, или в училище. Я все время был под странным впечатлением того, что здесь что-то неладно: слишком уж безразлична была эта мать, а несколько раз повторявшиеся улыбки показались мне совсем неуместными».
— Барщевский прибежал к нам, — подытожил начальник сыскной полиции. — Мы воспользовались его наводкой и задержали мать убитого Александру Приходько.
Начальник сыскного отделения выяснил, что Андрей Ющинский был незаконнорожденным — байстрюком, как говорили в народе, потому носил девичью фамилию матери. Через несколько лет после его рождения Александра вышла замуж за переплетчика Луку Приходько. Для отчима мальчишка был бельмом на глазу, Александра родила от Приходько сына и всю ласку перенесла на законного ребенка. Андрея Ющинского воспитывала его тетка, владелица коробочной мастерской. Она единственная в семье, кто имел более или менее постоянный заработок.
— Тетка в последнем градусе чахотки. Мать и отчим люди бедные, к тому же Александра Приходько опять брюхата, и лишний рот им не прокормить. Логично предположить причастность к преступлению отчима. Но он постарался обеспечить себе убедительное алиби. Всю неделю, предшествующую обнаружению тела мальчика, работал в переплетной мастерской, даже ночевал у верстака. Алиби подтверждают хозяин мастерской и два работника. Так что убивала одна мать, хотя при несомненном подстрекательстве со стороны мужа.
— Но могла ли Александра Приходько в одиночку нанести такие жестокие раны? — усомнился Фененко. — Судебные медики утверждают, что мальчик был убит несколькими преступниками.
— Что там толковать о судебных врачах! — небрежно отмахнулся начальник сыскного отделения. — Мы, сыщики, тоже кое в чем разбираемся, хоть медицинских факультетов не кончали-с. Обратите внимание на характер поранений. На теле Ющинского множество поверхностных неглубоких ран, в сущности, порезов и царапин. Знаете, о чем это свидетельствует? Еще покойный Путилин наставлял…
При упоминании этой фамилии прокурор и следователь переглянулись. Путилина прозвали «черным сыщиком» за участие в аресте Чернышевского и помощь писателю Крестовскому, печально известному своими антинигилистическими и антисемитскими романами. Но Мищук не разбирался в подобных тонкостях. Он обожал по поводу и без повода рассказывать о похождениях черного сыщика.
— Путилин учил своих сотрудников, что если на теле множество поверхностных ран, то шерше ля фам, — с невозможным выговором произнес Мищук. — Значит, орудовала женщина. Бабы бьют куда ни попало, беспорядочно и всегда изрежут свою жертву почем зря.
Прокурор обратился к следователю:
— Что скажете, Василий Иванович? Основательная версия?
— Трудно сказать до официального допроса.
— Однако дельце надобно округлить сегодня же, чтобы на Пасху гора с плеч. Не откажите в любезности съездить в сыскное и непременно добейтесь признания от этой… э-э…
— Александры Приходько, — подсказал прокурору Мищук. — Я, ваше превосходительство, все подготовил-с. В сыскном нас ожидают свидетели — бывшие соседи Приходько по Лукьяновке. Они обрисуют неприязненные отношения между матерью и сыном.
Экипаж начальника сыскной полиции был запряжен могучими рысаками. Между чинами киевской полиции издавна шло негласное соревнование за обладание лучшей упряжкой. Правдами и неправдами устраивались добавочные ассигнования для приобретения призовых скакунов. У следователя перехватило дух, когда экипаж понесся по городским улицам. Вскоре кучер осадил храпящих лошадей у здания сыскного отделения. В коридорах сыскного отделения всегда было полно посетителей. Среди картузов и ситцевых платочков мелькали цилиндры профессиональных шулеров и шляпки дам, приехавших заявить о пропаже любимой собачонки или кошечки. В сыскном служили несколько сыщиков, специализировавшихся по розыску домашних животных, но это, конечно, было лишь самым милым и незначительным из дел сыскной полиции. Фененко подумал, что надо отдать должное Мищуку. Он завел ряд усовершенствований, в частности антропометрический кабинет, где использовался метод начальника парижского бюро идентификации Альфонса Бертильона. Арестованным измеряли череп, длину правого мизинца и левого уха, размер ступни и цвет радужной оболочки. Заведующий кабинетом заносил данные в картотеку и через самое короткое время объявлял какому-нибудь бродяге, не помнящему родства и имени, что он является крестьянином такой-то губернии, уезда и волости и судился тогда-то и тогда-то.
Возле кабинета начальника отделения толпились свидетели, доставленные с Лукьяновки. Все они казались забитыми и робкими, кроме смуглой молодой женщины, смело взглянувшей в глаза следователю. Фененко прошел в кабинет и расположился за столом начальника. Свидетелей вводили по очереди, и следователь расспрашивал каждого про Андрея Ющинского. Лукьяновских обывателей было нелегко понять, потому что они изъяснялись на ужасном суржике, представлявшим собой дикую смесь русских, малороссийских и еще каких-то особенных слов, понятных только живущим на киевских окраинах. Следователю приходилось ломать голову над тем, как облечь их не ведавшие грамматики и логики выражения в казенные фразы, из которых состоял протокол. Из свидетельских показаний можно было уяснить, что семья Нежинских-Ющинских сначала жили на Лукьяновке, а потом перебрались за Днепр, поскольку пронесся слух, что в Слободке якобы будут бесплатно давать участки для застройки. Конечно, слух оказался безосновательным, но семья так и осталась жить за Днепром. Следователь отметил одну ценную деталь. Все лукьяновские обыватели в один голос утверждали, что Андрей Ющинский и Александра Приходько были совсем чужими друг другу. Мальчик даже называл родную мать Сашкой.
Вереницу лукьяновских свидетелей замыкала смуглая женщина, похожая на цыганку. Пока Фененко записывал показания, в коридоре то и дело слышался ее громкий, хрипловатый голос. Она никому не давала спуска колкими репликами и замечаниями. Но когда она вошла в кабинет, ее манеры мгновенно изменились. Фененко понял, что она может принимать разные обличья и репертуар ее неистощим. Сейчас она разыгрывала роль светской дамы. Задав обычные формальные вопросы, следователь узнал, что свидетельницу зовут Верой Владимировной Чеберяковой, или Чеберяк, как привыкли сокращать в просторечии. От роду ей было двадцать восемь лет. Вера Чеберяк с гордостью объявила, что является дворянкой. Фененко не стал оспаривать, но в протоколе сделал приписку: «дворянка, со слов свидетельницы».
— У меня трое детей, — поведала Вера Чеберяк. — Приблизительно года четыре назад сын мой Женя, большой любитель погулять, вернулся домой с громадным букетом цветов, и когда я спросила, откуда он взял эти цветы, он сказал, что познакомился на лугу с мальчиком Андрюшей и они вместе с ним собирали цветы. Вот с этого дня и началось их знакомство, вскоре перешедшее прямо в дружбу.
Вера Чеберяк показала, что обычно Андрей заходил за Женей, и они бежали поиграть на Загоровщину. Вскоре свидетельница познакомилась с матерью мальчика. По ее словам, Сашка Приходько была очень вспыльчивой, когда дралась со своей сестрой Натальей, у нее просто изо рта выступала пена. Ссоры между сестрами происходили из-за незаконнорожденного ребенка. Наталья очень любила племянника и защищала его от матери, которая впадала в такое остервенение, что била сына тем, что первое попадало под руку. Однажды она с такой силой ударила Андрюшу палкой, что тот потерял сознание и еле оклемался.
— Мне кажется, — доверительно поделилась секретом Вера Чеберяк, — что и смерть сына она восприняла как-то необычно: не плакала, ни убивалась, а только краснела и бледнела. И еще, она странно вела себя у пещеры, где нашли бедного мальчика. Я соседка, человек посторонний, и то полезла внутрь, чтобы опознать Андрюшу, а она даже не захотела войти туда и выражала полную уверенность, что в пещере ее сын. Когда я подошла к ней со словами сочувствия: «Саша, тяжелый вам выпал крест», она ответила, что у Андрюши и должна была быть именно такая смерть.
— Позвольте! — остановил ее Фененко, — из протоколов полицейского дознания следует, что Александра Приходько не присутствовала при обнаружении тела своего сына.
— Я с ней на другой день говорила, когда она пришла из-за Днепра. Ей Богу, она не хотела лезть в пещеру.
— У вас очаровательная женская логика, — улыбнулся Фененко. — Зачем же Александре Приходько надобно было это делать, если труп ее сына к тому времени уже увезли в анатомический театр?
— Но палкой-то она Андрюшу лупила, — капризно надула губки Вера Чеберяк.
В дверь постучали.
— Господин следователь, Александра Приходько готова.
— Сейчас заканчиваю допрос.
— Ой, а вы меня проводите до выхода? — попросила Вера Чеберяк, кокетливо играя темными глазами. — Я такая трусиха, а здесь полно воров и разбойников.
«Слышал я, милочка, как ты шуточками с сыщиками перебрасывалась. Навряд ли тебя кто-нибудь испугает», — весело подумал Фененко, шаркнув ногой и подставив женщине согнутый локоть. Вера Чеберяк жеманным жестом взяла следователя под руку и вышла с ним в коридор. На полутемной лестнице она споткнулась и так крепко прижалась к нему грудью, что у следователя перехватило дыхание. Возвращаясь в кабинет, Фененко наткнулся на изможденного человечка, нервно теребившего свою рыжую козлиную бороденку.
— Пан добрий, будьте ласкави! Я Лука Приходько, муж Сашкин. Чому мою жинку арестовали? Де ж та правда в свити? Моя жинка с брюхом!
— Против вашей жены имеются веские подозрения, — объяснил следователь. — Кстати, говорят, что вы также очень плохо обращались с пасынком.
— Хиба ж вы не знаете, якие поганы люди на Лукьяновке? Им злоба очи застит из-за грошей.
— Из-за денег? Что вы имеете в виду?
— Яких грошей, не розумию, — испуганно забормотал Приходько, шарахнувшись в сторону.
Следователь вошел в кабинет, размышляя о появлении Луки Приходько. Переплетчик страшно не понравился ему своей неискренностью и несомненным испугом. Правда, для убийцы он был слишком издерганным. Однако, когда в его камеру привели Александру Приходько, он подумал, что супруги вполне могли составить преступную парочку. Переплетчик скорее всего был организатором убийства, а его жена исполнителем. Не то чтобы ее внешность внушала ужас. Напротив, ее одутловатое лицо было совершенно обыкновенным. Но Фененко знал, что подобные женщины страшны тем, что беспрекословно подчиняются преступной воле, не испытывая ни жалости, ни угрызений совести. При взгляде на ее широкие плечи и мужицкие руки, лежащие на огромном животе, можно было убедиться, что она способна одним ударом оглушить вола.
Допрашиваемая деревянным голосом отвечала, что звать ее Александра Приходько, отчества нет, незаконнорожденная, от роду тридцать два года, православная, мещанка, неграмотная, замужем за переплетчиком Лукой Приходько, занимается домашним хозяйством, летом торгует с лотка зеленью и яблоками. Андрюшу, был грех, родила в девицах. Последний раз видела сына живым утром в субботу 12 марта. Она налила ему миску постного борща и проводила в бурсу. Домой он не возвратился.
— Из чего вы варите борщ?
— Як у всих. Бураки, бульба.
Следователь сразу припомнил первый протокол вскрытия, в котором было отмечено, что в желудке убитого обнаружены непереваренные куски картофеля и свеклы. Значит, мальчик был убит вскоре после ухода из дома. Или он никуда не выходил?
— В распоряжении судебных властей имеются данные, что между вами и вашим сыном установились неприязненные отношения.
— Шо? — вяло откликнулась Александра.
— Вы били сына?
— Дочиста розбрехали! Хто вам наговорив оце?
— Ваша соседка Вера Владимировна Чеберякова.
— Брешет шалава!
Фененко сделал паузу. Что-то ему подсказывало, что надо внимательно приглядеться к одежде женщины. Он нажал кнопку звонка. В кабинет заглянул Мищук.
— Евгений Францевич, будьте любезны пригласите сюда даму.
— Даму? — озадаченно переспросил начальник сыскной полиции. — Из женского пола здесь жена истопника, она завсегда нам помогает проституток обыскивать. А зачем? — тут он перехватил взгляд следователя, хлопнул себя по лбу, выскочил из кабинета и через пять минут вернулся с женщиной, держащей в руках серый арестантский халат.
— Ваш муж упомянул, что ваши соседи завидуют деньгам, — обратился следователь к Приходько. — Объясните, что он имел в виду?
— Вы с мени смиетесь! Якие гроши?
Не меняя унылого выражения лица, Александра Приходько привычно повторяла, что они люди бедные. Заработка хватает только на харчи. У нее даже нет кожуха, всю зиму пробегала во фланелевой юбке и старой кофте.
— Две недели назад вы были в этой же юбке? — вкрадчиво поинтересовался следователь.
Предчувствуя, что сыноубийца попалась в ловушку, Фененко вежливо попросил позволения осмотреть её одежду. Начальник сыскной полиции подал знак своей помощнице. Она подошла к Приходько и накинула на ее плечи халат. Фененко и Мищук деликатно отвернулись.
— Готово, — доложила истопница.
Приходько сидела в халате, недоумевая, зачем следователь и начальник сыскного отделения мнут в руках ее юбку.
— Сударыня, — возобновил допрос следователь, — благоволите объяснить происхождение бурых пятен на вашей одежде.
— Бис його видав! — пожала широкими плечами Приходько.
— Вы поймите, экспертиза легко установит происхождение пятен. Знаете, что такое экспертиза? Ученые люди возьмут вашу одежду, соскребут частичку пятна, капнут одной жидкостью, потом другой, и в результате будет ясно, кровь это или что-то иное.
— Може, юшка, — забеспокоилась Приходько. — От вже точно! Курку ризала.
По словам Александры Приходько, она купила на базаре курицу, отрубила ей голову, но неудачно. Безголовая птица вскочила, начала судорожно метаться по кухне и все забрызгала кровью.
— Давно это было? — участливо спросил Фененко.
— Неделю чи две.
— Вы православная?
— А то як же?
— Зачем же вы резали курицу в Великий пост?
— Ой, я така затуркана, така затуркана! — запричитала Приходько. — Ось зараз кажу, тильки дайте трохи подумати.
По её узкому лбу, наморщенному от непривычной мыслительной работы, следователю было ясно, что подозреваемая отчаянно пытается придумать правдоподобное объяснение. Но она ничего не придумала и внезапно заявила, что курицу резала давным-давно, а кровь на юбку попала после того, как у нее из носу пошла кровь. Со слов Приходько, она часто страдает подобными кровотечением и падает в обморок. Следователь покачал головой.
— Кровь из носа прежде всего должна была попасть на кофту. Почему на кофте нет пятен, а на юбке есть?
— Ой, вспомнила, то я палец поризала.
— Покажите руку. Где след от пореза?
— Ой, не чапайте вы мени, ой, отщепитесь ради Христа! — во весь голос зарыдала Приходько. — Не я винна.
— Тэк-с! — произнес Фененко. — Ну, что ж! Юбку мы направим на экспертизу, а вам, сударыня, я объявляю, что вы подозреваетесь в сыноубийстве.
— Ой, чула я биду! Чоловику теж сказала, шо посадят нас за Андрюшку! — с этими словами Александра Приходько рухнула со стула и забилась в припадке.
Глава вторая
27 марта 1911 г.На старокиевских горах возвышалось вычурное здание в готическом стиле, походившее на средневековый замок Ричарда Львиное Сердце или Рене Доброго. На самом деле это был недавней постройки доходный дом. В барской восьмикомнатной квартире на четвертом этаже обитала семья Степана Тимофеевича Голубева, ординарного профессора Киево-Могилянской духовной академии по кафедре обличения раскола. Сын профессора Владимир Голубев, двадцатилетний студент-юрист и секретарь патриотического общества молодежи «Двуглавый орел», проснулся поздно. По тишине в квартире он понял, что все ушли к ранней обедне. Владимир сбросил длинную ночную рубашку и облачился в полосатое гимнастическое трико, выкатил из-под кровати штангу и несколько раз кряду поднял ее над головой. Каждый месяц Голубев подсыпал в шары на концах штанги новую горсть картечи и уже дошел до шести пудов. Ощущая приятную усталость в мышцах, он прихватил с собой мохнатое полотенце и отправился в ванную, где, повернув ручку медного крана, наклонился над фаянсовой раковиной, подставил шею под ледяную струю, а потом крепко растерся полотенцем. Вернувшись в комнату, он надел темно-зеленый суконный мундир с синим воротником и обшлагами и просунул в разрез с левой стороны короткую шпагу без темляка и портупеи. Почти игрушечная студенческая шпага была предметом тайной гордости Голубева, и он искренне сожалел, что носить шпагу полагалось только по табельным дням или в особых случаях, как сегодня. Была бы его воля, он давно бы сменил студенческий мундир на красивую гусарскую или уланскую форму.
Проходя мимо трюмо, студент поправил на груди серебряный значок «Двуглавого орла». В зеркале отразился красивый юноша, красивый не утонченной декадентской бледностью, сводившей с ума интеллигентных барышень, а простонародной свежестью и здоровьем. Владимир походил на парубка из казачьей станицы, с румянцем во всю щеку, с васильково-голубыми глазами, с прямыми русыми волосами и маленькими усиками. Впрочем, о своей внешности он заботился мало и от души презирал студентов-белоподкладочников, таскавших в карманах полный набор всяких щеточек, ножниц и щипчиков.
Еще в коридоре Владимир услышал характерное покашливание, означавшее, что прихворнувший отец не пошел вместе с домашними к обедне, а остался дома. Голубев-старший сидел за накрытым столом, одной рукой держа перед собой газету, а другой помешивая ложечкой в стакане.
— Здравствуйте, батюшка! — сказал Владимир, целуя отцовскую руку.
— А, Володенька, — оторвался от газеты отец. — Поздненько встаешь, вьюноша. Не обессудь, завтракать придется без прислуги. Tarde veientibus ossa — приходящим поздно достаются кости, как говаривали древние.
— Все едино, Великий пост, выбирать не из чего. О камбале и прочих яствах мечтать не приходится, — балагурил Владимир, накладывая на тарелку изрядный ломоть осетрины.
— Камбала! — негодующе фыркнул старый профессор. — С жиру бесятся наши миллионщики. Выписывают заморскую рыбу. Что в ней, в этой камбале?
— Не знаю, не пробовал. Рассказывают, вкус необыкновенный.
В облике профессора до сих пор угадывался семинарист, некогда обладавший недюжинной телесной мощью и горячим нравом. Из-за острого языка Голубев-старший почти четверть века просидел в приват-доцентах. Он считался опасным вольнодумцем и по доносу был вызываем пред очи обер-прокурора Святейшего Синода. Как ни смешно, вскоре его из вольнодумцев записали в отъявленные мракобесы, хотя он не менял своих убеждений. Старший Голубев только иронически качал головой: «О, сыны века сего, по ветру нос держащие!» Лишь на склоне лет Голубев достиг профессорского звания, а вместе с ним и материального достатка, позволившего снять барскую квартиру. Не желая вновь впасть в унизительную бедность, профессор взвалил на себя непосильную ношу, читая лекции сразу в нескольких учебных заведениях. Помимо безбрежных энциклопедических познаний, профессор обладал удивительным здравомыслием. В первые дни после переезда на новую квартиру домочадцев пугал негромкий, непонятно откуда доносящийся вой. Обитатели дома со страхом рассказывали, что по ночам встречали на лестницах завывающего призрака. Говорили, что призрак похож на подрядчика, разорившегося после постройки замка. По слухам, он покончил жизнь самоубийством и бродит неприкаянным по лестницам. Выслушав эти разговоры, профессор вздохнул и занялся осмотром вентиляционных каналов, спрятанных в стенах. Вскоре он с усмешкой выложил перед сыновьями несколько пустых гусиных яиц, каждое с двумя небольшими отверстиями. Пустая скорлупа, в которую через отверстия попадал ветер, издавала пугавшие весь дом звуки. Наверное, каменщики таким хитрым способом отомстили подрядчику, не заплатившему им за работу.
Отбросив в сторону газету, старый профессор с омерзением сказал:
— Не могу читать эти либеральные сопли! «Киевскую мысль» впору переименовать в «Киевскую микву»!
— Что за миква такая, батюшка?
— Особый водоем для ритуальных омовений. Жиды в нем смывают разную пакость, точь-в-точь как в этой поганой газетенке. Виноват, забылся! Простите мне lapsus lingaue — оговорку. Знаешь, Володенька, твоего отца на старости лет просветили, что культурный человек обязан говорить не «жиды», а «евреи». Так сказать, одним махом посрамили великую русскую литературу, ибо Пушкин, Лермонтов, Гоголь слово «жид» употребляли. Видать, от бескультурья! Позвольте только заметить, что «жид» — это славянская форма латинского слово «judas», то есть слова «иудей»; тогда как слово «еврей», образованное от арамейского «ibra» и латинского «hebraeus», является редким и книжным. Между прочим, мне один коллега из Праги, профессор Карлова университета, отписал о прекурьезнейшей истории: тамошние прогрессисты начали жидов евреями величать. И оконфузились, поелику по-чешски жид — «zid», равно как по-польски «zydowin», звучат нейтрально, а вот слово «еврей» воспринимается как оскорбление.
Откинувшись в кожаном кресле, профессор помолчал. Потом он спросил сына, куда тот собрался при таком параде, и услышав, что на похороны Андрея Ющинского, обеспокоенно попросил:
— Умоляю, Володя, не попади в историю. Больно ты горяч!
— Не беспокойтесь, батюшка!
Владимир поцеловал отцовскую руку, вышел в прихожую и нашел на вешалке свою шинель. Зимой студентам предписывалось носить теплое пальто с темно-синими петлицами, но Голубев уговорил родителей построить ему серую шинель офицерского образца. Накинув на плечи шинель, он выбежал из квартиры. Его буквально распирало желание двигаться: каждая клеточка тела ощущала наступление весны. Он помчался вниз, перепрыгивая сразу через три ступеньки, и выскочил на открытую площадку, огороженную балюстрадой.
По левую руку от него возвышалась грациозная Андреевская церковь. Владимир снял студенческую фуражку и с благоговением перекрестился на парящие в воздухе золотые кресты. Его приводила в волнение мысль, что он живет в нескольких десятках саженей от вершины холма, на коем апостол Андрей Первозванный водрузил крест и предрек, что от сего места воссияет христианская вера, а Киев станет матерью городов русских. Однажды Владимир спросил отца, правду ли пишут, будто предание об апостольском путешествии на берега Днепра расходится с данными науки. Отец усмехнулся: «На самом деле киевляне домонгольского периода вообще не указывали на определенное место, и только в семнадцатом веке, когда это забытое предание вновь ожило под влиянием борьбы с латино-униатами, киевляне начали ссылаться на слухи „яко же повесть обносится“ о водружении апостольского креста в нагорной части северо-восточного угла Старого Киева. А вот на каком холме произошло сие чудо, неведомо никому».
И что из того! Ведь пророчество исполнилось, хотя и не сразу. Сначала на вершине холма было языческое капище, где пред истуканом Перуна день и ночь полыхал костер из дубовых дров. Киевляне, не знавшие истины христианского учения, приносили в жертву идолу своих сынов и дочерей. «И осквернились кровью земля русская и холм тот». Потом святой, равноапостольный князь Владимир повелел разорить языческие капища, Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по древнему Боричеву взвозу, в коем многие ученые усматривают нынешний Андреевский спуск, и приставил двенадцать мужей колотить его палками. В «Слове о полку Игореве» упоминается, как князь едет по взвозу: «Девицы поют на Дунае. Вьются голоси чрез море до Киева». Студент ревниво подумал, что на Дунае, исконно русской реке, даже духу не должно быть немцев, мадьяров, румын. Любимой книгой Голубева был фантастический роман Сергея Шарапова «Через полвека». Герой этого романа внезапно переносится в далекий 1951 год и узнает, что Русская империя включает Восточную Пруссию, Австрию, Чехию, Моравию, Венгрию, Сербо-Хорватию, Болгарию, Грецию, Афганистан и Персию. Одной из столиц империи является Царьград, а другой — Киев. «Очень может быть, — рассуждал Владимир. — Все знают, что через полвека нас, русских, будет четыреста миллионов, мы превратимся в самый многочисленный народ на свете. И где же быть столице, как не в Киеве, матери городов русских! И где же, если не на этой овеянной легендами горе, будет центр православного мира! Холм оденут мрамором, лестницы вымостят яшмой и сердоликом, а Андреевскую церковь и украшать не надо — до того она прекрасна!»
Он перевел взор направо. С открытой площадки открывался живописный вид на Подол. Нижний город лежал как на ладони. Подол был совершенно плоским, и только одна пятиэтажная кирпичная громадина нависала над набережной. Её ломаную крышу венчала башенка. Своей мрачной, подавляющей архитектурой здание напоминала готический храм, отчего киевские остряки прозвали его «Нотр-Дам де Подол». На самом деле кирпичная громадина являлась паровой мельницей, окруженной зернохранилищем, складами и подсобными помещениями. Рядом с мельницей торчала высокая труба, из которой валил дым. Коптящая труба портила весь вид на Подол, разлившийся Днепр, Труханов остров и заливные луга за рекой. Голубева передернуло. Отсюда, с Верхнего города, разумеется, нельзя было разглядеть вывеску, но Голубев досконально знал, что на ней написано: «Киевская паровая мукомольная мельница акционерного общества «Лазарь Бродский».
Поговорка «Богат как Бродский» вошла в повседневный обиход. Предком Бродских был Меир Шор из местечка Броды. Его потомки назывались Бродскими. Одному из них — Израилю Бродскому — пришла в голову счастливая мысль заняться переработкой сахарной свеклы. Он сказочно обогатился, перебрался в Киев, стал негоциантом. Сахарный король имел трех сыновей: Лазаря, Льва и Соломона. Про Соломона говорили, что он страдал психическим расстройством и состоял под опекой братьев. Лазарь унаследовал отцовскую деловую хватку и весьма приумножил семейные капиталы. Его интересы не ограничивались торговлей сахаром. Он возвел паровую мельницу, основал два пароходства, пивоваренную компанию, состоял председателем правления нескольких банков и обществ взаимного кредита. На его средства была построена хоральная синагога, содержалась образцовая еврейская больница, ремесленная школа для еврейских детей.
Когда Лазарь Бродский скоропостижно скончался за границей, куда ездил навестить дочь, еврейская община Киева погрузилась в траур. Старый профессор рассказывал сыновьям, что в похоронной процессии за гробом негоцианта, на коем покоились серебряные венки, шествовали генерал-губернатор и все важнейшие губернские чины. Конечно, нельзя было не признать заслуг Бродского по части богоугодных заведений, однако в конце концов сахарный магнат пожертвовал на благотворительные цели лишь малую толику миллионных доходов. Профессор Голубев вздыхал: «Что же касается наших либералишек, то правильно о них писал Достоевский — заступаются они за жидов потому, что когда-то это было и ново и смело. И какое дело этим, по выражению писателя, „людям отвлеченным“, до того, что сейчас уже жид торжествует и гнетет русского? Не хотят они видеть, что жид распространяется с ужасающей быстротой».
Студент был полностью согласен с отцом. Резвые ноги сами несли его вниз по Андреевскому спуску, а ему представлялось, что Киев изнемогает от вражеской осады. Еще немного и на городские улицы хлынут потоки завоевателей. Повсюду: на базарах, на бирже, в мелочных лавках и в шикарных магазинах мелькали лица чужеземцев с крючковатыми носами и черными бородами. Когда звучала их пронзительная нерусская речь, Владимиру чудился описанный в летописи устрашающий рев верблюдов, скрип телег и ржание табунов Батыевой орды, из-за которых киевляне не могли услышать друг друга. Еврейское нашествие казалось ему даже хуже татарского ига, потому что татары пришли и ушли, а тьма египетская, нахлынувшая в город из самых глухих дыр черты еврейской оседлости, навсегда пристраивалась к теплым местам. Евреи прибрали к рукам хлебную торговлю и питейный промысел, им принадлежали почти все ювелирные магазины, часовые мастерские и аптеки.
Они наступали, а русским людям не хватало сплоченности. Владимир постоянно убеждался в этом на собственном примере. Как-то, узнав, что Юго-Западная железная дорога принадлежит акционерному обществу, которым заправляют евреи, он отказался ехать на поезде и отшагал сорок верст по шпалам. Над этим поступком посмеялся даже родной брат Алеша. И чего смеялся? Если бы русские начали бойкотировать еврейские дороги, лавки и склады, иудейское племя мигом бы разорилось.
Пока Голубев шагал вниз по улице, его окликнули откуда-то сверху:
— Эй, Конинхин! Куда путь держишь?
Голубев покрутил головой и увидел, что поравнялся с домом необыкновенной постройки — двухэтажным со стороны Андреевского спуска и одноэтажным со двора. Из окошка дома высунулась голова Михаила, товарища братьев Голубевых по Первой гимназии.
— Салют, Мишка! Спешу на похороны Ющинского. Присоединяйся!
— Где там! Мы ведь на медицинском не такие вольные птицы, как вы на юридическом. Экзамены на носу. Самому Оболонскому сдавать будем, и прозектор Труфанов постоянно цепляется. Конечно, медику не обойтись без знания анатомии, но я все же собираюсь стать венерологом, а не патологоанатомом. Я думал, ты на ярмарку. Хотел прогуляться, а то башка пухнет от зубрежки.
— Если хочешь проветриться, выходи. Только мигом, я уже опаздываю.
Через минуту студенты бежали вниз по неровному булыжнику Андреевского спуска, увлеченно перебрасываясь воспоминаниями о гимназических годах. Два-три года назад Владимир частенько ругался с товарищем, давшим ему прозвище Конинхин. Произошло оно от того, что во время самозабвенных игр в конницу «кишата», как называли гимназистов младших классов, залезали на плечи более рослых товарищей, и Голубеву, который был на голову выше сверстников, всегда доставалась роль коня. Михаил не только Голубеву приклеил кличку, он обожал дразнить всех учащихся первого отделения.
Между двумя отделениями гимназии шло постоянное соперничество. В первом отделении, где в основном учились отпрыски богатых и влиятельных киевлян, считалось особенным шиком прокатиться на лихаче в Шато-де-Флер и быть в курсе котировок всех более или менее примечательных кокоток. Знать что-нибудь сверх учебников было вовсе необязательно и даже неприлично. Второе отделение, напротив, щеголяло поголовным участием в естественнонаучных и литературных кружках. После экзаменов на аттестат зрелости неприязнь между отделениями уступила место своеобразному братству Первой гимназии, к тому же в университете Голубев отошел от своих аристократических товарищей, так как средний достаток семьи не позволял ему вести рассеянный образ жизни, типичный для студента-драгуна. И теперь он был рад встрече с товарищем по гимназии, тем паче, что их отцы когда-то вместе профессорствовали в Киево-Могилянской академии.
Всю дорогу Михаил напевал под нос задорный куплет:
— Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей!
— Если не ошибаюсь, это из «Льва Гурыча Синичкина»?
— Верно! Только я переделал: «Его превосходительство любил домашних птиц и брал по покровительство хорошеньких девиц».
— Так смешнее! — согласился Голубев.
Миновав церковь Николы Доброго, молодые люди оказались на обширной Контрактовой площади, уставленной грубо сколоченными балаганами. Холщовые шатры и навесы тянулись от старинного Контрактового дома, заклеенного объявлениями, до Самсоньевского фонтана, где обнаженный Самсон разрывал пасть худосочному льву. Предпасхальная ярмарка поражала своим изобилием. Здесь можно было заранее купить все скоромные продукты, необходимые для разговения после Великого поста. Майдан на Подоле был весь заставлен рундуками, наспех сколоченными из досок. Восточный человек продавал цветастые шали, татары стояли за рундуками, заваленными горами казанского мыла, тут же торговали мануфактурой и сапогами. Всякий расхваливал свой товар, не обращая ни малейшего внимания на печальный звон Братского монастыря.
Вдруг студенты увидели молодого щеголя, бесцельно разгуливавшего среди толпы на майдане. Они сразу вспомнили его бледное асимметричное лицо, потухшие глаза за тонким золотым пенсне и капризно задранную верхнюю губу. Он тоже являлся воспитанником Первой гимназии, учившимся несколькими классами старше. Его прозвали Митькой-буржуем, потому что богатые родители давали ему на карманные расходы больше, чем получал жалования учитель гимназии. С той же презрительной миной на лице, с какой он расхаживал по гимназическому двору, Митька-буржуй зашел в балаган-паноптикум.
— Он, поди, на голую русалку глазеет. Догоним его! — заговорщически зашептал Михаил.
— Да ну!
— Пойдем, пойдем! Поднимем его на смех.
Паноптикум был разгорожен ширмами на несколько помещений. В одном из закоулков мелькнуло Митькино пальто. Студенты подкрались на цыпочках, чтобы застать бывшего одноклассника врасплох. Их замысел почти удался, но в самую последнюю секунду, когда они собирались заулюлюкать, Митька-буржуй услышал за спиной шорох и обернулся. Его белое лицо исказила судорога, пенсне упало и повисло на витом шнурке. Но студенты оторопели еще больше. В Митькиной руке отливал вороненой сталью браунинг, а у ног раскинулся труп в синем фраке. Губы убитого были сложены в сардоническую улыбку, по белоснежной манишке стекала густая струя крови.
На несколько мгновений вся группа застыла в немой сцене. Первым опомнился Митька-буржуй. Он пробормотал что-то сквозь зубы, сунул браунинг в карман и быстрым шагом выбежал из паноптикума. Студенты глянули друг на друга, перевели взор на распростертую на полу фигуру и безудержно расхохотались. Восковая кукла президента Французской республики Сади Карно, пронзенного анархистским кинжалом, была таким же персонажем паноптикума, как русалка с чешуйчатым хвостом и горилла, похищающая девушку.
— Митька-то! Ой, не могу! — согнулся в три погибели Михаил. — С браунингом! В воскового президента целился! Чай, террористом себя воображает!
— Он бы в штаны наложил в ста саженях от любого министра. Кушак в кармане! — надрывался Владимир.
Все воспитанники Первой гимназии отлично знали, что означают слова «кушак в кармане». Раз в году между первым и вторым отделениями происходило генеральное сражение. В условленное время раздавался разбойничий посвист, гимназисты сбегались в сад, несколько минут шла взаимная бомбардировка каштанами, после чего сходились врукопашную. Дрались все, кроме слабосильных и малодушных, коим гимназический кодекс чести предписывал снимать кушаки. Митька-буржуй первым прятал кушак, презрительно цедя сквозь зубы, что считает кулачную потасовку ниже своего достоинства.
Когда юноши отсмеялись, Голубев заметил:
— Конечно, вам легко было! С вашей стороны и Патька, и ты, и вообще все хлопцы как на подбор. А попробовал бы ты с такой слякотью!
Его до сих пор брала досада, что второе отделение всегда одерживало верх. В первом отделении бойцов можно было пересчитать по пальцам одной руки, остальные не выдерживали напора и позорно бросали товарищей на произвол судьбы в лице инспектора Бодянского и старшего педеля Максима.
Удары колокола напомнили Владимиру, что он опаздывает.
— Так ты не поедешь на похороны? — спросил он товарища и, выслушав отрицательный ответ, разочаровано буркнул: — Как знаешь!
Голубев двинулся через ярмарку в расстроенных чувствах. Взять того же Михаила. Он без тени иронии называл себя «квасным» патриотом и убежденным монархистом. Однако Михаил и ему подобные держались в стороне не только от революционных, но и от монархических организаций. В «Двуглавом орле» состояло чуть больше двухсот пятидесяти человек. Среди них были настоящие проверенные бойцы: Галкин, Позняков, Сикорский. Но, если правду сказать, в основном там подвизались гимназисты. Поступив на юридический факультет, Владимир рассчитывал привлечь единомышленников из среды студентов. Напрасные надежды; хотя, казалось бы, как можно было спорить с очевидной истиной, что русская народность, как собирательница и устроительница русского государства, должна быть признана народностью главенствующей и первенствующей? Было бы понятно, если бы призыв «Россия для русских» вызывал ненависть исключительно у инородцев. Но против двуглавцев выступало большинство великоросов и сплошняком все малороссы. Голубев и раньше встречал так называемых «щирых украинцев», в основном из народных учителей, посасывавших люльки с крепчайшим тютюном и на все явления жизни отзывавшихся кратким: «Эге ж»! Было нечто опереточное в их необъятных шароварах и вышитых рубахах. К его удивлению в университетских аудиториях оказалось множество студентов, носивших под мундиром вышиванки. Они прославляли изменника Мазепу и мечтали об отдельном украинском государстве. Мазепинцы активно выступали на студенческих сходках, а в прошлом феврале отмечали юбилей Тараса Шевченко и повторяли его слова, что он примирится с Богом лишь тогда, когда волны Днепра понесут в Черное море кровь москалей — «кровь ворожу».
В университете святого Владимира существовала академическая корпорация, состоявшая из студентов, которые хотели учиться, а не бунтовать. Но что могла поделать горстка академистов с толпой эсеров, эсдеков, бундовцев, паолей-сионистов, польской левицы, мазепинцев и прочей нечистью? Тихая обитель науки и просвещения превратилась в рассадник крамолы, и ее красные стены казались набухшими от крови. Голубеву не раз приходило в голову, что единственное, что остается, — это публично и торжественно закрыть университет. Ну, может, не навсегда закрыть, а продержать в карантине года два или три, пока не выветрится революционная зараза, а потом по строгому отбору принять в студенты русскую патриотическую молодежь.
У Гостиного двора Голубева должны были ждать несколько членов патриотического общества молодежи. Однако под белыми арками не было видно никого из двуглавцев. Студент открыл серебряную луковицу карманных часов, щелкнул крышкой и недоуменно пожал плечами. Возможно, он опоздал, и хлопцы уже уехали, но столь же возможно, что никто из них не явился, ибо дисциплина, увы, была ахиллесовой пятой патриотов. На всякий случай Голубев решил немного подождать.
Прогуливаясь под арками Гостиного двора, он услышал громкие выкрики, заглушавшие даже вопли ярмарочных зазывал. Оглянувшись, студент увидел толпу чернорабочих около телег, накрытых рогожей. Они яростно спорили, кому достанется разгружать товар.
— Пусть товарищ Лазарь растолкует! — надрывался один из рабочих.
— К бису твоего Лазаря… Нехай вин иде к черту в зуби…
Но Лазарь, к чьей помощи взывал рабочий, уже подходил к телегам. Он выглядел типичным обывателем еврейского местечка, молодым и самоуверенным до нахальства. Он сильно картавил, но говорил с апломбом и мгновенно овладел общим разговором.
— Кликали меня? Здоровеньки, товарищи! Не скажу за весь Киев, тильки на Подоле мени каждый знает. А кто не знает, таки я буду не хвор назвать себя — Лазарь Каганович, прошу запомнить!
— Ты своим жидам потакаешь, — с подозрением сказал пожилой возница, восседавший на телеге. — Все жиды кровопийцы!
— Вы, товарищ ломовой извозчик, совсем несознательный, совсем темный! — укоризненно покачал головой оратор. — Никогда не ставьте на одну доску рабочего человека и кровопийцу-буржуя! Я — кожевенник, а начинал грузчиком на мельнице миллионщика Бродского. Сами знаете, каково таскать пятипудовые мешки по шатким мосткам на баржи! Доски то и дело ломались, рабочие падали, получали увечья. Нормы зверские, за двенадцать часов работы платили семьдесят пять копеек. Рукавиц не выдавали, пыль забивала всю глотку. Короче говоря, стали меня молодые рабочие упрашивать, чтобы я пошел в контору и заявил протест. «Хозяина звали Лазарь и тебя зовут Лазарь, им будет стыдно тебя уволить». Ну я был совсем зеленый, глупый. Подумал: действительно, в конторе сидят евреи, они своего не обидят.
Лазарь остановился, чтобы перевести дыхание. Один из грузчиков нетерпеливо дернул его за рукав.
— Шо було? Рассчитали або як?
— Вышвырнули с мельницы в тот же день! И еще полицией пригрозили, как зачинщику. Вот вам и «Лазарь не уволит Лазаря!» — под общий смех закончил свой рассказ Каганович. — Правильно вы смеетесь с меня, товарищи. Спасибо, научили буржуи! Богатый еврей еще больше зол на еврея рабочего, который ему не кланяется, а ведет с ним борьбу. Советую всем вам, товарищи, прочитать брошюру «Пауки и мухи», потому что она ярко и коротко дает суть того капиталистического строя, при котором капиталисты, как пауки, высасывают кровь из мух-пролетариев. Эту брошюру написал Вильгельм Либкнехт, отец Карла Либкнехта, одного из соратников Маркса.
Ломовой извозчик почесал взлохмаченную голову и прогудел:
— Карлы! Марлы! Богато написали, а шо толку? Отобрать усе и поделить!
— То же самое хотят большевики! — подхватил Лазарь. — Но поделить, товарищи, надобно с умом! Тут не обойтись без революции, которая неизбежно подразумевает установление диктатуры пролетариата.
Чувствовалось, что молодой оратор совсем недавно усвоил незнакомые для себя слова, и ему чрезвычайно нравилось их раскатистое звучание. Он с удовольствием выговаривал: «Р-р-революция… пр-р-ролетариат… диктатур-р-ра». Едва Голубев услышал про революцию, он энергично заработал локтями и пробился к телеге со словами:
— Ты что тут агитацию развел?
Оратора как корова языком слизнула. Студент упрекнул чернорабочих:
— Кого вы слушаете!
— Остынь, паныч! Вин сам по соби, мы сами по соби, — отвечали грузчики, берясь за мешки.
Отойдя от телег, Голубев еще раз щелкнул крышкой часов. Дольше ждать было нельзя. Вокруг всей Контрактовой площади были уложены трамвайные рельсы. С большого круга вагоны с плетеными желтыми сидениями разбегались в разные стороны, в том числе на Лукьяновку. Однако, как он ни вглядывался вдаль, не было видно ни одного вагона. На трамвайной остановке, что напротив Самсоньевского фонтана, говорили, что на путях зарезало человека и по этой причине движение временно приостановлено. Голубев понял, что опаздывает, и поискал глазами экипаж. Шагах в десяти от фонтана какой-то господин, лет тридцати, среднего роста, с обыкновенным лицом и слегка оттопыренными ушами, торговался с извозчиком.
— Полтина?! Курам на смех! Я классификации городской управы назубок знаю. Ты одноконный извозчик второго разряда, на простом, не резиновом ходу. Вот и бери по прейскуранту.
— Який прейскурвант, — скалил зубы извозчик.
Отчаявшись договориться с извозчиком, господин попытался найти сочувствие у студента.
— Видит, что я опаздываю и ломит несообразную цену.
— Вам куда надобно?
— На Лукьяновское кладбище.
— И мне на кладбище. Наймем его в складчину. Эй, извозчик, повезешь за сорок копеек, — предложил Голубев, запрыгивая в пролетку.
Довольный извозчик щелкнул кнутом, и экипаж тронулся с места. На Житный базар бесконечной вереницей тянулись возы всевозможных видов и размеров. Сидевшие на возах дивчины, в пестрых китайчатых кофтах и красных черевичках, задорно подмигивали панычам в коляске. Спутник Голубева завел беседу.
— Я все понимаю. Извозчику надо семью кормить, в деревню посылать все заработанное нелегким трудом в городе. Но полтина! Хорошо, что городская управа пригласила венских инженеров для устройства регулярного движения автомобилей-дилижансов. В ближайшее время цены неизбежно упадут. Я это знаю из первых рук, потому что новости — моя профессия. Кстати, вот моя карточка, — добавил он, протягивая картонный прямоугольник, на котором под дворянской короной было выведено: «Степан Иванович Бразуль-Брушковский, корреспондент газеты «Киевская мысль».
— Так вы из «Киевской миквы»? — вскипел Голубев. — Это в вашей паршивой газетенке пропечатали, что несчастного мальчика зарезала его собственная мать?
Репортер, не ожидавший такой реакции, невольно подался назад и пробормотал:
— Против родных Ющинского имеются веские доказательства.
— Разве вам нужны доказательства, — кипятился студент. — Вы в своей газетенке уверены, что у русских матерей обыкновение такое — мучить своих детей. О француженке, немке, об англичанке вы бы подобное пропечатать не осмелились, а о русской матери — пожалуйста, оклеветали ее перед всем светом. Однако напрасно вы воображаете, что будете иметь дело с беззащитной женщиной. Вы с нами будете иметь дело, — закончил Голубев, демонстрируя значок «Двуглавого орла».
— Право, удивляюсь вам, — сказал репортер, разглядывая серебряный значок. — Студент должен сочувствовать всему прогрессивному, а вы состоите в одной компании с разными лабазниками и мясниками.
Голубев хотел было ответить, что содержать лабаз или мясную лавку достойнее, чем проституировать свою совесть в газете. Ведь это староста мясного ряда Козьма Минин во главе нижегородской черной сотни — так издревле именовалось податное посадское население — освободил Московский Кремль от иноземных захватчиков и их русских пособников. Но тут пролетка свернула на дурно замощенную булыжную мостовую и пассажиры сразу почувствовали, что взяли экипаж не на резиновом ходу. Поневоле пришлось прекратить спор. Оставалось только крепко держаться за поручни и презрительно улыбаться в лицо друг другу. Лошаденка трясла пролетку по круто вздымавшимся вверх горбатым улочкам. Около калиток толпились мещанки в платках и лузгали семечки, бросая шелуху в лужи дождевой воды.
Когда пролетка остановилась у ворот Лукьяновского кладбища, репортер спрыгнул первым и, не поклонившись, скрылся за оградой. Голубев прошел за ним. В конце раскисшей от грязи и истоптанной тысячами ног аллеи гудела огромная толпа народа. К кладбищу были стянуты усиленные наряды полиции. Студент даже не пытался пройти к могиле. Забравшись на раскидистый каштан, облепленный любопытными мальчишками, он заглянул в центр толпы и увидел, что гробик с телом мальчика уже опустили в могилу. Две женщины в черных платках, чьих лиц он не мог разглядеть, бросили в яму по горсти земли, и вслед за этим о крышку гробика застучали комья глины.
— Sit tibi tea levis, — прошептал студент. — Да будет земля тебе пухом, несчастный мальчик!
Внезапно над толпой взлетели белые листки. Из-за людских спин выскочил парубок в косоворотке, разбрасывавший поверх голов прокламации. Его лицо показалось Голубеву знакомым, он вспомнил, что видел его на собраниях Союза русского народа. Когда парубка схватил за рукав плотный дядька, в голове Голубева сразу промелькнуло: «Наших бьют»! Он спрыгнул с дерева и отработанным хуком левой свалил дядьку на землю. Затем свистнул парубку, и они побежали, петляя между могил. У кладбищенской ограды оба остановились.
— Бежим! — крикнул Владимир.
— Не можу, — еле перевел дух парубок, — треба трохи отдохнуть.
— Ты что разбрасывал? — спросил студент.
— От це, — парубок протянул листовку.
Голубев едва успел спрятать листок, как прямо на него выскочили жандармский унтер и двое в штатском платье. Студент увернулся от их рук, но его товарищ оказался менее ловким. Увидев, что парня схватили, студент остановился.
— От так-то, паныч, буде добре, — пробасил унтер-офицер, не делая, впрочем, попыток задержать студента. — Сюды, ваше высокобродие, — крикнул он толстому подполковнику в серой с голубым отливом шинели. Жандармского подполковника сопровождала женщина в потертом капоте и едва оправившийся от нокаута дядька.
— Сударыня, благоволите указать на злоумышленника, — обратился подполковник к своей спутнице.
Женщина, близоруко щурясь, ткнула пальцем в парубка, которому унтер-офицер заломил руки, и произнесла с характерным выговором:
— Гроз зол аф дир ваксн! Он разбрасывал листки, чтоб ему в преисподней угли разбрасывать. Заарестуйте его, пане генерал.
— Я не генерал, — поправил ее толстяк, утирая платком мокрое от пота лицо. — Благоволите объявить свое имя и звание для занесения в протокол.
— Юлия Григус. Слушательница акушерских курсов. Собираюсь, не сглазить бы, выучится на дипломированную повивальную бабку
— Правожительство имеете? Вам должно быть известно, что акушерские курсы не относятся к категории высших учебных заведений и их посещение не дает права проживать за чертой еврейской оседлости.
— Я посещаю курсы вечером, а днем служу пишущей барышней в конторе Бродского, дай Бог ему доброго здоровья.
— То есть фиктивно зачислены в штат? Самсон Харлампиевич, — обратился подполковник к плотному дядьке, потиравшему ухо. — Слышали об этой уловке? Поскольку служащим купцов первой гильдии дозволено проживать за чертой оседлости, богатые евреи оформляют кучу соплеменников под видом своих конторщиков, приказчиков, слуг. Когда в Москве учинили проверку, выяснилось, что у Лазаря Полякова только поварами числилось пять тысяч человек.
Дядька прогудел в ответ:
— Чому дывится? У Бродских, мабуть, до десяти тысяч наберется.
— Где прописаны? — осведомился подполковник у слушательницы курсов.
— На Собачьей тропе. У меня бумаги в полном порядке.
— Как же в порядке, если улица Собачья тропа проходит по Дворцовому участку, где евреям, хотя бы и имеющим правожительство, запрещается снимать квартиры!
— Пане офицер, ваши слова очень справедливы, ой, як справедливы! — закивала головой женщина. — Но к Дворцовому участку таки относятся дома по четной стороне, а по нечетной стороне Собачьей тропы проходит граница Печерского участка, где евреям, не сглазить бы, разрешено прописываться. Я, если угодно знать пану начальнику, прописана в нечетном доме.
— Не мельтешили бы вы под ногами в такой день! — в сердцах заметил подполковник и обратился к задержанному парню. — Тебя, молодчик, как зовут?
— Николай Андреев Павлович, — буркнул тот, глядя под ноги.
— Воруешь?
— Никак нет. Я — патриот!
— Ваше имя? — спросил жандарм Владимира.
— Сначала сами представьтесь, — задиристо сказал студент.
— Извольте! Я начальник киевского отделения по охранению общественного порядка и безопасности подполковник корпуса жандармов Николай Николаевич Кулябко. Вы удовлетворены?
Толстый подполковник пристально глянул в лицо Голубеву, собираясь насладиться замешательством, которое вызывало одно упоминание о всесильной охранке. Вопреки его ожиданию студент не дрогнул ни единым мускулом. «В самом деле, чего мне боятся! — думал он. — Ну, начальник охранки! Такой же государев слуга, как все остальные. Пусть его боятся те, у кого совесть нечиста — всякие бомбисты и пропагандисты». И он произнес прежним дерзким тоном:
— Я студент императорского университета Владимир Степанович Голубев. Надеюсь, вы тоже удовлетворены?
Подполковник озадаченно покачал головой:
— Сынок Степана Тимофеевича, такого почтенного профессора! Зачем же вы бьете филеров?
Голубев посмотрел на седого дядьку, потиравшего ухо, и насмешливо бросил:
— Пусть подает на меня в суд. Посмотрим, как филер будет свидетельствовать против студента.
Подполковник Кулябко взял Голубева под локоть и отвел в сторонку.
— Голубчик, напрасно вы пренебрежительно относитесь к филерам, — наставительно заметил он. — Филер, или агент наружного наблюдения, является сотрудником государственной полиции. Согласно инструкции, филеров набирают из запасных унтер-офицеров армии, гвардии и флота по предъявлению ими аттестатов войскового начальства об усердно-отличной службе. Самсон Харлампиевич! — позвал он. — Рекомендую: старший филер Демидюк, из отставных фельдфебелей.
— Попал бы ты, хлопец, в мою роту вольнопером, я бы из тебя дурь выбил! — проворчал старший филер.
— Ничего, это даже к лучшему, что я вас приложил, — сказал Голубев, с удовольствием рассматривая распухшее ухо Демидюка. — А то нас, черносотенцев, обвиняют в сотрудничестве с полицией.
— Не дерзите, голубчик, — нахмурился Кулябко. — Скажите спасибо, что у меня доброе сердце, иначе бы вам драка с рук не сошла. Заберите господина патриота, — приказал он унтер-офицеру. — А вам впредь не рекомендую ввязываться в стычки с сотрудниками охранного отделения.
Оставшись в одиночестве, Голубев вынул из кармана прокламацию. На бумаге синели гектографированные строки: «Православные христиане! Жиды замучили мальчика Андрея Ющинского! Жиды ежегодно перед своей пасхой замучивают несколько десятков христианских мальчиков, чтобы их кровь лить в мацу. Делают жиды это в память страданий Спасителя, которого жиды замучили, распявши на кресте. Судебные доктора нашли, что Андрея Ющинского перед страданиями связали, раздели и голого кололи, причем кололи в главные жилы, чтобы побольше добыть крови! Жиды сделали пятьдесят уколов Ющинскому! Русские люди! Если вам дороги ваши дети, бейте жидов! Бейте до тех пор, пока хоть один жид будет в России! Пожалейте ваших детей! Отмстите за невинных страдальцев! Пора! Пора»!
Глава третья
10 апреля 1911 г.Наступила Пасха, которую с такой тревогой ждали в Киеве. Природа словно подтверждала опасений людей. В последнюю неделю Великого поста на город обрушивался шквал за шквалом, ливень за ливнем. Порывистый ветер срывал соломенные крыши хат на Лукьяновке и заставлял дрожать стекла в окнах огромного здания присутственных мест на Софийской площади. Днепр вышел из берегов, вода подступила к Кирилловской улице, а Предмостная слободка на другой стороне была полностью затоплена. Киевляне, поеживаясь от холодного ветра, испуганно смотрели на волны, простиравшиеся до линии горизонта. Водомерная рейка у Цепного моста засвидетельствовала, что уровень реки поднялся на две с половиной сажени, а вода все прибывала и прибывала. Распространялись панические слухи, что с верховий Десны и Сожи идет громадный вал талой воды, которая захлестнет город, оставив над поверхностью только крест в руке святого Владимира, что венчал Владимирскую горку.
И лишь в самый канун Пасхи наводнение остановилось, вода еще не спала, но уже прекратила свое наступление. Бурное море, в которое превратился Днепр, успокоилось и ласково заиграло пологими волнами. Черные клокастые тучи замедлили свой безостановочный бег, поднялись выше, посветлели, между ними вдруг появились синие прогалины, и впервые за много дней выглянуло солнце. Воздух заметно потеплел, и вечер страстной субботы выдался теплым и тихим. Сотрудники «Киевской мысли» Степан Бразуль-Брушковский и Марк Ордынский не замечали прелести вечера, торопливо шагая по направлению к Владимирскому собору. У решетки Ботанического сада их обогнала компания мастеровых. Один и мастеровых, обладатель плоской как блин рябой физиономии, подмигнув своим товарищам, пихнул Ордынского в спину, да так сильно, что тот не удержал равновесия и растянулся на булыжной мостовой. Его судорожный пируэт насмешил озорников, загоготавших на всю улицу:
— Дивись, як жид впав! Це тоби не хлопцив на Паску ризати!
— Братцы, не озоруйте! — воскликнул Бразуль!
За последние годы уличное хулиганство стало настоящим бичом Киева. Средь бела дня такая вот компания без всякой причины могла избить случайного прохожего, а бывали случаи, когда какой-нибудь босяк останавливал первого попавшегося ему навстречу обывателя и вежливо спрашивал его имя и отчество. Ничего не подозревавший человек отвечал, что его зовут, ну положим, Иван Петров. «Ах Иван Петров! Ты-то мне и нужен!» — кивал хулиган и всаживал несчастному нож в брюхо. Просто так убивали, из чистого озорства!
Стараясь не допустить поножовщины, Бразуль вежливо увещевал пьяных хулиганов:
— Друзья! Мы не помещики и не чиновники. Такие же трудящиеся люди, как и вы! За что вы на нас набросились?
— Мовчи в тряпочку! Теж мени, ерусалимський дворянин знайшовся! — пригрозили мастеровые, скрываясь в ближайшей подворотне.
Бразуль с огорчением тряхнул светлыми кудрями. Ну почему иерусалимский дворянин? Что за глупости! Дворянин и, если уж на то пошло, то с богатой родословной. По семейному преданию Лука Бразуль в малолетстве покинул Молдавию, чтобы послужить Петру Великому. Он участвовал в походах против ляхов и шведов, доблестно сражался под Полтавой, терпел лишения на Пруте, даже был посылаем «в шпионы» с увещевательными письмами против изменника Мазепы. За свои труды Лука был выкликнут в обозные конного полка, а потом получил универсал на звание козелецкого городового атамана. Сын атамана Никифор пошел по духовной линии. В семейных хрониках значилось: «…был он брухат и наперво прозывался Брушком, а потомки его — Брушковскими». Так появилась двойная фамилия Бразули-Брушковские, славная в малороссийской истории.
Марк поднялся с земли и принялся чистить светлые брюки. Бразуль попытался утешить друга.
— Ай, оставь! Или трезвыми они лучше? — страдальчески скривился Ордынский.
Бразуль промолчал. Его отец постоянно твердил, что подлый народ добра не помнит. Папаша был мелким чиновником, выслужившим скромный чин коллежского асессора. Перед начальством он лебезил, а на просителях из простонародья вволю отыгрывался, всячески их унижая и обирая. Неудивительно, что они с братом были рады вырваться из этой затхлой старозаветной атмосферы на вольный простор. В чиновники они не пошли, а выбрали литературную стезю, став журналистами, или «щелкоперами», как язвительно бурчал отец. Сыновья отвечали, что не хотят прислуживаться начальству, а будут служить народу, перед коим интеллигенция находится в неоплатном долгу. «В долгу перед быдлом? Жизни не знаете, с подлым народом дел не имели!» — негодовал отец. Прискорбно, но старый чиновник частенько оказывался прав. Как всякий интеллигент, Бразуль любил народ, но люди из народа отчего-то не отвечали ему взаимностью и норовили надуть сострадающего им «барина», а при случае — подставить подножку. Конечно, убеждал самого себя Бразуль, в безобразном поведении фабричных, задиравших прилично одетых прохожих, кроется стихийный протест эксплуатируемых масс против несправедливого социального устройства. Придет время, и они скинут тяжкие оковы и освободятся от векового гнета, а вместе с обретенной свободой изменится и их сознание.
Всего несколько лет назад казалось, что этот светлый момент вот-вот наступит. Еще один натиск, еще одна стачка, демонстрация под красными знаменами, и самодержавие зашатается и рухнет. В первых рядах борцов с царским режимом шли социалисты-революционеры, наследники славных традиций «Народной воли». Их идеи импонировали молодому Бразулю. Сблизившись с эсерами, Бразуль помогал им, чем мог: распространял нелегальную литературу, прятал на своей квартире бежавших из ссылки, ездил агитировать по деревням. В то время почти все так делали, но Бразулю этого было мало. Он мечтал бросить адскую машинку в какого-нибудь министра, на худой конец в губернатора. Положить свою жизнь на алтарь правды — что могло быть лучше и благороднее! Бразуль попытался вступить в БО — Боевую организацию партии эсеров. Он даже специально съездил в Петербург, разговаривал со знакомыми эсерами. Ему пообещали устроить встречу с таинственным «Иваном Николаевичем», который, как шептали на ухо, «ведет весь центральный террор». Товарищи уверяли, что Иван Николаевич сам проверит кандидата, да так конспиративно, что тот и не поймет, что разговаривал с главой БО.
В ожидании судьбоносной встречи Бразуль держал себя как подобало настоящему боевику с бомбой в кармане. Но вскоре ему через партийных товарищей передали, что желающих посвятить себя террору слишком много, а журналисту в интересах общего дела следует сосредоточиться на пропагандистской работе. Бразуль вернулся в Киев так и не поняв, видел ли его руководитель БО или нет. Мучила мысль, что видел и отверг как ненадежного.
И вот через несколько лет «Ивана Николаевича» изобличили как платного агента департамента полиции. Его настоящее имя было Евно Азеф. Одной рукой он посылал боевиков убивать министров и великих князей, а другой — безжалостно выдавал их полиции. Будучи уличен в провокаторстве, Азеф ловко скрылся от возмездия, породив у эсеров ощущение безысходности и ужаса. Всякий попал под подозрение, в каждом видели платного осведомителя. Революция захлебнулась, наступила дичайшая черносотенная реакция, общественная жизнь замерла. К тому же Бразуль женился, родился сынишка, приходилось ломать голову над тем, как содержать семью. Он не изменил своим революционным взглядам, однако отошел от активной партийной работы.
— Слышал, о чем они болтали? — спросил Марк Ордынский.
— Вольно тебе повторять всякие глупости!
— Вот и не глупости. Говорю тебе, власти готовят погром. Мы, евреи, кожей чуем погром. Убийство Ющинского является чистейшей воды полицейской провокацией. Суди сам, около пещеры было полно следов. И что же? Полицейские по приказу пристава все уничтожили. Случайно? Ой, не лечите меня! Полиция ничего не делает случайно, она хочет свалить убийство на несчастных евреев. Или последний мишугинен не разберет, что преступление совершено родственниками мальчишки? Таки нет, сыскное отделение игнорирует очевидные факты. Я малахольному Мищуку все доказательства преподнес на блюдечке. Другой бы округлил дельце в два счета, а этот шлим-мазл тянет резину. А какие доказательства! Ухожу я от Трайны…
— Я уже сто раз про это слышал, — попытался остановить своего друга Бразуль.
— Ну и что? Или ты умрешь, если еще раз послушаешь? Не кидай брови на лоб, я тебя умоляю! Ухожу я от Трайны Клейн… Ай, что за женщина! Какое роскошное тело! — говоря о своей даме сердца Ордынский сразу повеселел и в восторге поцеловал кончики пальцев. — Попросил перед уходом стакан воды: у нее такой дьявольский темперамент, что я еле ноги уношу. Трайна пошла на кухню и через минуту прибегает со словами, что там прачка рассказывает про убийство Ющинского. Или я не репортер, чтобы проморгать такую сенсацию? Моментально спрятался за дверью и подслушал весь разговор. Оказывается, ехал мимо Предмостной слободки один извозчик. Остановили его мужик и баба, спрашивают, довезешь до Лукьяновки? Когда просят подвезти, почему не подвезти? Или извозчик будет против заработать пару грошей? Сели в пролетку, поехали. У них был тяжеленный рогожный куль. Извозчик подумал, не ворованное ли, и спрашивает, что там? Мужик отвечает: «Хлопчик». Извозчик ахнул: «Али вы хворы на голову? Хто так возит дитын?» — «Дохтур его велел в мешке возить». Тут извозчик понял, что ему запускают арапа, да и лошадь у него шарахается, словно покойника почуяла. Короче, высадил их: «К бису ваши гроши!» Мужик и баба, не говоря ни слова, взвалили на плечи мешок и потопали по льду через Днепр. Заметь — мужик и баба, по описанию, точь-в-точь мать и отчим Ющинского. Зарезали мальчишку в Слободке, а труп потащили прятать в пещере.
— Странно, отчего же полиция не арестовала отчима? — удивился Бразуль.
— Таки ты меня спрашиваешь? Они, того и гляди, мать выпустят.
Репортеры помолчали. Потом Ордынский кивнул головой в сторону светло-шоколадных стен Владимирского собора:
— Или я тебе не говорил, что зря торопимся? Народу куча, а писать не о ком. Думаешь, принц сиамский проездом появится? Держи карман шире! Весь бомонд в Софийском! Эх, не ценят нас в «Мысли»!
Бразуль тяжко вздохнул: Марк наступил на больную мозоль. Всем начинающим журналистам пришлось хлебнуть горя в провинциальных периодических изданиях, конкурирующих друг с другом за единственную тысячу подписчиков на всю губернию. Издатели вечно норовили навести экономию. Один редактор и два репортера — вот и весь штат. Будучи редактором в «Подольских ведомостях», Бразуль прибегал в убогую каморку, громко именовавшуюся редакцией, первым делом хватался за ножницы и клей. Курьерский поезд, доставлявший столичные газеты, приходил вечером, и надо было успеть нарезать статьи для завтрашнего номера да еще разбавить их местными новостями и сообщениями парижских и берлинских «собственных корреспондентов». Новости из европейских столиц сочинялись тут же на колченогом столе. Приходилось даже вести рубрику «Дамские советы», подписываясь слащавым псевдонимом «Лесная маргаритка». Бразуль говорил друзьям, что, если какой-нибудь дуре и впрямь вздумается составить косметические притиранья по его совету, то у нее вся кожа с рожи слезет. Странно, но «Маргаритка» пользовалась некоторым успехом, и в редакцию даже приходили письма от поклонниц.
Тяготясь этой ерундой, Бразуль время от времени помещал статьи на острые социальные темы, и в результате один из номеров «Подольского вестника» был конфискован полицией. Газету закрыли, а на редактора наложили штраф в пятьсот рублей. Таких денег у Бразуля не имелось, и ввиду несостоятельности ему пришлось отсидеть несколько месяцев в тюрьме. Нет худа без добра. Благодаря репутации пострадавшего за свободу слова, Бразуль попал в «Киевскую Мысль», что считалось большой удачей. Газета являлась ведущим прогрессивным органом Юго-Западного края и имела сорокатысячный тираж — самый большой из всех нестоличных печатных органов. Формально её издателем числился владелец типографии Рудольф Лубковский, однако ни для кого не было секретом, что газету финансирует Лев Израилевич Бродский, самый богатый человек в Киеве, если не во всей России. При всем том, «Киевская мысль», издававшаяся на средства сахарного короля, имела левую, чуть ли не революционную окраску. На её страницах регулярно печатались статьи за подписью Антид Отто, и все знали, что под этим псевдонимом скрывается Лев Троцкий. Он жил в Вене, но ходили слухи о его нелегальных приездах в Киев, во время которых он якобы инкогнито посещает редакцию. Столь же известным автором был киевский уроженец Анатолий Луначарский, присылавший свои очерки из Италии.
Солидная подписка, доходы от розничной продажи и покровительство Бродского позволили поставить дело на широкую ногу. Редакция «Киевской мысли» располагалась в самом центре города на фешенебельной Фундуклеевской улице. У подъезда дежурил швейцар, все ведущие сотрудники имели просторные и светлые кабинеты. Одно было скверно. Бразулю никак не удавалось проникнуть в узкий круг избранных журналистов. Он мечтал писать передовицы или хлесткие фельетоны, а ему приходилось перебиваться корреспонденциями о пожарах и взысканиях за нарушение санитарного состояния.
— Погоди, вот Брейтман расширит свои «Последние новости» и пригласит нас. Тогда заживем, как Бродский. А еще выгоднее издавать собственную газету! Ходят слухи, что тебя приглашают редактировать «Киевскую копейку»? — ревниво спросил Ордынский.
— Возможно. Пока рано говорить.
— Не хочешь — не говори. Займемся делом! Ступай в храм, а мне, еврею, лучше покрутиться и понюхать снаружи.
Бразуль прошел через резные врата Владимирского собора. О соборе, завершенном и расписанном четверть века назад, говорили разное, чаще ругали его псевдовизантийский облик. Внутри собора плотной массой стояли тысячи людей, и репортеру с трудом удалось протиснутся к западному притвору. Мало кто из прихожан стоял на месте, почти все стремились попасть за ажурную решетку алтарной части. Запрестольная Богоматерь кисти Виктора Васнецова безмятежно взирала на толпу, выстроившуюся в очередь, чтобы облобызать плащаницу. Журналист редко заглядывал в церковь. Он даже не помнил, когда перестал верить в Бога. В детстве еще искренне и горячо молился, а в гимназии уже читал книжки, в которых доказывалось, что человек не создан по образу и подобию Божьему, а произошел от обезьяны. Они с братом стали атеистами мимоходом, без какой-либо внутренней борьбы, хотя в роду было немало священнослужителей и даже один духовник Печерской лавры.
Внезапно зазвучал благовест, означавший начало полуношницы. В канун Пасхи митрополит Флавиан строго наказал, чтобы колокола киевских церквей зазвучали только после того, как ударят в главный колокол на колокольне Софийского собора. Первыми услышали звук главного колокола звонари Михайловского Златоверхого монастыря. Не медля ни секунды, они ударили в свои колокола, за ними вступили звонари Десятинной церкви, и вскоре благовест был подхвачен четырьмя сотнями киевских храмов. Волна праздничного звона, перекатываясь от одной колокольни к другой, достигла Владимирского собора. После возгласа «Благословлен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!» певчие затянули трепетный ирмос. Под торжественный распев появилось духовенство в парчовых одеяниях. Священнослужители преклонили колена перед плащаницей, подняли ее и поднесли к царским вратам. Врата распахнулись, впустили процессию в алтарь и вновь затворились.
Бразуль хорошо видел все происходившее внутри алтаря, так как иконостас Владимирского собора был устроен по византийскому образцу в виде невысокого ограждения с колоннадой бело-розового мрамора. Служил преосвященный Назарий, а среди сослуживших архиерею репортер узнал протоиерея Трегубова, у которого он несколько месяцев назад пытался взять интервью по поводу скандального происшествия в Первой гимназии. Протоиерей от интервью отказался, лишь сухо пояснил, что прекратил вести уроки Закона Божьего в гимназии после своего избрания членом Государственного совета от православного духовенства. Ох, лукавил святой отец! Весь Киев знал, что гимназисты попросту вытолкали законоучителя в шею, предварительно заставив его помолиться за упокой души Льва Николаевича Толстого.
Скандал произошел осенью, после похорон Толстого, когда во всех университетах и гимназиях начались волнения. Неудивительно, что реакционеры ненавидели Толстого. Разве могли они иначе относится к писателю, обращавшемуся к Николаю II как равный к равному со словами «любезный брат»? Кто, кроме великого учителя земли русской, осмелился возвысить свой голос против казенного православия? Кто еще мог бросить в лицо архиереям, что они поступают вопреки заповедям, а пышная церковная служба является величайшим кощунством и насмешкой над Христом, запретившим бессмысленное многоглаголание и повелевшим молиться не толпою в храмах, а в уединении, безразлично в хлеву или в чистом поле? Что могли противопоставить этим словам архиереи? Только отлучение от церкви, немедленно сделавшее Толстого кумиром всего прогрессивного общества.
Бразулю сделалось нестерпимо душно, и он пробился к выходу. Оказавшись на паперти, журналист жадно глотнул свежего воздуха. Двор храма, огражденный решеткой, сиял ярким светом электрических ламп и масляных плошек, развешанных на деревьях. Над головою плыл непрекращающийся колокольный звон. Репортер поискал глазами Ордынского, но тот уже ушел. Бразуль решил не дожидаться крестного хода. Вставить пару фраз о том, что верующие обошли храм, можно будет прямо в редакции. Все равно сократят и заплатят строчек за пятнадцать. Неужели до самой могилы придется тянуть лямку уличного хроникера? Нет, любыми способами надо выбиться в настоящие литераторы!
Бразуля вдохновлял пример Куприна, служившего репортером одной из киевских газет. Сейчас он известный писатель, а начинал с заметок об уличных происшествиях. Иногда позволял себе художественные вольности, но в редакции все это вычеркивали и укоризненно говорили: «Когда же вы, Куприн, научитесь писать?» В прошлом году Бразуль загорелся продолжить нашумевшую «Яму», благо Куприн описал публичный дом, хорошо известный киевской репортерской братии. Но Бразуль опоздал: какой-то ушлый журналист опубликовал вторую часть «Ямы».
Бразуль мечтал поднять какую-нибудь острую тему, разыскать нетронутый пишущей братией Клондайк. Однажды он по журналистским делам заглянул на Галицкий базар, который все киевляне называли Еврейским. На самом деле любой и каждый, кому случалась надобность что-то продать, смело шел на базар, раскладывал свои вещи прямо на земле и назначал цену, какую хотел. Не было в Киеве места более оживленного и веселого, чем мелочное торжище вокруг железного Ивана, как окрестили церковь Иоанна Златоуста. По странной прихоти городских властей храм с пирамидальной колокольней был собран из металлических конструкций. Остряки с Еврейского базара говорили: «чтобы мыши не изгрызли». Железная церковь оказалась крайне неудачной. Летом она раскалялась от солнечных лучей, а зимой её не могли обогреть четыре печи. Вдобавок стены начали ржаветь. Вот об этом неблаголепии Бразуля и попросили написать заметку для «Киевской мысли». Осмотрев ржавые потеки на листах железа, журналист направился к выходу с базара. Его путь лежал мимо книжного ряда. На лотках громоздились кипы книжек в ярких обложках, в основном последние выпуски похождений американских сыщиков Ната Пинкертона и Ника Картера. Книжки ходко раскупались не только простонародьем, но и людьми интеллигентного вида. Один господин, перехватив взгляд журналиста, покраснел и пробормотал, что берет единственно для прислуги: «Черт знает как обожает этакую ерунду!»
Бразуля осенило: вот она — золотая жила! Он слышал, что пинкертоновские выпуски вовсе не переводятся с английского. Их кропали полуголодные студенты, нанятые мелкими книгоиздателями. Но зачем писать о далекой Америке, когда российские фармазоны могут дать пять шаров форы заокеанским гангстерам. Положим, о криминальном мире Киева кое-что было написано тем же Куприным, но он лишь вскользь затронул тему. Бразуль задумал создать серию очерков: сначала коснуться экономического положения в связи с воздействием эксплуатации на развитие преступности, затем дать широкую панораму преступности в Южной России и перейти к характеристике воровских профессий, начиная с мелких «марвихеров» и кончая «медвежатниками». В заключение он намеревался описать типы взяточников и казнокрадов, присосавшихся к телу народа, благо киевская действительность ежедневно давала яркие примеры чиновного произвола. Бразуль понимал, что ему следует поторопиться запечатлеть современную ему смутную эпоху, потому что после народной революции никто не поверит, что в России были времена, когда не воровал только ленивый. Увы, газетная суета не оставляла времени на литературные занятия.
Мысли Бразуля были прерваны пронзительной трелью полицейского свистка, вторгшегося в колокольный перезвон. Он встрепенулся и сбежал с паперти. В дальнем углу двора мельтешили спины и слышались громкие крики. Бразуль увидел городового, державшего за шиворот низкорослого субъекта с придурковатой физиономией. «Карманник из начинающих», — сразу определил он. Кто-то двинул карманнику в зубы. Запахло самосудом, но тут через толпу пробились несколько человек в партикулярном платье. Репортер узнал коренастую фигуру начальника сыскного отделения Мищука.
Бразуль, некоторое время состоявший под негласным надзором, не жаловал полицию, расплодившую шпиков и провокаторов. Впрочем, предвзятое отношение к полиции не мешало Бразулю водить знакомство с киевскими сыщиками. Репортеру нельзя было иначе. К тому же он был готов сделать особое исключение для Мищука. Во-первых, начальник сыскного отделения занимался не политическими, а уголовными преступниками. Во-вторых, он стремился поставить розыск на научную основу. В-третьих, Мищук, в отличие от киевских держиморд, понимал силу печатного слова и предупредительно держал себя с репортерами. Между ним и Бразулем установилось взаимовыгодное сотрудничество. Когда полиция узнавала о тяжком преступлении, Мищук старался предупредить Бразуля раньше других журналистов, а тот в свою очередь помещал в «Киевской мысли» заметки об удивительной прозорливости и расторопности начальника сыскного отделения.
— Со светлым праздником, Евгений Францевич! — приветствовал Мищука репортер. — Задержали карманника?
— Типичный маттоид!
— Кто, кто?
— Маттоид, то есть прирожденный преступник по классификации итальянской антрополого-криминалистической школы. Цезарь Ломброзо указывает на ряд атавистических признаков, позволяющих выявить склонность к преступному ремеслу. Посмотрите, у вора все признаки налицо: морелевские уши, гутчиновские зубы, неестественно малая голова, низкий и скошенный назад лоб, массивные надбровные дуги. Откройте его рот и вы обнаружите седлообразное небо.
Городовые обыскали вора, но, как и следовало ожидать, обыск оказался безрезультатным. Карманники всегда орудовали в компании, быстро передавая украденный кошелек другим членам шайки. Вор привычно забожился, что совсем понапрасну его обижают, никаких таких делов он не знает. Мищук распорядился увести его в участок, с досадой сказав:
— Итальянцы правы: на людей-зверей не должны распространяться человеческие законы. Ломброзо считает полезным очищать человеческую породу путем умертвления маттоидов, а Гарофало предлагает кастрировать их, чтобы они не могли воспроизводить себе подобных.
— Хорошо, что начальство вас не послушает.
— От начальства поддержки нет, — пожаловался Мищук. — Взять хотя бы церковные праздники. Давно известно, что по этим дням кривая преступности идет круто вверх. Все мазурики стекаются в город в надежде на легкую поживу. Господин Кошко, начальник московской сыскной полиции, накануне праздников производит массовые облавы и всех беспаспортных высылает домой. Эффект, конечно, кратковременный, потому что высланные вскоре возвращаются. Они себя так и называют «Спиридоны-повороты». Зато по праздникам на улицах спокойно. Я предлагал подобную механику в Киеве. Где там! Перед Пасхой вся сыскная полиция занималась убийством Ющинского.
— Как продвигается дознание? Ордынский плакался, что вы пренебрегаете его сведениями.
— Пренебрегаю, потому что никакого внимания они не заслуживают, — отрезал Мищук. — Помилуйте-с! Приносит пустые сплетни! Пригласили мы в сыскное его пассию Трайну Клейн. Она ссылается на прачку Ольгу Семаненкову. Взяли за бока прачку. Выясняется, что дурная баба слышала на Галицком базаре байку про извозчика, который отвез неизвестных с трупом в мешке. Байка — нелепость полнейшая! Кажется, Ордынский неглупый человек, а прибежал в сыскное с таким вздором.
Вообще, смею доложить, «Киевская мысль» мне здорово подгадила. Обидно-с, особенно после полного содействия с моей стороны. Чего стоит хотя бы ваш сотрудник Шимон Барщевский, донесший на мать Ющинского! С чего это ему взбрело на ум, будто Александра Приходько спокойно отнеслась к пропаже сына? Улыбка на ее лице, видите ли, показалась подозрительной! Физиономист какой! Дознанию, милостивый государь, нужны факты. Да-с, факты, а не вздор!
— А как же кровавые пятна на юбке Приходько?
— Выдумки господина следователя. Они прошли курс в университах-с и нас, настоящих криминалистов, готовы поучать сыскной технике, в которой, к слову сказать, ни бельмеса не смыслят. Немудрено, что вышел пшик. По результатам химического и микроскопического исследований установлено, что бурые пятна на юбке являются следами растительного сока. Еще отличился Брейтман из «Последних новостей». По его словам, мальчика зарезали цыгане из табора недалеко от Предмостной слободки. Брейтман утверждает, что цыгане пытались похитить Ющинского, чтобы заставить его выпрашивать милостыню.
— Вполне логичная версия.
— Выеденного яйца не стоит! Табор действительно стоял у слободки, но снялся за месяц до исчезновения Ющинского. Это проверил подполковник Иванов-второй из губернского жандармского управления.
— Позвольте, почему убийством мальчика занимается тайная полиция? — воскликнул репортер.
— Вы лучше спросите, кто этим убийством не занимается? Сыскному отделению не доверяют. Прекрасно-с! Привлекли губернское жандармское управление. Хорошо-с! Потом задействовали еще и охранное отделение во главе с подполковником Кулябко. Великолепно-с! Только толку будет ноль, потому что охранка вербует осведомителей среди интеллигентов. Для розыска по уголовным делам их агентура совершенно бесполезна. Но погодите с охранным, это еще цветочки! В дело вмешались истинно русские. В сыскное уже заходил Голубев из «Двуглавого орла».
— Представьте, я его знаю, — встрепенулся репортер. — Имел несчастье познакомиться на похоронах Ющинского. Но ведь Голубев всего лишь студентик. Чем он вас застращал?
— Вам легко говорить, вы птица вольная. Голубев, точно, недоучившийся студентик. Только он грозится пойти к митрополиту и генерал-губернатору, и, будьте покойны, секретаря патриотического Союза молодежи везде примут и обласкают. Были бы против Приходько настоящие улики, плевал бы я на Голубева и иже с ним. Однако улик нет — вот в чем беда! Теперь этому делу свободно могут придать соответствующую окраску, дескать начальник сыскного отделения по наущению евреев арестовал невиновную женщину. Не знаю, как поступить? Отпускать ее не хочется, с другой стороны, и держать под стражей нет оснований.
Высокие двери собора распахнулись, и на пороге появились диаконы в серебристых стихирах с фонарем и образами. Под тихое пение «Воскресение твое, Христе Спасе» за духовенством двинулись люди с зажженными свечами, продетыми в бумажные кружочки, чтобы не обжечь руки горячим воском. Бесчисленные огоньки сливались в широкую огненную реку, словно храм извергал поток лавы. Толпа подхватила Бразуля и Мищука, и они влились в общий поток, медленно продвигавшийся вдоль ограды. В крестном ходе принимало участие столько людей, что передние ряды уже обогнули собор, а последние еще только выходили из дверей. Колокольный перезвон становился все мощнее и оглушительнее. Двери собора, выпустив последних участников крестного хода, затворились. Внезапно умолкли колокола, и перед собором началась утреня. Духовенство запело:
— Да воскреснет Бог и расточатся враги его…
Бразуля невольно захватило общее воодушевление. Как он ни сопротивлялся этому чувству, на него нахлынуло радостное умиление. Когда епископ Назарий провозгласил: «Христос воскресе!», а в ответ раздался ликующий многоголосый хор: «Воистину воскресе!», на глаза Бразуля навернулись слезы. Чтобы стряхнуть с себя этот дурман, он наклонился к Мищуку и, стараясь выдержать насмешливый тон, шепнул:
— Благостная картина. Хочется каяться и просить прощения у ближних…
Он осекся, увидев взволнованное лицо сыщика. Размашисто перекрестившись, Мищук ответил:
— Как вы правы! Величественный момент! Забываем, что нам, православным, надлежит быть милосердными. Я помолился Господу, и молитва просветлила мое сердце. Утром съезжу в дом предварительного заключения и распоряжусь освободить Александру Приходько. Пусть хоть Светлое Воскресенье проведет по-христиански. Арестовать ее снова всегда успеем.
Глава четвертая
18 апреля 1911 г.На Лукьяновском кладбище собрались черносотенцы. Панихиду по невинно убиенному отроку Андрею отслужил почетный председатель «Двуглавого орла» отец Федор Синкевич. Когда певчие хора Союза русского народа отошли от могилы, студент Владимир Голубев принял деятельное участие в установлении массивного дубового креста. Вокруг плескались на ветру знамена черносотенных союзов. Голубева радовало, что в Киеве было много монархических обществ, но до слез огорчало, что патриоты никак не могли объединиться. Вот и сейчас, едва начали произносить речи, вспыхнул скандал. Стоило отцу Михаилу Алабовскому упомянуть о том, что на экстренном заседании губернского отдела Союза русского народа было решено обратиться за помощью в расследовании изуверского убийства к правым депутатам Государственной думы, как среди черносотенцев раздались возмущенные голоса:
— Что могут депутаты-обновленцы? Лижут зад Столыпину, этому жидовскому батьке! Надо бить челом Государю…
Голубев устыдился этих неуместных препирательств, и когда подошла его очередь говорить речь, встал у могильного холмика и дрожащим от волнения голосом воскликнул:
— Крест за моей спиной. На нем начертано: «Андрею Ющинскому от киевского отдела Союза русского народа». Лучше бы начертать: «От всех православных русских людей». Вспомните августейшее напутствие: «Объединяйтесь, русские люди! Я рассчитываю на вас». Как же мы, верноподданные, исполняем государеву волю? Устраиваем распри над свежей могилой в то время, как изуверы готовят христианским детям новые гробы! Клянусь жизни не пожалеть, чтобы найти злодеев и успокоить душу невинно убиенного дитяти!
Произнесенная срывающимся голосом клятва произвела фурор. К студенту подходили люди, жали ему руки.
— Вы правы, мой юный друг, — говорил Адам Любинский, председатель киевского губернского отдела Союза Михаила Архангела. — Жиды подбрасывают нашим горе-пинкертонам одну лживую версию за другой. Calomniez, calomniez! Клевещите, клевещите! Что-нибудь обязательно пристанет!
Стоявший рядом с ним грузчик, член Союза русских рабочих, подхватил:
— Колом их, колом! Це вы, пане, дюже гарно гуторите. Русскому человеку плюнуть некуда. На пристань не суйся, артели грузчиков сплошь из жидов и нанимаются за гроши.
Адам Любинский отвел Голубева в сторону и таинственно зашептал:
— В моем распоряжении имеется редчайший документ, проливающий свет на историю ритуальных убийств. Могу одолжить вам на время. Манускрипт на латыни, но вы наверняка разберете.
Голубев положил в карман свиток и поблагодарил. Кто-то тронул его за локоть. Студент обернулся и увидел невысокую женщину в черном траурном одеянии. Лихорадочный румянец на щеках выдавал несомненную чахотку. Задыхаясь от кашля, женщина сказала:
— Паныч, миленький, я — Наталья Ющинская, тетка убитого Андрюшеньки. Слышала, як вы поклялись пошукать злодеев. Помогите, Бог вас отблагодарит!
Наталья сквозь слезы рассказала о погибшем мальчике. Из ее бесхитростного повествования Голубев узнал, что, распростившись с надеждой завести собственную семью, она перенесла нерастраченную любовь на племянника. Дав себе слово вывести Андрюшу в люди, она поместила его в Софийское духовное училище. В случае успешного окончания училища мальчик смог бы поступить в духовную семинарию.
— Андрюша выбрал пастырскую стезю? — расспрашивал Голубев. — Чем его привлекал священнический сан?
— Як же? — удивилась Наталья и бесхитростно пояснила. — Андрюша був розумний хлопчик. Вин знав, шо пойдешь по этой линии, всегда будешь сытый, с панами будешь знаться. Тильки не привел Господь!
В училище Андрея прозвали Заднепровским, потому что он каждый день приходил в Киев по Цепному мосту из Предмостной слободки, расположенной за рекой. Мать и отчим мальчика снимали жилье на одной улице, а Наталья с бабкой поселились на другой. С малых лет Наталья клеила коробки, причем в последнее время работала исключительно на шляпный магазин Манделя.
— Бачили, верно, первое шляпное заведение на Крещатике, — с гордостью подчеркнула она. — Мандель ценит меня, поручает робить самые дорогое футляры, обклеенные бархатной бумагой.
По словам тетки, Андрюша большую часть времени проводил в её доме, но незадолго до Пасхи в магазин привезли парижские шляпки весеннего сезона. Чтобы сделать футляры к сроку, Наталье пришлось обратиться за помощью к своему брату Федору Нежинскому, перебивавшемуся случайными заработками. Брат временно перебрался к Наталье, и вследствие этого племяннику пришлось ночевать у матери. Вечером 11-го марта Андрей занес четверть фунта кнопок-пистонов, купленных в городе по поручению тетки. Оставшийся на сдачу пятак она подарила племяннику. На следующий день, 12 марта, после занятий в училище мальчик должен был ожидать тетку на Крещатике, чтобы помочь ей выгрузить футляры и обвязать их лентами. Обычно они встречались у входа в магазин, но на сей раз Андрюши не было.
— Я его, бедняжку, обругала, а он, бедненький, об это самое время лежал зарезанный… — взрыдала Наталья и зашлась в надрывном кашле.
В тот день она долго провозилась со сдачей заказа и вернулась в Слободку поздно вечером. Тетка думала, что мальчик у матери, а мать решила, что он заночевал у тетки. Поэтому Андрюшу хватились только утром следующего дня. Александра Приходько отправилась в город на поиски. В Старокиевском участке ей посоветовали сходить в анатомический театр, посмотреть, не зарезало ли мальчика трамваем. После этих слов мать упала в обморок, и ее пришлось отливать холодной водой. На следующий день к поискам Андрюши был привлечен брат Федор, а Наталья послала сестру в редакцию «Киевской мысли» напечатать объявление о пропаже мальчика.
— Я дала Сашке пять рублей заплатить за объявление, но в редакции сказали, шо они объявления о пропаже людей печатают бесплатно. Мы тогда подумали: есть же добрые люди на свете. Як вони вывернули!
— Были ли у Андрюши знакомые из жидов?
— Як ни було? Андрюша дружил с мальчиком Арендарем, выменивал у него голубей. Но Арендари людины добрые. Да и негде в Слободке зарезать, то в Киеве его загубили. Не знаю, на кого и подумать? Пошукайти злодеев, паныч. Господь вам воздаст!
Поговорив с теткой Ющинского, студент решил осмотреть пещеру, в которой нашли тело убитого. Причем осмотреть сейчас же, немедленно. Такой у Голубева был характер. Если уж он чем увлекался, то забывал обо всем на свете. Он вышел за ограду Лукьяновского кладбища и двинулся в сторону Загоровщины. Из-за плохого знания местности он изрядно поплутал и вышел в глубокий и сумрачный Бабий Яр, но потом, глянув на солнце, сообразил, что взял слишком вправо, и через густые заросли и поваленные деревья выбрался на Багговутовскую улицу. На этом древнем пути, шедшем от Подола по склонам Юрковицы, сахарозаводчик Лазарь Бродский построил лечебницу для евреев. Она состояла из нескольких двухэтажных и трехэтажных зданий, стоявших в некотором отдалении друг от друга. По дорожкам прогуливались больные. Неподалеку находилось еврейское кладбище, и Голубев увидел печальное шествие. «Носить вам не переносить!» — мысленно напутствовал он похоронную процессию.
Багговутовская улица незаметно перешла в Верхне-Юрковскую. Дойдя до водокачки, Голубев встретил молодого человека в летней студенческой тужурке. Его лицо, украшенное необыкновенной длины усами, показалось Голубеву знакомым. Определенно, он видел его в университете. Кажется, у него были простые немецкие имя и фамилия, что-то вроде Отто Шмидта. Говорили, что профессор Граве, основоположник киевской алгебраической школы, собирается оставить его на кафедре чистой математики.
Владимир окликнул Шмидта и узнал, что ему следует повернуть влево на Половецкую улицу и по ней дойти до Нагорной. Шмидт объяснил все подробно и математически точно:
— Собственно говоря, Нагорная только называется улицей, а на самом деле там почти нет строений. Я, так сказать, здешний обыватель, живу на Верхне-Юрковской, а вам необходимо пройти монопольку. Если заплутаете, смело обращайтесь к местным мальчишкам. Они, словно заправские чичероне, превратили показ пещеры в доходный промысел.
— Ритуальное убийство превращено в фарс, — с горечью сказал Голубев.
— Ну, это преступление напрасно называют ритуальным, обыкновенная уголовщина, — уверенно возразил Шмидт.
— Как вы можете об этом судить! — нахмурился Голубев. — Всем известно, что перед Пасхой пропадают христианские дети.
— В Киеве ежедневно исчезают дети. Убегают из дома, тонут, становятся жертвами преступников, но это привлекает всеобщее внимание только перед Пасхой. Впрочем, вы, как я вижу, апологет ритуальной версии. Успеха вам пожелать не могу и руки на прощание, извините, не подам!
— Не собираюсь удостаивать вас такой чести, — запальчиво отозвался Голубев.
Монополька, на которую указал Шмидт, размещалась в единственном на всю улицу двухэтажном кирпичном доме. На углу дома красовалась жестяная табличка с номером сорок. Через несколько домов Верхне-Юрковская улица заканчивалась, переходя в поросший кустарником луг, который на картах значился Нагорной улицей. Плоская вершина Юрковской горы постепенно сползала вниз, превращаясь в изрезанный оврагами склон. К пещере была протоптана широкая тропинка. Около входа суетились мальчишки. Завидев студента в парадной форме, они бросились к нему с предложением услуг.
— Геть отсюда, байстрюки! — грозно прикрикнул на них Голубев.
У входа в пещеру валялись огарки свеч, оставленных зеваками. Студент поднял огарок, зажег его и протиснулся внутрь пещеры. В боковом ответвлении была неглубокая ниша, на стенке выделялось темное пятно. Голубев отковырнул перочинным ножом кусочек и положил его в носовой платок. Недалеко от входа темнело еще одно пятно. Студент мысленно рассуждал, стараясь подражать Шерлоку Холмсу. В пещере всего два кровавых пятна: одно в нише, где голова мальчика соприкасалась со стеной, другое, совсем маленькое, у входа — скорее всего преступники случайно оставили кровавый след, затаскивая труп внутрь.
Следующий час Голубев методично обшаривал склоны оврага, но ничего примечательного не нашел. Постепенно подкрался вечер, голоса людей вдали стихли. Глядя на поднимавшийся с луга туман, студент ломал голову над тем, кто мог спрятать тело убитого в пещере. В полутьме угрожающе шумели деревья и казалось, что кто-то крадется к пещере. Говорят, что злодеев тянет на место преступления. Голубев подумал, что неплохо бы устроить засаду. Мелькнула мысль, что мать и отец сойдут с ума от волнения, если он без предупреждения не придет домой ночевать, но он тут же одернул себя: «Неужели я боюсь, ищу предлога, чтобы уйти домой, в безопасное место? Нет, конечно! Докажу самому себе, что я не трус». Студент сжал эфес шпаги и решительно шагнул в зловещую пещеру.
От глиняных стен тянуло могильной сыростью. Владимир сел в нише, согнув ноги в коленях. Через полчаса, когда зубы начали выбивать непрерывную дробь, он пожалел, что не захватил из дома шинель. Стараясь согреть пальцы, он сунул руки в карманы и нащупал манускрипт, полученный от Адама Любинского. Прекрасная возможность скоротать время. Надо только сделать так, чтобы свет не был виден снаружи. Он чиркнул спичкой о подошву сапога, зажег огарок свечи, укрепил ее в нише и поднес к глазам свиток, стараясь разглядеть полустертые латинские литеры.
Документ был датирован 1753 годом — в ту эпоху Правобережная Украина ещё пребывала под властью Речи Посполитой. Манускрипт представлял собой приговор житомирского коронного суда и был составлен на запутанной латыни, совсем не похожей на простой и изящный стиль записок Юлия Цезаря или поэтических произведений Овидия, которыми пичкали гимназистов. С трудом одолевая нагромождение судебных терминов, он перевел несколько периодов, и его сразу бросило в жар. Больше всего студента поразило, что трагедия, разыгравшаяся более полутораста лет тому назад в окрестностях Житомира, до мельчайших подробностей напоминала убийство на окраине Киева.
Перед польским коронным судом предстали несколько евреев из местечка Маркова Вольница. Поскольку обвиняемые путали и сбивали следствие, коронной суд постановил: «ad investigandam rei veritatem» — «в целях постижения правды дела, дабы Мастер Святой Справедливости…». Студент на секунду задумался, потом сообразил, что так называли палача. «Дабы Мастер Святой Справедливости испытал обвиняемых «ter ad moto igne» — при трехкратном приближении огня». В результате было установлено, что арендаторы Янкель и Эля, подстрекаемые раввином Шмайером, похитили шляхетское дитя по имени Стефан, четырех лет от роду, которое шло домой в Маркову Волицу от воза, на поле стоящего, с какового ссадил его отец, рожденный Адам Студзинский. «Двое неверных поймали оное дите и увели в чащу, где неверный Эля до поздней ночи разными словами его развлекал. Засим неверный Янкель, найдя лошадей, привез шляхетское дитя в кабак, в Марковой Волице находящийся, накормил хлебом, обмакнутым в водке, и положил за печку, где оно целую ночь спало».
На следующее утро в Маркову Волицу прибыли паволочский раввин Шмайер, его сын Шмайер-младший, а также синагогальный служка Кива и еще двенадцать евреев из соседних местечек. Изуверы разбудили ребенка и «поставили его ногами на миску, на столе стоящую, а после дьявольской молитвы или собственного богохульства раввин Шмайер ножичком его в сердце ударил, другие же гвоздями и большими булавками попеременно его кололи и мучили и гвозди за ногти вбивали, соревнуясь друг с другом без боязни, принимая в своем заблуждении „pro actu meritorie scelestum facinus“ — преступное дело за доблестный поступок, поднимая его руки вверх и вниз их опуская с целью более сильного истечения крови, друг друга заменяя при истязании дитяти. Наконец, неверный Шмайер, харлеевский арендатор, едва дышащее после столь тяжких мучений дитя за голову взяв, свернул ему шею и держал его до исхода души и выточении последней капли крови».
Оторвавшись от свитка, Голубев с содроганием взглянул на кровавое пятно перед своими глазами. Наверное, то была последняя капля крови, выточенная из ребенка. Он представил, как извивается слабое тельце в руках изуверов, как фонтаном бьет кровь из голубой жилки на виске, как трепещет и опадает от последнего удара детское сердечко. А потом обескровленный труп прячут в пещеру в нишу, пред которой он сейчас сидит. Ему стало жутко, но студент, пересилив себя, снова углубился в страшное повествование. Изверы, «разделив кровь ребенка в разные сосуды, „cu praedo inocentis sanguinis“ — с добычей невинной крови разбежались», бросив детское тело в роще, где оно было найдено его отцом шляхтичем и местными крестьянами.
Вот и последние строки свитка. Коронной суд постановил: «чтобы неверных раввина и Киву паволочских, Мейера Мордуховича Шмайера-сына, харлеевского, Элю и Янкеля, арендаторов из Марковой Волицы, как первых зачинщиков и главарей бесчеловечного, более чем языческого неистовства, предводителей и изобретателей, Мастер Святой Справедливости с рыночной площади и от позорного столба из города Житомира провел бы с обеими руками, связанными по локти конопляными веревками, облитыми смолой и зажженными, под виселицу, стоящую в стороне села Станимово, и приведя их под ту виселицу, чтобы по три полосы кожи со всякого содрал и затем живьем четвертовал, головы на кол вбивал и четверти по кольям поразвешивал».
Дочитав свиток, Голубев прислонился плечом к глиняной стене и закрыл глаза, воображая жестокую казнь во всех подробностях. Вот процессию осужденных подводят к плахе. Мастер Святой Справедливости отсекает топором голову изувера и насаживает ее на кол. Бородатая голова мучительно закатывает глаза и беззвучно шевелит толстыми вывороченными губами. Внезапно глаза открываются и изумленно таращатся на студента. Владимир вскрикнул, и в тот же миг голова исчезла из проема пещеры. Он сидел, ничего не понимая, и вдруг сообразил, что какой-то человек с черной всклоченной бородой только что заглядывал в пещеру. Выхватив шпагу, студент выскочил из пещеры. К его удивлению наверху уже брезжил рассвет. Наверное, он провел много времени за переводом, а потом нечаянно задремал. В белесой предрассветной мути можно было разглядеть стволы деревьев. Студент прислушался. Полнейшая тишина. Теперь он уже не знал, был ли человек или ему приснилось?
Пройдя несколько сот шагов, он чуть не свалился в глубокий яр, на другой стороне которого шла глухая деревянная ограда. Голубев спустился вниз, и его ноги увязли в светло-желтой глине, размываемой небольшим ручьем. Перебравшись через овраг, он осмотрел деревянную ограду. Забор был старым, из прогнивших досок, но в одном месте белела свежая заплатка. Студент подтянулся на руках, влез на забор и огляделся. Перед ним примерно в ста саженях торчали две высокие кирпичные трубы. По длинным навесам, под которыми сохли штабеля необожженного кирпича, нетрудно было догадаться, что перед ним довольно большой кирпичный завод. Юноша спрыгнул вниз и оказался на совершенно безлюдной территории. Он прошел мимо одного из длинных навесов, в конце которого была устроена гофманская печь с дюжиной загрузочных отверстий, напоминавших голодные пасти. За гофманской печью находилось приземистое бревенчатое здание. Из крошечного окошка под самой крышей доносилось лошадиное фырканье.
Уже полностью рассвело, но вокруг по-прежнему не было ни души. Ниже по склону зияла огромная яма, на краю которой приютились незаконченные постройки. Очевидно, это было глинище, откуда брали материал для изготовления кирпичей. Голубев обернулся и увидел нечто любопытное. Склон горы был выровнен, и посредине утоптанной круглой площадки торчал столб с поперечным бревном, к которому крепились два больших колеса. «Должно быть, от старинных пушечных лафетов», — подумал студент. Подобные сооружения предназначались для растирания глины и назывались «мяла». В мяло запрягали лошадей, они брели по кругу, лафетные колеса катились по земле и растирали глиняные комья в однородную массу.
Мяло чем-то напоминало карусель на Контрактовой ярмарке. Владимиру захотелось согреться, и он, упершись руками в перекладину, толкнул громоздкое сооружение. Лафетные колеса с трудом сдвинулись с места и медленно покатились. Потом их ход убыстрился, и мяло закрутилось, как настоящая карусель. Юноша повис на перекладине, мимо него медленно проплывали навесы для сушки кирпича. Вдруг краем глаза он увидел человека, вышедшего из-под навеса. Бороздя каблуками мокрую глину, Голубев попытался остановить мяло, но центробежная сила вытолкнула за пределы площадки. Не удержав равновесия на скользкой поверхности, он опрокинулся навзничь и, словно по ледяной горке, подъехал прямо под ноги чернобородого мужчины с суковатой дубиной в руках.
Владимир пружинисто вскочил на ноги, изготовившись для защиты, но человек с дубиной не собирался нападать. Внешностью он был наделен, как любили говорить обитатели черты оседлости, «по образу и подобию Божьему». Крючковатый нос занимал добрую треть лица, испещренного глубокими морщинами. Картину дополняли длинные пейсы. Чернобородый подслеповато щурился из-под очков в тонкой стальной оправе, потом, отбросив дубину, удивленно поднял плечи.
— Я хотел прогнать лукьяновских хлопцев и шо бачу? Взрослый паныч катается на мяле, як малое дите?
— Ты кто такой? — спросил Голубев.
— Хорошенькое дело, кто я такой? Я таки приказчик кирпичного завода. А вот кто такой буде паныч и шо он робит здесь в ранний час? Але паныч высматривает лошадей в конюшне? Таки пусть паныч не беспокоится понапрасну, там не лошади, а хвороба, шо самый бедовый конокрад не позарится.
— Не ты ли заглядывал в пещеру, где нашли тело замученного жидами отрока? — сурово спросил Владимир.
Еврей в ужасе замахал руками.
— Вай мир! Такой молодой, разумный паныч повторяет, прошу прощения, глупости. Я простой человек, святой Торе не обучен, но я знаю, шо никак нельзя загубить чужую душу, да еще, страшно сказать, душу ребенка! Мы, евреи, обожаем детей. Бог за наши страдания наделил нас плодовитостью, я отец пяти детей. У меня сын Пиня, гимназист, такой умный, нет головы светлее в целой империи. Разве я могу желать зла другим родителям? Я много лет живу на Лукьяновке, и спросите людей, обидел ли я кого? Таки вам расскажут, как однажды хоронили одного бедняка и хотели пронести его на кладбище прямой дорогой через яры. Хозяин соседней усадьбы, русский, пусть то заметит себе паныч, не захотел, чтобы гроб несли через его владения, а я дозволил пройти через завод. Потом все дивились, что православный запретил, а жид разрешил.
— Охотно верю. Вы рады похоронам православных! Как это у вас говорится: «Сегодня один, завтра другой!» Ну, да ладно, я до тебя еще доберусь!
Студент недобро посмотрел на еврея-приказчика, выждал, когда тот отвел взор, и только после этого повернулся к нему спиной. Он пересек площадку и уткнулся в ветхий забор. Часть досок была выломана, и студент без труда нашел брешь, которая привела его в соседний сад. За стволами приготовившейся зацвести черешни и голых еще яблонь виднелось какое-то строение. Толстая баба, стоявшая на крыльце с корзиной белья, подозрительно взглянула на студента, кривоногий мужичонка высунулся из окна флигеля и проводил его любопытным взором. Владимир подошел к воротам и уже собирался выйти на улицу, когда услышал звонкие детские голоса. На ступеньках наружной деревянной лестницы, которая вела на второй этаж кирпичного дома, примостились две девчонки, по виду лет восьми-девяти, и мальчишка, чуть старше их возрастом. Девчонки громко зевали, но, увидев испачканный парадный мундир Голубева, сразу оживились и захихикали.
— Ось який гарный паныч! Брудний як порося!
— Я упал с мяла, — пояснил студент, пытаясь отряхнуть мундир.
— Ой, незграбний! Мы вси катаемося на мяле, тильки не падаемо, коли Мендель нас шугае.
При этих словах студент сразу же встрепенулся. Надо бы подробнее расспросить девчонок о порядках на заводе, о подозрительном Менделе. Чем бы их расположить в свою пользу? Пошарив по карманам, он обнаружил несколько мятных конфет и протянул их девочкам. Младшая бойко потянулась к конфетам тоненькой ручонкой, за ней то же самое сделала старшая. Мальчишка не притронулся к угощению.
— Угощайся, Женька, будь ласка! Паныч задарма дае!
Но Женька не поддался на уговоры сестер. Он смотрел на студента злым взглядом исподлобья, словно зверек, готовый искусать протянутую ему руку. Голубев спросил девочек:
— Вкусно?
Они обе заговорили, не прекращая чавкать набитыми ртами:
— Известно, конфекты. Нам Мендель гостинец носил.
— Вы же сказали, что он вас гонял?
— Известно, гонял. А на другой день пришел с кульком конфект и просил не трепаться, шо вин нас гоняв.
— Вы знали Андрюшу Ющинского, которого недавно убили?
— Андрюшку? Домового? Бедовый був хлопец. Ходил по кладбищу ночью и не боялся мертвяков. Тому його прозвали Домовым.
— Женя, ты дружил с Андрюшей? — спросил Голубев конопатого мальчишку.
— Отлезь, гнида! — грубо ответил тот.
Голубев сообразил, как разговорить его. Мальчишка держал в руке странное сооружение, представлявшее собой грубую модель аэроплана. Кивнув на деревянную модель, студент сказал:
— Это ведь не «фарман». Похож на аэроплан Сикорского.
— Так и есть! Сикорского, — сразу оживился подросток, — як его ероплан бачил, так и зробил. — Сам зробил, тильки инструмент брал у Пашки Француза.
— Отличная модель, — похвалил студент. — Хочешь я тебе устрою посещение мастерской Сикорского на Куреневке?
— Брешешь! — подросток от волнения привстал со ступеньки.
— Игорь Сикорский — мой приятель, — заверил студент.
Голубев прикинул, что всегда может сводить мальчишку к Сикорскому, одному из учредителей патриотического общества молодежи «Двуглавый орел». Но сначала надо выведать у этого Жени, не заходил ли к нему Андрюша после переезда в Слободку?
— Домовой-то? — неохотно протянул конопатый. — Домовой забегал несколько раз. Мы из рушницы стреляли. Ему Павлушка Француз зробив гарную рушницу за полтину. На лугу стреляли, потом кончился порох. Ну, мы разошлись. Тильки больше его не бачил, а через неделю его нашли в пещере.
«Через неделю! — отметил про себя студент! Тело Ющинского обнаружили 20-го марта. Из дома он ушел как раз за неделю до этого и был убит, очевидно, в тот же день. Выходит, сидящий на ступеньках мальчишка был одним из последних, если не последним, кто видел Андрюшу живым. И происходило это рядом с пещерой. Тропинка от пещеры ведет к забору, там был пролом, через который можно было вытащить труп. Дыра забита недавно, ясно, что кто-то хочет скрыть все следы. А приказчиком-то на заводе жид Мендель! Чувствуя, что он близок к цели, Владимир спросил Женю, куда направился Андрюша после того, как они постреляли на лугу.
— Пошел до церкви святого Федора. Сказал, шо мает там дело…
— Шо ты, стервец, несешь! — раздался громкий оклик сверху.
Дети мгновенно бросились врассыпную. Подняв глаза, Голубев увидел на веранде второго этажа женщину, грозившую убегающим детям. Лицо женщины напомнило студенту Шахеразаду на титульной странице «Тысячи и одной ночи», подаренной ему в детстве. С искусной рассказчицей из арабских сказок ее роднила матовая смуглая кожа, нос с горбинкой и крутые арки атласных бровей. Но самым примечательным были черные глаза, подобные ночному омуту, который много чего скрывает в своей бездонной глубине.
— Шо ты лезешь к моим детям? Али ты сыщик? — с угрозой в голосе спросила женщина, спускаясь вниз по деревянной лестнице.
Она ни секунды не могла устоять на одном месте. Ее невысокая сухощавая фигура беспрестанно перемещалась справа налево, вперед и назад,
— Сударыня, я студент.
— Сыщики тоже всякое платье надевают, — сказала женщина все еще недоверчиво, но уже постепенно успокаиваясь. — Где это вы, пан студент, так измазались? Заходите до меня. Я помогу вам вычистить платье.
Голубев удивился мгновенной перемене в ее поведении. Теперь она разговаривала дружелюбно и спокойно, на ее лице играла приветливая улыбка, и речь ее уже не звучала грубо и простонародно. «В самом деле, в таком виде нельзя показаться в городе, — подумал Голубев. — Кстати, надобно её расспросить, она могла кое-что слышать от своих детей». Поднимаясь по лестнице вслед за женщиной, он успел оценить ее вызывающую походку. Она так раскачивала бедрами, обтянутыми тугим шелковым платьем, что студента пробрала дрожь. Женщина открыла дверь застекленной веранды, служившую общим коридором. Половину веранды загораживала ширма, предназначенная, должно быть, для того, чтобы скрыть от посторонних глаз гостей, которые посещали квартиру. Но эта предосторожность, как тут же пришлось убедиться Голубеву, не достигала результата. Не успели они зайти за ширму, как за их спинами отворилась дверь и раздался отчетливый шепот:
— Опять Сибирячка нового хахаля привела. Нет от вас покоя, хоть беги с Горы. Вчера оргию устроили, сегодня с утра пораньше. Я, коллежский регистратор, найду на вас управу! Буду жаловаться!
Женщина резко обернулась и в один прыжок, как разъяренная кошка, перескочила веранду.
— А ты не подглядывай, зараза! Слюнки текут, что тебе не дают! Жаловаться он будет, я тебе пожалуюсь! Моргну хлопцам, они тебя живо подколют!
Коллежский регистратор был начеку и быстро захлопнул дверь. Смуглянка несколько раз пнула дверь и грубо выругалась.
— От сосид, лихоманка його трясе! Не можно добрать, яку погань удумает! Я Чеберякова, или по-здешнему Чеберячка. Злыдни переделали в Сибирячку, — зло бросила она, но тут же спохватившись, что говорит, словно базарная торговка, приняла аристократический вид и произнесла вполне светским тоном. — Вы бы, милостивый государь, сказали, как вас величать?
Голубев представился, женщина в ответ сделала нечто вроде реверанса.
— Рада знакомству. Вера Владимировна Чеберякова, дворянка, законная супруга чиновника почтово-телеграфной конторы. Мой муж сейчас на дежурстве.
Квартира Чеберяковых состояла из четырех помещений, которые трудно было назвать комнатами. Домовладелец просто разгородил фанерными стенами тесные клетушки. Слева от входа располагалась кухня. Голубев заметил круглую деревянную бадью и подумал, что в квартире нет ванной. Направо от кухни были две смежные комнаты. В той, что поменьше, стояла широкая кровать с никелированной спинкой. На пестром одеяле возвышалась горка подушек, прикрытых простыми холщовыми покрышками. Одна подушка была без наволочки.
Вера Чеберяк провела Голубева в гостиную, единственное более или менее приличное по размеру помещение. Дешевенькие обои на стенах были оборваны по краям и покрыты жирными пятнами. На полу лежал замызганный ковер, в углу стоял рояль со сломанной крышкой. Кисейные занавески на окне имели такой вид, будто о них вытирали грязные руки. Так, наверное, и было, потому что на столе громоздились остатки вчерашнего пиршества. Хозяйка, ни капельки не смущаясь разгромом, царившим в жилище, пыталась найти на столе хотя бы одну не полностью опорожненную бутылку. Когда поиски ни к чему не привели, она вышла в соседнюю комнату, откуда вскоре послышался ее голос.
— Проснись, Павлуша!
Голубев заглянул в комнатушку и увидел, что Вера Чеберяк присела на кровать и тормошит человека, спавшего в сапогах. Вскоре он, позевывая и потягиваясь, возник в дверном проеме. Его глаза были закрыты синими очками, какие обыкновенно носили слепые.
— Болит головушка, Павлушенька? — нежно проворковала Вера. — Пан студент не поскупится дать тебе гроши на опохмелку.
— Це гарно! — одобрил слепой. — Шановний паныч пожалеет калеку.
Голубев вынул из кошелька смятую рублевую бумажку, передал ее калеке, который уверенной походкой, словно знал в этом доме каждый вершок, направился к выходу. Тем временем Вера расчищала стол от грязной посуды. Стараясь не глазеть на хозяйку, дерзко раскачивавшую бедрами, Голубев прислушался к ругани, шуму и звону бутылок, доносившимся из-под пола. На первом этаже располагалась монополька. «Для обитателей притона монополька под боком является благом, — подумал студент. — Вот и Павлуша по лестнице сапогами гремит. Быстро обернулся».
Слепой вошел в гостиную. Хозяйка забрала у него наливку и властно велела:
— Ступай на двор. Нам с паном поговорить треба. Под дверью не подслушивай. Вот тебе трехрядку, играй, чтобы мы здесь слышали.
Слепой взял под мышку гармонь, и вскоре со двора раздались звуки бравурной музыки.
— Ой, люли! Ой, люли! Ой, люли! Се тре жоли!
— Ишь как наяривает! — с гордостью сказала Вера Чеберяк. — Павлуша Француз, так его здесь кличут. Настоящий француз и по-французски свободно чешет! Жалко мне его, убогенького. Он за свою глупость очи потерял. Вот прикармливаю и обстирываю беднягу. Француз на гармони играет, детишкам иной раз игрушки мастерит. У меня такое доброе сердце, что нет никакого слада. Я на фельдшерских курсах обучалась, мне бы свой кабинет на Фундуклеевской иметь, а вместо этого лечу здешнюю бедноту.
Хозяйка квартиры вооружилась щеткой и энергично взялась за парадный мундир Голубева. Счищая глину, она продолжала разговор.
— На Лукьяновке про убийство судачат, что не иначе Андрюшкина родня к этому злодейству руки приложила.
— Нет, Вера Владимировна, родные не виноваты. Полицию намеренно сбивают с толку. Я решил частным образом расследовать злодейское преступление. Не далее как сегодня утром мною обнаружено, что следы ведут на кирпичный завод. Там приказчиком Мендель!
— Он наш сосед, — отозвалась Вера Чеберяк, быстро орудуя щеткой. — Наш дом сороковой по Верхне-Юрковской, а его хата — нумер тридцать второй, за водокачкой. Одно не пойму, с какого боку тут Мендель? На что ему Андрюша?
— Догмат крови! Убийство на ритуальной подкладке.
— Бабьи сказки!
— Вовсе нет! Ваши дети, сами того не подозревая, дали ценные показания против Менделя. По словам девочек, он вел себя подозрительно, а Женя рассказал, что гулял с Андрюшей в день его исчезновения или, во всяком случае, близко к этому дню. Они постреляли из ружья, потом Андрюша пошел по своим делам и, видать, попал в лапы Менделя.
— Вы, пан студент, не слушайте сопливых девчонок и глупого мальчишку! С завода их гоняют, чтобы они не топтали сырые кирпичи. Поверили Женьке! Откуда ему знать, когда Андрюша приходил поиграть? Календаря он не разбирает, чисел не знает. Они с Андрюшей в прошлом году из ружья пуляли, это ему только кажется, что совсем недавно было. Ну вот, мундирчик ваш почистила. Теперь вы красавчик на манер офицера гвардии. Заходите, дорогу знаете. У меня сердце большое, будет час — приголублю. А с Женькой я потолкую по-матерински. Я его, ирода, научу держать язык за зубами!
Голубев вышел из квартиры с твердым убеждением, что тут дело не чисто. Дети Веры Чеберяк что-то знают, и мать боится, что они проговорятся. Дойдя до водокачки, он решил умыться холодной водой после ночи, проведенной в пещере. Качнув рукоять насоса, он оглянулся. За водокачкой виднелась приземистая хата, отделенная от улицы покосившимся плетнем. Калитка со скрипом приоткрылись, и в щель осторожно высунулся чернобородый человек. Студенту хватило мгновения, чтобы узнать приказчика кирпичного завода Менделя. Его лицо было повернуто в том же ракурсе, как лицо неизвестного человека, почудившегося ему в ночной полудреме. Голубев был готов присягнуть, что именно Мендель заглядывал ночью в пещеру.
Глава пятая
1 мая 1911 г.Черная махина, больше похожая на порожденного железными недрами зверя, чем на творение слабых человеческих рук, медленно катила по рельсам, отдуваясь от долгого бега и фыркая струями пара. Паровоз втягивался в лабиринт вокзальных путей. На уровне человеческих глаз проплыли ленивые шатуны, медленно вращавшие красные паровозные колеса. Чумазое чудище тяжко ухнуло всем своим нутром и встало. И сразу же на него набросились сотни людей, ждавших в засаде, когда длинное тело зверя вползет в ловушку и испустит последний вздох. Носильщики в белых фартуках с начищенными бляхами на груди в мгновение ока выпотрошили вагоны, уставив свои тележки пирамидами тюков и баулов. Несколько человек тащили из окна тяжеленный кованый сундук, вслух удивляясь тому, как его удалось загрузить при отправлении из Питера.
Железнодорожный вокзал был позорищем Киева. Старое каменное здание, построенное во времена «чугунки», давно обветшало и не удовлетворяло потребностям резко возросшего железнодорожного сообщения. Несколько лет назад старый вокзал разобрали и рядом заложили современное, большое здание. Но пока новый вокзал не поднялся выше фундамента, а для пассажиров было наскоро возведено временное деревянное строение, достойное захолустного полустанка, но отнюдь не «матери городов русских».
К вагону первого класса спешил импозантный господин, лет сорока с лишним, облаченный в черный мундир судебного ведомства. На зеленого бархата воротниковых клапанах, которые в просторечии именовались петлицами, сверкала золоченая арматура: столп закона и три звездочки в ряд. В судебном ведомстве звездочки обозначали не классный чин, а занимаемую должность. Три звезды на петлицах без просвета свидетельствовали о высоком положении обладателя черного мундира, а красный аннинский крест на шее подтверждал правильность этого предположения. И действительно, импозантный господин с аккуратно подстриженными бородкой и усиками являлся прокурором Киевской судебной палаты, действительным статским советником Георгием Гавриловичем Чаплинским.
Прокурор задрал голову, чтобы заглянуть внутрь вагона, но ничего не увидел, а только не удержал на голове фуражку с эмблемой судебного ведомства, обрамленной дубовыми листьями. Фуражка упала на перрон, открыв взорам редеющие, зачесанные назад волосы. Спутник Чаплинского ловко подхватил фуражку, бережно отряхнул, даже подул на козырек и подал ее с низким поклоном. Прокурор сделал раздраженный жест, но уже в следующее мгновение его нахмуренное лицо озарилось сияющей улыбкой. Со ступенек вагона спускался сухощавый денди, одетый неброско, но очень изыскано. На нем был укороченный пиджак, пошитый по последней моде — без подкладных плеч, с завышенной талией и удлиненными лацканами. Денди воскликнул:
— Ваше превосходительство! Ну, зачем же вы сами затруднились!
— Что вы, ваше превосходительство! Встретить вас почитаю за святую обязанность. Нас ожидает мотор судебного ведомства.
— Вижу, вы отлично устроились. В Петербурге нам, вицам, не приходится и мечтать о подобной роскоши.
— Рад был бы с вами поменяться, — осмелился пошутить Чаплинский.
Нет, никогда бы столичный гость — Александр Васильевич Лядов — не согласился бы поменяться местами с прокурором. «Удивительное дело, — размышлял Чаплинский, направляясь вместе с денди к выходу из вокзала. — Чин у нас одинаковый. Я прокурор судебной палаты, надзирающий за соблюдением закона во всем Юго-Западном крае, он же обыкновенный „виц“, то есть вице-директор первого уголовного департамента министерства юстиции. А все-таки этот виц обитает на недосягаемой для меня высоте».
В прокуроре всколыхнулась давняя обида провинциала, намыкавшегося по столичным канцеляриям. Какое унижение пришлось испытать при общении с министерскими чиновниками! Надо было заискивать перед любым столоначальником, да что перед столоначальником — ему, потомку славного аристократического рода, случалось запанибрата беседовать со сторожами и курьерами в департаменте, угощать их табачком и балагурить с ними, как с ровней. Сколько раз потребовалось съездить в столицу, прежде чем удалось предстать пред светлыми очами начальника отделения личного состава! Хорошо, что начальник отделения оказался любителем анекдотов из еврейского быта, коих Чаплинский знал великое множество. Так, под смачные анекдоты удалось сломать лед отчуждения, а потом дело пошло на лад.
У выхода из вокзала стоял автомобиль, сверкавший лакированным корпусом. Шофер в длинных кожаных перчатках и кожаном шлеме завел мотор. Улица была запружена ломовыми извозчиками, и шоферу приходилось беспрестанно жать на клаксон, то и дело тормозя перед вставшими на дыбы лошадьми. Только свернув на Бибиковский бульвар, автомобиль развил приличную скорость. На лакированных крыльях машины бесконечной перспективой отражались две аллеи пирамидальных тополей. Чаплинский покосился на Лядова, наслаждавшегося южным теплом. По белому лицу вице-директора скользили блики солнечных лучей, легко проникавших сквозь молодую тополиную листву. Встречный поток воздуха растрепал его модную прическу, но он не обращал на это внимание, развалившись на сиденье красной кожи и улыбаясь прогуливающимся по бульвару дамам. Когда автомобиль выкатил на площадь, молодой чиновник по особым поручениям счел своим долгом познакомить столичного гостя с киевскими достопримечательностями.
— Ваше превосходительство, извольте-с обратить внимание на строящийся рынок на Бессарабке. Стеклянная крыша-с, как в Париже. Местный крез Лазарь Бродский оставил в своем завещании полмиллиона рублей на строительство рынка.
Крытый рынок был почти полностью закончен, шли отделочные работы, на фасадах устанавливались пасторальные рельефы, изображавшие селян с быками и молочниц. Решетки ворот украшала дичь, взлетающая с озерной глади, и даже заклепки были выполнены в форме цветов.
— Модерн, новомодный югенд стиль, — с брезгливой гримасой заметил вице-директор. — В Москве толстосумы также увлечены модерном, понастроили доходных домов в виде ящиков из-под мыла и радуются. Слава Богу, в Петербурге пока предпочитают благородную классику.
Между тем мотор выкатил на Крещатик. Глядя на разноцветные фасады домов, Чаплинский подумал, что изогнутый Крещатик, которым так гордятся киевляне, не представляет ничего занимательного для столичного гостя, привыкшего к прямому как стрела Невскому проспекту. В самом начале Крещатика высились три восьмиэтажных здания, принадлежащих банкам; вся остальная застройка была четырехэтажной. Зелень довольно скудная, посередине улицы шли трамвайные рельсы с путаницей проводов над ними. Одно было хорошо: широкие светлые тротуары, по которым текла беззаботная толпа. Вскоре мотор свернул на Александровскую улицу. Вдоль неё тянулся Царский сад, и аромат цветущей сирени перебивал запах выхлопных газов. Лядов весело рассмеялся, отмахиваясь от глянцевитого майского жука, жужжавшего над его головой. Внизу показался Днепр, и автомобиль осторожно пополз вниз по серпантину спуска.
— Какие кручи! — удивился Лядов.
— Киев вообще расположен в разных плоскостях, — кивнул Чаплинский, уцепившись за спицу запасного колеса, подвешенного снаружи.
Автомобиль выкатился на деревянный настил моста, промчался до самого конца и резко затормозил, вызвав у Чаплинского приступ морской болезни. Ему даже почудилось, будто автомобиль пошатывается, хотя едва ощутимый ветерок вряд ли бы смог раскачать широкое деревянное полотно, подвешенное на толстых, в руку взрослого человека, цепях. На мосту никого не было, кроме городового, облокотившегося на полосатый шлагбаум.
Чиновник по особым поручениям крикнул:
— Нам надобно в Слободку.
Куривший толстую цигарку городовой, даже не повернув головы, прогудел:
— Шукайте лодку.
Чиновник вскипел, крикнув, что городовой, верно, не понял, что перед ним его превосходительство господин вице-директор департамента и его превосходительство господин прокурор судебной палаты. Услышав об их превосходительствах, полицейский подтянулся, но цигарку не бросил и упрямо повторил, что лодки тоже нема. Ничего не оставалось иного, как дождаться полицмейстера. Чиновники подошли к перилам посмотреть на залитую водой Слободку. Судя по грязным отметинам на выбеленных стенах хат, половодье уже пошло на убыль, однако вода все еще доходила до окон. Обитатели Слободки передвигались по затопленным улочкам на лодках.
— Напоминает Венецию, не правда ли? — заметил вице-директор.
В прошлом году Чаплинский по своему обыкновению провел отпуск на Женевском озере, а потом решил съездить в Венецию. Знаменитые каналы оказались вонючими сточными канавами, кирпичные стены палаццо были обшарпаны, да еще во время плавания на узкой и неудобной гондоле прокурора жестоко искусали комары, такие огромные и свирепые, каких ему еще не доводилось встречать. Но откровенно сказать об этом, означало бы зарекомендовать себя невеждой, не способным ценить прекрасное, и Чаплинский поспешил согласиться, что Предмостная слободка — точь-в-точь Венеция, а мальчишки на самодельных плотиках лавируют между домами словно заправские гондольеры.
По деревянному настилу громко забухали подковы. Из коляски, запряженной могучими гнедыми рысаками, ловко выпрыгнул киевский полицмейстер полковник Скалон, на ходу бросивший вытянувшемуся в струнку городовому:
— Две лодки, живо!
— Есть, ваше высокобродие! — козырнул городовой и кинулся в ивовые заросли под мостом, путаясь от усердия в подвешенной на поясе шашке.
Пожав руку вице-директору, полковник заговорил на волнующую его тему.
— Просветите нас, провинциалов. До каких пор будут терпеть «Царицынское сидение»? Что себе позволяет дерзновенный монах!
Чаплинский понял, что полковник имеет в виду иеромонаха Илиодора, одного из видных деятелей Союза русского народа. Став настоятелем монастырского подворья в Царицыне, он поклялся превратить развратный портовый город в цитадель православия. Пылкие выступления Илиодора привлекали тысячи верующих. На подворье было выставлено чучело дракона, олицетворявшее гидру революции, и по окончании проповеди Илиодор, как Георгий Победоносец, пронзал дракона копьем. В одной из галерей иеромонах повесил портрет Льва Толстого, и каждый богомолец должен был плевать на главного безбожника и богохульника. Куда бы ни направлялся Илиодор, следом за ним с возгласами «Прочь с дороги! Русь идет!» шествовала возбужденная толпа. Попавшихся навстречу интеллигентов мазали дегтем. Чтобы прекратить безобразия, губернатор приказал стянуть к подворью войска. Однако войскам приказали снять осаду. «Царицынское сидение» кончилось победой церковного мятежника. Такой странной развязке и удивлялся полицмейстер Скалон.
— Куда смотрят власть предержащие? — рокотал полковник, — Сумасшедший иеромонах публично заявляет, что все министры сплошь жулики и проходимцы, коих надо еженедельно драть розгами, а Председателя Совета министров Столыпина следует пороть сугубо — по средам и пятницам, чтобы помнил постные дни.
Вице-директор с улыбкой заметил, что сам Петр Аркадьевич по данному поводу сказал, что Илиодор совершенно прав в своих исходных положениях: ведь интеллигенция, как Панургово стадо, идет за врагами отечества, да и граф Толстой разве не являлся при жизни апостолом анархизма? Петра Аркадьевича печалит лишь то, что безумный монах дискредитирует правильные идеи.
— Тронуть Илиодора невозможно, потому что он дружен с одной особой, — тут Лядов перешел на конфиденциальный шепот. — Иеромонах принимал его на монастырском подворье и сам гостил в Тобольской губернии.
Бравый полковник усиленно моргал белесыми ресницами, морща лоб и явно не понимая намеков. Чаплинский же сразу догадался, о ком говорит вице-директор. Когда он бывал в Петербурге, в министерских приемных шептались о каком-то сибирском старце с двусмысленным прозвищем — не то Блудкин, не то Распуткин. Уверяли, что он с помощью грубого шарлатанства якобы втерся в доверие к августейшей чете. Чаплинскому было трудно представить, чтобы к полуграмотному юродивому прислушивались государь, прошедший курс наук у лучших профессоров, и государыня, воспитанная при дворе своей английской бабушки королевы Виктории. Но Лядов, по-видимому, не сомневался, что Илиодор остался безнаказанным благодаря заступничеству тобольского приятеля.
Пока Чаплинский размышлял о столичных интригах, на мосту показался закрытый черный автомобиль. Приехали прокурор окружного суда Брандорф и следователь Фененко. Вслед за автомобилем появился экипаж начальника сыскной полиции Мищука. Несколько минут ушло на взаимные представления и поклоны, затем судебные чины и полицейские сели в две плоскодонки, которые пригнал городовой, и поплыли в слободку. Руководствуясь указаниями Мищука, нашли хату, в которой обитала семья убитого мальчика. Вице-директор заглянул в подслеповатое окошко и задумчиво протянул:
— Н-да… мне кажется, в такой тесноте затруднительно совершить кровавое убийство, не переполошив всей округи.
Припавший к окошку Чаплинский должен был согласиться с этим выводом. Хата имела единственное помещение с печкой посередине, причем хозяйскую половину и угол, который снимали родители Ющинского, разделяла только ситцевая занавеска. Рабочий сундучок переплетчика и остальной убогий скарб плавал в грязной, замусоренной воде. Лядову захотелось побеседовать с четой Заблоцких, которым принадлежала хата. Лодки направились на окраину Предмостной слободки, где в трех десятках еще незатопленных домов ютилось все оставшееся без крова население. Старуху Заблоцкую нашли без труда. От старика, бывшего солдата пограничной стражи, не удалось добиться толку, зато его жена решительно заявила, что в их хате даже цыпленка невозможно зарезать, чтобы не услышали соседи. Она упрямо твердила, что Андрюша ушел в Киев.
— Пашка Пушка бачил и дивчина теж бачила. Розпитайте их, — старуха ткнула пальцем в хлопца и дивчину, стоявших недалеко от лодки.
Брат и сестра Пушки сначала дичились и отнекивались, но постепенно успокоились и рассказали, что до наводнения жили рядом с Цепным мостом. Рано утром 12 марта — Павел Пушка запомнил этот день, потому что была суббота — он увидел Андрея, направлявшегося к мосту. Павел затруднился сказать, в каком часу это было, но его сестра, отправившаяся с утра пораньше на базар и встретившая Андрея Ющинского у Цепного моста, предположила, что было часов шесть или четверть седьмого, так как базар оживал примерно в это время. Мальчик был одет в пальто и нес перевязанные ремешками учебники. По бедности он не имел ранца.
— Итак, Ющинский ушел из дома живым и невредимым. Почему вы скрыли важный факт от дознания? — обратился вице-директор к свидетелям. — Если бы вы сказали правду, мать Ющинского не арестовали бы.
— Мы говорили, — в один голос воскликнули брат и сестра. — Тильки сыщик сказал, шо колы мы бачили Андрюшу, мы заедино с убийцами.
— Кто вам сказал такую глупость? — изумился Лядов.
— Та вин же, — брат и сестра показали на Мищука.
— Они все перепутали, — смутился тот.
Лядов внимательно посмотрел на Мищука, потом обернулся к Чаплинскому и сказал, что в Слободке они все осмотрели, пора возвращаться в Киев. Пусть господин прокурор палаты позаботится, чтобы малолетним свидетелям не угрожали. Мысленно Чаплинский ругал последними словами начальника сыскного отделения, поставившего его в неловкое положение перед петербургским вицем. Полицмейстер, видно, испытывал те же чувства, потому что, подойдя к прокурору и кивнув в сторону Мищука, презрительно скривился.
— И зачем его перетащили в Киев? Будто своих сыщиков не хватает! Морочит нам головы лекциями про Ломброзо и прочих итальяшек. Сейчас я ему покажу!
Полковник Скалон не привык откладывать дела в долгий ящик. Он пригласил Мищука в свою лодку, и вскоре над торчащими из воды плетнями загремел его сердитый начальственный рык. Вторая лодка, в которой разместились чины судебного ведомства, шла значительно тяжелее и далеко отстала. Впереди над отвесным обрывом парили белые строения Печерской лавры, и золотые маковки церквей нестерпимо сверкали на солнце. Под берегом плюхал большими колесами пароход. Картина была умиротворяющей, но судебным чиновникам некогда было любоваться природой. Они разговаривали о своем. Когда вице-директор вскользь заметил, что первое сообщение об убийстве Ющинского было опубликовано в петербургской «Земщине», прокурор Брандорф вскипел:
— Гнусная погромная газетенка.
Лядов сухо заметил, что о политической физиономии «Земщины» спорить не намерен, однако, руководствуясь означенной газетной заметкой, крайне правая фракция Государственной думы внесла срочный запрос о ходе расследования. Собственно, он откомандирован в Киев как раз после горячих думских дебатов. Чтобы коллеги по судебному ведомству почувствовали, до какой степени в Петербурге накалена атмосфера, он прихватил стенограмму выступления лидера фракции крайне правых Маркова-второго. Вице-директор покопался в кожаном портфеле, вынул листок и зачитал: «Наша детвора, гуляющая на солнце, веселящаяся в садиках, каждую минуту может попасть в беду, к ней может подкрасться с длинным кривым ножом жидовский резник и, похитив резвящегося на солнышке ребенка, утащить его к себе в жидовский подвал».
— Господи! — ахнул Брандорф. — Неужели этот бред произносится с трибуны Государственной думы?
— Свобода слова не только для левых. Впрочем, эту часть речи господина Маркова я пропущу за ненадобностью. А вот это интересно, так как касается непосредственно киевской магистратуры: «Нам только объявили от имени правительства, что беспокоиться уже нечего; уже судебный следователь Фененко приступил к делу, что над ним парит господин прокурор судебной палаты и что мы можем теперь заснуть. Но мы-то знаем, что этот самый парящий над следствием прокурор палаты уже требовал от киевских властей, чтобы не была допущена панихида по злодейски умерщвленному христианскому юноше. От такого парящего судебного орла мы вряд ли многого дождемся». Благоволите разъяснить историю с панихидой, — потребовал Лядов.
Чаплинский начал объяснять, что он всего лишь хотел принять меры для предотвращения массовых беспорядков. По его просьбе губернатор вызвал руководителей патриотических организаций и рекомендовал им отменить панихиду. К сожалению, от губернатора они направились прямиком к генерал-губернатору, и панихида была разрешена. После панихиды произносились подстрекательские речи, причем, по агентурным данным, особенно отличился студент Голубев.
— Господа, — твердо сказал вице-директор, — я вынужден указать на совершенно неудовлетворительную постановку сыскного дела и настоятельно рекомендую передать полицейское дознание в более опытные руки.
Брандорф заметил:
— Просчеты начальника сыскного отделения Мищука объясняются тем, что он недавно в Киеве и не успел завести надежных осведомителей. Лучше всего усилить дознание путем привлечения сыщика Красовского, досконально знающего киевский преступный мир. В настоящее время Красовский служит становым приставом в Сквирском уезде, но его можно откомандировать в распоряжение полицмейстера.
— Так и сделайте. Мищука отстранить, вызвать этого вашего Красовского, — распорядился вице-директор, когда лодка подплыла к Цепному мосту.
Чиновники поднялись по ступенькам и расселись по моторам. Едва машина с вице-директором и прокурором палаты двинулась с места, Лядов неодобрительно заметил.
— Ваши подчиненные, видать, либералы.
— Я, ваше превосходительство, вовсе не разделяю их взглядов. Сам я скорее консерватор, — поспешно ответил Чаплинский.
— Так будет понадежнее. Конечно, черносотенная пресса коробит своей бесцеремонностью, но знаете ли вы, что на письменном столе государя императора всегда лежит свежий номер «Земщины»? И если правые депутаты вас бранят, то, поверьте, это очень и очень серьезно.
Чаплинский взмок от волнения. В душе он проклинал несправедливую судьбу, подкинувшую ему такое кляузное дело сразу после назначения, когда он еще не успел ни осмотреться, ни узнать людей. Только не хватало испортить отношения с министерством юстиции и поломать карьеру, улыбнувшуюся ему после многих лет прозябания на второстепенных должностях! Он подумал, что надо срочно отвлечь гостя, и когда они доехали до здания судебных установлений и вошли в прокурорский кабинет, он подвел вице-директора к окну, показал на памятник Богдану Хмельницкому с надписью на постаменте «Волим под Царя Восточного Православного» и попросил позволения ознакомить его превосходительство с одним историческим или, точнее, генеалогическим анекдотом.
— Мой предок, чигиринский подстароста Данило Чаплинский, отбил у своего соседа Богдана Хмельницкого его возлюбленную Гелену. Они долго соперничали за её сердце, а она не знала, кому отдать предпочтение. Жила невенчанной с Богданом, потом вышла замуж за моего предка и стала Геленой Чаплинской. Она была довольно ветреной женщиной. Не случайно сенаторы в Варшаве, куда ездил жаловаться Богдан Хмельницкий, увещевали его: «Стоит ли, пан сотник, жалеть о такой особе! Свет клином не сошелся!» Но Богдан не унимался. Поднял восстание против поляков, стал гетманом войска Запорожского и положил Малороссию к ногам царя Алексея Михайловича. Гетман обвенчался с Геленой Чаплинской при живом муже. Правда, казацкое окружение терпеть не могло «ляшку». Однажды, когда Богдан был в военном походе, его сын от первого брака Тимошка, отличавшийся необузданным нравом, велел содрать с мачехи платье и повесить ее голой на воротах.
— Какие страсти бушевали в семнадцатом веке! — заметил Лядов
— Да-с! Данило Чаплинский мог приказать своей дворне заковать Богдана в цепи, а его потомок смотрит из окна под хвост гетманскому коню. Вместо Речи Посполитой теперь Привислинские губернии, а Чаплинские верой и правдой служат русскому государю.
Лядов со смешком сказал, что анекдотец забавный. Он готов признать, что десница Москвы была тяжка для поляков, зато поляки сполна отомстили русским. На недоуменный вопрос прокурора, чем же отомстили, вице-директор пояснил:
— Поляки дали нам евреев.
«Остроумно!» — согласился Чаплинский. Действительно, после трех разделов Речи Посполитой в русское подданство отошло более половины евреев всего мира. Лядов немного помолчал, как бы обозначая, что пора переходить от разговоров к делу, потом словно невзначай сказал:
— Кстати о евреях. Его высокопревосходительство господин министр юстиции определенно уверен, что убийство Ющинского имеет ритуальную подоплеку.
С мнением министра юстиции, высказанным вице-директором, спорить не приходилось, и прокурор постарался ответить в сугубо дипломатической форме:
— В Киеве о ритуале толкует лишь студент Голубев.
— Кстати, вы во второй раз упоминаете его фамилию. Чем он вам досадил?
Чаплинский с нескрываемым раздражением рассказал, как на днях Голубев заявился к епископу Павлу, викарию Киевской епархии, с петицией на высочайшее имя о выселении из Киева трех тысяч евреев. Если его превосходительству угодно, он может лично побеседовать с Голубевым и убедиться, что студент всего лишь мальчишка, играющий в сыщика.
— Хорошо, пригласите его! — согласился вице-директор. — Мне также необходимо поговорить с судебно-медицинскими экспертами.
— Можно обратиться к профессору Сикорскому, — предложил прокурор.
— О, Сикорский — психиатр с мировым именем, — заметил вице-директор. — Нам повезло, что он киевлянин. Нельзя ли назначить встречу?
Чаплинский вызвал дежурного чиновника и распорядился телефонировать профессору Сикорскому. Аппарат в прокурорском кабинете был старой конструкции с двумя трубками на круглой подставке, на которой было выгравировано: «Убедительно просим не слушать ртом и не говорить ухом». Пока чиновник энергично накручивал ручку аппарата, Чаплинский думал, что консультация Сикорского будет весьма полезной. Ему, прокурору, неудобно спорить с вице-директором, а вот профессор, несомненно, поднимет на смех ритуальную версию. Чиновник сообщил, что господин профессор на проводе. Чаплинский приложил к уху металлический рожок и услышал прерывающийся старческий голос:
— С завтрашнего дня я занят в экзаменационной комиссии. Если дело не терпит, не угодно ли пожаловать ко мне прямо сейчас.
Чаплинский, стараясь не касаться губами фильтра, сказал в трубку:
— Добже, пан профессор. Мы приедем.
Через двадцать минут автомобиль судебного ведомства уперся медным радиатором в ворота высокого кирпичного дома на Большой Подвальной. Семья профессора занимала два этажа, а третий был отведен для пациентов. На воротах красовались две таблички: «Заслуженный профессор университета святого Владимира И. А. Сикорский» и «Врачебно-педагогический институт для умственно-отсталых и нервных детей». За трехэтажным домом угадывалась обширная усадьба. Откуда-то из-за деревьев доносился треск, такой громкий, что не было слышно сигнала, который несколько раз дал шофер. На секунду все стихло, шофер снова просигналил, и ворота приоткрылись.
Чаплинский крикнул дворнику, что они приехали к господину профессору, но его слова потонули в возобновившейся громкой пальбе. Дворник отчаянно махнул рукой, широко распахнул ворота и жестом показал на железную крышу сарая за усыпанными белыми лепестками яблонями. Автомобиль медленно покатил к сараю в глубине сада. Душераздирающая трескотня раздавалась именно оттуда. Чаплинский заткнул уши. Внезапно рев стих, и прокурор с некоторой опаской поднял голову. В саду стояла мертвая тишина, только в дальнем углу несмело пискнула пичуга. Прокурор и вице-директор вошли в сарай, уставленный диковинными механизмами. Вокруг чадящего мотора возились несколько человек. Один из них, юноша в потертой кожаной тужурке, осведомился, что им угодно.
— Э, э… вы профессор Сикорский? — с сомнением спросил прокурор.
— Я Игорь Сикорский, а вам, верно, нужен мой отец Иван Алексеевич. Дворник перепутал и направил вас сюда. Я проведу вас к отцу.
Чаплинский, которого подташнивало от клубившихся в сарае выхлопных газов, поспешно устремился к выходу, но Лядов заинтересовался странным сооружением в углу сарая. Стальная рама с натянутыми на ней фортепианными струнами поддерживала две вертикальные трубы, на которых были укреплены винты с деревянными лопастями.
— Что это?
— Геликоптер, род летательного механизма, — пояснил молодой Сикорский.
— Новое слово в воздухоплавании?
— Отнюдь нет! Мысль о таком аппарате впервые встречается более четырехсот лет назад у Леонардо да Винчи. На одном из его рисунков изображен геликоптер с винтами, вращаемыми человеком с помощью рукояток. Геликоптер имеет одно весьма ценное преимущество перед аэропланом: он может взлетать и садиться на крыши домов внутри города, на палубу корабля, на самую небольшую площадку, во двор и так далее; тогда как для аэроплана необходимо иметь большое ровное поле, по крайней мере треть версты в длину и немногим меньше в ширину.
— Неужели эта штука летает?
— Поднимается, но только без пилота. Не улыбайтесь, это громадное достижение. Первый и единственный экземпляр, способный оторвать от земли собственный вес. Впрочем, я в геликоптерах разочаровался, их время еще не пришло. Мое новое детище, — он с гордостью показал на решетчатую конструкцию, напоминавшую положенную на бок этажерку. — Биплан С-4, то есть четвертая модель Сикорского. По поручению киевского общества поощрения воздухоплавания мы собираемся принять участие в перелете Москва-Петербург.
— У вас замечательное увлечение! — похвалил юношу вице-директор и, завидев на его груди значок «Двуглавого орла», добавил. — Вкупе с похвальными патриотическими чувствами!
Выйдя из сарая, молодой Сикоркий бросил восхищенный взгляд на автомобиль, который привез гостей.
— Ого, «Руссо-Балт»! У этой модели подвеска задней оси на трех взаимосвязанных полуэллиптических рессорах, двух продольных и одной поперечной. В двигателе применен алюминиевый сплав. Производство Балтийского вагонного завода. Эх, им бы еще аэропланами заняться!
Когда они вошли в дом, Чаплинский поразился бесчисленным книжным шкафам, занимавшим все комнаты. Такие же книжные шкафы заполняли просторный кабинет, куда их провел сын профессора. Он попрощался и оставил гостей наедине с отцом. Профессор Сикорский был высохшим от возраста старцем с пергаментной коричневой кожей на дряблом морщинистом лице. Он говорил еле слышным, прерывающимся шепотом. Только пронзительные голубые глаза старика сохраняли молодую чистоту и ясность.
— Мы имели удовольствие познакомиться с вашим сыном, — поклонился Лядов.
— А, Игорек! Он всего лишь студент Политехнического института, но уже составил себе имя в воздухоплавании. Он великий труженик. Если мои ассистенты говорили, что у профессора Сикорского сорок восемь часов в сутках, то у Игорька их вдвое больше. Его называют «русским Фарманом», хотя Игорь не любит иностранщины и мечтает строить летательные машины для воздушных просторов нашего Отечества.
Вице-директор любезно заметил, что поражен огромной библиотекой профессора. Сикорский явно оживился и рассказал, что начал собирать книги еще в молодости. Однажды в его комнату забрались воры и украли всю одежду, так что буквально не в чем было выйти на улицу. Он просидел взаперти целую неделю, пока случайно не зашел товарищ и не одолжил свои брюки. И все-таки Сикорский был безмерно счастлив тем, что воры не польстились на его книжные сокровища. Сейчас в его библиотеке сорок тысяч томов по всем отраслям знаний. Под книги, им самим написанные, выделена целая полка. Его труды переведены на все европейские языки, причем монография «Душа ребенка» выдержала четырнадцать изданий.
— Чужая душа, как говорится, потемки, — вздохнул Лядов. — Трудно вам, психиатрам. Чем измерить человеческие чувства?
— А вот этим, — уверенно сказал Сикорский, указывая на небольшой прибор, стоявший на письменном столе. — Это, извольте видеть, сфигмометрический аппарат Рива Риччи, посредством коего измеряют артериальное давление. Есть еще пневмограф для измерения дыхания, динамометр и множество других приспособлений. Душа изъясняется с окружающим миром на языке сосудодвигательных, дыхательных и полигляндулярных экспрессий, которые фиксируются приборами в виде кривых. Смею заверить, что если вы получите известие о производстве в следующий чин, кривая будет иметь одно начертание, если же вас обойдут по службе — кривая изменится. Образные выражения «камень лежит на сердце» или «сердце играет» являются буквально верными и вполне исчисляемыми. Впрочем, сие долгий разговор. Насколько я понимаю, вас, господа, привело ко мне дело Ющинского?
— Возникла версия, что преступление совершил душевнобольной. Нас интересует ваше авторитетное мнение, могло ли такое случится? — спросил Чаплинский.
Профессор отвечал едва слышным голосом, медленно выговаривая каждое слово:
— Теоретически рассуждая, тщательно обдуманное убийство могло быть делом рук параноика, которые в начальный период болезни, как правило, сохраняют ясность ума, память и силу воли. Все это, вместе взятое, обеспечивает им возможность не только создавать, но и обрабатывать свой бред, доводя его до высшей степени отделки, какой не наблюдается при других психозах. Однако это не имеет отношения к данному преступлению, ибо характер нанесенных мальчику ран доказывает, что злодеев было несколько. И в этом я солидарен с профессором Оболонским, производившим вскрытие. Разница лишь в том, что господин декан говорит о двух или трех убийцах, а я пришел к выводу, что их было шестеро.
— Шестеро?! — в один голос воскликнули прокурор и вице-директор
— Как минимум шестеро, — подтвердил профессор, — потому что, судя по техническому совершенству нанесения ран, мальчик удерживался в состоянии абсолютной неподвижности.
После некоторого раздумья Чаплинский высказал предположение:
— Быть может, действовала группа душевнобольных?
Сикорский, едва заметно усмехнувшись в седые с желтоватым отливом усы, пояснил, что данная гипотеза выходит за грань возможного. Вероятность образования сплоченной группы больных с совершенно идентичными душевными расстройствами равна нулю. К тому же раны были нанесены уверенной и спокойной рукой, которая не дрожала от страха и не преувеличивала силы движения под влиянием гнева. Здесь чувствуется почерк людей, выполнявших привычную и рутинную работу.
— Так, так! — встрепенулся Лядов.
— Я давно начал собирать материалы по аналогичным делам, — шептал Сикорский. — Сначала они заинтересовали меня только как тема для монографии, посвященной массовым бредовым состояниям, однако по мере углубления в эту область я делал все более неожиданные и удивительные открытия. Лет десять назад я систематизировал разрозненные факты и… — тихий голос профессора пресекся, но потом он овладел собой и продолжил. — Что скрывать! Я испугался и засунул свои материалы в самый дальний ящик стола. Не хотелось прослыть ретроградом, а то и сумасшедшим. Но нельзя же вечно хранить молчание! Я говорил декану Оболонскому, что нам, старикам, уже нечего бояться — жить осталось совсем ничего. Увы, я не смог его убедить. Не смею его осуждать, но сам молчать не намерен.
Профессор откинулся на спинку кресла и, казалось, погрузился в дрему, прикрыв пергаментными веками глаза и сложив на груди непомерно крупные кисти рук, покрытые узловатой паутиной жил и сосудов. Однако он не спал. Его обвисшие усы дрогнули, и он начал говорить еле слышным голосом:
— Это одинаково в любой стране. Когда обнаруживается зверское убийство, происходит наведение на ложный след. Всеми способами, в первую очередь путем подкупа, стараются воспрепятствовать доведению такого дела до суда. Как по команде раздается хор голосов, утверждающих, что это обычное уголовное преступление, которое вовсе не должно привлекать внимание общества. Одновременно с этим, умело и зачастую успешно, направляется подозрение то против родных убитого, то против его единоверцев и единоплеменников.
— Ради Бога, не томите! Ваше мнение, кто это делает? — спросил Лядов.
Профессор отвечал монотонным бесстрастным голосом:
— Подобные преступления должны быть объяснены расовым мщением такой народности, которая, будучи вкраплена среди других наций, проявляет в них черты своей расовой психологии и время от времени совершает злодеяния, весьма сходные между собой по своим исключительным особенностям. Это мщение названо профессором Леруа-Болье «вендеттой сынов Иакова».
При последних словах Чаплинский буквально подпрыгнул на стуле. По телу пробежала мелкая дрожь. Лядов расспрашивал Сикорского, задавал вопросы, но прокурор уже ничего не слышал. В его ушах не переставал звучать тихий монотонный шепот: «вендетта сынов Иакова… вендетта сынов Иакова… вендетта сынов Иакова…»
Глава шестая
6 мая 1911 г.Дверь кабинета была чуть приоткрыта. Владимир Голубев вошел на цыпочках, стараясь не шуметь. Старый профессор, склонившись над толстым фолиантом, водил указательным пальцем по строчкам. Юноше пришлось негромко кашлянуть, чтобы обратить на себя внимание отца.
— А, это ты, Володенька! Глаза устают, — вздохнул профессор, спрятал в карман лупу и невесело пошутил: — Я нынче «стар стал и на очи юж». Ты чего?
— Хочу расспросить о ритуальных убийствах. Мне дали один латинский манускрипт, — студент протянул свиток.
Профессор бегло просмотрел рукопись.
— Ну и что? Это так называемое Житомирское дело. Довольно известное.
— Известное!? — разочаровано протянул Владимир. — А мне сказали, что это редчайший документ.
— Редчайший? Вот и нет! — профессор ухмыльнулся в бороду. — Декрет коронного суда, рассматривавшего Житомирское дело, был разослан для оглашения по всем монастырям и костелам. Сохранилось множество копий, одну из которых ты держишь в руках. Процесс затеял католический бискуп-коадъютор Киевский и Черниговский Гаэтан Солтык, ярый гонитель не только иудеев, но и православных. Обвинение утверждало, что сам Господь непреложно указал на виноватых, ибо, когда тело ребенка несли мимо еврейской корчмы, из его ран начала сочиться кровь. Толпа схватила евреев, арендовавших корчму. Их отдали в руки палачам и подвергли страшным истязаниям. Первым не выдержал некий Зевель; ведь жестокие мучения, на которые были столь изобретательны ляхи, только наши предки-казаки могли вынести без единого стона, а где уж слабосильным жидам! Под пыткой малодушный Зевель возжелал принять католическую веру, а вслед за ним признания были вырваны у остальных обвиняемых. В Житомире до сих пор сохранилась братская могила казненных, коих почитают невинно замученными. Через несколько лет польскому еврею Якову Селеке удалось добраться до Ватикана и подать в папскую канцелярию жалобу на жестокие преследования. Дело рассматривал советник инквизиции Лоренцо Ганганелли, будущий папа Климентий XIV. Он запросил объяснения у польских епископов и нашел их совершенно неубедительными. Папский нунций в Речи Посполитой обратился к королю и магнатам с увещеванием не устраивать бездоказательных судилищ, подобных Житомирскому. Что же касается епископа Солтыка, то после раздела Речи Посполитой матушка императрица Екатерина Великая сослала его в Калугу за постоянное противодействие русским интересам. Вот так-то, Володя!
Профессор вернул сыну свиток и вновь углубился в свой фолиант. Студент размышлял над его словами. Отец всегда был для него непререкаемым авторитетом, но сейчас в Голубеве-младшем шевельнулось сомнение. Не то чтобы он усомнился в отцовских знаниях, нет, он бы никогда этого не посмел. Однако Владимир знал пристрастное отношение отца к документам польского происхождения. Профессор был историком южнорусской церкви, настрадавшейся за несколько веков польского владычества, и не мог простить католикам жестоких гонений на диссидентов, как называли исповедовавших православие в Речи Посполитой. Нелюбовь к полякам была в крови у потомка малороссийских хлебопашцев. Поэтому студент решил не возвращаться к щекотливому вопросу о католическом правосудии, а расспросить о ритуале.
— Батюшка! — окликнул он отца. — Народная молва обвиняет жидов в ритуальных убийствах. А что говорит по этому поводу наука?
— Отошлю тебя к записке Владимира Даля, автора толкового словаря живого великорусского языка. На основании архивных материалов Даль составил записку, предназначенную для узкого круга лиц — для великих князей и высших сановников. Было отпечатано несколько десятков экземпляров, за которыми началась настоящая охота. Евреи скупили и уничтожили почти весь тираж. Через два десятка лет было решено переиздать книгу Даля, но наборщик-иудей похитил оригинал и скрылся. Впрочем, в моей библиотеке сия редкость имеется.
Профессор с гордостью снял с полки маленькую книжечку и подал ее сыну. На титульном листе значилось: «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. Напечатано по приказу г. Министра Внутренних Дел. 1844 г.». Владимир перелистал страницы, и ему сразу бросилась в глаза фраза: «Никто, конечно, не будет оспаривать, что в странах, где евреи терпимы, от времени до времени находимы были трупы младенцев, всегда в одном и том же искаженном виде, или, по крайней мере, с подобными знаками насилия и смерти».
— Почтенный автор «Толкового словаря» полагал, что ритуальные убийства являются делом рук кучки фанатиков. Он пишет в заключении, — профессор взял из рук сына книгу, нашел нужное место и прочитал: «Изуверный обряд этот не только не принадлежит всем вообще евреям, но даже, без всякого сомнения, весьма немногим известен. Он существует только в секте хасидов или хасидым — секте самой упорной, фанатической, признающей один только Талмуд и раввинские книги и отрекшейся, так сказать, от Ветхого Завета; но и тут составляет он большую тайну, может быть, не всем известен и, по крайней мере, конечно, не всеми хасидами и не всегда исполняется». Володя, ты знаешь, кто такие хасиды?
Голубев-младший неопределенно ответил:
— Слышал что-то из географии.
Отец воздел руки к потолку.
— Позор на мои седины! Из гимназического курса географии много не почерпнешь! Да будет тебе известно, что хасидизм — это мистическое течение, возникшее относительно недавно, в середине восемнадцатого века. Хасиды на древнееврейском значит «благочестивые»…
Старый профессор постепенно увлекся и обрушил на голову сына водопад имен и фактов. Студент узнал, что основатель хасидизма Израиль бен Элизер родился в глухом местечке на границе Польши и Валахии. Он был сиротой, потом ему посчастливилось жениться на сестре бродского раввина, но он не сумел ужиться с богатыми родственниками и удалился в глухую деревушку в Карпатах. Бродя по горам, он приобрел познания в свойствах лечебных трав и в возрасте тридцати шести лет поселился в местечке Междибож. Там он «открылся миру» как учитель благочестия, приняв звучное имя Баал Шем Тов (Благой), или сокращенно, по первым буквам — Бешт. Он учил, что божественная сущность разлита во всей вселенной, следовательно, ничто и никто не может быть абсолютно плохим, ибо в каждом человеке есть частица Господа. Он говорил, что достичь слияния с Богом можно не многолетним изучением талмуда, а путем восторженной молитвы.
Брестский раввин Авраам Каценеленбоген гневно порицал последователей Бешта за то, что они «молятся и беснуются, перебегают с места на место, подпрыгивая как козы, раскачиваясь направо и налево; кладут земные поклоны, то опускаясь вниз, то поднимаясь ввысь; на небо восходят, в бездну спускаются, и все для того, чтобы поразить своими действиями простой народ и женщин». Бешт отвечал своим хулителям: «Тот, кто смеется над такими странными телодвижениями, подобен человеку, который стал бы смеяться над судорогами и страшными криками тонущего. Ведь и молящийся, совершая подобные движения, борется с волнами земной суеты, не дающими ему сосредоточиться на Божественном».
Последователи Бешта были в основном людьми небогатыми, простыми арендаторами — «ишувниками». Раввины и богачи презрительно называли хасидов словом «кат», что означало секта. Бешт предстал перед Ваадом Четырех Стран — Высшим Советом раввинов, которые с пристрастием допытывали его, откуда он взял свою пагубную ересь. В 1772 году виленский раввин Илия Гаон провозгласил «херем», то есть проклятие на хасидов. Правоверным иудеям запрещалось вкушать хлеб с хасидами, предоставлять им кров и вести с ними торговые дела. Литовские раввины на съезде в Зельве постановили «вырвать хасидов с корнем, как поклоняющихся идолам». Для последователей Бешта, которого раввины заклеймили как «губителя Израиля», вводились строжайшие кары. Была учреждена должность «тайного преследователя», в чьи обязанности входил неусыпный надзор за соблюдением проклятия. Однако тайным преследователем был назначен Моисей бен Аарон Сегал, оказавшийся скрытым хасидом. Он предупреждал единоверцев о принятых против них мерах.
Хасидизм постепенно распространился на Волыни, в Подолии, Литве, Польше, Бессарабии, Румынии и Венгрии. Как и во всяком религиозном учении, в нем произошли значительные изменения. Основатель хасидизма Бешт был простым и доступным человеком, он проповедовал устно и никогда не записывал своих поучений. Не таков был его преемник, честолюбивый талмудист и каббалист Доб Бер Межерический. Хасиды, совершавшие паломничества в Межерич, ждали выхода учителя целую неделю. За это время ловкие слуги Доб Бера выведывали у них подробности их жизни, и вот в субботу появлялся Доб Бер, облаченный в белоснежные атласные одеяния («цвет милости», по каббалистическим представлениям), и поражал паломников чудесной способностью угадывать ремесло и склонности каждого. Хасидские общины подчинялись цадикам — «праведникам». Основываясь на каббалистической формуле «праведник есть основа мира», Доб Бер сделал вывод, что цадик есть не только совершенный и безгрешный человек, но даже равен самому Моисею, ибо является живым воплощением Бога. Власть цадиков стала наследственной, так как один из хасидских авторитетов Элимелех Лизенский сделал смелое заключение, что «сын цадика свят еще от утробы матери, ибо он освящен божественными мыслями своего родителя в момент соития и может называться сыном Бога».
— Видишь ли, Володенька, я не знаток хасидизма, однако читал Григория Богрова, который в своих «Записках еврея» давал уничижительную характеристику духовным руководителям хасидов: «Цадики — это ядовитые паразиты, питающиеся телом и кровью своих бесчисленных жертв; это сеятели суеверия и тьмы; это бессовестные факторы на бирже религии; это коварные посредники между небом и землей; это торгаши райскими продуктами; это неизлечимый рак в наболевшем организме еврейской нации». Однако с течением времени острота разногласий хасидов со своими соплеменниками значительно сгладилась и почти сошла на нет. Когда-то хасидов можно было назвать возмутителями спокойствия, сейчас же они скорее ортодоксы, ревностно соблюдающие религиозные предписания. Насколько мне известно, существуют четыре династии цадиков, — перечислял профессор. — Садагурские, идущие от Доб Бера Межерического, Чернобыльские — потомки Нахума Чернобыльского, Столинские — наследники Аарона Карлинского, и Любавические — от Шнеура-Залмана из Ляд…
Профессор не закончил импровизированной лекции. Дверь кабинета с шумом распахнулась, и на пороге возникла горничная, молодая дивчина, недавно вывезенная с дальнего хутора и непривычная к городским порядкам. Она никак не могла научиться стучаться в двери и вламывалась в комнаты в самый неподходящий момент. Не переставая жевать набитым ртом, дивчина промямлила:
— Який-то пан зпытуе про молодого паныча.
— Какой пан?
— Та це ж вин, — ответила дивчина, тыча пальцем в человека за своей спиной.
Визитер был молодым еще господином в вицмундире, застегнутом на все пуговицы. Он вежливо наклонил голову, разделенную идеально ровным пробором:
— Простите меня за невольное вторжение. Я чиновник по особым поручениям при прокуроре киевской судебной палаты. Мне поручено пригласить студента императорского университета Владимира Степановича Голубева для беседы с господином прокурором судебной палаты.
— Не пойду! — отрезал Владимир.
— Пардон, как вас следует понимать? — всполошился чиновник.
— С вашим прокурором мне беседовать не о чем. Он сажает невинных людей, а убийцы гуляют на свободе.
— Ну, ну, Володенька, не горячись, — вмешался старый профессор, — все-таки неудобно манкировать приглашением.
Студента пришлось долго уламывать. Упрямо сжав губы, он слушал увещевания чиновника и поддался только тогда, когда отец попросил не осложнять ему и без того не простые отношения с властями.
— Надень мундир, — посоветовал отец.
— Еще не хватало наряжаться ради прокурора! — вскинулся студент. — Или пойду как есть, или с места не сдвинусь.
Франт в отчаянье оглядел ситцевую косоворотку навыпуск, в которой по теплому времени щеголял юноша, но был вынужден уступить. Вместе с чиновником по особым поручениям студент вошел в здание судебных установлений, пренебрежительно отметив, что в университете все гораздо грандиознее, и только фыркнул, заметив, как согнулся его провожатый перед кабинетом прокурора судебной палаты. Голубев никогда раньше не видел Чаплинского, но уже заранее был настроен против него. Хозяин кабинета вежливо поздоровался, однако его приветствие возбудило в студенте еще большее недоброжелательство и заставило вспомнить отцовскую поговорку о «ляхах с голубой кровью и собачьей бровью». Впрочем, Голубев сразу понял, что главным в кабинете был сухощавый господин, представившийся вице-директором уголовного департамента министерства юстиции. «Ишь ты, с каким значением он выговаривает свою фамилию! Лядов! Как будто мы в Киеве обязаны знать имена всех петербургских бюрократов», — раздраженно думал он, пока вице-директор, придерживая его под локоть, провел студента к большому кожаному дивану.
— Не будем мешать Георгий Гавриловичу, сядем здесь в сторонке и потолкуем по душам. Говорят, вы подготовили петицию на высочайшее имя с требованием выселить из Киева три тысячи евреев? Разрешите узнать, почему вы остановились именно на такой цифре?
Сам того не подозревая, вице-директор больно задел студента. В первом варианте петиции, составленной Голубевым, говорилось о необходимости поголовного выселения иудеев из России. Однако председатель киевского отделения русской монархической партии Борис Юзефович вслух обозвал проект чепухой, упирая на то, что во время японской войны с огромным трудом, забив эшелонами все железные дороги, удалось перебросить на Дальний Восток всего лишь полмиллиона солдат. Что же произойдет при перевозке пяти миллионов евреев! Не желая посвящать столичного бюрократа в споры между киевскими монархистами, Голубев буркнул:
— Для начала достаточно и трех тысяч, а там будет видно. Главное, удалить из Киева адвокатов, газетчиков и прочих зачинщиков смуты.
Лядов мягко заметил:
— Массовое выселение евреев может привести к терактам. Под угрозой окажется визит государя-императора в Киев, намеченный на конец лета. Ведь патриоты в первую очередь озабочены безопасностью государя, не правда ли?
— Да, это так! — согласился Голубев.
Молодежь «Двуглавого орла» с трепетом ждала высочайшего визита. Каждый надеялся пробиться поближе, чтобы разглядеть лик государя, который, как уверяли, был еще прекраснее, чем на портретах. Лишиться этой надежды было бы слишком жестоко, и Голубев честно признался:
— Я не предполагал, что петиция может вызвать осложнения.
— Не разумнее ли с ней повременить?
— Может быть.
— Вот и славно! — воскликнул Лядов. — А сейчас, сделайте милость, расскажите, к каким результатам вы пришли, расследуя убийство Андрея Ющинского?
«Вот оно что! — возликовал студент. — Понадобились собранные мною сведения. Видно, этот вице-директор из Петербурга не дурак, не то что наши судейские крысы!» Он солидно пояснил:
— В своем расследовании я использовал дедуктивный метод…
— Так, так, весьма впечатляет, — поощрительно заметил Лядов, но в его глазах промелькнули веселые искорки.
— Не удивляйтесь, именно дедуктивный метод. Зададимся вопросом, где было совершено убийство? Ясно, что не в пещере, где обнаружили тело. Если бы убивали в пещере, все стены оказались бы забрызганными кровью.
— Может быть, кровь собирали в специальные сосуды? — предположил Лядов.
«Определенно, петербуржец гораздо проницательнее киевских чинуш. Он понимает, что убийство носило ритуальный характер», — подумал Голубев, но все же отверг предположение вице-директора.
— В пещере слишком тесно. Убили где-то неподалеку и скорее не на открытом месте, потому что злодеев заметили бы прохожие, спешившие утром на работу. Самое подходящее место — кирпичный завод.
— Простите, я не до конца понимаю логику ваших рассуждений, — удивился Лядов. — Если убийцы побоялись зарезать мальчика в пустынной и овражистой местности близ пещеры, то еще меньше вероятности, что они проделали это на территории кирпичного завода, где кипит работа.
— В том-то и дело, что не кипит! — терпеливо разъяснял студент. — Спрос на кирпич сезонный. Завод приступает к выработке кирпича только после Пасхи, а до этого времени завод представляет собой совершенно безлюдное место с навесами, сараями, подземельями. И вся эта колоссальная по размерам усадьба находится в распоряжении жида Менделя.
— Необыкновенно интересно! — воскликнул Лядов. — Кто этот Мендель?
— Заводской приказчик, зовут Мендель, фамилии не знаю. Преподозрительный тип. В заборе вокруг завода есть лаз, через который можно было вынести труп и спрятать его в пещере. Осмотрите забор, обыщите кирпичный завод, и вы найдете место преступления.
— Полагаю, Георгий Гаврилович распорядится произвести осмотр ограды в самое ближайшее время, — сказал вице-директор.
— Хоть сию минуту, — отозвался Чаплинский. — Если ваше превосходительство считает это небесполезным, я составлю официальное предписание и сегодня же направлю туда судебного следователя.
Пока прокурор составлял предписание об обыске, вице-директор подсел поближе к студенту и, доверительно понизив голос, попросил его съездить на завод вместе со следователем, потому что господин Фененко не верит в ритуальную версию и уверяет, что в иудаизме не существует догмата крови.
— Мы вовсе не обвиняем всех иудеев, — заверил Голубев, стараясь припомнить отцовскую лекцию. — Речь идет о хусидах… то есть о хасидах, — поправился он. — Это такая тайная секта. О ней еще Владимир Даль писал в «Толковом словаре». Или нет? Ну где-то писал.
— Весьма любопытно, — задумчиво протянул Лядов. — Не могли бы вы составить историческую справочку об этой секте? Судебные чины, знаете ли, погрязли в рутине и туго воспринимают факты, выходящие за рамки обыденного.
— Можно, — солидно пробасил студент.
— Отлично, ждем от вас справочку. Ну вот и предписание готово.
На Лукьяновку Голубев отправился в одном экипаже с судебным следователем Фененко и пожилым письмоводителем. Следователь буквально источал неприязнь. Они уже успели обменяться колкостями в вестибюле суда и теперь старались не замечать друг друга. Говорил только письмоводитель, попеременно обращаясь то к следователю, то к студенту. Так они добрались до Верхне-Юрковской улицы. В воротах завода замерла телега, груженная еще теплым кирпичом. Возчик объяснялся с каким-то человеком, которого загораживала высокая поклажа. Была видна только рука, которая оторвала квиток, сунула его возчику и жестом велела проезжать. Когда тяжелая телега медленно и натужно двинулась, из-за стопок кирпича постепенно показались поля шляпы, потом густая черная борода, сверкнувшее на солнце пенсне, и Голубев узнал Менделя, о котором час назад рассказывал вице-директору. Сейчас приказчик вовсе не выглядел испуганным, каким он запомнился Голубеву во время первой встречи. Мендель покрикивал на возчиков, а те снимали перед ним шапки и кланялись. Но стоило судебному следователю представиться, как приказчик униженно запричитал:
— Вей мир! Пан добрый, я ничегошеньки не ведаю. Меня зовут Мендель Бейлис, я слежу за отгрузкой кирпича. Пану треба обратиться к управляющему Хаиму Дубовику. Сейчас я велю Дувидке его позвать.
Мендель Бейлис окликнул кучерявого сынишку и шепнул ему несколько слов.
— Мы осмотрим забор, — сказал Фененко.
— Разве есть какое нарушение? Забор, не сглазить бы, простоит еще сто двадцать лет, — забеспокоился Бейлис.
— Не знаю, не знаю. Вот господин студент утверждает, что якобы в заборе имеется лаз, через который протащили труп в пещеру.
Бейлис окончательно перепугался.
— Мушль-капушль! Пан студент, дай Бог ему здоровья, путает. Нема лаза. Ваше высокородие, ох, горе мне, таки важный пан, наверное, ваше превосходительство, я маял удовольствие встречаться с паном студентом. Я ему все рассказал, тильки он не слушал.
Под причитания Бейлиса группа прошла вдоль забора до конца улицы. Фененко попросил показать лаз. Голубев дотронулся рукой до светлой доски.
— Лаз забит, но это сделано недавно. Видите, доска свежеструганная!
— Странно, почему вы придаете такое значение этому обстоятельству. В заборе полно новых досок, — возразил Фененко.
Голубев огляделся и ахнул. Вся ограда белела одинаковыми свежими латками. Он мог поклясться, что в прошлый раз их не было. «Ах, подлецы! Успели замаскировать, теперь ничего не докажешь», — молнией пронеслось в его голове.
Тем временем со стороны улицы показались двое торопливо шагавших мужчин. Первым бежал пожилой еврей в ермолке, за ним спешил Бейлис.
— Господин судебный следователь, я Хаим Дубовик, — запыхавшимся голосом представился пожилой еврей в сюртуке.
— Вы управляющий кирпичным заводом?
— И заводом, и постройкой богадельни, за все я, ваш покорный слуга, отвечаю. Позвольте изъяснить вашей милости. Согласно завещанию ребе Ионы Зайцева, «олов гашалом» — мир его праху, на доходы от продажи кирпича должна быть построена хирургическая лечебница и богадельня для бедных евреев. Лечебница уже выстроена, богадельня пока размещается в старых деревянных хатах, но уже заложено каменное здание. Здания лечебницы и богадельни находятся под горой, на Кирилловской, а здесь, на горе, печами для обжига и прочими заводскими постройками заведует наш приказчик Мендель Бейлис.
— Скажите, кто прибил новые доски на забор? — вежливо поинтересовался Фененко.
— Откуда мне знать? — удивился Хаим Дубовик. — Це не наш забор. Ограда идет вокруг усадьбы Марра, он наш сосед. Я на всякий случай прихватил межевой план. Господин следователь может своими глазами убедиться.
Фененко и Голубев углубились в изучение плана. Но выводы они сделали прямо противоположные. Судебный следователь, оглядев местность и выслушав пояснения Дубовика, протянул:
— Вы, безусловно, правы. Забор не ваш.
— Погодите, — вмешался Голубев. — По плану, согласен, это усадьба Марра. Но вот что странно! С трех сторон усадьбы Марра никакой ограды нет. Точнее, имеется развалившийся забор, большей частью — одни только сгнившие столбы от него. Зато с четвертой стороны — именно со стороны вашего завода — забор целехонек, и примечательно, что точно такой же забор идет вокруг кирпичного завода. Нет, господин управляющий, для меня совершенно ясно, что забор заводской. Может, он когда-то и был поставлен Марром, не буду спорить, но чинят его по вашему приказу, потому что иначе вам пришлось бы устанавливать новую ограду.
— Молодой пан ошибается, — мягко заметил Дубовик. — Вы можете расспросить здешних обывателей. Хотя бы вон тех трех шикс.
Голубев посмотрел на луг, по которому прогуливались две полногрудые дивчины, похожие на девиц с панели, и смуглая женщина, в которой он сразу опознал Веру Чеберяк. Её взгляд равнодушно скользнул по студенту, словно она никогда его не видела. А вот с Фененко она начала откровенно кокетничать.
— Вы меня забыли, господин следователь, — жаловалась Вера, томно поводя плечами. — Мы встречались в сыскном. Какими судьбами в наших краях?
— Изучаем забор. Господин студент никак не поймет, откуда взялись свежие доски.
— Тю! Они там в своих ниверситетах совсем сдурели! Вам всякий растолкует, что зимой половину забора разворовывают на растопку. Здешняя голь не имеет грошей даже на полсажени настоящих дров.
— На Горе, упаси Бог, не дадут облениться, — вступил в разговор Бейлис. — Чуть зазеваешься, сопрут и забор, и ворота. Держим на заводе сторожей и дворника, тильки воры их боятся, як Аман колотушек.
Голубев не слушал объяснения приказчика. Его внимание привлекло совсем другое. Он увидел, как Вера и Мендель перемигнулись за спиной следователя. Более того, ему показалось, что они близко знакомы. Не зная, что и подумать, юноша враждебно осведомился у Фененко:
— Вы собираетесь осматривать завод?
— С чего это вы, собственно, решили, что я буду этим заниматься? — не менее враждебным тоном осведомился следователь.
— Вам дано предписание… — запальчиво начал Голубев.
— В коем сказано про осмотр ограды, но нет ни слова про осмотр самого завода, — закончил следователь.
Голубев чувствовал свою полную беспомощность и бессилие. Между тем письмоводитель подал следователю протокол. Фененко подписался и попросил Дубовика:
— Не откажите в любезности поставить свою подпись в качестве понятого. А также вы, — предложил он Бейлису.
Управляющий и приказчик подписались: Дубовик — быстро и уверенно, Бейлис — медленно, сопя и старательно выводя русские буквы.
— Теперь вы, — обратился письмоводитель к студенту.
— Ни за что на свете не скреплю своей подписью эту филькину грамоту, — отчеканил Голубев. — Свидетельствую перед Богом и людьми, что на заводе имеется множество подозрительных мест, но следователь не желает их осматривать.
— Как вам будет угодно, — равнодушно сказал письмоводитель.
Голубеву не оставалось ничего иного, как круто повернуться на каблуках. Кажется, на его уход не обратили ни малейшего внимания. Возвращаясь в город, он кипел от злости. Следователь Фененко откровенно держал руку ритуалистов. Добравшись до штаб-квартиры «Двуглавого орла», он в сердцах пнул входную дверь и на пороге столкнулся с одним из орлят, гимназистом пятого класса.
— Владимир Степанович, — сообщил тот, — к нам забрел один жид…
Это было слишком, даже для такого неудачного дня, и Голубев взорвался.
— Кто пустил?
Оттолкнув гимназиста, он вихрем ворвался внутрь. В углу на стуле скрючился рыжий еврей в грязном лапсердаке. Более отвратительной физиономии Голубеву видеть не доводилось. Нечистые вывороченные губы, крючковатый нос в черных отвратительных угрях. Из-под нахлобученной на голову ермолки торчали засаленные лохмы грязно-медного цвета. «С покрытой головой под образами!» — озлился студент. Он сдернул рыжего еврея со стула и поволок его к выходу.
— Азохен вей! — вопил тот, извиваясь в крепких руках. — Не бейте мени, бо я скажу, як вбивают ваших хлопцив!
Голубев остановился как вкопанный. Еврей поправил лапсердак и с наслаждением поскребся под мышками. Отворачиваясь от обдававшего его чесночного дыхания, студент посулил:
— Тебя наградят, если расскажешь правду.
— Все расскажу без утайки, — гримасничал рыжий. — Разве в Киеве добрые евреи? Хуже гоев!
Еврея звали Алтер Гудис. Из его путанного рассказа можно было понять, что он приехал из местечка Хмельники в субботу и зашел в Купеческую синагогу. Он занял лучшее место, сказав синагогальным служкам, что у себя в Хмельниках владеет домом и лавкой и всегда сидит у Восточной стены. Гудис пожелал выйти к свиткам Торы, но с него потребовали больших денег.
— Слыханное ли дело, пропеть «мафтир» стоит восемьдесят гилдойнов, а «шиши» — целую сотню! — возмущался еврей. — Хасиды! Тьфу на них!
— Хасиды! — воскликнул Голубев. — В синагоге были хасиды?
— Тысяча болячек им на голову, хто вони таки!
— Они вытачивают кровь из христианских детей?
— Они сами хвалились! Пред яким угодно судом присягну! Нехай их повесят! Юшка им треба, выкрестам!
При слове «юшка» еврей непроизвольно облизнулся. «Эге! — подумал Голубев. — Не замешен ли ты сам в изуверстве? Посмотрим. Главное, получить от тебя свидетельские показания. И не к этому хлыщу Фененко я тебя потащу, и не к полячишке-прокурору. А поведу я тебя прямиком к петербургскому вице-директору, уж он-то понимает, что убийство Ющинского было ритуальным».
Глава седьмая
16 мая 1911 г.Следователь по важнейшим делам Фененко докладывал прокурору окружного суда Брандорфу о ходе расследования. Когда он упомянул о допросе Жени Чеберяка, прокурор предупредил следователя:
— Семейка Чеберяков хорошо известна сыскной полиции. Веру Чеберяк прозвали Сибирячкой. У нее есть родной брат Петр Сингаевский, по кличке Плис. Он известный в уголовном мире «медвежатник», взломщик несгораемых сейфов. Квартира Сибирячки является воровским притоном. Помните еврейский погром?
Еще бы! Следователь Фененко никогда не забудет киевского погрома! В октябре пятого года после бурного ликования, вызванного царским манифестом о даровании свобод, на киевские улицы вышли патриотические демонстрации с иконами и хоругвями. Шествие быстро вылилось в погром, потому что толпу подогревали россказнями о том, как какой-то еврей якобы показывал с балкона городской думы порванный царский портрет, просовывал голову в раму и глумливо кричал: «Теперь я государь!» Никто не видел этого еврея, но погромщики были готовы верить всякому вздору. Полиция и воинские команды охраняли только фешенебельный район Липок, а в остальных частях города беспрепятственно хозяйничали хулиганы. Перед глазами следователя сразу же встала киевская окраина после погрома. Словно ослепшие теснились обезображенные халупы с выбитыми стеклами и выломанными рамами, а перед ними в грязи валялся жалкий хлам еврейской бедноты: выпотрошенные матрацы, порванные подушки и перины, осколки глиняной посуды. Ближе к центру города добыча погромщиков становилась богаче. Весь Крещатик загромождали зеркала, чудные стоячие лампы, инкрустированные комоды и шкафы. Между завалами деловито сновали люди, нагруженные огромными тюками, в основном простонародного вида, но кое-где мелькали дворянские фуражки с красными околышами и даже встречались гимназисты с ломами в руках.
Брандорф продолжал:
— Когда из Петербурга нагрянула сенаторская ревизия для выяснения причин беспорядков, сыскному отделению велели отыскать часть награбленного. Осведомители сообщили, что на квартире Сибирячки — настоящий склад мануфактуры. Полиция нагрянула с обыском, но, к сожалению, кто-то предупредил воровку, и она успела сжечь в печи целые штуки шелка и бархата. Еще, бестия, посмеялась над сыщиками. Отужинайте, говорит, незваные гости! Таких дорогих котлеток нигде не отведать! Ну, конечно, жарила котлеты на шелке! Имейте в виду, если мы в самом скором времени не найдем уголовников, нас заставят сделать преступниками евреев. Знаете, что вице-директор Лядов сказал мне на прощание перед отъездом из Киева? Ищите, говорит, жида! Не иначе Ванька Каин хочет устроить громкий ритуальный процесс.
Ванькой Каином в либеральных кругах прозвали министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова. Кличка полулегендарного московского вора, переметнувшегося на сторону полиции и назначенного сыщиком, прилепилась к министру не случайно. Когда-то Щегловитов считался человеком прогрессивных взглядов. Молодым юристом он приветствовал судебную реформу, публиковал статьи по различным вопросам уголовного процесса, трактуя их в прогрессивном духе. Однако в мрачную эпоху контрреформ Щегловитов отрекся от былых идеалов. Его назначение министром юстиции было воспринято, как ликвидация последних остатков независимого и непредвзятого правосудия. Фененко с горечью наблюдал, как прокуроры, блюстители закона, превращаются в безгласных исполнителей воли министра; председатели судов дрожат перед губернскими чиновниками, словно провинившиеся школяры; судебное ведомство становится чуть ли не филиалом охранки. Прогрессивные юристы ненавидели Щегловитова даже больше, чем Столыпина, потому что тот хотя бы никогда в либералах не ходил, а министр юстиции был переметчиком и предателем. И не было ему иного имени, кроме Ваньки Каина.
Выйдя из прокурорского кабинета, Фененко увидел, что у дверей камеры его уже поджидает сотрудник «Киевской мысли» Бразуль-Брушковский. Приглашенный в камеру, журналист вынул из кармана пухлый блокнот и приготовился записывать.
— Василий Иванович, наши читатели горят нетерпением узнать о странном эпизоде, связанном с задержанием одного приезжего. Имеет ли этот эпизод отношение к таинственному убийству мальчика Андрея Ющинского?
— Можете сообщить многоуважаемым читателям «Киевской мысли», что вся эта история является провокацией, затеянной черносотенцами, точнее, студентом Голубевым, секретарем молодежной патриотической лиги. Он предъявил судебным властям некоего Алтера Лейбова Гудиса, мещанина из местечка Хмельники, что в Подольской губернии. С первых слов стало ясно, что Гудис произносит бессвязные речи. Право, стоит посочувствовать господину Голубеву — ведь какой больной фантазией надо обладать, чтобы извлечь из этого бреда сведения о ритуальном преступлении. Вскоре, как и следовало ожидать, Гудис сознался, что возвел поклеп на соплеменников.
Следователь умолчал о том, каким способом было получено признание Гудиса. Он всегда осуждал приемы с «подсадными утками» и, хотя в данном случае цель, как говорится, оправдывала средства, он был рад, что всю черную работу проделал полицмейстер, решивший тряхнуть стариной в пику сыскной полиции. Полковник Скалон вызвал городового Готмалко, выросшего в еврейском местечке и свободно владевшего еврейским жаргоном. Переодетого городового подсадили в тюремную камеру, и он участливыми расспросами выяснил, что Гудис ничего не знает об убийстве. Когда следователь спросил городового, уверен ли он, что выпытал правду, тот только махнул рукой: «Ваш высокобродь, тот поц совсем мишугенен. Мает хвору башку». Действительно, Гудис страдал приступами помешательства и приехал в Киев лечиться от головных болей. Огромный город подействовал на него угнетающе, болезнь обострилась, несчастный целыми днями бродил по улицам, пугая прохожих странными ужимками.
— Гудис был удален из Купеческой синагоги за неподобающее поведение. Тогда в его безумной голове созрел план мести соплеменникам. Он приставал к прохожим с расспросами, где принимают доносы на евреев. Как ни прискорбно, нашелся шутник, указавший Гудису на штаб-квартиру «Двуглавого орла», а там сумасшедшего приняли с распростертыми объятьями. Вот и вся история, — подытожил Фененко. — Теперь полицмейстер ломает голову над тем, как водворить означенного Гудиса на постоянное место жительства. По проходному свидетельству его не отправишь. Киевские евреи настолько раздражены его поступком, что можно ожидать насилия над доносчиком. Придется отправить его домой по этапу.
Журналист распрощался со следователем. Как только он ушел, в камере появился письмоводитель с сообщением, что одного арестованного уже привели, а вот пристава Красовского с его подопечными пока нет.
— Телефонируйте ему, чтобы поторопился, мне ждать некогда. И заводите арестованного, — распорядился судебный следователь.
Конвоир ввел парня, еще молодого годами, но уже с совершенно испитой физиономией, на которой синели и желтели несколько синяков. Федор Нежинский приходился дядей убитому Андрею Ющинскому.
— Ну что, Федор? — спросил следователь. — Продолжаете запираться? Напрасно! Не желаете облегчить собственную участь? Нам ведь все известно из показаний свидетеля Евгения Чеберякова.
— Женька, бисов сын, все набрехал, — испуганно выдавил Федор.
Да, Женя Чеберяк был мастер врать, с этим Фененко должен был согласиться. Допрашивать малолетнего свидетеля было сущей мукой. Понадобилось несколько допросов, прежде чем от него удалось добиться признания, что Андрей Ющинский, по уличной кличке Домовой, заходил к нему попросить порох для игрушечного ружья. «Тильки я, дяденька, не маял порохо, я стрелял серниковыми головками. То Домовой брал порохо», — повторял он, честно округлив глаза. Но однажды, на очередном допросе, когда следователь уже устал слушать про ружье, порох и серные головки, Женя вдруг проговорился о том, что в субботу отец послал его в пивную на углу Верхне-Юрковской и Половецкой. Там мальчик встретил Федора Нежинского в перемазанной глиной одежде. Федор шепнул ему на ухо: «Уже Андрюши нет, его порезали». Добытые показания являлись архиважными. В самом деле! Рано утром в субботу Ющинский вышел из дома, а вечером того же дня, когда никто еще не спохватился о его пропаже, родной дядя спьяну сболтнул, что мальчика зарезали. И это происходит в полуверсте от пещеры, и к тому же дядя убитого вымазан в глине! Но пока что Федор Нежинский отрицал факт разговора с Женей Чеберяком и даже свое пребывание в пивной.
— Сыскная полиция установила ваших собутыльников. Вы пришли в пивную вместе со своим приятелем Андреем Брицким, взяли две бутылки пива и одну фиалку. Видите, нам известно даже то, что вы пили.
— Шо за фиалка? — искренне удивился Федор. — Яким бисом вона треба? Я маял семешник — тильки на пару пива.
— Вскоре вас пригласила компания ломовых извозчиков, — монотонно продолжал следователь. — С ними вы выпивали до полуночи, а когда пивная закрылась, пошли ночевать к вашему знакомому Матвею Жуковскому, проживающему в доме номер один на углу Половецкой и Татарской. Так или нет?
— Так!
— Ваше платье было вымазано в глине?
— Ни.
— Тем не менее Матвей Жуковский, у коего вы заночевали, подтверждает, что вы были в грязном платье. Когда Матвей спросил вас, где вы так вымазались, вы ответили, что нанялись копать землю. Утром вы попросили у него щетку, чтобы вычистить платье.
— Николи в жизни не чистив спинджак.
— Охотно верю. Должно быть, выпал особый случай. Но как вы объясните показания малолетнего Трофима Жуковского, сына вашего приятеля. Зачитываю: «Брата моего младшего не было в то время дома, и я все беспокоился, где он находится. Услыша это, Федор (он был тогда немного пьяноватый) стал говорить моему отцу, чтобы он не пускал нас, малых детей, гулять на Загоровщину, причем тут же заметил, что в Слободке у его соседки был очень умный мальчик — байстрюк и что этот байстрюк недавно исчез», — следователь оторвался от бумаги и прокомментировал. — Вы, наверное, имели в виду собственного племянника, ведь это он, как вы выражаетесь, байстрюк — незаконнорожденный. Объясните, почему вы не советовали пускать детей на Загоровщину, то есть туда, где неделю спустя было обнаружено тело Андрея?
Нежинский ничего не отвечал. Фененко задал следующий вопрос:
— Когда вы узнали о смерти племянника?
Нежинский косноязычно рассказал, что в понедельник его временно поставили чернорабочим в маслобойное заведение на Кирилловской улице. Место было завидным: двадцать рублей в месяц на своих харчах. Рабочий день начался в шесть утра, а в полдень кто-то сказал, что на Загоровщине нашли убитого мальчика. Нежинский сразу подумал, что это его пропавший племянник. Но с хорошего места в первый же день отпрашиваться было нельзя даже по такому случаю, как смерть родного племянника. К пещере он пришел только на следующее утро. Городовой показал ему фуражку, по которой Федор опознал племянника.
— Згадав, — хлопнул себя по лбу Нежинский, — вспомнил, чому я чистил одежу. Сестра Наталья просила пошукать Андрейку. Я на Загоровщине, лазал по ярам, там вымазался. Потом пошел до пивной. Пили мы субботу и воскресенье, в понедельник утром я почистив спинджак, шобы хозяева на маслобойке знали, шо я справный человек.
Фененко почувствовал, что Нежинский может выкрутиться. В конце концов, грязное платье и пьяная болтовня невесть какие улики. Однако в запасе у судебного следователя имелся козырь, и пришло время пустить его в ход.
— Хорошо, — вкрадчиво сказал Фененко, — великолепно, что к вам, Нежинский, вернулась память. Ну уж если она вернулась, не соблаговолите ли припомнить печника Ященко?
Нежинский испуганно моргал подбитыми глазами.
— Ященко?.. Якого Ященко?
— Опять память пропала? А вот печник Ященко вас отлично помнит. Он рано утром в субботу 12 марта, то есть, обратите внимание, Нежинский, в тот самый день, когда пропал ваш племянник, спешил на работу. Его путь лежал через Загоровщину. Он проходил мимо пещеры, в которой впоследствии было найдено тело вашего племянника. Неподалеку от пещеры печник Ященко присел в канаву для удовлетворения физиологической потребности. Вы меня слушаете?
— Слухаю, — сглотнул слюну Нежинский. — Тильки ни розумию, що вин зробив?
— Присел в канаве справить нужду.
— А… посрать… — догадался Нежинский.
— Пусть будет так. Сидя в канаве, Ященко увидел человека, который осторожно крался вдоль яра. Зачитываю показания печника: «Когда этот человек дошел до леса, он оглянулся кругом и заметил меня в канаве. То место, на котором этот человек остановился, находится приблизительно на расстоянии двадцати шагов, а может быть, и больше от пещеры, где был найден труп Ющинского. Пещера от незнакомца была с правой стороны, и когда он меня заметил, он не свернул вправо, а пошел налево, по направлению к тому яру, по которому можно спустится на Кирилловскую улицу. Когда человек этот остановился и посмотрел на меня, расстояние между нами было не более шестидесяти шагов. Издали я, конечно, не мог рассмотреть хорошо физиономии этого человека, но заметил, что бороды у него не было, а были черные усы, небольшие, а под подбородком что-то белое. Был ли это шарф или просто белая рубаха, я не заметил». Печник не придал особого значения этой встрече, но потом, прочитав в газетах об убийстве Андрея Ющинского, задался вопросом, уж не преступника ли он видел. Ященко поделился своими подозрениями с несколькими знакомыми, те, как водится, рассказали своим знакомым, и вот спустя неделю-другую к нему явился один человек. Вы случайно не знаете его имени?
— Ни, — упавшим голосом пробормотал Нежинский.
— Напрасно! Потому что этим человеком были вы, Нежинский, собственной персоной. Вы попросили описать внешность незнакомца, повстречавшегося печнику неподалеку от пещеры. Вот показания Ященко: «Я сообщил ему приметы господина и сказал ему, когда именно я его видел, после чего дядя покойного Ющинского, сказав: „Это он, я так и думал, так теперь и знаю!“, — ушел от меня». Итак, пришла пора сказать правду!
Нежинский колебался. Казалось, стоит только подтолкнуть его, как он выложит всю подноготную. Однако следователь был достаточно опытным психологом, чтобы торопить события. Он знал, что излишняя настойчивость может привести к обратному результату. Бывало, арестованные замыкались в упорном молчании и уже не реагировали ни на какие доводы. Фененко вновь отошел к окну, давая возможность арестованному собраться с мыслями. Его тактика блестяще сработала. Нежинского прорвало.
— Все скажу. Як же так! Меня под замок, а злодеи гуляют на воле!
— Давно бы так! Кого вы опознали?
— Луку Приходько!
«Что и требовалось доказать, — удовлетворенно констатировал следователь. — Конечно, отчим мальчика! Не подвела меня интуиция!»
Тем временем Нежинский, словно избавляясь от давившего на него груза, торопливо рассказывал, что Лука Приходько, женившись на сестре Сашке, сторонился ее родни. Пасынка Андрюшу он сразу же невзлюбил и обращался с ним жестоко. Нежинский заподозрил шурина в причастности к убийству, а после разговора с печником его подозрения перешли в уверенность.
— Почему же вы не сообщили о виновности Луки Приходько?
— Хлопца жалко, але його же не повернешь, — вздохнул Федор. — Коли уку заарестуют, хто буде харчевать сестру и ейных детин. Хай робит!
Внося в протокол показания Нежинского, следователь скорбно покачивал головой. Дядя знает убийцу племянника, но боится, что того арестуют и некому будет кормить его семью. «Н-да, народная нравственность напрямую зависит от народного благосостояния, — думал Фененко, вызывая конвойного. — Федор Нежинский туп и неразвит, но нравственно глухим существом его сделала не природа, а бедность. Он не имеет постоянной работы, не может содержать родных и вследствие этого вынужден покрывать убийцу, встречаться с ним каждый день, сидеть с ним за одним столом».
Конвойный увел Нежинского, но не успел Фененко перевести дух, как в его камеру постучался пристав Красовский. На снимках, публикуемых в киевской желтой прессе, сыщик выглядел бравым офицером. В действительности он был невысокого росточка и субтильного сложения. Аккуратно зачесанные волосы, реденькие и столь же аккуратно подстриженные усики, скромно потупленные глаза — по этим признакам его можно было принять за мелкого конторского служащего. Фененко не раз задавался вопросом, не наговаривают ли на Красовского, что он был правой рукой легендарного мздоимца Спиридона Асланова? С другой стороны, трепещут же воры перед этим мягким и предупредительным человечком!
— Василий Иванович! — расплылся в улыбке Красовский. — Ну что, заложил Нежинский своего родственничка?
— Он дал нужные сведения, — сухо кивнул Фененко. — Полагаю, теперь отчиму не вывернуться.
— Так точно! Хотя в его показаниях, собственно, уже нет необходимости, — с невинным видом заметил пристав. — Мы провели опознание, и свидетель Ященко подтвердил, что встреченный им у пещеры человек является Лукой Приходько. Я уже и полицмейстеру рапортовал.
«Вот как! Красовский пытается приписать себе все заслуги», — подумал следователь и попенял приставу:
— Поторопились, милостивый государь, поторопились без меня. Надеюсь, опознание было проведено в соответствии с требованиями закона?
— Василий Иванович! — пристав сделал обиженное лицо. — Кажется, я не первый год в полиции! Рядом с Приходько поставили двух переодетых в штатское платье городовых, сходного с подозреваемым роста и сложения.
— Ну, городового в любой одежде за версту отличишь, — усмехнулся следователь, припомнив по университетским годам, что переодетые городовые на студенческих сходках все время норовили собраться в полувзвод и замаршировать в ногу. — Ладно, давайте сюда Ященко.
Печник Ященко, медлительный малоросс средних лет, вошел бочком и робко поздоровался со следователем и приставом. Фененко официальным образом осведомился у свидетеля, подтверждает ли он, что одно из предъявленных ему в ходе опознания лиц являлось тем самым человеком, которого он видел у пещеры.
— Як сказать? — замялся печник. — По платью схож, шапка теж. Волосья черны, усы черные, вверх закручены — це так. Носы у обоих длинные. С затылку дюже схожи. Вин маял вытянутый затылок.
«Точно, у Приходько голова дегенерата, приплюснута с боков, словно побывала под паровым молотом», — припомнил Фененко.
— Тильки полностью не уверен, боюсь взять грех на душу, — неожиданно закончил печник.
Следователь предложил свидетелю записать его показания следующим образом: «Я нахожу между Приходько и тем человеком удивительно большое сходство. Когда мне его предъявили, мне так и показалось, что Приходько есть именно тот человек, которого я видел 12 марта. Конечно, утверждать этого я не буду, но сходство настолько большое, что мне так и хочется сказать, что я видел Приходько 12 марта».
— Дюже схож, це так! — кивнул головой Ященко.
Следующим в камеру судебного следователя ввели самого Луку Приходько. Глядя на него, Фененко нашел, что со времени их последней встречи переплетчик очень изменился. Жидкая бороденка была обрита, закрученные в кольца усы печально обвисли, лицо было мокрым от слез. Он шел спотыкаясь, словно слепой, и высокий, атлетического сложения агент Выгранов придерживал его за плечи. Когда агент усадил переплетчика в кресло, тот обмяк, низко опустив черную голову.
«Почти наверняка передо мной убийца, — размышлял Фененко, — злодей, чудовище! И что же? Иных чувств, кроме жалости, он во мне не вызывает. Ох, эта раздвоенность! Я ему сострадаю, но по долгу службы вынужден допрашивать, запутывать его, добиваться полного признания. Если он сейчас начнет исповедоваться и изольет все, что у него на душе, я должен буду внести в протокол каждое его слово, чтобы оно попало в обвинительный акт».
— Лука Приходько, — обратился он к подозреваемому, — признаете ли вы, что рано утром марта 12-го дня сего года находились в местности, именуемой Загоровщина, где вас видел свидетель Ященко?
Лука выдавил из себя несколько рыдающих звуков. Ничего нельзя было разобрать. Агент Выгранов наклонился к его уху и гаркнул:
— Говори, скотина, когда тебя господин следователь спрашивает!
— Сыскной агент, что вы себе позволяете, — вскипел Фененко. — Зачем вы стоите за спиной подозреваемого? Выйдите вон из камеры. И вы, господин пристав, будьте любезны, не смущайте допрашиваемого. Оставьте нас наедине.
— Понятно-с, понятно-с, не извольте беспокоиться, — заторопился Красовский, заговорщически подмигивая следователю.
Фененко подал Приходько стакан воды из графина. Переплетчик благодарно взглянул на следователя.
— Не бойтесь, — участливо говорил Фененко. — Никто не смеет вас запугивать. Знаете, Приходько, я не могу поверить, что вы, человек, в сущности, не злой, сами решились на преступление. Вас кто-то вовлек, кто-то воспользовался вашей бесхарактерностью. Я слышал, что у вас есть отец, братья. Может быть, они заставили вас?
— Пан добрый! — по лицу Приходько катился град слез. — Луке виселицы не миновать, така у меня планида. Тильки батьку и братьев не чипайте. Нехай меня одного повесят.
Фененко подумал, что убийца напрасно боится виселицы. В России казнят только политических! За попытку, за одну только попытку теракта против Ваньки Каина военный суд отправил на эшафот семь чудных юношей и девушек! Зато к уголовным преступникам российские законы гораздо снисходительней. За зверское убийство ребенка Приходько отделается десятью-двенадцатью годами каторги.
Между тем рыдания Приходько перешли в настоящую истерику. «Это у них семейное. Жена тоже припадок устроила. Не мешало бы направить их на психиатрическую экспертизу», — подумал Фененко. Поняв, что сегодня допрашивать Приходько бесполезно, следователь крикнул сыщиков. Агент Выгранов увел рыдающего переплетчика, а пристав Красовский поинтересовался:
— Ну как, Василий Иванович, убедились?
— Полной уверенности нет, — пожал плечами Фененко. — Меня в особенности смущает алиби Приходько. Ведь начальник сыскного отделения Мищук определенно установил, что весь день 12 марта Лука Приходько провел в переплетной мастерской. Получается, что он никак не мог быть утром около пещеры.
— Шишки еловой ваш Мищук не установил, — хохотнул Красовский. — Поверил на слово работникам мастерской. И это называется сыщик! Изволите видеть, переплетная мастерская принадлежит некому Колбасову, старику, пребывающему под каблуком своей молодой супруги. По моим сведениям, Лука сожительствует с женой старика. Она старается выгородить своего любовника. Другие переплетчики тоже держат руку молодой хозяйки. Но стоило мне разъяснить работникам, в какую историю их впутали, как они пошли на попятную. Теперь они не подтверждают алиби Приходько. Подозреваю, что именно Колбасова и подбила Луку на преступление.
— Зачем? — недоумевал следователь. — Кому помешал мальчик? В чем вообще мотив этого дикого преступления?
— Мотив корыстный. Теперь иных и не бывает, — убежденно сказал Красовский. — Когда я начинал по сыскной части, многие преступления совершались из ревности, мести, вообще, под воздействием чувств-с! А сейчас какие чувства? Жены предаются разврату с дозволения законных супругов, матери торгуют невинностью дочерей. Упаднический век-с! Извольте видеть, мать убитого прижила ребенка вне брака от мещанина Феодосия Чиркова, коему перешли в наследство двухэтажный дом и усадьба. Феодосий был форменным забулдыгой, в пятом году ушел добровольцем на японскую войну. С тех пор о нем ни слуху ни духу, наверное, сложил буйную головушку на маньчжурских сопках. Но перед отъездом он решил обеспечить своего незаконнорожденного ребенка и положил в банк капитал на его имя. Лука Приходько откровенно говорил своим родственникам, что женился на беспутной Александре исключительно ради этих денег. Он мечтал открыть собственное дело, возможно, на паях со своей любовницей Колбасовой. И вдруг деньги уплывают из рук! Пасынок поступил в Софийское училище. Тетка мальчика уговорила сестру потратить капитал на оплату дальнейшей учебы Андрюши. Натурально, Приходько озверел. Впрочем, я вам так скажу, Василий Иванович. Даже без выяснения семейных дел, я бы стал искать убийц среди шорников или переплетчиков. По характеру ран видно, что орудовали швайкой или переплетным шилом. Я собираюсь арестовать отца и братьев Луки Приходько. Все они переплетчики, все зарились на Андрюшин капитал.
— Возможно, вы правы, — задумчиво протянул следователь. — Но зачем Луке понадобилось подвергать пасынка столь зверским мучениям?
— Не иначе, под ритуал расписал.
Фененко с уважения глянул на Красовского. Надо признать, на полицейских иной раз снисходит просветление. Но у следователя еще оставались сомнения. Ведь чтобы подделать убийство под ритуал, нужно было обладать специальными познаниями? Откуда они у переплетчика? Он задал этот вопрос приставу и получил неожиданный ответ.
— Черносотенной литературы начитался. Приходько ведь член Союза русского народа. Мы изъяли у него ворох вырезок о ритуальных убийствах. Полюбопытствуйте.
Фененко впился глазами в мелкие строки. С первого взгляда можно было определить, что вырезки были из черносотенных газет. Отпечатанные на скверной дешевой бумаге, они даже внешним видом вызывали омерзение. Следователь прочитал статью из «Русского знамени», представлявшую собой обращение к русским детям: «Милые, болезные вы наши деточки, бойтесь и страшитесь вашего исконного врага, мучителя и детоубийцы, проклятого от Бога и людей — жида! Как только где завидите его демонскую рожу или услышите издаваемый им жидовский запах, так и метнитесь сейчас же в сторону от него, как бы от чумной заразы». Черносотенная «Гроза» писала: «На теле мальчика найден волос из бороды. По этому волосу, похожую на свойственную жидам шерсть вместо волос, определено, что убийца был жид». Следователь наткнулся на свою фамилию: «Предать суду господ Брандорфа и Фененко надлежит для того, чтобы сразу пресечь склонность к жидовству со стороны других чинов судебного ведомства». Глаза устали от слепого шрифта.
— Приходько вырезал такие статейки? — поморщился Фенеко.
— И статьи вырезал и выписки делал. Взгляните, какую записку мы нашли при обыске в переплетной мастерской.
Красовский передал следователю узкую полоску бумаги. Фененко сощурился, но написанные бисерным почерком буквы расплывались перед глазами. «Пора к окулисту», — мельком подумал он. Красовский пришел ему на выручку.
— В записке говорится, что височные кости располагаются там-то и там-то. Я справлялся у медиков, это как раз то место, куда Ющинскому нанесли глубокую проникающую рану.
— Н-да, Лука Приходько основательно подготовился к преступлению. Что же, теперь его вина почти несомненна, — согласился следователь.
Оставшись один в камере, Фененко подумал, что Красовский при всей его полицейской ловкости не сумел определить истинную подоплеку преступления. Завещанные мальчику деньги, если и играли какую-то роль, то скорее всего подсобную. За спиной Луки Приходько стояли черносотенцы, которые хотели лживым обвинением спровоцировать еврейский погром. Из Киева волнения неизбежно перекинулись бы на всю черту оседлости, что позволило бы властям ввести положение о чрезвычайной и усиленной охране. А вслед за тем — усиление репрессий, разгон и без того бесправной Государственной думы, закрытие оппозиционных газет. «Сожалею, господа черносотенцы, — усмехнулся Фененко, — но ваш заговор будет сорван. Пусть я скромный винтик судебной машины, но честью не поступлюсь и выведу вас на чистую воду!»
Глава восьмая
13 июля 1911 г.Прокурор киевской судебной палаты Чаплинский завершал докладную на имя министра юстиции. «Судебным следствием добыты важные доказательства причастности к убийству малолетнего Андрея Ющинского его родственников, в частности отчима Луки Приходько, — писал он, энергично макая перо в серебряную чернильницу. — Из числа вещей, отобранных при обыске у означенного Приходько, обращает на себя внимание записка, заключающая в себе описание строения черепа и расположенных на черепе артерий и швов у взрослых людей и детей. Приведенные данные послужили основанием к аресту в порядке дознания Луки Приходько, его отца и двух братьев, подозреваемых в причастности к преступлению. В настоящее время исполняющий должность судебного при Киевском окружном суде следователя Фененко ведет интенсивные допросы подозреваемых».
Поставив точку, Чаплинский скривился от неприятного жжения в животе. Позавчера он засиделся в Дворянском клубе, рассказывал анекдоты, и имел успех. Особенно смеялись над сценкой приезда старого еврея в Киев. Идет еврей по вокзалу с большим тюком, останавливает одного приличного господина и спрашивает его: «Милостивый государь, не откажите в любезности сказать, как вы относитесь к евреям?» — «О, я очень уважаю евреев!» — «Благодарю вас, милостивый государь!» Идет дальше, спрашивает еще одного господина и получает ответ: «Я в восторге от ума и предприимчивости евреев!» Благодарит, идет дальше, задает тот же вопрос еще одному пассажиру и слышит в ответ: «Ненавижу жидов!» Еврей горячо жмет ему руку и говорит: «Вы первый честный человек, которого я повстречал. Не могли бы вы присмотреть за моими вещами, пока я отлучусь?»
К несчастью, за приятным разговором и анекдотами Чаплинский, кажется, перебрал с вином и закуской. Пилось легко, но ночью в животе забурлило. Утром пришлось приглашать домашнего врача, который прописал порошок. Прокурор принимал лекарство второй день, но не испытывал ни малейшего облегчения. В животе пекло, во рту отдавало тухлым яйцом. «Шарлатан! — выругал врача Чаплинский. — Надо проконсультироваться у профессора». Обидно, что большинство посетителей Дворянского клуба без малейшего ущерба для здоровья мешали в своих бездонных утробах шампанское с горилкой и закусывали все это бесчисленным количеством блюд. «Лайдаки! — морщился прокурор. — Лет двести назад вас к Чаплинским и на порог бы не пустили!»
Плохое самочувствие мешало как следует заниматься служебными делами. Между тем Чаплинский твердо решил сделать карьеру на судебном поприще. Слово «карьера» он произносил с особенным придыханием, недоумевая, почему о карьеристах было принято говорить недоброжелательно. Ради карьеры он перешел из католичества в православие, а едва добившись прокурорства в киевской судебной палате, он уже начал задумываться о следующей ступеньке. Конечно, он понимал, что ему, как поляку, трудно рассчитывать на пост министра юстиции, но попасть на должность товарища министра или, на худой конец, получить назначение обер-прокурором кассационного департамента Правительствующего Сената было вполне по силам. Впрочем, до кресла в Правительствующем Сенате было еще далеко. Пока что предстояло показать себя крепким прокурором палаты, тем более что его предшественник порядком распустил подчиненных. Накопились настоящие завалы дел, с которыми Чаплинский разбирался с утра до вечера. Между тем нельзя было отказаться от светской жизни, визитов, поддержания нужных знакомств. Из-за нехватки времени он не мог уделить должного внимания надзору за расследованием убийства Ющинского, даже зная, как интересуются данным делом в Петербурге.
Прокурор понимал, что министр юстиции Щегловитов не прочь придать расследованию ритуальный крен. Вице-директор Лядов сказал об этом прямым текстом. Было бы глупо портить отношения с министерством, но столь же неразумным было бы связать свое имя с заведомо провальным процессом. Экспертиза профессора Сикорского произвела на прокурора сильное впечатление, но не убедила окончательно. Он допускал, что изуверская секта могла в давние времена свить гнездо в глухом еврейском местечке среди невежественных и фанатичных обывателей. Однако невозможно было представить, чтобы подобное имело место в начале двадцатого века в Киеве, университетском городе, где сосредоточено образованное еврейское население, где выходят еврейские газеты и журналы!
Поэтому, едва только обнаружились улики против Луки Приходько и его родни, прокурор поспешил доложить министру, что убийство произошло из-за денег, оставленных Андрею Ющинскому его отцом. Прокурор утешал себя, что министр юстиции еще поблагодарит его за то, что он уберег его от весьма опрометчивого шага.
Чаплинский передал черновик дежурному канцеляристу.
— После перепечатки принесите мне на подпись. И извольте проследить, чтобы не было ни единой помарки, потому что бумага предназначена для глаз его высокопревосходительства.
— Будет исполнено, ваше превосходительство, — поклонился чиновник. — Осмелюсь доложить, провизор Фильдбенгаген испрашивает аудиенцию у вашего превосходительства.
— Предложите ему изложить прошение в письменном виде. Хотя нет! Говорите, провизор? Пусть зайдет.
Через минуту дежурный ввел в кабинет прокурора солидного пожилого немца. Чаплинский любезно предложил ему присесть. Провизор важно кивнул головой, долго усаживался на стуле, вынул клетчатый платок, тщательно протер им пенсне, сложил платок — все это с хватающей за душу медлительностью. Когда он, наконец, устроился, Чаплинский спросил:
— Вы провизор? Хочу с вами посоветоваться. Доктор прописал мне порошок, но от него ни малейшего проку. Я боюсь, не спутали ли части при изготовлении?
Провизор взял рецепт, прочитал его от первой буквы до последней, потом медленно произнес:
— О, эфто есть рецепт лекарства от катар желудка.
— Я знаю. Правильно ли изготовлен порошок, вот что меня волнует?
— О, эфто никак нельзя сказать бес специальный химический анализ.
«Тупоголовый немец»! — выругался про себя Чаплинский и, пряча порошок в ящик стола, сказал: — Я чрезвычайно занят, прошу изложить ваше дело как можно короче.
Провизор достал из внутреннего кармана сюртука сложенную вчетверо бумажку, развернул ее, поправил сползшее пенсне, откашлялся и начал читать. Из-за сильного немецкого акцента Чаплинский не смог разобрать ни слова и попросил у провизора бумажку.
— О, пошалюста!
Бумажка оказалась вырезкой из «Утра России», органа московских прогрессистов. В заметке говорилось: «Все данные к тому, что убийцы Андрея Ющинского обнаружены, налицо. Арестовано пять лиц, между ними: отчим и двое дядей убитого и брат отчима. Двое из них принадлежат к числу активнейших членов местного Союза русского народа». Далее газета сообщала, что главной уликой послужила выписка, в которой упоминалась височная кость. Статья кончалась призывом: «Арест простых исполнителей убийства недостаточен. Следственной власти необходимо проследить все нити вопиющего киевского дела, обнаружить духовных отцов и руководителей этой изуверской черносотенной шайки, позорящей русский народ».
— Прихотько есть думкопф. В мой фатерланд он не годен даже в подмастерье. Но он не есть виноват.
— Позвольте решать этот вопрос судебным властям. Если вы не имеете сообщить ничего нового, то прошу покорно меня извинить, — прокурор привстал с кресла, давая понять, что аудиенция закончена.
Озадаченный визитер поднялся и медленным шагом направился к двери. Взявшись за начищенную медную ручку, он застыл в дверях, собираясь со своими неповоротливыми мыслями. Наконец, он произнес:
— Я сомневайся, чтобы эфтот думкопф Прихотько учился в гимназий и знает из латынь.
Чаплинский, не отрываясь от бумаг, с добродушным юмором заметил, что он тоже сомневается, что Приходько получил классическое образование. Лишь спустя несколько секунд до него дошел смысл сказанного. Он остановил провизора, уже закрывавшего за собой массивную дубовую дверь, и спросил, при чем тут латинский язык?
— Саписка на латынь, — пояснил немец.
Тут уж прокурор отложил в сторону бумаги и попросил провизора объясниться.
— Я сам писать саписк. «Os temporalе», — звучно продекламировал немец, — на латынь эфто есть височная кость.
По словам провизора, он отдал в переплет толстый медицинский справочник, в котором было множество «саписок» — закладок с латинскими терминами. В мастерской их вытряхнули на пол, где при обыске они были обнаружены становым приставом Красовским. Как раз в это время провизор пришел забрать свой справочник. Красовский показал ему несколько закладок и попросил перевести латинские термины.
— Я отвечай: «Эфто ест scapula — по-русски лопатка». Пристав говорит: «Не нужна лопатка. Что написано уф другой саклатка?» Я говорю: «Os femoris» — бедренная кость. — «О, нет! Не подходит. Что уф следующей?» Я объясняй, что «Оs temporale», то есть височная кость. Он говорит: «О, эфто ест то, что нам надо». Я говорю: «Эфто есть мой сакладка и остальной тоже есть мой, все выпал из мой книга». Он говорит так грубо: «Ступайте, вы нам больше не нужны».
Провизор был до такой степени взволнован бесцеремонностью станового пристава, что ушел домой, забыв, зачем приходил в переплетную мастерскую. На следующий день он спохватился и вернулся за справочником. Хозяин мастерской Колбасов пожаловался ему, что его работников едва не забрали в участок, когда они заикнулись, что Лука Приходько весь март месяц не отлучался от своего верстака. Пристав пригрозил арестовать их за соучастие в убийстве.
— Но меня он арестовать не может. Я есть германский подданный, у меня есть консул уф Киеф. Я говорю, что Прихотько — думкопф, болван, но он не есть убийца, — закончил взволнованный провизор.
Чаплинского прошиб холодный пот при мысли, что он чуть было не допустил непоправимую оплошность. Разве можно было составлять докладную его высокопревосходительству по чужим донесениям! Нужно было, корил себя прокурор, лично посмотреть записку, да и вообще, в таком важном деле надо проверять каждую мелочь, самому щупать каждое вещественное доказательство! «А если бы я, не дай Бог, выгнал бы этого честного немца!» — с испугом подумал он и в приливе благодарности пожал руку провизору.
— Спасибо, милостивый государь! Вы даже не представляете, какую услугу правосудию вы оказали!
Чаплинский немедленно вызвал франтоватого чиновника по особым поручениям и вкратце изложил ему услышанное от провизора.
— Не может быть! Записка на латыни?! Ай да, судебный следователь по важнейшим делам! — чиновник прыснул в кулак.
Прокурор недовольно скривился.
— Мне, любезнейший, не до смеха. Вы лучше скажите, неужели Фененко — такой кретин?
В глазах чиновника мелькнули злорадные искорки.
— Господин судебный следователь отнюдь не глуп. Правда, он изрядно ленив, отлынивает от черной работы, из-за чего выходит множество презабавных курьезов. Однако эпизод с латинской запиской — чересчур даже для Фененко. Боюсь огорчить ваше превосходительство, но, надо полагать, это они нарочно-с.
— Кто они? — поднял брови Чаплинский.
— Фененко и Брандорф, — вдохновенно наябедничал чиновник. — Они завидуют-с назначению вашего превосходительства и хотят мину подвести.
«Пся крев»! — выбранился про себя Чаплинский. А ведь чиновник прав! Чаплинского предупреждали, что Брандорф затаил обиду и мечтает выставить нового прокурора палаты в невозможно глупом виде.
— Записку обнаружил становой пристав Красовский. Чего ради ему участвовать в интриге? — спросил он.
— Они заодно-с, — радостно просветил начальство чиновник. — Когда из столицы вызвали Мищука, то Красовского тотчас сослали в уезд становым приставом. Помилуйте-с, на что ему какой-то стан, когда он у Спиридона Асланова был первым помощником. Они тут такое вытворяли! Потом Асланов попал в каторжные работы, а Красовский уцелел. Видать, Брандорф опять ему сыскное отделение посулил. Вы его, ваше превосходительство, еще не знаете. Он, если ему прикажут, переплетчика на древнегреческом писать заставит.
Пока чиновник живописал подвиги Красовского на сыскном поприще, Чаплинский размышлял о том, как обезоружить интриганов. Зачинщик, определенно, Брандорф. От него надо избавиться в первую очередь, иначе все время придется опасаться подножки. Лучше всего действовать через вице-директора Лядова, которому Брандорф крайне не понравился. Если подать под соусом очищения киевского окружного суда от завзятых либералов, то в Петербурге к этому должны отнестись благосклонно. Следователь Фененко, конечно, несамостоятельная фигура. Если Брандорфа уберут, Фененко покорится. Что касается пристава Красовского, то с ним надо объясниться без церемоний.
Приняв решение, Чаплинский остановил словоохотливого чиновника.
— Вот что, любезнейший. Во-первых, сейчас же принести мне все дело о убийстве Ющинского; во-вторых, немедленно вызвать пристава Красовского; в-третьих, сходите к Фененко и предложите снять официальный допрос с провизора, ожидающего в приемной; в-четвертых, пусть судебный следователь незамедлительно распорядится доставить сюда арестованного Приходько.
Через пять минут дело Ющинского лежало перед прокурором, и он углубился в его изучение. С каждой страницей лицо Чаплинского вытягивалось все больше и больше. В деле имелись показания покупателя, который купил дом у Феодосия Чиркова, состоявшего в безнравственном сожительстве с Александрой Приходько и имевшего от неё ребенка. «Хотя Феодосий, — показал на допросе новый владелец усадьбы, — по моему совету положил свою долю в Международный банк, вскоре им и его братом все деньги были истрачены на пьянство и кутежи». Кроме наличных, покупатель выдал Чиркову вексель на триста рублей, по которому не спешил расплачиваться, откровенно объяснив, что Феодосий все равно пропил бы деньги: «Я его частенько встречал на улице в босяцком платье и давал на опохмелку когда рубль, когда полтину». Отбывая на Дальний Восток, Феодосий передал вексель своей сожительнице Александре. Через некоторое время она обратилась к векседателю, тот один раз выдал на воспитание ребенка пятьдесят рублей, другой раз ограничился четвертным, а потом и вовсе прогнал просительницу. Александра подала вексель ко взысканию, однако суд отказал в иске по той простой причине, что обязательство было на имя Феодосия Чиркова, безвестно пропавшего на японской войне.
Через полтора часа, когда прокурору доложили, что доставлен арестованный Приходько, он уже основательно изучил дело. Войдя в камеру следователя, только что закончившего допрос провизора, Чаплинский саркастически спросил:
— Ну как, Василий Иванович, выяснили, учат ли латыни в церковно-приходских школах?
Прокурор ожидал, что следователь будет морально изничтожен, но Фененко с апломбом заявил:
— Я, ваше превосходительство, никогда не придавал значения этой злосчастной записке. Упоминание о височной кости — художественная деталь из тех, на которые столь падки репортеры уголовной хроники.
— Кстати, кто осведомляет репортеров? — Чаплинский испытующе глянул на Фененко. — Удивительное дело! Я, прокурор судебной палаты, еще только собираюсь доложить господину министру юстиции о корыстных мотивах преступления, а газеты уже раструбили на весь свет о капиталах Андрея Ющинского. Вчера я читал кадетскую «Речь» — там прямо называется банк, в котором мальчик якобы имел онкольный счет. Даже рассказывается, что подошел срок выдачи процентов, на которые польстился отчим. Но ведь вам хорошо известно, что никаких капиталов мальчику не оставили. Имелся лишь сомнительный вексель на сравнительно незначительную сумму.
— Ваше превосходительство не учитывает, что главный подозреваемый, то есть Лука Приходько, был введен в заблуждение. Когда он ходил в женихах, Александра похвалялась направо и налево, будто ее незаконнорожденный сын является богатым наследником. О том же, с целью побудить Приходько жениться, в один голос твердили остальные члены семейства Ющинских-Нежинских. У Луки сложилось превратное представление о капитале, завещанном его пасынку. Вот он и подговорил своих братьев и отца зарезать мальчика. Не исключено, что этого дегенеративного субъекта просто-напросто использовали в политических целях. В настоящий момент я как раз занимаюсь изучением его связей с черносотенными организациями.
— И что установили?
— Пока ничего, но…
— Вот именно ничего! Послушайте, господин следователь! Во всем деле я не обнаружил ни малейших указаний на политические симпатии Луки Приходько и его родственников. Полагаю, они вряд ли даже слышали о существовании политических партий. Но даже если бы они вступили в Союз русского народа, как о том без малейших оснований пишет либеральная пресса, неужели принадлежность к монархической организации, чью деятельность одобряет государь император, является составом преступления?
Чаплинский в упор глядел на следователя. Фененко отвел глаза и промямлил:
— Я этого не утверждаю…
— И прекрасно, что не утверждаете, — жестко сказал прокурор. — Я не потерплю внесения партийных пристрастий в оправление правосудия. Сейчас вы в моем присутствии снимете показания с Луки Приходько. Формально допрос может проводить только судебный следователь, но заранее предупреждаю, что я буду направлять ход допроса.
— Слушаюсь! — вздохнул Фененко.
В камеру ввели Луку Приходько. Прокурор впервые видел отчима убитого и должен был согласиться, что Приходько был малоприятным субъектом. Чаплинский попросил следователя прежде всего выяснить у арестованного, был ли он утром 12-го марта сего года у пещеры. Фененко послушно повторил вопрос. Приходько впился глазами в прокурора и взмолился:
— Смилуйтесь, ваше сиятельство, як же Лука був на Загоровщине, коли Лука був в мастерской?
— Спросите его, — приказал прокурор, — чем он может объяснить факт его опознания свидетелем Ященко?
Приходько со слезами на глазах ответил:
— То ж городовые Луку подвели под монастырь. Пан пристав сказал этому Ященко, шо, кроме него, печника, были еще двое свидетелей. И выставил двух городовых, якобы свидетелей. Они шептали на ухо Ященко, шо теж бачили меня коло печеры.
Прокурор метнул испепеляющий взгляд на следователя:
— Вы присутствовали при опознании?
— Нет, разве я допустил бы подобные нарушения, — смущенно оправдывался Фененко. — Пристав Красовский заверил меня, что провел опознание по всем правилам.
— Нечего сказать, по всем правилам! Выставил фальшивых свидетелей, которые сбили с толку этого печника. Не мудрено, что он «опознал» подозреваемого.
— Бо сыщики мени подфарбовали, — подал голос Приходько.
— Кто вас покрасил? — вскричал прокурор.
— Красовский. Он приказал подфарбовать мои волосы в черний колор. Потом меня одели в пальто и повязали круг шеи белую тряпку.
— Зачем? Ах, да! — Чаплинский вспомнил протокол показаний Ященко, засвидетельствовавшего, что неизвестный, замеченный им недалеко от пещеры, был одет в длинное пальто с меховым воротником и белое кашне. По словам печника, незнакомец имел черные волосы и закрученные вверх черные усы.
— Я рыжий, а меня подфарбовали в черный колор, — пожаловался Приходько. — А еще пристав велел подвить мои усы щипцами.
Дождавшись, когда окончательно сконфуженный Фененко занес показания в протокол и распорядился увести арестованного, Чаплинский ледяным тоном потребовал у судебного следователя объяснений.
— Ваше превосходительство, даю честное благородное слово, я ничего не знал о гримировании подозреваемого!
— Неужели вы не заметили, что волосы Приходько были выкрашены в черный цвет? Ведь вы видели его раньше, знали, что он рыжий.
— Встречал его один только раз в темном вестибюле сыскного отделения. Поверьте, не разглядел цвета волос.
— Подобные ошибки непростительны даже для кандидата на судебные должности, не говоря уже о следователе по важнейшим делам. Вы заставляете меня усомниться, на своем ли вы месте? Прощайте!
По дороге в свой кабинет Чаплинский с удивлением отметил, что боль в желудке отпустила. Едва обнаружилось, что против него сплели интригу, как сердце сразу погнало свежую кровь по жилам! Прокурор чувствовал прилив сил и готовность дать бой своим врагам. Ему доложили, что прибыл пристав Красовский. Пристав, очевидно, успел поговорить с канцелярскими чиновниками и выяснить причину вызова к прокурору. Он сокрушенно объяснял:
— Ваше превосходительство, ведь какая глупость вышла! Я только поинтересовался, что написано на латыни, а этот немчура целую историю поднял!
— Так, так! Забавно! Выходит, во всем виноват провизор! А на чей счет прикажете списать ваши проделки с переплетчиком? Зачем вы его загримировали и переодели? — сардонически усмехнулся Чаплинский.
Сыщик обладал отменной выдержкой и, не моргнув глазом, ответил:
— Ваше превосходительство, как же иначе! В день убийства мальчика было холодно, снег еще не растаял. Натурально, убийца был в теплой одежде. Но с тех пор прошло несколько месяцев. Очная ставка происходила летом, поэтому Приходько одели в пальто для воссоздания реальной обстановки-с.
— Постойте, пристав! — оборвал его прокурор. — Кому вы плетете эту чушь? Вы совершили уголовно наказуемое деяние. Пожелай я придать законный ход вашему проступку, вам грозят арестантские роты.
— Благодетель, отец родной! Ваше превосходительство! Не погубите! — взмолился сыщик. — От усердия преступил черту! Виноват-с, поторопился. Только как не поторопиться, когда окружной прокурор требуют незамедлительно найти убийц.
— Поменьше слушайте прокурора окружного суда. Для вашей дальнейшей карьеры это будет куда полезнее. На первый раз я вас прощаю, но берегитесь. Впредь все следственные действия будете согласовывать лично со мной.
— Всенепременно-с! Денно и нощно буду за вас возносить молитвы!
«Хлоп»! — брезгливо подумал Чаплинский, глядя на пятившегося и подобострастно кланяющегося Красовского. В дверях сыщик столкнулся с вошедшим в кабинет канцеляристом и, сделав особенно низкий и раболепный поклон, исчез за порогом. Канцелярист подал бумагу.
— Ваше превосходительство! Перепечатана докладная на имя господина министра юстиции. Прикажете отослать вечерней почтой?
— Нет! — сказал Чаплинский, разрывая докладную на мелкие кусочки. — Придется начинать расследование с чистого листа.
Глава девятая
20 июля 1911 г.Теплым июльским вечером Владимир Голубев прогуливался по Крещатику. Тротуары на Крещатике были светлыми и широкими — десять человек легко могли разойтись, нисколько не мешая друг другу, но на студента неловко натолкнулся прохожий в соломенной шляпе канотье, знававшей лучшие времена. Студент чертыхнулся, но сразу же прикусил язык, увидев, что перед ним беспомощный слепец с тросточкой, которой он дробно постукивал по тротуару. Голубев хотел пройти мимо, но слепой, цепко ухватив рукав рубахи, обратился к нему с нижайшей просьбой перевести его через улицу. Владимир скорчил гримасу неудовольствия, потому что синие очки, закрывавшие половину лица слепого, не могли скрыть, что он был евреем. Да и по выговору нельзя было не узнать уроженца еврейского местечка. Но не отказывать же калеке! Голубев нехотя взял еврея под костлявый локоть и повел его через Крещатик. Слепой шел, прихрамывая и спотыкаясь на булыжной мостовой, и все время бубнил себе под нос:
— Дэр арбейштэр зол гэбн… я ведь не нищий, хотя и слепой …давно втерся в компанию маклеров, сижу у Семадени наравне со всеми… при дележе куртажа слепого, ясное дело, норовят обделить… жалкие, ничтожные личности… я всех их продам, куплю, а потом снова продам…
Правой рукой слепой колотил тросточкой по мостовой, а левой приобнял студента за талию, чтобы иметь надежную опору. Голубев довел слепого до угла Крещатика и Прорезной, где стоял городовой, напоминавший своим монументальным видом капельмейстера военного оркестра. Оставив там слепого маклера и не слушая его горячих благодарностей, Голубев двинулся по шумной Прорезной до пересечения с Владимирской улицей, где возвышалось самое высокое и, наверное, самое вычурное здание во всем Киеве. В этом доме с башнями и башенками, колонами и фронтонами, сплошь покрытыми лепниной, размещались меблированные комнаты «Палермо», а первый этаж занимало модная кондитерская «Маркиз». Перед кондитерской стояли мраморные столики, между которыми ловко лавировали половые. Киевляне с гордостью называли свой город маленьким Парижем, и действительно Киев напоминал европейские города своими уютными кондитерскими и кофейнями, где можно было заказать крошечное заварное пирожное и чашечку горячего шоколада, почитать газету и поболтать. В летнее время эти заведения выставляли столики прямо на улицу и посетители наслаждались свежим воздухом.
До слуха Голубева донеслась кличка, знакомая только однокашникам по Первой гимназии:
— Конинхин!
Он посмотрел, кто его окликнул, и увидел компанию студентов, сидевших за одним из столиков.
— Мишка? — остановился Голубев, узнав соседа по Андреевскому спуску.
— Присаживайся к нам! Медики гуляют! Наконец-то разделались с анатомией. Не с первого раза и не со второго, сказать по чести. Ну да ладно! Вот собрались на радостях кутнуть!
Для студенческой братии посещение модной кондитерской считалось настоящим кутежом. В «Маркизе» можно было оставить полтину или даже рубль, тогда как, например, в студенческой столовой Политехнического института за двугривенный подавали борщ с мясом, на второе — мясные битки с перловой кашей, а главное — вкуснейший белый хлеб вволю. Голубеву было совестно пить-гулять за чужой счет, и он решил угостить всю компанию. Однако, опустив руку в карман, студент не обнаружил кошелька. Что за напасть?! Он хорошо помнил, как перед выходом из дома положил в карман кошелек, где был целковый, гривенник и два алтына. Внезапно он вспомнил руку слепого, интимно положенную на его талию, и вскочил со стула.
— Кажется, меня обчистили! Побегу, найду слепого на углу Крещатика и Прорезной.
— Сиди спокойно! — удержал его Михаил. — Карманник давным-давно прозрел, и даже если ты его найдешь, он уже избавился от твоего кошелька. Что ты докажешь?
Оказалось, что все, кроме Голубева, знали, что на Прорезной орудовала сплоченная воровская шайка, которой верховодит одноногий жебрак Шпулька, местная знаменитость. Одноногий нищий иногда заглядывает в модную кондитерскую. Он мог себе это позволить, так как на дань с карманников и попрошаек выстроил трехэтажный доходный дом на Садово-Кудринской. Лжеслепец, один из его подручных, также являлся известной личностью. Он просит прохожих перевести его через улицу и по дороге обчищает карманы доверчивых людей, отвлекая их внимание причудливыми историями, в которых он то биржевой маклер, то доверенное лицо Бродского, то незаконнорожденный сын капитана крейсера «Варяг» Руднева.
— Надо сказать городовому на углу.
— Карманники платят ему, чтобы их не обижали, — засмеялась веселая компания.
— Конинхин, откуда ты такой наивный? А еще юрист! Плюнь, не бегай никуда! Лучше посиди с нами, увидишь потеху. Нечуй должен пройти под своим зонтиком.
В конце улицы показалась согбенная фигура, облаченная в длинное теплое пальто. Весь Киев знал этого старика, зимой и летом ходившего под дырявым зонтом. Старик был автором, писавшим на малороссийском языке под псевдонимом Иван Нечуй. Однажды на ярмарке Голубев видел одну из его комедий «На Кожемяках» и, надо признать, от души посмеялся над её грубоватым юмором. Кстати, эту комедию перевел на русский язык Николай Островский, брат министра государственных имуществ. Комедию назвали по русской пословице «За двумя зайцами». Нечуй был чудаковатым стариком, строго придерживавшимся раз заведенного распорядка дня. Вдоль по улицам Прорезной и Пушкинской он прогуливался в одно и тоже время.
— По нему можно часы сверять! — сказал кто-то из студенческой компании, пряча в нагрудный карман дедовскую луковицу с треснутым циферблатом.
Неожиданно Нечуй свернул к кондитерской и на певучем малороссийском наречии обратился к господину с окладистой бородой, похожей на бороду пушкинского Черномора.
— Михайло Сергейович! Здоровеньки булы? Чи давненько приихалы з Львива?
Господин с бородой Черномора сделал вид, что не слышит, и закрылся газетой. Но от старика не так просто было отделаться. Нечуй требовательно постучал сложенным зонтиком по мраморному столику и повторил:
— Михайло Серьгейович! Пан Грушевьский! Будьте ласкави, повертайтесь до мени!
Голубев слышал от отца, что Грушевский был историком, пытавшимся доказать, будто малороссы не имели ничего общего с великоросами, а Киевская Русь являлась чисто украинским государством. Грушевский пытался получить профессорскую кафедру в университете святого Владимира, но получил унизительный отказ. Он жил в Галиции, но частенько наезжал в Киев и, как говорили, тайно вел среди малороссов агитацию в пользу Австро-Венгрии. Между тем Нечуй, не добившись ответа от Грушевского, начал ученый диспут с газетой, закрывавшей от него оппонента.
— Бачил вашу журнальну статью, Михайло Серьгейович! Писати треба так, як люди говорять. Вам, галичанам, треба класти за основу своей книжной мови народню украиньску мову, а не свою галицьку стару пидмову…
Грушевский, ни слова не говоря, встал из-за столика и зашагал прочь от кондитерской. Чудаковатый Нечуй не отставал от него. Издали донесся его надтреснутый говорок:
— Чи говирка, перехидна до польськой мови з безличчю польских слив.
Студенческая компания покатилась со смеху. Так называемые «щирые» украинцы единодушно отвергали русский язык. Тот же Нечуй писал, что украинцы спокойно обойдутся без Пушкина, Лермонтова и прочих москалей. Однако между поборниками украинской самостийности не было согласия, чем заменить русский язык и литературу. Одни, как Нечуй, предлагали взять за основу мову, на коей изъяснялись селяне. Другие, подобно Грушевскому, отстаивали бытовавший в Галиции книжный украинский язык с большой примесью полонизмов.
— Польских слив? — недоуменно переспросил Голубев. — Ей Богу, не понимаю!
— Слов! Не слив, а слов, — хохотал Михаил. — На днях я спросил одного медика в вышиванке. Спросил его, как будет по-украински «кот»? Он отвечает: «кит». Спрашиваю: «А как кит»? Он вытаращил глаза и молчит.
Веселая студенческая компания изощрялась в насмешках, наперебой придумывая нелепые словосочетания:
— Автомобиль по-украински «самопер», аэроплан — это «трыскадло»…
Голубев не смеялся вместе со всеми. Его грызла досада, что он так легковерно попался на уловку карманника. К тому же, теперь придется раньше срока просить денег у отца, а Голубев старался делать это как можно реже. Он встал и попрощался с медиками.
— Я все же поищу мнимого слепого. Набью ему морду, если найду!
— Айда с ним за компанию, — предложил Михаил своим друзьям, и вся компания снялась с места и шумной ватагой повалила вслед за Голубевым, предвкушая веселую потеху с мордобоем.
Выйдя на Крещатик, студент увидел двух знакомых мужчин. Одного из них он часто встречал в атлетическом клубе и с некоторой завистью наблюдал, как тот легко крестится двухпудовой гирей. Его фамилия была Выгранов, а невысокого, кругленького толстячка рядом с ним, кажется, звали Полищуком. Студент знал, что они оба сыщики. Подойдя поближе, он услышал, как Выгранов спросил своего спутника:
— Возьмем лихача?
— Ты миллионщик, да? Зачем тратить гроши? Доедем на электричке до Нагорной, а там до Верхне-Юрковской рукой подать.
«Так, так! — заинтересовался Голубев. — Наверняка ищейки что-то нарыли. Надо за ними проследить». В следующую секунду он забыл о двух сыщиках, поскольку увидел лжеслепого за работой. Право, можно было залюбоваться ловкостью, с которой карманник обчищал карманы очередной жертвы. Его рука обнимала за талию лысого господина в приличной серой паре, который поддерживал нищего и доверчиво слушал его бредовые речи.
— Таки я им сказал: «Побойтесь Бога, жалкие, ничтожные людишки!» И шо? Вони тильки скалят свои зубья: «Бога немае!»… Як немае?… А хто е? …Бис е?… И биса немае!.. Ось так!.. Чого не визьмеш, у них немае!
Вдруг с Прорезной, гремя и лязгая железом, выворотил красный с желтым трамвай. Накренившись на один бок и выбрасывая из-под колес снопы искр, он катил прямо на парочку, пересекавшую рельсы, проложенные по Крещатику. Пронзительно и тревожно зазвучал трамвайный звонок. Карманник отпрянул в сторону и визгливо крикнул своему проводнику:
— Поц, ты шо, слепой? Не бачишь лекстричку?
Господин только удивленно таращил глаза, увеличенные толстыми линзами в черепаховой оправе. Потом он обернулся назад, увидел стремительно наезжающий на него красно-желтый вагон, подался назад, потом сделал движение вперед, собираясь метнуться через рельсы, и это секундное замешательство решило его судьбу. Вагоновожатый дернул тормоз, трамвай клюнул носом и подмял под себя растерявшегося господина. Весь Крещатик огласился пронзительным криком. Голубев увидел, как мимо него по каменным плитам прокатился, подпрыгивая на стыках, какой-то круглый предмет и с ужасом понял, что это отрезанная трамвайными колесами человеческая голова. В его глазах потемнело, он прислонился к стене дома и медленно осел на тротуар.
Голубев очнулся от обморока, почувствовав кожей прикосновение холода. Открыв глаза, он увидел встревоженного Михаила, плескавшего ему в лицо сельтерскую воду со льдом, принесенную из ближайшей кофейни. Умелыми руками будущего медика Михаил освободил тугой ворот рубахи, Голубев вдохнул воздух полной грудью и окончательно пришел в себя.
— Отошло? — спросил Михаил. — С тобой приключился нервный шок. Не привык к расчлененным трупам. А к нам в анатомичку через день привозят зарезанных электричкой. Зла не хватает на анонимных бельгийцев!
Киевские трамваи принадлежали так называемому «Бельгийскому анонимному акционерному обществу трамвайного сообщения в Киеве». Анонимное общество затеяло многолетнюю тяжбу с городскими властями, желавшими сделать трамвайную компанию собственностью города. Предчувствуя, что им в конце концов придется уступить, бельгийские хозяева в последние годы не вкладывали в дело ни копейки. Рельсы не чинились, обветшавшие вагоны не ремонтировались, исправность тормозов проверяли спустя рукава, а вагоновожатые работали по четырнадцать часов в день и от усталости дремали за рычагами. Голубев тихо пробормотал:
— Мне дурно стало, как подумал, что шел человек по своей надобности и вдруг все… Только голова по Крещатику катится, а в ней еще мысли и планы на вечер… Бр-р!
— Что поделать! Человек смертен, а самое шокирующее, что смертен внезапно, — философски заметил Михаил.
Карета скорой помощи унесла тело погибшего. Полицейские опрашивали свидетелей и составляли протокол. Со светлых тротуарных плит быстро смыли следы крови, и уже через полтора часа ничего не напоминало о происшествии. По Крещатику гуляла публика, слышался смех, звенели трамваи и катили экипажи. Медики отправились на прогулку в старинную Байковую рощу над Лыбедью, звали Голубева с собой, но он отказался, удрученный мыслями о бренности земного существования. Пересилив себя, он вскочил на подножку трамвая и поехал на Лукьяновку. После встречи с лжеслепцом у него не было денег на билет. Кондуктор ругался, грозил полицией и даже пытался столкнуть студента с подножки. Голубев крепко держался за поручень, с ужасом представляя, что будет, если он сорвется и упадет под железные колеса. Трамвай тащился по бесконечной Львовской, потом по Дорогожицкой улице. Устав переругиваться с кондуктором, Голубев соскочил с подножки у церкви святого Федора и пешком направился на Верхне-Юрковскую.
На Лукьяновку уже опустились густые сумерки. Верхне-Юрковская была пустынной, и только из пивной Добжанского доносились голоса захмелевших биллиардистов. Дойдя до дома номер сорок, Голубев заметил женский силуэт в освещенном окне второго этажа. Сквозь кисейную занавеску было видно, как женщина наливает воду в корыто. Голубев присел на скамейку перед воротами, не отрывая взора от фигуры в окне. Черный, ощутимый на ощупь бархат темноты прорезали два огонька — тусклый керосиновый фонарь на углу и лампа-молния в окне. Женщина за кисейной занавеской начала раздеваться, стянув через голову кофточку и распустив длинные волосы. Она поливала себя из кувшина, поворачиваясь то спиной, то боком, и всякий раз обрисовывался силуэт ее остреньких, торчащих в разные стороны грудей. Затем свет погас. Голубев поднялся со скамьи, сделал два шага и столкнулся с закутанной в шаль женской фигурой. Она вскрикнула, и он тотчас же узнал Веру Чеберяк.
— Не бойтесь, я Владимир Голубев, если вы меня помните, — пробормотал он и повернулся так, чтобы на него упал тусклый свет уличного фонаря. — Я… случайно шел мимо…
— Рассказывай! Поди следил за мной от самого участка.
— Нет… я даже не знал, что вы были в участке… За что вас взяли?
— Старые концы! Легавые зря роют. Им любо пришить меня к убийству Андрюши. Погоди! — спохватилась она. — Так ты подглядывал, когда я мылась!
— Я нечаянно…
— Ах ты, негодник! — засмеялась Вера.
— У меня к вам серьезный разговор, Вера Владимировна. Как раз по делу об убийстве Ющинского.
— Сурьезный? Не толковать же нам на улице! Али пригласить тебя домой? Пойдем!
Она скользнула назад во двор, Владимир последовал за ней. Держась за перила, он в полной темноте поднялся по лестнице. Наверху Вера взяла его под руку и провела в свою квартиру.
— Молнию не буду зажигать. Осторожно, здесь корыто, — предупредила она, усаживая его на какую-то лавку. — Это кухня, мой любимый уголок. Люблю здесь болтать с подругами. Вот и мы с тобой, миленький, посумерничаем.
В углу чем-то воняло, от деревянной бадьи веяло сыростью, клеенка на столе была липкой, но Вера называла кухню любимым уголком. Возможно, после полицейского участка ей все казалось райским садом.
— Шутка ли, столько времени в каталажке провела. Сегодня вечером отпустили. Уж я отмывалась, отмывалась!
— А где ваши дети? Где Женя? Все спят?
— Они у сестры. Им там несладко. Завтра заберу. Дома только муж. Вот он и проснулся.
Кровать в спальне затрещала, заскрипела, мужской голос невнятно прохрипел: «Ох, грехи наши тяжкие!» Босые пятки грузно зашлепали по полу по направлению к кухне. Студент, уже немного привыкший к темноте, увидел в дверном проеме смутные очертания фигуры в белом исподнем. Однако муж спросонья ничего не мог разглядеть во мраке.
— Верка, ты здесь? — спросил он.
— Чего тебе, ненаглядный мой?
— Зажги лампу, квасу хочу выпить. Мутит.
— Еще чего выдумал — керосин жечь! Мы и так в мелочной лавке весь кредит выбрали. Вот тебе ковшик, пей!
В темноте послышались жадные глотки, потом протяжное рыгание.
— Уф! Добре, а то во рту было скверно.
— Шел бы ты спать. Утром на дежурство!
— И то верно. Пойду.
Муж вернулся в спальню, ничком упал на кровать и захрапел.
— Вы авантюрная особа! Если бы он увидел вас в темноте с чужим мужчиной? Чтобы подумал? — спросил Голубев.
— Он не ревнивый, привык, — отмахнулась Вера. — Теперь будет дрыхнуть до утра. Пришел с дежурства поддатым, да еще на радостях клюкнул за мое освобождение.
— Вера Владимировна, ваш сын Женя знает что-то важное. Если он расскажет правду, с вас снимут все подозрения.
— Женька ничего не знает, только мелет языком, ровно помелом. Не ведаю, что от этого говнюка вперед ждать: то ли дом своим порохом подпалит, то ли мать под каторгу подведет. И от кого я его понесла? У меня ведь все дети от разных отцов. Удивляешься? Одно слово, Голубев, голубок невинный! Ты про жизнь из книжек знаешь, да только ты не те книжки читаешь. Вот про мою жизнь можно роман в восьми частях написать, добрые люди будут читать и слезами обливаться. В шестнадцать лет я за Василия замуж вышла. Первое время он еще хоть как-то годился, потом и вовсе обессилил, жаловался, что я его измотала. Ну да мне это уже было без разницы, полюбила я соседа Павлушу Француза. Ты слышал, как он на гармони играл? Вот была любовь, как в театрах представляют. Бывало, прикоснется он ко мне, так я вся растаю — бери меня и мажь на хлеб. Какой Павлуша был писанный красавчик, кудри густые, очи голубые, вроде как у тебя, только поярче. Потом я их кислотой выжгла.
— Так это вы его ослепили? — в ужасе воскликнул Голубев, отшатываясь от ночной собеседницы.
— А ты как думал! Он вздумал было от меня гулять! Я ему раз скандал учинила, другой. Гуляет, кобель! Купила в аптеке склянку кислоты, подкараулила его на улице и спрашиваю: «Ну, что, Павлуша, выходит дело, любовь врозь?» Он подбоченился: «Вы, говорит, мадам, мужняя жена, а я человек свободный. Гуляю, с кем пожелаю». Как он это сказал, выхватила я склянку и плеснула в его бесстыжую рожу. Потом суд был, вчистую оправдали. «На почве ревности, действуя в состоянии этого… как его… умоисступления», — припомнила она слова приговора.
Голубев знал, что «обливальщиц», как называли женщин, пускавших в ход серную или соляную кислоту, почти всегда оправдывали, даже если они калечили невиновных. Вот и Вера бравировала оставшимся безнаказанным преступлением.
— У меня расправа короткая. Во мне горячая кровь, видать, цыганский табор мимо села проезжал. Это только по паспортной книжке я дочь священника. Мамаша у нас бедовая была! Как пить дать, мы с братом Петром наполовину цыгане. Я смуглая и плясать по-цыгански мастерица, и на картах ворожу! Притом я страстная, люблю мужиков… Дивишься? Только чему? В каждом мужике есть своя сладость. Кто попроще — кучера или по торговой части, те, не спорю — покрепче будут, понатуральнее. Зато после любови с ними никакого разговору нет. А образованному, деликатному господину завсегда можно про свою жизнь рассказать. Эх, кого у меня только из благородных не было! Офицерики молоденькие, учителя, студенты, двое коммивояжеров, оба сразу…
«С каким наслаждением она перечисляет любовников, — вознегодовал Голубев. — Каждому нашла применение. Муж для закона, студент для чувств, кучер для удовольствия. Один только Павлуша Француз, видно, был универсальным любовником. И в пир и в мир! Не к нему ли она собиралась сегодня ночью? Она ведь шла на свидание, для того и вымылась с ног до головы. И любовник, должно быть, живет неподалеку, иначе бы она не вышла из дома в легкой шали. Ба! Ведь Мендель, заводской приказчик, обитает через два дома». Владимиру вспомнилось, как Вера перемигивалась с Менделем во время осмотра завода, и не в силах утерпеть он спросил ее про Бейлиса.
— Мендель? — удивилась Чеберяк. — Ты это напрасно.
— Я думал, вы с ним куры строишь.
— Выдумываешь, невесть что… — Чеберяк встала и произнесла холодным, почти враждебным, тоном: — Ступай домой, пан студент, время позднее.
Студент вышел на темную улицу в глубоком раздумье о том, почему Вера так внезапно и бесцеремонно выставила его из дома. Едва он заикнулся о Бейлисе, как она оборвала разговор. «Тут что-то скрывается», — гадал он, подняв глаза к темному беззвездному небу. Судя по духоте, под утро должна была разразиться гроза с молниями и ливнем. На Нагорной не светил ни один фонарь, и студент едва разбирал дорогу. Впереди, в кустах послышались мужские голоса.
— Где моя жинка? Куда вы ее подевали? Ульян-а-а! Ульян-а-а! — вопил пьяный.
— Вернется твоя Ульяна, — забасил его собутыльник.
По этому густому басу Голубев сразу же узнал сыщика Выгранова. Студент сразу же пригнулся и под прикрытием густых кустов подобрался как можно ближе к ночным собеседникам.
— По какому такому праву ее Полищук увел? Чем они там занимаются? Я желаю знать. Ульян-а-а!
— Давай лучше выпьем.
— Дерябнем само собой, а жинка сама собой. Ульян-а-а!
— Ющинского-то… — басил Выгранов, смачно хрустя огурцом. — Ты закусывай, Казимир. Говорю, Ющинского-то ты без пальто видел?
— Шо? А, Домового? Как есть без пальта, бегал в одной тужурке.
— Тетрадок у него с собой не было?
— Ни. Я ведь знаю, шо Домовой тетрадки и книжки на ремешке носил. Спросил как-то, чому ты все книжки таскаешь? А он ответил, что, мол, боится дома оставить, братишка маленький тетрадки порвет. Потом, як Домового в пещере нашли, меня судебный следователь допрашивал. Вы, говорит, Казимир Шаховской? Говорю, точно так, я Шаховской, тильки я не князь, не граф, не пан какой, а человек бедный и ничегошеньки по этому делу не знаю. Ну их к бису в зубы с их расспросами. Мне жизнь дорога!
Голубев затаился за кустом, стараясь не пропустить ни одного слова. Выгранов продолжал расспросы:
— Разве грозил кто?
— Я фонарщик, так? — загорячился пьяный. — Вечером фонари зажигаю, следственно, шо? Не знаешь? Выходит, ты як есть дурень! Следственно, хожу я с керосином в потемках. Меня подкараулить и подколоть — плевое дело!
— Кто ж тебя подколет?
— За этим на Лукьяновке дело не станет. А кто, не скажу. Ты сыщик — тебе и разбирать.
— Ющинского-то хорошо знал?
— Тю! От дурень! Да я всех хлопцев на Горе знаю, они все мои покупатели. Ты думаешь, я тилько фонарщик? Это я от бедности подрядился керосин разливать. По-настоящему я птицелов. Я первый торговец певчей птицей на Еврейском базаре. У меня птица веселая, без обмана. Приходи, я тебе кого хочешь продам. Выгранов, мы с тобой друзья-приятели или нет? Хочешь щегла?
— Ты закусывай лучше. Жрешь горилку без продыху.
— Потому как ты меня уважил, поднес чарку. И я тебе уважу, подарю птичку.
— В то утро Ющинский был один?
— Ни! Вместе с Женькой, сыном Верки-чиновницы. Кажись, было часов около восьми утра, потому как монопольку уже отворили. Домовой подкрался ко мне сзади и как крикнет в ухо: «Казимир, когда будем силки ставить?» Да по плечу ударил, больно так. Ну, я пустил его по матери. Прости меня, Матка Бозка Ченстоховска, шо покойника обидел. Тильки як же его не ругать? Говорю: «Шо ты шалишь! Я тебе в отцы гожусь. Чому ты не в своей бурсе!» Тильки рази их словами проймешь! Смеется. «Шо я там не бачил? Мы сейчас с Женькой на завод пойдем на мяле кататься». Сказал и убежал, а я двинул на Куреневку по своим делам. Плесни горилки.
— Будет с тебя!
— Да ты шо! Я ж ни в одном глазу.
Опять послышалось бульканье, потом Выгранов спросил:
— Так хлопцы остались у монопольки, и с тех пор ты Ющинского не видел?
— Домового, — икнул фонарщик, — я точно не бачил. Зато знаю, шо с ним дальше было… От добрая горилка! До нутра пробирает!
— Погоди, ты о Ющинском рассказывай.
— Шо? — икнул фонарщик.
Пьяного совсем развезло. Он еле шевелил языком и все время терял нить разговора. Но сыщик не оставлял надежду выудить дополнительные сведения. Было слышно, как он встряхнул фонарщика.
— Казимир, не спи! На, глотни! Тильки допреж скажи, что ты знаешь?
— Вот прицепился, репейник бисов. Дня через три опосля пишел я к тетке своей, она аккурат через дом от Верки-чиновницы живет. Встречаю Женьку Чеберяка и спрашиваю его, як вы с Домовым покатались на мяле? А он отвечает, шо погулять не довелось. Спугнул их якой-то жид с черной бородой.
— Постой, ведь заводской приказчик с черной бородой! Как, бишь, его зовут?
— Мендель, — заплетающимся языком пробубнил фонарщик. — Он сволочь поганая. Донес, что я с завода дрова таскаю. Хлопца-то перед жидовской пасхой зарезали. Тильки я смекаю, шо Мендель не один убивал, а вместе с Веркой Чиновницей.
«Боже мой! — мысленно ахнул Голубев. — Вера не просто любовница Бейлиса. Она его подручная по ритуальному преступлению. То-то она смуглая! И цыганская ли в ней кровь? Не еврейская ли?» Вера сразу представилась ему в облике порочной дщери Иерусалима в узорчатых одеждах, с серьгами в ушах и кольцом в носу, к которой были обращены обличения пророка Иезекииля: «…позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои».
Сыщик допытывался у пьяного:
— Думаешь, Верка Сибирячка замазана в мокром деле?
— Шо мне думать! Расспросите лучше тех, кто живет с Веркой в одном доме. Они вам расскажут, якого она поведения. К Сибирячке каторжники ходят. Она запросто хлопца на Пасху запродала. Смекаю я, шо она велела своему Женьке заманить Домового на завод и сдала его на руки жидам. Тильки никакому следователю я того не скажу. Шо я, дурень? Верке стоит глазом моргнуть, як меня подколют. У нее брат есть — Плис, сурьезный пахан.
— У Плиса своя часть — по сейфам и несгораемым шкафам. Он медвежатник, мокрухой не занимается.
— От дурна башка! Не Плис, так другой подколет. У нас на Лукьяновке, коли легавому проболтаешься, сразу ступай к гробовщику снимать мерку.
Метрах в тридцати пронзительный женский голос затянул разухабистую песню: «Гоп, гоп, не журысь…»
— Це жинка моя, — встрепенулся пьяный. — Ульян-а-а! Где тебя, мать твою, бисы носют, пишла досюды… — не докончив фразы, пьяный замолк и, судя по треску в кустах, без чувств повалился на землю.
Сыщик, поняв, что водка окончательно одолела его собеседника, даже не пытался растолкать его. Раздался свист, около кустов мелькнула тень.
— Как, Адам, выжал из нее что-нибудь?
— Вот зараза! — выругался невидимый сыщик. — Пьет как лошадь и на меня норовит залезть.
— Так ты пользуйся моментом, — засмеялся Выгранов. — Вот счастье привалило! Я тут с мужиком сижу, а ты его жинке голяшки задираешь.
— Тьфу на нее! — отплевывался Полищук. — Была бы баба, а то смотреть противно. Сюда ее тащить или как?
— Тащи! От Казимира толку нет.
Женский голос в кустах, как заезженная граммофонная пластинка, крутил один и тот же обрывок песни: «Гоп, гоп, не журысь…»
Через несколько минут сыщик привел Ульяну. Выгранов спросил ее:
— Тебе Казимир рассказывал о хлопчике?
— Який хлопчик? … Гоп, гоп, не журысь…
— Брось ее. Она уже лыка не вяжет, — вмешался Полищук.
— Погоди. Про Андрюшку, по прозвищу Домовой? Что тебе муж рассказывал?
— Казька, вин… у-у! — с пьяной важностью заговорила Ульяна. — Вин вилика голова… Казька вси знаи… Тильки вин не скажет.
— И тебе, жене своей, ничего не рассказал?
— Як вин може жинки не сказать?.. Я ж йому очи выцарапаю… Волкивна бачила як Мендель потащил Домового к печи… Да ну вас… Ой, тошненько…
Женщину вырвало, она страшно икала и в перерывах между приступами рвоты стонала:
— Ой… мамка ридная…
Сыщики отошли в сторону и устроили совещание.
— Башка завтра будет трещать, — пожаловался один.
— Ты бы не пил наравне с ними.
— Неужто смотреть, как они нашу горилку трескают! Уже три часа. Твою мать оглоблей в рот! Красовский утром доклад потребует. Надо отсюда выбираться. Что с ними будем делать? На себе потащим?
— Очень нужно! Бросим в кустах, хай проспятся. Ночь теплая.
Сыщики выбрались из кустов и затопали по тропинке. Женщина, даже не заметив, что осталась в одиночестве, бормотала между приступами рвоты:
— Ой, мочи нема!.. Мендель та ще двои жиди схватили Домового у печи… жиди хлопца поризали…
Глава десятая
22 июля 1911 г.Следователь Фененко слушал станового пристава Красовского, еле сдерживая негодование. Когда тот закончил свой доклад, следователь саркастически заметил:
— Меня удивляет, что Казимир Шаховской, спустя четыре месяца после убийства, вдруг вспомнил, как Мендель Бейлис схватил Ющинского и потащил его к печи для обжига кирпичей. Еще удивительнее, что ваши сыщики обнаружили этого в кавычках «очевидца» после того, как прокурор палаты недвусмысленно дал вам понять: или вы доставите ему преступника-еврея, или вас опять загонят становым приставом в уезд.
— Напрасно вы, господин следователь, так поворачиваете. Я, криминалист, уважаю голые факты. Сведения Казимира Шаховского проверены. Он показал, что видел игравших мальчишек Андрюшу и Женю в тот день, когда получил аванс от подрядчика городской управы. Мы просмотрели конторские книги, и оказалось, что аванс в размере одного рубля был выдан Шаховскому в субботу 12 марта, то есть в день исчезновения Ющинского. Значит, фонарщик был последним, кто видел мальчика живым. Кроме того, показания Казимира Шаховского подтверждаются его женой.
— Показания Ульяны Шаховской — это особый разговор. Я допросил ваших подручных Выгранова и Полищука, и они мне признались, что напоили свидетельницу. Кстати, начальник сыскного отделения сообщил мне, что вы пользуетесь услугами людей, удаленных со службы за предосудительное поведение.
— Они невинно оклеветаны. Мищук всех толковых агентов выгнал. Теперь ни одного дела раскрыть не может.
— Оставим ваши личные счеты. Лучше скажите, на каком основании вы освободили из-под стражи Веру Чеберяк?
— По распоряжению его превосходительства господина прокурора палаты. Откровенно говоря, я бы погодил ее отпускать. Сибирячка явно замешана в этом деле. Надо полагать, ей заплатили. Она заманила Андрея Ющинского, а Бейлис выполнил остальное.
— Что выполнил?
— Ритуал-с.
Фененко безнадежно махнул рукой, отпуская сыщика. Казалось, ему снится кошмарный сон. По настоянию прокурора судебной палаты Чаплинского расследование принимало ритуальную направленность, чему откровенно способствовал Красовский. «Мерзавец!» — подытожил следователь разговор с приставом. Однако пора было приступать к допросам.
Первой привели Анну Захарову, по-уличному Волкивну, грузную старуху гренадерского роста и с гренадерскими усищами. Глянув на ее красное обрюзгшее лицо, следователь без обиняков спросил:
— Выпиваете?
— Трохи! — простужено пробасила старуха.
— Свидетельница Ульяна Шаховская показала, что вы в присутствии малолетнего Николая Калюжного рассказали ей о похищении Андрея Ющинского.
— Ниякакой Ульяны я не знаю.
Фененко пригласил ожидавшую в коридоре Ульяну Шаховскую. Когда та вошла в камеру, старуха отвернулась от нее к стенке, пряча лицо.
— Вы знакомы? — обратился следователь к Шаховской.
— Як же! Це Волкивна.
— Щоб твои очи повылазют, курва! — хрипло заорала старуха, оборачиваясь к Ульяне. — Та ни разу я тоби, сука, не бачила!
— Тихо, тихо! — замахал на них руками Фененко. — Запускайте мальчишку, — крикнул он в коридор.
В камеру робко вошел белобрысый хлопчик лет девяти.
— Назови свое имя? — обратился к нему следователь.
— Мыкола Калюжный, — испуганно пискнул он.
— Ты помогаешь Шаховским заливать керосин в уличные фонари, да? По словам Ульяны Шаховской, ты был свидетелем того, как Анна Захарова, по прозвищу Волкивна, рассказывала о похищении Андрея Ющинского.
Мальчишка глядел себе под ноги.
— Ты слышал о том, что мужчина с черной бородой схватил Андрюшу?
— Ни…
— Знаешь Анну Захарову, по прозвищу Волкивна?
— Ни.
— Мыкола, ты що? — изумилась Ульяна.
— Извольте молчать! — прикрикнул следователь на Ульяну и, обращаясь к мальчику, уточнил: — Значит, ты не слышал о похищении Ющинского?
— Чув, — прошептал Калюжный.
— Что ты слышал?
— Що Волкивна казала.
— Так ты знаешь Волкивну или нет?
— Це так!
— Погоди, ты сию минуту удостоверил, что не знаешь никакой Волкивны. Так?
— Ни!
— Ну, и как же прикажешь тебя понимать?
Мальчик еще ниже наклонил голову и всхлипнул.
— Ульяна, сука, его подговорила. Обещала ему купить леденцов, — забасила нищенка.
— Брешешь, ведьма, — взвилась Ульяна Шаховская.
— От тоби я зараз задам добрую трепку! — грузная Волкивна угрожающе наступала на Ульяну.
Фененко бешено зазвонил в колокольчик.
— Уберите их немедленно, — приказал он письмоводителю.
Письмоводитель попытался вывести женщин из камеры. Волкивна изловчилась и схватила Ульяну за рукав, та плюнула ей в лицо, но попала на мундир письмоводителя. Насилу дерущихся вытолкали из камеры, за ними вывели плачущего мальчишку. Фененко в изнеможении откинулся на кресло. Ему хотелось только одного: оказаться подальше от опостылевшего Киева. «Надо было выхлопотать отпуск для лечения и двинуть на Ривьеру», — с тоской подумал он. Его мечтания были прерваны приходом письмоводителя, доложившего, что следователя требуют к прокурору судебной палаты. Фененко и поспешил в кабинет начальства. Брандорф сидел мрачнее тучи, зато Чаплинский сиял и потирал руки.
— Господа, наконец-то забрезжил свет, — начал прокурор палаты. — Казимир Шаховской и его супруга вполне определенно указывают на приказчика кирпичного завода Менделя Бейлиса. Полагаю необходимым взять его под стражу.
Брандорф попросил разрешения высказать свое мнение.
— Я нарисую схему, — он взял лист бумаги и поставил крошечный значок. — Пункт первый: все обвинения против Бейлиса сводятся к показаниям фонарщика Казимира Шаховского, ибо никто, кроме его собственной супруги, означенных показаний не подтверждает. Пункт второй: Казимир Шаховской вовсе не указывает на Бейлиса.
— Позвольте! — нахмурился Чаплинский.
— Ваше превосходительство, — вступил Фененко, — извольте обратить внимание на протокол показаний Шаховского. По его утверждению, при встрече он спросил малолетнего Евгения Чеберякова, как они вчера погуляли с приятелем? «На это Женя мне ответил, что погулять ему с Андреем Ющинским не удалось, так как их спугнул в заводе Зайцева, недалеко от печи какой-то мужчина с черной бородой, после чего они разбежались». На следующем допросе я предупредил Шаховского об ответственности за лжесвидетельство. И что же! Он моментально изменил первоначальные показания и заявил: «Относительно мужчины с черной бородой Женя мне ничего не говорил, и это я прибавил от себя. Сказал я тогда о мужчине с черной бородой потому, что предполагал, что никто другой, кроме Менделя, который жил тогда на заводе, не мог напугать Женю и Андрея». Как видите, в показаниях фонарщика нет никакого Бейлиса. Более того, нет даже чернобородого человека, похожего на Бейлиса. Есть некто неизвестный, якобы спугнувший мальчишек на заводе, но и его свидетель сам не видел, а рассказывает о нем с чужих слов.
— Насколько я понимаю, вы считаете показания Шаховского лживыми от первого до последнего слова? — осведомился Чаплинский.
— Напротив, — ответил Брандорф, — мы пришли к выводу, что в его показаниях, если очистить их от нелепой и лживой чепухи, имеются архиважные сведения. Вы несомненно заметили, что, согласно показаниям Шаховского, утром 12 марта Андрей Ющинский был одет в одну только тужурку. Между тем родные Ющинского утверждают, что он вышел из дома в пальто. Зададимся вопросом, где он снял верхнюю одежду? Логично предположить, что в квартире своего приятеля Евгения Чеберяка, а потом они выбежали на улицу. Еще один важный факт. Вам, конечно, известно, что вокруг пещеры были разбросаны ученические тетрадки Ющинского. Но ведь Шаховской показал, что в руках у Ющинского не было никаких тетрадок. Даже если некто с завода напал на мальчика, откуда он мог взять тетрадки? Для этого ему пришлось бы проникнуть в жилище Чеберяков. Таким образом, все нити преступления ведут к дому номер сорок по Верхне-Юрковской улице. Там живет закадычный друг погибшего, около этого дома мальчика видели живым в последний раз, только в квартире Чеберяковых он мог оставить свои вещи. Характерно, что Евгений Чеберяков на все расспросы о своем друге либо молчит, либо плетет явные небылицы. Все семейство Чеберяковых несомненно чего-то боится. Заметно также, что они всячески стараются подкинуть следствию ложные сведения. Когда по стечению обстоятельств возникли подозрения против матери убитого, Вера Чеберяк указывала на ее якобы странное поведение. Позже Евгений Чеберяк пытался навести подозрения на дядю убитого Федора Нежинского.
— Вы меня убедили, — задумчиво сказал Чаплинский. — Чем больше я размышляю над этим загадочным делом, тем очевиднее становится участие в нем семейства Чеберяковых.
— Ну, слава Богу! — обрадовано воскликнул Брандорф. — А мы с господином следователем боялись, что вы попали в плен ложной версии. Разве образованный человек может поверить в такую дикость! Ключи от тайны у Жени, но пока Вера Чеберяк на свободе, ее сын ничего не скажет.
— Да, я заметил, что мальчик находится под сильнейшим влиянием матери, — подтвердил Чаплинский. — Надо скорее арестовать Бейлиса, и тогда можно рассчитывать на правдивые показания Чеберяковых.
— Ваше превосходительство, — всплеснул руками Брандорф, — ну при чем тут Бейлис? Извольте взглянуть, — он протянул прокурору палаты листок со своими записями. — Я отмечал по пунктам и у меня вышло, что все показания против приказчика завода представляют собой бессмысленный набор предположений и догадок, но отнюдь не логическое построение схемы улик. Для судебных властей будет позором выйти с таким, с позволения сказать, обвинительным актом!
— Разве? — деланно удивился Чаплинский. — Мне, наоборот, кажется, что на бумаге вышло еще лучше и убедительнее. Коль скоро мы пришли к выводу, что убийство носило ритуальный характер, то все не вполне устойчивые указания на Менделя Бейлиса, как на возможного участника преступления, приобретают значение неопровержимых доказательств.
— Нет ничего хуже опоры на столь шаткое основание!
— Всегда может быть хуже. Напомню вам анекдот из практики адвоката Плевако. У него была манера повторять: «Господа присяжные заседатели! Подумайте, ведь могло быть и хуже!» Однажды он защищал преступника, изнасиловавшего собственную дочь, и по привычке заметил, что могло быть и хуже. Председатель суда вспылил: «Помилуйте, Федор Никифорович! Ваш подзащитный изнасиловал свою дочь! Что может быть хуже?» — «Ваша честь, а если бы он изнасиловал вашу дочь? Разве это не было бы хуже?» — не растерялся Плевако.
Анекдоты о «московском Златоусте», как прозвали Плевако, пользовались популярностью в судебных кругах. Трудно было различить, что из них правда, а что выдумки, приписываемые красноречивому адвокату. В другое время Фененко посмеялся бы забавному анекдоту, но сейчас ему было не до шуток. Следователь твердо сказал:
— Мне требуется письменное предписание прокурора окружного суда о взятии Бейлиса под стражу.
— Я такого предписания не дам, — не менее твердо заверил Брандорф.
— Ну что же, господа, — Чаплинский встал. — Должен с прискорбием резюмировать, что мы ни в чем не сойдемся. Я это предвидел и обратился к начальнику киевского охранного отделения подполковнику Кулябко и попросил задержать Менделя Бейлиса в порядке государственной охраны.
Брандорф выскочил из-за стола как ошпаренный.
— Не п-п-онимаю, — произнес он, заикаясь от волнения. — Не понимаю, зачем нужно было ломать всю эту комедию, если ваше превосходительство уже отдало распоряжение об аресте невиновного человека. Так служить невозможно.
— Ну, если вы ставите вопрос таким образом… — Чаплинский напряженно улыбнулся, — можно подумать о переводе, разумеется, с повышением, учитывая ваш незапятнанный формуляр.
— Полагаю, это неизбежно. Честь имею кланяться, — ответил Брандорф, направляясь к выходу.
Фененко последовал за ним. По дороге в свой кабинет Брандорф не проронил ни слова, но, захлопнув за собой дверь, дал волю гневу.
— И это страж закона! — восклицал он, потрясая кулаками. — У него вздор вместо улик, так он просит охранку арестовать неугодного ему человека! Кстати, я знаю, откуда ветер дует. На днях Чаплинский ездил в черниговское имение министра юстиции. Ванька Каин ему хвост накрутил! Однако Чаплинский крупно ошибается, если думает, что я сложу оружие. Преступников несомненно следует искать в окружении Веры Чеберяк. У нас пока нет доказательств, позволяющих предъявить ей обвинение, но мы можем последовать примеру господина прокурора, который обратился за содействием к охранному отделению. Я телефонирую в жандармское управление, чтобы хозяйку притона вновь арестовали под каким-нибудь предлогом. Полковник Шредель недолюбливает подполковника Кулябко и будет рад оказать мне маленькую услугу. Пока мадам будет сидеть под стражей, вам необходимо во что бы то ни стало добиться правды от ее сына.
— Вряд ли удастся, — вздохнул Фененко.
— Да, с ним трудно, настоящий звереныш. Взгляд такой, что оторопь берет. Впрочем, разберемся с ним после изоляции матери. Теперь вот что. Не в нашей власти предотвратить арест Менделя Бейлиса, но наш долг очистить совесть перед несчастной жертвой антисемитских происков. Поезжайте, Василий Иванович, на кирпичный завод, подготовьте Бейлиса. Пусть не падает духом. Важно показать, что в судебных учреждениях есть люди, которые не позволят свершиться беззаконию.
Через час Фененко был у конторы кирпичного завода на Кирилловской улице. Когда он спросил управляющего, ему ответили, что он осматривает стройку. Следователь направился к большому двухэтажному зданию в строительных лесах. Обойдя кругом, он увидел пристройку с высокими окнами в два света. Дверь в проеме еще не была укреплена, и Фененко вошел в здание. В полумраке можно было разглядеть высокий зал. Над огромными прямоугольными окнами располагались небольшие полукруглые окна, пропускавшие верхний свет. Стены стояли подготовленными для штукатурки, а на противоположном от входа простенке красовались контуры шестиконечной звезды.
Внезапно за спиной следователя раздались громкие стоны и крики. Он обернулся и содрогнулся от ужаса. На полу среди строительного мусора корчились, словно от адской боли, несколько человек. Один из них распрямился, вскочил на ноги, шлепнув голыми ступнями о каменные плиты. Его лапсердак был вымазан в известке и порван, шляпа с широкими полями сбилась на затылок. Человек взвыл и от отчаяния укусил себя за руку.
«Умалишенный!» — мелькнуло в голове Фененко. Он попятился к выходу и наткнулся спиной на чью-то фигуру. Следователь вскрикнул и тут же узнал управляющего заводом Хаима Дубовика, низко ему поклонившемуся.
— Ваше высокородие! Мне сказали в конторе, что вы меня разыскиваете, и я бросил все дела. Здесь богадельня, построенная по завещанию покойного хозяина Ионы Мордковича Зайцева, да упокой его душу Всемогущий Иегова! Прошу вас, не мешайте старым бедным евреям!
Когда они вышли во двор, сопровождаемые горестными стенаниями стариков, следователь спросил, по какой причине рыдают обитатели богадельни?
— Сегодня Тешебов. Сегодня евреям положено предаваться плачу, вспоминая разрушение Храма, — отвечал управляющий.
— А-а! Они молятся. Простите, что я вторгся в синагогу. Но я был с покрытой головой, — извинился Фененко.
— Какая такая синагога? — неожиданно перепугался Дубовик. — Где ваше высокородие видит синагогу? Дай вам Сотворивший небо и звезды сто двадцать лет благополучной жизни, но это вовсе не синагога, а столовая. Здесь будут кушать кошерную пищу больные и старики из богадельни. Нам разрешила городская управа, план столовой начертил губернский архитектор. Пройдемте, ваше высокородие, в контору, я вам все покажу.
— Оставьте! К чему это! — поморщился Фененко. — Я вовсе не разрешение пришел проверять. Мне нужен ваш служащий Мендель Бейлис.
— Бейлис? Простите великодушно, зачем вам понадобился Бейлис? Разве вскрылось какое-нибудь жульничество с подрядами? Мы тут ни при чем, мы продаем кирпич всем желающим.
— Дело не в кирпиче. Мне нужно расспросить Бейлиса об… ну вы, наверное, догадываетесь, — смущенно сказал следователь.
— Гевалт! Неужели алилат дам? Опять кровавый навет! О, горе нам! Неужели евреев подозревают в смерти ребенка! Видно, никогда нам не очиститься от этой клеветы!
Фененко промямлил, что он не верит в ритуал, но ничего не может поделать. По крайней мере, он хотел бы поговорить с Бейлисом.
— Дом приказчика наверху, — вздохнул управляющий, — надо будет подняться по склону горы. Я вас проведу. Ах, какую печальную весть вы принесли, под стать дню скорби!
Дубовик, сгорбившись и став как будто еще ниже ростом, шаркающей походкой направился мимо ветхих, предназначенных к сносу старых строений богадельни к тропинке, круто вздымавшейся в гору. Подъем был трудным. Он часто останавливался, и из его уст вырывалось горестное:
— О, девятое Ава!
Под его причитания Фененко смотрел с высоты на черные в сумерках заливные луга и серебряную спираль Почайны. Потом он перевел взгляд на усадебные дома. Незаконченная богадельня с пристройкой выходила задней стеной на глубокий карьер, из которого брали глину. Яма была такой громадной, что, казалось, готовилась поглотить строение. «Это синагога, конечно, что бы там Дубовик не говорил, — подумал следователь. — И щит Давида на стене».
— Утешь, Господь, Бог наш, скорбящих о Сионе, скорбящих о Иерусалиме, — рыдал Дубовик, ударяя себя в грудь и обливаясь слезами.
В глазах Фененко защипало. Вот также, как сейчас Дубовик, две тысячи лет назад рыдали иудеи на вавилонской чужбине, мечтая о возвращении в Землю Обетованную. И народ вернулся из вавилонского пленения, вновь отстроил на пепелище город и святилище. Однако в семидесятом году от рождества Христова жестокосердный Тит, сын и наследник императора Веспасиана, привел под стены Иерусалима римские легионы. На высоких скалистых холмах располагался священный город, три мощные стены и сто шестьдесят башен окружали его со всех сторон. Римляне установили катапульты, метавшие камни весом в талант, и «бараны» — мерно раскачивающиеся бревна с бронзовыми наконечниками в виде бараньих голов. Однако защитники города сделали подкоп, обрушили и сожгли все стенобитные машины. Тогда римляне устроили военный совет и решили взять город измором, перекрыв все тайные выходы и тропинки. В Иерусалиме начался голод, крыши домов усеяли обессилившие люди. Оскалившись, с сухими глазами взирали те, чья смерть медлила наступить, на всех, кто обрел покой прежде них. Жены вырывали пищу у мужей, дети — у родителей, матери — у своих малюток. Были даже случаи людоедства. Многие жители Иерусалима понимали, что участь города решена, и перебегали к римлянам; в числе перебежчиков были два первосвященника и многие из знати.
Были и те, кто решил сражаться до конца, даже после того, как римляне захватили стены и башни. Последнее, что оставалось в руках иудеев, была Храмовая гора, превращенная в крепость. Римляне пытались вскарабкаться на гору, но защитники опрокидывали штурмовые лестницы. Тогда римляне подожгли ворота, и расплавившийся металл перенес огонь на колоннады, горевшие весь день и всю ночь. Наутро завязался последний бой. Легионерам удалось обратить противников в бегство. Они преследовали защитников до самого Храма. И тут один из римских воинов, не задумываясь о последствиях, схватил горящую головню и, приподнятый вверх своим товарищем, бросил ее внутрь сквозь золотой проем, ведший к окружавшим Храм помещениям. В мгновение ока вспыхнуло пламя, и иудеи откликнулись громким отчаянным стенанием. Сын императора Тит приказал тушить пожар, но ничто не могло сдержать ярость легионов. Воины притворялись, что не слышат приказов, и кричали впереди стоящим, чтобы те поджигали здание. Их вдохновляла надежда на добычу, потому что, судя по золоченной обивке, они полагали, что и внутри все из золота. Римляне поражали всех, кто попадался на их пути. Вокруг жертвенника громоздились горы трупов, а по ступеням текли потоки крови. Тит в сопровождении военачальников вступил в Храм и стал последним из людей, кому довелось проникнуть за завесу Святая Святых. Неизвестно, что узрел за завесой Тит, но, когда он вышел наружу, пламя уже пожирало Храм. Все было кончено. Судьба как будто выжидала, чтобы совершить круговорот, ибо по воле небес Храм был разрушен в девятый день месяца Ава — в тот самый день, в который он был сожжен вавилонянами за семь веков до римлян.
Так писал очевидец событий Иосиф Флавий в «Иудейской войне». Когда-то Фененко помнил не только Флавия. В студенческие годы он наизусть цитировал целые страницы из Плутарха, Фукидида и Тацита. Теперь жалел, что не пошел по ученой линии. По крайней мере не пришлось бы кривить душой на чиновничьей службе.
— Простите великодушно старого еврея, — утер слезы Дубовик. — Я вас задерживаю. Пойдемте скорее, а то наш приказчик рано ложится спать.
Они поднялись к навесам и прошли через них к приземистой выбеленной хате, притулившейся у самых ворот. Дубовик, притронувшись рукой к мезузе, амулету на дверном косяке, постучал в дверь. На крыльцо выбежал Мендель Бейлис, за спиной которого мелькнули две детские головки. Управляющий произнес несколько фраз на еврейском, и Бейлис, кланяясь и приседая, пригласил их в дом. В тесной горнице бедность глядела из каждой щели. Бейлис усадил гостей за стол, о чем-то тревожно пошептался за занавеской с женой и вынес угощение — несколько старых окаменевших пряников, прибереженных, наверное, с весны. Судебный следователь, не зная с чего начать, спросил:
— Мы вам не помешали? Вы, наверное, предавались плачу?
Бейлис, оторопело глядя на форменные петлицы следователя, молчал. За него ответил Дубовик:
— Заводскому приказчику трудно следовать предписанным евреям обрядам. Покупатели не будут ждать. Они поедут и купят кирпич у конкурентов.
— Я отгружаю кирпич и в праздник Кущей, и в Швуэс, и в Пурим и, стыдно сказать, в самый Пейсах, — признался Бейлис с таким виноватым видом, словно Фененко был раввином. — Даже субботу, священный шабаш, не удается справить, як положено. Был бы жив мой отец, благочестивый хасид, он бы предал меня херему. При старом хозяине, рабби Ионе, мы, приказчики, исполняли все еврейские законы. Даже за мацой меня посылали в имение старого Зайцева, а потом я развозил мацу по всем гвирам, даже самому Бродскому. А сколько грошей мне за то насыпали, так, упаси Бог соврать, хватало от Пейсаха до праздника Кущей. Сейчас молодые хозяева мацы не пекут, развозить по богачам не посылают. Не стало приработка. Жду не дождусь, як мой старший сынок Пинька закончит гимназию и выучится, не сглазить бы, на дохтура. Коли до той поры не протяну со всем семейством ноги, — со вздохом закончил Бейлис.
Вдруг за окном раздалось лошадиное ржание. Бейлис высунулся наружу и тут же отпрянул назад, прошептав дрожащими губами:
— Вай мир! Жандармы, их много, они с длинными саблями.
«Черт побери! — выругался про себя Фененко. — Охранка!» Следователь вышел на улицу, приоткрыл покосившиеся ворота. Его взору предстала черная карета, в которую жандармы усаживали Веру Чеберяк. Прибежали две девочки и дружно заревели. Из окон домов высунулись любопытные. Раздался ухарский свист, и Лукьяновка враз пробудилась. Увидев, что с разных сторон набегают зеваки, Фененко поспешил скрыться за воротами завода. За время его отсутствия к Дубовику и Бейлису присоединился кривоногий человечек.
— Сибирячку замели, — давясь смехом, рассказывал кривоногий. — Это нам очень даже приятно. Давно пора взять курву за бока. Ишь ты, форсит в шляпах и ротондах! На ворованное-то любой пофорсит.
— Познакомьтесь, господин следователь. Наш уличный адвокат, всей Лукьяновке прошения в суды пишет, — представил его Дубовик.
— И пишу! — с гордостью подтвердил человечек. — Коли я сапожник, то разве я не могу прошения писать. Настоящий аблакат красненькую запросит, а я за полтину накатаю не хуже. Михаил Наконечный, — сунул он следователю намозоленную руку. — Лягушкой меня кличут, — он с комическим самоуничижением кивнул на свои кривые ноги.
— Вижу, вы радуетесь аресту соседки?
— А то як же! Вся улица от нее стонет. Оказали бы нам такую милость, закатали бы Верку на каторгу.
— Вы местный житель? Знаете Казимира Шаховского?
— Фонарщика? Конечно! Я тут каждую кошку с котячьего возраста знаю.
— Фонарщик зимой дрова воровал, — заметил Бейлис. — Я его поймал и поколотил. Его не заботит, шо приказчик отвечает своими грошами за каждое полено. Все соседи то понимают.
— А то як же, мы понимаем, — подтвердил сапожник. — Коли плохо лежит, бедный человек подтырит. Отчего не подтырить? Но коли ежели попался — подставляй шею. А Казимир, лях, гордец, благородней других хочет быть. Другой бы забыл давно, а он отомстить задумал. Пришью, говорит, Менделя к делу. Своими ушами слышал, как он грозился: «Меня следователь вызывает на допрос. Надо будет пришить Менделя к делу за то, что он донес в участок, будто я дрова воровал с завода».
— Полторы вши ему на закуску! — обидчиво протянул Бейлис. — Мало у мени делов, шо доносить на него! Я, не сглазить бы, и без полиции могу в потылицу наложить.
Бейлис помахал кулаком, и следователь впервые обратил внимание на то, что приказчик был, хотя и невысок ростом и подслеповат, но довольно крепок и жилист. Теперь все встало на свои места. И без того вздорные улики против Бейлиса превращались в совершенное ничто, ввиду выяснившейся предвзятости Шаховского. Фененко наскоро записал слова Наконечного и предупредил сапожника, что вызовет его для дачи свидетельских показаний.
— С моим удовольствием, — тараторил Наконечный. — Я и без повестки завсегда приду. Бейлис, хоть и жид, и религия у него жидовская, а все ж он людына добрая. Я его на дюжину православных не поменяю. Мы с ним первые друзья-приятели, правда, ты отличный жид, — сапожник полез обнимать приказчика.
Фененко в сопровождении Дубовика вышел за ворота. Улица уже опустела. Управляющий уговаривал следователя не разгуливать ночью по Лукьяновке, чтобы не нарваться на грабителей. Он предлагал вернуться в контору, где для господина следователя заложат экипаж.
— Вы лучше ступайте к Бейлису и побудьте с ним. Его ждут нелегкие испытания, — предупредил следователь и, увидев, что лицо Дубовика затуманилось, сочувственно добавил: — Не бойтесь, все честные люди придут вам на помощь.
Когда Фененко, распрощавшись с Дубовиком, дошел до перекрестка, его ослепил свет электрических фар. Перед ним, громко урча, остановился автомобиль. Сидевший рядом с шофером толстяк прокричал:
— Ба! Василий Иванович! Вот уж не ожидал увидеть вас в столь поздний час!
— А я вас, напротив, давно поджидаю. Что-то вы припозднились? — сказал Фененко, узнав подполковника Кулябко.
Следователь старался придать своему голосу как можно больше сарказма, потому что, по его убеждению, только таким образом порядочный человек должен был разговаривать с начальником охранки. Но Кулябко был до того потешным толстяком, что с ним нельзя было выдержать строгого тона. Подполковник, вытирая платком полное лицо, сказал, отдуваясь:
— По прихоти прокурора палаты покоя не знаю. Еду заарестовывать вашего жидка. Послать бы за ним одного городового, так нет — приказали снарядить целый отряд. За мной восемь жандармов с винтовками, лошади только отстали под горкой. Тут, понимаете ли, приезд государя императора на носу. Августейшая семья! Свита! Не дай Бог покушение! Идет очистка Киева от подозрительных элементов, и вдруг на тебе — бросай все и гоняйся за каким-то пархом. Послушайте, голубчик, — Кулябко вышел из автомобиля, обнял следователя за талию, — неужели ваш Чаплинский до того сдурел, что решился поднять ритуальное дело? Ведь передовое общество его живьем сожрет и косточки выплюнет!
— Так в чем дело? Разворачивайтесь и назад.
— Нельзя, батенька. Служба-с! Ну, дотащились, наконец, — крикнул Кулябко жандармам, выехавшим из-под горы на взмыленных лошадях. — Как, бишь, вашего парха кличут? Бейлис? Ну, нехай буде Бейлис! Сейчас ему объявим: господин Бейлис, будь ласка, жидовская морда, пожалуйте на цугундер. Эй! Вперед!
Кавалькада рванула к дому Бейлиса.
Глава одиннадцатая
23 июля 1911 г.Сотрудник «Киевской мысли» Бразуль-Брушковский внимательно оглядел обширное помещение, отведенное под буфет окружного суда. Зал был полон людьми в черных фраках с адвокатскими значками на груди. Они непринужденно болтали, пили и беспрерывно закусывали. За столиком у окна он увидел плотного, начинающего лысеть присяжного поверенного. Его звали Арнольдом Давидовичем Марголиным, и он был единственным наследником миллионщика Давида Марголина, владельца компании газоснабжения и водопровода, общества судоходства по Днепру и множества других коммерческих предприятий. Младший Марголин постепенно входил в курс отцовских дел. Он получил юридическое образование и занимался адвокатской практикой не ради гонораров, а по его собственным словам, в интересах истины и справедливости.
Наследник миллионов сочувствовал прогрессивным идеям и даже состоял в партии народных социалистов, близкой по духу к эсерам, но без их решительности и боевого настроя. Бразуль иногда задавался вопросом, неужели Марголин готов пожертвовать унаследованные капиталы на благо народа или воображает, что при социализме сохранится деление на бедных и богатых. Впрочем, у буржуев свои прихоти. Давал же Савва Морозов деньги на музыкальный театр и революцию. Марголин был не чужд литературному труду и время от времени помещал свои заметки в «Киевской мысли». В редакции газеты они и познакомились. Завидев Бразуля, адвокат радушно пригласил его к своему столику:
— О, Степан Иван! Всегда вам рад!
Он забавно выговаривал имя-отчество журналиста, проглатывая окончание. Репортера это немного коробило и даже казалось, что миллионщик делает это нарочно. Между тем Марголин представил своего соседа по столику, бледного юношу в золотом пенсне.
— Дмитрий Богров, — отрекомендовался тот, протягивая вялую ладонь.
Марголин пояснил, что Дмитрий Григорьевич — внук писателя Богрова, автора «Записок еврея», имевших огромное просветительное значение.
— Меня всегда представляют как внука знаменитого деда. Сам по себе я ничего не значу, — грустно усмехнулся молодой человек, и его верхняя губа еще больше оттопырилась, обнажив передние зубы, похожие на заячьи резцы.
— Откуда такой пессимизм? — запротестовал Марголин. — Впрочем, продолжайте ваше жизнеописание. Господину журналисту, полагаю, тоже будет любопытно узнать, чем живет и дышит современная молодежь.
Богров, лениво ковыряя страсбургский паштет, продолжал свою повесть, прерванную появлением репортера. Он рассказал, что окончил курса наук в Мюнхенском университете. За границей он увлекся трудами Бакунина и Кропоткина. После возвращении в Киев он примкнул к анархистам, но вскоре испытал горькое разочарование. Все произошло именно так, как когда-то предсказывал его дед-писатель, подавший в министерство внутренних дел прожект о выделении одной из отдаленных губерний в распоряжение революционеров, дабы они устроили там жизнь на началах социализма. Автор проекта утверждал, что революционеры вскоре убедятся в никчемности своих идей и сбегут из отведенного им заповедника, а жестокий эксперимент навсегда отвратит Россию от социалистической химеры.
— Анархистское подполье почти полностью состоит из евреев низших классов, — объяснял Богров. — Я для них Митька-буржуй. Эсеры мало от них отличаются. Эсдеки будут посерьезнее, но у них пунктик на партийной дисциплине. Я же чистейшей воды индивидуалист. Зачем мне партия, контролирующая каждый мой шаг. Я сам себе партия.
— Напрасно вы такого мнения о партии эсеров, — не вытерпел Бразуль. — Согласитесь, что в рядах этой партии состоят самые светлые личности современности. Правда, дело Азефа показало, что революционное подполье заполонили провокаторы и полицейские агенты. Кажется, они повсюду.
— Да, вы правы, — грустно усмехнулся Богров.
— Ну-ну, не преувеличивайте, — вмешался адвокат. — Среди нас же нет провокатора! Расскажите лучше о ваших видах на будущее?
— Нет никаких планов. Отец пристроил меня в юридическую консультацию, принадлежащую нашему родственнику, я туда изредка захожу. Живу в квартире родителей, имею бесплатный стол, одежду и сто пятьдесят рублей в месяц на карманные расходы. Сверх того, занят добыванием микроскопического подрядца, который мне обещал устроить знакомый инженер городской управы.
— Извините, Дмитрий Григорьевич, это просто глупо. Кругом такие возможности, за один день сколачиваются миллионные состояния, а вы прозябаете в какой-то консультации. Ну, это дело поправимое. Обещаю пристроить вас к выгодной коммерции.
— Благодарю, только… — юноша вздохнул и посмотрел потухшим взором в сторону буфетной стойки, уставленной закусками. — Знаете, я иной раз сомневаюсь: а надо ли пристраиваться? В сущности, что меня ждет впереди? Бесконечный ряд котлет, который предстоит скушать в течение жизни. Тоскливо и скучно! Хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, чтобы тебя запомнили.
Когда молодой человек откланялся, Марголин покачал головой.
— Видали, каков фрукт! Из хорошей еврейской семьи, дед — знаменитый беллетрист, отец — модный адвокат и счастливый игрок. Богат, образован, ни в чем не знает нужды. А ведь того и гляди пустит себе пулю в лоб. Надо ему подать мысль: уж если он задумал лишить себя жизни, пусть пристрелит какого-нибудь царского сатрапа. Шучу, шучу! — рассмеялся он и приступил к обычным расспросам. — Я только вчера приехал из Одессы. Как дела в Киеве? Что случилось за время моей отлучки?
— Ваш покорный слуга взвалил на свои плечи бремя редактирования «Киевской копейки».
— Зачем вам это нужно? Вы серьезный журналист, а «Копейка» — это желтая газета. Неужели вас привлекает реклама шустовского коньяка или жульнических патентованных лекарств?
«Копейками» называли газеты, рассчитанные на самую невзыскательную публику. Они стоили ровно копейку и издавались в разных городах. Но «Киевская копейка» все же отличалась от периодических изданий подобного рода. С одной стороны, «Киевская копейка» потакала вкусам небогатой публики, печатала сообщения о распродаже товаров по бросовым ценам, принимала объявления от прислуги о приискании мест. С другой стороны, госпожа Прохаско, издательница газеты, дама стареющая, но романтически настроенная, поставила цель просвещать читателей. Недаром её газета имела двойное название «Огни — Киевская копейка». Бразуль попытался объяснить эту разницу Марголину.
— Редакция намеревается выпускать литературное приложение, и вы даже не представляете, сколько молодых талантов обнаружилось в Киеве… На днях я познакомился с Исааком Бобелем, он приехал из Одессы учиться в Коммерческом институте. Имеет необыкновенную способность изображать жизнь Молдованки. Да-да, не смейтесь! Так увлекательно рассказывал о грузчиках и биндюжниках, что я посоветовал ему изложить все это на бумаге и обещал пропечатать в «Огнях». Только ему надо поторопиться. Боюсь, издание прихлопнут за противоправительственное направление.
— В России при нынешнем режиме невозможно начать доброе и нужное дело.
— Арнольд Давидович, у меня припасена сенсационная новость, — понизил голос Бразуль. — Вчера ночью охранка арестовала Менделя Бейлиса.
Адвокат, потягивая вино, равнодушно сказал:
— Бейлис? Вроде бы знакомая фамилия. Кажется, он гешефтфюрер венской фирмы, торгующей накладными бюстами? Ну, здесь ему не Австро-Венгрия, запомнит наши порядки!
— Мендель Бейлис — приказчик кирпичного завода Зайцевых. Его арестовали по подозрению в совершении ритуального убийства.
— Да что вы! — поперхнулся Марголин. — Ну-ка, Степан Иван, введите меня в курс дела. Помнится, с убитым мальчишкой все успокоилось, были арестованы его родственники.
— Их уже отпустили.
— Вот как! Ловко! Знаете, я сейчас поговорю по телефону с двумя-тремя общественными деятелями, а вы не сочтите за труд подождать меня. Закажите тут что-нибудь, — адвокат вытер салфеткой тугие красные губы и быстрыми шагами вышел из буфета.
Бразуль свистнул лакею и неуверенно сказал:
— Э… любезный! Арнольд Давидович распорядился записать на его счет.
Лакей почтительно осклабился, протянул карту.
— Рекомендую филе белой куропатки или желаете жюльен-с?
И хотя Бразуль знал, что угодливый лакей на самом деле презирает «бутербродников», как называли репортеров за привычку есть и пить на чужой кошт, он не без удовольствия составил меню. За соседним столиком несколько адвокатов отмечали удачное выступление коллеги, защищавшего отставного полковника, который вместе с приятелем учинил скандал в Купеческом саду. Адвокат самодовольно повторял свою пламенную речь:
— Я описал картину дебоша в следующих словах: «Звуки труб полкового оркестра, играющего в саду, напомнили старому воину боевой марш, а нависшие облака и грозовые тучи дым орудий. Все это смешалось воедино, вино возбудило старческие героические силы. Оба друга, придя в военный экстаз, ринулись на буфет и штурмом взяли его!»
— Оправдали?
— Конечно!
Под громкий хохот и шутки адвокатов Бразуль отведал заказанные блюда. Когда он доедал десерт, в буфет вернулся Марголин.
— Вот что, Степан Иван, прихвачу-ка я вас с собой. Вы нам можете очень и очень пригодится. Я уже протелефонировал Льву Израилевичу и попросил его срочно собрать виднейших представителей еврейского общества.
— Вы изволили телефонировать самому Бродскому? — переспросил журналист.
— Конечно, а что в этом удивительного?
После кончины Лазаря Бродского главным в семье остался Лев Бродский. О нем отзывались как о человеке, далеко уступавшем старшему брату. Порой его даже называли чудаком, но только потихоньку и за глаза, потому что Лев при всех своих чудачествах был царем среди киевских коммерсантов. Бродские имели несколько дворцов в Киеве. Большинство киевских воротил жили в Липках, великолепном уголке природы, заботливо сохраненном в большом городе. Липки, начинавшиеся от Мариинского сада и царского дворца, издавна считались аристократическим местом. Когда-то его населяло дворянство, важные чиновники и богатые помещики, а в последние десятилетия титулованную знать сменили банковские воротилы и промышленники. Среди нуворишей, потеснивших столбовое дворянство, были Марголины. Они выстроили роскошный особняк в Липках, но их дом был дочиста разграблен и сожжен в ходе погрома октября 1905 года, когда киевские улицы оказались во власти разнузданной толпы. Дворец Бродского тоже едва не разделил участь особняка Марголиных. К нему уже направлялась толпа погромщиков, когда генерал-губернатор направил роту солдат для охраны владений сахарозаводчика. Случился казус — сын Бродского, двадцатилетний студент, вооружился винтовкой и, приняв солдат за погромщиков, наповал убил поручика, командовавшего ротой. Магнату пришлось изрядно похлопотать: он лично ездил выразить сожаление родителям убитого и назначил им денежное пособие. В обществе об этом деле судили по-разному, чаще оправдывая поступок сына миллионера, так как войска действительно часто помогали громилам. Для еврейской же молодежи Бродский стал героем.
К удивлению Бразуля адвокат велел шоферу автомобиля ехать на Прорезную улицу. Когда «Рено» свернуло с Крещатика на Прорезную и остановилось у дома Льва Бродского, журналист с недоумением подумал, по какой причине богатейший капиталист Киева выбрал для жительство такое шумное место. Прорезная, названная в память о дороге, прорезавшей старокиевские укрепления, всегда была полна народа. По рельсам стучали колеса трамвая, по мостовой в обе стороны катили экипажи, по тротуарам спешили прохожие.
Пока они поднимались по лестнице, устланной мягкими зелеными коврами, журналист обратил внимание на потемневшие полотна, висевшие на стенах. Киевские сахарозаводчики коллекционировали картины европейских художников. Терещенко приобрел несколько полотен кисти Рубенса и Веласкеса, да и другие магнаты от него не отставали. Хозяин дома любезно встретил Марголина на верхней площадке лестницы. Не знай журналист, что перед ним сам Бродский, он ни за что не догадался бы, что этот скромный человек ворочает десятками миллионов. Своей бородкой клинышком и одутловатыми щеками коммерции советник Бродский напоминал средней руки чиновника или управляющего помещичьим имением.
— Шолом алейхем, Лев Израилевич!
— Шолом! Давненько вас не видел!
Журналист также удостоился пожать руку самому Бродскому. И сколько он ни убеждал сам себя, что честное рукопожатие бедного труженика значит больше, чем снисходительно поданные два пальца миллионщика, его спина невольно согнулась в почтительном поклоне. Между тем Марголин решил развлечь сахарного короля.
— Лев Израилевич, не желаете хохму? Надеюсь, господин репортер знает, что по-еврейски хохма — это «мудрость», нечто в роде назидательной истории. Ваш покорный слуга ездил в Одессу на юбилей одного заслуженного юриста, можно сказать, моего учителя и наставника. На банкете уважаемого юбиляра попросили вспомнить что-нибудь особенно примечательное из его сорокалетней адвокатской практики. Он подумал и ответил: «Больше всего мне запомнилось, кая я выиграл три суда». Кто-то из присутствующих заметил: «Позвольте! Вам ведь случалось выигрывать шесть или даже семь судов подряд». — «О, я вовсе не о тех судах говорю! Однажды за карточным столом я выиграл три суда у директора Русского общества пароходства и торговли».
Бразуль сообразил, что адвокат не случайно рассказал эту хохму Бродскому. Сахарозаводчик слыл азартным игроком и во время заграничных вояжей спускал в казино целые состояния. В Киеве он организовал закрытый клуб «Конкордия», куда допускались только самые доверенные лица. Члены клуба собирались в доме Бродского, и там шла серьезная игра.
— Загляните как-нибудь к нам в «Конкордию», — с усмешкой пригласил Бродский. — Кто знает, вдруг вам выпадет счастливая карта и вы пополните ваше общество судоходства по Днепру двумя-тремя судами.
— У вас собираются опытные игроки. Боюсь лишиться последних пароходов!
— Вы же гоняете пароходы себе в убыток. Признайтесь, проучили мы вас. Даже французские булки не помогли!
В Киеве несколько пароходных компаний конкурировали друг с другом и однажды до того увлеклись, что довели плату за проезд в третьем классе до пятака. Потом плата снизилась до алтына. Наконец, одна компания в стремлении переманить пассажиров пообещала бесплатный перевоз. Но конкуренты не дремали и тут же объявили, что не будут взимать плату с косарей и прочего рабочего люда, а сверх того, каждому воспользовавшемуся их услугами выдадут булку белого хлеба.
— Нет, булок больше не будет. Чуть не разорились! Спасибо за науку! Кстати, хотел спросить. В вашем клубе регулярно играет Григорий Григорьевич Богров. Сегодня я видел его сына. Он весь во власти черной меланхолии. Нельзя ли оказать ему протекцию, а то у отца руки никак не дойдут.
— Отчего же не оказать протекцию достойному молодому человеку, — кивнул головой Бродский и воскликнул. — А вот и рабби!
По лестнице поднимался казенный раввин Аронсон. Хозяин почтительно приветствовал раввина библейским изречением «Барух хаба», то есть «Благословен пришедший», и услышал ответное: «Барух ханимца» — «Благословен пребывающий здесь». Бродский предложил всем перейти в свой кабинет, усадил раввина в мягкое кресло, а сам занял место у дверей, встречая и приветствуя гостей. Вскоре обширный кабинет заполнили видные представители еврейского общества. Со всех сторон звучало: «Шолом», «Алейхем шолом». Журналист знал в лицо почти всех банкиров и промышленников, но ни с кем из богатеев не был знаком лично. Единственным, кого он встречал раньше, был адвокат Марк Виленский, которого Марголин запанибрата называл Марой. Стоя в уголке кабинета, Барзуль с любопытством наблюдал за гостями Бродского. Они разбились на группы и громко беседовали, усердно размахивая руками. Бразуль подумал, что еврея, даже самого воспитанного и образованного, всегда можно распознать по бурной жестикуляции и быстрой речи. Это навсегда, этого не изменишь никакими университетами. Последним в кабинет со словами извинения на устах вошел Марк Зайцев. Очевидно, все приглашенные были в сборе, потому что после его прихода Бродский откашлялся, попросил внимания и предоставил слово Марголину.
Адвокат, приняв картинную позу, произнес краткую вступительную речь:
— Вчера ночью был арестован Менахем Мендель Тевьев Бейлис, приказчик кирпичного завода, принадлежащего присутствующему здесь Маркусу Ионовичу Зайцеву. С великого праздника Пейсах наши ненавистники раздувают ритуальное дело. Поскольку меня довольно долго не было в Киеве, я не знаю всех подробностей. В связи с этим, я позволил себе пригласить на наше собрание Степана Ивана Бразуля-Брушковского, журналиста прогрессивной газеты «Киевская мысль», на страницах которой мне случается публиковать свои размышления о текущем политическом моменте. Наш друг собрал интересный материал.
Все взоры устремились на Бразуля. Поначалу он заикался от волнения, но вскоре оправился, и его речь потекла гладко и безостановочно. Он коснулся соперничества между сыщиками Мищуком и Красовским. Когда он упомянул о визите в Киев вице-директора Лядова, известного своей близостью с министром юдофобом Щегловитовым, сам Бродский подался вперед, стараясь ничего не пропустить. Воодушевленный общим вниманием, репортер постарался мобилизовать все свои ораторские способности и закруглил речь витиеватой фразой:
— Ныне черносотенцы день и ночь корпят над тем, дабы добиться выгодных им показаний от детей Веры Чеберяк. Выдержат ли дети — вот в чем вопрос, как вопрошал герой бессмертной трагедии!
Не успел он закончить, как адвокат все разом заговорили. Некоторое время в кабинете Бродского стоял такой гвалт, какого нельзя было услышать на местечковом рынке. Наконец, беседой овладел раввин Аронсон.
— Знаю, найдутся люди, которые скажут, что я казенный раввин, чиновник, поставленный от правительства. Но даже казенный раввин обязан сказать от имени всего еврейства. Опять несчастье на наши головы! Опять кровавый навет — алилат дам. Не время пререкаться, ибо сейчас аунус нефошос — смертельная опасность для еврейской души! Талмуд предписывает в таких случаях отложить все дела и сделать все возможное для спасения еврея.
После слов раввина наступила тишина. Бродский сделал едва заметный жест рукой, и Марк Виленский быстро поднялся со своего места и вежливо предложил журналисту перейти в курительную. Нетрудно было догадаться, что собравшееся в кабинете Бродского общество предпочло обсуждать свои дела без посторонних ушей. Виленский отвел журналиста в отделанную палисандровым деревом курительную комнату. Бразуль решил, что его оставили без присмотра, но в дверном проеме возник лакей с подносом и ловко сервировал низенький столик перед оттоманкой. Украдкой взглянув на дно серебряной сахарницы, Бразуль с некоторым удивлением обнаружил клеймо фирмы Карла Фаберже. В ювелирном заведении Маршака на Крещатике подобная сахарница стоила рублей шесть. Вещи шли ходко, помогало звание поставщика императорского двора. Однако люди со вкусом и достатком посуду от Фаберже не покупали, предпочитая старинное фамильное серебро. Очевидно, сахарницу следовало отнести к многочисленным чудачествам сахарного короля. Он потратил миллионы на благотворительность, в том числе на покупку здания театра Соловцова, но при этом завел тяжбу с городскими властями, требуя арендную плату в размере десяти рублей в год за пользование лестницей, ведущей к театру. Бродский был влиятельнее генерал-губернатора, но при этом усердно хлопотал о чине статского советника, который мог выслужить любой правитель канцелярии или даже учитель гимназии.
Приблизительно через час, когда Бразуль уже и кофе выпил и на оттоманке полежал, в курительной комнате появились Марголин и Виленский.
— А, вот вы где кейфуете! Отчего же не попросили кальян?
Марголин был возбужден и радостно потирал руки. В кратких словах он сказал, что еврейская община решила создать комитет по спасению Бейлиса. В комитет вошли Аронсон, Гальперин, Зайцев и они с Марой. По подписке были собраны деньги. Правда, как посетовал Марголин, жертвовали туго.
— Ну, ну! Сорока тысяч для первого раза достаточно, — возразил Виленский. — Потом доить будет легче. Однако тише! Сюда идет старик Гальперин.
Действительно в курительную комнату вошли Гальперин и Зайцев. Коммерции советник Гальперин, если не по размеру капитала, то по размаху операций, мог посоперничать с Бродским. Рафинадом с его заводов торговали по всей России и даже за границей вплоть до далекой Норвегии. Негоциант жил в Липках в роскошном палаццо, построенном в стиле Высокого Возрождения. Евреи не имели собственного дворянства, но аристократия, хотя и без официальных титулов, у них всегда существовала. Гальперин принадлежал к знатному еврейскому роду, давшему немало раввинов и знатоков талмуда. Он был образованным человеком, состоял попечителем Фундуклеевской женской гимназии и, в то же время, любил щегольнуть длинной талмудической цитатой. Гальперн обратился к адвокатам со словами на древнееврейском. Они недоуменно переглянулись, после чего Марголин с некоторым смущением произнес:
— Мойша Беркович, я до тринадцати лет брал уроки древнееврейского, но, признаться, помню только алфавит.
— Эх, молодежь, молодежь укоризненно покачал головой Гальперин. — Все науки превзошли, на всех языках разговариваете, а нашего доброго еврейского, на котором написана святая Тора, не знаете! Не примите за обиду, но я желаю узнать, как вы собираетесь распорядиться средствами, собранными для защиты несчастного Бейлиса. Как никак, он приказчик моего племянника.
Гальперин вступил в брак с Шифрой Зайцевой. Подобные браки по расчету были распространены в среде киевских воротил. Богачи брали в жены дочерей своих компаньонов и объединяли капиталы. Всех крупных промышленников и финансистов черты оседлости связывали сложные родственные узы. Гальперин считал своим долгом опекать племянника по женской линии, хотя Зайцеву было уже за пятьдесят лет.
— Часть средств пойдет на формирование благоприятного общественного мнения, — пояснил Марголин. — Нельзя допустить, чтобы дело решалось келейно. Надо остановить на нем зрачок мира.
— Так, таки да! — кивал головой Гальперин. — Вижу, молодежь усвоила новые веяния, таки да. Но я так скажу: келейно уладить дельце было бы совсем неплохо. Кто сейчас расследует убийство?
— Следователь по важнейшим делам Фененко, а надзор осуществляет прокурор судебной палаты Чаплинский.
— Рибона шель олом! Создатель мира! Таки куда вы забрались! Прокурор судебной палаты! Якая важная птица! Только я вам так скажу, молодые люди: с вельможным паном приятно вести благородный разговор, а гешефт надо делать с самым маленьким человечком. Ежели у вас судебная тяжба, то прямиком идите до канцелярского служащего. Ничтожный писарек все так оборудует, что никакой прокурор не подкопается. Насколько я понимаю, полицейский розыск ведет пристав Красовский. Невелик чин, а все в его руках. Красовский — личность небезызвестная. Взяточник и плут, но ловкий, с ним всегда можно сторговаться. Много не запросит, у него сейчас дела швах. Из опаски положил наворованное в банк на имя жены, а та, не будь дурой, сбежала с капиталом.
— Ну и память у вас, Моисей Беркович! Даже о семейных делах какого-то пристава помните!
— На память, хас вешелоум, упаси Боже, не жалуюсь. Талмуд от корки до корки вызубрил. Тяжело было ученье, зато принесло великую пользу. В талмуде, если хотите знать, в каждой галахе, в каждой агаде больше мудрости, чем во всех университетских библиотеках. В трактате «Шабасс» сказано, что одна праведная еврейка, имея дело у судьи-гоя, принесла ему в подарок светильник. Судья решил тяжбу в ее пользу. «Да светишься ты как светильник!» — воскликнула благодарная женщина. Тогда ее брат решил показать сестре, чего стоит справедливость гоя. Он привел судье сирийского осла — подарок намного более ценный, чем светильник. Судья немедленно изменил решение. «Пришел осел и загасил светильник!» — подытожил мудрый брат.
— К чему ваша притча, Мойша Беркович?
— Мэйлэ! Ладно! — безнадежно вздохнул Гальперин. — Потолкую я лучше с управляющим заводом Хаимом Дубовиком. Он понятливый еврей, старого закала хасид, все притчи наизусть знает.
Сахарозаводчик распрощался со своими собеседниками и покинул курительную. Глядя ему вслед, Марк Виленский заметил:
— Кажется, старик прозрачно намекал на рахеш.
Рахеш, это Бразуль знал от своей жены, первоначально означало вознаграждение раввину и кантору за совершение свадебного обряда. Потом это слово превратилось в синоним взятки, без которой в черте оседлости и шагу нельзя было ступить. Старые евреи привыкли к такому положению вещей, но молодое поколение думало иначе.
— Сирийский осел в подарок! — фыркнул Виленский. — А что в самом деле! Представляю физиономию прокурора, если бы ему привели осла. Ха-ха!
Марголин скривился:
— Наши отцы, деды и прадеды всю жизнь кормили жадную чиновничью свору. Преподносили «барашка в бумажке», совали «рекомендательные письма за подписью князя Хованского» — так в старину называли банковские билеты, подписанные директором государственного казначейства. Особо честным взяточникам дарили борзых щенков и кровных рысаков. Пора бы остановиться. Или вы согласны с дядей, Маркус Ионович?
Зайцев пощипал свои тоненькие усики, провел рукой по гладко выбритому подбородку и заметил примирительным тоном:
— Видите ли, я бы хотел избежать ненужного шума. Полиции лучше не совать нос на кирпичный завод…
— Говорите начистоту, а то наш русский друг вообразит, что у вас на заводе невесть что творится.
— Собственно, скрывать нечего. Видите ли, по завещанию отца на Кирилловской улице построена хирургическая больница и богадельня для недостаточных евреев. Оба благотворительных учреждения содержатся на доходы от продажи кирпича.
— Вы прежде всего объясните господину журналисту, зачем понадобилась больница на Кирилловской, когда в Киеве существует прекрасно оборудованная лечебница, построенная Бродским.
— Удивительно, но покойный Лазарь Израилевич при всем его уме и опытности упустил из виду, что лечебница принадлежит к Лукьяновскому участку. Соответственно, пользоваться услугами его больницы могут только евреи, имеющие правожительство в Киеве. Получилось, что обыватели из еврейских местечек вокруг Киева остались без медицинской помощи. Тогда наш отец решил построить хирургическую лечебницу в Плосском участке, где с регистрацией евреев гораздо проще. По этой же причине там же строится богадельня, а при ней синагога…
— И конечно, молитвенное помещение не оформлено в надлежащем порядке, — закончил за него адвокат и с горечью продолжил. — Нас, евреев, обвиняют в хитрости и пронырливости. Задайтесь вопросом, отчего евреи вынуждены ловчить? Оттого, что российское законодательство об евреях составляет пухлый том всяких указов, правил, инструкций, сенаторских разъяснений. И в этом томе нет ни одной статьи, буквально ни одной, которая бы хоть что-нибудь разрешала. Они все только запрещают и ограничивают!
— Чтобы выправить положенные бумаги, понадобится целый год, не меньше, — вздохнул Зайцев. — Сначала этот вопрос рассматривается в губернском правлении, потом бумаги поступают на подпись генерал-губернатору, но окончательное решение за Петербургом. Если уж в свое время самому Лазарю Израилевичу при строительстве синагоги пришлось кривить душой, то нам грех роптать.
Зайцев намекал на историю строительства синагоги на Малой Васильковской. Архитектурный план, заказанный Лазарем Бродским, был составлен таким образом, что главный фасад, выходивший на улицу, напоминал фасад доходного дома, а вход в синагогу был сделан сбоку. Потом Лев Бродский выстроил вторую синагогу, так называемую Купеческую, буквально через несколько домов от первой, построенной его старшим братом. На сей раз обошлось без ухищрений, возможно потому, что Купеческая синагога была гораздо скромнее по размеру и отделке.
— Неужели нельзя ускорить прохождение бумаг в губернском правлении? — осведомился Марголин.
— В Киеве все в нашей власти, но утверждение плана происходит в Петербурге, а там у нас руки коротки. Одним словом, пока официального разрешения не получено, синагога на бумаге числится столовой. Если об этом пронюхают высшие власти, не миновать неприятностей.
Когда покинули дом магната, Марголин предложил журналисту прогуляться на свежем воздухе. Они неторопливо шли по Прорезной, а за ними в почтительном отдалении катил автомобиль адвоката. Марголин делился со своим спутником давно наболевшими мыслями.
— Говорят, евреи всегда заодно. Увы, нам льстят! На самом деле еврейство разобщено, как ни один народ в мире. Судите сами: раввина Аронсона многие из наших знать не хотят, потому что он казенный раввин, окончивший Еврейский учительский институт. Гальперин так привык к российским порядкам, что не представляет гешефта без взятки, а наша молодежь мечтает жить по-европейски и навсегда забыть паспорт, полицейский участок и принудительное попечение со стороны старшего дворника. Ваш покорный слуга, как вы знаете, состоит членом партии народных социалистов, в то время как первый из еврейских капиталистов Лев Израилевич Бродский до того ценит чины, ордена и прочие побрякушки, что готов расстилаться ради них перед власть предержащими. Вот такие мы сплоченные! И только в одном единственном случае все евреи едины. Это происходит, когда дело касается нашего вечного проклятия — кровавого навета. Лишь перед лицом смертельной опасности евреи забывают дрязги и начинают действовать сообща. Впервые это наглядно проявилось во время Дамасского дела. Вы слышали об этом деле?
— Нет! — признался Бразуль.
— Ничего удивительного! Сейчас даже немногие из евреев помнят об этом великом событии. А зря! В 1840 году в Дамаске в канун христианской пасхи бесследно исчез настоятель капуцинского аббатства патер Фома и его слуга. Наверное, их зарезали и ограбили дикари-бедуины, но по доносу были схвачены семь уважаемых членов еврейской общины. Правитель Дамаска Шериф-паша приказал применить к ним «бастонаду» — палочные удары по пяткам. Под пытками у несчастных евреев вырвали признание в том, что они якобы убили патера и извлекли кровь из его ран. Печально, что все европейские газеты были полны предвзятыми и лживыми отчетами об этом деле. И все же нашелся человек, чье имя должны с благоговением повторять все евреи. Австрийский консул в Дамаске Мерлато первым вступился за невиновных евреев. Стена кошмарной лжи была пробита. Английское еврейство создало комитет, объявивший по синагогам сбор пожертвований. Это была одна из самых трогательных страниц в истории еврейства. Весь Израиль обратился в одну трепещущую душу. Неимущий и миллионер, ремесленник и фабрикант, лавочник и банкир — все спешили внести свою лепту для торжества правосудия. Натаниэль Ротшильд, слышите, сам Натаниэль Ротшильд, произнес свое веское слово. А слово Ротшильда значило больше, чем миллион солдат и сто тысяч пушек. Несчастные евреи были освобождены, дамасскому правителю Шерифу-паше отрубили голову. Ротшильд съездил в Стамбул и добился от султана фирмана, торжественно провозглашавшего лживость ритуальных наветов, как бывших, так и будущих.
Пока Марголин рассказывал о давнем деле, они дошли до Золотых ворот. От ворот остались одни развалины, соединенные между собой перекрещивающимися металлическим балками. Марголин так бурно жестикулировал, что на него начали коситься прохожие. Он опомнился и сказал более спокойным голосом:
— Вот вы смотрите на меня и наверняка думаете: где Дамаск, а где Киев? А я вам отвечу: Дамасское дело многому научило евреев и прежде всего тому, сколь важно мировое общественное мнение. Оно показало, что евреи должны отвечать на дикие обвинения не трусливой защитой, а смелым наступлением. Нетрудно келейно вызволить Бейлиса, здесь Гальперин прав. Однако останется ощущение сомнительности. Скажут, что евреи опять вывернулись при помощи подкупа. Обывательская толща отвергает так называемый метод доказательства фактов путем исключения. «Подать сюда убийцу!» — таков крик толпы. Вы понимаете, о чем я? Надобно предъявить толпе настоящих убийц, и сделать это открыто и честно. Найти мерзавцев и пропечатать их портреты в газетах. В этом я, признаться, весьма рассчитываю на вас.
Бразуль ожидал подобное предложение, но его смущала мысль идти в услужение капиталистам. С другой стороны, эсерам не привыкать пользоваться деньгами миллионеров. В начале своей деятельности партия финансировалась московским чаеторговцем Вульфом Высоцким, столь же богатым, как Бродский. Даже поговорка такая ходила: «чай Высоцкого, сахар Бродского». Собственно говоря, чаеторговец давал деньги не из идейных соображений, а по любви к двум своим внукам Абраму и Мойше Гоцам, один из которых был основателем партии эсеров, а другой — заграничным представителем Боевой организации. Опухоль спинного мозга приковала Михаила Гоца к коляске, но именно он из-за границы был идейным вдохновителем казни великого князя Сергея Александровича. Да, на деньги капиталистов можно было немало сделать для революции!
— Я сам собирался заняться раскрытием таинственного убийства, — сказал Бразуль. — Но чем я могу быть полезным вашему комитету? Ведь я не еврей.
— В том-то и дело! — адвокат даже хлопнул себя по ляжкам, удивляясь недогадливости собеседника. — Вам будет больше веры именно потому, что вы русский, известного казацкого рода!
— Наверно, вы правы! Антисемитизм — это яд, которым царь и церковники травят душу трудового народа. Всем нам, и евреям, и русским, надо вместе бороться против общего гнета. В борьбе обретем мы право свое!
— Вот именно! — Марголин потряс кулаком в сторону Золотых ворот. — Пусть трепещут черносотенцы! Нет, какова наглость! Решили устроить ритуальное дело в Киеве, в нашем еврейском городе! Прошло время, когда евреи были безропотными рабами. Хотят помериться с нами силой — извольте! Мы им устроим такую Цусиму, на сто двадцать лет забудут о кровавых наветах!
Глава двенадцатая
1 августа 1911 г.Владимир Голубев выхватил шпагу из ножен и сделал глубокий выпад. Клинок вонзился так глубоко, что пришлось упереться ногами, чтобы высвободить его. Еще один удар, на сей раз наотмашь — и враг пал.
— Вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа, — громко выкрикнул Голубев, потрясая клинком.
За его спиной послышался шорох. Он отскочил, выставив перед собой оружие. На него смотрел седобородый старик, которого сопровождал подросток в форме потешного.
— Что с вами, Владимир Степанович? — участливо осведомился старик, выговаривая отчество Степанович таким манером, что оно звучало, как «Штепанович».
— Ничего, — смутился студент.
Отсюда, с Горы, виднелась Почайна, Днепр и безбрежные заднепровские дали. Река обмелела, обнажив песчаные косы, но судоходство не прекратилось. По воде били игрушечными колесами крошечные белые пароходы, изгибались коричневые длинные плоты. Издали плоты казались древними ладьями, приплывшими с севера к киевским горам. Пылкое воображение юноши заработало, оживив князя Олега, который заманил в ловушку Аскольда и Дира, простых варягов, забравших власть в Киеве и вообразивших себя равными конургам Рюрикова дома. Студент воочию видел, как из ладей выскакивают спрятавшиеся дружинники, князь Олег произносит приговор, и тяжелые мечи опускаются на головы самозванцев. Картина так увлекла его, что он начал сражаться с воображаемыми врагами. За этим занятием его и застал Виктор Эдуардович Розмитальский, «православный чех», как он себя рекомендовал.
— Докладывай! — приказал Голубев потешному.
— Пан атаман, дозор на Кирилловской засек пристава Красовского… — звонким голосом доложил подросток.
— Гей, казак! — прервал доклад Розмитальский. — Сколько раз вам говорить, шо объект наблюдения должен фигурировать под кличкой! Учишь ваш, учишь, а вы никак не можете понять простейших вещей!
— Виноват, — вспыхнул подросток, поправив фуражку, наползавшую на лопухастые уши. — «Сума Переметная» вошел в контору и пробыл там около часа, потом вышел вместе с «Ермолкой»…
— Правильно, «Ермолка» — это Дубовик, — кивнул Розмитальский.
— «Сума» вместе с «Ермолкой», — продолжал подросток, — прошли в лечебницу, потом «Сума» вышел и двинулся по тропинке на Юрковскую. От летучего отряда на Юрковской вестей пока не поступало. Докладывал есаул «Кирдяга»… Еще запамятовал, пан атаман, все время наблюдения «Сума» держал в руках коробку.
— Что за коробка? — подозрительно спросил Розмитальский.
— Средних размеров, в такие обычно эклеры укладывают.
— Женьку и его сестер задабривает, — догадался Голубев, — таскает им пирожные, надеется что-нибудь выведать. Продолжай наблюдение, — приказал он.
Подросток козырнул, сделал поворот через левое плечо, двинулся строевым шагом и сажени через четыре нырнул в кусты.
— Пойдемте на Юрковскую задами, а то недолго солнечный удар схватить, — предложил Розмитальский. — Уф, пекло как в аду, а мы себя утруждаем, пляшем вокруг этого поганца Женьки Чеберяка.
Голубев промолчал. Идти рядом с Розмитальским было неприятно — уж очень один из видных деятелей киевского отдела Союза Михаила Архангела смахивал на обитателя черты еврейской оседлости. Он называл себя чехом, но если бы какому-нибудь художнику понадобилось писать фигуру библейского патриарха, то Розмитальский со своей седой бородой, крючковатым носом и черными глазами мог бы послужить отличным натурщиком. Чех с библейской внешностью раньше занимался малопочтенным ремеслом содержателя ссудной кассы и однажды проговорился, что у него была «гоштиница», куда приличные господа возили дам. Поговаривали, что он, как и многие содержатели домов свиданий, в свое время был полицейским осведомителем. Розмитальский сам предложил Голубеву организовать непрерывное наблюдение за кирпичным заводом, который, как подозревал студент, являлся гнездом изуверской секты. Розмитальский дал дельный совет записать гимназистов из «Двуглавого орла» в потешное войско. Взводы потешных готовились продемонстрировать свою выучку в присутствии государя. Подростков в форме потешных можно было встретить в разных концах города, и они не привлекали ничьего внимания.
В потешные охотно записывались «стельмашаки» — так дразнили учеников частной гимназии священника Стельмашенко. У них на кокарде вместо цифры, обозначавшей порядковый номер киевских казенных гимназий от Первой до Седьмой, сверкала буква «С» по имени владельца. В этой гимназии внимание уделялось не столько наукам, сколько воспитанию в духе исконных русских начал: «Православия, Самодержавия, Народности». И хотя стельмашаки подсмеивались и подталкивали друг друга, слушая шепелявый выговор Розмитальского, благодаря православному чеху они познакомились с приемами слежки: незаметному ведению наблюдаемого в толпе, присваиванию объекту наблюдения условных псевдонимов и прочим тонкостям, известными только тем, кто прошел выучку в охранном отделении.
После недельной слежки были установлены тайные посещения кирпичного завода становым приставом Красовским. Первый раз Красовский заглянул на завод вместе с агентами Выграновым и Полищуком. Потом пристав приехал один поздно вечером, отпустил экипаж в самом начале Кирилловской улицы и юркнул в контору. Вышел он часа через два в сопровождении управляющего Дубовика. Когда об этом визите доложили Голубеву, он в сердцах воскликнул: «Ах ты, сума переметная!», и эта кличка прилипла к приставу. Розмитальский предупредил, чтобы слишком близко к Красовскому не совались, потому что опытный пристав сразу обнаружит слежку. Он порекомендовал устроить наблюдательный пункт в кустах на склоне горы, вооружив орлят подзорной трубой, заложенной в ссудной кассе каким-то загулявшим моряком.
После того как пристав зачастил на завод, его поведение резко изменилось. Не далее как в июле месяце Красовский уверенно говорил о виновности Бейлиса. Сейчас же он полностью переменил фронт, и Голубев заподозрил, что пристава подкупили. А вот прокурор судебной палаты Чаплинский, даром что поляк, стал поддаваться на доводы истинно русских. Он настоял на аресте приказчика кирпичного завода Бейлиса. Конечно, поступки Чаплинского были продиктованы карьеристскими соображениями, но Голубев считал, что лучше уж карьерист, чем продавшийся с потрохами сыщик.
Студент вытер взмокший лоб. Августовская жара была невыносимой. По безлюдной улице, стараясь держаться тени каштанов, проковылял мохнатый пес, высунув из пасти толстый язык. Ни единое свежее дуновение не колебало раскаленный воздух. В начале Верхне-Юрковской за дощатым забором рос фруктовый сад. Проходя под раскидистой яблоней, Голубев и Розмитальский услышали возню в густой кроне наверху. Сквозь запыленную листву ничего нельзя было разглядеть, но студент догадался, что лукьяновские мальчишки обдирают еще зеленые яблоки. Может быть, среди них был и Женька Чеберяк.
«Застанем ли его дома?» — забеспокоился студент. В сотый раз он прокручивал в голове слова, которые должны были убедить мальчишку. «Пойми, Женя! — мысленно уговаривал он. — На тебя с трепетной надеждой смотрит вся Россия, ты один можешь раскрыть тайну смерти твоего друга. Мы знаем, что тебя запугивают, грозят убить. Но ты же русский хлопчик, потомок запорожских казаков. Если скажешь правду, перестанут пропадать дети. Мы раз и навсегда избавимся от изуверов…»
— Пан атаман! — услышал Голубев крик двух подростков, выбежавших со стороны водокачки. — Пан атаман, беда! Детей увезли.
— Кто увез? Когда?
— Только что. Перед вашим приходом, — наперебой говорили потешные. — Сначала пришел «Сума Переметная», посидел с полчаса, потом вышел и сказал соседям, чтобы бежали на трамвайную станцию и телефонировали в больницу. Потом приехала санитарная карета — быстро так, будто за углом дежурила. Детей вынесли на носилках и увезли. Санитары сказали, что они отравились.
Голубева охватило предчувствие ужасного. Вот так, средь белого дня, исчезают важнейшие свидетели по ритуальному делу! Надеясь на чудо, он спросил:
— Женьку забрали? Или только сестер?
— Санитары сказали, что «Конопатому» хуже всех. Опасались не довезти его до больницы.
— В какую лечебницу забрали?
— В Александровскую.
— Еврейшкая больница. Ну, теперь всему конец! — ахнул Розмитальский.
Голубев бросился к знакомому дому, в два прыжка взлетел по наружной лестнице и толкнул дверь. В квартире царила пустота, только в крошечной комнатенке, где стояла никелированная кровать, одна на всех детей, судя по разбросанной одежде, недавно были люди. Владимир, заглянув во все углы квартиры, зашел в кухню. На столе, таком маленьком при дневном свете, валялась пустая картонная коробка. Когда он задел картонку, поднялась туча мух, слетевшихся на остатки пирожного. Он взял со дна коробки щепотку бисквитных крошек и понюхал их. Крошки отдавали горьким миндалем.
В голове вертелся один и тот же рефрен: «Убрали свидетелей! Убрали!» Он с отчаянием понял, что его орлят, щеголявших сыщицким жаргоном, ловко обвели вокруг пальца. Нет свидетелей — нет преступления. И словно возвещая свою победу, туча отвратительных зеленых мух наполняла кухню громким жужжанием. Солнце слепило сквозь запыленное окошко, в кухне стояли невыносимая духота и отвратительный запах помойной лохани. Почувствовав накатывающую дурноту, студент дрожащими пальцами расстегнул ворот рубахи. «Скорее на воздух!» — приказал он себе.
Едва он хлопнул дверью, голова пошла кругом. Лестничные ступени накренились на бок, словно пароходная палуба при сильной качке, и плавно нырнули вниз. Студент ухватился за перила и бессильно сполз вниз. «Что это?» — подумал он и услышал, как Розмитальский, стоявший в воротах, испуганно спросил его:
— Вам плохо? Вы такой бледный!
Преодолевая подкатившую к горлу дурноту, Голубев прошептал:
— Надо вызволить свидетелей.
— Да, да. Надо к прокурору. Я послал за извозчиком.
С улицы донеслось мощное «Тпр-у-у!», и мальчишеский голос выкрикнул:
— Пан атаман, экипаж подан.
— Пойдемте, Владимир Степанович, разрешите я ваш поддержу. Вы так расстроены, шо на ваш лица нет, — засуетился Розмитальский.
На подгибавшихся ногах Голубев доковылял до пролетки и с трудом взгромоздился на сидение. Его мутило, на глаза накатывалась багровая пелена, а голос усевшегося напротив Розмитальского доносился через толстый слой ваты, заложивший уши. Студент машинально кивал головой, не вслушиваясь в разглагольствования содержателя ссудной кассы, что его, Розмитальского, все знают и уважают: и генерал-губернатор, и командующий округом, не говоря уж о прокуроре судебной палаты. В памяти Голубева были провалы, он не запомнил, как они доехали до Владимирской, и вдруг осознал, что находится в кабинете прокурора, и на него вопросительно смотрит Чаплинский. Еще он помнил, что молчание неприлично затянулось. Розмитальский, всю дорогу хваставший высокими связями, струсил и спрятался за спину студента. Собравшись с силами, Голубев заговорил, удивляясь тому, как плохо подчиняется язык:
— Мы пришли к вам… за помощью, — еле выговорил он. — У нас с вами, господин прокурор, имелись разногласия, но после ареста еврея Менделя Бейлиса патриоты многое вам простили…
— Да, да, мы премного довольны вашим превосходительством, — пискнул из-за его спины Розмитальский.
Голубев сглотнул вязкий ком в горле. В прокурорском кабинете было также душно, как на кухне у Чеберяков. Чувствуя, как между лопаток стекают струйки пота, а все тело стало липким, Голубев продолжал:
— Однако… под угрозой находятся главные свидетели обвинения… Женю Чеберяка и его сестер отравили и увезли в еврейскую лечебницу… Припомните дело Дрейфуса, этого подлого изменника. Во время расследования в Париже при подозрительных обстоятельствах умерли одиннадцать неугодных евреям свидетелей. В Киеве произойдет тоже самое… О чем это я… Ах, да! Проморгали детей!
— Не могу согласиться с вашим упреком, — возразил Чаплинский. — Прокурорский надзор не нянька. За детьми должны приглядывать родители.
Голубев слабо прошептал:
— Родители лишены возможности защитить детей. Их отец целыми сутками на дежурстве, а мать опять арестовали.
— Позвольте, — поднял брови Чаплинский. — Кто распорядился ее арестовать?
— Не знаю, а только здорово придумано: мать за решеткой, дети без защиты.
— Ваше превосходительство, главное, вызволить детей из еврейской больницы, — пискнул Розмитальский.
— Вы правы, — раздумчиво произнес Чаплинский, нажимая кнопку звонка. — Я прикажу освободить Веру Чеберяк. Пусть мать заберет детей домой.
«Слава Богу!» — подумал Голубев и сразу же почувствовал, что совсем обессилил от длинного разговора. Перед глазами снова поднялась багровая муть, дыхание сперло. Неверными шагами он двинулся к окну и повалился навзничь на вощеный паркетный пол.
…Ему показалось, что он сразу же приподнялся с пола, но к его удивлению в кабинете уже не было ни Чаплинского, ни Розмитальского. «Побежали за лекарем? Зачем, я в полном здравии», — подумал он, таращась на сузившиеся стены прокурорского кабинета. На стене висел какой-то блестящий предмет. Прищурившись, он узнал студенческую шпагу.
— Володька! Пришел в себя? — услышал он голос брата Алексея и только тут, с большим запозданием, понял, что лежит в кровати собственной комнаты.
Брат озабоченно говорил:
— Напугал всех до смерти! Розмитальский сказал, что ты грохнулся прямо перед прокурором. Спортсмен, а падаешь в обмороки, словно кисейная барышня?
— Ничего не помню, — прошептал студент. — Там было жарко и мухи о стекло бились. Утром мне было дурно, сейчас, кажется, прошло. Только мотает.
— Господь с тобой, Володька, — удивился брат. — Ты пять дней в себя не приходил.
— Быть не может!
— Так и есть. Отец приглашал Сикорского, еще нескольких профессоров. Они тут целый консилиум устроили. Опасались воспаления мозга. Никак не могли понять, то ли у тебя был тепловой удар, то ли сильное нервное расстройство.
— Какое там нервное! — слабо махнул рукой Голубев. — Видать, я понюхал крошки от пирожных.
— Ты о чем?
— Потом, долго объяснять. Пять дней провалялся без сознания! С ума сойти! Слушай! — внезапно спохватился студент. — Что с детьми?
— С Чеберяками? Плохиссимо! Мать выпустили, на следующий день она забрала детей из больницы. Только они, увы, в безнадежном состоянии. Там полно сыщиков: из сыскного, из охранного. Сидят, ждут, вдруг дети перед смертью заговорят.
— Мне надо на Юрковскую, — встрепенулся Владимир и тут же зажмурил глаза, потому что потолок начал медленно вращаться.
— С ума сошел! Куда тебе ехать! — прикрикнул на него брат.
— Алеша, я должен присутствовать при последних минутах, — Владимир спустил ноги на пол и осторожно встал с кровати.
Брат, знавший упрямый характер Владимира, сокрушенно сказал:
— Ну, как с тобой совладать. Матушка меня проклянет. Ладно, одевайся.
Чтобы не поднимать переполоха среди домашних, братья прокрались на улицу черным ходом. Голубев чувствовал неимоверную слабость, но голова постепенно прояснялась. «Врете, сволочи! — думал он. — Так просто от меня не избавитесь. Я после нокдауна на ноги поднимусь!»
На извозчике они добрались до Верхне-Юрковской улицы. Опираясь на плечо брата, Голубев поднялся по лестнице. Брат остался на террасе, а Владимир вошел в квартиру Чеберяков. Все комнаты были заполнены людьми. Проходя мимо кухни, Голубев увидел за столом человека в форме телеграфиста, безуспешно гонявшего по миске осклизлый кусок огурца. Он понял, что за столом сидит Верин муж, и машинально подумал, что до сего дня ни разу его не видел, только смутный силуэт в темной кухне. Василий Чеберяк был именно таким, каким его описала жена — вялым и пьяненьким.
У входа в большую комнату стоял рослый Выгранов, кивнувший Голубеву, как знакомому спортсмену. В дальнем углу сидел похожий на жирного кота сыщик Полищук. Рояль в гостиной был отодвинут всторону, посреди комнаты возвышалась кровать, у изголовья которой прикорнула Вера Чеберяк.
— Вера Владимировна! — позвал Владимир.
Чеберяк подняла голову и устало протянула:
— А-а, паныч! Худо Женьке, совсем худо.
Студент подошел к кровати. Женя Чеберяк был закутан в пестрое одеяло. Если у Голубева еще теплилась слабая надежда, что мальчик выживет, то она погасла при виде его бледного личика с заострившимся носом. Казалось, печать смерти уже легла на Женю. Он по-прежнему напоминал маленького зверька, но уже не хитрого и злого, а несчастного, попавшего в безжалостные стальные зубья волчьего капкана и истекшего кровью. Женя открыл глаза и, приняв Голубева за кого-то другого, издал слабый стон:
— Ой, Андрюша не беги! Андрюша не кричи!
Агент Полищук бесшумно, словно на мягких лапах, подскочил к кровати и наклонился над умирающим мальчиком, а Выгранов быстро застрочил карандашом в блокноте.
— Андрюша не лови, не лови! — бредил мальчик, потом, внезапно сбросив одеяло и обнажив свое исхудавшее тельце, испуганно вскрикнул: — Андрюша стреляет! Андрюша стреляет!
Вера Чеберяк укутала сына. Мальчик порывался крикнуть, но она нежно поглаживала его, целовала его запекшиеся губы и приговаривала:
— Успокойся, золотце! Успокойся, моя кровинушка! Тебе кажется, что вы с Андрюшей играете. Лежи спокойно, — потом она попросила умирающего: — Скажи им, дорогой сыночек, что мы ничего не знаем про Андрюшу Ющинского.
— Оставь, мама. Мне тяжело вспоминать, — пробормотал Женя и затих.
Полищук, досадливо крякнув, вернулся в свой угол, Выгранов спрятал карандаш, а Вера, немного обождав, вышла в кухню и попросила:
— Помогите увести мужа.
Верзила Выгранов встрепенулся и прошел на кухню. Было слышно, как сыщик поднял пьяного мужа и отнес его в спальню. Некоторое время спустя оттуда раздалось тихое хихиканье. Голубев обернулся и увидел, как выскочившая из спальни Вера поправила юбку и мельком оглядела себя в осколке зеркала, прикрепленного на стекле. За ней, подкручивая усики, появился самодовольно улыбающийся Выгранов.
«Вот шалава! Сын при смерти, а она…» — подумал Владимир, но вяло и равнодушно. Единственное, чего ему хотелось, так это чтобы в вертепе разврата уважали христианские чувства.
— Наступило время причастить дите, — сказал он.
Вера Чеберяк как будто не слышала его слов, Выгранов тоже промолчал, зато Полищук немедленно откликнулся из своего угла:
— Конечно, пора! Может, он священнику откроется.
Вера Чеберяк нехотя произнесла:
— Хотелось бы приличного батюшку. В нашем приходском, Федоровской церкви, нет иерейского вида — вертлявенький такой, будто дьячок.
— Богу все равно, — наставительно сказал Полищук.
— Ну нет, — заупрямилась Чеберяк. — Я чиновница, и сына моего пусть причащает священник, который из себя видный.
— Шо вы толкуете, просто уши вянут! Любой духовной особе дана власть хоть самого государя причащать, — всплеснул руками сыщик.
— Знаю получше твоего. Только нашего приходского попа в церкви никогда не застать, небось службу уже отбарабанил и с попадьей в гостях прохлаждается.
Голубев прервал их спор.
— Я знаком с достойным пастырем, который священствует неподалеку. Это отец Федор, настоятель Кирилловской церкви.
Студент умолчал о том, что отец Федор Синькевич, будучи одним из руководителей «Двуглавого орла», живо интересовался делом Ющинского.
— Кирилловский настоятель? Поедет ли он на Гору? — засомневалась Вера.
— Я пошлю брата, — пообещал студент.
Вера Чеберяк вытерла рушником пот с лица сына, попробовала его лоб и нехотя согласилась:
— Чего же! Я разве против. Только исповедь, видать, будет глухая. Отходит Женечка, ненаглядный мой, — глухо зарыдала она.
Голубев направился к двери, в коридоре его нагнал Полищук.
— Поскорее везите священника, — зашептал сыщик. — Ох, вертит она! Видали? Едва Женька начинает говорить, она закрывает ему рот поцелуями.
Владимир объяснил брату, что надо срочно привезти отца Федора, и остался на террасе. Студент подумал, что вечерняя служба в Кирилловской церкви уже закончилась. Впрочем, сторож должен впустить брата в прохладную темноту церкви, расписанную безумным Врубелем, туда, где со стены глядит безбородый и безусый Моисей и в ряд шествуют темноглазые и темнолицые пророки, неприятно похожие обликом на Бейлиса и Дубовика. Потом брата пригласят пройти за витые мраморные колонны иконостаса в алтарь, где разоблачается отец Федор. Он, конечно, устал, ехать ему не захочется, тем более что приход чужой, но брат скажет, что исповедоваться будет Женя Чеберяк, приятель Андрюши, и отец Федор, разумеется, согласится.
Видимо, уговаривать отца Федора пришлось довольно долго, или брат не застал его в церкви и вынужден был потратить время на розыски. Полищук уже несколько раз выходил из квартиры со словами, что мальчик вот-вот кончится, а священника все не было. И только когда наступила полная темнота и зажглись керосиновые фонари, на улице послышался цокот копыт. Отец Федор, в лиловой рясе, туго обтягивающей студнеобразную гору живота, грузно поднялся по деревянной лестнице.
— Поправился, сын мой?
— Кажется, батюшка, — отвечал студент, лобызая длань священника. — Я поправился, а мальчик умирает.
— Огорчительно, однако будем уповать на милость Божью, — сказал отец Федор, входя вместе со студентом внутрь, и сразу же определил опытным взглядом: — Дите при смерти. Прошу всех покинуть комнату, пока я не закончу таинство.
— Я мать, я должна быть рядом. Вдруг понадобится помощь, — возразила Вера.
— Оставьте их наедине, — Полищук потянул ее за локоть.
— Отлезь, зараза! — крикнула Чеберяк, и от её громкого возгласа Женя очнулся и болезненно застонал.
— Хорошо, оставайтесь! Только Бога ради не бесчинствуйте у постели умирающего, — взмолился священник.
Все, кроме матери, вышли на террасу. Глядя вниз, Голубев припомнил, как на этой самой лестнице мальчик отказывался от леденцов, и мысленно посетовал: «Эх, Женя, не ту руку ты отталкивал! Меня боялся, а от чужого угощения не уберегся!» Из квартиры донеслись женские причитания:
— Ой, сыночек мой ненаглядный, на кого ты меня покинул!
Все стоящие на террасе сняли головные уборы. Через некоторое время из квартиры вышел отец Федор и смиренно возвестил:
— Душа отрока отошла в мир иной, где несть радостей и печалей. Уповаю, что он обретет покой в селениях праведных, ибо он покинул нашу грешную юдоль, причастившись и совершив все положенные христианину обряды.
Прочитав в глазах сыщиков безмолвный вопрос, он добавил совсем другим, деловитым тоном:
— Перед смертью мальчик ничего не сказал.
Когда священник, поддерживаемый братом Голубева, начал спускаться по лестнице, Владимир тронул его за рукав рясы.
— Святой отец! Вы опасаетесь ненароком выдать тайну исповеди или Женя действительно промолчал?
Отец Федор ответил:
— Перед смертью мальчик пришел в себя и перестал бредить. Когда я причастил его и отошел от кровати, он тихонько позвал: «Батюшка». Я спросил: «Что, дитя мое?» Женя явно хотел поведать о чем-то очень важном, но не решался. Потом он снова впал в забытье и не проронил ни слова до самой кончины.
Глава тринадцатая
25 августа 1911 г.Киев усердно готовился к высочайшему визиту. Генерал-губернатор в разговоре с полицмейстером выразил пожелание, чтобы государь остался особенно (сделав ударение на этом слове) доволен посещением города; полицмейстер передал это пожелание приставам, присовокупив: «Сами понимаете, в случае чего с нас строго взыщут»; приставы приказали околоточным надзирателям обеспечить чистоту и порядок; околоточные, уснащая речь непечатными словами, велели городовым взять за жабры дворников, и вот уже третью неделю город вовсю скребли и чистили.
Стараниями городской управы на всех главных улицах исправили мостовую, а домохозяев обязали обновить окраску фасадов, ворот и решеток. Лавочников и владельцев ресторанов по-хорошему попросили подновить вывески и позаботиться об иллюминации, а к тем, кто заартачился, прислали санитарную комиссию, беспощадно штрафовавшую и закрывавшую заведения. Благодаря принятым мерам вывески сияли новыми красками, повсюду висели портреты августейших особ. Над арками дворов по Фундуклеевской улицу были укреплены царские вензеля, а сама улица на всем ее протяжении была украшена флагами.
Фундуклеевская получила свое наименование по фамилии киевского губернатора Фундуклея, одного из чудаковатых «антиков», столь любовно описанных Николаем Лесковым. Но улица не являлась заповедником киевской старины. Покатая Фундуклеевская, вымощенная брусчаткой, с трамвайными путями и проводами над ними, считалась одной из самых современных городских улиц. На ней находились сразу два театра, не считая Анатомического театра на углу с Пироговской улицей. В театре Бергонье раньше давали представления цирковые труппы, а на углу с Большой Владимирской возвышался новый Городской, или Оперный театр. На Фундуклеевской было множество учебных заведений: Мариинская женская гимназия, она же Фундуклеевская; коллегия Галагана, пользовавшаяся правами казенной гимназии; двухклассное городское училище; высшие женские курсы, которые собирались преобразовать в Женский университет имени святой Ольги. Вдоль улицы шли большие доходные дома, первые этажи которых сдавались под кабинеты врачей, адвокатские конторы, модные лавки и кофейни.
Журналист Бразуль-Брушковский подошел к зеркальной витрине кондитерской Франсуа и окинул взыскательным взором свое отражение. Пиджак в крупную полоску сидел отлично. «Надо признать, у жены есть вкус», — подумал он, охорашиваясь перед витриной. Жена съездила с ним к портному, заказала новенький костюм, подобрала жилет с серебряными звездами по голубому фону, модные желтые штиблеты, соломенную шляпу. Бразулю оставалось только купить давно облюбованную тросточку с набалдашником в форме львиной головы.
Все это стало возможным благодаря вознаграждению, полученному в адвокатской конторе Марголина. Кроме того, Бразулю было разрешено по своему усмотрению и без всякого отчета расходовать на розыскные дела суммы до пятидесяти рублей. Правда, деньгами свыше этой суммы заведовал адвокат Марк Виленский, но журналист не жаловался. Поначалу ему было стыдно тратить деньги на свои нужды, но он уверил себя, что разные костюмы просто необходимы для розыскных нужд. Взять, к примеру, рассказе о Шерлоке Холмсе. Великий сыщик все время переодевался, чтобы быть незаметным на лондонских улицах.
Редакция «Киевской мысли» располагалась в одном из самых дорогих домов на Фундуклеевской напротив бокового входа в Оперный театр. Редакция «Огней» была неподалеку, но уже во дворах. Бразуль увидел жандармов, выходивших из театрального подъезда. Всезнающие журналисты рассказывали, что полиция, как будто с ума сошла: содрала бархатную обивку царской ложи и вскрыла полы, чтобы убедиться, что под креслами не заложена адская машинка. Даже тяжелую хрустальную люстру под потолком спустили вниз и тщательно обследовали каждый вершок цепи из подозрения, что её могли подпилить и обрушить хрусталь на венценосную голову.
Журналист мечтательно подумал о том, как здорово было бы, если бы, вопреки стараниям жандармов, какой-нибудь смельчак прорвался бы через полицейский кордон и привел бы в исполнение смертный приговор, давно вынесенный Николаю Кровавому. Жаль, перевелись смельчаки! А всему виной проклятый Азеф, подорвавший веру в священный террор, очищающий землю от царственных паразитов и их приспешников.
Бразуль вошел в редакцию и поднялся в младшую корректорскую. Здесь всегда было шумно и весело. Бразуля с порога оглушили громкие крики; казалось, все галдели одновременно. В центре комнаты на заваленном гранками столе сидел Марк Ордынский и рассказывал о последних приготовлениях к приему высочайших гостей. Центральным событием киевских торжеств должно было стать открытие памятника царю-освободителю, приуроченное к пятидесятилетию отмены крепостного права.
Академик Опекушин предложил киевским властям уменьшенную копию памятника Александру Второму, который был установлен в московском Кремле. Получалась большая экономия, так как Опекушин просил всего 46 тысяч рублей. Однако городской управе хотелось памятник побольше и подороже. Был объявлен конкурс, и победителем вышел итальянский скульптор Ксаменес Этторе. Он отлил бронзовую скульптурную группу, изображавшую Александра II в императорской мантии и толпившихся у его ног благодарных пейзан. Полукруглая колоннада соединяла центральную часть памятника с аллегориями Милосердия и Правосудия. Поговаривали, что Этторе просто воспользовался случаем пристроить пару статуй, пылившихся в его мастерской. Разумеется, памятник обошелся намного дороже, чем было заложено в смете. Недостачу возместили за счет пожертвований сахарозаводчиков Александра Терещенко, Льва Бродского, Моисея Гальперина, Давила Марголина и других.
— Памятники возводят, а крестьяне голодают! — проворчал пожилой корректор. — Столыпин своей людоедской аграрной реформой отдал деревню на поток и разграбление кучке кулаков и мироедов. Неурожай за неурожаем, зато зерно пароходами плывет в Европу. Снабжаем пшеницей полмира по принципу «недоедим, но вывезем». Скорей бы кончились эти разорительные торжества.
— И не надейтесь! — цинично рассмеялся Ордынский. — Таки наши власти не угомонятся, покуда не разворуют все до последнего гроша. Памятник княгине Ольге с просветителями слепили из цемента. Обещали потом отлить из бронзы. Дожидайтесь! Цементные фигуры, каково!
Разговор в корректорской перекинулся на предполагаемый состав царской свиты. Рослый хроникер с бритой головой перечислял, загибая пальцы:
— Прибудут господа Обмановы всем семейством, Борис, болгарский царевич из немецкой династии Кобургских, потом ближняя свита: маразматик Фредерикс, дворцовый комендант Дедюлин, алкоголик флаг-капитан Нилов, почти все генерал-адьютанты. Из министров: вешатель Столыпин, вор Коковцов, негодяй Кассо. Вот только Ваньки Каина не будет.
— А Григорий, Божий человек, приедет? — спросил, глумливо подмигивая, плешивый сотрудник отдела культурной жизни.
Раздался взрыв гомерического хохота.
— А как же!.. Всенепременно… Без Распутина господа Обмановы шагу ступить не могут!.. Кто же будет ублажать царицу, полковник уже ни к черту не годен!.. И царских дочек пора к разврату приучать!
— Неужели этого грязного мужика допустили в свитский поезд? — состроил кто-то удивленную мину.
Ему ответил редактор отдела внутренней политики:
— Распутин приедет отдельно. Сейчас он в Нижнем, присматривается к губернатору Хвостову на предмет его назначения Председателем Совета министров.
Известие произвело сенсацию. Нижегородский губернатор Хвостов имел репутацию оголтелого черносотенца. Все знали, что Хвостов во время аудиенции во дворце нацепил на мундир серебряный «Конек-скакунок» — значок Союза русского народа с фигурой Георгия Победоносца на коне. Выходит, пришло время черносотенцев.
— Да уж! — потрясенно заметил один из журналистов. — Если назначат Хвостова, так и Столыпина-вешателя, пожалуй, вспомнишь добрым словом. То-то у него в последние месяцы нелады с крайне правыми!
— А куда теперь отправят Столыпина, ведь ему еще нет пятидесяти? Послом в Париж или наместником на Кавказ?
— Может, в Париж, а может, подземным ходом в Могилевскую губернию, — загадочно сказал редактор, покидая комнату.
Журналисты знали, что к его словам следовало отнестись с полной серьезностью. Редактор поддерживал связь с Троцким, присылавшим корреспонденции в «Киевскую мысль» и с другими деятелями революционного подполья. Видно, террор вновь поднимает голову после короткого затишья, вызванного разоблачением Азефа. Однако до сих пор ни одно из десяти покушений на Столыпина не увенчалось успехом. Об этом и зашел горячий спор.
— Глупости все это, — авторитетно заявил рослый хроникер. — Сколько мы видели террактов, сколько боевиков сложили головы: Роза Рабинович, Бэлла Лапина, Фейга Элькина, Лейба Либерман, Мария Климова, Карл Трауберг. Однако Столыпин словно заколдованный. К тому же в Киеве для охраны Николашки приняты чрезвычайные меры. Приехал генерал Курлов, с ним куча охранников, в том числе полковник Спиридович, звезда политического сыска. Нет дома, где бы не квартировал тайный агент. Чердаки всех зданий по маршруту следования свиты забиты и опечатаны. Домовладельцев обязали подпускать к окнам только людей, лично им известных. Киевская охранка ликвидировало все подполье. Кулябко, сволочь, старается, ему обещано повышение и перевод в Питер. Черносотенцы организовали добровольную охрану численностью в десять тысяч человек и поклялись на версту не подпустить к Николашке ни одного интеллигента в пенсне.
— Таки я готов биться об заклад, шо подойду к царю на сажень, — объявил Ордынский.
Это самоуверенное заявление было встречено общим смехом. Рослый хроникер обнял Ордынского:
— Точно, именно тебя и пропустят, посмотрят на твою физиономию и скажут: надобно непременно пропустить. В Киеве пятая часть населения — евреи, но царю никто на глаза не попадется. На парадный спектакль евреям выделили всего два билета — Бродскому и Гальперину. Всех остальных толстосумов велено попридержать. Это им урок, мол, пусть вы хозяева города, а для батюшки-царя вы ничто. Так что, мил человек, и не суйся, а то изобьют тебя до полусмерти, собирай тебе потом на лечение.
— Спорим на дюжину шампанского, — упрямился Ордынский.
— Сначала отдай за пиво, что я тебе третьего дня выставил. И вообще, надоел. В угол, неразумный отрок, в угол, — Пугач толкнул Ордынского к порогу, у которого стоял Бразуль.
Ордынский, кусая губы от досады, пожаловался другу:
— Видал, як он меня! Здоровый, черт, а в башке пусто. Испугался пари. Или я дурень, шобы болтать зря? Добровольная охрана — подумаешь, большое дело! Если хочешь знать, в эту охрану записались все фартовые ребята с Лукьяновки и Куреневки. Или ты воображаешь, шо они царя собрались защищать? Таки их это волнует як прошлогодний снег. Они торгуют пропусками. Хочешь на открытие памятника, хочешь на ипподром — хоть в литерную ложу. За четвертной я к царю на вытянутую руку подойду, а за полсотни они, пожалуй, мне его на дом на веревочке доставят. Нет, серьезно! Хочешь, я тебе устрою удостоверение члена добровольной охраны? Сыщики тебе козырять будут. Кстати, о сыщиках, — вспомнил Ордынский, — тебе телефонировал какой-то Кушнир, сказал, шо по поручению начальника сыскной полиции. Очень нервничал, передал, шо будет ждать до двух часов в пивной на Галицком базаре.
— Ах, черт! Что же ты раньше не сказал? — выругался Бразуль.
Он быстро выбежал из редакции, вскочив в первую попавшуюся извозчичью пролетку, и велел гнать на Галицкий базар. Репортер знал, что телефонный вызов был связан с делом Ющинского. Начальник сыскной полиции Мищук уже намекал, что близок к обнаружению сенсационных улик, и обещал предупредить его раньше других журналистов. Кушнир, телефонировавший в редакцию, был мелким скупщиком краденного и полицейским осведомителем.
А вот и знакомая пивная, куда Бразулю время от времени доводилось наведываться, чтобы разнюхать кое-какие подробности для криминальной хроники. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались отдельными кабинетами и закрывались линялыми занавесками. Бразуль проворно спустился по лестнице. Навстречу ему попался половой в засаленной рубахе.
— Эй, любезный! — обратился к нему репортер. — Меня ждет один господин.
— Не бачил.
— Он должен был назвать мое имя и отчество: Степан Иванович.
— Так бы сразу и сказали. Один клиент наказал проводить до него Степу.
— Веди, — приказал Бразуль, с досадой подумав, что какой-то паршивый полицейский осведомитель называет его Степой.
Половой ткнул пальцем в одну из клетушек. Бразуль подошел к занавеске и деликатно кашлянул. Изнутри раздалось:
— Entrez!
Бразуль переступил порог, недоумевая, чего это Кушниру вздумалось щеголять французским? При коптящем огне керосиновой лампы было плохо видно. Темная фигура поднялась из-за стола, заговорила срывающимся фальцетом:
— Товарищ Степа? Из Парижа? Здесь можно объяснится спокойно, никто не услышит. Хочу сразу предупредить, что я абсолютно отметаю претензии, предъявленные товарищами из «Буревестника». Кассы Борисоглебской группы анархистов я не растрачивал, они сами запутали все счета. Наум Тыш напрасно клевещет, будто я выдал его полиции. Его выдал или Рафул Черный или «Бегемот», то есть Нейдорф, а настоящая его фамилия, кажется, Левин, он из Минска. В крайнем случае, если товарищи мне не верят, я могу покинуть Киев. Что вы сказали? Извините, не вижу вашего лица.
Дрожащие руки подкрутили фитиль в лампе, и Бразуль с удивлением увидел, что перед ним стоит не Кушнир, а какой-то молодой человек. Где он его видел? Ах, да! В буфете окружного суда за одним столиком с адвокатом Марголиным в тот день, когда был арестован Бейлис. Точно! Адвокат Марголин еще представил своего собеседника как внука известного еврейского беллетриста. Только тогда он был вялым и равнодушным, а сейчас буквально дергался от нервного напряжения.
Между тем молодой человек изумленно воззрился на репортера сквозь золотое пенсне, еле державшееся на влажной от испарины переносице.
— Вы из «Буревестника»? Я вас безусловно видел. Вы учились в Мюнхене?
— Нет, вы обознались, — объяснил Бразуль, — нас познакомил Арнольд Давидович. Я сотрудник «Киевской мысли».
— Газетчик! — в ужасе отпрянул молодой человек. — Что я наделал, теперь каждая собака узнает! — он схватился за голову и выскочил из кабинета.
«Однако, внук беллетриста провокатор! — брезгливо подумал Бразуль. — Надо предупредить анархистов. Впрочем, там такая публика, что провокаторством никого не удивишь». Бразуль крикнул полового и начал ему выговаривать:
— Куда это ты, любезный, меня привел? Я ищу встречи с другим господином. Ты должен его знать, это Кушнир…
— Так бы сразу и казали, — обиделся половой. — А то господин, господин! Казали бы, шо лягавый ждет. Вин у першем нумере.
Репортер пересек коридор, отодвинул занавеску и едва не столкнулся с Кушниром.
— Наконец-то, — зашепелявил Кушнир. — Я уже решил ждать вас только одну маленькую минуточку. Едем скорее, на Юрковице отрыты важнейшие улики. Берем извозчика без торга.
Пока они тряслись на пролетке, Бразуль успел выведать кое-какие подробности. По словам Кушнира, из тайника на склоне горы были извлечены одежда Андрея Ющинского и швайки, орудия убийства.
— И не только это, — загадочно прибавил осведомитель. — Ну, да там увидите. Теперь ясно, что убийство совершено Веркой Сибирячкой и ее шайкой. Верка, тысяча болячек ей в подарок, нарочно подделала под ритуал. Хотела вызвать, упаси Бог, погром, чтоб ей не было покоя ни на том свете, ни на этом
— Доказательства верные?
— Вернее не бывает. У меня в другом сомнение, — Кушнир шмыгнул носом. — Не отмазали бы меня от награды? Мне Мищук посулил пятьсот рублей, но ведь я должен поделиться с наводчиками. Хотя, скажу откровенно, если я проверну это дельце, не сглазить бы, я таки обойдусь без полицейской подачки. Добрые люди щедро отблагодарят. А как заведутся у меня гроши, сейчас же открою агентство знакомств. Знаете, какие капиталы заколачивают на этом деле, нам бы с вами так жить! Если проехаться по селам, набрать свеженьких шикс, отмыть их, приодеть, причесать, то на гривенник запросто выручишь целковый. Удесятерю капитал, женюсь, жинка нарожает деток, отдам их в гимназию, стану уважаемым балбостом, — Кушнир мечтательно прищурил черные маслянистые глазки.
— Гляди! — прервал его Бразуль, указывая на длинный автомобиль, обогнавший пролетку.
Бразуль узнал в человеке, сидевшем на заднем сидении, прокурора судебной палаты Чаплинского и забеспокоился.
— Не подпустит нас прокурор к тайнику.
— Ничего, мы раньше будем, — успокоил Кушнир.
Велев извозчику остановится у поворота, осведомитель нырнул в кусты. Журналист едва поспевал за ним по узкой тропинке, увертываясь от хлещущих по лицу веток. Потом Кушнир, руководствуясь неведомыми ориентирами, свернул с тропинки. Шагов десять они продирались вверх сквозь сплошную стену кустарника и вышли на круглую поляну. Там, по пояс в траве, стояли несколько человек, среди них — начальник сыскной полиции Мищук.
— Сейчас прокурор появится, — предупредил Кушнир. — Мы таки срезали, а его повезут дальней дорогой.
— Показывайте, — торопил журналист.
Мищук подвел его к глубокой яме. На дне под спутанными корнями кустарника лежал рогожный мешок.
— Только откопали, буквально минуту назад, — восторженно сообщил начальник сыскной полиции. — По агентурным данным, это одежда Ющинского и швайки, которыми его кололи.
— Это я навел, — гордо заявил Кушнир.
— Я твоего участия не отрицаю, — буркнул начальник полиции. — Только не вздумай нахальничать и встревать в разговор при прокуроре.
— Откроем? — Бразуль потянулся к мешку, но Мищук отстранил его руку.
— Придется дождаться прокурора. Не забывайте, официально я отстранен от дознания. Все дело передано Красовскому, впрочем, прокурор, говорят, перестал доверять ему после отравления Женьки Чеберяка и его сестры. А ведь я предупреждал, что Красовский — разбойник с большой дороги.
— Вы думаете, детей отравили?
— Ясно, что убрали. Недаром Красовский угощал детей пирожными.
Минут черед двадцать на поляну выбралась группа людей. Двое сыщиков суетливо расчищали дорогу, за ними медленно двигался Чаплинский. Его грудь в наглухо застегнутом вицмундире неровно вздымалась. Мищук, не дав прокурору отдышаться, потащил его к яме.
— Почему выемка вещественных доказательств произведена без судебного следователя? — осведомился Чаплинский, высвобождаясь из рук начальника полиции.
— Господина Фененко никак не могли найти. Дома он не ночевал, утром его не было, днем на службу не приходил. Прислуга сообщила, что он гостит у своей знакомой в Фастове. Я решился дать знать прямиком в судебную палату. Но без вашего превосходительства мы не осмелились раскрыть вещи.
— Приступайте, — приказал прокурор.
Один из сыщиков достал из ямы рогожный мешок, и Мищук принялся его развязывать. В мешке оказались обгоревшие тряпки.
— Вот и пальтишко, оставленное Андрюшей на квартире Веры Чеберяк. Брюки тоже его, — пояснил начальник сыскной полиции.
Из свертка вывалился какой-то инструмент.
— Швайка! — объявил Мищук, демонстрируя заточенный наконечник.
— Все? — осведомился Чаплинский, внимательно разглядывая вещи.
— Нет-с, погодите, — из группы сыщиков выступил Кушнир и, сунув руку в карман пальто, вытащил смятый конверт.
Мищук вынул из конверта письмо, поднес его к глазам и воскликнул:
— Последняя улика. Некий Миша приглашает Веру обговорить важное для них дело. Вера — это Верка Чеберяк. А Миша?
— Вор Романюк из Веркиной шайки, — пояснил агент Кушнир. — Их рук дело, на погром нацелились, чтоб у их рот сзади торчал! Убили мальчишку, а вещи зарыли. Думали концы в воду, таки нет — вещички-то, вот они перед нами. И еще поглядите-ка на конверт.
— Адрес Миши, — радостно воскликнул Мищук.
— Только Мишин адрес? — осведомился Чаплинский
Мищук почувствовал сарказм в вопросе прокурора и растерянно спросил:
— Разве у вашего превосходительства имеются сомнения?
— Нет, как раз ни малейших сомнений у меня нет, — тихо начал Чаплинский и внезапно сорвался на крик: —Что за чепуху вы вздумали выдавать за улики? А? Отвечайте!
Мищук невольно попятился, не ожидая такой вспышки ярости от прокурора. Потрясая вырытыми вещами, Чаплинский наседал на начальника сыскной полиции.
— Вы что, принимаете меня за слепого? Утверждаете, что вещи якобы полгода пролежали в земле. А на них ни плесени, ни гнили! В записке чернила не расплылись! На швайке за полгода не появилось ни пятнышка ржавчины!
Прокурор был прав. Когда вещи вынимали из мешка, Бразуля кольнуло сомнение — обгоревшие тряпки выглядели совершенно сухими. Мищук тоже понял свою промашку. Он удивленно вертел в руках швайку и бормотал:
— Действительно, странно. И острие восьмигранное, к ранам Ющинского не подходит. Ваше превосходительство, — умоляюще обратился он к Чаплинскому, — все же не исключено, что вещдоки подлинные. Допустим, Верка Чеберяк хранила вещи в сухом месте, а потом решила от них избавиться…
— И положила в карман письмо со своим именем! — буквально взвизгнул прокурор. — Вы меня, негодяи, с ума сведете! Ну, ничего, больше потачки не будет! Ни вам, ни мерзавцу Красовскому. Я поеду прямиком к губернатору и даю слово, что выйду от него с приказом о вашем исключении со службы.
Прокурор в гневе зашагал к кустарнику. Мищук затравленно глядел ему вслед, потом набросился на съежившегося Кушнира.
— Сволочь! Ты меня под суд подвел! Отвечай, сам вещи зарыл?
— Шо я дурной на голову? Я бы догадался их намочить и извазюкать в лучшем виде.
— Отвечай, от кого получил сведения?
— Таки шо такое…
— Говори, а то упеку тебя, гадину, за скупку краденого.
— Ну… Выгранов и Полищук сказали…
Начальник сыскной полиции застонал.
— Выгранов и Полищук! Разве ты, ублюдок, не знаешь, что я выгнал их из полиции? Что они работают на Красовского?
— Ну, знаю… Тильки им теж гроши треба. Вони боялись, шо Красовский, по обыкновению, все захапает. Вони мене казали: открой вещдоки через Мищука, а награду раздуваним поровну.
— Дурак! Клюнул на приманку! И я тоже, хорош. Не поглядев в святцы, бухнул в колокола, — Мищук с досадой хлопнул себя по лбу.
Бразуль вздохнул. Красовский ли утопил конкурента, сам ли Кушнир польстился на награду — теперь уже не разберешь. Ясно одно, Мищуку конец. Или прокурор смилуется? Журналисту пришла в голову шальная мысль, он тронул за плечо начальника сыскной полиции.
— Евгений Францевич, погодите отчаиваться! Побегу-ка я за прокурором, попытаюсь взять интервью и невзначай намекну, что вы стали жертвой интриги.
— Ох, дружок, попытайтесь! Объясните его превосходительству, то происки врага моего Красовского, или лучше скажите ему, что я был введен в заблуждение своим осведомителем, — Мищук злобно тряхнул Кушнира.
Чаплинского удалось догнать у самой дороги. Прокурор уже садился в автомобиль, когда к нему подскочил Бразуль.
— Минуточку, ваше превосходительство. Я из «Киевской мысли», не согласитесь ли вы сказать несколько слов… — репортер осекся, увидев белые от бешенства глаза прокурора.
Чаплинский отчеканил:
— Несколько слов? Извольте. Это даже лучше, что вы из радикальной газеты. Можете записать мое заявление для прессы. Я всегда считал себя человеком умеренных взглядов, я дерзал сомневаться в правильности указаний господина министра юстиции, а студента Голубева считал глупым мальчишкой. Но вы меня убедили в обратном. Убедили вашей ложью, отравлением главных свидетелей, наконец, сегодняшней фальсификацией улик. Теперь я точно знаю, что существует заговор с целью сбить следствие с верного пути!
Глава четырнадцатая
1 сентября 1911 г.— Господин статс-секретарь сможет уделить вам не более четверти часа, — предупредил штабс-капитан в мундире с голубым кантом, распахивая дверь перед Чаплинским.
За столом у окна, затененного вековыми деревьями парка, сидел человек, державший в руке гусиное перо, какими давным-давно уже никто не пользовался. Придерживая правую кисть левой, он с усилием, но твердым каллиграфический почерком вывел: «П. Столыпинъ», и только подписав бумагу поднял глаза на вошедшего. Председатель Совета министров, министр внутренних дел, статс-секретарь Петр Аркадьевич Столыпин имел запоминающуюся внешность. Выпуклый лоб казался непропорционально огромным из-за убегавших назад залысин, квадратная борода делала лицо мощным и тяжелым, а победно вздымавшиеся вверх усы свидетельствовали о неукротимой воле. И хотя Чаплинский говорил самому себе, что премьер-министр, в сущности, парвеню, как и все русские аристократы в сравнении с польским рыцарством, что лет триста назад, когда паны Чаплинские были уже кастелянами и подстаростами, предки Столыпина служили всего лишь муромскими городовыми дворянами, он все-таки чувствовал себя не по себе. Припомнив же, что дед Столыпина был наместником Польши, он невольно поклонился ниже приличествующего.
Министр подал для пожатия безжизненную кисть. Прокурору внезапно пришло в голову сравнение, что вот этой полупарализованной рукой (кто-то говорил, что пораненной на дуэли в молодости, а кто-то — что высохшей после неудачного падения с лошади), этими скрюченными пальцами, для которых тяжело стальное перо, Столыпин уверенно держит штурвал государственного корабля. «Правил в бурю, удержит ли в штиль?» — задался вопросом Чаплинский, вглядываясь в глубокую складку, идущую от бровей министра. Несомненно, для Столыпина не прошли даром интриги двора и нападки правых. Первый министр стал слишком независимым, и государь тяготился его опекой. Ходили слухи, что во время последней высочайшей аудиенции Столыпину было прямо сказано, что для него готовится новое назначение — наместником на Кавказ или послом в Париж.
Но пока что Столыпин еще оставался главой правительства, в чьи прямые обязанности входило знать все, достойное внимания государя. Первый министр сразу же осведомился у прокурора:
— Благоволите разъяснить, на основании каких фактов вы доложили его императорскому величеству о том, что убийство мальчика Андрея Ющинского совершено евреями.
Чаплинский похолодел. Эх, напрасно он не придержал язык! Когда к перрону празднично разукрашенного деревянного вокзала подплыл царский поезд, прокурора вдруг охватил безудержный восторг. Едва государь вышел из вагона, все закричали: «Ура!» и еще много раз «Ура! Ура! Ура!», приветствуя государыню и великих княгинь. Слезы умиления навернулись на глазах прокурора при виде прелестной Анастасии в коротеньком, по колено, подростковом платьице, а когда могучий матрос вынес на руках наследника-цесаревича, Чаплинский, никого не стесняясь, зарыдал от счастья. Государь приложился к руке митрополита Киевского и Галицкого Флавиана, потом соизволил принять хлеб-соль и откушать маленький кусочек. Бородатые волостные старшины в парадных свитках с бронзовыми медалями, держали на вытянутых руках еще с дюжину деревянных подносов с караваями.
Начальник края генерал-губернатор Трепов поименно представил государю первых лиц киевской гражданской администрации и судебного ведомства. Каждый из представляемых кратко докладывал о состоянии дел в своем ведомстве, и государь в милостивых выражениях благодарил всех за безукоризненное выполнение служебного долга. Когда дошла очередь до прокурора судебной палаты, Чаплинский, задыхаясь от переполнявших его верноподданнических чувств, воскликнул: «Счастлив доложить вашему императорскому величеству, что волнующее всех киевлян дело Ющинского вполне раскрыто. Убийцей, как и ожидалось, оказался еврей».
Он полагал, что его слов никто, кроме государя, не услышал, но оказалось, что все услышали и тотчас же донесли. Теперь надо было убедить первого министра в обоснованности ритуального обвинения. Тщательно подбирая слова, Чаплинский рассказал о ходе расследования, оттеняя улики против Бейлиса и указывая на ненормальную обстановку вокруг дела.
— Киевская полиция оказалась не на высоте положения, — подытожил он свой доклад. — Достаточно сказать, что накануне высочайшего визита начальник сыскного отделения Мищук оборудовал эпизод, который я не могу квалифицировать иначе, как глумление над правосудием. Осмеливаюсь обратиться к вашему высокопревосходительству с нижайшей просьбой командировать в Киев опытных сыщиков.
— Хорошо, — кивнул министр. — Я лично попрошу заняться этим начальника московской сыскной полиции Кошко. Он виртуозно расследует уголовные дела.
— Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству, что евреи чинят препятствия правосудию. Они склонны к антигосударственной деятельности и идут во главе революционного и террористического движения, не останавливаясь перед самыми кровавыми преступлениями. Вашему высокопревосходительству это известно, увы, лучше, чем кому бы то ни было.
Чаплинский намекал на покушение, произведенное на Аптекарском острове в августе 1906 года, когда трое боевиков из числа эсеров-максималистов взорвали дачу первого министра. Погибли все охранники, посетители министерской приемной, сами покушавшиеся — всего 29 человек, в том числе женщины и дети. Столыпин отделался царапинами, но его дочь Наталья осталась калекой.
О том, что покушавшиеся были евреями, стало известно через несколько минут. На соседней даче случайно гостил председатель Союза русского народа Дубровин, доктор медицины. Он оказал первую помощь раненым и заодно осмотрел трупы террористов, вернее, то немногое, что от них осталось. Одному из бомбистов взрывом снесло всю верхнюю часть туловища до пояса, уцелели только ноги с частью живота в жандармских брюках. Доктор Дубровин полюбопытствовал заглянуть в брюки и наметанным взглядом определил, что бомбист был обрезанным. Когда Столыпин увидел, что ссадины ему промывает вождь черной сотни, он кивнул на трупы боевиков и убежденно сказал: «А все-таки им не сорвать реформ!» Наверное, картины этой кровавой бойни мелькнули в памяти Столыпина, его лицо нахмурилось.
— Да, евреи часто бросают бомбы, — подтвердил первый министр. — Но вспомните, как живет еврейская беднота в черте оседлости? Если бы мы с вами жили в подобных условиях, не исключено, что тоже бросали бы бомбы. Террор является следствием уродливых социально-экономических условий, и с ними нельзя бороться исключительно репрессиями. Залечим язву, но зараженная кровь породит новые изъязвления. Надо, чтобы каждый гражданин России, какой бы национальности он ни был, получил возможность достойно жить собственным трудом. Дабы успокоить нереволюционную часть еврейства, я предлагал отменить ряд положений, ограничивающих права евреев. Но его величество после долгого размышления соблаговолил начертать резолюцию в том смысле, что, несмотря на вполне убедительные доводы, внутренний голос подсказывает ему не брать на себя решение этого вопроса.
Столыпин процитировал высочайшую резолюцию с благоговением, но в глазах его мелькнула тень несогласия. Чаплинский подумал, что проект о равноправие евреев должен был вызвать бурю гнева у крайне правых. Они восторгались решительностью министра при подавлении революции, но стоило ему заикнуться о реформах, как он сразу же превратился в их глазах во врага и изменника.
Столыпин о чем-то вспомнил и спросил:
— Кстати, кто отдал возмутительное распоряжение удалить учащихся-евреев из крестного хода во время открытия памятника?
— Кажется, попечитель учебного округа Зилов, — осторожно ответил Чаплинский и прибавил в защиту почтенного старца: — Церемония носила религиозный характер, и посему господин попечитель предложил покинуть крестный ход всем иноверцам, в том числе католикам и магометанам.
— Час от часу не легче! Подобные распоряжения нелепы и вредны, так как сеют семена национальной розни. Такого воспитателя юношества на государственной службе терпеть нельзя. Зилов, говорите? — Столыпин взял листок и сделал крошечную пометку.
У Чаплинского пересохло в горле. Вот так! Пометка гусиным пером, и тайный советник Зилов отправлен в отставку. Никогда не знаешь, откуда ждать подвоха. Удалишь иноверцев — плохо! Разрешить им участвовать в крестном ходе с иконами и хоругвями — обвинят в кощунстве. В дверь осторожненько постучали, адъютант министра приоткрыл створку и напомнил:
— Ваше высокопревосходительство! Пора на ипподром.
— Сегодня безумный день, — сухо извинился Столыпин. — Сейчас еду на смотр потешных, потом скачки на императорский приз, а вечером парадный спектакль. Помощь в расследовании убийства Ющинского вам будет оказана, я сделаю все возможное.
Прокурор шел по коридорам генерал-губернаторского дома, в котором остановился первый министр, и за каждым поворотом, на каждой площадке его оглядывали цепким взглядом охранники в штатском платье одинакового покроя и с одинаково оттопыренными задними карманами брюк. Выйдя на Александровскую улицу, Чаплинский понял, что ему не пробиться сквозь плотную толпу, ожидавшую выезда государя из Царского сада. Прокурора прижали к спине какого-то мужика, невысокого и узкоплечего, но до того узловатого и крепкого, что он даже не шелохнулся от толчка. Чаплинского удивило, что стоявший рядом инженер путейского ведомства буквально ел мужика глазами, словно старался навсегда запечатлеть в памяти его облик. Потом инженер заерзал, увидел прокурора и наклонился к его уху.
— Знаете, кто это? Распутин! Старец Григорий собственной персоной! Каково!
Стоявший впереди мужик был облачен в шелковую малинового цвета косоворотку и бархатный картуз. Его можно было принять за песенника из русского хора, но никак не за старца. «Да, полно, Распутин ли это?» — усомнился прокурор. Мужик на мгновение обернулся. Раскольничье лицо и дремучая, едва приглаженная борода резко контрастировали с щегольским нарядом. Поражали глаза, темные, пронзительные, видящие насквозь. Чаплинский поежился: «Дьявол его знает! Говорят, он неслыханной силы гипнотизер».
По толпе прокатился гул ликования. От дворца, скрытого в глубине сада, показалась вереница экипажей. В глазах зарябило от блестящей сбруи и плюмажей, зеркальных стекол и белоснежных спиц экипажей. На Александровскую улицу свернула позолоченная карета, дверцы которой были украшены двуглавым гербом. Барыни в роскошных шляпках, бедно одетые базарные торговки, гимназисты, мастеровые, старики, дети, мужчины, женщины, позабыв свой пол, воспитание, сословие, подпрыгивали и карабкались по чужим спинам в надежде разглядеть государя. Но он сидел по другую сторону, и с того места, где стоял прокурор, можно было видеть только императрицу, отвечавшую на приветствия усталым помахиванием руки в перчатке. Мужик в малиновой косоворотке перекрестил карету августейшей четы, умильно приговаривая: «Папа… мама…», и Чаплинский был готов поклясться, что императрица выхватила взглядом его соседа из многотысячной толпы и ее тонкие, поджатые губы тронула улыбка.
Карета с гербами проехала, за ней под гору двинулись свитские экипажи, а уж после них ленивой рысью потянулись экипажи министров. На пересечении с Екатерининской улицей какой-то мещанин, не помня себя от восторга, выскочил на мостовую. Лошади шарахнулись в сторону, несколько свитских экипажей сцепились. Городовые, быстро вытащив мещанина, живого, невредимого и по-прежнему восторженно орущего, из-под лошадиных копыт, принялись расцеплять кареты. Пока они ликвидировали затор, прямо напротив прокурора замерло открытое ландо, в котором сидел Столыпина. Странно, но сейчас Чаплинский мог разглядеть его лучше, чем во время аудиенции в зашторенном кабинете. Столыпин переоделся в белый сюртук, на груди сверкали ордена. Внимание Чаплинского привлек крест, показавшийся странно похожим на кладбищенский. И словно вторя его мыслям, мужик в малиновой косоворотке зашептал:
— Вижу, вижу… Смерть над ним!.. Смерть над Петром!..
Путь расчистили, ландо проехало, а мужик все продолжал бормотать вслед:
— Смерть над Петром… Вижу, вижу…
Чаплинскому стало не по себе от этого страшного шепота, и он поспешил выбраться из гущи народа. В вестибюле здания присутственных мест было непривычно пусто, сторожа ушли полюбоваться царским проездом. Вдруг гулкую тишину вестибюля нарушили шаги и громкий смех. По лестнице спускались двое присяжных поверенных, которых прокурор частентко встречал в коридорах окружного суда. Он даже знал их имена — Марк Виленский и Арнольд Марголин, сын владельца днепровского пароходства. Марголин, заметив Чаплинского, небрежно обратился к нему:
— Господин прокурор, я являюсь защитником Менахема Менделя Тевьева Бейлиса. У моего подзащитного слабое здоровье и расстроенные нервы, ему не пристало сидеть в тюрьме с ворами и жуликами.
— Об освобождении из-под стражи человека, обвиняемого в убийстве, не может быть и речи, — отрезал прокурор, направляясь к лестнице.
Однако адвокат загородил проход. Лицо его покрылось красными пятнами.
— Я не привык, чтобы с Марголиным разговаривали в подобном тоне.
У Чаплинского, как у всякого поляка, с детства было настороженное отношение к евреям. А сейчас он испытывал настоящую физическую ненависть, глядя на упитанные щеки адвоката, на его пухлые пальцы, унизанные массивными перстнями, на маленькую проплешину на голове.
— Мне, милостивый государь, безразлично, к чему вы привыкли. Потрудитесь освободить дорогу, — процедил он.
Марголин буквально напрашивался на историю, но второй адвокат дернул своего приятеля за рукав, и тот нехотя посторонился. «Вот так, пся крев! Думаешь, если ты миллионщик, то я с тобой церемонится буду!» — позлорадствовал Чаплинский, поднимаясь по лестнице. Марголин выкрикнул ему вслед:
— Я подам жалобу на неправомерный арест Бейлиса. Как раз сейчас, когда в Киев съехались все министры, следует поставить их в известность о задуманном вами ритуальном спектакле.
— Вы опоздали, милостивый государь, — с усмешкой бросил Чаплинский. — С полчаса тому назад я имел честь быть принятым статс-секретарем Столыпиным. Петр Аркадьевич выслушал мой доклад и обещал полное содействие.
— Вот как! — запальчиво воскликнул Марголин. — Конечно, от министра-вешателя иного ждать не приходится. Однако напрасно вы бегали к Столыпину, никакой помощи он вам не окажет. Он, считайте, уже труп!
Чаплинский вкрадчиво попросил:
— Будьте любезны, повторите ваши угрозы.
Марк Виленский поспешно закрыл ладонью рот своему другу и впервые за всю встречу подал голос:
— Господин прокурор, не пытайтесь превратно истолковать слова моего коллеги. Он выразился фигурально, имея в виду политический труп — так часто именуют Столыпина в газетах, намекая на его близкую отставку.
— Советую вам тщательно выбирать выражения, — бросил Чаплинский, отходя от перил.
В кабинете его ждало множество неотложных дел. Но пока он просматривал и подписывал бумаги, в ушах звучали слова юродивого мужика: «Смерть над ним, смерть над Петром», а перед глазами стоял Столыпин с крестом на груди. «Живая мишень для любого террориста», — обеспокоено думал он. Прокурору уже докладывали, что дело с охраной высоких гостей обстоит весьма неблагополучно. Были введены четырнадцать категорий пропусков, на каждое торжество свой билет, но в результате все окончательно запуталось. В добровольную народную дружину, которая своими телами должна была защищать государя во время проездов по улицам, попало немало темных личностей. Вчера на гулянии, устроенном в Купеческом саду, то и дело мелькали фигуры оборванцев, и многие из публики недосчитались часов и кошельков. Напиравшая толпа едва не снесли шатер для августейшей четы и министров. Что стоило какому-нибудь злоумышленнику произвести выстрел в этой толчее и спрыгнуть вниз с крутого берега Днепра!
Чаплинский решил поделиться своими сомнениями с генералом Курловым, отвечавшим за организацию охраны. Он подумал, если что-нибудь случится, можно будет со спокойной совестью сказать, что он, прокурор, предупреждал. К тому же Чаплинский хотел напомнить о себе командиру корпуса жандармов генералу Курлову, которого молва называла наиболее вероятным кандидатом на пост министра внутренних дел в случае отставки Столыпина.
Закончив дела часам к шести пополудни, он поехал на трамвае к Европейской гостинице, где Курлову и его свите был отведен целый этаж. Филеры, дежурившие у гостиницы, сказали, что господа офицеры у себя — направо по коридору. Чаплинский последовал этому указанию и остановился перед дверью, за которой слышался громкий голос:
— Николаша, не обижайся, хоть ты и мой родственник, а все-таки помни, что ты в корпусе жандармов без году неделя. Где тебе понять, что значит носить голубой мундир? Жандармы — это цвет русского общества. Когда учредили Отдельный корпус жандармов, граф Александр Христофорович Бенкендорф попросил у государя Николая I инструкцию. Его императорское величество подал графу платок, присовокупив слова: «Вот тебе инструкция. Чем больше сиротских слез осушишь этим платком, тем лучше!»
Чаплинский постучал. За дверью радостно воскликнули:
— Это Флоранс и Мими! Сейчас, мои рыбоньки, открою.
Створки двери распахнулись, и Чаплинский увидел перед собой начальника охранного отделения Кулябко. Его полное, улыбающееся лицо выразило изумление, потом подполковник всплеснул пухлыми ручками:
— Вот это сюрприз! Милости прошу к нашему шалашу. Господа, позвольте познакомить вас с прокурором судебной палаты, — тараторил Кулябко, обнимая Чаплинского за талию и вводя его в комнату.
Посредине комнаты возвышался уставленный батареей бутылок стол, вокруг сидели раскрасневшиеся жандармские офицеры. Единственный штатский в этой веселой компании спал, уткнувшись носом в тарелку. Офицеры приветствовали гостя, но далеко не так радушно, как Кулябко — ждали все-таки шансонеток.
— Полковник Александр Иванович Спиридович, заведующий охраной, подведомственной дворцовому коменданту, — представил Кулябко высокого сухопарого офицера в расстегнутом кителе и с гордостью прибавил: — Мой свояк, служил до меня начальником киевского отделения и прославился арестом Гершуни.
— Оставь, Николаша, дело прошлое, — поморщился Спиридович, но чувствовалось, что ему приятно вспоминать об аресте знаменитого террориста. — Да, были злодеи в наше время! Вся полиция империи сбилась с ног, разыскивая шавельского мещанина Герша Исаака Ицкова, по конспиративной кличке Гершуни. Покойный министр внутренних дел фон Плеве держал на своем письменном столе его фотокарточку и поклялся не убирать ее до тех пор, пока преступник не будет арестован. Гершуни был чертовски осторожен и хитер, однако попался и этот прехитрый механик! Взяли мы его тепленьким, и вскоре мои плечи украсили штабс-офицерские погоны.
— Алексаша, что о штабс-офицерстве вспоминать, когда со дня на день ожидается твое производство в превосходительные, — расплылся в подхалимской улыбке Кулябко.
— Тьфу-тьфу! Сглазишь! — постучал по столу Спиридович.
— Заранее поздравляю, — поклонился Чаплинский. — А ведь я по делу! Нельзя ли устроить мне аудиенцию у генерала Курлова?
Едва прозвучала фамилия Курлова, как уткнувшийся в тарелку штатский проснулся, поднял свое молодое, но уже изрядно потасканное лицо с прилипшим к подбородку кусочком спаржи, и важно изрек:
— Господин товарищ министра хворают…
— Статский советник камер-юнкер Вери… — начал было представлять пробудившегося Кулябко, но статский советник упал лицом в тарелку.
Прокурор вытаращил глаза от изумления. Неужели этот пьяный юнец и в самом деле Веригин, исправляющий должность вице-директора департамента полиции? Полицмейстер уже жаловался, что вице-директор, прибывший в Киев за две недели до высочайшего визита, по утрам возвращается в Европейскую гостиницу мертвецки пьяным и однажды свалился с дрожек на Николаевской улице. Поскольку Веригин задолжал извозчикам более трехсот рублей, полицмейстера томили мрачные предчувствия, что долги столичного гостя придется отдавать из казенных сумм.
Кулябко, игравший роль радушного хозяина, прикрыл своей толстой фигурой вице-директора и поспешно сказал:
— Вы не подумайте, что мы тут только пьем. Заскочили в нумер после смотра потешных. Сейчас помчимся проверять посты в театре. А зачем вам, собственно, командир корпуса?
— Хотел узнать, надежна ли охрана. Вдруг покушение…
— Покушение? — Спиридович буравил прокурора тяжелым взглядом. — Откуда у вас сведения о покушении?
— Ну, если это можно назвать сведениями. Просто глупые слухи, болтовня. Вы так подозрительно смотрите, объясните же, в чем дело? — взмолился Чаплинский.
— Ваше превосходительство, голубчик мой! — Кулябко прижал пухлые ручки к груди. — Государственная тайна! А впрочем…
Начальник охранного отделения вопросительно посмотрел на полковника Спиридовича. Тот предостерегающе мотнул головой, но Кулябко не послушался.
— Полно, Алексаша, ведь это прокурор, страж закона.
Обдавая Чаплинского коньячным запахом, Кулябко зашептал, что по агентурным данным в Киеве готовится терракт. Однако пусть господин прокурор не волнуется — самому надежному агенту охранного отделения удалось проникнуть в центр заговора. За бомбистами установлено плотное наблюдение, дом, в котором они скрываются, взят в кольцо филеров.
— Я ничего не знаю о подготовке покушения, — признался прокурор, — Просто хотел попросить генерала Курлова усилить охрану статс-секретаря Столыпина во время проезда по городу.
— При чем тут Столыпин? — удивился Спиридович — Что нам до этого господина! Не случилось бы покушения на государя!
— Мне кажется, маршруты движения выбраны неудачно. Не понимаю, зачем реквизировали моторы, если министров посадили в конные экипажи? В гору лошади еле плетутся. Я видел проезд Петра Аркадьевича на смотр потешных…
Прокурор не закончил. Спиридович встал перед ним, поскрипывая сапогами, и Чаплинский внезапно понял, что полковник мертвецки пьян, что он выпил больше всех в этой хмельной компании — больше масляно улыбающегося Кулябко, больше раскрасневшихся офицеров, даже больше посапывающего носом в тарелке со спаржей Веригина. Полковник, очевидно, был из породы людей, степень опьянения которых трудно определить по внешности. Его выдавала лишь слегка замедленная речь.
— Любопытно! — с недоброй усмешкой начал Спиридович. — Вот уж не подозревал, что вы, господин прокурор, специалист в технике охранного дела! Только осмелюсь заметить, здесь не желторотые птенцы собрались. Вы мне будете объяснять, что в Киеве горы! Я здесь взял самого Гершуни… И после этого вы намекаете, что я дела не знаю!.. За такие слова любого попрошу к барьеру…
— Полно, Алексаша, успокойся. Его превосходительство из самых лучших побуждений, — говорил Кулябко, оттесняя свояка от прокурора.
— Что за свинство! Всякий шпак еще будет учить… — бормотал Спиридович.
Насилу его усадили на место, налили бокал. Он лихо опрокинул его и успокоился. Между тем Кулябко отвел в сторону побледневшего прокурора.
— Бога ради, не обижайтесь. Алексаша — сплошные нервы. Шутка ли, трое суток не спал! Командир корпуса жандармов занемог, все хлопоты по охране высочайших особ легли на наши плечи. Я вам честно признаюсь: вы правы насчет проезда по городу. Мое упущение! Завертелся! Опять же гости: всех прими, угости. А ошибочку мы уже исправили. Свиту пустим в каретах по заранее намеченному маршруту, а государь поедет в театр по боковым улицам в сопровождении министра двора и дворцового коменданта. Столыпина тоже отправим кружным путем в моторе.
«Что теперь делать? Вызвать полковника на дуэль? Дикарский пережиток! А ну как он спьяну рубанет меня клинком, — Чаплинский опасливо покосился на офицерские сабли, небрежно наваленные в углу комнаты. — И очень даже свободно. Зарубит, а военно-окружной суд его оправдает. Дескать, защищал честь мундира. Сколько таких случаев было в судебной практике». Стараясь не встречаться взглядом со Спиридовичем, прокурор принужденно сказал Кулябко, что принимает извинение за его родственника.
Один из жандармов спохватился, что пора в театр. Офицеры засуетились, застегивая кителя и разбирая из угла сабли. Кто-то подхватил пошатывающегося Веригина, и вся компания вывалила из номера. Чаплинский, немного выждав, чтобы опять не нарваться на оскорбление, спустился вниз уже после того, как жандармы разъехались. Направляясь пешком к Оперному театру, прокурор долго не мог успокоиться. Он решил пройти в театр через служебный подъезд, куда только что завели шеренгу гимназистов.
— Паустовский Константин, не отставайте, — прикрикнул бледный от волнения классный наставник, когда жандармский офицер, стоявший за билетера, пересчитал мальчишек.
Пропустив гимназистов, жандарм с сомнением вертел в руках надорванный пропуск, предъявленный ему молодым человеком во фраке.
— Билет надорван, потому что я уже выходил из театра выполнить одно поручение, — объяснял владелец билета, поблескивая стеклами пенсне.
— Все равно непорядок.
На лестнице мелькнула толстая фигура подполковника Кулябко, застегнутого на все пуговицы, но такого же красноликого, как двадцать минут назад в номере Европейской гостиницы. Молодой человек крикнул ему:
— Николай Николаевич, меня не пускают.
— Пропустите на мою ответственность, — распорядился Кулябко.
Прокурор вошел вслед за ним. Киевляне называли Оперный театр новым, так как старое здание лет пятнадцать назад было уничтожено пожаром. Постройка обошлась в миллион рублей, и Чаплинский при каждом посещении театра изумлялся беспечности своих предшественников по прокурорской должности. С первого взгляда было видно, что половину денег расхитили. Внутренняя отделка театра была самой простой, потолки почти без лепнины. Одно хорошо — вестибюль и фойе были просторными и высокими. Широкую лестницу захлестывала белая пена людской реки. В сплошной поток светлых летних кителей и бело-розовых дамских нарядов вливались темные струи фрачников. Под электрическим светом вспыхивали бриллианты дам и отливали золотом парадные эполеты. В театральном фойе стоял тонкий металлический перезвон. Сначала прокурор не мог понять, откуда он исходит, и только потом догадался, что звенели шпоры, ножны шашек, серебряные наконечники аксельбантов, ордена. Такого ему слышать еще не доводилось.
На парадный спектакль съехалась вся знать Юго-Западного края: губернаторы, предводители дворянства, богатые польские помещики. Дамские наряды превосходили всякое воображение. Туалеты обдумывались всю зиму, выписывались от лучших портных, многие щеголихи специально съездили в Париж и теперь ревниво разглядывали соперниц и перешептывались за спиной миниатюрной пухленькой шатенки, жены товарища прокурора киевского окружного суда Лашкарева. Шатенка славилась романами почти со всем составом судебной палаты. Сейчас она, победно улыбаясь направо и налево, семенила в струящейся юбке-шароварах. Jupe cullotte начали носить в Вене этой весной, а уже летом модниц в шароварах можно было увидеть на киевских бульварах в сопровождении толпы улюлюкающих зевак. Но чтобы рискнуть появиться в подобном наряде в высочайшем присутствии, надо было обладать незаурядной самоуверенностью. Товарищ прокурора суда Лашкарев, покорно следовал за супругой, демонстрируя, что давно смирился и со своими рогами, и с её экстравагантными туалетами.
Прозвенел последний звонок, и Чаплинский прошел в зрительный зал. Кресла перед самой сценой были предназначены для министров, до девятого ряда сидели сплошь генералы. Далее шел широкий проход и начинался десятый ряд, бельэтаж и поднимавшийся на десятисаженную высоту амфитеатр. Зал вмещал полторы тысячи человек, но далеко не все желающие, даже в солидных чинах, попали на спектакль. Было много обиженных, роптавших, что распорядители не учли их верную службу царю и отечеству.
Огромная хрустальная люстра над головой погасла. Оркестр заиграл увертюру, и бархатный занавес медленно разъехался в стороны. Давали «Сказку о царе Салтане» в новой постановке, но прокурора больше интересовало происходящее не на сцене, а в генерал-губернаторской ложе. Государь сидел в глубине аванложи, великие княжны и болгарский царевич у самого барьера, государыня, как шепнули прокурору, почувствовала недомогание и на спектакль не приехала.
В перерыве публика обсуждала спектакль. Многих разочаровало хваленое сопрано госпожи Воронец, специально выписанной из Одессы, зато все восхищались пышными декорациями. После второго акта большинство зрителей направилось в буфет, и лишь Чаплинский одиноко бродил по коридору. В конце коридора показался подполковник Кулябко в сопровождении франта во фраке, которого не пускали в театр из-за надорванного билета. Франт был мрачен, за стеклышками пенсне блестели затравленные, полные тоски глаза. Начальник охранного отделения горячо толковал ему о чем-то, повторяя через слово:
— Прошу вас, голубчик!
Покружив по театру, прокурор вернулся в полутемный зал и увидел киевского губернатора Гирса, беседовавшего со Столыпиным. Рядом с ними, спиной к барьеру оркестровой ямы, стояли граф Потоцкий и прямой как палка, весь в золотом шитье и бриллиантовых звездах старик — министр императорского двора барон Фредерикс. Вдруг мимо прокурора быстро прошел молодой человек, только что разговаривавший с Кулябко. Он почти бежал по проходу, прикрывая правой рукой вырез фрака. «Наглец! Куда он лезет!» — вознегодовал Чаплинский и в следующее мгновение услышал резкий хлопок, стократно усиленный акустикой театрального зала.
Сначала ему показалось, что рухнул балкон. Раздался новый хлопок, и тут только Чаплинский догадался, что резкий звук каким-то образом связан с пробежавшим мимо него фрачником. Никто не мог сообразить, что на их глазах произошло покушение. Казалось, не понимал этого и сам Столыпин. Он положил на барьер фуражку и перчатки, медленно расстегнул пуговицы сюртука и опустил недоумевающий взор на красное пятно, расплывавшееся по белому жилету. Молодой человек стоял в двух шагах от него, запрокинув голову вверх и глядя на хрустальную люстру, словно ожидая, что она погаснет. И только когда Столыпин грузно опустился в кресло и прошептал отчетливо слышные в тишине слова: «Счастлив умереть за царя!», все пришло в движение. Потоцкий и Гирс кинулись помогать раненому. Молодой человек в пенсне попятился назад, отбросил браунинг и побежал по проходу. Но из дверей уже повалила привлеченная шумом публика. Раздался крик: «Держите его!» Кто-то подставил ножку бегущему, схватил его за полу фрака, свалил на пол. Замелькали кулаки.
По креслам, перепрыгивая сразу через два ряда, промчался полковник Спиридович, едва не задев Чаплинского шпорами сапог. Полковник на ходу выхватил саблю и замахнулся полоснуть террориста, но того уже избивали десяток мужчин. Спиридовича оттолкнули в сторону, после чего он встал перед генерал-губернаторской ложей, угрожающе вращая над головой клинком. В людскую кучу, барахтающуюся на полу прохода, врезался жандармский офицер атлетического сложения. Разметав всех, он выхватил из кучи молодого человека во фраке и легко перебросил его в ложу бенуара.
— Немедленно прекратить самосуд, — рявкнул он, перекрывая женский визг.
Тут только Чаплинский опомнился и закричал:
— Пропустите меня! Я прокурор киевской судебной палаты.
— Сюда, ваше превосходительство, — жандарм втащил прокурора в ложу.
— Вы ведь подполковник Иванов-второй, помощник начальника губернского жандармского управления. Доложу начальству о вашей распорядительности, — выдавил из себя запыхавшийся Чаплинский.
Покушавшийся скрючился на маленьком пуфике в глубине ложи. Его фрак был разодран, по лицу сочилась кровь. «Не иначе, били театральными биноклями», — определил прокурор. Он осторожно раздвинул портьеры, высунул голову и увидел государя, появившегося в генерал-губернаторской ложе. Государь был совершенно спокоен, ни один мускул не дрогнул на его прекрасном холодном лице. Поникший в кресле Столыпин поднял руку, благословляя его, но император как будто не видел своего министра. В следующую минуту Столыпина подняли и понесли к выходу. Занавес взвился вверх, оперная труппа грянула «Боже, царя храни!» Артистки на сцене пали на колени, протягивая руки к государю, публика громко зааплодировала народному гимну. Царь с прежним бесстрастным выражением поклонился на две стороны. Полковник Спиридович отсалютовал саблей, раздалось «Ура!», потом по театру покатилась несмолкаемая овация. «Радуются, что государь избежал опасности», — умилился прокурор.
— Надо увести задержанного в безопасное место, — предложил Иванов.
— Да, конечно, — согласился Чаплинский, задергивая портьеру.
Иванов вывел молодого человека из ложи. В коридоре к ним присоединились несколько жандармских офицеров, и под их конвоем арестованный был доставлен в малую курительную, пропахшую табачным дымом. Подполковник обыскал карманы покушавшегося и извлек из них серебряный портсигар и вороненные часы «Омега». Стекло часов было разбито, замершие стрелки показывали 11 часов 4 минуты. В бумажнике оказались золотая пятирублевка, три серебряных рубля и мелочь, но главной находкой был билет в 18-й ряд партера, кресло № 406. Чаплинский подозвал жандармского ротмистра и приказал выяснить, кому выдали билет на это место. Выходя, ротмистр столкнулся с Брандорфом. Его появление было неприятно Чаплинскому, но он ничего не мог поделать, потому что Брандорф, чей перевод уже был решен, формально продолжал числиться прокурором окружного суда. Надо было принять предупредительные меры.
— Итак, представители судебной власти в сборе. Подполковник Иванов, приступайте к допросу, — распорядился Чаплинский.
— Не лучше ли дождаться следователя по важнейшим делам? — предложил Брандорф.
— Завтра допросит ваш Фененко. Дело не терпит отлагательства, надо пользоваться тем, что чины жандармского управления по закону наделены правом осуществлять следственные действия, — возразил Чаплинский.
Подполковник Иванов, положив перед собой лист бумаги, начал допрос.
— Ваше имя, звание?
— Дмитрий Григорьевич Богров, помощник присяжного поверенного.
— Вероисповедание?
— Иудейское.
Чаплинский вздрогнул. Ну, конечно, где были его глаза! Разумеется, перед ним еврей. Бледное лицо, крупные заячьи зубы, черные волнистые волосы. Странно, на парадном спектакле не должно было быть евреев. Однако вот он, типичный иудей, дьявольской хитростью проникший в театр.
— Иудейское! — воскликнул прокурор. — Тогда почему вы именуете себя Дмитрием Григорьевичем? Это христианское имя.
— Какая разница? — вмешался Брандорф. — Сейчас многие интеллигентные евреи называют себе на русский лад.
— Пусть скажет, как он записан в метриках, — заупрямился Чаплинский.
— Мордехай Гершков.
— Вот так и занесите в протокол: Мордко Гершков, именующий себя Дмитрием Григорьевичем.
Подполковник Иванов спросил, с какой целью допрашиваемый покушался на жизнь статс-секретаря. Богров заученно заговорил:
— Покушение произведено мною потому, что я считаю Столыпина главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступлением от установившегося в 1905 году порядка: изменение избирательного закона, игнорирование мнения Государственной думы, притеснение печати, инородцев…
Вернулся ротмистр с билетной книгой под мышкой. Не говоря ни слова, он положил книгу перед прокурором, отчеркнув ногтем нужную строку. Против номера 406-го значилась пометка: «передан в распоряжение охранного отделения». Чаплинский молча передал книгу Иванову. Брови подполковника поползли вверх. Он спросил Богрова:
— Каким образом вы получили билет на парадный спектакль?
— Я обратился к начальнику охранного отделения подполковнику Кулябко и сообщил ему, что ко мне якобы прибыл некий молодой человек, который готовит покушение на одного из министров, и что этот молодой человек проживает у меня в квартире. При свидании с Кулябко в гостинице «Европейская» присутствовали полковник Спиридович и еще один господин, кажется, Веригин. Во время разговора с ними я напирал на необходимость выделить меня из компании бомбистов и с этой целью просил создать предлог в виде ухода моего из квартиры в театр. Также я сказал, что если мне дадут билет в театр, то смогу предотвратить покушение, указав на заговорщиков. Билет мне был доставлен на квартиру филером охранного отделения сегодня вечером часов в восемь.
В курительную пропустили полицейского пристава.
— Ваше превосходительство, — козырнул он, — начальник охранного отделения требует немедленно доставить ему задержанного.
— Передайте господину подполковнику, чтобы он сам пожаловал сюда для объяснения.
— Их высокоблагородие за дверью.
Чаплинский вышел в коридор и набросился на Кулябко:
— Вы дали Мордке Богрову билет в театр?
— Дал, дурак, собственными руками дал! Свояк мой, полковник Спиридович, присоветовал, — простонал начальник охранного отделения. — Богров придумал про бомбистов. Сейчас старший филер Демидюк обыскал его квартиру — ни души. Ясно, что там никого не было с самого начала. Заморочил он нас, а стрелял, мерзавец, сам.
— Как вы могли довериться первому встречному?
— Да не первый он встречный! Ах, Боже ты мой! В том-то и дело, что он, подлец, мой же сотрудник, коему я доверял больше, чем самому себе!
— Мордка Богров — ваш агент? — ахнул прокурор.
— Так точно-с! Секретный осведомитель, по кличке Аленский. Умоляю, разрешите переговорить с ним с глазу на глаз.
Чаплинский подозрительно покосился на саблю, опоясывающую толстую талию Кулябко. Перед его мысленным взором блеснул клинок, занесенный полковником Спиридовичем над головой Богрова. «Ох, странно все это, — размышлял прокурор. — Распутин с его пророчеством, начальник охранки в обнимку с террористом, некстати захворавший командир корпуса жандармов, которого молва называет злейшим врагом министра». Чаплинский не знал, как объяснить все эти странности, но твердо понимал, что нельзя выпускать из своих рук арестованного, и без обиняков объявил об этом Кулябко. Начальник охранного отделения, схватившись за голову, пошел прочь.
— Георгий Гаврилович! — навстречу прокурору спешил декан медицинского факультета Оболонский.
— Что с министром? — готовясь услышать худшее, спросил Чаплинский.
— Мы с лейб-медиком Рейном остановили кровотечение. Сейчас Столыпина перевезли в лечебницу Маковского. Одна рана легкая — навылет сквозь мягкие ткани руки. Другая, увы, гораздо серьезнее. Боюсь, не повреждена ли печень. Но есть надежда, что пуля изменила траекторию, попав во Владимирский крест. Если так, то Святой Владимир, Креститель Руси, спасет Петра Аркадьевича, — Оболонский осенил себя крестным знамением.
Чаплинский тоже истово и неумело перекрестился по православному.
— Вас разыскивает Коковцов, — вспомнил декан.
— Министр финансов? Меня? Вы не путаете?
— Он просил вас немедленно приехать в лечебницу.
— Хорошо, только отдам распоряжение о продолжении допроса.
Лечебница Маковского была ближайшей от театра. Дойдя до Малой Владимирской, Чаплинский увидел дворников, рассыпающих сено на мостовую, чтобы шум проезжающих экипажей не потревожил раненого. Коковцова он застал в вестибюле лечебницы.
— Да, я посылал за прокурором. Будучи заместителем Петра Аркадьевича по Совету министров, я в случае его болезни исполняю обязанности главы правительства, — важно пояснил Коковцов. — Допрошен ли покушавшийся?
— Ваше высокопревосходительство, уже удалось установить, что задержанный является агентом киевского охранного отделения.
— Н-да! — мрачно процедил Коковцов. — Петр Аркадьевич частенько повторял: «Меня убьют чины охраны». Как в воду глядел! Добрались до него, сановные подлецы! Попытайтесь распутать клубочек, хотя, боюсь, ниточка заведет очень далеко. Слишком многим выгодна смерть Петра Аркадьевича. Мне доложили, что преступник — еврей. Действительно так? Плохо! Начальник края сообщил, что еврейские семьи уже выносят из домов свои пожитки и собираются бежать из Киева в страхе перед погромом. Между тем в городе совсем нет войск, ибо все части выдвинуты на завтрашние маневры в высочайшем присутствии. Я намерен отозвать три казачьих полка, чтобы они к утру заняли Подол и другие части города. На ваш взгляд, достаточно ли принятых мер?
Чаплинский робко промямлил, что у многих, конечно, зачешутся кулаки ответить на выстрел Богрова хорошеньким погромом. Но надо ли вводить в город войска? Это может вызвать сильное раздражение в простом народе. Скажут: вот евреи устроили покушение, а власти их защищают.
— Не понимаю вас, господин прокурор! — загремел на весь вестибюль министр. — Не понимаю и удивляюсь вашему цинизму? Что из того, что покушавшийся оказался евреем? Разве это повод мстить его соплеменникам? — затем Коковцов произнес уже более спокойным тоном. — Интересы высшей политики требуют не раздражать банкиров-евреев, иначе у нас будут сложности с заключением очередного займа. Разразись в России погром, парижский и лондонский Ротшильды, берлинский дом Мендельсона, американский дом Моргана, голландская финансовая группа Нецлина — все они набросятся на русский рубль и начнут валить его. Дабы оградить биржу от потрясений, я потребовал от генерал-губернатора не допустить беспорядков. Вам же, господин прокурор, я поручаю вызвать руководителей киевских монархических союзов и предупредить их об ответственности за призывы к погрому. Что там следует по закону?
— Согласно статье 269-й пункту 1-му предусматривается наказание от восьми месяцев до полутора лет арестантских рот за участие в толпе, каковая учинила насилие над личностью и похищение либо истребление имущества. Смягчающими обстоятельствами является наличие племенных, религиозных и экономических разногласий, а также раздражающих общественное спокойствие слухов, — наизусть отчеканил прокурор.
— О смягчающих обстоятельствах умолчите. Хорошенько припугните черносотенцев, — приказал министр и на прощание повторил: — Заклинаю вас, во что бы то ни стало берегите евреев!
Глава пятнадцатая
10 октября 1911 г.— Каким был Дмитрий Богров? — спросила Ляля Лашкарева.
За последний месяц следователя Фененко спрашивали об этом не меньше тысячи раз, но еще никто не спрашивал в самый разгар любовных утех.
— Ах, Ляля, милая… как можно… в такую минуту, — простонал он, лобзая покатую женскую грудь.
— Нет, все-таки скажи, — настаивала Ляля. — Говорят, он был нехорош собой? Его отца, Григория Григорьевича, я часто встречала в обществе, а вот сын нигде не показывался. Может, видела мельком в Коммерческом или Охотничьем клубе. Уверяют, что он был азартным картежником и играл по-крупному.
Фененко пытался закрыть поцелуем ее кукольный рот, но она, уклоняясь от его губ, продолжала щебетать:
— Муж рассказывал, что перед казнью Богров держался с редким мужеством. И подполковник Иванов, он наш сосед, клянется, что Дмитрий Богров был необыкновенным человеком. Правда?
— Да, да! Разумеется, необыкновенный… все, что хочешь… Ляля, я не могу, нельзя быть такой жестокой…
Наконец она сжалилась над ним и зажмурила пушистые ресницы, как делала это всегда, уступая его домогательствам. Фененко быстро распустил пояс ее розового шелкового пеньюара. Полы распахнулись, открыв ослепительную женскую наготу. Ляля нащупала рукой подушку, подсунула подушку под бедра и покорно развела в сторону белые ухоженные ноги. Он нетерпеливо овладел ею, исторгнув из ее уст негромкий стон — единственное, что позволяла себе его любовница даже в самые интимные мгновения. Она лежала неподвижно, покорная его бурным ласкам, а для него сейчас не существовало ничего, кроме ее распростертого тела. Как бы Фененко хотел воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Увы, как ни пытался он продлить наслаждение, последнее мгновение неизбежно наступило. Фененко дернулся от сладкой судороги и разжал объятья.
— Котик, проводишь меня завтра к модистке? — спросила Ляля, открывая глаза.
— К сожалению, не могу, — ответил Фененко, тяжело дыша. — С утра придется ехать на кирпичный завод Зайцевых, производить осмотр.
— Фи, какой скучный! Вы, юристы, вечно заняты, — укорила его Ляля, потягиваясь, как сытая кошечка.
Несколько зевков маленьким капризным ротиком, и она заснула. А на следователя напала бессонница. Он глядел на свернувшуюся калачиком любовницу и размышлял о том, что их роман продолжается с той волшебной ночи, когда провожали старый девятнадцатый век и встречали двадцатый. Хмелея от восторженного взгляда молоденькой, только что вышедшей замуж шатенки, Фененко произносил один тост за другим: «За прогресс! За цивилизацию! За искоренение предрассудков и варварства!» Расчувствовался и Лялин муж, полез пить на брудершафт, а Ляля держала поднос. Так и пошло «menage a trois» — хозяйство втроем. Они с товарищем прокурора сроднились настолько, что обсуждали друг с другом Лялины увлечения.
Ляля по своей натуре не могла сохранять верность одному мужчине. Ее вовсе нельзя было назвать страстной, как раз наоборот, вот и сегодня она жеманилась и дразнила его почти до самого утра. Но без поклонников, без комплиментов, без флирта она не способна была прожить ни дня. Любая приехавшая в Киев знаменитость притягивала ее как магнитом. Однако после очередного любовного приключения она, разочарованная и страдающая, находила утешения в объятьях мужа и испытанного любовника. Если встать на почву предрассудка, рассуждал Фененко, такое поведение достойно осуждения. Но ведь мужчины вовсю крутят романы, так отчего же это возбраняется женщине?
Спрашивает про Богрова! Небось, останься он жив, строчила бы ему любовные записочки в тюрьму. И откуда ему, следователю, знать, каким был Богров, хотя он и допрашивал его на следующий день после покушения. Допрос проходил в камере Косого Капонира, круглого приземистого форта в правом углу Печерской военной крепости, где содержались важнейшие государственные преступники. Фененко чувствовал себя крайне неуютно, потому что ближе к дверям, чтобы иметь возможность сразу вызвать конвой, сидел Чаплинский и буравил следователя таким взглядом, словно доверял ему меньше, чем арестованному.
Богров показал, что во время учебы в Мюнхенском университете увлекся идеями Бакунина и Кропоткина. Вернувшись в Киев, он примкнул к группе анархистов-коммунистов, однако вскоре пришел к заключению, что его товарищи преследуют главным образом разбойничьи цели. «Поэтому я, оставаясь для видимости в партии, решил сообщить Киевскому охранному отделению о деятельности ее. Решимость эта была вызвана еще тем обстоятельством, что я хотел получить некоторый излишек денег». Фененко спросил: «Для чего вам нужен был этот излишек?» — «Этого я объяснять не желаю». — «Сколько вам платили?» — «Когда я впервые явился в охранное отделение, то начальник его Кулябко расспросил меня об имеющихся у меня сведениях и, убедившись, по-видимому, что таковые совпадают с его сведениями, принял меня в число своих сотрудников и стал уплачивать мне 100–150 рублей в месяц». — «И как вы отрабатывали эти деньги?» — брезгливо спросил следователь. Богров без тени смущения объяснил, что ходил в охранное отделение два раза в неделю и между прочим сообщал сведения о готовящихся преступлениях, как например о Борисоглебской организации максималистов, об экспроприации в Политехнической институте. Он выдал динамитную лабораторию на Подоле, способствовал аресту Иуды Гроссмана, предупредил о попытке освободить из Лукьяновской тюрьмы Наума Тыша и о многих других замыслах анархистов.
Богров показал, что после двух с половиной лет службы в охранном отделении у него вновь явилось желание сделаться революционером. Фененко удивленно заметил, что такое желание выглядит нелогичным. Богров парировал, что у него своя логика. И правда, у Фененко сложилось впечатление, что бледный юноша жил по собственным правилам, недоступных пониманию других людей. Его выбор пал на Столыпина, хотя сначала он думал о покушении на царя. «Погодите, это самое важное! — встрепенулся Чаплинский. — Значит, имел место преступный умысел на священную особу государя императора? Что воспрепятствовало исполнению сего ужасного злодеяния?» Богров ответил, что не считал себя в праве совершить поступок, который мог бы навлечь на его соотечественников погром и вызвать дальнейшее стеснение их прав. «Немедленно занесите в протокол, что Мордку Гершкова Богрова остановил страх перед погромом», — распорядился прокурор судебной палаты. «Нет, нет! Я не подпишу, — замахал руками Богров. — Еще не хватало, чтобы правительство удерживало евреев от террористических актов угрозой погромов». — «Тем более занесите в протокол», — настаивал Чаплинский.
Возвращаясь после допроса, Фененко увидел толпу человек в полтораста во главе с Голубевым. Рядом со студентом семенил старик с внешностью библейского патриарха и трехцветной национальной лентой через плечо. Он горячо толковал своему спутнику: «Сейчас ничего нельзя предпринимать, чтобы не оскорбить царя-батюшку. А вот как государь отбудет из Киева, тогда с жидами надо будет поквитаться по-нашему, по-русски!» Вечером судебный следователь узнал, что между черносотенцами и полицией произошла стычка около памятника святой Ольге. Толпу рассеяли, нескольких агитаторов, в их числе Голубева, задержали. Помощник пристава, встреченный следователем в коридоре окружного суда, возмущался тем, что студент чуть не свернул ему шею двойным нельсоном и, тем не менее, через час был освобожден. «Вот пащенок! И ведь остался безнаказанным! Нет, так мы дождемся погрома почище, чем в пятом году!»
К счастью, полицейский чин ошибся. Столкновение у памятника святой Ольги было единственной попыткой нарушить порядок. Торжества шли своим чередом в строгом соответствии с программой, а Столыпин, как поначалу представлялось, благополучно пережил очередное одиннадцатое покушение. Операция по извлечению пули прошла успешно, газеты сообщали, что министр весел и шутит. И вдруг, буквально за несколько часов, в состоянии раненого произошел резкий перелом к худшему. Собрался экстренный консилиум, признавший положение безнадежным. Столыпин впал в забытье и вечером 5 сентября 1911 года скончался.
Хоронили Столыпина серым пасмурным утром в Печерской лавре. Чины судебного ведомства выстроились у самых дверей Трапезной церкви, где проходила заупокойная литургия. Из церкви под колокольный звон вышел митрополит с духовенством, а за ними вынесли гроб, сопровождаемый сановниками в траурных одеяниях. На лице генерал-губернатора Трепова читалось плохо скрытое недоумение. И такая же растерянность была на лицах министров и депутатов Государственной думы, шедших за гробом. Многие примчались на похороны из Петербурга и уже здесь узнали, что царь отбыл на отдых в Ливадию, не пожелав задержаться на один день, чтобы проводить в последний путь верного слугу.
Хор Миргородского полка грянул: «Коль славен наш Господь в Сионе», и под эти слова гроб с телом Столыпина предали земле рядом с могилами полковника Искры и генерального писаря Кочубея, казненных по навету изменника Мазепы. Сразу после погребения состоялось заседание военно-окружного суда. Генерал-губернатор, губернатор, министр юстиции, прокурор судебной палаты явились в Косой Капонир прямо с похорон с траурными повязками на рукавах. Фененко сидел во втором ряду непосредственно за Щегловитовым и Чаплинским. Все происходило буднично и быстро. Конвой привел Богрова, вошел военный прокурор генерал-лейтенант Костенко, появились судьи: три подполковника, полковник и председательствующий генерал-майор Ренгартен. Адвоката не было, поскольку подсудимый заявил, что будет защищать себя сам.
Секретарь военно-окружного суда скороговоркой зачитал обвинительный акт. Богров обвинялся в том, что он, вступив членом в преступное сообщество анархистов-коммунистов, лишил жизни председателя Совета министров статс-секретаря Столыпина. Когда чтение обвинительного акта закончилось и подсудимый начал отвечать на вопросы военного прокурора, Фененко чуть не подпрыгнул на стуле. Богров излагал дело совершенно иначе, чем на допросе. Следователю он говорил, что совершил террористический акт добровольно, сейчас же уверял судей, что был принужден к покушению своими товарищами по анархистскому подполью, заподозрившими его в связях с охранкой.
Богров объяснял, что ему долго удавалось отвести от себя обвинения, однако в середине августа к нему на квартиру явился представитель парижской группы «Буревестник» товарищ Степа, который заявил, что его провокация безусловно и окончательно установлена и решено о всех собранных фактах довести до сведения общества. Степа сказал Богрову, что единственным способом себя реабилитировать является убийство начальника киевского охранного отделения Кулябко.
Военные судьи, посовещавшись, вызвали начальника киевского охранного отделения. Кулябко робко вошел в камеру и застыл, вытянув руки по швам. Сейчас подполковник, испуганный и растерянный, никак не походил на самоуверенного лоснящегося жандарма, которым недавно арестовывал бедного Бейлиса. Военный прокурор спросил, почему подполковник нарушил «Инструкцию об охране высочайших особ», категорически запрещавшую использовать секретных осведомителей для охраны государя императора? Кулябко удрученно промямлил в ответ: «Виноват-с… Впрочем, без агентуры затруднительно-с… Мы… того… хотели как лучше…»
Богров, попросив у судьи разрешение воспользоваться правами защитника, обратился к начальнику охранного отделения: «Николай Николаевич, не изволите ли припомнить, как я приехал к вам домой поздно ночью перед покушением? Так вот: я должен был убить вас по заданию Степы. Браунинг с восьмью пулями лежал в моем кармане. Но вы уже легли спать, вас пришлось будить, вы вышли без мундира, радушно со мной поговорили, и у меня не поднялась рука стрелять в беззащитного человека, хотя при данной обстановке были все шансы скрыться после покушения». — «Спасибо, голубчик», — совсем растерявшись, поблагодарил Кулябко.
Свою защитную речь Богров построил на том, что не отдавал отчета в собственных поступках: «Я вовсе не собирался убивать премьер-министра. Остановил я свой выбор на Столыпине, так как он был центром общего внимания. Когда я шел по проходу, то если кто-нибудь догадался спросить меня, что мне угодно, то я бы ушел. Но никто меня не удержал и я выстрелил два раза».
Когда суд удалился на совещание, несколько чинов судебного ведомства вышли покурить на винтовую лестницу. Они вполголоса обсуждали услышанное. «Врет он все насчет Кулябко, — убежденно говорил один из судейских. — Начальник охранного отделения не того полета птица, чтобы ради его убийства устраивать такую механику». Впрочем, курильщики даже не успели толком обменяться впечатлениями, как секретарь возвестил, что суд возвращается в зал. «Однако-с! — изумился кто-то, щелкая крышкой золотых часов. — Военная юстиция славится скорострельностью, но сегодня просто из ряда вон! Заседание открылось в четыре пополудни, а в половине десятого готов приговор. Десять против одного, что столыпинский галстук».
Приговор был кратким. Мордка Гершков Богров, именующий себя Дмитрием Григорьевичем, 24 лет, помощник присяжного поверенного, вероисповедания иудейского, был признан виновным по всем пунктам обвинительного акта и приговорен к смертной казни через повешение. «Вам все понятно?» — обратился к приговоренному генерал Рентгартен. «Могу ли я подать жалобу?» — спросил Богров. «Приговор военно-окружного суда обжалованию не подлежит». — «Я не о том. Меня отвратительно кормят, дают какую-то баланду. Этак я окончательно испорчу себе пищеварение». Военный судья, оторопело глядя на человека, которому осталось жить 48 часов, пообещал: «Я распоряжусь улучшить ваш стол».
За спиной Фененко раздался грохот, заставивший его обернуться. Гладкошерстная черная кошка опрокинула канделябр. Из-за портьер уже пробивался мутный рассвет. Фененко не решился взять за шкирку глупое животное. Ляле эта шкодливая кисуля-чернуля, как она жеманно выговаривала, была дороже мужа и любовника, вместе взятых. Следователь шикнул, и черная кошка гордо удалилась. В доме тепло и сухо, а на улице непролазная ноябрьская слякоть и сырость. Не ходить бы никуда, проваляться до обеда в постели вместе с Лялей, поласкать ее, горячую и сонную, отнести на руках в ванную, выкупать, как купают няни малых детей в ванночке, а потом смотреть на то, как она священнодействует с притираньями и духами. Но об этом нечего и мечтать.
По правде сказать, еще вчера нужно было произвести осмотр кирпичного завода. Делалось это по распоряжению прокурора палаты, которого все тот же вездесущий студент Голубев уверил, что в конюшне, в помещении шорной мастерской, хранятся швайки, которыми якобы искололи Андрея Ющинского. Но пока составлялось официальное предписание произвести обыск, Ляля прислала записочку, что Лашкарев уезжает на два дня, и они могут встретиться у нее дома. После этого Фененко, разумеется, отложил обыск, тем более что Ляля попросила заехать на Бессарабку купить хороших фруктов. Следователь ограничился тем, что послал письмоводителя опечатать помещение с инструментами и телефонировал управляющему заводом Хаиму Дубовику, что завтра он произведет обыск в конюшне и просит подготовить понятых, чтобы не терять зря время. Дубовик выразил готовность оказать полнейшее содействие судебному дознанию, не преминув вставить, что в шорной мастерской ничего нет. Фененко сказал, что он прекрасно знает, что глупо искать на заводе, но от него, увы, мало что зависит. Дубовик заверил, что осведомлен о непричастности господина судебного следователя к ложному навету. Почтенный интеллигентный еврей!
Тихо одевшись, следователь вышел в коридор. Молодая заспанная горничная в халатике, второпях наброшенном прямо на голое тело, подала ему калоши.
— Когда возвращается барин? — спросил Фененко.
— Обещали непременно быть послезавтра.
— Вечером я опять загляну, — он шутливо потрепал горничную пониже спины. — Привезу барыне в подарок пеньюар, а старый попрошу отдать тебе.
— Розовый? Как же, барыня подарит! Зря провисит в шкапу, хоть он давно ей тесен в грудях, — съязвила горничная. — Да ну вас! — увернулась она от его руки, но не слишком быстро.
Фененко вышел на Банковую улицу. В синих сумерках дом за его спиной казался ночным кошмаром. Стены заполонили земные и морские чудовища: из слоновьих хоботов текла дождевая вода, тупые носорожьи морды нависли над колонами, в чьих каннелюрах притаились ящерицы и змеи. Под карнизами прятались мартышки, на крыше сидели рядком раздувшиеся жабы, которые составляли компанию наядам, забравшимся на спины усатых полурыб-полудельфинов. Про этот дом в Киеве ходили легенды. Рассказывали, что архитектор Городецкий якобы увековечил в сказочных фигурах память о своей дочери, утонувшей во время морского путешествия. На самом деле дочь архитектора была жива и здорова, а Городецкий взялся за этот проект, поскольку ему почти даром достался участок земли в самом центре города. Участок был неудобным для застройки: на обрывистом берегу Козьего болота, теперь уже осушенного и застроенного. Коллеги по архитектурному ремеслу уверяли, что на обрыве нельзя возвести дом, но Городецкий заключил с ними пари и выиграл. К тому же ему повезло заключить выгодный контракт с иностранной фирмой, торгующей цементом. Фирма была заинтересована в рекламе своей продукции, и архитектор покрыл фасад множеством скульптур и барельефов, чтобы показать удивительные возможности нового строительного материала. Экзотические животные были выбраны Городецким потому, что он являлся страстным охотником и ездил в Африку стрелять слонов и носорогов.
Доходный дом на Банковой улице строился с расчетом на богатых жильцов. Все квартиры были барскими, в цокольном этаже располагался гараж, хозяйственные службы и даже коровник, чтобы жильцы каждое утро имели возможность пить парное молоко. Арендная плата начиналась от двух тысяч рублей в год. Однако с коммерческой точки зрения затея оказалась провальной. Киевляне толпами ходили поглазеть на вычурный дом, но жить в бетонном зверинце никто не хотел. Была занята только одна квартира, самого архитектора. Между тем поездки в Африку и другие дорогостоящие увлечения подорвали его благосостояние. Находясь на краю банкротства, он был вынужден понизить арендную плату, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Ляля, обожавшая все оригинальное и экстравагантное, прельстилась возможностью переехать в дом, о котором судачил весь Киев. По правде сказать, даже пониженная плата была не по карману товарищу прокурора окружного суда, но Фененко решил помочь друзьям. Ляля Лашкарева была в восторге, но сам следователь ни за что бы не выбрал такой пугающий дом.
Мимо Фененко промчалась коляска-эгоистка, рассчитанная на одного седока. Раздалось громкое «Тпру-у!», и кровный жеребец, осаженный сильной рукой, замедлил свой бег и остановился шагах в двадцати впереди следователя. Жандармский подполковник Иванов ловко соскочил с высокого сиденья и предстал перед следователем во всей красе — высокий, статный, в наброшенной на широкие плечи шинели с голубым отливом. Следователь смущенно кашлянул:
— Я того… заглянул на Банковую к товарищу прокурора… а он, оказывается, уехал по округу.
— Жаль, не застали! — посочувствовал подполковник с такой непроницаемой миной, как будто не знал подноготную своих соседей.
— Как дела на службе? Внутренние враги не дремлют? — с тонкой иронией осведомился судебный следователь.
— Внутренние враги могут спокойно заниматься революционной пропагандой, — подполковник безнадежно манул рукой в белой перчатке. — Нам сейчас не до них. Отдуваемся за дела, которые натворил Кулябко со своими дуболомами из охранного.
Неприязнь между охранными отделениями и губернскими жандармскими управлениями стала традицией. Принадлежа к одному ведомству, они, тем не менее, подсиживали друг дружку, стараясь выставить собственные заслуги и опорочить конкурента. В Киеве ситуация усугублялось тем, что киевское охранное отделение являлось районным, то есть осуществляло руководство политическим сыском во всем Юго-Западном крае. Таким образом, перед подполковником Кулябко вынуждены были отчитываться жандармские генералы, возглавлявшие губернские управления. Вдобавок Кулябко, служивший штабс-капитаном в пехотном полку, был сравнительно недавно переведен в корпус жандармов и получил высокий чин вне всякого порядка чинопроизводства. Кадровые жандармские офицеры ненавидели выскочку, сделавшего карьеру благодаря протекции своего шурина Спиридовича, близкого к двум могущественным лицам — дворцовому коменданту и командиру корпуса жандармов.
Очевидно, у подполковника Иванова давно наболело. Держа под уздцы горячего рысака, он с горечью живописал подвиги провинившегося начальника охранного отделения:
— Кулябко не владел азами розыскного дела, занятий с подчиненными не проводил, с литературой не знакомился. Охранным отделением заправлял старший филер Демидюк, неразвитый хохол. В прошлом году приезжал с инспекций дежурный генерал корпуса жандармов Герасимов. Экзаменует Демидюка: «Что есть анархия?» Тот хлопает своими буркалами: «Не могу знать, ваше превосходительство». Генерал как рявкнет: «Пшел вон, болван!»
По словам Иванова, серьезной агентуры у охранного отделения не было, хотя жалование агентам выплачивалось исправно. Надо полагать, осведомители этих денег и в глаза не видели, зато Кулябко весело жил и хорошо ублажал своих гостей из Петербурга. Деньги на увеселения проводились по статье расходов на агентов-штучников, причем подполковник даже не позаботился это скрыть. Ревизия расходных ведомостей обнаружила подставных агентов под красноречивыми псевдонимами «Пивной», «Водочный» и «Ликерный». Департамент полиции многократно указывал на совершенно неудовлетворительную постановку сыскного дела в киевском охранном отделении. Однако Кулябко, имевший влиятельных покровителей, смеялся над циркулярами департамента. После киевских торжеств ему были обещаны повышение и перевод в Петербург.
Неудивительно, что Богров легко обманул такого начальника охранного отделения. Кулябко даже не задумался, с чего это вдруг богатый наследник польстился на жалование платного осведомителя? Ходили слухи, что он крупно проигрался в клубе. Но начальник охранного отделения должен был понимать, что у его осведомителя имелось множество возможностей покрыть карточные долги. Отец Богрова часто уезжал по делам и оставлял сыну доверенность на управление колоссальным доходным домом на Бибиковском бульваре. Через руки Богрова шли тысячи рублей. Наконец, была проторенная дорожка к ростовщикам. Богатому наследнику любой ссудил бы под вексель. Вот над какими вопросами полагалось задуматься опытному жандарму, но Кулябко не задавал себе подобных вопросов.
— Не знаю, что побудило Дмитрия Богрова взяться за малопочтенное ремесло платного осведомителя, однако вы не будете отрицать, что он провалил многих товарищей, — заметил Фененко.
— Я не могу разглашать секретные сведения, но поверьте, что он сдавал мелкую рыбешку и скорее всего с той целью, чтобы втереться в доверие охранному отделению.
— Ну, этого мы никогда не узнаем. Был бы Богров жив, тогда возможно. Но он повешен и концы в воду, — вздохнул Фененко.
— Счастливо, Василий Иванович, — попрощался подполковник. — К сожалению, не могу пригласить в свою эгоистку. Впрочем, ваш трамвай подъезжает. Вы ведь на Лукьяновку? Кстати, я веду параллельное дознание по делу Ющинского. Мне кажется, господин прокурор судебной палаты перебарщивает в своем увлечении ритуальной версией. Любым способом пытается раздобыть улики против Бейлиса.
Когда трамвай тронулся и высокая фигура подполковника осталась далеко позади, следователь подумал, что даже жандарм осуждает недобросовестность Чаплинского. С другой стороны, жандарм есть жандарм. Тоже мне, светлая личность в голубом мундире! Ищет заговорщиков среди революционеров, игнорируя пророческие слова Столыпина: «Меня убьют чины охраны!» Придворная камарилья тоже точила зуб на министра. Рассказывают, что после покушения Распутин на радостях глушил мадеру в саду Тиволи, а иеромонах Илиодор устроил благодарственный молебен в Царицыне. Императрица, как передавали, сказала Коковцову, что не стоит особенно жалеть о погибшем, так как Столыпин давно сыграл свою роль и должен был сойти со сцены.
Подполковник Иванов ругает охранное отделение. Но разве в губернском жандармском управлении иные порядки? Разумеется, нет! И в Киеве, и в Москве, и в Петербурге — по всем городам и уездам сидят свои кулябки. Пока их служба прикрыта ореолом государственной тайны, они представляются какими-то особенными, всевидящими и всезнающими людьми. Но стоит приподняться краешку завесы, как выясняется, что они самые обыкновенные корыстные и глупые чинуши, ничего не знающие и ничего не умеющие.
Трамвай повернул с Глубочицкой на Мстиславскую улицу. Здесь следователь вышел и, увязая калошами в жидкой грязи, поднялся по Татарской на Верхне-Юрковскую. У водокачки его обогнала пожарная телега.
— Василий Иванович!
Фененко недоуменно покрутил головой и увидел, что на телеге около бочки с водой сидит его письмоводитель.
— Василий Иванович! Я попросил пожарных подбросить меня до трамвайной линии. Хотел за вами к Лашкаревым заехать. Все сгорело!
— Вы о чем? Что сгорело?
— Конюшня, где была шорная мастерская.
— Позвольте! — оторопел следователь. — Вы опечатали мастерскую?
— Вчера вечером опечатал, а ночью все сгорело.
Предчувствуя беду, Фененко быстро зашагал к заводу. На месте конюшни чернело пепелище. Здание выгорело дотла, уцелел лишь потрескавшийся кирпичный фундамент, засыпанный кучей головешек, и обуглившийся накренившийся простенок в дальнем конце. По пожарищу бродили несколько человек и среди них горестно причитавший Хаим Дубовик.
— Какие убытки! Зайцевы рассчитают старика! Кому я буду нужен, куда пойду!
— Господин Дубовик, я не понимаю… — обратился к управляющему Фененко. — Вы ставите меня в невозможное положение!
— Всемогущий Иегова обрушил гнев свой на наши грешные головы! Наказаны мы за гордыню и непослушание, усердней надо было молиться и исполнять предписания Талмуда! Чего и ждать было нам, полугоям, херемникам, если евреи, презрев Талмуд, едят трефное, не носят талеса, не надевают тефелины во время молитвы и, страшно сказать, плюют на день субботний — священный шабаш.
— Погодите, господин Дубовик! Я спрашиваю, отчего произошел пожар?
Однако, управляющий не отвечал. Он закатывал глаза, рвал на себе пейсы и раскачивался в разные стороны.
— Виновны мы, были вероломны, лицемерили, свернули с праведного пути, намеренно творили зло, упорствовали в грехе!
Теперь, когда Дубовик явно притворялся, будто не слышит обращенных к нему слов, он уже не казался следователю почтенным интеллигентным евреем. Фененко захлестнула волна неприязни. «Ах ты старый ж…» — выбранился он и тут же прикусил язык, устыдившись даже мысленно употребить запретное слово.
Письмоводитель подвел мужика с грязными разводами на закопченном лице, конюха Быховца.
— С чего начался пожар? — спросил следователь.
— Не можу знати… Ночью прибегает до мени хлопец Менделя. «Ратуйте! Ратуйте! Пожар!» Дивлюсь — у них над крышей огонь…
— Вы имеете в виду сына Бейлиса?
После ареста Бейлиса его семья переехала в помещение конюшни за стенкой от шорной мастерской. Фененко как-то поинтересовался, не мешают ли ей лошади. Эстер Бейлис вздохнула, что ей жутко без мужа в их лачуге на Горе. Уж лучше жить в конюшне.
— Где находилась жена Бейлиса во время пожара?
— Я не бачив, — шмыгнул носом конюх. — Мы рятували коней…
— Значит, лошадей спасли?
— Сбрую теж.
— И лошадей, и сбрую, и все ценное, кроме самого здания, — иронизировал письмоводитель. — Видать, конюшня была хорошо застрахована!
— Спытайте у агента от огня, — конюх показал на молодого человека, понуро бродившего по пепелищу.
Страховой агент только скривился на вопрос, не случился ли пожар от удара молнии или по иной естественной причине.
— Шо ви, панове! Якие сейчас грозы. Видно, кое-кто, — он покосился в сторону Дубовика, — произнес молитву «Благословен сотворивший огненные светила».
Молодой человек не скрывал досады и, крутя пуговицу на шинели следователя, начал многословно рассказывать о своей женитьбе. Благодарение Богу, он взял жену Ривочку из приличной семьи. После свадьбы тесть, согласно брачному контракту, содержал их три года. Однако пришла пора и самому зарабатывать. Пристроился в страховое общество, заключил два-три договора, и дело, казалось, пошло на лад. Страховой агент уже присмотрел Ривочке на зиму ботиночки на заячьем меху, чтобы у нее ножки не мерзли — и вот на тебе, пожар!
— Так, знаете ли, гешефт не делается… — шмыгал носом страховой агент. — Почему бы Хаиму меня не позвать, не предупредить… Дело общее, понимаю, но мне тоже свой интерес надо соблюсти… только я оперился…
— На что вы намекаете?
Страховой агент отошел от следователя, бормоча под нос, что ни на что он не намекает, а только сгорело все синим пламенем вместе с Ривочкиными ботинками.
— Осмотрим место пожара, — предложил письмоводитель.
— Оставьте… завтра или, вернее, послезавтра… мне плохо, я сейчас поеду к доктору за свидетельством.
Фененко чувствовал себя совершенно больным после бессонной ночи и несчастливого утра. Никогда он не был суеверным, но попадись сейчас Лялина черная кошка, так бы и пнул чертову тварь. В душе гнездилась горькая обида на Дубовика. Подвел и зачем? Вот этого Фененко, хоть убей, не мог понять. Ведь с момента убийства Ющинского миновало полгода. Даже если на секунду, на одну крошечную секунду, представить, что владельцам конюшни надо было что-то скрыть, они могли давным-давно сделать это. Не нужен был Дубовику пожар, совершенно не нужен! И, вместе с тем, любой самый неопытный кандидат на судебные должности скажет, что пожар накануне осмотра случайным быть не может. «Скорее всего жена Бейлиса до смерти перепугалась, что при обыске будут подброшены ложные улики. Что спрашивать с бедной, необразованной, измученной женщины? Да, да, в этом все дело!» — уговаривал себя следователь, но на сердце по-прежнему скребла черная кошка.
Глава шестнадцатая
28 ноября 1911 г.Владимир Голубев нажал на кнопку электрического звонка. Дверь в дом профессора Сикорского открылась, и прислуга впустила его внутрь. Войдя в прихожую, он увидел Игоря Сикорского, спускавшегося по лестнице с кипой чертежей.
— Добрый день, Володька! — приветствовал товарища Игорь. — А я уезжаю! В Петербург, в столицу!
— Насовсем? Жаль, редеют наши ряды! — огорчился Голубев.
— Что делать! Я хочу воплотить в жизнь мою мечту. Знаешь, в детстве мне снился один и тот же сон. Будто я иду по узкому, богато украшенному коридору. На обеих его сторонах отделанные орехом двери, похожие на двери кают парохода. Пол покрыт красивым ковром. Круглые электрические лампы на потолке светятся приятным голубоватым светом. И только по легкой вибрации пола я понимаю, что нахожусь в воздухе на огромном летающем корабле.
— Жюль Верна начитался.
— Вспомни, как я едва избежал гибели?
Несколько месяцев назад Игорь взлетел на аэроплане собственной конструкции с летного поля на Куреневке. Поначалу все шло хорошо, но внезапно отказал двигатель. Взлетное поле было уже далеко, и молодому Сикорскому пришлось искать место для посадки в городе. Он чудом сумел посадить аэроплан на тесный двор, окруженный каменным забором и постройками. Причиной остановки двигателя, как выяснилось впоследствии, было то, что в трубку, подводящую бензин, попал комар. Трубка эта оканчивается в моторе очень тонким отверстием, в котором и застряло насекомое.
— Я долго размышлял над этим случаем и, кажется, нашел средство избежать подобных неприятностей, — продолжал молодой Сикорский. — Вот гляди!
Сикорский развернул чертеж. Голубев увидел отлично выведенную черной тушью решетчатую конструкцию. Кажется, это было крыло летательной машины.
— Я плохо разбираюсь в чертежах, я же на юридическом, да и юрист из меня выйдет неважный. Мне бы в уланы, вот чего хочу! — признался Голубев.
— Нет, ты взгляни! Тут все просто и понятно, — требовательно повторял Сикорский, не знавший удержу, когда разговор заходил о воздухоплавании. — Это большой аэроплан, в четыре раза больше тех, что сейчас летают. Видишь, я начертил четыре мотора, расположенных в таком порядке, чтобы к ним можно было свободно подходить, осматривать, даже делать небольшие починки.
— Разве один человек сможет управиться с такой махиной? — засомневался Голубев.
— В точку, Володька, попал! Ухватил самую суть моей идеи! — радостно воскликнул Игорь. — Большой аэроплан сможет взять на борт экипаж из нескольких человек, между которыми будут распределены обязанности. Пилот будет сидеть за рулями машины, штурман — следить за картой и компасом, машинист — проверять работающие моторы и в случае нужды даже сделать мелкие починки. Если какой-нибудь из моторов остановится, аэроплан продолжит полет на других моторах, так как не может быть, чтобы во всех моторах сразу приключилась какая-нибудь беда.
— Ну, не знаю… — неуверенно протянул Голубев. — За границей таких аэропланов не строят.
— А кто тебе сказал, что мы, русские люди, обречены все время смотреть в рот иностранцам? Я учился полгода в Париже в технической школе Дювенье де Ланно. Уверяю тебя, что в киевском Политехническом науку изучают глубже. В Европе нет больших летательных машин, и в Америке у братьев Райт — тоже нет, а в России — непременно будут!
Энтузиазм товарища передался Владимиру Голубеву. «В самом деле, — думал он, любовно глядя на Игоря, сыпавшего цифрами и техническими терминами. — В самом деле! Отчего мы привыкли с таким недоверием относиться ко всему отечественному, родному. Вспомним слова великого полководца Суворова: „Быть русским — какой восторг!“ Игорь с его необычным талантом прославит Россию».
— Огромный аэроплан во всем будет подобен океанскому кораблю, — мечтал Игорь.
— Тогда он должен иметь имя, как настоящий корабль. Назови свой аэроплан «Русский богатырь», — предложил Голубев.
— А что, дельная мысль! — засмеялся Сикорский, аккуратно сворачивая чертеж летательной машины. — Ты чего зашел? Ко мне или к отцу?
— К Ивану Алексеевичу. Хочу подарить ему брошюру моего сочинения.
Голубев протянул младшему Сикорскому книжицу, озаглавленную «Отрок-мученик. Замученный жидами ученик Киево-Софийского училища Ющинский». Мысль поведать всему миру о ритуальном убийстве пришла в голову Голубеву после кошмарных сентябрьских дней, когда продажные власти не дали патриотам кровью искупить позор Киева. Прежде чем приступить к исполнению задуманного, студент сходил поклониться святым старцам Печерской лавры. Деяния святых отцов описывает Киево-Печерский Патерик, и особенно поучительно житие преподобного Евстратия.
Патерик свидетельствует, что преподобный был пленен половцами во время набега злочестивого хана Боняка. Половцы продали Евстратия в рабство одному жидовину, жившему в Корсунь. Окаянный жидовин распалился гневом на Евстратия и в светлый день Воскресенья Христова, пригвоздил его к кресту. Святой кротко отвечал своему мучителю: «Великой благодати сподобил меня днесь Господь, даровав мне милость пострадать за имя Его на кресте по образу и подобию Его». Услышав эти слова, жидовин схватил копье и прободал бок святого. И была видна огненная колесница и огненные кони, и они несли на небо ликующую душу мученика. Тело распятого было ввергнуто в море. Верные искали прилежно святых мощей и не нашли, но по усмотрению Божию произошло чудо, и мощи были обретены в Ближних пещерах, где доныне почивают нетленно.
Вступив под своды пещер, давших название Печерской лавре, Владимир двинулся по узкому подземному ходу. По бокам в нишах покоились мощи святых старцев в схимнических одеяниях. Студент остановился около медной дощечки, заказанной Императорским Русским историческим обществом. Здесь почивали мощи Нестора-летописца. Студент смотрел на высохшие коричневые персты — единственное, что открывалось взору богомольцев, — и с благоговением думал, что этими самыми пальцами была написана «Повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда русская земля стала есть». Голубев встал на колени и горячо помолился пред мощами летописца, прося наставить его и укрепить.
Дома, запершись у себя в комнате, студент писал на столе у окна, из которого были видны серебристые купола Андреевской церкви и далекие золотые маковки Печерской лавры. Каждое слово давалось Голубеву с громадным трудом, выходило или сухо и казенно, или слишком напыщенно. С отчаяния он даже подумывал бросить начатое, но потом, сжав зубы, твердо решил довершить житие отрока-мученика, который, как ему хотелось верить, со временем будет причислен к лику святых, наподобие умученного от жидов младенца Гавриила. Киевские патриоты уже возбудили ходатайство о построении часовни в память Андрея Ющинского и лелеяли надежду, что когда-нибудь на месте ритуального убийства воздвигнут храм в назидание всему православному народу.
Минута, когда Голубев, обогнув лязгавший печатный станок, увидел на столе у справщика готовую книжку со своей фамилией на обложке, была одной из счастливейших в его жизни. Он опасался, что младший Сикорский скажет что-нибудь насмешливое и обидное, но Игорь, пролистав брошюру, только заметил:
— Отец собирается выступить на суде в качестве эксперта. Сейчас пишет заключение.
— Иван Алексеевич не только ученый с мировым именем, но, что самое главное, мужественный и несгибаемый человек.
— Володя, прошу тебя и всех наших. Берегите отца! Его экспертиза вызвала ярость у всех ненавистников России. Он ничего не говорит домашним, но я знаю, что ему угрожают и оскорбляют в связи с этим делом. После моего отъезда он останется здесь один на один со сворой врагов.
— Он не один! Будь спокоен, Игорь! Мы не дадим в обиду профессора. Если понадобится, встанем вокруг него плечо к плечу.
Игорь обнял друга. Мгновение они постояли так, потом крепко пожали друг другу руки. Голубев оставил для профессора несколько экземпляров своего сочинения и покинул дом Сикорского. Он отправился на Галицкий базар, где в книжном ряду торговали его брошюрой. Опрос лотошников дал неутешительные результаты. «Отрока-мученика» никто не брал, хотя брошюра продавалась по самой умеренной цене. Лишь один торговец, переступавший за своим лотком в огромных калошах, куда для тепла была набита солома, сказал студенту:
— Сей минут один вертел в руках, но так и не купил. Вон он, — лотошник показал на низкорослого, худого малого в линялой поддевке.
Голубев догнал человека, на которого указал лотошник, и обратился к нему со словами:
— Вы смотрели книгу? Хотите, я вам её подарю? Я автор, почитайте, не пожалеете.
— Благодарствую! Занятная книжица! А все же вы о том деле мало розумеете. Мени спытайте. Я трохи знаком с Менделем, шо за байстрюка казенный харч лопает.
— Ты знаешь Менделя? Бейлиса? — Голубев во все глаза смотрел на низкорослого малого. — Где ты с ним познакомился?
— Шо, пан студент, послухать желаешь? Тильки у меня в горле пересохло. Угостишь? Добре! Пошукаем шинок.
Голубев последовал за малым вдоль базарного ряда, успев краем зрения заметить, как к лотошнику вразвалочку подошел коренастый мужчина в фуражке с латунным крабом и неестественно торчащими, словно прилепленными к самоварному лицу рыжими бакенбардами. Он был похож на лоцмана пароходства, перешедшего на шестимесячный зимний отдых с половинным жалованием, из тех, кого в Киеве в насмешку называли «днепровскими мореходами». Лоцман спросил о чем-то торговца. «Может, о моей книге? Вот что значит почин, так и будут разбирать», — радостно заключил студент.
Через пять минуту они вместе с новым знакомым входили в полуподвальную пивную. Посетителей почти не было, и только когда они устроились в одном из фанерных кабинетов, оклеенных розовыми обоями, в зал зашел лоцман, которого Голубев приметил у лотка. «Интересно, купил он книгу или нет?» — мельком подумал студент. Половой бухнул перед ними полштофа водки и сковороду с шкворчащей яичницей и задернул грязную занавеску.
— Ну, будем знакомы, — малый быстро разлил горилку по чаркам. — Козаченко моя фамилия, Иваном кличут, по пачпорту так значусь, — он подмигнул, лихо опрокинул чарку в рот, снова налил и снова опрокинул в рот, потом опять повторил. — Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой. Ты шо одну мусолишь, али не казак?
— Ты обещал рассказать о Менделе, — напомнил Владимир.
— Мендель? Шо тебе сказать, — Козаченко тыкал вилкой в яичницу. — Делили мы нары в Лукьяновской гостинице первого разряда, где на двадцать жоп одна параша. Його за байстрюка поимели, а мени шили грабеж, дескать, пытался дернуть рыжье с купчихи. Як же, сдернешь с неё цацки, с толстомясой! Такой хай подняла, мало не удушила своими ручищами! Короче, суд меня оправдал, установил полную мою невиновность. Як засветила мне воля, Мендель отозвал меня в сторонку и попросил передать ксиву его жинке или брату.
— Что там было в ксиве, в записке? Ну, рассказывай поскорей!
— Не понукай, не запряг ишо! В ксиве было сказано, шобы приняли меня як родного, бо я окажу им великую пользу. Мендель обещал, як передам ксиву, меня отведут на кирпичный завод к Хаиму-управителю, а тот даст из гошпиталя стрихнину, шобы обкормить двух фраеров. Кличут их Фонарщик и Лягушка, самый пустой народ на Лукьяновке, клепают на Менделя.
— Знаю, Фонарщик — это Казимир Шаховской, он заправляет фонари керосином, а Лягушкой кличут сапожника Наконечного.
— И всех-то ты знаешь. Слушай, — малый подозрительно прищурился. — Ты часом не переодетый легавый?
— Я Голубев, секретарь «Двуглавого орла», занимаюсь частным расследованием изуверного убийства.
— А-а! Мендель про тебя рассказывал. Не ссы, студент, на тебя стрихнину не положено, тильки для Фонарщика и Лягушки. Медель сказал, шобы я с ними покорешился, угостил горилкой и незаметно подсыпал им порошок, а потом шапку в руки и деру. Полтыщи посулил на одни тильки расходы, а як дило проверну, говорит, на заводе тебя озолотят, отсыпят богато грошей.
— И ты согласился? — спросил Голубев.
— Ты шо, паныч, — лицо Козаченко налилось гневом, он привстал и ударил себя кулаком в тощую грудь. — Али я неправославный? Рази стану я помогать жидам?
Он выкрикнул это с надрывом, так что кто-то из посетителей пивной подошел к кабинету, сунул любопытный нос за занавеску, поводил глазами из стороны в сторону и исчез. Козаченко, встревоженный чужим вниманием, понизил голос.
— Согласие я, конечно, дал, но тилько для одного виду. Як получил Менделеву ксиву, так моментом спровадил ее в жандармское. Ну, известно, там кинулись меня благодарить, руку жмут, приговаривают, шо ты, мол, патриот своего отечества. А можешь, спрашивают в жандармском, жизнью рискнуть, шобы вывести злодеев на чистую воду. Отнеси, просят, ксиву на завод, возьми яду, а как возьмешь — тут мы злодеев накроем. Я им отвечаю, шо Козаченко сукой никогда не был, однако раз такое дило, то по христианству обязан помочь властям. Отнес ксиву этому Хаиму, старому пню. Доложу я тебе — там на заводе т-а-а-кое творится…
Повисла длительная пауза. Голубев не выдержал.
— Почему же ты замолк? Что творится на заводе?
— Не можно сказать. То дело государственное, — важно изрек Козаченко, выскребывая остатки яичницы.
— Так ведь я же черносотенец. Мне можно рассказать обо всем.
— В жандармском строго-настрого велели держать язык за зубами.
— Хоть скажи, дали тебе яду или нет?
— Це дило треба разжувати. Хаим сказал, шо, може, подмажут свидетелей. Лягушка уже поддался, но с Фонарщиком покуда заминка. Сказал, что, може, треба будет тильки Фонарщику порошка насыпать. Однако плату обещал полную, як за двух. Они, хучь и жиды, а на такое дило грошей не жалеют.
— Послушай, — предложил Голубев. — Давай уговоримся, что обо всем, что происходит на заводе, ты будешь рассказывать мне. Я тебе заплачу, не сомневайся.
Студент вынул из кармана пять рублей и без колебания отдал их собеседнику. Тот ловко принял ассигнацию, неуловимым движением спрятал ее куда-то под одежду и спросил:
— А поболе не найдется? — и после того как Голубев отрицательно мотнул головой, укорил: — Ты с жидов пример бери, они дела еще не видят, а уже полтыщи сулят. Жди меня завтра у лотка, опять в пивную сводишь.
Оставшись в одиночестве, Владимир погрузился в размышления о только что услышанном. «Отравление! Знакомый почерк! — думал он. — Убирают одного за другим всех свидетелей. Сначала Женю Чеберяка, теперь собираются убрать фонарщика Шаховского».
— Пан студент, не угодно ли проехаться с нами в жандармское управление?
Голубев встрепенулся. В проеме, отдернув занавеску, стоял коренастый днепровский мореход.
— Не упрямьтесь, пан студент, убедительно вас прошу. Я филер.
Безмерно удивленный Голубев встал и проследовал за лоцманом. На улице лоцман тренькнул в свисток, и тотчас же из-за угла вывернула крытая коляска. Моряк распахнул дверцу и жестом пригласил студента забраться внутрь, а сам сел рядом.
— А мы с вами, паныч, встречались, когда Мордку вздернули. Не узнали? Или вас эта мочалка спутала? — засмеялся филер, отрывая от щек рыжие лоцманские бакенбарды и бросая их в фуражку.
Увидев его выбритое лицо, студент сразу же вспомнил, что действительно видел филера во время казни Митьки-буржуя. Скорый и беспощадный суд над террористом был с одобрением воспринят в монархических кругах. Однако тревожили слухи, что в последний момент тюремщиков подкупят и они подменят убийцу. Разговоры были до того упорными, что после конфирмации приговора киевские монархические организации обратились к генерал-губернатору с ходатайством разрешить их представителям присутствовать при казни террориста.
Поздно ночью за Голубевым заехал Розмитальский. «Нас ждут на Лысой Горе» — «Не вздумай ехать, Володя, — переполошился отец. — Присутствовать на казни — позор». — «Владимир Степанович — единственный из наших, кто знает убийцу в лицо, — настаивал Розмитальский. — Вдруг убийцу подменят». — «Батюшка, ведь и в самом деле могут подменить», — обратился Владимир к отцу. «Глупости! Впрочем, ты взрослый человек. Поступай как знаешь!» — профессор в сердцах хлопнул дверью.
Розмитальский уговорил студента, и в два часа ночи они были на Лысой Горе, где, как гласило старинное предание, собирались на шабаш ведьмы. Полицейский агент, тот самый, что сейчас сидел напротив Голубева, сверяясь со списком, проверил каждого из присутствующих, близко поднося к их лицам керосиновый фонарь. После долгого томительного ожидания послышался скрип колес. На свет факелов выехала черная карета и несколько открытых экипажей с полицмейстером, товарищем прокурора окружного суда и другими судебными чиновниками. Откуда-то из тьмы вышел врач, за ним казенный раввин Алешковский с лицом белым как мел. Дверца тюремной кареты распахнулась, из нее поддерживаемый за руки выпрыгнул Богров. «Он самый? Без обмана?» — наперебой спрашивали у Голубева члены монархической делегации.
Да, это был Митька-буржуй, собственной персоной, в разорванном фраке. «Извиняюсь, господа, за несвежий наряд, — насмешливо поклонился он черносотенцам. — Хотя мои коллеги, присяжные поверенные, позавидовали бы, что я десятый день не вылезаю из фрака». У Голубева пересохло в горле. Он ненавидел Митьку-буржуя, опозорившего Первую гимназию. Во время августейшего пребывания в Киеве государь император должен был осчастливить своим визитом Первую гимназию и объявить о ее преобразовании в лицей, но после злодейского покушения, совершенного бывшим воспитанником гимназии, об этом не могло быть и речи. За одно только это Митька был достоин четвертования. Однако сейчас, перед самой казнью, Голубеву вдруг захотелось убежать далеко-далеко от Лысой Горы. Раньше он и вообразить не мог, что пожалеет убийцу, а сейчас, стоя около виселицы и дрожа всем телом, думал, что самых жестоких преступников надо держать в подземелье, в рудниках, томить на каторжных работах, но не казнить. «На поле боя, когда враг лицом к лицу, сгоряча — да, я знаю, что смогу колоть штыком и стрелять. Но как можно вот так, по бумажкам, по инструкциям», — говорил он себе, с ужасом глядя на рыхлого Лашкарева, распоряжавшегося казнью.
Богрова подвели к помосту. Секретарь военно-окружного суда зачитал длинный приговор. Наконец, прозвучали слова «через повешение». Секретарь суда сложил бумажки, отступил назад. «Э… — обратился к приговоренному товарищ прокурора Лашкарев, — вы по-прежнему отказываетесь от духовного напутствия?» — «Я хочу побеседовать с раввином наедине без посторонних». — «Еще чего»! — нервно выкрикнули из группы черносотенцев. «Это недопустимо», — сказал Лашкарев. «Тогда я отказываюсь. Можете приступать».
Богров самостоятельно взошел на помост, остановился на краю. Палач Юшков быстро связал ему руки, накинул на голову белый саван, приладил сверху петлю. Голубев видел, как Митька почесал носком лакированного ботинка другую ногу, и от этого последнего движения приготовленного для удавления тела стало особенно жутко. Лашкарев тихо скомандовал: «Э-э… однако… чего вы возитесь… приступайте». Раздался стук выбитой из-под ног доски. Голубев отвернулся, чтобы не видеть заплясавшего в воздухе белого кокона. Несколько спустя голос Лашкарева произнес: «По инструкции требуется выждать четверть часа. Господин лекарь, не угодно ли?» — «Mortus!» — засвидетельствовать факт смерти тюремный врач. Один из судебных чиновников подошел к делегации монархистов: «Господа, все кончено, прошу вас покинуть место казни…»
— Вот и приехали, — сказал филер, вылезая из пролетки.
Они прошли вдоль классического фасада губернского жандармского управления, обогнули глухую торцевую стену и вошли в угловой подъезд под высокой, наподобие каланчи, башенкой. В конце коридора филер постучал в дверь и, получив разрешение, поманил Голубева. На краю письменного стола сидел подполковник Иванов, закинув ногу на ногу, а перед ним стоял малый, с которым Голубев беседовал в шинке. Завидев вошедших, он усердно замигал студенту.
— Цыц! — прикрикнул на него подполковник и, продолжая покачивать ногой, взял со стола брошюру. — Ваша книжица, господин студент?
— Моя, а в чем, собственно, дело? — спросил Голубев.
— Здесь вопросы задаю я, — оборвал его жандарм. — Как ваша брошюра попала к нему? — подполковник кивнул в сторону Козаченко.
— Я ему подарил.
— Подтверждаешь? — подполковник вопросительно глянул на филера.
— Точно так, ваше высокобродие. Паныч дал ему книжку на базаре. Разрешите побачить, — филер вынул из кармана тетрадку в осьмушку листа, зачитал. — В три с четвертью «Арестант» подошел к «Долговязому». Это они-с, — он ткнул огрызком карандаша в Голубева. — «Долговязый» взял у лотошника брошюру без переплета, отдал «Арестанту». Опросом лотошника установлено название: «Окорок мученный», господина Голубева сочинение.
— «Отрок-мученик», идиот! — скривился студент.
— Так лотошник сказал. Должно, пошутковал, то-то зубы скалил. «Арестант» с «Долговязым» направились в пивную на Еврейском базаре, заказали полштофа и закуску. Разговаривали тихим манером, один раз «Арестант» громко крикнул. У половине пятого «Арестант» вышел из пивной, на улице был передан в сопровождение номеру четвертому. Номер третий остался наблюдать «Долговязого».
— Ну, — повернулся Иванов к арестанту. — Ты мне что плел?! Сказал, что книжку тебе дали на заводе, что Аарон Бейлис дал.
— Тож другая книжица была, вы меня, вашвысокоблагородь, не так поняли, ей-ей, другая книжица, — забожился Козаченко.
— Опять, мерзавец, за свое! Я тебя отучу лгать!
Иванов развернулся, и тщедушный арестант отлетел к стене. «Отменный удар! Немного размашисто, не по-боксерски, но хлестко», — оценил студент. Козаченко, размазывая кровь по щеке, бухнулся на колени и заканючил:
— Виноват, вашвысокоблагородь, приврал маненько. Помилуйте!
Красный от гнева Иванов рявкнул:
— Ты, верно, и насчет Бейлисовой записки говорил такую же правду? Я тебя назад в тюрьму отправлю. Молодой человек, — обратился он к студенту, — убедительно вас прошу не вмешиваться в следствие. Это занятие не для дилетантов.
Покидая здание на Львовской, Голубев ворчал себе под нос: «Занятие не для дилетантов! Помнится, Кулябко тоже давал советы и пыжился, да только Митьку-буржуя прошляпил. Нет уж! Именно буду участвовать в расследовании, чтобы эти специалисты опять кого-нибудь не проворонили». История с жандармским управлением казалась ему совершенно непонятной, и он решил посоветоваться с прокурором судебной палаты. Прошли те времена, когда он видел в Чаплинском главного врага. Сейчас прокурор был союзником патриотов по ритуальной версии, и от прежней вражды не осталось и следа, хотя о настоящей дружбе с ляхом, конечно, говорить не приходилось.
В приемной прокурора ожидали аудиенции несколько важных посетителей. Они покосились на юношу с легким недоумением, но по-настоящему были изумлены, когда дежурный чиновник нырнул в начальственный кабинет и по выходе из него пригласил студента. В кабинете Чаплинский протянул ему для пожатия руку и спросил, чем может служить. Студент быстро рассказал о человеке, встреченном им на базаре, и о том, как его увезли в жандармское управление, закончив повествование вопросом:
— Что сей сон значит?
— Не имею права знакомить с материалами дознания кого-либо из посторонних. Ну да ладно! — Чаплинский подошел к несгораемому шкафу, позвенел ключами и с усилием открыл толстую, вершков в пять дверь, пояснив: — Все документы держу у себя, никому не доверяю. Так вот, Козаченко обвинялся в совершении грабежа с применением насилия, но по суду был оправдан. При освобождении тюремный надзиратель обыскал его и нашел зашитую в одежде записку Бейлиса следующего содержания: «Дорогая жена, человека, который отдаст тебе эту записку, прими как своего…». Далее неважно, пустые жалобы на то, что о его судьбе никто якобы не хлопочет. Любопытная фраза о посланце: «Если этот человек попросит у тебя денег, ты ему дай на расход, который нужен будет». Писано по-русски, довольно грамотно, изрядным, почти каллиграфическим почерком, конечно, не рукой приказчика. Это ему, как выяснилось, за тридцать копеек накатал тюремный грамотей из дворян, проходящий по делу о подлоге. Чтобы записка не вызвала подозрений у жены и брата, Бейлис собственноручно сделал приписку. Извольте глянуть.
Прокурор показал Голубеву снятый на фотографическую карточку текст, отметив фразу, написанную корявыми буквами: «Я Мендель Бейлис не беспокойся на этот человек можно надеичи так как и сам».
— Значит, Козаченко мне правду говорил, — сделал вывод студент. — Деньги, о которых идет речь в записке, без сомнения предназначались для отравления.
— Арестант так все и объяснил. Подполковник Иванов установил за ним неотступное секретное наблюдение в целях перекрестной проверки достоверности сообщаемых им сведений. Филеры проследили, что Козаченко действительно отнес записку на завод. А вот какой ответ ему дали, этого установить не удалось. Сам Козаченко уверял, что на заводе к нему отнеслись с безусловным доверием и со дня на день обещали снабдить ядом. Пока же он в основном проводил время на базаре и вытягивал у жандармского управления разные суммы, поначалу мелкие, а потом стал требовать все больше и больше. Наконец, сегодняшняя история! Подполковник Иванов уже телефонировал мне и сообщил, что не верит в правдивость осведомителя. Кстати, как вам показался этот Козаченко?
— Подонок, конечно, — пожал плечами Голубев, — но ведь для таких дел и нужны подонки.
— Вот-вот! Я тут ознакомился с некоторыми ритуальными делами прошлых десятилетий и вывел одну любопытную закономерность. Всякий раз подручными ритуалистов выступали отбросы общества. До чего тонко придумано! Если такой подручный попадался и давал изобличающие показания, евреи заявляли, что отпетому жулику нельзя верить. Так было в Саратовском деле. Слышали о нем?
— Слышал, но не знаю подробностей.
— Тогда послушайте.
Зимой 1852 года в Саратове один за другим исчезли два мальчика: сын цехового Феофан Шерстобитов, десяти лет, и сын государственного крестьянина Михаил Маслов, одиннадцати лет. Родители сбились с ног, разыскивая детей, но чины градской полиции не хотели шевельнуть пальцем. В участке попросту отмахнулись от цехового: «Сын твой, верно, убежал из дома бродяжничать, потому что он у тебя шалун». Наверное, судьба детей навсегда осталась бы неизвестной, если бы весной, когда вскрылся лед, на волжском берегу не было найдено сначала тело Маслова, а потом тело Шерстобитова. Вскрытие показало, что одного из детей убили ударом по голове, а другого удавили солдатскими подтяжками. Оба мальчика перед смертью были подвергнуты обрезанию.
Возникло подозрение на солдат местного батальона, сплошь укомплектованного евреями из губерний черты оседлости. Следствие установило, что в этом батальоне существовали порядки, удивительные для николаевской эпохи, отличавшейся строгой дисциплиной. Солдаты иудейского вероисповедания спокойно отлучались с караула, неделями не ночевали в казарме, носили партикулярное платье и имели коммерческие занятия в городе. Задобренное взятками военное начальство и градская полиция покрывали их проступки. Впоследствии саратовский полицмейстер был отрешен от должности за систематическое противодействие следствию об убийстве детей, сокрытие улик и представление вышестоящему начальству заведомо ложных рапортов.
— Точь-в-точь Мищук и Красовский, — прошептал юноша.
— Да-с, ничто не ново под луной! Слава Богу, и в ту темную дореформенную эпоху были честные следователи. Кроме них, в работе следственной комиссии принял участие известный историк Николай Костомаров, отбывавший ссылку в Саратове, а позже следственную комиссию возглавил Гирс. Необычной энергии, искусству и неподкупности сих мужей обязано своим раскрытием одно из ужаснейших судебных дел уголовной летописи.
Первым важным успехом следствия стали показания, полученные от солдата Антона Богданова, человека с темным прошлым, вора и пропойцы, переменившего десяток занятий, даже побывавшего странствующим акробатом. Богданов согласился «раскрыть жидовское дело». Он показал, что был приглашен на тайное моление в дом Янкеля Юшкевичера, владевшего лучшей в городе меховой мастерской. В подвале дома Богданов застал нескольких сослуживцев иудейского вероисповедания, а также двух неизвестных ему мужчин в восточных одеяниях. Привели десятилетнего мальчика, судя по описанию, Феофана Шерстобитова. Старик Юшкевичер совершил над ним обрезание, а потом кричавшему от боли мальчику сделали надрезы на спине и шее и в завершении обряда умертвили. Тело обвязали солдатскими подтяжками, чтобы удобнее было нести, после чего за щедрую плату предложили Богданову вывезти труп на Волгу и спустить под лед.
— Я читал, что ритуалистам запрещено прикасаться к телу жертвы. Они всегда используют людей иной веры, — воскликнул студент.
— Да, это обычный прием. Надо полагать, изуверы были уверены в том, что солдат Богданов ради денег и водки готов на любые услуги. Но они не учли, что этот спившийся человек поленится долбить полынью и бросит тело мальчика в кустах на Беклемишевском острове против Саратова. Сделай он так, как ему велели ритуалисты, Волга навсегда унесла бы следы преступления в море.
Вскоре выяснились подробности смерти второго мальчика, Михаила Маслова, причем ниточка привела в тот же подвал меховой мастерской. Об этом после долгих колебаний и сомнений поведал саратовский чиновник Иван Крюгер. Он увлекался восточными языками и из любознательности решил изучить древнееврейский. На этой почве Крюгер познакомился с меховщиком Янкелем Юшкевичером и даже в шутку выразил готовность принять обрезание. Еврей воспринял его слова всерьез. Он много толковал с чиновником о иудейской вере, рассказывал, между прочим, что перед исходом евреев из Египта ангел умертвил всех первенцев египетских, и это стало символом искупления евреев из рабства. Ныне же, разъяснял Юшкевичер, еврейский народ, лишенный прав состояния и всеми гонимый, может найти выход из своего отчаянного положения только принесением в жертву первенцев из семей гоев, как это было в старину. Впоследствии чиновник Крюгер показал: «Этот монолог Янкеля, человека старого и больного, был мной принят за фантастический бред или за то, что он в горячности своей доходил до умоисступления или до сумасшествия».
Через некоторое время меховщик пригласил Крюгера присутствовать при обряде обрезания, дабы он убедился, что в этом обряде нет ничего страшного. Любознательный чиновник явился в указанный ему подвал. Привели мальчика (судя по описанию, Маслова), обрезали его и вдруг, к своему ужасу, Крюгер увидел, что из ребенка выпускают кровь и собирают её в таз. Проводивший эту церемонию Юшкевичер объяснил чиновнику: «Выпущенная кровь этого мальчика, как кровь жертвы, принесенной Богу, святая и употребляется в опресноки. Женщины могут пользоваться ею во время родов; слабые зрением — мазать ею глаза, и она не только помогает от этих, но и от всех других болезней».
Янкель Юшкевичер и его сообщники были арестованы. Следственная комиссия установила, что в Саратове была налажена оптовая добыча детской крови для ритуальных нужд. Очевидно, изуверы не случайно остановили свой выбор на волжском городе, расположенном за тысячу верст от черты оседлости, ибо в самой черте оседлости исчезновение детей сразу связали бы с евреями. Вероятно, Юшкевичер занимался ритуальными умерщвлениями свыше тридцати лет — с той самой поры, как он поселился в Саратове. Общее число замученных им детей осталось неизвестным, но выяснилось, что за жертвенной кровью приезжали даже из-за границы. Были арестованы два еврея, прибывших из Персии, — те самые мужчины в восточных одеяниях, которых солдат Богданов видел в подвале меховой мастерской. При обыске у них нашли книги с изображением человека, купающегося в крови младенцев. У самого Юшкевичера изъяли сборник папских булл и королевских указов, запрещавших обвинять евреев в пролитии детской крови с религиозными целями. Как замечал историк Костомаров, видно было, что собиратель приложил немалый труд, разыскивая эти документы и соединяя их вместе.
Но едва только следственная комиссия затронула вопрос о догмате крови, как встрепенулись евреи по всей России. Петербургский банкир Гинцбург и киевский негоциант Бродский бросились хлопотать за соплеменников. Найденные ритуальные книги они объявляли вполне невинными цензурными сочинениями; о свидетелях отзывались, как о темных, малограмотных людях. Когда им возражали, что Крюгер окончил курс в Казанском университете, они тотчас заявляли, что это ничего не значит, так как он глубоко порочная натура. В результате Правительствующий Сенат склонился к мысли освободить Юшкевичера и других евреев, оставив их в «сильном подозрении», доносчиков же примерно наказать: Богданова отправить на пятнадцать лет в сибирские рудники, а Крюгера лишить чинов и отдать бессрочно в солдаты.
— Изуверов на волю, а свидетелей в каторгу! — ахнул Голубев.
— Да, такой приговор был подготовлен и одобрен министром внутренних дел и министром юстиции. Иначе взглянул на дело военный министр генерал Сухозанет. Не вникая в юридические тонкости, генерал выразил недоумение: как это по закону получается, что совершившие убийство иудеи всего лишь оставляются в подозрении, тогда как уличающие их христиане должны быть подвергнуты суровому наказанию. Мнение старого служаки перевесило юридические хитросплетения, и члены Государственного совета постановили, что существование самого преступления (какие бы ни были побуждения к нему) вполне и закономерно доказано. Обвиняемых евреев приговорили к различным срокам каторги. Впрочем, впоследствии Юшкевичера помиловали по ходатайству Исаака Кремье, известного своим участием в Дамасском деле. Тем не менее, Саратовское дело является драгоценным перлом в короне русского правосудия. Пока это единственное дело, по которому ритуалисты были осуждены. Я вот думаю, не запросить ли документы Саратовского дела на наш процесс. Пусть их прочтут вслух для вразумления присяжных заседателей.
— Правильно!
— Так и сделаю. Только трудно приходится, — пожаловался прокурор, — натиск ведется вовсю. И хуже всего, что враги затаились в недрах судебного ведомства. Из-за более чем странной медлительности следователя Фененко сгорела конюшня, где, вероятно, хранились орудия преступления. Товарищ прокурора окружного суда Лашкарев откровенно держит руку евреев, да возьмите, наконец, подполковника Иванова. Казалось бы, жандармский офицер, а видите, как виляет — и нашим и вашим. Ну, ничего. Предки Чаплинских никогда не бежали с поля брани. Я доведу это дело до конца во что бы то ни стало.
Голубев встал во весь рост и звонко воскликнул:
— От имени всех патриотов разрешите выразить вам, Георгий Гаврилович, горячую благодарность за непреклонную защиту русских интересов в покуда еще, к счастью, не окончательно ожидовленном Юго-Западном крае.
Растроганный прокурор поклонился, прижал ладонь к левому боку и почти без акцента заверил:
— Пока не иссякнет в русских сердцах жажда правды, справедливости и любви к родине, объединяющей на всем необъятном пространстве нашего дорогого отечества всех верных ему сынов, дотоле нам не страшны никакие клеветы и нападки!
Глава семнадцатая
8 декабря 1911 г.Зима в Харькове выдалось многоснежной. Перед гостиницей «Эрмитаж» мостовую расчистили, а дальше среди сугробов была протоптана узкая тропинка, по которой шли женщина, чье лицо скрывала густая вуаль, и журналист Бразуль-Брушковский. Они свернули к «Гранд Отелю», лучшей харьковской гостинице. За стеклянной дверью открылся огромный вестибюль с убегающими вдаль ковровыми дорожками.
Бразуль-Брушковский, опустив воротник рыжего макинтоша, спросил о чем-то швейцара, тот подозвал коридорного и велел проводить господ в первый нумер. Перед дверью репортер шепнул женщине:
— Вера Владимировна, запомните. Важный господин, с которым я вас познакомлю, желает остаться инкогнито. Он является депутатом Государственной думы и представляет общество, заинтересованное в оправдании Бейлиса.
Послышался звук поворачивающегося ключа. Дверь медленно приоткрылась, и толстый палец, брызнув искрами бриллианта в пять каратов, поманил их внутрь. Они вошли в просторный номер, в котором обычно останавливались генералы, помещики и купцы первой гильдии. Тяжелые портьеры, отделявшие гостиную от спальни, были задернуты. Посреди комнаты стоял Арнольд Давидович Марголин, облаченный в домашнюю бархатную куртку. Руки он никому не подал, только молча сделал жест, разрешавший сесть.
Бразуль завел дружбу с Верой Чеберяк после террористического акта, унесшего жизнь Столыпина. Редакция «Киевской мысли» гудела пчелиным ульем. Бразуль был взбудоражен больше всех, ведь он, подумать только, разговаривал с убийцей министра за несколько дней до выстрелов в театре. Многие в редакции, знавшие о партийных симпатиях Бразуля, подходили к нему с интимными расспросами, не подпустили ли эсеры своего комара в это дельце? Бразуль сам спрашивал об этом киевских эсеров. Ему отвечали со ссылкой на петербургских партийцев, что Богров действительно приезжал в столицу и вел переговоры с литератором Егором Егоровичем Лазаревым, который, правда, от террора был далек, но имел связи в эсеровских кругах. Богров предлагал совершить покушение на Столыпина от имени партии. Прежде чем дать ответ, Лазарев навел у знакомых киевлян справки относительно личности обратившегося к нему молодого человека и получил не слишком благоприятные ответы, характеризовавшие Богрова как бывшего анархиста, заподозренного в связях с охранкой. Естественно, Богров не получил согласия эсеров и отбыл восвояси.
Помимо эсеров в числе организаторов покушения называли также эсдеков, хотя было известно, что социал-демократы предпочитают террактам более практичные экспроприации, пополнявшие партийную казну. Наверное, эсдеков приплели, потому что двоюродный брат убийцы Сергей Богров принадлежал к большевистскому крылу партии и был твердым приверженцем Ульянова-Ленина. Людям, мало-мальски разбиравшимся в делах революционного подполья, подобные слухи казались несерьезными. Однако для тех, кто не видел разницы межу анархистами и социал-демократами, любой вздор звучал убедительно. В редакции «Киевской мысли» потешались над генерал-губернатором Треповым, которому кто-то наплел, будто браунинг, фигурировавший в покушении, был вручен Богрову лично Троцким. Говорили даже, что это было сделано непосредственно перед покушением, хотя в тот день Троцкий заседал на международном социалистическом конгрессе в Йене.
Бразуль был уверен, что эсеры и тем более эсдеки ни при чем. Заказчиков покушения следовало искать среди придворной камарильи, действовавшей из карьеристских и корыстных побуждений. Он догадывался, что непосредственными организаторами, выполнявшими волю придворных кругов, являлись жандармские офицеры. Что касается запутавшегося осведомителя Богрова, то ему отводилась незавидная роль марионетки в чужих руках. Журналист решил на время отложить расследование убийства Ющинского и заняться заговором высших сфер, наглядно свидетельствующим о полном разложении царского режима. Однако, когда он сообщил о своем решении Марголину, тот воспротивился и даже позволил себе резко выразиться в том смысле, что Бразулю платят немалые деньги совсем не за то, чтобы он отвлекался на посторонние дела. Марголин настоятельно порекомендовал, чего уж там, не порекомендовал, а приказал полностью сосредоточиться на изобличении убийц Ющинского. По словам Марголина, некоторое время судебным властям будет не до ритуальной версии, следовательно, надо воспользоваться благоприятным моментом и взять за бока Веру Чеберяк. Хозяйка притона несомненно замешана в преступлении. «Постарайтесь войти к ней в доверие, пригласите в ресторан, дайте понять, что в средствах вы не стеснены и щедро отблагодарите её, когда она даст нужные сведения», — велел адвокат.
Бразуль так и поступил. Он водил Веру по увеселительным заведениям, а она благосклонно принимала его ухаживания, ела и пила за троих, но всякий раз умело уходила от расспросов. В конце концов Марголин, ежедневно выслушивавший доклады Бразуля, потерял терпение и предупредил, что времени не осталось, так как Чаплинский торопит с обвинительным актом, особенно после пожара конюшни, который почему-то считает преднамеренным. Марголин захотел лично встретиться с Верой Чеберяк, но поскольку ему, как защитнику Бейлиса, было запрещено вступать в переговоры со свидетелями обвинения, адвокат велел устроить свидание подальше от Киева. Так они оказались в Харькове.
— Хотите шампанского, — предложил Марголин. — Это такое шипучее вино.
— Я не из деревни, господин депутат, — обидчиво откликнулась Вера. — Какая ни на есть, а дворянка.
Бразуль, снимая с буфета серебряное ведерко со льдом, из которого торчало горлышко бутылки, восторженно прокомментировал:
— Шампанское не ланинское, а настоящее, французское.
— Угощалась и настоящим, — буркнула Вера.
Журналист хлопнул пробкой, разлил по бокалам холодный, пузырящийся нектар. Пригубив шампанское, Марголин, что называется, взял быка за рога.
— Ну-с, госпожа Чеберякова, у меня к вам выгодное предложение. Желаете получить тридцать тысяч?
— Кто же не пожелает? — озадаченно протянула Вера. — Только где взять такие деньжищи?
Марголин, снисходительно усмехнувшись, положил перед ней лист бумаги.
— Вот заявление на имя прокурора окружного суда, в коем вы признаете себя виновной в убийстве Андрея Ющинского и называете имена сообщников. Мы поможем вам скрыться и только после этого направим заявление прокурору.
— Чем заплатите, господин депутат?
— Выдадим надежные векселя.
— Векселя, так я и знала! Нет, я не согласная!
— Тридцать пять тысяч!
— Нет!
— Последнее слово — сорок тысяч!
— Не думала я, что наш сосед Мендель — якая важная птица. Недаром за него вступаются депутаты, гроши сулят! Или правду болтают, что на заводе была секта?
Чеберяк хитро глянула на адвоката, но того было трудно смутить.
— К делу, милостивая государыня, к делу! Больше сорока тысяч вы не выторгуете.
— Что же мне, заложить добрых людей?
— Ну, положим, по вашим добрым людям давно каторга плачет. Черт ли вам в них! Мы выправим надежные документы для вас и вашего мужа. Хотите переправим в Северную Америку, хотите — в Южную. Будете жить в свое удовольствие. Подпишете: Чеберякова. Всего десять букв, и сорок тысяч ваши. По четыре тысячи за букву. Спросите господина репортера, гонорар неслыханный!
Да уж, подумал Бразуль, такой гонорар не снился не только серьезным писателям, но даже Арцыбашеву или Вербицкой, авторам модных эротических романов. Сорок тысяч были целым состоянием, на эти деньги можно было купить большой доходный дом или имение. Вера Чеберяк явно колебалась, но все-таки преодолела искушение.
— За границей нам делать нечего, языкам мы не обучены.
На полном лице Марголина угрожающе дрогнула ниточка усиков:
— Учтите, мы даем вам шанс покончить с воровским ремеслом.
— С какой радости вы меня воровкой честите? — дрожащим от злости голосом осведомилась Чеберяк.
— А кто же вы, как не воровка? Да еще скупщица краденого! Теперь вашему промыслу конец. Полиция следит за притоном на Верхне-Юрковской.
— Вы сначала докажите, что у меня притон. И не пугайте, я и не таких, как вы, видывала! — крикнула Вера, швырнув в стену хрустальный бокал, разлетевшийся на мелкие осколки, и выбежала из номера.
Журналист вышел за ней в вестибюль, намереваясь уговорить её вернуться. Но ее и след простыл. Когда репортер повернул назад, в конце коридора промелькнула чья-то фигура. «Что за чертовщина! Удивительно похож на Красовского! Нет, наверное, обознался». Уже больше двух месяцев пристав Красовский был удален со службы по настоянию прокурора Чаплинского. Журналист встречал его в игорных домах. Говорили, что он зарабатывает тем, что «рвет зубы у арапов», то есть выслеживает шулеров и шантажирует их. В роскошном номере адвоката Бразуль увидел, что тяжелые портьеры были отдернуты, как будто кто-то поспешно вышел из-за них. Марголин стоял у окна и с задумчивым видом потягивал шампанское.
— Нахальная особа, эта Сибирячка! Кстати, почему она все время называла меня депутатом?
— Простите, Арнольд Давидович. Я сказал, что вы член Государственной думы, просто с языка сорвалось.
— Вы мне польстили. Я баллотировался в первую Думу от союза равноправия евреев, но не набрал нужного числа голосов. Может быть, в будущем попробую пройти от украинофилов.
— Не представляю вас в роли поборника украинской самостийности, — признался Бразуль.
— Вы, хоть и считаете себя эсером, заражены великодержавной спесью не меньше, чем монархисты-черносотенцы. Не обижайтесь, ибо вы отнюдь не одиноки в сем заблуждении. Сколько раз я пытался втолковать моим петербургским друзьям, что за Воронежом уже не русская земля, что сорокамиллионный украинский народ пойдет своей собственной дорогой. Все напрасно, для них существует лишь единая и неделимая Россия, под чьей опекой навечно состоит младшая сестра — Малороссия. Даже в самой Украине образованные люди закрывают глаза на громадную созидательную работу, которая идет у них под боком, не хотят видеть, как формируется национальная украинская литература и искусство.
Для нас, евреев, важно выработать правильное отношение к превращению украинцев в самостоятельную национальную единицу, понять, что этот процесс идет параллельно с великим пробуждением еврейского народа. В свое время я отдал дань сионизму, но, правду сказать, Палестина выглядела Землей Обетованной лишь в глазах наших предков, сорок лет блуждавших по бесплодной пустыни. Стоит ли евреям селиться среди полудиких арабских племен и шаек кровожадных башибузуков! Да и турецкий султан, под чьим владычеством находится Палестина, вряд ли допустит массовое возвращение евреев. Я являюсь одним из учредителей «Еврейской территориалистической организации», которая изучает вопрос о пригодности для заселения евреями других земель — Анголы, Гондураса, Киренайеки. Однако мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, а почему мы, собственно говоря, должны покинуть насиженные места и отправиться на край света? Что мешает евреям превратить в Землю Обетованную плодородную Украину? Правда, для этого необходимо разрушить Российскую империю, тюрьму народов. Необходимо свергнуть самодержавие, третирующее и евреев и украинцев.
В этой священной борьбе мы найдем союзников в лице видных украинских деятелей — Винниченко, Грушевского, Петлюры. Они, сами преследуемые на родине, лучше других понимают мучения евреев. Я уверен, что вставший с колен украинский народ никогда не допустит преследования по национальному признаку. В самостийной Украине не будет ни позорной черты оседлости, ни диких погромов. Мы хорошо дополняем друг друга. Украинцы — отменные хлеборобы, евреи — природные коммерсанты. Наши умные головы, их привычные к работе руки — вот основа процветания демократического украинского государства. Впрочем, вижу по вашим удивленным глазам, что вы не разделяете моих надежд. Хватит о политике, вернемся, так сказать, к нашим баранам. Жаль, что Сибирячка не подписала заявление. Мне показалось, что эта особа была готова клюнуть на сорок тысяч.
— Неужели комитет готов пожертвовать такие огромные деньги?
— Пожертвовать-то готов, только зачем? — усмехнулся Марголин. — Ведь это общественные еврейские средства. И потом, что она будет делать с капиталом? Накупит нарядов, бриллиантов — привлечет внимание полиции. Четырех тысяч ей за глаза хватит, да и те надо выдавать частями, чтобы держать ее на привязи. Если бы она схватила приманку, это значительно облегчило бы задачу защиты Бейлиса. Увы, история повторяется. Боюсь, что Верка станет второй Машкой Шарманкой.
— Знаю, знаю, наводчица Шарманка проходила по делу об ограблении зерновой конторы, — встрепенулся журналист и тут же поправился. — Хотя нет, помнится, ее звали Наташкой или я путаю?
— Не трудитесь напрягать память, речь не о Киеве. Следователь Фененко сообщил мне по секрету, что господин прокурор судебной палаты собирается представить на процесс архивные материалы так называемого Саратовского дела для доказательства существования ритуала. Разумеется, я тотчас же ознакомился с несколькими публикациями по означенному делу и пришел в недоумение. Среди обличителей евреев фигурировало множество темных личностей обоего пола, в частности, некая Машка Шарманка. Она утверждала, будто главный обвиняемый, Янкель Юшкевичер, под видом краски для меха продает кровь, выточенную из христианских детей. Другая, не менее достойная свидетельница, Олимпиада Горохова, «по опросу соседей в поведении единогласно не одобренная», заявила, будто Юшкевичеру заплатили за бутыли с детской кровью два миллиона рублей, а цирюльнику Шлиферману — аж целых четыре, причем золото присылала из Житомирской губернии «девка Родсель, у которой казна занимает деньги». Хотите пари на дюжину шампанского, что не догадаетесь, кто эта девка, одалживающая казну?
— Не берусь сказать.
— Родсель — это искаженное Ротшильд. Смеетесь? Напрасно! В Саратове у каких-то купцов, привезших персидские товары, изъяли книгу с аллегорическим изображением египетского фараона, купающегося в крови еврейских первенцев. Еврейских, прошу заметить! И что же? Следственные власти объявили, что нашли непреложное доказательство догмата крови у евреев! При обыске в доме Юшкевичера обнаружили еще одну книгу, в которой черным по белому было написано, что даже в эпоху Средневековья папы римские порицали безосновательные обвинения, возводимые на евреев. Уму непостижимо, но сочинение о лживости ритуальных обвинений было провозглашено едва ли не главным доказательством существования ритуала! Наш комитет в защиту Бейлиса собирается переиздать сборник папских булл, опровергающих кровавый навет. Но сейчас я не на шутку засомневался, не пересажают ли покупателей такой книги.
Саратовское дело характеризовалось массовым помешательством на ритуальной почве. Возникло свыше тридцати дел «о сманивании детей», а поскольку в Саратове жило совсем немного евреев, то в скором времени возник недостаток в обвиняемых. Тогда полиция начала хватать всех без разбора: немецких колонистов, хохлов, русских. Тюрьмы не могли вместить всех арестованных. Саратовские обыватели боялись выйти со двора, ведь по доносу любого бродяги или гулящей девицы можно было угодить в острог. Вы хотите, чтобы подобное повторилось в Киеве?
— Нет, конечно же, нет! — поспешил сказать журналист.
— Тогда попытайтесь уломать Чеберячку. Объясните, что в её интересах взять убийство на себя.
По дороге Бразуль, прокрутив в голове весь разговор, пришел к выводу, что Марголин выбрал неверный подход к Вере Чеберяк, женщине, как он успел убедиться, болезненно самолюбивой. Адвокат разговаривал с ней небрежным тоном, не скрывая гадливости. Неудивительно, что Вера вспылила. Несколько дней назад репортер встречался на квартире следователя Фененко с товарищем прокурора Лашкаревым и несколькими представителями магистратуры, сочувствовавшими частному расследованию. Проговорили до глубокой ночи, на все лады обсуждая дело Бейлиса. Лашкарев упирал на то, что чины судебного ведомства повязаны по рукам и ногам. «Вы …э-э… другое дело, — мямлил он, — вы журналист, не подневольный чиновник. Только дайте нам зацепку, ниточку дайте, а мы уж… э-э… выволочем госпожу Чеберякову за ушко да на чистое солнышко».
Отчего они все так уверены в ее соучастии в преступлении, задавался вопросом репортер. Говорили, что она и своих детей отравила. Но уж в это Бразуль ни за что бы не поверил. После смерти Жени и Вали она взяла на воспитание чужую девочку и нянчилась с золотушной малышкой. Да, она ходила по ресторанам, но иногда в самый разгар гульбы забывалась и еле слышно шептала: «Деточки мои, родненькие!» Бразуль заметил, что в последние дни Вере изменила обычная выдержка и самообладание. Она была хмурой, нехотя согласилась на поездку в Харьков, всю дорогу просидела в углу купе, не снимая вуали. Утром после приезда она отмалчивалась, и лишь гневная вспышка в номере Марголина напомнила прежнюю Веру Чеберяк. Как ни странно, журналист ей сочувствовал. Миллионщик не имел права оскорблять бедную женщину. Чеберяк — недюжинная натура, испорченная жизненными обстоятельствами. Она занимается воровским ремеслом, только кто же ныне в России не вор? Только миллионщики вроде Марголина, да и то потому, что им незачем воровать, они и так могут взять все, что захотят.
Бразуль дошел до «Эрмитажа», гостиницы далеко не такой шикарной, как «Гранд Отель». Он поднялся на третий этаж и толкнул дверь номера Чеберяк. Вера сидела на кушетке, скинув кофточку, и протирала зеленкой кровоподтеки, сплошь покрывавшие её смуглое тело. Сейчас, когда она сидела без вуали, было видно, что под глазом у нее вовсе не ячмень, а огромный синяк. Вторжение мужчины нимало не смутило Веру Чеберяк, она и не подумала одеться.
— Чем это тебя? — спросил Бразуль.
— Шоколадкой, — отрывисто бросила Вера.
Шоколадкой на воровском жаргоне называли кусок железа или свинца, обмотанный тряпками. Этим орудием отбивали все внутренности.
— Видишь, как тебе опасно оставаться в Киеве. Приняла бы выгодное предложение, уехала бы в Америку.
— Еще чего! — издевательски хохотала Чеберяк. — Взять на себя убийство за фальшивые векселя! Ты думаешь, я не заметила, что у твоего депутата за портьерой были припасены свидетели? Нашли дурочку! Чего они со всех сторон деньги суют? Воображаешь, твой депутат первый? Как не так! Иванов из жандармского сулил шестьсот рублей, чтобы я ему рассказала, кто убил Ющинского. Я над ним посмеялась. Мелко плаваете, ваше высокоблагородие! Он расшумелся, грозился сгноить меня в Косом Капонире. Разве он смеет кричать на даму! Фененко тоже волком смотрит. Хвастает, будто расшил все дело. Ага! Как губку с дырками. Одни дырки вместо доказательств!
Вера накинула кофту, принялась расчесывать гребнем волосы. Репортер спросил:
— За что тебя все-таки избили?
— Предупредили, чтобы язык не распускала, как мои невинные деточки…
Внезапно она зарыдала. Гребень вывалился из ее рук, она закрыла лицо руками.
— Проговорились, бедняжки! Отравили их, злыдни! Отомстить хочу за их безвинную смерть, да не знаю, как сделать. Крикнуть в церкви с амвона — отправят в желтый дом. Государю бумагу подать — посадят в Косой Капонир. Дай совет!
— Если расскажешь все без утайки, я опубликую статью в газете, — предложил репортер.
— В газете? Зачем? — Вера подняла заплаканное лицо, на котором читалось удивление и недоверие.
— Допустим, крикнешь ты в церкви. Кто тебя услышит? Дюжина глухих богомолок! А у газеты в тысячу раз больше читателей. Прессу недаром называют шестой великой державой. В России пока на журналистов смотрят свысока, но за границей перед ними ломают шапки, потому что газеты — это величайшая сила…
Увлекшись, Бразуль произнес оду свободной прессе. Чеберяк поняла, кажется, только одно.
— Ежели тиснуть клеветон, то весь Киев узнает? — переспросила она.
— Не клеветон, а фельетон. Узнает же не только весь город, а вся Россия и весь мир. Положим, сегодня ты обо всем расскажешь. Завтра я помещу статью в «Киевской мысли». Послезавтра мою статью перепечатают московские и петербургские газеты, а еще через день все крупные печатные органы в провинции и, заметь, все европейские, а затем и американские газеты. Пять дней, и каждое слово, произнесенное в этом номере, станет достоянием целого света!
— Оно бы и подходяще, да только как-то чудно через газету объявлять, — засомневалась Вера, но потом решительно кивнула головой. — Эх, была не была!
Бразуль вынул блокнот, и Вера начала свой рассказ. Она говорила так быстро, что журналист едва успевал записать главное. По словам Веры, однажды ее сын Женя Чеберяк подобрал на Загоровщине граненое шило, все в крови. Вера на всякий случай велела выкинуть эту дрянь в отхожее место. Через несколько дней в пещере нашли Андрюшку Домового. Тогда Вера не на шутку перепугалась: вдруг станут доискиваться, кто велел улику утопить? А тут еще Женька по секрету шепнул матери: «То шило, что я утопил, было Французовой работы. Я сегодня видел, как Павлушка Мифле такое же шило на рукоятку насаживал». Она строго-настрого наказала сыну помалкивать. Потом ее несколько раз сажали в кутузку под разным предлогом. Выпустили, когда дети отравились. Забрала их из больницы, да только они померли у нее на руках. Скучно стало, в квартире тихо, ровно на кладбище. К тому же домовладелец Захарченко повысил плату. Стала она подыскивать, кому бы сдать опустевшую комнатушку. Павлуша Мифле подсказал, что его работник Митрошка Петров ищет угол.
— Так Митрошка стал у меня квартировать. Он малый утешительный, деликатный, что в простом, недворянском звании редко встречается. Я о детях кручинюсь, а он сядет рядышком, повздыхает со мной, скажет так ласково: «Полно вам горевать, Вера Владимировна! Может, деткам сейчас лучше, чем вам. Они, ангелочки безгрешные, в райских садах ранеточки кушают. Помню я Женю, гарный был хлопчик, царствие ему небесное». Я спрашиваю: «Разве ты видел моего сыночк?» Митрошка отвечает: «Видел и Женю и Валю, когда вы сидели в участке, а они приходили обедать к Мифле».
Сначала Вера Чеберяк пропустила эти слова мимо ушей. Потом ее одолели сомнения. Конечно, покойный Женя часто бегал в слесарную мастерскую, но в дом его никогда не пускали, потому что мамаша Мифле ненавидела Веру и ее детей. Между тем квартирант уверял, что Верины дети приходили обедать по просьбе мамаши Мифле. Она отдельно накрыла им стол, приглашала еще заходить, да только на следующий день дети захворали. Выслушав эту историю, Вера решила добиться правды. Заглянула в гости к Мифле и попросила одолжить ей свечей. Сказала, будто ненароком, что собирается погадать в ночь на святого Андрея. Поставит свечи подле зеркала, чтобы в нем появился Андрюша Домовой и указал на своих убийц. Мифле испугался, позвал мать. Мамаша Мифле, раскричалась, чтобы Верка не вздумала впутывать их в свои темные делишки. Вера не выдержала и обронила: «Еще неизвестно, у кого делишки! После моего угощения никто не умирал». Слово за слово, женщины крепко разругались. Вера, разгоряченная перебранкой, отправилась домой. По дороге ее догнали двое мужчин. В темноте она не видела их лиц, только заметила, что они крепко держались за руки. Её начали избивать шоколадкой, потом пинали коваными сапожищами. К счастью, случайный прохожий спугнул нападавших, и они скрылись, держась за руки.
— Соображаешь? Ведь они не парубок с дивчиной, чтоб под ручку ходить. Один из них был слепой. А кто на Лукьяновке слепец, если не Павлушка Француз. Думаю, вторым был его брат, он ему всегда подсобляет. Я кумекала, кумекала и расшила все до ниточки, не то что твой следователь. Посмотрим, ты догадливый али нет. Вот тебе загадка! Павлушка слепой, а фартовые ребята завалили его заказами.
— Наверное, Мифле изготавливает воровской инструмент, — предположил журналист.
— Его отмычками любой засов можно вскрыть. И потом он слепой, значит, заказчиков не видит, никого не заложит. Теперь вторая загадка! Француз водит знакомство с сопливыми хлопцами. Пистоли им мастерит, Домовому рушницу зробил. Дает хлопцам порох, табачком угощает, а то спрячется с кем-нибудь из хлопцев в темной каморке…
— Погоди, погоди. Так Мифле… так он?
— Ты думал, за что я ему в морду кислотой плеснула? Не пропускал ни баб, ни хлопцев, словно басурманин какой! Недаром он французской нации! И посейчас, слепой уже, а все по-прежнему норовит. Нет, правду говорят, горбатого могила исправит. Видать, Андрюша Домовой по своему обыкновению заглянул в субботу в слесарную мастерскую. Что там между ними произошло, не знаю. Может, Француз начал приставать, а Домовой не дался. Павлушка Француз буйный. В гневе пришил хлопца шилом, потом шило выкинул, а мой Женька на свою беду нашел. Шило его погубило. Покуда я дома была, он держал язык за зубами, а как посадили меня в кутузку, видать, проболтался. Сказал, наверное, Павлушке, что знает, чьей работы шило. Павлушка к своей мамаше в ноги — спасай от каторги. А у старой ведьмы разговор короткий. Она отравила Женьку с Валей.
— Вера, что ты говоришь? В отравлении детей кого только не подозревали! И тебя, и даже пристава Красовского. Однако я ознакомился с результатами экспертизы Бактериологического института. Не было выявлено никаких признаков отравления. Конечно, как говорят специалисты, существуют некоторые экзотические яды типа кураре, которые быстро рассасываются в организме и не оставляют следов, доступных химическому анализу. Но подумай сама, откуда кураре на Лукьяновке?
— Не знаю насчет твоего курваре, только послушай глупую бабу, которая иной раз ученых умников за пояс заткнет. Отец Павлушки был образованным господином, служил судовым врачом на французском корабле, но однажды повздорил с капитаном и сошел на берег в Одессе. Думал, до первого корабля во Францию, да так вышло, что остался он в России навсегда. Тосковал по дому, пьянствовал, опустился совсем. Одна ведьма его окрутила, поженила на себе, родила ему сына. Он добывал деньги подпольным врачеванием и тем, что делал девицам выкидыши. Он и жену свою обучил. Мамаша Мифле богато по медицинской части знает, особенно касательно отравы. Я тебе говорю, у этой ведьмы много чего на совести. Неверные жинки у нее снадобье покупают. С ее помощью много постылых мужей на тот свет отправилось.
Бразуль чувствовал, что поневоле попадает под магнетическое влияние Веры. Вроде бы все сходится, но как на эту версию взглянет Марголин? Одно ясно, Чеберячку не удастся уговорить взять убийство на себя. В таком случае Мифле сгодится. Главное, преступление не на ритуальной почве и совершено русским. Или французом! Впрочем, какая разница! Вот только понравится ли Марголину сексуальный мотив? Адвокат хочет выступить на большом процессе, который будут освещать все газеты, а преступления, оскорбляющие общественную нравственность, рассматриваются в закрытых заседаниях. Но ведь можно поступить по-умному. Сексуальный мотив оставить побоку, а на первый план выставить подделку под ритуал, вроде как убийца хотел спровоцировать погром. Мифле не мог действовать в одиночку, он же слепой. Значит, у него были сообщники. Надо будет покрасочнее обрисовать зловещую компанию, которая собиралась в его слесарной мастерской. Вроде неаполитанской каморры или еще, говорят, на Сицилии есть какая-то мафия. Публика — дура, проглотит.
— Чего примолк? — спросила Чеберяк. — Я тебе все как на духу выложила. Не вздумай на попятную! В газету, так в газету! Чаплинский поедет в Питер за медалями, а мы тут ахнем на Мифле!
— По рукам! — согласился репортер. — Ахнем на Мифле!
Глава восемнадцатая
12 января 1912 г.— Не убивал мой сыночек Андрюшу Домового! Навет Верки Сибирячки!
Чаплинский слушал причитания старушки в поношенном беличьем салопе, который она упорно отказывалась снять, стесняясь своего платья. Рядом с ней в кабинете прокурора судебной палаты сидел ее сын Павел Мифле, поправлявший синие очки.
— Родятся же такие шалавы! — негодовала старушка. — Павлушу облила кислотой, сделала калекой, теперь хочет его в каторгу упечь. Она мстит за побои. Эксиленс, экскюзэ-муа дё ву зарашэ а во зафэрф, изволите видеть, работает в мастерской моего сына Митрошка Петров, так она перед ним стала крутить хвостом. Срамно и говорить, только неделю назад мы с сыном застали их вместе. Они занимались лямуром на слесарном верстаке. Я ее, блядь, за волосья, ну и сынок тоже приложил маленько. А то, что глаз ей, курве, подбил, так сынок, ваше превосходительство, не нарочно. Он слепенький, не видит, куда кулаки сует.
— Жаль Митрошка убег! Дай срок, я его еще встречу, скажу: коман тале-ву, месье, — погрозился слепой.
«Матка бозка, какая смесь французского с лукьяновской мовой!» — поморщился Чаплинский и поспешил прервать Мифле.
— Вы утверждаете, что обвинения госпожи Чеберяковой суть инсинуации, возникшие на почве личной неприязни? Обещаю, что вашему заявлению будет дан надлежащий ход.
— Пэрмэтэ-муа дё ву рёмэрсье пур ту! Спасибо, ваше превосходительство!
— Au revoir! — с усмешкой попрощался прокурор.
Чаплинский спешил на поезд. Полчаса спустя уже шел за носильщиком по заснеженному перрону. Пассажиров было немного, и только у вагона первого класса, к которому он направился, гимназисты и студенты столпились вокруг улыбавшегося барина в бобровой шубе. Над всеми возвышался Владимир Голубев, без фуражки, в распахнутой на груди шинели, раскрасневшийся от легкого морозца. Прокурор поскорее нырнул в натопленный вагон, где его принял привычный комфорт. Пройдя по ковровой дорожке под приглушенным светом ламп, отражавшимся на начищенных медных поручнях и полированных панелях красного дерева, он нашел свое купе. За заиндевевшим окном вагона было слышно, как Голубев произносил речь:
— Мы надеемся вскоре вновь увидеть нашего дорогого гостя Георгия Георгиевича Замысловского. Да воссияет правда! Да расточится и сгинет враг!
— Ура! — рявкнула дюжина молодых глоток.
Замысловский был крайне правым депутатом Государственной думы, автором книги «Жертвы Израиля». Он собирался принять участие в киевском процессе и приезжал ознакомиться с местом и обстановкой преступления. Депутат был человеком известным, имел самые высокие связи еще по своему отцу, преподававшему историю наследнику престола. Чаплинский всю неделю, что депутат провел в Киеве, не отходил от него ни на шаг, и договорился ехать в Петербург одним поездом.
Вскоре Замысловский вошел в купе. Он был растроган проводами и, снимая тяжелую шубу и шапку, говорил прокурору:
— Напрасно, батенька, клевещут, будто вся молодежь заражена превратными идеями. Вот Володя Голубев! Какой славный юноша! Он стал непреодолимой преградой для всех попыток обработать общественное мнение под жидовский камертон.
На перроне молодые голоса прокричали что есть мочи:
— Ура Василию Витальевичу, патриоту русского дела!
— Ба! Шульгин! — обрадовался Замысловский. — Оказывается, он тоже сегодня едет. Приглашу его в наше купе, не возражаете?
Прокурор радушно осклабился. Поездка обещала быть приятной и весьма полезной. Шульгин являлся депутатом Думы от националистов. Но когда Замысловский привел в купе Шульгина, прокурору показалось, что моложавый, но уже полностью облысевший депутат, как-то нехотя и почти враждебно с ним поздоровался.
Поезд плавно тронулся и через некоторое время выехал на мост через Днепр. Замысловский спросил, что сияет в темноте за окном, а когда ему объяснили, что это крест в руках святого Владимира, заметил:
— В Киеве все связано с именем Крестителя Руси. Увы, святой Владимир не помог Петру Аркадьевичу. Если верить утверждениям врачей, он пострадал не столько от пули, сколько от Владимирского креста, осколки коего повлекли заражение. Жаль, Мордку Богрова вздернули с такой подозрительной поспешностью. Он мог бы о многом рассказать. Кстати, вы, Василий Витальевич, как коренной киевлянин должны знать семью Мордки?
Шульгин задумчиво сказал:
— Я знаком с отцом убийцы и читал книги его деда, беспощадного обличителя иудейского фанатизма. Вот парадокс, казалось бы, семья Богровых полностью обрусела, приняла язык русский, культуру русскую. Ничуть ни бывало, следующее поколение неудержимо потянуло в иудаизм. Вот что значит голос крови, против коего бессильны просвещение и наука. Дело даже не в русских или в евреях, а в расовых чертах. Вообразите, что ваша дочь сошлась бы с негром. Как бы вы поступили?
— Любой нормальный отец задушил бы мерзавку! — убежденно ответил Замысловский.
— Вот, вот! В вас заговорило инстинктивное чувство. Конечно, невозможно представить, чтобы белая девушка имела связь с чернокожим. И сколько бы прогрессивная литература не внушала ей, что неэтично, нефизиологично, негуманно испытывать отвращение к представителям другой расы, голос крови твердит ей обратное. Быть может, инстинктивное отвращение к неграм или стихийный антисемитизм таят в себе древний инстинкт самосохранения? Как знать, не получится ли в конечном итоге, что обскурант, черносотенец, мракобес окажется мудрее интеллигента, проповедующего абстрактное равенство и братство?
Замысловский, протирая золотое пенсне, подтвердил, что, по его наблюдениям, смешанные браки крайне опасны. Если взять десять детей от русско-еврейских браков, то непременно окажется, что девять из десяти унаследовали черты родителя-еврея. Кровь, текущая в жилах сынов Иуды, противится всему, что арийцы признают долгом чести и великодушия.
— Между нашими расами идет извечная борьба. Когда семиты были бродившей по пустыне полудикой ордой, арийцы Индостана уже имели стройную философскую систему. Белая раса, идеальными представителями которой должны почитаться вовсе не древние греки, а сарматы и славяне, нигде в анналах человечества не замечена в состоянии дикости.
Поговорив об арийцах-славянах, Замысловский предложил побаловаться чайком с коньячком. Когда он вышел в коридор позвать буфетчика, Чаплинский благодушно заметил:
— Василий Витальевич, позвольте извиниться перед вами. Признаюсь, я не сразу понял вашу правоту, когда вы внесли думский запрос о ритуальном убийстве. Сейчас самому стыдно.
Шульгин холодно спросил:
— А вам, ваше превосходительство, не стыдно держать под арестом невиновного Бейлиса?
Прокурор не поверил своим ушам. Он никак не ожидал услышать такое от Шульгина, рыцаря национализма, как его часто называли.
— Право, мне казалось, что у вас иные взгляды, — удивленно заметил Чаплинский.
— Я своим взглядам не изменяю. Я убежденный антисемит и всегда имел мужество открыто повторять пророчество Достоевского «Жиды погубят Россию!». Однако, разве не ясно, что задуманный вами нелепый процесс в первую очередь ударит по русским национальным интересам? Студент Голубев честный, но недалекий малый. Он по-детски наивен, но вы-то искушенный юрист! Вы прекрасно знаете, что все улики против Бейлиса сводятся к показаниям фонарщика Казимира Шаховского, который якобы видел, как евреи тащили Ющинского к печи. Сделайте милость, ваше превосходительство, объясните, как при таких условиях чуть ли не публичное похищение мальчика не было обнаружено в тот же день и даже в ту же минуту? Как эти бессмысленные показания Шаховского и его супруги могут трактоваться в значении оснований для предания Бейлиса суду?
Чаплинский, смущенный напором депутата, пробормотал, что кроме показаний Шаховского в обвинительный акт включено множество других свидетельств. Шульгин пренебрежительно отмахнулся.
— Полноте, ваше превосходительство! Чьи свидетельства? Арестанта Козаченко, который втерся в доверие к запуганному Бейлису, обещал ему помочь, уговорил дать ему записку на завод, а потом передал записку полиции? Вся история с отравлением свидетелей, которую поведал Козаченко, является его выдумкой. Подполковник Иванов, установивший наружное наблюдение за бывшим арестантом, неоднократно ловил его на лжи и противоречиях. Он врал одно, а следившие за ним филеры доносили обратное. На очной ставке Козаченко вынужден был признаться в том, что вводил полицию в заблуждение. Разве вам не докладывали, что Козаченко лживый тип? И что же? Вы включили лжесвидетельство в обвинительный акт. Подполковник Иванов был потрясен вашей недобросовестностью. Он знал еще моего отчима и уважает нашу семью, поэтому специально попросил меня о встрече, чтобы посоветоваться, как ему быть. Рассказал мне о том, как вы проигнорировали его предупреждение.
Чаплинский сокрушенно подумал, что киевская жандармерия никуда не годится. Жандармский подполковник разглашает конфиденциальные сведения! Пусть Шульгин депутат Думы, но ему не положено знать о деталях слежки. Прокурор сухо заметил, что не собирается, подобно некоторым жандармам, нарушать тайну следствия. Шульгин презрительно фыркнул, и в купе воцарилось напряженное молчание.
Замысловский вернулся в сопровождении буфетчика, захлопотавшего над столиком, но когда депутат предложил угощаться, прокурор наотрез отказался от коньяка и демонстративно взял стакан пустого чая. Общего разговора не получилось. Чаплинский и Шульгин старались не замечать друг друга.
Так они провели всю дорогу. Днем Замысловский дремал, растянувшись на диване и накрывшись номером черносотенной «Земщины», Шульгин читал волюмчик французского романа, а Чаплинский протер глазок во льду на окне и смотрел на проносившиеся мимо запорошенные снегом леса. Он много раз проделывал путь из Киева в Петербург и всякий раз удивлялся непохожести России на южную степную Малороссию. Россия была бесконечной и безлюдной. Следа человека не было заметно в самом центре страны. Только сплошная стена деревьев, изредка прерываемая белыми полями. За далекими лесами разгоралось пожарище. Шульгин сказал проснувшемуся Замысловскому:
— Опять общинники подпустили красного петуха хуторянам. Крепко они не любят столыпинских отрубников. Выделишься из общины, поднимешь хозяйство — тут тебя и подпалят.
— Друг дружку едят, с того и сыты, — зевнул Замысловский.
Санкт-Петербург встретил гостей неприветливо. И не так уж морозно было, судя по термометру на стене Николаевского вокзала, да и часы на башне показывали всего три пополудни, но было полное впечатление глубокой холодной ночи. Замысловский зашел в здание вокзала, чтобы протелефонировать министру юстиции. Чаплинский ждал его на Знаменской площади. С Невского проспекта задувал ледяной ветер, прокурор поспешил поднять бобровый воротник шинели, но все равно продрог до костей. Однако странно: тело мерзло, а душа отогревалась при виде прямых улиц фасадной застройки, казалось, специально проложенных с тем расчетом, чтобы холодные вихри не встречали препятствия. Сумрачный Петербург был гораздо милее сердцу прокурора, чем солнечный Киев. Всякий раз, посещая столицу, а в последние годы он часто наезжал в министерство юстиции похлопотать о прокурорском месте, Чаплинский с волнением думал, что отсюда, с плоских невских берегов повелевают огромной империей, раскинувшейся от Балтийского моря до Тихого океана.
Над головой Чаплинского навис исполинский квадратный сапог. Про памятник Александру III на Знаменской площади сочинили частушку: «На площади стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот», но Чаплинскому памятник не казался уродливым. От темного колосса, под которым прогибался бегемотоподобный конь-тяжеловоз, исходила непоколебимая сила и уверенность. А версты за две, на Сенатской площади, гарцевал Медный всадник. Два памятника символизировали двухвековой путь России, поднятой на дыбы великим преобразователем и величаво-спокойной при его наследниках.
Зажглись электрические фонари, и Чаплинский увидел в их свете переходящего площадь Замысловского.
— Иван Григорьевич малость прихворнул, — сообщил депутат. — Поедем прямо к нему на квартиру. Черт! Лихачей расхватали, придется брать чухонского ваньку.
Замысловский махнул рукой ближайшему извозчику, стоявшему неподалеку от полосатой будки, в которой прятался от пронизывающих вихрей солдат с винтовкой. Сани обогнули статую царя-исполина. На улицах почти не встречалось экипажей, только звенели заиндевевшие трамваи. Витрины магазинов светились изнутри холодным лиловым светом, и выставленные в них манекены казались посиневшими мертвецами. Извозчик берег мохнатую лошаденку, не обращая внимания на понукания Замысловского. Депутат в сердцах выругался:
— Самый поганый народец эти чухны, латы, эсты. С виду тихони, все на одну сонную коровью морду, а чуть зазеваешься — получишь заряд дроби в спину. Держу пари, наш возница из бывших лесных братьев. Я в пятом году служил в Остзейском крае прокурором, довольно на них насмотрелся. Надо признать, остзейские бароны здорово нам помогли. Немцы отлично знали местность и, вызвавшись быть проводниками, приводили наших солдат, куда требовалось, — прямёхонько к логову лесных братьев. Брали чухонцев тепленькими! В Эстляндской губернии наши моряки действовали молодцами — перебили полсотни мятежников, семьдесят взяли заложниками, потом всех расстреляли. В Лифляндии захватили сто двадцать лесных братьев и всех до единого закололи штыками, в Курляндии десятки мыз повзрывали пироксилиновыми шашками.
— Умеем ведь, когда захотим! — вздохнул Чаплинский.
— С инородцами необходима строгость. От ласкового обращения они звереют. Возьмите к примеру, Великое княжество Финляндское, которое пользуется автономными правами. Имперские законы на Финляндию не распространяются. Террористы не преминули этим воспользоваться. Взорвут в Петербурге бомбу и айда на Финляндский вокзал. Полчаса езды на пригородном поезде — и они уже в Терриоках или Куоккале в полнейшей безопасности, потому что для чухонцев враги России завсегда первые друзья. Нет, пора покончить с этим историческим анахронизмом и сделать Великое княжество Финляндское такой же принадлежностью русской короны, как царство Казанское или Астраханское. Правильно Марков говорит: «Любви чухонской нам не нужно, лишь бы боялись!»
Извозчик выехал на Таврическую улицу и остановился перед домом министра. Замысловский и Чаплинский вошли в парадное, сбросили верхнее платье на попечение швейцара и поднялись по лестнице. По предупредительности слуг чувствовалось, что депутат был вхож в дом министра.
— Как здоровье Ивана Григорьевича? — осведомился Замысловский у пожилого камердинера.
— Недужат-с, впрочем, своих принимают. Обождите, сейчас у них лекция-с.
Не всем отвечали с такой предупредительностью, и в этом Чаплинскому пришлось убедиться через минуту, когда в приемную стремительной и уверенной походкой вошел молодой визитер в придворном мундире. Полутемная комната засияла от сплетения золотых листьев на груди и обшлагах, от золотого ключа на поясе, знака камергерского достоинства, от золотого шитья треуголки с белым плюмажем. Высокомерно глянув на камердинера сквозь стеклышко лорнета, камергер програссировал в густые нафиксуаренные усы:
— Эй, любезный! Доложи министру, что его хочет видеть черниговский губернатор Маклаков.
Камердинер небрежно заметил:
— Навряд ли вас примут. Их высокопревосходительство сейчас заняты, потом будут обедать-с и кушать-с санатоген. Приходите-ка лучше завтра в министерство да не забудьте заранее записаться в канцелярии.
Визитер в золотом камергерском мундире опешил, потом пожал плечами, потрясающе похоже передразнил камердинера: «Будут кушать-с санатоген», круто развернулся на каблуках и вприпрыжку выбежал из приемной.
— Такой молодой и уже губернатор! Сколько ему лет? — спросил Чаплинский у Замысловского.
— По формуляру — сорок, по виду — тридцать, а как рот раскроет — не дашь больше пяти. Щегловитов таких хлыщей не любит, поэтому и камердинер позволяет себе дерзить. А напрасно! Я точно знаю, Николаша Маклаков без пяти минут министр внутренних дел.
— Министр!? Что же он способен, талантлив?
— Да уж талантом его Бог не обидел. Бесподобно представляет прыжок влюбленной пантеры.
— ?!
— Развлекает цесаревича, перевоплощаясь в разных животных. Я видел, как он подражает щенку, которому наступили на хвост. Можно лопнуть со смеха. Ну а когда наследник смеется, благосклонность государыни не знает пределов. Маклакова для того и министром назначают, чтобы чаще ездил в Царское Село.
Чаплинский вздохнул. Надо же от чего зависит карьера! Представил скулящего щенка — и сразу в министры. Жаль, что у него, Чаплинского, нет имитаторского дара. На одних сценках из еврейского быта большой карьеры не сделаешь.
Дверь кабинета распахнулась, и приемная сразу зашумела молодыми голосами. Юнцы в мундирах училища правоведения смеялись и толкали друг друга. Камердинер шикал на них, но шум не умолкал до тех пор, пока швейцар внизу не подал каждому шинель и не выпроводил всех на улицу. Щегловитов даже после назначения министром юстиции продолжал вести занятия в Училище правоведения по теории и практике уголовного судопроизводства. Правда, ввиду чрезвычайной загруженности, он перенес чтение лекций на дом. Чаплинский невольно позавидовал юным правоведам. Если аккуратно посещать занятия и задавать после лекции вопросы, то легко можно обратить на себя внимание их высокопревосходительства и заручиться его протекцией.
Камердинер пригласил их в кабинет. Щегловитов сидел в кресле, закутанный в клетчатый шотландский плед по седую клинообразную бородку, странным образом сочетавшуюся с румяными щечками, как у молоденькой горничной. На тонких губах Щегловитова играла неизменная улыбочка, от которой пробегал мороз по коже. С этой улыбочкой министр отказывал просителям в просьбах о снисхождении и делал это холодно и спокойно, невзирая на чины и звания. Чаплинский знал, что в эпоху реформ Щегловитов слыл либералом. Однако он имел мужество пойти против общего течения, заявив, что нельзя возбуждать уголовные дела только против чинов полиции, допускавших превышение власти при пресечении волнений, и в то же время отпускать на свободу зачинщиков беспорядков.
Занимая важный и независимый пост в Правительствующем Сенате, Щегловитов неожиданно согласился перейти на второстепенную должность в министерство юстиции. Все удивлялись, зачем это ему понадобилось, и только министерские «тонкачи», поднаторевшие в карьерных делах, загадочно улыбались. На новом месте Щегловитов получил возможность сопровождать министра юстиции, каждую неделю ездившего со всеподданнейшими докладами в Царское Село. Он терпеливо высиживал в приемной, всегда наготове, чтобы дать фактическую справку по какому-нибудь запутанному делу. Однажды министр заболел, и Щегловитов делал доклад вместо него. Государю доклад понравился сжатостью и толковостью, Щегловитова стали приглашать особо. Он познакомился с придворными, приобрел нужные связи и через некоторое время заполучил вожделенный пост министра юстиции.
Чаплинский выведал такие подробности из задушевных разговоров с чинами министерства юстиции. Прокурор доводилось выслушивать разговоры о личной жизни министра, на которые были особенно падки низшие служащие в канцеляриях. Ходили слухи, что Щегловитов, человек уже в летах и в высоких чинах, до сих пор пребывает под башмаком матери, старухи своевольной и очень скупой. Почтительный сын, даже будучи министром, по утрам не смел садиться за кофе, пока мать не выходила из своих апартаментов. Говорили, что супруга министра, третья по счету, имеет привычку просматривать все поступающие мужу бумаги и помечает крестиками прошения, которые, по ее мнению, заслуживают положительного решения, и — ноликами, если резолюция должна быть отрицательной.
Наверное, Щегловитов боялся только матери и жены, а все остальные боялись министра, кроме, конечно, государя императора и нескольких августейших особ и высших сановников. Что касается Чаплинского, то ему по должности полагалось трепетать в присутствии высокого начальства. И хотя прокурор даже мысленно не осмелился бы называть министра Ванькой Каином, ноги его подгибались, словно он встретил настоящего Каина. Между тем, едва Чаплинский переступил порог, Щегловитов осведомился у него, осевшим от простуды и только что прочитанной лекции, голосом:
— Господин прокурор, не угодно ли дать разъяснение? Вчера мне сообщили из Киева шифрованной телеграммой, что репортер Бразуль-Брушковский опубликовал статью, содержащую сенсационные разоблачения по делу Ющинского. Репортер пишет, что в слесарной мастерской некоего Павла Мифле собирались подозрительные личности: «Собрания носили таинственный характер, по-видимому, речь шла об организации убийства. В заключение совещания участники его, сделав у себя на руках надрезы, поклялись кровью хранить тайну о состоявшемся заговоре». Попахивает плохим бульварным романом, а?
Стараясь унять дрожь в коленях, Чаплинский доложил его высокопревосходительству суть дела. Выслушав подробный рассказ о ссоре, произошедшей между Павлом Мифле и Верой Чеберяк, министр брезгливо поморщился.
— Исключительная мерзость! Какая-то уголовница мстит за свои синяки, а газеты разносят ее ложь по всему свету. И ничего с продажными борзописцами не поделаешь! Любой сановник подвергся бы позору и уголовному преследованию, но журналист всегда выходит сух из воды, изо всей заведенной им смуты, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.
Министр встал и принялся расхаживать по кабинету. Замысловский и Чаплинский, как по команде, поворачивали головы вслед за ним.
— Вам известно, господа, — говорил Щегловитов, — что месяц тому назад мистер Тафт, президент Северо-Американских Соединенных Штатов, уведомил русское правительство о разрыве двусторонней торговой конвенции. Президент был вынужден ввести означенные санкции, уступая давлению еврейского лобби в Конгрессе. Россия торговала с Америкой еще с тех времен, когда там не было никаких евреев, а теперь американская пресса подняла крик: дескать, мы запрещаем въезд американцам еврейского происхождения в Россию. Некоторые из моих коллег по Совету министров, в том числе наш многоуважаемый председатель Коковцов, рассматривают разрыв конвенции как тяжелый удар по народному хозяйству, но я считаю, что этот инцидент лишний раз доказывает, что американцы, претендующие на принадлежность к семье цивилизованных народов, пока еще стоят на низшей ступени общественного развития. Они мыслят донельзя примитивными категориями рынка и чистогана, в то время как есть вещи поважнее их… Запамятовал, какие у них там в ходу деньги?
— Доллары, — осмелился подсказать Чаплинский.
— Да, доллары, благодарю. Не может быть и речи о том, чтобы императорское правительство поддалось на заокеанский шантаж.
— В Государственной думе не пройдет ни один проект о равноправии евреев, — заверил Замысловский.
— Зато вне стен Думы нам придется выдержать трудный бой, — предрек Щегловитов. — В проклятой памяти пятом году эпилептики революции боролись с паралитиками власти. Пал эпилептик, окреп паралитик. Спасли Россию истинные сыны отечества, черносотенцы-монархисты. Но близится новый припадок революции, в которой инородцы примут самое деятельное участие. Ритуальное дело станет тем оселком, на котором мировое еврейство испробует прочность русской власти. Надо как можно тщательнее подготовить процесс. Что с обвинительным актом?
— Обвинительный акт утвержден, — доложил Чаплинский, — однако до сих пор нет ясности с кандидатурой обвинителя. В Киеве даже вполне русские люди боятся связываться с евреями. Все им должны, все у них в кармане!
Немного помолчав и улыбнувшись своим мыслям, Щегловитов сказал:
— Пригласим кого-нибудь из петербуржцев. Я поговорю с товарищем прокурора окружного суда Виппером, он юрист молодой, честолюбивый, рвется выступить на громком процессе. Еще важнее председатель суда. Практика показывает, что председательствующий может вытянуть даже слабо подготовленное дело. Припасен у меня один человечек, звезд с неба не хватает, зато верный. Болдырев его фамилия, я его переведу из Умани и пообещаю в случае удачного исхода процесса место старшего председателя киевской судебной палаты. Вас, Георгий Гаврилович, также в скором времени ждет высокое назначение.
Чаплинский зарделся и дрожащим от признательности голосом произнес:
— Премного благодарен. Я, ваше высокопревосходительство, намереваюсь подгадать под такую сессию, где побольше крестьян.
— Совершенно верное решение. Главное, чтобы дело не попало интеллигентным присяжным, которые оправдают Бейлиса. Ну, вы всю эту механику знаете. Извините, господа, прощаюсь. Жду доктора.
Покидая дом министра юстиции, Замысловский предложил Чаплинскому заглянуть в Государственную думу. Прокурор охотно согласился, все-таки было любопытно поприсутствовать на заседании российского парламента. До Думы было рукой подать, и не успел Чаплинский замерзнуть, как перед его глазами открылся громадный купол Таврического дворца. Они пересекли широкий двор и вошли в подъезд. Расписываясь в толстой книге и выправляя билет своему гостю, Замысловский пояснил:
— Депутатам платят десять рублей за каждое заседание. В первую и вторую Думы многие выборные от крестьянской курии пошли единственно ради этих денег. Вот когда был настоящий кошмар! В Петербург хлынуло все самое худшее, злобное и завистливое, что только породила земля русская. Крестьяне смотрели на депутатство, как на отхожий промысел; торговали билетами, пьянствовали и дебоширили по трактирам, а если их пытались унять, ссылались на то, что они лица неприкосновенные. Полиция, натурально, под козырек, но однажды одна кабатчица основательно прибила такого неприкосновенного, приговаривая: «Уж твоя-то пьяная харя для меня вполне прикосновенна». Слава Богу, Столыпин разогнал мятежное учреждение и ввел новый избирательный закон, давший преимущество образованным классам. Но и сейчас такого насмотришься, что невольно подумаешь, что, если бы восстал из гроба хозяин дворца светлейший князь Потемкин-Таврический, взял бы в руки свою усыпанную бриллиантами трость и погнал бы народных избранников в шею. Я вас провожу в черту оседлости.
— ?!
— Чертой еврейской оседлости думские остряки обозвали ложу печати, а почему — угадайте сами.
Угадать было несложно. В ложе печати сидели две дюжины репортеров, высоких и низкорослых, толстых и худых, лысых и кучерявых, и при всем том — на одно мучительно знакомое прокурору лицо. «Матка Бозка Ченстоховска! — мысленно воскликнул Чаплинский. — До чего характерные типы! Будто каждый самолично принимал участие в распятии Спасителя!»
— Цвет русской журналистики, — хохотнул Замысловский. — Прошу любить и жаловать: Фенгельсон и Гонфман из кадетской «Речи», основанной Баком и редактируемой Элькиным. Господин Гофштеттер из «Голоса Москвы», а за ним Лейба Мошкович Клячко, пишущий под псевдонимом Львов, спасибо, хоть не «князь Львов». Еще двое из «Биржовки» Проппера, они совсем отпетые, им даже свои руки не подают. Присаживайтесь, Георгий Гаврилович, поближе вон к тому господинчику напротив колонны. Хоть наши православные батюшки плюются при одном его имени, но он все-таки русский из консервативного «Нового времени». Я пойду позаседаю. Наши непременно схлестнутся с левыми по вопросу о Холмской Руси.
Правительство внесло на обсуждение Государственной думы законопроект о выделении из состава Привислинских губерний нескольких уездов с преимущественно русским населением и образованием из них особой Холмской губернии. Будучи государственным служащим, Чаплинский одобрял проект, хотя ему, как поляку, было не совсем ловко. Он позавидовал Замысловскому, такому же польскому шляхтичу по происхождению, похоже, не испытывавшему ни малейших колебаний в данном вопросе. Прокурор глянул вниз в зал заседаний. Полукругом располагались ряды кресел, занятых депутатами. Перед креслами стоял длинный стол, за которым прилежно строчили в блокнотах барышни-стенографистки, а над ними возвышалась дубовая трибуна президиума, за которой восседал монументальный Родзянко, казавшийся тоже высеченным из дуба. Ораторскую кафедру занимал коренастый депутат, произносивший речь с сильным литовским акцентом:
— Спор ведется не о том, что нужно населению Холмского края, а о том, будут ли русские чиновники, типа Замысловского, заботиться о его русификации или же польские помещики займутся его полонизацией. Дозвольте зачитать письмо одного холмца, характеризующее отношение местных обывателей к проекту: «Уси розмови, порозуминня и змаганя ведутся миж росийськими кругами, поляками та бюрократией…»
Невероятной мощи бас заглушил оратора вопросом:
— Это вы по-каковски читаете?
Чаплинский наклонился к сотруднику «Нового времени».
— Позвольте спросить, кто подал реплику?
— Медный Всадник, то есть Марков-второй.
Чаплинский подивился точности прозвища. Знаменитый на всю Россию курский помещик Николай Евгеньевич Марков, краса и гордость крайне правой фракции, был именно таким, каким ваяли Петра Великого — на голову выше окружающих, с круглыми бешенными глазами, с топорщащимися по-кошачьи усиками. Прокурору стало неуютно, когда он вспомнил, что прошлой весной этот гигант метал громы и молнии против него самого. Между тем оратор вступил в полемику с колоссом:
— Вот, господа, восклицание депутата Маркова-второго вполне характерно. Именно с правых кресел Государственной думы раздавалось не раз, что не существует ни украинской народности, ни украинского языка. Однако после свидетельства Академии наук, что украинский народ имеет свой язык, спорить об этом, казалось бы, не следовало…
— Отчего же не поспорить, — опять раздался басистый рык.
С левой стороны зала заметили под общий смех:
— Для Маркова академий не существует!
На трибуну, подбирая полы лиловой рясы, взошел депутат-протоиерей.
— Вы можете возразить, — обратился он к левой стороне Думы, — вы можете сказать: позвольте, но во имя национализма попираются интересы других народностей. Однако есть, — он убежденно тряхнул гривой седых волос, — да, есть на свете одна и только одна народность, которая умеет удержаться на нравственной высоте, стоя на которой, она никогда никого не преследовала. Эта народность есть русская народность…
— Верно! — прогремел со своего места Марков.
— Это мы, православные…
— Верно, верно! — раздалось справа.
— Инородцам, которые говорят об угнетении, я скажу: неправду вы говорите. Нигде вам так хорошо не живется, как в пределах Российской империи, нигде вы себя так хорошо не чувствуете, как в среде русского народа, вы среди него живете мирно, покойно, вы у нас кормитесь…
Слева зашумели. Председатель Государственной думы Родзянко отчаянно зазвонил в колокольчик, требуя тишины, но депутаты продолжали волноваться. Несколько человек, потрясая кулаками, подскочили к трибуне. Марков сидел, ухмыляясь, как ухмыляется взрослый человек при виде детских шалостей, но его сосед внезапно вскочил, и Чаплинский сразу узнал Владимира Митрофановича Пуришкевича. Прокурор никогда раньше не видел вождя Союза Михаила Архангела, но его портреты примелькались во всех газетах. Пуришкевич ухватил за шиворот пробегавшего мимо депутата. По странной прихоти акустики сквозь сплошной шум до ложи печати донесся его истерический выкрик:
— Мерзавец! Однозначно мерзавец! Я тебя в рыло!
Журналисты, сгрудившись у барьера, возбужденно переговаривались:
— Глядите, глядите… Графин взял, сейчас швырнет ему в голову… Э, нет, Родзянко вызвал думских приставов. Жаль, драки не будет…
У Чаплинского загудела голова от шума, он не мог больше оставаться в ложе. За ним в коридор вышел сотрудник «Нового времени».
— Не выдержали? — спросил он. — А мы привычные. Сегодня еще пасторальная сцена. В прошлый раз Пуришкевич вызвал на дуэль троих, а четырех удаленных из заседания депутатов от фракции трудовиков думские пристава вынесли на руках. Вы, позвольте поинтересоваться, из провинции?
— Из Киева, — ответил Чаплинский и веско добавил: — Прокурор киевской судебной палаты.
— В самом деле! Какая невероятная удача! Изволите видеть, я пристально слежу за киевским делом. Моя фамилия Розанов, литератор и член Религиозно-философского общества. Позвольте вас угостить! — восклицал нововременец, увлекая Чаплинского в помещение думского буфета.
Розанов имел странное асимметричное лицо, даже бородка на левой половине росла гуще, чем на правой. При этом выражение лица менялось каждую секунду и все равно не поспевало за стремительным бегом мыслей. В подслеповатых глазах мелькали то искорки веселья, то грусть, то безумие. Он говорил быстро и беспорядочно, перескакивая с одного на другое и мало заботясь о том, понимает ли его собеседник.
— Убийство Андрея Ющинского является доказательством тайного догмата крови, существующего в иудаизме. Тяга к крови — это всплеск той атавистической памяти, которая дремлет в душе каждого иудея. В сущности, они в этом не виноваты, как не виноваты волки, режущие овец. Так природой устроено, что около стад копытных неслышно бродят когтистые и зубастые хищники. Сравните нас и их, поглядите на их мясистые губы и толстые носы, настоящие обонятельные трубы. Семиты ходят вокруг арийских стад, вынюхивают, подкарауливают и лишь представится удобный случай — сразу впиваются в горло намеченной жертве.
Прокурор с трудом понимал необычного собеседника, а тот уже успел углубиться в тьму веков.
— Догмат крови берет начало с тех незапамятных времен, когда воинство израильское во главе с Иисусом Навином вторглось из пустыни в цветущую Палестину. История древнего мира не знала подобного по жестокости завоевания, настоящего холокоста, сиречь с греческого «принесение в жертву огнем», который евреи учинили над населением целой страны. Ну, конечно, тогда не существовало газет, которые сейчас трубят о погромах, направленных против несчастных евреев! Осталось лишь горделивое библейское свидетельство: «А всю добычу городов сих и скот разграбили сыны Израилевы себе; людей же всех перебили мечом. Так что истребили всех, не оставили ни одной души».
— Позвольте, мне как христианину неприлично выслушивать подобное толкование Священного Писания, — запротестовал Чаплинский.
— Что вас смущает? Библия говорит об этом совершенно открыто. Другое дело, что о многом в Библии умалчивается. Недаром талмудисты считают, что Тору следует понимать иносказательно. Талмудический мудрец Шимон бен Гохай, написавший трактат «Зогар», сказал: «Глупцы, обитающие на земле, разглядывают лишь эту одежду, то есть повествование Торы, и ни о чем больше не ведают и не задумываются о том, что находится под этой одеждой. Мудрые слуги вышнего Царя, те, кто стоял на горе Синай, вгляделись именно в душу, то есть в суть Торы, а в грядущем удостоятся того, что вглядятся в душу души Торы». Чтобы разобраться в этой тайнописи нужно знать методы каббалы: «пешат» — прямое значение, «ремез» — намек, «дераш» — толкование, и наконец, высший метод — «сод», то есть тайна. Знаете ли вы, что с помощью каббалы можно разъяснить тайну убийства Андрюши Ющинского.
— Разве? — недоверчиво протянул прокурор.
— Глядите, — Розанов вынул из кармана карандаш и принялся чертить им на накрахмаленной салфетке. — Вот контур головы Ющинского. В разных местах, у разных пророков встречается мглистый, глухо указанный отрок, коего влекут на заклание. Отцы церкви включили эти места в состав мессианских указаний на Господа нашего Иисуса Христа. Сообразно такому толкованию, в синодальном издании Библии печатается «Отрок» с большой буквы. Но можно ли было назвать «Отроком» тридцатитрехлетнего Сына Божьего? Оставим так, как было написано в древних манускриптах — просто «отрок» с маленькой буквы; и не забрезжит ли у нас мысль, что в пору Израильского царства уже существовал ритуал, в соответствии с которым ребенок в возрасте и невинности Андрея Ющинского, похищенный у соседних народов: хананеев, египтян, сирийцев — вообще у гоев, приносился в жертву в Святая Святых за завесой Иерусалимского Храма, куда лишь единожды в год, укрепив на нагруднике таинственные талисманы Урим и Тувим, входил первосвященник. И когда он выходил из-за завесы, вся толпа в ужасе вопрошала: «Жив ли ты?» После разрушения Храма и рассеяния иудеев по лицу земли, тайный ритуал сохранился и воспроизводится в разных городах и разных странах. Вот он, приготовишка духовного училища, отрок, выбранный за ангельское личико. Я рисую раны по фотографиям, напечатанным в газетах.
— Прозектор Туфанов делал снимки, — вставил Чаплинский.
— Низкий поклон ему. Ну-с, раны изобразили, а теперь, — Розанов взял вторую салфетку и, нарисовав десять кружков, соединенных прямыми линиями, прокомментировал: — Это таблица сефиротов, или каббалистических символов мироздания. Каждому сефироту соответствует буква древнееврейского алфавита. Совмещаем два рисунка: схему ран на виске и схему сефиротов. Видите, полное совпадение. Центральная группа ран — это буква «алеф», имеющая значение «человек». Она же символизирует Тельца, первый знак Зодиака. Астрологический момент показывает начало весны. Когда был убит Ющинский?
— Предположительно 12 марта прошлого года.
— По еврейскому календарю это месяц нисан, когда празднуется Пейсах и приносятся жертвы в память исхода из Египта. Но вернемся к нашим чертежам. Верхняя правая рана на виске Ющинского — это литера «фхе», ее значение «рот» или «голос». Верхняя левая рана — «реш», то есть «голова»; далее «тау» — «грудь»; далее «шин» — «острое орудие». Сводим всю цепочку и расшифровываем фразу: «Человек был убит ударами острого орудия в голову и грудь как жертвенный телец Иеговы, кровь его пролита, тело — достояние Азазела».
— Кого, простите?
— Азазела, предводителя падших ангелов, — запросто пояснил Розанов. — Ритуалисты верят, что если тело жертвы спрячут в укромное место, например, в пещеру, за ним обязательно явится Азазел.
Морща лоб, прокурор вглядывался в значки на салфетке, а Розанов продолжал:
— При чем же, спросите вы, литера «фхе», то есть «голос» или «рот»? А вот при чем. Согласно книге «Зогар», дети приносятся в жертву с замкнутым ртом, как бессловесные животные.
Чаплинский недоуменно таращился на схемы. Кружки, линии, квадратные литеры напоминали ему зловещий лабиринт, в котором он безнадежно заплутал. «В голову и в грудь!» Именно так был убит Ющинский. Что за мистика? Простое совпадение или нет?
Принесли две рюмки очищенной и блины с икрой. Розанов выпил с удовольствием, Чаплинский машинально. Аппетитно причмокивая, Розанов занялся закуской. А в буфет уже входил Замысловский, сопровождаемый каким-то господином в темной паре.
— Так я и знал, что вы удерете. Рекомендую, — Замысловский представил прокурору своего спутника: — Василий Алексеевич Маклаков, старший брат черниговского губернатора, коего мы с вами встретили у министра юстиции. Мы с Василием Алексеевичем добрые знакомые, хотя имеем противоположные политические взгляды. Он состоит во фракции кадетов и является нашим противником, причем не только в Думе. Василий Алексеевич приглашен на киевский процесс защитником Бейлиса.
Прокурор поклонился, удивляясь непохожести родных братьев: губернатора в золотом мундире с манерами расшалившегося гимназиста и серьезного, неброско одетого человека с простым, немного скуластым лицом. Василий Маклаков, по всеобщему мнению, был одним из лучших ораторов России. Да, Щегловитов прав, на процессе придется жарко!
— Я ознакомился с обвинительным актом и должен заметить, что улики против Бейлиса очень слабые. Уверен, его оправдают, — заметил Маклаков.
— Ну и черт с ним, пусть оправдывают, — беззаботно отозвался Замысловский.
— Зачем же вы готовите процесс?
— Неужели вы думаете, что нам нужен какой-то Бейлис? Нам вот что нужно, — Замысловский показал на салфетку с каббалистическими значками. — Нам важно доказать ритуал!
Глава девятнадцатая
15 апреля 1912 г.Бразуль-Брушковский стоял на Крещатике перед входом в иллюзион «Корсо», лениво размышляя, стоит ли покупать билет. Афиша завлекала новой фильмой «Женщина в сорок лет» с участием артистов Венского императорского театра. Но репортер не верил рекламе, думая, что никогда синематограф Люмьеров не станет вровень с настоящим искусством, никогда черно-белые человечки на полотне не сравнятся с игрой актеров на сцене даже самого захудалого провинциального театра. Мимо афиши синематографа бойко процокали каблучками две миловидных курсистки, брюнетка и блондинка. Догнав шедшего впереди них пожилого господина, кудрявая как овечка блондинка обратилась к нему со словами:
— Pardon, monsieur. Вы профессор Оболонский?
— Чем могу служить? — галантно поклонился старик, в котором журналист тотчас же узнал декана медицинского факультета. — Вам угодно осведомиться насчет экзаменов на женских курсах?
— Нет, мне угодно дать вам пощечину, — сказала курсистка.
В воздухе мелькнула изящная ладошка в шелковой перчатке. Это уже становилось интересным. Бразуль выхватил из кармана блокнот и подбежал поближе.
— За что, сударыня? — изумился профессор, держась за щеку.
— За лживую экспертизу по делу Ющинского.
— Ах да!.. — старик смутился и опустил голову.
Между тем к месту происшествия уже спешил городовой, дежуривший у входа в синематограф.
— Составьте протокол, — потребовала брюнетка.
Ее подруга, нанесшая пощечину профессору, струсила, но старалась не подавать виду и гордо тряхнула кудряшками.
— Прошу вас, не надо протокола… это ни к чему, — кротко попросил городового Оболонский.
Пряча глаза, весь красный от стыда, декан бочком юркнул в сторону. Городовой, пожав плечами, удалился, уступив место журналисту. Бразуль галантно представился барышням.
— Ой, как хорошо! Корреспондент «Киевской мысли»! — восторженно всплеснули руками курсистки. — Обязательно напишите в газете, что мы возмущены позицией профессора Оболонского. Это просто ужас, что он выдумал! Кровавый навет! Бесчестный человек, полицейский наймит!
Когда Бразуль кончил записывать, белокурая курсистка спросила:
— Нельзя ли напечатать в газете мою карточку? У меня есть хорошая карточка.
— Ах, Надя, что за мещанство! Ты ставишь свои индивидуальные интересы выше общественных. Главное, произвести демонстрацию от имени учащейся молодежи, а ты о какой-то карточке! — пристыдила ее подруга.
Курсистки пожали ладонь репортера, крепко и решительно, чтобы у него даже не возникло поползновения поцеловать их ручки, и зацокали каблучками по брусчатке. Бразуль двинулся в другую сторону, на ходу сочиняя текст заметки о том, как около иллюзиона «Корсо» на Крещатике декан одного из киевских высших учебных заведений О. подвергся публичному осуждению за медицинскую экспертизу по делу Ющинского. Из осторожности он решил обозначить Оболонского одними инициалами. Все и так догадаются, кому была устроена демонстрация.
К сожалению, случались и другого рода демонстрации. После того как благодаря статьям выяснилась роль Бразуля в деле Ющинского, репортеру частенько приходилось слышать по своему адресу «жидовский прихвостень». Конечно, оскорбления исходили от людей темных и отсталых, на которых не стоило и обижаться. Но даже товарищи-эсеры стали подозрительно коситься на Бразуля, недоуменно выспрашивая, чего ради он якшается с полицейскими и чинами жандармерии. Обидно, что отчасти такие вопросы были оправданными. Бразуля самого начало коробить, что руководство частным расследованием постепенно перекочевало в руки Красовского, бывшего станового пристава и начальника сыскного отделения. Марголин мельком сказал журналисту, что нанял Красовского и теперь они будут работать вместе. Бразуль принял это известие без воодушевления, но ему оставалось лишь подчиниться. Дальше все пошло хуже и хуже. На словах бывший пристав был предупредительным, но с мнением Бразуля совершенно не считался, взяв привычку оповещать его обо всем задним числом. Вот и сегодня он, ничего толком не объяснив, назначил свидание в Странноприимном доме.
На улице было жарко, листья давно распустились, вишни и яблони отцвели. Репортер поднялся по Трехсвятительской улице к Михайловскому Златоверхому монастырю. В сквере между зданием судебных учреждений и монастырем всегда отдыхали богомольцы, пришедшие поклониться мощам великомученицы Варвары. Все бы ничего, да только попахивало от запыленных странников так, что с непривычки можно было хлопнуться в обморок. Бразуль, зажав нос, переступил через нескольких спавших на земле богомольцев и вошел в монастырскую гостиницу. Найдя указанный ему номер, он толкнул дверь и увидел нищенскую каморку, посреди которой стоял колченогий стол, ломившийся от обильной снеди. Грудой были навалены устрицы, блестели вскрытые жестянки с анчоусами и горлышки бутылок. За удивительно роскошной для Странноприимного дома трапезой сидели Красовский, облаченный в красную венгерку, и двое молодых людей. С одним из них, высоким и вальяжным, одетым в летнюю студенческую тужурку, журналист был шапочно знаком.
Месяца полтора назад этот высокий молодой человек зашел в редакцию «Киевской мысли», представился Сергеем Махалиным и сказал, что он педагог, лишенный права преподавания за политическую неблагонадежность и живущий частными уроками. Он объяснил, что интересуется делом Ющинского и хотел бы помочь. Бразуль пожал плечами, недоумевая, какой может быть прок от визитера, и на всякий случай направил его к Красовскому. Видать, они нашли общий язык, иначе Махалин не сидел бы с приставом за одним столом. Третий из сотрапезников, незнакомый репортеру, был кавказцем могучего сложения. Его широкая грудь распирала студенческую тужурку.
— Амзор Караев, — представил его Красовский.
Журналист невольно залюбовался чеканным профилем кавказца. Он походил на абрека, какие когда-то бок о бок с Шамилем мужественно защищали свою землю от самодержавной экспансии. После длительной войны Кавказ был покорен, но не смирился.
— Между прочим, — горец произносил «мэжду прочэм», и в этих звуках репортеру послышался шум водопада, ниспадающего с каменной кручи, — я читал вашу статью про Мифлэ. Слепой убивал? Нэ поверю!
— Не придавайте большого значения той статье. Это был тактический маневр, — смутился журналист.
— Скажите честно, что Сибирячка заморочила вам голову, — засмеялся пристав. — Ну-ну, не дуйтесь, с кем не бывает промашки! Разгадка преступления в другом. Помните Варьку Кобылу?
Бразуль помнил кошмарное убийство, заказанное несколькими ворами, сидевшими в Лукьяновской тюрьме. Воры заподозрили, что их выдала некая Варька Кобыла, хозяйка притона. Отомстить за них вызвался молодой карманник, которого вскоре должны были выпустить из тюрьмы. Сразу после освобождения он направился в Варькин притон и быстро завоевал любовь стареющей хозяйки. Через неделю-другую карманник пригласил ее покататься на лодке. Парочка переправились на другой берег Днепра, нашла местечко поукромнее, чтобы заняться амурами, да только в самый нужный момент, когда Варька раскинулась на травке, парнишка шепнул ей на ухо: «Шо же ты, Кобыла, скурвилась? Вот тебе привет от хлопцев!» и с этими словами исполосовал женщину финкой, выколол ей глаза, отрезал язык и обе груди.
Бразуль, уязвленный пренебрежительным отношением пристава к журналистскому расследования, которому отдал столько сил, заспорил, что не усматривает никакого сходства между двумя убийствами. Варьку Кобылу зверски убили за то, что она была платной осведомительницей сыскного отделения. Только при чем тут малолетний Ющинский? Мальчик не мог иметь никаких связей с полицией.
— С полицией не имел, тут я соглашусь, — кивнул Красовский. — А с ворами? Опросами установлено, что Ющинский был худеньким, но необычайно сильным хлопцем. Он легко отрывал от земли двухпудовый куль. Худой, ловкий и сильный подросток — идеальный форточник. Его прозвали Домовым, потому что он хорошо видел в темноте и не боялся ночью гулять по погосту. Наконец, вспомните, где хлопчик учился?
Перед мысленным взором репортера мелькнули буквы, выдавленные на пряжке пояса: «Софийское духовное училище».
— Неужели?…
— Да-с! Имеются достоверные сведения, что шайка Веры Чеберяк готовила ограбление Софийского собора.
У Бразуля вспотели ладони. Вот это сенсация! В одно мгновение он мысленно нарисовал картину происшедшего. Ющинский — полусирота, лишенный ласки и внимания. От отчима он видит одни лишь побои. Тетка любит и жалеет его, но она баба. А мальчика тянет в общество фартовых ребят, собиравшихся в слесарной мастерской Мифле. Воры были предметом обожания лукьяновских мальчишек. Их ночными подвигами восхищались, им завидовали, да и как было не завидовать смелым, удачливым, с карманами, полными звонкой монеты. Как разительно отличается их привольная жизнь от каждодневного хождения в училище и нудной зубрежки! Просто счастье, что они позволяют услужить им. Однажды, когда Андрюше выпала удача сбегать по их просьбе в пивную Добжанского, один из воров похвалил расторопного хлопчика и обратил внимание на его пряжку с надписью «Софийское духовное училище».
Фартовые хлопцы неожиданно предложил составить им компанию. Андрюша и мечтать не смел, что его когда-нибудь примут в круг лукьяновской аристократии, а его не просто усаживают рядом, с ним обращаются как с равным, расспрашивают, правда ли, что он по ночам ходит по кладбищу? Польщенный подросток хвастает, что мертвяков не боится и в темноте видит как кошка. «А в соборной ризнице бывал? — словно невзначай интересуются воры. — Правду бают, шо там несметные сокровища али брешут?» — «У-у! Брульянтов и жемчуга горстями, золотой утвари пудов сто али тыща, — хвастает подросток. — Своими глазами видел. Там окошко есть, в ризнице-то. Взрослый не пролезет, а я голову между прутьев просунул, смотрю по шкафам митры и посохи прячут. Только сторож меня увидал и прогнал». — «Значит, голову просунуть можно? Це добре! Гарный ты хлопчик, Андрюша! Примечай все. Только помни наш воровской закон: у нас вход — рупь, выход — два».
Тем временем Красовский продолжал:
— Ограбление Софийского собора сорвалось из-за ареста нескольких воров из шайки Чеберяк. Воры стали гадать, кто их выдает, и решили, что это Андрюша. Суд у них, сами знаете, короткий. Заманили Ющинского на квартиру Чеберяков. Расправой распоряжался Петр Сигаевский, родной брат Верки. Он медвежатник, его многократно задерживали, но всякий раз выпускали по недостатку улик. Очень осторожен. Но мы к нему подобрались благодаря хлопцам.
Красовский широким жестом указывал на молодых людей, уплетавших устрицы. Белолицый Махалин, высосав раковину, утер пухлые губы и скромно сказал:
— Я-то что! Все сделал Амзор, человек без страха и упрека!
Кавказец, не отрываясь от еды, буркнул:
— Слушай, пэрэстань, да!
— Скромничает, а ведь три года отсидел в Лукьяновском тюремном замке! Амзора в тюрьме уважали и политические и уголовные. Все знали, что Амзора не сломить никаким карцером, никаким наказанием. Амзор — лев, он такой смелый, что если порассказать о его подвигах…
— Пэрэстань, — гневно оборвал своего друга Караев, и тот сразу замолк.
Пристав Красовский поспешно сказал, что ему известна репутация Караева и именно поэтому он предложил Сергею Махалину вызвать его письмом с Кавказа.
— Я тотчас же списался с Амзором и пригласил его вернуться в Киев по важному делу, — подхватил Махалин. — Правда, я умолчал, что приглашаю его поработать по делу Ющинского. Когда Амзор приехал и узнал, зачем его вызвали, он пришел в ярость. Как, говорит, ты мне предлагаешь быть шпиком! Он такой вспыльчивый, что я уже с жизнью распрощался. Но я объяснил Амзору, что дело Ющинского приобрело громадное общественное значение, что все передовые люди сплотились против кровавого навета.
— Ну и гроши тоже не помешают, — добавил Красовский. — Я думаю, комитет не пожалеет трехсот рублей на первый раз…
Не успел пристав договорить, как Караев вскочил, словно горный барс, гневно сверкая бешеными глазами:
— Слушай, да! Ты что, шакал, думаэшь, что Караев служит за твои поганые дэнги, да?
Бразуль закрыл глаза, испугавшись, что горячий горец убьет пристава на месте. Но Красовский был не робкого десятка, видать, насмотрелся всякого в сыскной полиции. Он сказал совершенно спокойным тоном:
— Не хочешь денег, не надо. Однако без накладных расходов не обойтись — извозчика нанять, перекусить в трактире.
— Это другое дэло!
— Ну, вот и договорились, — поспешно вставил Бразуль, пытаясь побыстрее замять бестактность пристава. — Однако я не до конца понимаю, в чем заключалась работа наших друзей.
Сыщик Красовский терпеливо разъяснил репортеру, что направил Амзора Караева к вору Плису. По его расчетам, вор должен был отнестись к Амзору с безусловным доверием, так как был наслышан о его мужественном поведении в тюрьме. На всякий случай Караева снабдили поддельной запиской якобы от разбойника Яшки Фетисова, проходившего по делу об ограблении казначейства. Амзор Караев должен был передать Плису, что Яшка просит устроить ему побег из тюрьмы.
— Прихожу я к Плису, гавару, что надо десять-пятнадцать джигитов, чтобы перебить, к шайтану, конвой. Гавару ему… Э-э-э… Пускай Сэрго дальше расскажет. Я нэ мастер гаварыть, я мастер рубить.
Караев, утомившись рассказом, вскочил с ногами на соломенный тюфяк в углу каморки, издал гортанный клич и наотмашь рубанул воздух рукой так быстро, что, хотя его рука была голой, в воздухе явственно послышался сабельный свист. Сергей Махалин, вздрогнув от свиста, восхищенно произнес:
— Вот черт! Дикарская силища!
— Гавары, Сэрго! — приказал Караев.
— Плис поверил Амзору и пообещал найти надежных хлопцев для нападения на конвой. Тогда Амзор невзначай говорит Плису: «Ходят слухи, будто под тебя самого копают по делу Ющинского». Плис выругался, что может погореть из-за проклятого байстрюка. Караев притворно посочувствовал его беде и предложил свести с человеком, который поможет отмазаться. Плис заинтересовался и согласился встретиться и потолковать со знакомым Караева насчет отмазки от дела.
— Позавчера Амзор привел Плиса сюда, и мы добились от него признания, — с торжеством закончил Сергей Махалин.
— Как? Он сознался в убийстве Ющинского?
— Вот в этом самом нумере, сидя на вашем месте.
— Но это же… это же… я просто не нахожу слов… это же раскрытие всего дела… Расскажите подробнее, как это происходило, — взмолился Бразуль.
— Вызвать Плиса на откровенность было непросто, но мы по предварительной договоренности с Амзором решили использовать элемент неожиданности. Амзор привел его в нумер и говорит мне: «Знакомься, Сергей, это Плис, настоящий убийца Ющинского, а вместе с ним в преступлении принимала участие Вера Чеберяк». Я жму ему руку и говорю: «Приятно познакомиться. Однако, я слышал от верного человека, что в жандармском управлении уже подписано распоряжение о вашем аресте». Плис страшно разволновался, стукнул кулаком по столу. Надо, говорит, выкрасть из жандармского все бумаги. Они в несгораемом шкафу у подполковника Иванова, эту жестянку вскрыть — раз плюнуть. Вы только, говорит, на стреме постойте, а я ночью проберусь в жандармское через чердак. Пришлось его отговаривать, сказав, что дело об убийстве Ющинского хранится в помещении, где постоянно дежурит наряд жандармов. Потом мы его сочувственно спрашиваем: «Что же это вы это убийство так неаккуратно обделали?» Плис плюнул с досады: «Это Борькина министерская голова так расписала».
— Борька — это вор из их же шайки, фамилия его Рудзинский, — пояснил пристав. — Борька из приличной семьи, но только пошел по скользкой дорожке. Он учился на фельдшерских курсач, следовательно хорошо знаком с анатомией.
— По словам Плиса, они убили Ющинского сгоряча. Сначала хотели просто постращать, выпытать, что мальчик успел выдать полиции. Но он начал кричать, тогда они пустили в ход финки. Спохватились, а мальчишка уже в агонии. Что делать? Вот Рудзинский и предложил «расписать шкета под жидов», чтобы пустить полицию по ложному следу. Сказано — сделано. Ну, а дальше они решили на время скрыться из Киева, потому что, как выразился Плис, «из-за байстрюка провалили клевую малину и надо было рвать когти». Но денег у них не было даже на трамвайный билет. Тогда они подломили оружейный магазин Адамовича на Крещатике, взяли большую партию биноклей и монтекристо. Потом выехали в Москву. Удачно сбыли товар, обзавелись деньгами, да только там же и попались, потому что Ванька Рыжий спьяну помахал в трактире катенькой.
Красовский пояснил:
— Ванька Рыжий, который сотенной ассигнацией размахивал, — это Иван Латышев. Настоящий разбойник с большой дороги, дерзкий до безумия. Ваньку Рыжего и Борьку арестовали в Москве и привезли в Киев под конвоем. Сейчас они в Лукьяновской тюрьме. Заметьте интересную деталь. Они отпираются от всех преступлений, но с готовностью признались в ограблении оружейного магазина Адамовича. Спрашивается, почему? Магазин был ограблен 12 марта прошлого года. У них это вроде алиби — были заняты грабежом, потом сразу выехали в Москву. Только убийство-то произошло утром 12 числа, а грабили они ночью. Промашка у них вышла с алиби.
— Все сходится, — с энтузиазмом воскликнул Бразуль. — Были бы еще вещественные доказательства!
— О вещдоках мы подумали в первую очередь, — кивнул Махалин. — Я сказал Плису, что раз уж они расписали убийство под жидов, то надо бить в одну точку. Не осталось ли, тонко так интересуюсь, вещичек после убитого — пальтишка или брюк. Говорю, давайте подкинем пальто какому-нибудь еврею, тогда все подумают про ритуал. Плис призадумался, потом сказал, что от байстрюка осталось пальтишко. Его можно подбросить. Вот только сам Плис не знает, где спрятаны вещи Юшинского. Об этом знает только Борька.
— Как же теперь быть, если Борис Рудзинский за решеткой? — с досадой заметил Бразуль.
— Слушай, да! — вмешался Караев, которому явно прискучили бесконечные разговоры. — Савсэм ишак надо быть, чтобы нэ понять!
Но Бразуль так ничего и не понял до тех пор, пока пристав Красовский не объяснил ему, что Рудзинского привезут на допрос к следователю. Караев встретит конвой и подаст Борьке условный знак. Вор попросится в отхожее место, где будет спрятана записка Плиса с просьбой указать, где спрятано пальто байстрюка, чтобы подбросить его еврею. На обратном пути Борька оставит в отхожем месте свой ответ. Журналиста, собственно говоря, пригласили, чтобы он засвидетельствовал факт передачи записки, потому что Караев и Махалин политически неблагонадежные и их показания судебные власти не примут. Идти надо уже сейчас, так как через полчаса Рудзинского доставят в окружной суд.
Журналиста охватил азарт. Ему никогда еще не доводилось участвовать в подобном предприятии. Его только беспокоило, не покажется ли он малодушным трусом Амзору Караеву, такому хладнокровному и решительному человеку из тех, что, не дрогнув, идут в террор. Когда они заперли номер и спускались вниз, Бразуль старался выглядеть беззаботным и фальшиво насвистывал веселую песенку.
В сквере, примыкавшем к зданию судебных установлений, группа разделилась. Пристав и репортер остались в сквере, а Караев и Махалин пошли за ксивой. Все время, пока они отсутствовали, Красовский жаловался на преследования со стороны прокурора судебной палаты. Чаплинский возбудил уголовное дело против бывшего пристава, инкриминируя ему различные должностные нарушения, в том числе незаконное содержание под стражей крестьянина по фамилии Ковбаса, подозреваемого в принадлежности к Украинской революционной партии.
— Ну да! Я продержал этого хохла в кутузке месяцев пять. И что с того! Слыханное ли дело, чтобы прокурор вступался за крамольников?
Журналист еле сдерживался от желания оборвать полицейского. Вот подлец! Бравирует тем, что держал в темнице его же, Бразуля, товарища по борьбе. Хотя негодование пристава понятно. Он привык плевать на закон, и прокуроры только укрепляли полицию в мысли о полной безнаказанности, когда произвол касался борцов против самодержавия. Но стоило приставу не угодить начальству, как ему сразу прищемили хвост, использовав даже такой предлог, как незакономерное содержание под стражей члена революционной партии. Прокурор судебной палаты мстит всем, кто пошел против ритуальной версии: Мищук в бегах, Красовский под судом.
В конце Костельной улицы показалась тюремная карета, за которой бежали Махалин и Караев. Вальяжный Махалин отстал, Караев же не отпускал карету дальше, чем на пять сажень.
— Я спрячусь, чтобы Рудзинский меня не узнал, — предупредил пристав, — а вы ступайте к сортиру, но постарайтесь не лезть ему на глаза.
Репортер свернул к выбеленному сарайчику в конце сквера. Краем глаза он увидел, как зарешеченная дверка тюремной кареты открылась, из кареты выпрыгнул конвойный с винтовкой, потом арестант в пиджаке, затем еще один конвойный. Караев вышел из-за дерева, незаметно для конвойных показал арестанту ладонь с подвернутыми пальцами и вошел в сортир. Когда конвойные пересекали сквер, арестант внезапно схватился за живот.
— Ой, моченьки нет!
— Ты че, спятил? — прикрикнул конвойный. — Здесь чистая публика гуляет.
— Служивые, разрешите в сортир.
— Не положено!
— Не дойду, ей-ей, не дойду!
— Хрен с тобой, топай, только не вздумай фортикулы выкидывать, а то пристрелим, — предупредил старший конвойный.
Бразулю так хотелось разглядеть Рудзинского, что он не вытерпел и подошел поближе. Арестант выглядел лет на двадцать пять. Его можно было принять за мастерового, однако по каким-то неуловимым признакам журналист сразу определил, что перед ним человек из уголовного мира. Прежде всего его выдавали глаза, бегающие и цепкие. В следующую секунду арестант взглянул на Бразуля, и на его грубой физиономии мелькнула тень подозрения. Журналист поспешно отвернулся, но было уже поздно.
— Навроде отпустило маленько, — арестант поднялся с корточек и вместе с конвоирами скрылся в подъезде суда.
Караев, наблюдавший эту сцену из сортира, выскочил наружу и яростно зашептал:
— Зачэм хадыл… нэ там хадыл… — от гнева он растерял все русские слова и замахнулся кулаком. Журналист втянул голову в плечи, но Караев ограничился тем, что еще раз злобно прошептал:
— Зачэм, шакал, хадыл?
К ним подбежали Красовский и Махалин.
— Степан Иванович, ну как же вы! — убивался пристав. — Я же вас предупреждал, чтобы вы не маячили перед арестантом.
Махалин ничего не говорил, только укоризненно вздыхал. Журналист готов был провалиться сквозь землю. Пристав Красовский подвел неутешительный итог:
— Записку передать не удалось. Где вещи убитого, неизвестно. Борька, поверьте моему опыту, теперь насторожится, ксивы от Амзора не примет. Плис тоже навострит.
Бразуль кусал губы от досады. Неужели все так безнадежно и уже ничего не исправить? Может, получится уговорить Сингаевского написать другую записку? Караев, еще не отошедший от припадка ярости, пробурчал:
— Плис еще гаварыл, что надо пришить два шмары, которые подсевают.
— Да, да, — подхватил слова своего друга Сергей Махалин. — Плис упоминал о двух сестрах, которые стучат полиции. Ну, мы пойдем, неровен час нас самих арестуют. Эх, верное дело завалили!
Бразуль остался наедине с Красовским. Пристав что-то соображал, шевеля усиками в такт своим думам. Чтобы прервать тягостное молчание, журналист спросил:
— Э… две шмары, которых подозревает Плис. Вы их знаете?
— Знаю. Собирался вас с ними познакомить, да теперь боюсь, что вы опять напортите.
— Помилуйте, не век же мне извиняться. Неужели встать на колени?
— Ладно! Кто старое помянет, как говориться. Шмары — это сестры Дьяконовы. Они многое знают, но пока плетут о каких-то сновидениях. Так и быть, пойдемте. Наверняка застанем их в Долине Роз.
Долина Роз располагалась в Царском саду на высокой днепровской круче неподалеку от Софийской площади. Давным-давно в огромных оранжереях выращивали экзотические цветы, виноград и персики, а среди кустов были установлены статуи и фонтаны. Потом старые постройки обветшали, и Долина Роз была сдана в аренду садовнику Христиани, устроившему там увеселительное заведение Шато-де-Флер. Вечером клумбы сияли электричеством, гремел оркестр, а на террасе у выгнутой эстрады одинаковые, как черные жуки, господа во фраках увивались за яркими бабочками киевского полусвета. Днем сад выглядел совсем иначе, тихо и сонно; рестораны еще не открылись, по желтому песку аллей лениво прогуливались редкие посетители.
— Дьяконовы белошвейки, но в основном зарабатывают не сиденьем за швейной машинкой, а лежаньем на спине, — объяснял Красовский. — Здесь они фланируют в надежде подцепить клиентов. Ага, вот они! — Красовский нагнал двух девиц под одним зонтиком и крикнул. — Катенька! Ксенечка! Честь имею отрекомендовать: Степан Иванович. Мы с ним друзья, оба москвичи!
— Какие они интересный кавалер! — одна из девиц сразу же продела руку под локоть журналиста и привалилась к нему полным плечом.
Пристав, обняв Ксению за полную талию, ушел вместе с ней вперед по аллее. Бразуль остался наедине с Екатериной, трещавший без умолку.
— Я сёдни гарный сон бачила, шо наша хата сгорела. Проснулась среди ночи такая радостная! Пожар — это к счастью. Опять заснула, приснилось, шо в коровью лепешку ботинком вступила. Это к богатству. А в Москве, говорят, богато грошей! Мы здесь в Киеве бедные, все готовы в Москву податься. А вы простой приказчик али кумпаньон? От какой хвирмы торгуете?
— Галантерейщик, — ответил репортер и протянул нараспев запомнившиеся ему слова из чеховского рассказа о сердечных страданиях приказчика галантерейной лавки. — Стеклярусные кружева по тюлю черные и цветные — самая модная отделка.
Белошвейка закатила от смеха подведенные углем глаза.
— Ой уморили! И где сичас тюлю носят? Сичас платье шантеклер носют. Такая мода у образованном благородном обчестве.
— Где же вам доводилось наблюдать образованное и благородное общество?
— Да уж, представьте себе, доводилось. У Веры Владимировны, чиновницы, собираются дохтура и професоры. Ванька Рыжий, еще Бритый с дружками.
Бразуль усмехнулся, представив себе профессоров по кличке Рыжий и Бритый. Он с тонкой издевкой поинтересовался у белошвейки, какие развлечения в образованном обществе?
— Известно какие! — отвечала девица, не замечая иронии. — Плясали польку, разные песенки пели. Вера Владимировна даже роялю мает. Иной раз — вот умора! — веселые гости носом или ногами по клавишах наяривали… В почту играли, кто кому неприличность напишет. Только давненько мы у Веры Владимировны не были, — вздохнула белошвейка. — Обидела она нас. Раз пришли, а она даже в комнаты не допустила. Предупредила, шобы не ходили туда, там у хлопцев дела.
— Какие же дела?
— Много будете знать, скоро состаритесь. Ваш приятель тоже обо всем допытывает. Угощает нас с сестрой, а сам расспрашивает, расспрашивает. Хитрый! Ой, чего это он один, а где же Ксюха? — пробормотала Дьяконова, испуганно глядя на Красовского, появившегося из-за поворота.
Пристав решительным шагом подошел к парочке.
— Ну, вот что, Катя! — сказал он строгим тоном. — Сестру твою я отослал купить для себя чулки в подарок. А нам с тобой пора серьезно поговорить. Твоя сестра обмолвилась, что ты видела убийц Андрея Ющинского?
— Ой, мамо ридная, шо вы ко мне чипаетесь. Москальская пеня на мою голову. Ничегошеньки я не бачила.
— Видела, видела! Боишься сказать, потому что Чеберячка запугала тебя тем, что донесет о твоем незаконнорожденном ребенке, которого ты задушила и закопала в огороде.
Даже под толстым слоем румян, покрывавших щеки Дьяконовой, было видно, как она побледнела. Бразуль придерживал ее за локоть, боясь, что она упадет в обморок. Между тем Красовский напористо продолжал свой допрос:
— Кого из мазуриков ты застала в квартире Чеберяк?
— Плиса… Ваньку Рыжего… Борьку… — испуганно перечисляла Дьяконова. — Они в комнатах чегой-то делали… Полы мыли… Таз стоял… Тильки нас с сестрой выпроводили.
— В ближайшие после этого дни заходила к Вере Чеберяк?
— Не знаю… не помню… — лепетала девица. — Мы однажды легли спати… тильки среди ночи на нас напал такой страх, шо мы побигли из хаты.
— Это случилось перед Пасхой?
— Не помню… Може, перед Пасхой…
— Так я тебя, красавица, поздравляю. Вам стало страшно, потому что вы ночевали в той комнате, где был спрятан труп убитого мальчика.
— Ой, мамо ридная! — вскрикнула девица на всю Долину Роз.
Красовский встряхнул белошвейку за плечи.
— Катя, тебе угрожает смертельная опасность. Но если будешь слушаться меня, все обойдется. Завтра отвезу я тебя в жандармское управление к подполковнику Иванову. Ты ему расскажешь все, что знаешь. Поняла?
— Ой, мамо! Меня ж пришьют хлопцы!
— Дура! Они все в тюрьме, кроме Плиса, да и того скоро посадят.
— Я боюсь.
— А не боишься, что сыщики ваш огород перекопают?
— Ой, не надо, тильки не это!
— Тогда поедем в жандармское. Я тебя сам до подъезда провожу и обучу, что и как сказать. На меня не ссылайся. Если прижмут, кто тебя сюда направил, держи язык за зубами, иначе будешь отвечать за своего младенца. В крайнем случае скажи, что тебя послал незнакомый человек. Поверят, не поверят — наплевать, лишь бы в протокол занесли. Не трусь, глупая! Иванов тебя не съест, он мужчина видный, военный. Хорошо тебе будет под… полковником, — цинично подмигнул пристав. — Ладно, ступай к сестре, помоги ей чулки выбрать. На вот еще пять рублей на булавки.
Едва белошвейка скрылась за поворотом аллеи, Красовский с торжеством повернулся к репортеру.
— Ну что, Степан Иванович! Дельце-то поддалось!
— Гм, кажется, но…
— Что но? — загорячился пристав. — Не цените вы мои хлопоты! Судите сами. Мотив убийства выяснен. Девиц, ставших случайными свидетельницами преступления, я вам отыскал. Наконец, получено признание одного из убийц. Могли бы и вещественные доказательства добыть, только не вышло, извиняюсь, не по моей вине. А главное, я выполнил всю черную работу, а вся слава кому достанется? Прогрессивному журналисту Бразулю-Брушковскому. Он и статью на моих материалах опубликует и спасибо, если хоть словом обо мне вспомнит.
— Статья выйдет забористая, — согласился Бразуль. — Ограбление собора, воровская малина, нравы преступной среды. Читающая публика падка на такие вещи.
— Ну вот, ну вот! Сейчас вы дело говорите, Степан Иванович! Давайте лучше царапнем по случаю раскрытия мною преступления и вашей будущей сенсационной статьи. Когда же они, подлецы, ресторан откроют? Эй, человек! Бутылку коньяка Шустова, да гляди у меня, неподдельного.
Бразуль проследовал за приставом на открытую веранду ресторана. Пристав сам разлил коньяк, поднял стопку, открыл рот, чтобы произнести тост, но журналист остановил его вопросом:
— Мне одно непонятно. Зачем вы направили свидетельницу преступления к жандармскому подполковнику? Ведь есть же следователь по важнейшим делам, он занимается этим убийством. На что нам здесь жандарм?
— Те-те-те! — задребезжал козлиным смехом пристав. — Ваш разлюбезный Фененко, извините великодушно, тюфяк-с! Начнет мямлить и рассусоливать, когда нужны быстрота и натиск. Нет уж, если мы Иванова вместе с жандармским управлением на свою сторону перетянем, то Чаплинскому придется утереться. В России тайная полиция всегда будет выше всяких прокуроров и судебных следователей!
Глава двадцатая
30 мая 1912 г.Лекцию профессора Сикорского слушало не более дюжины человек. Голубев сидел между Позняковым и Галкиным, облаченным в мундир прапорщика. Позняк чертил на листке бумаги девичий профиль, а Галка клевал носом. В первом ряду прилежно записывали слова профессора.
— Объективистская школа, которую обычно связывают с именем академика Бехтерева, надеется найти универсальный ключ для раскрытия тайн психизма…
Галкин громко всхрапнул, заставив профессора недоуменно поднять глаза на аудиторию. Голубев незаметно пихнул своего соседа в бок и улыбнулся Сикорскому, показывая, что все в порядке. Галкин виновато шепнул:
— Ни бельмеса не понимаю. Психизм… объективизм… я военный, не моего ума это дело.
— Делай вид, что записываешь, — буркнул Голубев. — И повязку держи наготове. Позняк, где твоя повязка?
— Передо мной, не беспокойся, — отозвался Позняков, взыскательным взором осматривая рисунок.
Сикорский продолжал лекцию, особо оттеняя свои разногласия с Бехтеревым и его последователями. Голубев осторожно вынул из кармана письмо Игоря Сикорского. Он сообщал, что устроился конструктором на Русско-Балтийский вагонный завод, где делают отличные автомобили: «Заводом управляет замечательный человек Михаил Васильевич Шидловский. Будучи морским офицером, совершившим кругосветное плавание, он ясно понимает, как можно достигнуть надежного плавания в воздушном океане. Я предварительно познакомил его с расчетами и чертежами моего аэроплана с четырьмя двигателями и с закрытой просторной каютой. Он загорелся, все одобрил и пожелал, чтобы постройка такого воздушного корабля была начата немедля». Перечитав письмо, Голубев подумал: «Удачи тебе, дружище! Построй летательную машину, какой еще свет не видывал, и соверши на ней перелет из Петербурга в Киев, а мы встретим тебя с военной музыкой!» В конце письма Игорь приписал, что тревожится за отца. От своих друзей из Политехнического института он узнал, что Ольга Константиновна при поддержке Семена Семеновича готовит химическую обструкцию против профессора Сикорского. Собственно говоря, по этой причине члены патриотического общества молодежи и представители студенческой академической корпорации присутствовали на лекции по психологии.
Вдруг наверху, на «камчатке», открылась маленькая дверца и чей-то голос выкрикнул:
— Эй, академисты! Поклон вам от Семен Семеновича и Ольги Константиновны.
В ту же секунду Голубев схватил две лежавшие перед ним марлевые повязки и бросился к кафедре. Он успел закрыть лицо Сикорского и сам заткнул нос еще до того, как сверху по ступенькам аудитории, шипя и плюясь пеной, скатился цилиндрический предмет. Галкин с военной сноровкой уже вскарабкался на подоконник и распахнул тяжелую раму. Удушливый дым пополз к окну.
— Уходим! Быстро! — скомандовал Голубев, бережно подталкивая профессора к выходу.
Вонь была невыносимой. Растяпа Позняков замешкался и теперь бежал к дверям, надрывно кашляя и хватаясь за горло. В коридоре их ждало новое испытание. Они попали в окружение полусотни студентов, скандировавших:
— Долой черносотенцев! Долой академистов! Сикорского вон из университета!
Хором дирижировали представители «Семена Семеновича» — так из конспиративных соображений именовался университетский Совет Союзов. У «Семена Семеновича» имелась дама сердца «Ольга Константиновна» — Объединенная Комиссия студентов Политехнического института. Состоявшая в безнравственном сожительстве парочка объявила бойкот экспертам, посмевшим дать заключение в пользу ритуальной версии. Хорошо, что письмо Сикорского-младшего вовремя предупредило о готовящейся газовой атаке, а то бы академисты и двуглавцы надышались бы какой-нибудь дрянью.
Численный перевес был на стороне противников, и Голубеву с друзьями оставалось только, сжав зубы, прорываться сквозь беснующуюся толпу. В конце концов они оторвались от преследователей, но выбираться на улицу пришлось кружным путем. Университетское здание представляло собой колоссальный параллелепипед с внутренним открытым сквером, и они прошагали с четверть версты по коридору мимо бесконечных аудиторий, залов и лабораторных помещений. На улице Голубев усадил Сикорского в пролетку. Впервые за время бегства профессор нарушил молчание:
— Видите, Володя, как тяжко приходится людям, пытающимся сказать правду. Декана Оболонского совсем затравили, боюсь, вскоре произойдет самое худшее. Прозектор Туфанов шепнул мне под секретом, что декан составил завещание и приготовил сильный раствор морфия. Меня ежедневно обливают грязью в газетах, называют шарлатаном и невеждой, хотя я сорок лет успешно лечил больных и среди киевских евреев пользовался особой популярностью.
Голубев произнес несколько ободряющих слов, но Сикорский не слушал его, прикрыв старческие веки. Распрощавшись с профессором, студент решил немного отдышаться, потому что все-таки хватил немного химической дряни. Он шел по Бибиковскому бульвару под распустившимися листьями высоких пирамидальных тополей, глубоко вдыхая свежий воздух, чтобы побыстрее очистить легкие. Ноги сами привели его к Первой гимназии. Шесть плоских колон поддерживали фронтон с двуглавым орлом — таким же, как на значке, что красовался на его груди. Двор гимназии был непривычно пуст: все классы с первого по седьмой уже распустили на летние каникулы, а восьмой выпускной класс корпел дома за учебниками, лихорадочно пытаясь наверстать упущенное и подготовиться к экзаменам, которые продолжались весь май и половину июня. Лишь несколько юношей в расстегнутых мундирах и помятых фуражках с выломанными из кокард гербами стояли у ограды. Они курили, по привычке пряча папиросы от посторонних взоров, и горячо обсуждали экзаменационные дела. Один из них — невысокого роста, худощавый, высоколобый, с ниточкой усиков над верхней губой — рассказывал товарищам:
— Перед началом экзаменов у нас была сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. На сходке постановили, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не примут в университет.
Голубев знал этого гимназиста, вернее, знал его старших братьев, сейчас уже студентов. Три брата Паустовских учились в Первой гимназии, и юноша, рассказывавший про сходку, был младшим из них.
— Константин, а евреи ничего не знают о сходке? — спросил кто-то из гимназистов.
— Нет! Мы поклялись сохранить это решение в тайне.
— Благородно!
«Глупо! — воскликнул про себя Голубев. — Боже, какие дурачки! Вот посмеются над ними хитрецы, в чью пользу они уступили медали!»
Он решительным шагом направился к гимназистам, чтобы объяснить им всю глупость их поступка, но в этот самый момент из-за угла выскочил мальчишка-разносчик. Он размахивал кипой газет и кричал пронзительным голосом:
— Убийство Андрея Ющинского раскрыто. Покупайте экстренный выпуск «Киевской мысли»! Сенсационное заявление Бразуля-Брушковского! Экстренный выпуск! Сенсационное заявление! Убийство раскрыто!
Голубев махнул рукой. Оборванный мальчишка вильнул к нему, протянул газету. Голубев, брезгливо принявший двумя пальцами «Киевскую мысль», поинтересовался:
— Есть русские газеты?
— Старый номер «Земщины», задешево отдам.
Голубев бросил разносчику копейку, бережно взял помятую «Земщину», но читать начал все-таки с «Киевской мысли». Перед глазами запрыгали строчки из статьи Бразуля-Брушковского: «…меня никогда не оставляло сознание того, что Вера Чеберяк является не свидетельницей, а участницей убийства Ющинского и что все ее показания даются, быть может, ею в целях отвлечения правосудия…»
Студент громко выругался:
— Ах ты, продажная шкура! «Не оставляло сознание». А кто совсем недавно на страницах этой же газеты обвинял в убийстве слепого Мифле?
«…тем не менее я счел необходимым не только довести до сведения властей о вышеназванных показаниях, но и предать таковые широкой гласности, дабы названные в качестве убийц лица определили свои роли и отношения с Верой Чеберяк…»
— Оправдывайся, иуда, оправдывайся! — пробормотал студент.
«…начиная с февраля месяца 1911 года в Киеве наблюдалось эпидемическое развитие всевозможных краж. Квартира Веры Чеберяк на Верхне-Юрковской улице № 40 являлась воровским притоном… Главную роль в сбыте украденного играла Вера Чеберяк. Обыкновенно, непосредственно после совершения кражи, она рано утром шла сбывать краденные драгоценные вещи в мелкие ювелирные магазины. Продажа краденного происходила без помехи, так как о совершении краж еще не могли появляться сообщения… Андрей Ющинский был свой человек в воровской квартире Веры Чеберяк. Мальчик исполнял разные поручения членов воровской шайки, переносил краденные вещи и неоднократно ночевал у Чеберяк…»
— Мерзавцы! Мало им было убить мальчика, надо еще его оклеветать! Пытаются сделать из ученика духовного училища воренка, замыслившего ограбить Софийский собор. Ставка на то, что все православные люди будут возмущены святотатством. Ах, негодяи! — Голубев в гневе швырнул газету на мостовую.
Разносчики продолжали кричать на всю улицу:
— Читайте сенсационные подробности убийства Ющинского в воровском притоне! Поименно названы убийцы: Сингаевский, Рудзинский, Латышев!
Голубев решил немедленно ехать на Верхне-Юрковскую. Запрыгнув в вагон трамвая, он увидел, что несколько человек держат перед собой «Киевскую мысль». Они читали статью Бразуля и взволнованно обменивались впечатлениями.
— Звери! Заподозрили, что хлопец донес полиции… Пытали, чтобы он признался, — ахал кто-то невидимый за раскрытой газетой.
— Чуешь, Парася, вони його кололи швайками… От ироды! — причитала кругленькая хохлушка, сидевшая позади человека, который вслух читал статью для нескольких любопытных слушателей.
Студент хотел крикнуть, что газета лжет, но промолчал, зная, что это бесполезно. От него только шарахнутся и опять уткнутся в клеветническую статейку, написанную по заказу и под диктовку евреев. Русские люди будут покупать еврейские газеты и не раскроют патриотического листка, будут бездумно повторять любой вздор и верить наглому обману.
Владимир сошел на трамвайной остановке и двинулся к дому № 40. Квартира Чеберяков была заперта. Он постучал несколько раз. Загремел засов, дверь отворилась, на пороге возник пожилой мещанин.
— Мне Веру Владимировну.
— Съехала с квартиры, — враждебным тоном ответил мещанин, пытаясь закрыть дверь.
Голубев успел подставить сапог в щель, и мещанин вынужден был отказаться от своего намерения. Когда он отступил, студент случайно взглянул на его поддевку, и на сердце потеплело при виде Георгия Победоносца на коне, значка Союза русского народа.
— Вы, как я погляжу, истинно русский? — спросил он.
— Да, состою в лукьяновском подотделе, — пропыхтел мещанин, возобновляя попытки захлопнуть дверь.
— Я — Голубев, секретарь «Двуглавого орла».
— А!.. Свой! — мещанин отпустил дверную ручку. — Извиняюсь, испужался. Ходит всякое жулье, спасу от них нема! Захарченко, здешний домохозяин. Я было подумал, шо вы с Веркиной шайки. Года два я пытался ее выжить. Уж о плате, якую она задолжала, и не поминал. Тильки бы с квартиры убралась. Куда там! По правде сказать, я боялся прибегнуть к содействию полиции. Неровен час встретишься с ее дружками на темной тропке. Благодарение Господу, арестовали почти всю ихнюю шайку. Заходи, мил друг, — пригласил он. — Ты ж наш человек, черносотенец.
Голубев переступил порог знакомой квартиры. Вот коридор, вот кухня, гостиная. Без мебели квартира выглядела еще более убогой. Домовладелец остановился у обшарпанной стенки, выругался:
— Приличные были обои, еще бы повисели годков десять. Нет, изгадили все в конец. В ум не возьму, якую гадость вони на стены прыскали? Всю обстановку вывезла. Рояля была, от одного несостоятельного жильца в залог осталось — вывезла воровка. Бог с ним, с роялей! Шо сотворили душегубы! — домовладелец вынул из кармана газету, ткнул в нее волосатым пальцем. — Зарезали хлопчика! И где? В моем доме! Кому теперь эту квартиру сдашь?
— Ошибаетесь! Андрюшу убил Мендель Бейлис.
— Мендель?! — захохотал мещанин. — Мендель, мил друг, трудяга, с рассвета до ночи на заводе. Нет, Мендель тут ни при чем. Чеберячка и ее дружки хлопчика зарезали, це дило ясное, як билый свит.
— Я удивляюсь, — пожал плечами Голубев. — От кого бы другого услышать, но от истинно русского! Неужели вы не понимаете, что жиды — наши злейшие враги!
— Хто спорит? Ясно, христопродавцы! Як тилько их земля терпит, — Захарченко взъярился и погрозил кому-то кулаком. — Эх, мил друг, мы, русские, трохи добренькие, по-настоящему, к примеру говоря, надобно подать слезную петицию царю-батюшке: мол так и так, не стало православным житья от жидов. Распубликовать бы царский манифест, шо, значит, наказуется всем жидам миста Киева с околицами выбратися на Кирилловской. И погнать их по улице в яры, хучь, к примеру, в Бабий яр — там все христопродавцы уместятся. Выкосить бы жидов до седьмого колена, шобы, к примеру говоря, и духом жидовским не пахло в мисте святых печерских угодников! А Мендель не виноват, ты это брось! Мендель — честный малый, а Сибирячка — воровка. Моя дочка, мил человек, держит мелочную лавочку, товар у нее забирают в кредит по книжкам. Сибирячка тоже, як путная, маяла книжку, тилько бачит дочка, шо вона робит подчистки — у книжке показано, шо забрала товару на рупь с двугривенным, а она подчистит, и выходит двенадцать копеечек. Ну, не воровка!
— Я ее честность не хвалю, однако, согласитесь, что между мелким жульничеством и зверским убийством — дистанция огромного размера, — заметил Голубев.
— Э, мил человек, кто почал с подчистки, тот уж не остановится, покатится по тому шляху до душегубства. На Лукьяновке любой тебе скажет, шо це дило зробила Сибирячка и ее дружки, больше некому. А Менделя не трожь, он тут ни с якого боку, — убежденно сказал Захарченко.
Голубеву надоело с ним спорить, и он спросил:
— Куда съехали ваши жильцы?
— Не знаю и знать не желаю. Наняли фатеру где-то неподалеку, пошукай.
Вера Чеберяк, действительно, поселилась неподалеку от прежнего дома, и первая же встречная баба показала ее новое жилье в лукьяновском проулке. Голубев перепрыгнул через повалившийся плетень и подошел к крыльцу, на ступеньках которого сидел мужчина, занятый сворачиванием цигарки.
— Вера Владимировна дома? — спросил студент.
— Вали отсюдова, — отрывисто бросил мужчина, слюнявя папиросную бумагу.
Лицо его было грубым, с тяжелым подбородком, с глубокими складками, словно наскоро вытесанными плотником при помощи самого незатейливого инструмента. Черный как смоль, он напоминал цыгана. Косая челка закрывала покатый лоб и массивные надбровные дуги.
— И не подумаю. А будешь грубить, научу тебе вежливому обращению, — предостерег Голубев, принимая боксерскую стойку.
Сидящий на крыльце мужчина не производил впечатление силача. Но не успел студент сделать и шага к дверям хаты, как мужчина, не поворачиваясь и не меняя позы, неожиданно и стремительно выбросил вперед растопыренную пятерню. На боксерском ринге Голубев мог нокаутировать даже сильного любителя, но то на ринге, с рефери, командующим «Брек!», с секундантами, которые обмахивают боксера в перерывах между раундами. Перед приемчиками, отработанными в тюремных камерах и арестантских вагонах, студент был совершенно беспомощен. Он пропустил подлый финт когтистой пятерни, а когда вскрикнул от слепящей боли в глазах, его ударили еще раз — локтем в пах, и он как подкошенный рухнул на крыльцо. В следующее мгновение он ощутил на шее лезвие финки.
— Не сучи копытами, легавый! Перо вставлю!
Голубев при всем желании не смог бы пошевелиться. При падении он сильно стукнулся затылком о ступеньку и лежал беспомощный и недвижимый. Откуда-то из тумана донесся голос Веры, выскочившей на крыльцо.
— Плис, ты шо, взбесился! То ж мой знакомый, студент. Убери перышко. Ты его часом не пришил?
— Не, тильки вырубил фраера. Нехай полежит… Ну шо, скумекала?
— Как ни крути, а надо брать на себя магазин Адамовича.
— Сука! Бубнового туза мне шьешь?
— Ты рассуди, что лучше: четыре года али двадцать лет каторги?
— Нема моего согласия на нары.
— Дубина! Борька и Рыжий все скумекали. Еще повезло, что в то время подломили Адамовича, иначе гулять бы по бессрочной. А четыре года — тьфу, ты ж не простым жиганом в общей шпанке пойдешь, тебя сразу иваном признают.
— Меня, значит, галетником в трюме повезут, а ты по Киеву хвостом трясти будешь! Через твои гулянки, шалава, погорели! Ты чому с газетчиками корешилась? Ссучилась до того, шо пропечатали в газете.
— Ага! Как барахло сбывать, так я нужна и знакомства мои нужны… Ну вот что, я тебе по-родственному совет дала, дальше как знаешь. Мне о себе тоже подумать надо. Как бы мне самой бубнового туза на спину не нацепили! Согласен на мой план?
— Треба обмозговать.
— Мозгуй… Ко мне на хазу больше не ходи, легавых полно. Ступай огородами.
Минут через пять Голубев почувствовал прикосновение влажного платка к вискам. Вера Чеберяк спросила его:
— Очнулся?
— Кто… это… был? — выдавил сквозь разбитые губы Голубев.
— Братишка мой Плис. Что же ты полез в хату, не спросясь? Плис этого не любит. Скажи спасибо, что я вовремя на крыльцо выскочила.
Тяжело ворочая языком, Голубев сказал:
— Плис… Сингаевский… О нем написала «Киевская мысль»…
— Читал уже? Все вранье! Змея подколодная — этот репортер Бразуль. Зимой, когда у меня злоба была на Павлушу Мифле, он подъехал тихой сапой и все, что я ему по-бабьи наболтала, тиснул в своей газете. Обещал, что до суда не дойдет, что я могу разукрасить дело, как хочу, лишь бы им выцарапать Менделя из тюрьмы. Точно помню его слова: «Прокурор Чаплинский поедет в Петербург за медалью, а мы тут и ахнем, выйдет для них большой скандал». Они и сейчас вокруг меня ходят — Бразуль с этим Красовским, который раньше в сыскном служил. Вызывают меня записками на электрическую станцию, а оттуда идем в ресторан третьей артели или в Северный на Большой Владимирской. Там в отдельном кабинете накрывают стол — вино, закуска, видать, гроши у них есть. Угощают и уговаривают взять убийство на себя. Давно уговаривают, начали еще с Харькова, куда меня возили на встречу с человеком от еврейского общества. Его представили как члена Государственной думы. Только навряд ли. Как вернулись в Киев, мне Бразуль говорит: «До свидания, Вера Владимировна. Идите домой, только не оглядывайтесь». Ну, я, конечно, зашла за угол вокзала, выглянула осторожненько. А репортер-то шасть к вагону первого класса, а оттуда спускается тот самый важный господин, что был в Харькове. Нашим же поездом в Киев вернулся. Месяца два или три назад я встретила его в коридоре окружного суда, только он, як меня завидел, сразу шмыгнул в какую-то комнату. Он из себя полный, среднего роста, без бороды, усики черные, голова с проплешиной, глаза карие, навыкате, — с полицейской точностью перечислила приметы Вера Чеберяк.
— Погоди! — Голубев сел и, охнув от боли в ушибленном затылке, взволнованно заговорил. — Судя по описанию, это Арнольд Марголин, адвокат Бейлиса.
— Марголин?! Из тех Марголиных, которые пароходами владеют? Из миллионщиков? То-то он сулил сорок тысяч за подпись, что я убила Ющинского.
— Марголин предлагал деньги?
— Сорок тысяч как одну копеечку! Слушай! — очевидно, в голову Чеберяк пришла новая комбинация. — Если я расскажу, как меня хотели подкупить, им веры не будет. Я на всякий случай запаслась доказательствами. Они старались скрыть все следы нашей поездки, только не на дуру напали. Погоди-ка…
Чеберяк ушла в хату, быстро вернулась и сунула студенту сложенный вчетверо листок и почтовую открытку. Листок оказался рекламным объявлением харьковской гостиницы «Эрмитаж», а на открытке был вид города Харькова.
— Мужу послала, — объяснила она. — И еще в гостиничном нумере в неприметном месте написала свое имя-отчество и поставила дату. Всегда можно проверить, была ли я в Харькове. Наплачутся они у меня!
Пока она строила планы мести, Голубев обдумывал новый поворот в деле Ющинского. Он не знал, следует ли доверять Чеберяк. Слишком часто она лгала! Студент по-прежнему подозревал, что Вера многое недоговаривает о своих делишках с обитателями еврейской усадьбы. Однако сейчас она сама попала под обвинение. Надо воспользоваться благоприятным моментом.
Студент сказал как можно решительнее:
— Вера! Слов нет, ты припасла увесистый камень для Марголина. Но как ты ни хитра, они все равно отправят тебя на каторгу ради спасения Бейлиса.
Вера Чеберяк помрачнела. Она сидела на крыльце рядом со студентом, машинально складывала и разворачивала гостиничное объявление. Сейчас были отчетливо видны стрелки морщин, разбегавшихся от краев губ, и глубоко запавшие глазницы. Голубев удивлялся тому, что еще недавно лицо этой стареющей женщины казалось ему привлекательным. Он чувствовал ее колебания.
— Решайся! Я не верю, что Женя унес с собой в могилу тайну преступления! Неужели твой сын не открыл тебе, как погиб Андрей Ющинский?
— Родной матери не сказал! — горько вздохнула Чеберяк. — А вот отцу все открыл. Видишь ли, покойный Женька был очень привязан к Василию, хоть он ему только по метрикам отец. Вечно они мастерили всякую ерунду, еропланы разные, нет бы табуретку для кухни починить. После смерти Женьки мой муж ровно умом тронулся. Он и раньше зашибал, а сейчас и вовсе не просыхает. Глушит горилку и Женьку поминает. О том поминает, чего мне самой было невдомек. Женька ему рассказывал, как он под прошлую Пасху заходил к Менделю за молоком и застал там трех человек. Одного он знал — это Файвел, который у Бейлисов столовался. Двое других были виду самого необыкновенного: бороды длиннющие, одеты в черные облачения вроде мантий. Пожилые, один и вовсе старик. Женька божился, что никогда раньше не встречал таких. Вылупил он на них глаза, а они на него, тычут пальцами и переговариваются на непонятном языке, не так, как наши киевские жиды. Женьку разобрал страх, он и деру, даже кринку позабыл.
Но это присказка, сказка впереди. На следующий день к Женьке пришел Андрюша и позвал покататься на мяле. Крутились они вдвоем, дочки мои смотрели. Вдруг откуда ни возьмись появляется Мендель, а с ним Файвел и двое жидов в странных одеждах. Ребятня бросилась в рассыпную. Они знают, через какую дыру удрать, нипочем их не поймаешь. Собрались на дворе, хохочут. Только глянь — Андрюшки Домового нет. Поначалу, конечно, значения этому не придали, подумали, что он убежал через Кирилловскую. А через неделю его труп нашли в пещере.
— Почему же никто из вас не рассказал о людях в странных одеяниях. Женя молчал до смерти, теперь Василий молчит. Ты от меня скрывала, всем врала! — простонал Голубев.
— Кто нам поверит? Ведь муж мой ходил к Фененко еще зимой, хотел открыть правду о двух жидах в мантиях. Только следователь велел ему идти домой проспаться. Ну да, муж был выпимши, принял для куражу! Но выслушать-то его надо было или нет? Вот так-то!
Голубев был возмущен до глубины души. Выходит, следователь Фененко располагал подтверждением слухов о том, что мальчик был похищен ритуалистами. Знал, но предпочел сделать вид, что не знает. Чему удивляться! Достаточно вспомнить, с какой предвзятостью он вел следствие, как он игнорировал указания на ритуальный характер преступления, как допустил по предварительному сговору с ритуалистами, пожар на конюшне, где были припрятаны орудия убийства.
Студент горячо заговорил:
— Баста! Я сегодня же пойду к Чаплинскому и скажу ему: «Немедленно меняйте следователя». В крайнем случае сам телеграфирую Щегловитову. Пусть из Петербурга пришлют честного следователя.
Вера Чеберяк недоверчиво улыбнулась. Наверное, это было смешно: сидит на крыльце юноша, утирает расквашенный нос и раздает обещания от имени прокурора и министра. Но слова Голубева дышали такой убежденностью, что Вера прогнала с лица улыбку.
— Если пришлют другого следователя, мы с мужем обо всем расскажем. Дочка моя Людка тоже расскажет, как евреи гонялись за ними. Расскажет, если я ей велю.
Уже прощаясь с Верой, студент спросил:
— Ты еще упомянула какого-то Файвела, который был вместе с людьми в странных одеяниях.
— Он торговец сеном. Холостой, поэтому ходил обедать к Бейлисам. Он часто балагурил с хлопцами на улице, особенно с Андрюшей Домовым. Говорил, что служил солдатом на японской и знает многих пленных, оставшихся в Маньчжурии. Шутил: надо бы твоему батьке, Андрюша, весточку дать, что у него такой гарный хлопчик вырос, пусть возвращается из чужих краев. Домовой уши развесил, бегал за ним, расспрашивал, куда письмо послать.
— Где теперь этот Файвел? Ищи ветра в поле! — с досадой сказал студент, но Вера Чеберяк неожиданно ответила:
— Я его сегодня утром видела.
— Да ну!
— Его лавочка в доме, где пивная Добжанского, на углу Татарской. Ты его сразу найдешь. Он долговязый, бороду бреет и усы светлые, на жида даже не похож, видать, действительно в солдатах служил.
Несколько сот шагов до пивной дались Голубеву с большим трудом. Он еле переставлял ноги, время от времени постанывая от боли в паху, куда его ударил Плис. Сбоку пивной были ступеньки, ведущие в подвал. Вместо вывески висел клок старого сена. «Должно быть, сенная лавка. А вот и хозяин», — решил Голубев. Человек, поднимавшийся по ступенькам из подвала, был высоким, длинноногим, с гладко выбритым лицом, хитрыми, вострыми глазами. Он напомнил студенту контрабандиста из тех, кого описывают в приключенческих книжках. И шагал он быстро, словно удирал от пограничной стражи с тюком контрабандного товара на плечах. Файвел воровато оглянулся и шмыгнул за ограду кирпичного завода. «Так, так! Все дороги ведут на завод», — подумал Голубев и последовал за ним.
Под навесами грузили кирпич, суетились возчики. Обе печи, нижняя и верхняя, вовсю дымили. Файвел, не подходя к печам, направился по тропинке, вьющейся по склону горы. Студент притаился за деревом на краю склона. Отсюда хорошо были видны постройки на Кирилловской улице. Вскоре крошечная фигурка Файвела на мгновение появилась и сразу же исчезла в одном из домов. Голубев, досконально изучивший территорию завода, заключил: «К Хаиму Дубовику пошел!»
Преодолевая боль, студент спустился по тропинке к новому кирпичному зданию богадельни, стоявшему на краю огромного глинища. Когда Голубев в разговоре с отцом описал кирпичный завод, старый профессор взволнованно воскликнул: «Володя, судя по твоему описанию, именно на этом месте Викентий Вячеславович раскопал Кирилловскую стоянку. Я тебя с ним знакомил, он хранитель археологического отдела в музее древностей». Действительно, студент Голубев мельком видел пожилого чеха Хвойку, бывшего учителя и любителя археологии. Он открыл древнейшее поселение на Подоле и обнаружил бивни мамонта, покрытые резным орнаментом, кости носорога, зубы льва, кремневые ножи древних людей. Отец вздохнул, вспоминая молодые годы: «Поверишь ли, Володя! Там было самое живописное место в окрестностях Киева. Шумели вековые дубы, а какой замечательный вид открывался на Почайну!»
Хорошо, что отец не видел, во что превратилось живописное место. Владельцы усадьбы спилили могучие дубы и пустили их на дрова, понастроили уродливых навесов и печей, задымили чистейший воздух дымом из двух труб, а стоянку древних людей срыли до основания. Теперь на месте стоянки глубокое глинище. «Из праха наших предков выделывают кирпич и строят свою синагогу», — с ненавистью думал он, глядя на пристройку к богадельне. В сущности, синагога лишь снаружи выглядела пристройкой. При внимательном осмотре обнаруживалось, что это было отдельное здание на собственном фундаменте, одной стеной примыкавшее к богадельне. Неделю назад Голубев выяснил в городской управе, что постройка была заложена 13 марта прошлого года, то есть на следующий день после исчезновения Ющинского. Совпадение было более чем зловещим, и Голубев заподозрил, что кровь мальчика понадобилась для освящения замаскированной молельни.
Теперь, когда он узнал от Веры Чеберяк о необычных гостях Бейлиса, он мог восстановить ход событий. Люди в мантиях без сомнения являлись цадиками, прибывшими на закладку синагоги из-за границы, скорее всего из Галиции, где укоренился догмат крови. В Киеве у ритуалистов имелись сообщники, заранее приготовившие все необходимое. Несомненно торговцу сеном Файвелу отводилась особая роль. Он наметил жертву в лице мальчика, полусироты, чье исчезновение никого не должно было взволновать. Студент не мог не подивиться изощренному коварству Файвела, завоевавшего доверие подростка заверениями, что знает его отца. От Андрюшиной тетки Голубев знал, что Андрюша мечтал о том, что когда-нибудь его родной отец вернется и заберет его от матери и отчима. За человеком, пообещавшим помочь в розыске, мальчик пошел бы на край света.
Вот так его и заманили в ловушку. Конечно, он легко удрал бы от стариков в мантиях, но Файвелу он доверял. Может быть, тот даже соврал, что наконец-то пришла весточка от Андрюшиного отца. Мальчика, убаюканного лживыми речами, внезапно схватили у гофманской печи. Отрока принесли в жертву, выточили из его тела непорочную кровь и замуровали ее в фундамент синагоги. На следующий день состоялась официальная закладка здания и банкет для губернских чиновников. Голубев задал себе вопрос, действительно ли приглашенные поверили, что строится столовая, или им было все равно где угощаться — хоть на окропленных кровью камнях?
Пока Голубев огибал синагогу на крови, к дому управляющего, в котором скрылся Файвел, подошли еще несколько человек. В женщине, поднявшейся на крыльцо, он узнал жену Бейлиса — Эстер, а в сопровождавшем ее мужчине — его брата Аарона. «Все сектанты в сборе. Где же сам Дубовик?» — подумал студент и тут же увидел старого управляющего. Он вприпрыжку выбежал из дома и торопливо начал открывать ворота на Кирилловскую. За Дубовиком высыпали люди в ермолках и столпились у ворот, в которые въезжал экипаж. «Ага! Раввин прибыл!»
Толпа людей в ермолках окружила экипаж, Дубовик предупредительно помог раввину выйти и повел его в дом. Остальные проследовали за ними, двор опустел. «Как же незаметно подобраться поближе?» — ломал голову Голубев. Он присел на стопку кирпичей и прикрылся газетой, невольно пожалев о выброшенной «Киевской мысли». Черносотенная «Земщина», купленная у мальчишки-разносчика, могла выдать его с головой. На всякий случай он оторвал название и, проделав в газете небольшую дырку, следил за домом управляющего.
Из дома никто не выходил. Ни в конторе, ни в хирургической лечебнице не было заметно никакого движения. Краем глаза студент увидел слово «хасиды» в газете, которую держал перед собой. Заинтересовавшись, он прочитал всю статью: «Первым представителем секты хасидов в России был знаменитый Залман Шнеерсон. Он жил в Подолии. В 1797 году присужденный за ритуальное убийство к смертной казни, он был в цепях доставлен в Петербург, но от смерти спасен масоном Сперанским. Внук Залмана Шнеерсона — Мендель Шнеерсон был цадиком в местечке Любавичи. В 1852 г. он оказался замешанным в саратовском ритуальном убийстве. В материалах следствия имеются показания свидетелей-жидов, что кровь зарезанного ими ребенка предназначалась для отправки в Любавичи к цадику Шнеерсону. Сын Менделя Шнеерсона — Шолом Дов Бер Шнеерсон здравствует до сих пор и состоит тем же любавическим цадиком, причем к нему стекаются на поклон все наиболее видные представители этой секты. Род Шнеерсонов известен тем, что с именем членов этого семейства связаны почти все ритуальные убийства, совершаемые в России…»
Вдруг из дома Дубовика донесся истошный крик младенца. Голубев подскочил на скамейке. Ребенок кричал, будто его резали. А может, его и в самом деле режут? Студент кинулся к дому, дернул за ручку двери, она не подалась. Голубев бросился к окну, но оно было довольно высоко. Изнутри под детский плач читались молитвы на еврейском языке. Студент взобрался на завалинку, прижался лицом к стеклу и остолбенел.
Он ожидал увидеть нечто ужасное, но действительность превзошла все его опасения. По комнате были расставлены семисвечники, горело множество огней. Дюжина евреев стояла спиной к Голубеву, лицом к двум креслам в углу. Одно кресло пустовало, в другом сидел раввин с окровавленным младенцем на руках. Ребенок дергался изо всех силенок, но его ножки и ручки были крепко спеленаты. Рядом с креслом стоял седобородый еврей, облаченный в четырехугольное полосатое полотнище со скрученными кистями по углам. Положив на столик длинный окровавленный нож, он взял с вышитого письменами покрывала блестящий инструмент вроде хирургических ножниц и заточил им ноготь на большом пальце правой руки. Потом седобородый склонился над кричащим младенцем и что-то сделал. Младенец закричал и задергался от невыносимой боли. Седобородый воздел к потолку руки, с которых стекали красные капли и пробормотал заклинание на еврейском. Потом, как будто не насладившись мучениями ребенка, он снова припал к окровавленной ране и начал высасывать из нее кровь.
Голубев не выдержал. Спрыгнув с завалинки, он бросился к двери с намерением высадить засов. Удар ноги, и дверь распахнулась. Голубев мельком заметил длинный, богато накрытый стол в боковой комнате. Он пробежал дальше и уткнулся в спины евреев, столпившихся на пороге второй комнаты. Студент прорвался сквозь толпу и увидел, как старый еврей в полосатом полотнище с кистями распрямился, сплюнул кровь в металлический сосуд. Его седая борода стала красной. Еврею подали серебряную чашу, он поднял ее и окровавленными губами произнес несколько заклинаний, стараясь заглушить крики ребенка.
Голубев рванулся вперед, чтобы схватить седобородого за горло, но тут человек, стоявший впереди него, обернулся и сообщил:
— Мальчику дали имя Хаим в честь дедушки.
— Так это жиденок? — сразу остыл Голубев.
Обернувшийся к нему еврей, а он был тем самым Файвелом, которого выслеживал студент, не обратил внимание на слово «жиденок» то ли потому, что среди простонародья оно было общеупотребимым, то ли просто не расслышал, будучи взволнованным торжественностью минуты. Он доброжелательно поинтересовался:
— Вы, я вижу, русский? Наверное, пришли к управляющему по делу? Должен вас огорчить — он вряд ли сегодня будет заниматься делами, ведь его внуку исполнилось восемь дней, и могель делает ему обрезание. Какой он урод! Вырастет дурнем и плутом!
— Да, да! Какой хилый, некрасивый! — радостно подтвердили все остальные.
Седобородый с окровавленными ртом, нараспев читавший молитвы, согласно кивнул головой, а молодой еврей, отец ребенка, блаженно улыбнулся. Голубев слышал об еврейском суеверии, предписывающем как можно хуже говорить о новорожденном, чтобы на его жизнь не польстились злые духи. Теперь он понимал, что стал свидетелем обряда обрезания.
— Долго его будут мучить? — скривился он.
— Почти заканчивают. Могель уже трижды сделал мецица, то есть высосал кровь из ранки, теперь — молитва, а после — праздничная трапеза.
— А что в молитве?
— Извиняюсь, я плохо понимаю священный язык, — вздохнул Файвел. — Когда-то меня учили, но в солдатах я все позабыл. Кажется, могель говорит из пророков: «В крови твоей ты будешь жить! В крови твоей ты будешь жить!» Мне довелось слышать толкование этой молитвы. Дважды повторяемое слово «кровь» означает, что каждому еврею дарована двойная жизнь в воздаяние за кровь, пролитую при обрезании, и за кровь пасхальной жертвы. Могу спутать по невежеству, но, кажется, это толкование из сидура «Тегилат гашем», составленного рабби Шнеуром Залманом.
— Шнеерсоном!? — вздрогнул Голубев.
— Да, да, верно! Как велика слава рабби, если его имя сияет даже пред глазами гоев! А ведь я, поверите ли, тоже Шнеерсон, дальний родственник Его Святости и Учителя Шолом Доб Бера Шнеерсона. Я тоже, изволите знать, родом из Любавичей, а зовут меня Файвел Шнеерсон.
Глава двадцать первая
25 сентября 1913 г.Длинный, узкий и высокий, в два света, зал уголовного отделения киевского окружного суда был уставлен рядами кресел. Пробираясь к своему месту, Фененко подумал, что второй раз в жизни присутствует на историческом процессе. Однако какой контраст между судилищем над Дмитрием Богровым и судом над Менделем Бейлисом! Два года тому назад в камере Косого Капонира присутствовало не более двадцати человек, а сейчас, как ни ограничивали доступ публики, в зале яблоку некуда было упасть. И еще несколько тысяч киевлян толпились в этот сентябрьский день на Софийской площади, оцепленной усиленными нарядами конной полиции. Киев жил начинающимся процессом. Повернув голову, можно было разглядеть хоры, заполненные корреспондентами всех сколько-либо значимых газет, русских и иностранных. На городском телеграфе пришлось установить двадцать дополнительных аппаратов.
Фененко приехал в Киев из Вильно, места своей новой службы. Формально его перевод считался повышением, но он-то знал, что за этим скрывалось. Чаплинский методично выживал из Киева либеральных юристов. Сначала Брандорфа, за ним Фененко, потом Лашкарева. От следователя избавились вскоре после появлении в прессе материалов о причастности шайки Веры Чеберяк к убийству Андрея Ющинского. Казалось, воры были загнаны в угол, вся Россия узнала об их преступлении. Даже Чаплинский растерялся, бросился в Петербург c докладом, что ритуальное обвинение рухнуло. Но разве мог Ванька Каин отказаться от антисемитского дела! В Киев был командирован петербургский следователь Машкевич, креатура министра. Назначили дополнительное дознание по вновь открывшимся фактам. Новый следователь принял на веру измышления семейки Чеберяк. Бесполезно было убеждать его в том, что дикая легенда о евреях, похищающих детей, порождена невежеством и суеверием. Петербургский следователь знал, что нужно министру юстиции, и свел все доследование к ритуальной версии.
Передовая общественность надеялась, что власти не решатся поставить ритуальный спектакль. Слушание дела несколько раз откладывалось. Сначала из-за выборов в Государственную думу. Потом было решено не будоражить народ в 300-летнию годовщину дома Романовых. И все-таки дело дошло до суда — «скорого, правого, милостивого, равного для всех», как было провозглашено в царском указе о судебной реформе. Глядя на огромный портрет императора Николая Второго в горностаевой мантии, Фененко подумал, что царь попирает блестящими сапогами зерцало с указом о справедливом правосудии. В следующую секунду раздался возглас судебного пристава:
— Суд идет!
В зале появились члены суда, позвякивая тяжелыми золочеными цепями поверх мундиров. Замелькали черные фраки адвокатов. Председатель суда Болдырев, разгладив пышную бороду, попросил гражданских истцов пересесть на другое место, так как иначе из-за тесноты помещения присяжным заседателям придется сидеть непосредственно за ними. Сразу же начались препирательства. Один из адвокатов заметил, что гражданские истцы будут слышать замечания защитников Бейлиса. В свою очередь поверенный истицы Шмаков, грузный старик с обвисшими седыми усами, напоминавший неповоротливого моржа, громко проворчал:
— Ежели на то пошло, мы тоже имеем право позаботиться, чтобы господа адвокаты нас не слышали.
В ответ на это в группе защитников презрительно заметили, что их не интересуют чужие разговоры. Наконец защитники потеснились, приняв за свой стол трех поверенных гражданской истицы. Фененко показалось совершенно противоестественным это объединение света и тьмы, защитников правды и служителей лжи. Защита сверкала созвездием имен: благороднейший Григорович-Барский, единственный киевлянин среди защитников; рядом с ним знаменитый адвокат по уголовным делам Карабчевский; за ним защитник евреев на политических процессах Грузенберг, а с самого края примостился Зарудный. Разглядывая его профиль, Фененко напомнил самому себе, что отец Зарудного был одним из главных деятелей великой судебной реформы, к сожалению так испорченной в последующие десятилетия. С минуты на минуту к защитникам должен был присоединиться депутат Государственной думы Маклаков.
Среди поверенных гражданской истицы тоже был депутат Думы — Замысловский. Он тихо разговаривал с москвичом Шмаковым. О киевлянине Дурасевиче, третьем поверенном истицы, даже нечего было сказать, кроме того, что это черное, как жук, ничтожество вполне соответствовало своей фамилии. Государственным обвинителем выступал товарищ прокурора петербургской судебной палаты Виппер, брат известного историка. Он рассчитывал выдвинуться на громком процессе, но сейчас, стоя за дубовой конторкой и залихватски подбоченясь, что очень не шло к его узкоплечей немецкой фигуре, тревожно блестел стеклышками пенсне, наверное, сожалея, что ввязался в безнадежное дело.
Публика в зале суда зашумела. Двое конвойных с саблями наголо ввели подсудимого. Бейлис шел шаркающей походкой, втянув голову в плечи и робко озираясь по сторонам. Лицо его было бледным и измученным. Тюремное заключение не красит, а приказчик провел за решеткой более двух лет. Председатель позвонил в колокольчик, чтобы восстановить тишину, и задал подсудимому несколько вопросов:
— Вы мещанин?
— Да.
— Сколько вам лет?
— Тридцать девять.
— Вы еврей?
— Да.
— Постоянно живете в Киеве?
— Да.
— Женаты? Имеете детей?
— Да, имею пятерых малых диток.
— Господа защитники выступают по соглашению с вами?
Адвокаты как по команде обернулись к дубовой перегородке, за которой стоял Бейлис. Грузенберг успокоительно покивал подзащитному своей раздвоенной на конце бородкой. Председатель предложил подсудимому сесть, но Бейлис срывающимся голосом заговорил:
— Я не виновен… жил честным трудом… содержал жинку, детишек… вдруг меня схватили, привезли в тюрьму…
Болдырев равнодушно прервал его:
— После, после… О том, признаете вы себя виновным или нет, заявите после чтения обвинительного акта. Копию акта имеете на руках? А? Хорошо, садитесь.
Бейлис сел, положив руки на барьер загородки, явно не понимая, почему его оборвали и что происходит в суде. Между тем суд занялся обсуждением вопроса о свидетелях и экспертах, вызванных повестками, но не явившихся на заседание. Неявка некоторых свидетелей была признана уважительной: Наталья Ющинская скончалась, профессор Оболонский тоже умер. Кто-то уехал из Киева, например, содержательница бакалейной лавочки в доме № 40 Адель Раввич выбыла в Америку. Кто-то уклонялся от явки, как бывший начальник сыскной полиции Мищук и агент Выгранов. По поводу эксперта Сикорского прокурор посчитал необходимым сделать особое заявление:
— Профессор Сикорский страдает приступами удушья, наступающего после продолжительного и громкого разговора. Присутствовать на заседании в течении всего процесса Сикорский не может, но в продолжение 30–40 минут может давать показания…
Адвокат Грузенберг возразил:
— Болезнь требует внимания и известного снисхождения, это так. Но ведь нельзя же сказать, чтобы профессор приехал на тридцать минут! Кому достанутся эти счастливые тридцать минут — прокуратуре или нам? Эксперт должен выслушать мнение и других профессоров и ученых, а нам говорят, что он приедет сказать свое слово.
Защитники Бейлиса ходатайствовали о том, чтобы отложить дело из-за неявки важных свидетелей. Поверенный гражданской истицы Замысловский запротестовал:
— Мы просим дело слушать. Суду хорошо известно, с какими тяжестями для правосудия сопряжено откладывание такого сложного дела. Нельзя откладывать из-за того, что не разыскан свидетель Мищук. Говорят, что в этом взаимное противоречие — начальник сыскного отделения и не разыскан. Но в настоящее время это не начальник сыскного отделения, а лицо, лишенное особых прав за подлоги. Таким лицам свойственно уклоняться от суда.
Судьи удалились на совещание. После долгого перерыва они вернулись в зал и председатель суда Болдырев зачитал резолюцию:
— Суд постановил дело слушанием продолжить.
И сразу же после его слов в тесном зале, как на театральной сцене, начался первый акт драмы. Публике этот акт мог показаться однообразным и скучным, но для посвященных он был захватывающе интересным. Начинался отбор присяжных заседателей — тех двенадцати человек, разуму и совести которых вручалась судьба подсудимого. Опытные юристы знали, что яркие прения сторон зачастую значат меньше, чем эта рутинная процедура. Шахматный игрок сравнил бы происходящее с дебютом, от успеха которого зависит и миттельшпиль, и эндшпиль, и исход всей партии.
Тридцать очередных и шесть запасных присяжных, отобранных по жребию за три недели до начала судебных заседаний, ждали своей очереди. У Фененко екнуло сердце при виде домотканых свиток и пиджаков, но по-настоящему он забеспокоился, когда все интеллигентные заседатели начали брать самоотводы. Врач Ромашкевич представил свидетельство о занятости по службе. «Неужели врач не понимает, что нельзя доверять решение по такому делу темным людям?» — ахнул про себя Фененко. Адвокат Зарудный, словно услышав его мысли, вскочил со своего места и, задыхаясь от бронхиальной астмы, заговорил:
— Господин Ромашкевич… один из немногих заседателей с высшим образованием, чье присутствие крайне необходимо…
Но врач, не вняв призыву защитника, продолжал настаивать и был освобожден. Еще один интеллигентный заседатель убедительно просил отпустить его по болезни сына. Прокурор Виппер попросил слово и наставительно произнес, подняв к потолку костлявый палец:
— Несомненно лицам, которые попали в состав присяжных, особенно лицам крестьянского сословия, более чем тяжело присутствовать здесь на протяжении нескольких недель. Но они должны черпать утешение в том, что отправляют высокое дело правосудия.
«До правосудия ли нашему обывателю, не осознающему святости общественного долга!» — с горечью подытожил Фененко. К началу судебной сессии на очередных присяжных из дворян нападало поветрие самых разнообразных болезней, купцы подвергались внезапным несчастным случаям по хозяйству, чиновники проникались исключительным служебным рвением. Вместо них на суд являлись только свидетельства о болезни, ходатайства и просьбы различных начальников. Одни только крестьяне покорно несли тяжелую и разорительную для них повинность. Вот и сейчас председатель суда удовлетворил еще один отказ, сардонически ухмыляясь в роскошную бороду:
— Доверяя заявлению присяжного заседателя Науменко о том, что у него рана на ноге… Так-с, не угодно ли сторонам воспользоваться правом отвода?
Виппер отвел несколько заседателей, и защитники тоже постарались выбрать наиболее подходящих, заглядывая кандидатам в глаза в надежде определить затаившихся недоброжелателей. В числе отобранных остались только свитки, лишь один человек был в пенсне на длинном, закинутом за ухо шнурке. Наблюдая, как серую толпу присяжных подводят к присяге, как они шевелят губами, повторяя за священником слова: «Обещаю и клянусь всемогущим Богом, пред святым его Евангелием…», как они утираются, отходя от аналоя, Фененко с ужасом подумал, что это покорное стадо выполнит любую волю начальства. Заседатели удалились в совещательную комнату и вскоре вернулись. Один из них, тот самый в пенсне, искательно глядя на величественного председателя, объявил, что он выбран старшиной присяжных.
В зале зажужжали:
— Мельников… писарь контрольной палаты… Посещает собрания Союза Михаила Архангела…
Фененко простонал. Дебют остался за сторонниками кровавого навета, фигуры на шахматной доске встали самым выгодным для них образом. По предложению Виппера было решено отложить оглашение длиннейшего обвинительного акта на завтрашний день, а пока в видах экономии времени привести к присяге свидетелей. Среди подходивших по очереди к священнику Фененко увидел старых знакомых: старушку Олимпиаду Нежинскую, Александру Приходько, зевающую и ко всему равнодушную, рыжего Луку Приходько, Федора Нежинского с неизменным синяком под глазом. Еще было несколько подростков, приятелей Андрея Ющинского, уже повзрослевших за эти годы и повторявших слова присяги ломающимися голосами. А кто это в огромной шляпе, украшенной пышными страусиными перьями? Фененко вздрогнул, хотя чему, собственно, было изумляться. Вера Чеберяк являлась главным свидетелем обвинения.
Председатель суда объявил перерыв до следующего дня, и публика шумно потянулась к выходу. Хоры для прессы мгновенно опустели, корреспонденты заспешили на телеграф отправить сообщения о первом дне процесса. Когда Фененко вышел из зала, его ждал приятный сюрприз. Навстречу ему семенила Ляля Лашкарева, как всегда элегантно одетая, завитая, благоухающая парижскими духами.
— Василий Иванович! — радостно воскликнула она. — Вы тоже приехали? Я сегодня с поезда, и вообразите, пока приводила себя в порядок, заседание кончилось.
Фененко поцеловал руку Ляле и начал расспрашивать, как она устроилась в Могилеве.
— Не бередите душу! Провинциальная дыра, ни общества, ни приличного театра. Ей Богу, покусала бы этого противного Чаплинского, устроившего мужу перевод, — Ляля показала мелкие остренькие зубки и тут же заговорила о другом. — Василий Иванович, окажите любезность, представьте меня Карабчевскому.
— Так ведь я с ним не знаком! — озадаченно сказал Фененко. К счастью, он увидел Марголина и обратился к нему за содействием. Марголин любезно ответил, что с удовольствием представит их своему другу. В комнату присяжных поверенных никого из посторонней публики не пропускали, однако для Марголина сделали исключение. Войдя, они увидели Карабчевского, просматривавшего бумаги. После кончины Плевако в России не было адвоката, равного Карабчевскому. Прозванный «Летучим Голландцем» за пристрастие к поездкам по провинции, он возникал в каком-нибудь уездном городке в день суда, играючи, даже не зная толком дела, выигрывал процесс и вечером уносился к новым победам. Адвокат был сыном крымского полицмейстера Карапчи, но в его облике не было ничего татарского. Он походил на породистого артиста императорского театра. И красивое лицо его было гладко выбритым, как у актера, и волнистые, чуть тронутые сединой волосы он, как артист, зачесывал назад, и своей стройной фигурой в прекрасно пошитом черном фраке с глубоким вырезом белой накрахмаленной груди он удивительно напоминал оперного певца.
— О, почтеннейший Арнольд Давидович! — воскликнул Карабчевский.
Марголин представил мадам Лашкареву и Фененко, аттестовав следователя как честного юриста, пытавшегося вопреки оказываемому на него давлению провести объективное дознание по делу Бейлиса. Карабчевский со старомодной учтивостью склонился над дамской ручкой. Ляля восторженно щебетала, что давно мечтала познакомиться со знаменитым адвокатом и писателем, автором замечательных повестей и романов. Фененко, знавший, что Лялино знакомство с изящной литературой ограничивается чтением модных журналов, с неожиданной недоброжелательностью подумал, что Карабчевский владеет пером далеко не так виртуозно, как ораторским искусством, в сущности, средней руки беллетрист. Адвокат с утрированной скромностью прервал поток комплиментов в свой адрес:
— Ну что вы! Есть десятки защитников, нисколько мне не уступающих. Взять, к примеру, Арнольда Давидовича. Как жаль, что Арнольд Давидович, первым взявший на себя защиту Бейлиса, лишен возможности довести это дело до конца.
Марголин мечтал участвовать в процессе, но все испортила Вера Чеберяк, подавшая заявление о том, как Марголин и Бразуль-Брушковский пытались склонить ее к противозаконной сделке. Прокурор Чаплинский не преминул возбудить дисциплинарное дело, и в результате Марголин был исключен из сообщества присяжных поверенных. Разумеется, с материальной точки зрения такое решение не имело значения для миллионера, однако он был очень уязвлен и всякий раз, когда об этом заходил разговор, с горячностью оправдывался:
— Я, быть может, погрешил против адвокатской этики, но не раскаиваюсь в содеянном, так как в данном деле я меньше всего чувствовал себя адвокатом. Я еврей, и считал своим долгом оградить мою нацию от лживых наветов.
— Преклоняюсь перед вашим мужеством. Вами двигали благородные побуждения. Как это у Овидия? Ut desint vies, tamen est laudanta voluntas — Пусть не хватает сил, все же желание действовать достойно похвалы, — продекламировал Карабчевский. — Жаль, не удалось добыть вещественных доказательств!
— Зато Сингаевский, брат Веры Чеберяк, сам сознался в убийстве двум нашим свидетелям. Его товарищ по воровской шайке Борис Рудзинский хвастал в тюрьме, что они «пришили байстрюка» и мы нашли свидетеля, который слышал его слова. Наконец, последний участник преступления — Иван Латышев, по кличке Ванька Рыжий, из страха быть разоблаченным совершил самоубийство, — загибал пальцы Марголин.
Фененко невольно поежился, вспоминая допрос Ваньки Рыжего. Арестант назвал свое имя, перечислил судимости, но категорически отказался отвечать на вопрос, бывал ли он на квартире жены телеграфного служащего Веры Владимировны Чеберяковой? Он взволновался еще сильнее, когда Фененко спросил его об Андрее Ющинском. Следователь промучился с ним битый час, но так ничего не добился. А стоило следователю отвернуться, как Ванька схватил со стола протокол и разорвал его на мелкие клочки. Спасибо конвойный не растерялся, обнажил шашку и загнал арестанта в угол. Ваньку Рыжего вывели в коридор, и через секунду раздался звон стекла. Преступник вырвался из рук солдат, разбил окно и сорвался с карниза. Когда следователь глянул вниз, Ванька лежал недвижимым, уткнувшись огненно-рыжей головой в булыжник Софийской площади. Фененко так и не понял, хотел ли преступник покончить счеты с жизнью или пытался бежать. Марголин же не сомневался, что речь шла о самоубийстве, и уверенно говорил:
— Надо втолковать присяжным, что это является косвенным признанием вины.
— Примет ли суд такую трактовку, — вздохнул Фененко. — Присяжные будут смотреть в рот председательствующему, а Болдырев переведен в Киев недавно и, по слухам, ходит на задних лапах перед Ванькой Каином.
— Не угодно ли пикантную историю про вашего нового председателя, — предложил Карабчевский.
— Ой, как интересно, — оживилась Ляля, заскучавшая от разговоров на юридические темы.
— Защищал я кого-то, сейчас даже не вспомню кого именно, в одном уездном городишке, — начал адвокат. — Вдруг поздно вечером в мой номер стучится дама в густой вуали, молоденькая и миловидная…
— Вот я вас и поймала, великий юрист, — в восторге воскликнула Ляля. — Как же вы определили, что она миловидная? Ей пришлось снять вуаль?
— Ну, неважно, что она там сняла. Это к делу не относится, — улыбнулся Карабчевский. — Дама оказалась женой местного прокурора, а обратилась она ко мне с забавнейшей просьбой помочь ее мужу, которому в случае успеха обещали повышение. «Мой Федя очень ненаходчивый и робкий, — умоляла она. — Я каждый раз боюсь, что он оскандалится на суде. Я даже помогаю ему готовиться к делам, пишу ему шпаргалки для выступлений». Признаться, я был слегка ошарашен и спросил свою гостью, неужели она полагает, что я буду действовать против своего подзащитного и помогу обвинителю выиграть дело. «Что вы, Николай Платонович! — замахала руками жена прокурора. — Мы с Федей и не мечтаем выиграть. Я лишь умоляю вас подсказать Феде несколько свежих мыслей, чтобы потом все сказали: прокурор выступил достойно, но что он мог сделать против самого Карабчевского?» Мне это показалось забавным, и я согласился отужинать с прокурорской четой.
— Ох, подозреваю, не бескорыстно вы оказали вашей гостье такую любезность, — погрозила пальчиком Ляля.
— Напрасно, сударыня! И в мыслях не держал. Ну-с, познакомился я с Федей, и стало мне жаль его миловидную жену. Жалкий, тупой, шляпа шляпой! За ужином я подбросил ему несколько аргументов, но старания мои пропали зря, так как на следующий день обвинитель сказался больным, и дело было отложено. Когда я рассказал эту историю своим помощникам, они превратили имя незадачливого прокурора в нарицательное обозначение серости. Сейчас у меня в конторе то и дело слышится: «Не будь Федей» или «Это речь, достойная Феди». Вообразите мое изумление, когда зашел я перед началом процесса к вашему председателю. Сидит такой величественный, грудь в орденах, а пригляделся — Федя. И черт меня дернул спросить, как поживает его прелестная супруга?
Ляля захихикала:
— Это жестоко, Николай Платонович. Я слышала, что жена от него сбежала.
В коридоре зашумели голоса, дверь распахнулась и в комнату вступил невысокий господин с саквояжем в руке. «Наверное, Маклаков», — предположил Фененко, и Карабчевский подтвердил догадку, обратившись к вошедшему:
— С приездом, Василий Алексеевич…
Более он ничего сказать не успел, потому что на пороге в сопровождении толпы журналистов возник Грузенберг. Вспыхнул магниевый порошок, ослепив всех находившихся в комнате. Грузенберг повернулся в профиль — под вспышкой сверкнуло стеклышко пенсне. Адвокат махнул рукой в белой перчатке.
— Все, господа, все! Антракт!
— Оскар Осипович, ради Бога. Несколько слов для нашей газеты.
— Почему только для вашей? Где иностранные корреспонденты? Отбыли на телеграф. Так верните их! Я имею сделать важную декларацию, так и запишите в свои блокноты: адвокат Грузенберг будет апеллировать ко всему прогрессивному обществу. Через четверть часа я выйду.
Оскар Осипович Грузенберг был интеллигентным и образованным человеком. Если бы не занятия адвокатской практикой, он бы, наверное, стал профессором русской словесности. Он обожал Пушкина и всю литературу девятнадцатого века. В обычной жизни он был мягок и даже застенчив, внимательно выслушивал чужое мнение и даже в случае несогласия возражал весьма вежливо и предупредительно, стараясь ничем не задеть и не обидеть собеседника. В зале суда он резко менялся, словно черный адвокатский фрак превращал его в другого человека. Он становился самоуверенным и нетерпимым, вещал громко и язвительно, позволял себе колкие замечания в адрес оппонентов. Однако полное преображение происходило с адвокатом, когда он защищал евреев, особенно по политическим делам. Здесь уж Грузенберг никому не давал спуска. Глаза адвоката горели священным огнем, он не мог усидеть на месте, вскакивал, перебивал свидетелей, не боялся дерзить прокурору, устраивал перепалку даже с судьями. За эту страстность при защите еврейских интересов его очень ценили соплеменники. И хотя безудержный напор иной раз приводил к проигрышу процесса, адвокат никогда не отступал от своей манеры.
Грузенберг захлопнул дверь перед носом репортеров и, выворачивая носки лаковых штиблет, подбежал к Карабчевскому:
— Каково! Специальный подбор присяжных! А как вам поверенные гражданской истицы? Устав уголовного судопроизводства заимствовал эту конструкцию у французов, в более совершенном германском уголовном процессе не допускается участие каких-либо поверенных. Если родственники убитого бесстыдно пытаются содрать деньги с бедного Бейлиса, пусть лично потрудятся отстаивать свои интересы в суде.
— В данном случае это работа черносотенцев, — робко пояснил Фененко. — Мать мальчика буквально силой заставили вчинить гражданский иск и пригласить поверенных. Шмаков — настоящий маньяк, помешанный на всемирном еврейско-масонском заговоре. Мне рассказывали, что на стенах его кабинета развешаны фотографии семитских носов.
Грузенберг пренебрежительно отмахнулся.
— Шмаков сам по себе не такой злой старик, как о нем думают. Просто больной на голову. Мы уже сталкивались с ним лет десять назад на Гомельском процессе. Помните, Арнольд Давидович?
— Еще бы, — с энтузиазмом откликнулся Марголин, — я совсем юным помощником присяжного поверенного сразу попал на такое выдающееся дело. Собственно, гомельские события восходили своими корнями к кишиневскому погрому, перед ужасами которого бледнели пытки инквизиции…
— В Кишиневе я тоже защищал вместе с Зарудным, — перебил его Грузенберг. — И все время задавал себе вопросы: что я делаю в зале суда, зачем произношу речи, к чьей совести взываю, когда не речи надо произносить, а бить и хлестать по тупым обывательским мордам, хлестать до тех пор, пока они не научатся держать свои грязные руки подальше от евреев. К счастью, после кишиневского кошмара еврейство встрепенулось от своего квиетизма. Еврейской молодежи надоело безропотно терпеть измывательства. В Гомеле были организованы дружины самообороны, и на сей раз погромщики не остались безнаказанными. Но разве у нас правосудие! Произошла переоценка юридических ценностей. Деяние, всегда считавшееся правомерным, было объявлено преступным. Самооборона была уподоблена скопищам погромщиков, ее морально чистые цели охарактеризованы как проявление племенной вражды. Мы с Арнольдом Давидовичем и другими защитниками выразили категорический протест против такого подхода к нашим подзащитным.
— Увы, всем адвокатам в конце концов пришлось демонстративно покинуть гомельский процесс, — сказал Марголин. — Нам…
— А что оставалось делать? — оборвал его Грузенберг. — Что, спрашиваю вас, было делать, если обвинение дошло до такой наглости, что пыталось назвать происшедшее погромом русских? Конечно, в Гомеле большинство населения составляли евреи, и наша храбрая молодежь порядком-таки взгрела громил. Я не террорист, но, признаться, сочувствую тем, кто встал на путь революционной борьбы. Не дрожать, а самим внушать дрожь — так, наверное, рассуждал Гершуни и другие герои освободительной борьбы.
— Мне доводилось защищать Гершуни, — вскользь заметил Карабчевский. — Спас его от виселицы. Он был таким одухотворенным…
— Всем это известно, — бесцеремонно перебил его Грузенберг. — Сейчас об ином разговор.
Грузенберг подавлял своим апломбом всех присутствующих. Даже Карабчевский немного стушевался, а Маклаков и вовсе помалкивал, сидя на диванчике и подперев рукой свое скуластое лицо, окаймленное редкой бородкой. Ляля Лашкарева душой и телом разрывалась между петербургскими знаменитостями. Грузенберг не вышел ростом против Карабчевского, но непоколебимая самоуверенность искупала недостатки внешности. Ляля смотрела на адвоката преданной собачонкой, а он даже не удостаивал ее взгляда и говорил, словно пел:
— Мне уже доводилось разоблачать кровавый навет на процессе Давида Блондеса в Вильне. И все же, не скрою, меня терзал миллион сомнений, когда мне предложили приехать в Киев. Хотя мое еврейское сердце — майн идише харц — говорило мне, что я должен приложить все силы для оправдания Бейлиса, здравый смысл подсказывал, что мое пребывание в рядах адвокатов может сыграть на руку ненавистникам Израиля. Наверное, я так и не взялся бы за защиту, если бы не просьба рабби Шолом Дов Бера Шнеерсона. Он из Любавичей прислал мне свое благословение и напутствие, в коем сказано: «брат-еврей, Израиль, сын Иосифа, Грузенберг, — вот, тебя избрал Всевышний, Бог наш, чтобы спасти Свой народ, с помощью твоего ясного разума и сладости слов твоих». Рабби также дал мне совет избрать чудесные звезды из числа русских адвокатов для помощи и содействия на процессе. Итак, коллеги, убедительно прошу вас давать больше интервью, давать больше выступлений в прессе. Берите пример с вашего покорного слуги. Да, Грузенберг утомлен! Да, нервы Грузенберга напряжены! И тем не менее долг велит Грузенбергу идти к журналистам. Пойдемте, Арнольд Давидович, поработаем с прессой.
Грузенберг и Марголин вышли за дверь, и из коридора донеслось:
— Внимание, господа! Прошу внимания, сейчас адвокат Грузенберг сделает заявление для прессы…
Маклаков покачал головой.
— Оскар погубит защиту рекламной шумихой.
— Одна и та же история, — с раздражением заметил Карабчевский, — лучших русских людей так возмущает и коробит антисемитизм, что они из деликатности не позволяют себе критиковать даже отрицательные черты еврейской нации. К сожалению, в иных еврейских кругах эта деликатность воспринимается как признак ущербности и признание превосходства еврейской культуры над русской. Сталкиваясь с нахальным напором, наша интеллигенция предпочитает стыдливо отвести глаза, чтобы не уподобиться антисемитам, а в результате санкционируется какая-то сплошная торжественная апология еврейства. Между прочим, под шумок подобных настроений все — и в литературе, и в адвокатуре — заговорили на жаргоне черты оседлости. Русская речь безобразно загромождена еврейскими словечками и вывертами.
Фененко был весьма удивлен. Карабчевский считался прогрессивным деятелем и вдруг заговорил, словно извозчик с Подола. В памяти Фененко зашевелились обрывки рассказанной кем-то из петербуржцев истории о скандале на юбилее знаменитого адвоката. Оппозиция задумала придать чествованию юбиляра политический характер. Начались речи, в коих Карабчевского прочили на пост президента будущей Российской республики. Однако подобные выступления перепугали молодую жену Карабчевского, которая бесцеремонно выгнала уважаемых общественных деятелей. Сплетничали, что мадам Карабчевская, урожденная купчиха Вергунина, самая настоящая черносотенка, что она страшно богата и знаменитый адвокат материально зависим от супруги и живет в ее роскошном особняке, купленном у одного из великих князей.
Видя, что Ляля после ухода Грузенберга, вновь начала кокетничать с Карабчевским, Фененко подумал: «Флиртуй, милочка, флиртуй. Только помни, что купчиха Вергунина стоит на страже не только политических убеждений, но и сердечных увлечений своего стареющего супруга». Чтобы показать Ляле, как ему безразлично ее беспардонное кокетство, Фененко вышел в коридор, где плотная толпа репортеров окружила Грузенберга. Один из корреспондентов, облаченный в одну только вышитую рубаху, представитель, как нетрудно было догадаться, украинофильского журнала, отодвинув могучими плечами англичанина из агентства Рейтер, говорил на вычурном языке:
— Вись свит почуе дику казку, яку российский уряд вкупи з темними элементами людности будут обнивичувати одного з демократичнийших народов свита, еврейску нацию…
Грузенберг, которому прискучила эта речь, властным жестом остановил оратора в вышиванке:
— Благодарю вас, милостивый государь, за сочувствие, но разрешите заметить, что я презираю программное юдофильство и считаю его нисколько не менее оскорбительным, чем юдофобство. Что такое юдофоб? Либо глупец, либо злопыхатель, ненавидящий людей вообще и проявляющий ненависть по линии наименьшего сопротивления. Но с казенными юдофилами, распинающимися о любви к еврейской нации, — беда. Они говорят о евреях так, как если бы состояли членами общества покровительства животных. Наша нация не гулящая девица, нуждающаяся профессионально в симпатиях. Для еврейской нации достаточно, чтобы с ней считались и сознавали, что на всякий пинок она ответит увесистой плюхой. И «российский уряд», о коем вы изволили упомянуть, такую плюху получит. Это я, адвокат Грузенберг, вам говорю!
Глава двадцать вторая
12 октября 1913 г.Пятнадцатое заседание Чаплинский присутствовал на процессе, сидя неподалеку от коронных судей. Прокурора тревожило, что процесс явно принимал неудачное направление. Перед началом процесса Чаплинский вместе с Виппером и поверенными гражданских истцов обсуждали тактику обвинения. Виппер горячился: «Мне придется прежде всего доказать невиновность наших свидетелей, которых в газетах беззастенчиво именуют убийцами, а уж потом приступить к обвинению». Поначалу такое решение казалось разумным, однако разбор второстепенных эпизодов утомил присяжных заседателей, о чем стало известно через жандармов, переодетых курьерами и имевших свободный доступ в комнату для совещаний. Вчера жандармы донесли, что присяжные недоуменно переговариваются между собой: «Як судить Бейлиса, коли разговоров на суде о нем нема?»
Чаплинский начал сомневаться в успехе обвинения. Более того, он опасался за собственную безопасность. На его имя пришло письмо следующего содержания: «Чем бы ни закончилось изобретенное вами „дело“ несчастной жертвы русского царизма Бейлиса — можете быть спокойным, народная кара постигнет приспешников черной сотни. На состоявшемся совещании Л. Б. О. П. С. — Р. осуждены: вы, Чаплинский, предатель, делающий карьеру на людских слезах, к смерти; Замысловский, опричник, к смерти; опричник Виппер осужден условно (дается возможность отказом от обвинения исправить зло); старый погромщик Шмаков — к смерти». Прокурор сразу расшифровал аббревиатуру «Л. Б. О. П. С.-Р» как «летучий боевой отряд партии социалистов-революционеров» и бросился за помощью в жандармское управление. Полковник Шредель пытался успокоить его, говоря, что не стоит обращать внимание на пустые угрозы, так как последний летучий боевой отряд эсеров был выдан Азефом, а безопасность прокурора обеспечена неотступным филерским наблюдением. Чаплинский слушал и не верил. Столыпина тоже заверяли, что террористические акты якобы прекратились. Что касается филеров жандармского управления, то ведь и Богров являлся полицейским агентом. Вполне может статься, что филеры и приведут в исполнение эсеровский приговор. После судебных заседаний возвращаться домой приходилось глубокой ночью, и Чаплинский пугливо оглядывался, ожидая пули из-за угла.
Пока прокурор предавался мрачным мыслям, на свидетельское место был вызван Красовский. Стоя за дубовой конторкой, отставной полицейский пристав объяснял:
— По тем сведениям, которые были у меня, Ющинский был очень скрытным мальчиком и далеко не таким добродушным, как его здесь обрисовывают.
Поверенный гражданского истца Замысловский с негодованием осведомился:
— По вашему убеждению, зверски умученный отрок был порочной и преступной натурой?
— Ну да, — кивнул свидетель.
— И вы считаете его способным на то, что вот он на первой неделе поста говел в лавре, исповедовался, причащался, — эти слова Замысловский произнес с пафосом и тут же перешел на трагический шепот, — причастился и непосредственно вслед за этим обдумывал кражу из Софийского собора? Вот до какого предела простиралась его преступность, по вашему убеждению?
— Да, это верно, — кивнул Красовский.
Замысловский театрально воздел руки к потолку и сел на место, как бы показывая, что ни о чем более такого свидетеля расспрашивать не может. На хорах, отведенных для прессы, произошло движение. Прокурор увидел, что журналисты встают и жмут руку человеку в дорожном платье. По портретам в книгах каждый читающий человек безошибочно опознал бы в нем писателя Короленко.
«Приехал, а говорили, что тяжело болен. Н-да, по всему видать, готовится второе издание Мултанского дела!» — подумал прокурор. Судебные очерки о Мултанском деле прославили писателя, но Чаплинский не переставал поражаться, как можно было так ловко оплести читателей. Близ села Мултан нашли убитого нищего Конона Матюнина. Его полностью обескровленное тело было чудовищно изуродовано — без головы, сердца и легких. Вотяки, по преимуществу населявшие Мултан, шептались, что совершено жертвоприношение, дабы умилостивить верховного бога Курбана. Называли имена исполнителей: «Такой-то резал, такой-то за ноги держал». Предварительным дознанием была установлена вина нескольких человек, имевших при своих домах родовые шалаши, где устраивались языческие моления. Они были арестованы и преданы суду, который вынес им обвинительный приговор.
Но разве могла прогрессивная общественность примириться с осуждением изуверов! Была подана кассация, состоялся повторный суд, который, ввиду совершенной бесспорности улик, подтвердил первый приговор. Тогда Короленко, присутствовавший на процессе в качестве корреспондента либеральных «Русских ведомостей», добился вторичной кассации приговора и третьего по счету суда. В захолустье была двинута тяжелая артиллерия — адвокат Карабчевский с компанией ученых мужей, объявивших, что, согласно последним данным науки, никаких человеческих жертвоприношений, равно как и бога Курбана, у вотяков не было и нет. Короленко в своей речи на суде пошел еще дальше, утверждая, что и убийства никакого не было, нищий же скончался от… припадка эпилепсии. И такова была сила воздействия авторитетов Короленко и Карабчевского, что присяжные заседатели оправдали подсудимых, сочтя обезглавленного человека умершим естественной смертью. Чаплинский с горечью подумал, что типичный русский интеллигент готов поверить, что кто-то (Короленко намекал на уездное начальство) намеренно изуродовал мертвое тело, но ни за что не признает изуверство? Недаром писатели и журналисты сомкнутым строем бросаются на защиту молокан, духоборцев, даже скопцов, когда судебные власти пытаются пресечь распространение этих сект!
Краем глаза прокурор увидел, как Шульгин обнял Короленко за плечи. «Будто старые друзья, — хмыкнул Чаплинский. — А ведь несколько лет назад Шульгин с трибуны Государственной думы возмущался публикациями Короленко, называл его преступником, толкающим зеленую молодежь на революционные эксцессы». Хорошо говорил депутат Шульгин, под каждым словом Чаплинский готов был подписаться. А теперь депутат обнимается с Короленко и на страницах старейшей консервативной газеты «Киевлянин» обвиняет прокуратуру в фальсификации улик. «Шульгину, очевидно, не дают покоя лавры Эмиля Золя, писателя-порнографиста, который после своего письма в защиту еврея Дрейфуса был провозглашен совестью Франции. Шульгин, верно, размечтался, что если он выступит на стороне Бейлиса, то вмиг станет мировой знаменитостью. Посмотрим! Во всяком случае я возбуждаю дело о клевете», — решил прокурор.
Тем временем свидетельское место заняла белошвейка Екатерина Дьяконова. Ежеминутно оправляя платье, обтягивавшее ее пышные телеса, она рассказала, что дружбу с Верой Чеберяк свела несколько лет назад, не зная о её предосудительных знакомствах. 12 марта в полдень она зашла к подруге и увидела в большой комнате трех человек, которые сразу же скрылись в спальне. Адвокат Карабчевский пожелал выяснить подробности:
— Чеберякова сразу впустила вас в гостиную или втолкнула в кухню?
— В кухню.
— В вашем присутствии никто из этих трех лиц не выходил из квартиры?
— Не выходил, — Дьяконова помолчала, пошевелила толстыми губами, вспоминая что-то, потом неожиданно заявила: — Выходил один. Я потом спрашиваю Веру, куда он пошел. Она сказала: «Пальто».
— Починять? — не расслышал адвокат.
— Ни! Сбывать.
В зале ахнули. Согласно показаниям фонарщика Шаховского, мальчика видели около квартиры Чеберяковой игравшим без пальто, которое так и не удалось обнаружить. Теперь о нем упомянула свидетельница. Карабчевский многозначительно глянул на присяжных заседателей.
Белошвейка продолжала показания. 13 марта Вера Чеберяк пригласила её переночевать у неё в квартире, поскольку муж ушел на дежурство. Дьяконова взяла за компанию свою подругу Лену Чернякову, но вдруг на них напал такой ужас, что они убежали из квартиры. Председатель суда предложил устроить очную ставку между Дьяконовой и Чеберяковой. Судебный пристав привел из комнаты свидетелей Веру Чеберяк в шляпке с пышными страусовыми перьями. Она буравила черными глазами Дьяконову, сразу же смутившуюся и притихшую. Чеберяк с ходу заявила, что Катька с Ленкой действительно ночевали у нее, но это было не под Пасху, а гораздо раньше, еще зимой.
— Это легко проверить, потому что тогда я рассорилась с Ленкой и больше она у меня не гостила.
Вере Чееряк предложили присесть в зале, а из комнаты свидетелей пригласили Елену Чернякову. Молоденькая мещаночка со вздорно задранным носиком показала, что знакома с Верой Чеберяк, но дружбы особенной с ней не водила и даже говорила Кате: «Удивляюсь, что у тебя общего с Верой Владимировной. Ты молодая барышня, а Вера Владимировна пожилая замужняя женщина».
Из-под шляпки Веры Чеберяк донеслось возмущенное:
— Ишь ты!
— У Чеберяковой я ночевала только один раз, — продолжала свидетельница. — Мы пришли с Катей, она нас приняла на кухне, объяснила, что это её любимый уголок. Начала разливать чай, но тут на нас вдруг напал такой ужас, что я взглянула на Катю и сказала Кате: «Я здесь сидеть не могу. Ты как хочешь, а я иду домой».
На вопрос, когда это было, свидетельница долго шевелила губами, потом сказала, что она заходила к Чеберяк месяцев за шесть до того, как в пещере было обнаружено тело Ющинского. В квартире на Верхне-Юрковской она больше не появлялась. Председатель объявил, что ввиду противоречий в показаниях свидетельницы, суд определяет огласить протокол ее допроса судебным следователем. Секретарь суда зачитал: «Я категорически заявляю, что не было такого случая, чтобы я от Дьяконовых по приглашению Чеберяковой ходила когда-либо с Екатериной Дьяконовой и Чеберяковой к последней ночевать и чтобы мы сбежали от страха. С Чеберяковой я давным-давно прекратила всякое знакомство, так как она приревновала меня к Ивану Дьяконову, подстерегла на улице и побила».
— Так и было. Вера Владимировна встретила меня на улице и стала говорить, будто я у нее отбила кавалера. Я ответила, что считаю ее за сумасшедшую женщину, если она городит подобные гнусности. Тогда она изо всех сил ударила меня по лицу. Это неправда про кавалеров, потому что, судите сами, какие же у меня с ней могли быть общие знакомые. Я вращаюсь среди военных, — гордо подчеркнула свидетельница.
— Так что же в ваших показаниях правда? — спросил Замысловский.
— Все чистая правда!
— Выходит, есть две правды? Вы не усматриваете логического противоречия? Сейчас вы говорите, что ходили к Чеберяковой, а раньше следователю показывали, что этого не было.
— Я была молодая, ничего не знала, могла испугаться, — смутилась девица. — Но сейчас я припоминаю тот случай.
Ее попросили присесть рядом с Верой Чеберяк, но через минуту она вскочила как ошпаренная.
— В чем дело? — Болдырев недоуменно задрал роскошную бороду.
— Господин председатель, примите экстренные меры… Свидетельнице угрожают, — заламывал руки адвокат Зарудный.
— Ой, мамочка! — визжала девица. — Она щиплется! Она мне сказала: «Иди на Крещатик». Я порядочная, не панельная какая-нибудь!
— Пристав, рассадите их, — распорядился Болдырев.
Екатерина Дьяконова продолжала давать показания. По её словам, на следующий день Вера Чеберяк опять пригласила её на ночевку. Она легла на кровать в маленькой комнате. Председатель суда Болдырев, не отрывая взгляда от пышного бюста свидетельницы, пожелал уточнить:
— Вы раздевшись спали?
— Я спала в ботинках, не помню, одетой или нет. Мне ботинки жали, я проснулась и сняла их. Когда я спала, мне представилось, что кто-то стоит. Я нащупала ногой и почувствовало что-то холодное, как труп. Разбудила Веру, но она сказала: «Не обращай внимания, спи».
— Что же, вы и уснули? — поинтересовался прокурор.
— Да уснула, а утром она меня разбудила и сказала: «Пойдем чай пить».
Старшина присяжных робко попросил разрешения задать через господина председателя вопрос, не полюбопытствовала ли свидетельница осмотреть подозрительный мешок, когда пробудилась ото сна?
— Нет, я его не смотрела.
— Почему?
— Не обратила внимания.
Затем белошвейка поведала, что увидела во сне мертвое тело Андрюши Ющинского, завернутое в ковер.
— Приходит ко мне Чеберякова…
— Во сне? — саркастически осведомился прокурор.
— Я ей говорю: «Знаете, мне снился сон, что в ковре завернутым лежал Андрюша в вашей большой комнате». Она говорит: «Пожалуйста, не рассказывай об этом сыщикам. Мне кажется, что у меня будут неприятности. Мне почудилась в окне тень городового. Дурная примета!».
— Тень городового к неприятностям? — под смех зала переспросил прокурор. — Вы утверждаете, что вам известны имена убийц Ющинского. Кто вам их назвал?
— Один человек… мне незнакомый…
— Совсем незнакомый? Тогда будьте любезны опишите его внешность.
— Я не знаю… не разглядела.
— Разговаривали с человеком и не разглядели его лица?
— Он был… в маске.
— Даже так! В маске! И где же вы встретили эту маску?
— Вечером на Брест-Литовском шоссе. Я шла к знакомой, вдруг он ко мне подходит, называет меня по имени и говорит: «Я знаю, что вы бывали у Чеберяковой». Через несколько дней я снова пришла до того же места и опять встретила маску. Он сказал, что Чеберячка арестована, а они хотят пришить сыщика Красовского, полковника Иванова и следователя Фененко, потому как открылось, что хлопчика порезали на фатере Чеберячки.
— Не спросили ли вы: откуда вам все это известно, таинственный незнакомец в маске, и почему вы мне об этом рассказываете на улице?
— Ни, я не спрашивала.
— Маска назвала фамилии убийц?
— Да, он сказал, что резали Сингаевский, Рудзинский и Латышев.
— На предварительном следствии вы наряду с этими фамилиями назвали также Лисунова. Однако он никак не мог быть в квартире Чеберяковой и участвовать в убийстве, потому что как раз в это время находился под стражей.
— Я ошиблась.
— Вы сообщили в виде предположения, что труп Ющинского в течение нескольких дней находился в квартире Чеберяковой, а потом был спрятан в пещере ворами Мандзелевским и Михальчуком?
— Це так!
— Известно ли вам, что указанные лица в это время также содержались под стражей, следовательно, никак не могли вынести труп?
— Я не знала, — потупилась свидетельница.
Председатель, поглаживая окладистую бороду, задал вопрос свидетельнице:
— Скажите, не обращали ли на вас внимание прохожие — вот стоят барышня и человек в маске и разговаривают?
— Он стоял в тени.
— Какая на нем была маска? Вы в маскарад когда-нибудь ездили? Например, на масленице наряжаются в разные физиономии.
— Просто черная маска.
Замысловский задал вопрос свидетельнице, знает ли она жандармского полковника Иванова. Белошвейка утвердительно кивнула головой.
— Вы не были у него агентом?
— Нет. Я просто приходила к нему и рассказывала, что знала.
— И деньги получали?
— Он давал мне на трамвай.
— Сколько давал? Несколько копеек, пять, восемь копеек?
— Почему несколько копеек! — обиженно поджала губы свидетельница. — По три рубля давал, и пять рублей давал.
— Какие сведения вы ему сообщали? Рассказывали о маске?
— Да, рассказывала.
Карабчевский ласково и ободряюще обратился к свидетельнице:
— По поводу маски. Случалось ли вам когда-нибудь видеть людей, которые летают на аэропланах или ездят на мотоциклетах? Вот такого рода на нем был шлем с очками?
— Я не знаю… На нем была черная гладкая маска, — морща узкий лобик, отвечала Дьяконова.
Чаплинский тяжело вздохнул. Он ко всему готовился, но все-таки никак не ожидал, что заезжие знаменитости примутся разыгрывать откровенный фарс. И это лучшие адвокаты России! Ладно бы один только Грузенберг, изо всех сил старающийся вызволить своего соплеменника! Но Зарудный, которого все юристы чтут как сына виднейшего деятеля судебной реформы! Барственный Карабчевский, законодатель Маклаков, вальяжный Григорович-Барский! Все эти велеречивые господа с благородными лицами и учтивыми манерами делают вид, что верят фантасмагорическому повествованию о черной маске, разгуливавшей по киевским улицам. Свидетельница Дьяконова попалась на вранье раз десять, не меньше. Она говорила, что видела у воров в квартире Чеберяк бумагу с проколами, похожую на листки, найденные потом у пещеры. Но когда ей предложили на выбор нескольких вариантов листков с проколами, обвела чернилами отверстия совсем другой формы. Адвокат Грузенберг прокомментировал её ошибку в следующих словах: «Кто же запоминает отверстия, которые еле приметны, круглые они или четырехугольные». Дьяконова утверждала, что обнаруженный на теле Ющинского обрывок материи — это обрывок наволочки, которой убийцы зажимали рот мальчика. Она тотчас же узнала наволочку, поскольку вышивала её вместе с сестрой по заказу Веры Чеберяк. Однако она не смогла воспроизвести вышивку на бумаге и спутала цвета. Впрочем, Грузенберга ничто не могло смутить: «Что из того, что она нарисовала плохо? Ведь, господа присяжные заседатели, мы вообще вещи узнаем не потому, что можем их нарисовать».
Адвокатам помогали журналисты, заполонившие хоры для прессы. Под перьями борзописцев сновидения глупых баб превращались в подобие реальности, а попытки их уличить замалчивались. Говорили, что «Киевская мысль» собирается выпустить стенографический отчет о киевском процессе, и можно было только догадываться, каким искаженным и предвзятым он окажется.
Прокурор судебной палаты предвидел, что ближайшие заседания станут решающими для проверки на прочность воровской версии, столь рьяно поддерживаемой господами защитниками. И действительно, через два дня свидетельское место занял Сергей Махалин, высокий, щегольски одетый, с приятной и располагающей внешностью. О себе он сказал несколько слов, зато буквально преобразился, когда повел речь о своем друге Амзоре Караеве.
— В 1905 году он поселился на Подоле. При обыске у него нашли оружие и взрывчатые вещества. В тюрьме у него заболели зубы, и он просил разрешения поехать к врачу, а тюремный надзиратель начал над ним издеваться. Потом этот надзиратель оказался в другой тюрьме, но уже не в роли надзирателя, а обыкновенным заключенным. Я забыл упомянуть, что Караев поклялся отомстить ему. Встретив его в тюрьме простым заключенным, он вспомнил о своей клятве и зарезал его. По поводу этого был суд с присяжными, и его оправдали.
Прокурор Виппер нахмурил брови.
— Он был оправдан за убийство человека?
— За надзирателя был совершенно оправдан, а осужден за хранение взрывчатых веществ. Этот факт, то есть убийство тюремного надзирателя, происходил на глазах многих уголовных арестантов, и это сделало Караева героем в их мнении, он для них стал человеком необычным, дерзавшим, так сказать. На массу производило впечатление, что Караев никогда не ломал шапку перед начальством.
«С какой экспрессией он повествует о своем приятеле! — подивился Чаплинский. — Словно поет серенаду под окнами возлюбленной!» Караев не был вызван на суд в качестве свидетеля, поскольку отбывал ссылку в Енисейской губернии. Конечно, его могли доставить по этапу в Киев, но прокурор судебной палаты направил депешу в министерство внутренних дел с сообщением, что Караев на суде не нужен. Однако Чаплинский не мог воспрепятствовать появлению на суде Махалина, который соловьем разливался перед присяжными заседателями.
Внезапно слова свидетеля были прерваны громким рыданием. Чаплинский глянул на Бейлиса, который раскачивался на скамье подсудимых, закрыв лицо ладонями и истерически всхлипывая. У прокурора мелькнула надежда, что преступник сейчас падет на колени и сознается в убийстве. Но к Бейлису уже спешили адвокаты, плотной стеной закрыв его от публики. Чаплинскому стало ясно, что признание не состоится. «Впрочем, его уговорили бы взять свои слова обратно, заявили бы, что он признался в состоянии нервного расстройства».
Порядок в зале был восстановлен, Бейлиса успокоили. Вытирая покрасневшие глаза, он слушал показания свидетеля. Махалин умел держать публику в напряжении. В его исполнении сцена признания Плиса звучала в высшей степени драматически. Когда он дошел до слов Плиса «схватили мы байстрюка и потащили к сестре на квартиру», несколько женщин вскрикнули от страха и зарыдали. Махалин закончил свидетельские показания, и в зале суда воцарилась мертвая тишина. «Плохо дело! Кажется, ему поверили!» — вынужден был признать Чаплинский. Прокурор Виппер решил нейтрализовать впечатление, произведенное рассказом Махалина. Он задал свидетелю несколько малозначащих вопросов, а потом неожиданно спросил:
— Скажите, у вас не было никаких отношений с охранным отделением?
— Абсолютно никаких, — возмущенно откликнулся Махалин.
Виппер поинтересовался, какую роль в расследовании дела играл репортер «Киевской мысли» Бразуль-Брушковский?
— Больше суетился и путался под ногами. Он не имеет ни малейшего понятия о розыскном деле, — пренебрежительно заметил Махалин.
— А вы откуда имеете?
Махалин пожал плечами. Следующий вопрос задал Замысловский.
— Свидетель, вы нам охарактеризовали вашего друга Караева, а мне интересно узнать о вас кое-что. Вы сказали, что были под арестом по обвинению в совершении экспроприации. Но в законах не существует такой статьи. Есть статья о грабеже.
— Я не помню статьи.
— Не в статье дело, а в факте.
— Меня обвинили в том, что я ограбил…
— Ну, так и скажите, что отбывали наказание за грабеж. А после выхода из тюрьмы что вы делали?
— То есть как это что делал? За три года у меня была масса занятий. На железной дороге, потом в украинском клубе, наконец, я сам давал уроки. Я считал нравственным долгом не только учить, но и всячески развивать молодежь, беседовал с юношами на животрепещущие темы, вносил, так сказать, в их любознательные умы искры правды.
«Посмотрим, как этот учитель молодежи будет держаться на очной ставке с уголовниками, которых он обвинил в убийстве», — подумал Чаплинский. Ему пришлось ждать следующего дня, когда начались допросы членов воровской шайки. В зал суда в сопровождении тюремного конвоя ввели Петра Сингаевского.
— Вы брат Веры Чеберяковой? — задал вопрос прокурор Виппер.
— Да.
— Вы теперь под стражей? За что?
— Эта… покушение на кражу.
— Давно ли вы занимаетесь кражами? Что вас побудило к этому? Чем вы раньше занимались?
Сингаевский отвечал, что раньше работал поденно. «Скорее поночно», — заметил кто-то из публики и по залу прокатился смешок, прерванный грозным звонком председателя. На вопрос, знает ли он Амзора Караева, свидетель ответил, что знает, а познакомился с ним на Шулявке в парикмахерской своего приятеля Леньки. Новый знакомый с ходу предложил выгодное дело — взломать несгораемый шкаф.
— Чей шкаф?
— Мне не сказали. Тильки объясняли, шо бояться нечего, вони мне найдут фатеру, одежду дадут, все, как есть дадут.
— Не говорили ли вам, что предстоит мокрое дело? Вы понимаете, что такое мокрое дело?
— Ни, — отрицательно мотнул головой Сингаевский.
В зале суда загудели. «Врет!» — раздался громкий шепот в зале. Прокурор поспешил сменить опасную тему.
— А вы действительно совершили кражу из магазина Адамовича на Крещатике в ночь с 12 на 13 марта?
— Ага!
Чаплинский напрягся. Виппер задал вопрос нарочито небрежным тоном, однако на самом деле точная дата ограбления имела важнейшее значение. Поскольку убийство произошло предположительно 12 марта, воровская шайка имела нечто типа алиби, хотя и очень шаткое, что и взялась доказать защита. Грузенберг с задором наскакивал на взломщика:
— Почему вы думаете, что, если в ночь с 12 на 13 марта вы украли, то утром часов в 10 или в 11 нельзя было убить?
Сингаевский тупо глядел на адвоката, стараясь сообразить, куда он клонит.
— Я в третий раз вас спрашиваю, почему же вы думаете, что если вы в ночь на 13 марта совершили кражу, то это доказывает, что накануне утром вы не могли убить?
— Утром я был дома с Ванькой Рыжим, а вечером мы в магазине крали. На следующий день уехали в Москву.
— Поспешно уехали! Теперь позвольте выяснить следующее. Вы имели деньги на покупку билета?
— Ни. Я взял у матери рублей восемь или десять.
— Зачем же вам втроем ехать в Москву, если у вас совсем не было денег?
После довольно длительного молчания Плис выдавил из себя:
— Хотел побачить Москву, бо никогда не бував.
— Вот как? — усмехнулся Грузенберг. — Внезапно сорвались из Киева на следующий день после исчезновения мальчика, чтобы полюбоваться белокаменной?
Плис почесал в затылке и пробурчал:
— Маял думку продать награбленное и, если выгорит, что-нибудь уворовать в Москве.
За свидетеля взялся поверенный гражданского истца Замысловский. Он обращался к уголовнику с вопросами, больше походившими на уговоры:
— Ведь прежде чем ограбить магазин, вам нужно было хорошенько выспросить, когда хозяин уходит и тому подобное, не так ли? Вообще нужно сделать продолжительные разведки, выследить где что лежит, как магазин запирается. Ведь когда собираются ограбить магазин, не просто так лезут в него.
Было понятно, что Замысловский старался убедить присяжных заседателей в том, что воровская шайка потратила утро и день 12 марта на изучение диспозиции перед ограблением и, следовательно, не имела времени для совершения убийства. Однако взломщик не замечал протянутой ему руки и упрямо твердил, что года три назад они уже грабили это заведение на Крещатике и хорошо знали обстановку. Чаплинский крякнул с досады: «Кретин»! Замысловский терпеливо гнул свою линию.
— Как у вас обыкновенно делается? Сначала с одним делом покончите, потом принимаетесь за другое. Сначала сбудете вещи, а когда деньги прокутите, тогда за другое принимаетесь.
— Ага!
— А не бывает так, что вы, не кончив одно дело, принимаетесь за другое?
Плис наконец понял, чего от него добиваются, и отрицательно мотнул головой. Когда его уводили из зала суда, он столкнулся в дверях с Борисом Рудзинским, которого также вели под конвоем. Председатель суда Болдырев задал вопрос:
— Скажите, свидетель, вы сюда присланы из Сибири?
— Прямиком из Сибири! — Рудзинский с вызовом оглядел публику.
— Почему вы сознались, что совершили кражу в магазине Адамовича. Потому что не хотели, чтобы вас привлекли к делу Ющинского?
— Чтобы меня не пришили к этому делу.
— С кем вы совершили ограбление?
— С Ванькой Рыжим… с Латышевым…
— Знаете, что Иван Латышев выбросился из окна?
— Слыхать слыхал, но подробностей не знаю.
Чаплинский считал, что Латышев выбросился из-за непростительной оплошности следователя Фененко. Однако этот промах был единственный, который он был готов простить своему бывшему подчиненному. Чаплинский видел, что Сингаевский и Рудзинский произвели на публику и присяжных заседателей отталкивающее впечатление, так что отсутствие Ваньки Рыжего, самого бесшабашного члена воровской шайки, играло на руку ритуальному обвинению. Тем временем прокурор Виппер со знанием дела расспрашивал:
— Вы чем взламывали магазин? Фомкой?
— Губарем, то есть сверлом, — осклабился взломщик.
— Знаете сестер Дьяконовых? Они швеи.
— Видать видал, но не знаю. Они раньше жили на Захарьевской улице. Отец их торговал мясом на Еврейском базаре.
— На Еврейском базаре? — встрепенулся Шмаков. — Что же, у него значит с евреями были знакомства?
Рудзинский озадаченно глянул на старика и протянул, что понятия не имеет. Председатель Болдырев спросил свидетеля, учился ли он где-нибудь.
— В городском училище, а потом меня уволили. Тогда я поступил в военно-фельдшерское училище.
— Долго учились там?
— В первом классе остался на второй год, а из второго был отчислен за поведение.
Адвокат Грузенберг в своей обычной напористой манере задал свидетелю вопрос:
— Вы пробыли в военно-фельдшерском училище один год. Чему вас учили?
— Закон Божий, русский письменный, русский устный, арифметика, латынь, география, история, чистописание, зоология… — Рудзинский старательно перечислил науки, которые не сумел одолеть.
— Зоология! — воскликнул Грузенберг. — Значит, учили зоологию! Показывали вам животных? Объясняли анатомию?
«Сейчас хитрый адвокат припишет недоучившемуся фельдшеру знание анатомии, в которой были явно сведущи убийцы, обескровившие тело Ющинского», — обеспокоенно подумал прокурор судебной палаты. Но поверенный гражданского истца Замысловский уже спешил на помощь.
— Вам показывали в училище, как режут животных?
— Нет, только рассказывали, как составлены животные.
— На операции какие-нибудь водили вас?
— Нет, на операции водят с третьего и четвертого классов.
— Так что, например, о хирургии вы не имеете никакого понятия?
— Не имею, — подтвердил свидетель.
Защитники Бейлиса обменялись между собой несколькими словами. Карабчевский попросил еще раз пригласить Сингаевского. Очевидно, Карабчевский хотел выяснить его познания в анатомии.
— Ваша сестра получила некоторое домашнее образование. А вы чему-нибудь учились?
— Пытались учить, тильки я туп к грамоте, — признался вор.
— Писать умеете?
— Тильки фамилию подписую.
— А читать?
— Тильки по слогам.
Шмаков спросил, учился ли свидетель анатомии. Плис недоуменно мотнул головой.
— Может, вы учились хирургии? Слово такое слышали когда-нибудь?
— Ни, не слышал.
Ввиду противоречий в показаниях свидетелей Махалина и Сингаевского между ними была устроена очная ставка. Председатель попросил Махалина подойти поближе к дубовой конторке и обратился к Сингаевскому:
— Посмотрите на этого молодого человека. Узнаете его?
Махалин с высоты своего роста устремил взгляд на приземистого взломщика. Тот молчал. Председатель еще раз повторил вопрос. После долгой паузы Сингаевский сказал, что видел этого человека у Караева в номере Михайловской гостиницы. Председатель предоставил защите возможность задать вопросы свидетелям. Грузенберг встрепенулся и начал расспрашивать Махалина, в каких словах Сингаевский признался в убийстве.
— Итак, Сингаевский сказал: «Да, это наше дело!» — спросил адвокат.
— Да.
Председатель обратился к взломщику:
— Вы, Сингаевский, что скажите на это?
— Ни, я це не говорил.
Прокурор Виппер обратился к свидетелю Махалину с просьбой пояснить, действительно ли Сингаевский употребил выражение «министерская голова». Махалин утвердительно кивнул.
— Да, он сказал, что «это сделала министерская голова Рудзинского».
— Была ли такая фраза произнесена вами? — осведомился прокурор у второго участника очной ставки.
— Шо? — шмыгнул носом Плис и закончил под громкий смех в зале: — Бис его знает, не умею ответить.
Когда заседание суда было прервано до следующего дня, Чаплинский направился к себе, размышляя над тем, что очная ставка ничего не дала. Однако покидавшая заседание публика думала иначе. До ушей прокурора донеслись слова какого-то журналиста, очевидно, приезжего, потому что прокурору не доводилось видеть его раньше: «Видели, как испугался Сингаевский, когда Махалин, словно демон вырос перед его глазами. Уголовник не мог отвести от его своих глаз, полных животного ужаса — ведь он не ожидал увидеть того, кто знает его тайну, похороненную, казалось, на веки». Его собеседник, судя по всему, тоже из пишущей братии, иронически заметил: «Полноте, Владимир Дмитриевич, вы же намедни писали в „Киевской мысли“, что Сингаевский — такое тупое животное, что на его физиономии никаких чувств не отражается». — «То было намедни, а сегодня иное. Учите, батенька, диалектику!»
Не успел прокурор судебной палаты войти в свой кабинет, как к нему ворвались поверенные гражданских истцов Замысловский и Шмаков. Они буквально клокотали от негодования.
— Каков наглец, этот Махалин! — возмущался Замысловский. — У него на физиономии написано, что он платный осведомитель. Я требую, чтобы охранное отделение разоблачило его. Если полиция заявит, что он обыкновенный провокатор, то версии о воровской шайке мгновенно придет конец.
— Заверяю вас, все и так поняли, кто такой Махалин. Вы вашими беспощадными вопросами буквально раздели его перед публикой, — польстил прокурор.
— Да? Что же, кажется, я и в самом деле недурно провел допрос. — Замысловский постепенно успокаивался. — Все-таки следовало бы разоблачить мерзавца вместе с его дружком Караевым. Нельзя не позавидовать энергии еврейских дельцов. Выставить столько лжесвидетелей, раздобыть такое количество сфабрикованных улик! Беда евреев в том, что они ни в чем не знают меры. Мало-мальски опытному юристу сразу бросится в глаза богатство, я бы даже сказал, роскошь улик, которыми обставлена версия о воровской шайке. Все есть, все что угодно. Мотивы? Пожалуйста — кто-то слышал, как мальчик пригрозил своему приятелю полицией. Правда, не удалось найти того, кто слышал, но разве это важно? Дьяконову зачем-то впустили в квартиру в самый разгар преступления. Эта же свидетельница уверяет, будто труп несколько дней находился в квартире, где играли дети, куда заходили посторонние, даже оставались ночевать — ну ни чепуха! А как вам нравится признание закоренелого преступника Сингаевского первому встречному шпику?!
— Ох, сядем мы в лужу со всей воровской шайкой, помяните мое слово, — процедил сквозь обвисшие седые усы Шмаков. — Чеберячка, стервоза, проговоривается. Чует мое сердце, она крепко замешана.
— Согласен, что Чеберячка — это такая особа, за которой много всяких хвостов, — кивнул Замысловский. — Парадокс в том, что поймать за руку ритуальных убийц можно только опровергнув напраслину, возведенную на Веру Чеберяк.
— Этот парадокс медного пятачка не стоит, — заспорил Шмаков. — Почему непременно или Бейлис, или Чеберяк? Почему не Бейлис вместе с Чеберяк? Я считаю их сообщниками. Чеберячка просто запродала мальчишку жидам.
— Да как вы не понимаете, Алексей Семенович… — начал Замысловский, но прокурор прервал их спор вопросом:
— Скажите, вас хорошо охраняют?
— Ходит по пятам какое-то гороховое пальто.
— А вас? — обратился прокурор к Шмакову.
— Меня взялись охранять члены «Двуглавого орла», но я отказался. Ведь все равно убьют, зачем же подвергать опасности молодые жизни.
— Вы так спокойно об этом говорите, — поежился Чаплинский.
— Я же знал, на что иду, когда начал публиковать книги о всемирном еврейском заговоре. Удивительно, что до меня еще не добрались!
Покидая кабинет прокурора, поверенные возобновили спор.
— И Чеберячка и Бейлис… — бубнил Шмаков.
— Не надо ломать общую линию… — убеждал его Замысловский.
Чаплинский вызвал дежурного чиновника и велел разыскать подполковника Иванова. Через полчаса чиновник сообщил, что подполковник в приемной. Иванов выглядел смущенным. Выдержав длинную паузу, Чаплинский осведомился:
— Эта дура-модистка Дьяконова сказала, что ходила к вам. Скажите начистоту, она была вашей осведомительницей?
— Ваше превосходительство, поймите мое положение. Я ученик Зубатова, он учил нас, тогда еще совсем молодых офицеров: «Относитесь к вашим секретным осведомителям, как к замужней женщине, с которой вы имеете интимную связь. Малейшая нескромность навсегда погубит её репутацию».
— Возможно, это относится к приличным дамам. Но девица, которой вы платили за услуги пять рублей! О какой репутации вы толкуете? Я настаиваю!
Жандармский подполковник неохотно ответил:
— Дьяконова не настоящая сотрудница. Она проходила по разряду штучниц.
Прокурор судебной палаты знал, что в полиции «штучниками» называют случайных осведомителей, получающих денежное вознаграждение за каждое отдельное указание.
— По агентурным сведениям, Екатерине Дьяконовой якобы стало известно о виновниках преступления. Я вызывал её несколько раз, платил немного, чтобы развязать ей язык, но толку добился немного. Сначала она невнятно болтала о своих снах, потом ее сведения стали более точными. Однако я подметил, что стоило задать ей новый вопрос, как она начинала плести откровенную чушь, зато в следующий раз отвечала более или менее четко. Новый вопрос, и история повторяется — сначала путается, в следующий раз отвечает без запинки. У меня сложилось впечатление, что ее кто-то натаскивал, но модистка — глуповатая ученица, может лишь повторять вызубренное как попугай.
— Кто же, по вашему мнению, режиссер оперетки с таинственными масками?
— Полагаю, бывший пристав Красовский. Продолжая удачную аналогию с опереткой, сделанную вашим превосходительством, добавлю, что либретто, по многим признакам, состряпано сыщиком. Им же распределены роли актеров. Антрепренером, надо думать, выступает еврейский комитет во главе с присяжным поверенным Марголиным. Комитет заказывает музыку и оплачивает гонорары.
— За сколько иудиных сребреников наняты адвокаты? — поинтересовался прокурор.
— За тридцать. Вернее, тридцать тысяч рублей заплачено Грузенбергу, а Карабчевскому только двадцать пять тысяч рублей. Кроме того, по агентурным данным, Грузенбергу обещана премия в сто тысяч в случае полного оправдания Бейлиса.
— Гм! Своего больше ценят. Сколько заплатили мерзавцу Красовскому?
— Его задешево купили. Хотя с чем сравнивать? Пристав после увольнения совсем бедствовал, а сейчас не вылезает из дорогих ресторанов.
— Итак, белошвейка, как вы сказали, штучница. Сергей Махалин тоже штучник или рангом выше?
— Он секретный сотрудник под агентурным псевдонимом «Депутат», точнее, бывший сотрудник. От его услуг отказались ввиду шантажных наклонностей.
— Вот как! Хорош учитель, «вносящий искры правды в юные умы»! — насмешливо процитировал Чаплинский. — Амзор Караев, на которого он ссылается, тоже из бывших агентов?
— Так точно! Кличка «Кавказский». Начал осведомлять еще при Кулябко, им и завербован, а непосредственно вел его, как агента, старший филер Демидюк. Жалования он получал сто рублей в месяц, освещал околоэсеровскую публику. После отдачи под суд Кулябко и отстранения Демидюка новый начальник отделения подполковник Самохвалов прекратил выплачивать ему жалование, поскольку «Кавказский» добывал сведения провокаторскими методами. Он формировал из молодежи эсеровские группы, а потом выдавал всех полиции. Едва только имя Караева всплыло в связи с разоблачительной статьей Бразуля, он был выслан в Енисейскую губернию.
— С Кулябкиной агентурой чистая беда. Один агент застрелил Столыпина, другой состряпал лживую версию. Казалось бы, если полиция не контролирует своих осведомителей, то отчего нельзя их разоблачить?
— Таково предписание инструкции, ваше превосходительство. Мы не можем раскрывать агентов, даже бывших и переметнувшихся на другую сторону. Если это правило будет нарушено, никто больше не захочет сотрудничать с жандармами.
Чаплинский отпустил подполковника и через некоторое время, прихватив портфель, спустился по лестнице вниз. Еще не вся публика разошлась. Какой-то молодой человек решительно направился к прокурору. «Где же охрана? — в панике заметались мысли Чаплинского. — Наверное, ждет снаружи у подъезда. Какой идиотизм! Если в меня выстрелят, на улице даже не услышат».
— Господин прокурор, позвольте выразить негодование по поводу ваших беззаконных действий, — воскликнул молодой человек. — От лица молодых юристов заявляю вам, что вы покрыли российское правосудие несмываемым позором. Вы предъявляете лживые обвинения, фальсифицируете улики, лишаете невиновного человека права на защиту. Вы…
Чаплинский затравленно озирался кругом, как вдруг к нему пришла нежданная помощь. Вниз по лестнице сбегал пристав Плосского участка Вышинский.
— Анджей! — грозно рявкнул он на молодого человека. — Ваше превосходительство, великодушно извините, у моего племянника в голове зайцы скачут.
За спиной бравого пристава Чаплинский сразу почувствовал себя гораздо увереннее и наставительно сказал его племяннику:
— Обидно и несправедливо, милостивый государь. Вы юрист?
— В этом году кончил курс наук в Киевском университете.
— Вот послужите лет пятнадцать-двадцать, наберетесь опыта, доверят вам, даст Бог, прокурорскую должность, начнете сами проводить процессы — тогда, уверен, вы не будете говорить, что прокурор позорит правосудие.
— В прокурорах мне не бывать, — уверенно отвечал молодой Вышинский. — Я человек социалистических убеждений и никогда не стану обвинять своих товарищей. К тому же я оставлен при кафедре уголовного права для приготовления к профессорскому званию. И не надо иметь двадцатилетней практики, чтобы понять, кто убийца. Сингаевский сам признался в преступлении.
— Странно! Будущий профессор не понимает, что одного признания недостаточно для вынесения приговора. Всего хорошего!
Прокурор повернулся спиной к Вышинскому, а тот нервно выкрикнул ему во след:
— Какие вам еще нужны доказательства? Вы, господин прокурор, забыли римское право! Я вам напомню один из важнейших принципов, сформулированный еще в Древнем Риме: Confessio est regina probationum — Признание есть царица доказательств.
Глава двадцать третья
21 октября 1913 г.Большую часть процесса Бразуль-Брушковский протомился в свидетельской комнате, откуда его вызывали для уточнения тех или иных сведений. Одно заседание почти полностью посвятили его показаниям, и нельзя сказать, чтобы этот день был самым приятным в жизни журналиста. Ему пришлось выслушать множество оскорблений со стороны обвинения. Особенно неистовствовал прокурор Виппер. Прежде всего он спросил, правда ли, что Бразуль женат на еврейке, и услышав, что это так, торжествующе воскликнул: «Ага!», словно уличил репортера в тяжком преступлении. Затем последовали назойливые расспросы о том, кто его финансировал. Бразуль твердо отвечал, что тратил собственные средства и даже залез в долги. Но обвинение задалось целью опорочить журналистское расследование, благодаря которому были обнаружены истинные виновники преступления. Жандармский подполковник Иванов сообщил суду, что, согласно агентурным сведениям, Бразуль после публикации своего заявления получил три тысячи от еврейского комитета. Да, он съездил в Ялту привести в порядок нервы, расшатанные напряженной работой, и его отдых был щедро оплачен. Они с женой остановились в «Ореанде», гуляли по набережной и дышали морским воздухом, вообще, пожили с настоящей роскошью, но раз в жизни это можно было позволить!
Только после того как суд опросил всех свидетелей и приступил к слушанию экспертов, Бразуль занял свое законное место на хорах, отведенных для представителей прессы. Там было неудобно, тесно и плохо слышно, что происходит в суде. Когда выступал профессор Сикорский, журналисты мучительно напрягали слух, вслушиваясь в его шелестящую речь. К тому же вскоре слабый голос профессора был полностью заглушен недоуменным ропотом зала. Бразуль с отвращением наблюдал за тем, как старый психиатр, не отрываясь от разложенных перед ним листков, зачитывал бессвязный, бредовый текст, как будто одолженный у одного из его пациентов.
Удивительно, что сын профессора, такой же черносотенец по убеждениям, как и отец, успел прославиться в Петербурге полетами на огромной летательной машине, названной сначала «Гранд», а потом переименованной в духе квасного патриотизма в «Русский витязь». Правда, за границей в известия об удачных полетах младшего Сикорского не верили и «Русский витязь» насмешливо называли «русской уткой». Бразуль расспрашивал петербургских журналистов, и все как один заверили, что огромный аэроплан действительно летает над Петербургом, вызывая заторы на городских улицах, потому что трамваи и экипажи немедленно останавливаются, когда в небе над ними появляется рычащая махина.
Между тем старший Сикорский читал свои листки. Среди защитников Бейлиса нарастало возмущение. Первым не выдержал и вскочил с места Григорович-Барский, за ним выразил свой протест Карабчевский. Поверенный истца Замысловский выкрикнул: «Нельзя ли умерить это страстное служение еврейству», на что Карабчевский с достоинством ответил: «Правосудию, а не еврейству» и был награжден рукоплесканием зала. Выступавший после Сикороского академик Бехтерев, указал, что выводы его оппонента не соответствуют объективным данным. Журналист впервые видел знаменитого ученого и отметил, что внешне живой и энергичный Бехтерев выгодно отличался от полупарализованного старца. По общему мнению, академик не оставил камня на камне от аргументов обвинения. Еще до суда экспертиза Сикорского была заклеймена психиатрами с мировыми именами. Профессора Блейер, Бедекер, Форель, Цимке, Оберштейнер и многие другие выразили гневный протест против кровавого навета. Профессор Сербский назвал заключение Сикорского сложным квалифицированным злодеянием.
Хоры для прессы постепенно наполнялись журналистами. Впереди Бразуля заняли кресла Короленко и Бонч-Бруевич, громоздкий, длиннорукий, длинношеий. Они были приглашены «Киевской мыслью». Присутствие писателя Короленко льстило всей редакции, но Бразуль недоумевал, зачем понадобился Бонч-Бруевич? Конечно, он являлся специалистом по сектантам: молоканам, хлыстам, скопцам и особенно духоборам, чью сокровенную «Животную книгу» ему удалось записать, — и все же, когда на пороге редакции возникала несуразная, громоздкая фигура Бонч-Бруевича, журналист чувствовал прилив желчи. Читая статьи нахлынувших в Киев собратьев по перу, Бразуль с горечью убедился, что они ни в грош не ставят его труды по разоблачению преступников. Столичные журналисты соглашались, что он был воодушевлен благими намерениями, но… — тут обычно следовала высокопарная сентенция, что негоже пятнать репутацию свободной прессы сыскным ремеслом. «Чистоплюи либеральные! — мысленно ругал их Бразуль. — Неужели вы собираетесь одолеть черносотенную реакцию в белых перчатках? Кому-то надо было лезть в грязь, чтобы добыть материалы, которыми сейчас так снисходительно пользуются? А вместо благодарности едва подают руку!»
Сквозь толпу репортеров прошел Владимир Набоков. Он не пробивался локтями, а двигался спокойно и неторопливо, словно на прогулке в Летнем саду. Набоков походил на английского лорда, безукоризненно выбритого, строго и элегантно одетого. Журналисты предупредительно уступали ему дорогу, а он, тепло поздоровавшись с Короленко и сдержано с Бонч-Бруевичем, сел на заранее занятый для него стул и небрежно забросил под сиденье шелковый цилиндр. Он беседовал с Короленко о семейных делах.
— Мой сын Володя обнаружил в библиотеке труд великого князя Николая Михайловича о русско-азиатских бабочках с несравненными иллюстрациями Кавригина, Рыбакова и Ланга. Сейчас он мечтает о долгой и волнующей карьере куратора чешуекрылых в большом музее.
— Что же, у каждого своя дорога, — отозвался Короленко. — По крайней мере не будет, подобно нашему брату писателю, напрасно бумагу марать. Пусть изучает насекомых. Хотя, скажу я вам, такого зверья, как в этом зале, ни в одном зоологическом саду не удастся понаблюдать. Эти шмаковы, замысловские, голубевы!
— У меня вчера была стычка со студентом Голубевым, — вступил в разговор Бонч-Бруевич. — Он угрожал мне расправой, я же посоветовал ему больше времени уделять занятиям в университете. Мальчишка сразу поджал хвост!
— Голубев — свой человек для властей, — заметил Набоков. — Я тут наблюдал, как он по-приятельски жмет руку всем чинам полиции от городового до полицмейстера. Когда ему понадобилась справка из сыскного отделения, он зашел туда, словно в осведомительное бюро, словно к себе на квартиру. И получил справку, и принес ее в суд. И никто даже не удивился!
— Читали, как Троцкий отделал эту братию в «Киевской мысли»? — с улыбкой спросил Бонч-Бруевич.
— За балканские репортажи я его не похвалю, — покачал головой Набоков.
— Вам, либералам, правда глаза колет, — грубо парировал Бонч-Бруевич. — Троцкий абсолютно прав. Сусальная агитация в защиту братушек-славян есть не что иное, как прикрытие империалистических планов передела мира.
Они заспорили о балканской политике. Для Бразуля это была больная тема. После успешного журналистского расследования Бразуля повысили, поручив вести в «Киевской мысли» отдел военный и водных путей сообщения. Отдел, правда, считался самым незначительным, но вскоре на Балканах запахло порохом. Венский корреспондент газеты Лев Троцкий попросил отправить его на театр военных действий. Бразуль загорелся этой идеей, отстоял смету расходов. Потом он об этом пожалел, потому что вместо репортажей о героической борьбе славянских народов против турок Троцкий присылал корреспонденции о систематическом насилии православных болгар и сербов над мусульманами. Его статьи о расстреле пленных турок вызвали возмущенные дипломатические демарши Белграда и Софии. Бразуль считал, что Троцкий перебарщивает, бичуя язвы войны с позиций пацифиста. Понятно, что у штатского человека приказы генералов вызывают отвращение. Однако на войне невозможно обойтись без расстрелов, как бы ими ни возмущался Троцкий.
А вот о киевском процессе Троцкий писал хлестко. «На памятнике Замысловскому, — обращался он к черносотенцам, — а этот памятник вы должны воздвигнуть ему при жизни — начертайте великую ксиву: как Замысловский учил двух честных блатных не капать на себя не вовремя по мокрому делу. И пусть ваша молодежь, ваша надежда, Голубевы и Позняковы, заучивают блатную ксиву наизусть, как высший образчик черной гражданственности».
С таким же сарказмом Троцкий писал о появлении на суде двух заграничных родственников Зайцева. Эту историю раскопал Розмитальский, несомненно имевший сыскной опыт. Он услышал от кого-то из служащих кирпичного завода, что в канун еврейской пасхи 1911 года на заводе были временно прописаны евреи Эттингер и Ландау, прибывшие из-за границы. Розмитальский решил, что они являлись теми самыми «бородатыми евреями в мантиях», которые похитили Андрея Ющинского.
Троцкий с сарказмом писал: «Упорно и настойчиво допрашивало обвинение всех свидетелей о двух страшных „цадиках“ Эттингер и Ландау, которые будто бы приезжали к Бейлису на заклание Ющинского; мистическая туча сгустилась в зале суда вокруг этих двух имен, прежде чем сами цадики прибыли из-за границы по зову защиты: один из них оказался модным австрийским аграрием, которому ритуал ночных учреждений Вены известен несравненно точнее, чем ритуал еврейской религии; другой, прибывший из Парижа, оказался молодым автором нескольких опереток, в которых не проливается ни одной капли христианской крови, хотя насчет седьмой заповеди обстоит в высшей степени неблагополучно».
Бразуль не мог без смеха вспоминать оторопь обвинителей, когда перед ними предстали оба «цадика» в платье от лучших портных. Австрийский подданный Якоб Эттингер, шурин Марка Зайцева, типичнейший немец по внешности, не знал ни слова по-русски и показания давал через переводчика. В Киев он приезжал навестить сестру, а также по делам, связанным с хлебной торговлей. Проживая в особняке Зайцева в аристократических Липках, он понятия не имел, что был прописан на кирпичном заводе и только недоуменно поднял брови: «Was ist das?»
Второй «цадик» Ландау, сын покойного сахарозаводчика Израиля Ландау и племянник Марка Зайцева, большую часть времени проводил в Париже среди музыкантов, литераторов и прочей богемной публики. Он писал либретто для парижской сцены и даже, как говорили, привез пьеску для киевского театра-варьете «Аполло» на Меринговской. Худощавый, с бритым актерским лицом, одетый в пиджак, манишку с цепочкой, лакированные ботинки, он все время рассматривал хорошо отполированные ногти и говорил, небрежно грассируя, отчего казалось, что он вот-вот перейдет на более привычный для себя французский.
Вопреки уверениям обвинителей Ландау приезжал в Киев не весной, а осенью 1911 года, примерно через полгода после смерти Ющинского. Он остановился в доме матери на Левашовской улице, однако мать, урожденная Зайцева, не учла, что ее сын, как еврей без высшего образования, не имел права жить во Дворцовом участке. Разумеется, на любой запрет имелся свой обходной маневр, и Ландау прописали в Старокиевском участке. Прокурор Виппер брюзгливо спросил: «Скажите, отчего такая странная комедия, вы живете в Дворцовом участке, все это знают, а прописывают вас почему-то на Фундуклеевской улице?» Парижанин небрежно пожал плечами: «Пропиской занимался дворник». Адвокат Григорович-Барский, киевский уроженец, вскочил со своего места и воскликнул: «Я хочу разъяснить господам присяжным заседателям, что право жительства в Киеве не во всех участках имеется для евреев и что это не комедия, а трагедия».
Вот такие перед судом прошли свидетели, а сегодняшнее заседание было отдано историко-богословской экспертизе. Конвоиры ввели Менделя Бейлиса. Судебный пристав скомандовал:
— Прошу встать.
Из левой двери гуськом вышли присяжные заседатели и под присмотром картинно изогнувшегося старшины расселись на двух скамьях. Напротив присяжных разместилась группа седовласых и лысых людей в рясах, сутанах и сюртуках. Сегодняшнее судебное заседание было посвящено богословско-исторической экспертизе, и каждая из сторон пригласила своих экспертов, или, как они официально назывались, «сведущих лиц».
Бонч-Бруевич наклонился к уху Короленко:
— Заметьте, Владимир Галактионович, никто из православного духовенства, среди которого так много карьеристов и прямых проходимцев, не рискнул подтвердить гнусный навет на евреев. Смешно, но истинно русским пришлось обратиться за богословской экспертизой к католику Иустину Пранайтису!
Ксендз Пранайтис удивительно напоминал тощую церковную мышь. Все в нем было мышиного цвета — длинная поблекшая сутана, ежик подстриженных волос на голове, гладко выскобленные щеки и подбородок. В перерывах между заседаниями он бесшумно скользил по коридору, настороженно поглядывая бусинками глаз сквозь стекла очков, готовый обратиться в бегство при малейшей опасности. Пранайтис являлся магистром богословия, когда-то преподавал древнееврейский язык в петербургской римско-католической академии, а потом служил миссионером в Туркестанском крае.
— Перед экспертом обвинения стоит невыполнимая задача, — заметил Набоков. — Если он будет доказывать, что иудейские священные книги требуют человеческих жертвоприношений, то тем самым бросит тень на христианство, ибо мы получили Священное Писание от евреев. Одно из двух: или признать догмат крови сказкой, или записать нас, христиан, в поклонники кровавого ритуала. Любопытно, как патер обойдет это противоречие.
Любопытство Набокова тотчас же было удовлетворено. Ксендз проявил воистину иезуитскую хитрость, заявив, что в настоящий момент Библия утратила для евреев всякое значение.
— После разрушения Иерусалимского храма и окончательного изгнания из Палестины, — объяснял Пранайтис, — евреи подпали под власть раввинов, ученых толкователей книг Ветхого завета. Библия для них теперь не есть закон. Они прямо берут из нее изречения для подкрепления своих учений, так же, как на развалинах прекрасного храма отбросы и осколки употребляются для подкрепления какой-нибудь лачужки…
Бразуль раскрыл рот от удивления. Как ни был он далек от религии, даже он знал, что евреи почитают Библию, или Тору. Жена рассказывала, что евреи именуют себя «народом Книги» и все главы Торы распределены по числу недель в году. Каждую субботу в синагогах читается соответствующая глава, так что к концу года весь текст прочитывается полностью. Однажды он видел печальную погребальную процессию в пережившем погром еврейском местечке. Но хоронили не покойника. Евреи, оглашавшие кладбище стенаниями, несли на длинных шестах ларцы с разодранными погромщиками свитками Торы. Эти оскверненные свитки похоронили, чтобы ни один лоскуток со священным текстом случайно не попал в мусорную кучу. А ксендз утверждает, что Библия ничего не значит для евреев!
Между тем Пранайтис продолжал:
— Из толкований раввинов составился Талмуд, почитающийся выше Священного Писания. Ибо сказано: «Более тяжелый грех идти против слов раввинов, чем против слов Торы». В Талмуде нашла ярчайшее проявление нетерпимость евреев к иноплеменникам, особенно к христианам. Слово, которым пишется в Талмуде имя Спасителя, — Иешу. Оно обозначает пустоту или мерзость, то есть Иисус Христос для евреев тоже самое, что мерзость…
Председатель прервал эксперта:
— Вы говорите при публике о таких вещах, которые оскорбляют религиозные чувства. Для этого нужно бы закрыть двери, а так нельзя.
— Повинуюсь, — произнес ксендз елейным голосом. — Заповедь «не убий» толкуется как запрет лишать жизни евреев, но отнюдь не гоев, то есть иноплеменников. В Талмуде сказано: «Лучшего из гоев умертви, красивейшей змее размозжи голову!»
Пранайтис таинственно понизил голос.
— Я должен коснуться самого сокровенного еврейского вероучения, именуемого каббалой. Это учение скрыто от чужих глаз. О каббале под страхом проклятья не дозволено говорить никому, кроме «жнецов поля» — так иносказательно именуют посвященных. Про каббалу говорят, что она также была преподана Богом на горе Синай, но не Моисею, а его брату Аарону. Это учение передавалось из уст в уста через священников Храма, потомков Аарона. Согласно мистическим представлениям каббалистов, при сотворении мира Иегова заронил в живые существа частицы своей божественной святости в виде искр. Однако подобно тому как при ковке железа искры падают в разные стороны, так и при сотворении мира часть божественных искр попала не по предназначению, а в души гоев, то есть иноверцев. Чужие души именуются клипоты или скорлупы, ибо еврейство считается ядром, а все остальные народы — пустой оболочкой. По убеждению каббалистов, извлечение искр из чужих скорлуп и возвращение их ввысь к божественному первоисточнику ускоряет пришествие Мессии. Отсюда естественно вытекает, что благочестивые евреи должны быть устремлены к освобождению искры из клипот путем убийства гоев…
При последних словах ксендза на скамье экспертов произошло движение. Профессор Троицкий укоризненно покачал головой, а академик Коковцов повернулся в сторону патера и мрачно оглядел его с головы до ног. Выразительная пантомима не укрылась от внимания Пранайтиса, но он, упрямо поджав тонкие губы, продолжал:
— Из главнейшего каббалистического сочинения книги «Зогар», или книги «Сияния», видно, что акт убийства должен совершаться определенным способом: «И смерть их — „ам-гаарцев“, то есть неевреев пусть будет при замкнутом рте, как у животного, которое умирает без голоса и речи. В молитве же резник должен говорить: „нет у меня уст отвечать и нет чела, чтобы поднять голову“. И он творит благодарственную молитву и дает обет святому, да будет Он благословен, что ежедневно должно быть его убиение во Эхаде, как при убиении скота — двенадцатью испытаниями ножа и ножом, что составляет тринадцать».
Пранайтис прервал свои объяснения, чтобы вытереть бескровные губы. В мертвенной тишине было слышно, как патер шуршит сутаной, достает платок. Потом он обратился к присяжным заседателям.
— Приводя этот грозный текст, я считаю необходимым сопоставить его с данными судебно-медицинского осмотра и вскрытия трупа Андрея Ющинского, которому была нанесена группа колотых ран в область правого виска, — эксперт выдержал томительную паузу и выдохнул, — числом тринадцать, как того требует книга «Зогар». При этом двенадцать ран представляют собой поверхностные и неопасные порезы, тогда как тринадцатая рана смертельная, что опять-таки полностью соответствует предписанию книги «Зогар» о совершении ритуального заклания «двенадцатью испытаниями ножа и ножом», то есть двенадцатью предварительными уколами и завершающим тринадцатым ударом.
Зал загудел. Короленко тихо спросил у Бонч-Бруевича:
— Я плохо разбираюсь в мистических делах, но нутром чую, что туркестанский патер передергивает. А что, книга «Зогар» действительно имеет такое важное значение?
Бонч-Бруевич, задумчиво пожевав усы, ответил:
— Для каббалистов «Зогар» является кладезем мудрости. Они верят, что книга была написана одним из самых почитаемых талмудических мудрецов Шимоном бен Гохаем, жившем во втором веке нашей эры. Он являлся учеником рабби Акибы, с коего римские легионеры живьем содрали кожу. Опасаясь разделить участь учителя, Шимон укрылся в пещере в отдаленном уголке Палестины. Там он провел двенадцать лет. Чтобы не сносить единственную одежду, он нагим зарывался по шею в песок, облачаясь только в часы молитвы. В пещере он спрятал книгу «Зогар», которая десять веков спустя — заметьте, не через десять лет, а через десять веков — была обнаружена каталонским каббалистом Моисеем де-Лионом, совершившим долгое путешествие в Палестину. Так во всяком случае утверждал де-Лион. Но современная наука отвергает эту легенду. Моисей де-Лион, по свидетельству его современников, был большим мотом, растранжирившим собственное имущество. Иногда его дом был полон золота, которое жертвовали богачи, понимавшие толк в книгах, созданных с помощью Пишущего Имени, но чаще всего его семья не имела куска хлеба. После смерти Моисея де-Лиона его вдова призналась: «Из своей головы, по разумению своему писал он „Зогар“. И я, видя, что не держит он ничего пред собой, когда пишет, спрашивала его, зачем он уверяет, что переписывает из древней книги, и не лучше ли ему сказать, что он пишет сам, чтобы ему досталось больше почета? Но он отвечал мне, что если станет известна эта тайна, то люди потеряют уважение к его словам и не дадут за них даже мелкой монеты, говоря, что он сам все выдумал. Сейчас же, когда все думают, что он переписывает из книги, составленной в незапамятные времена рабби Шимоном бен Гохаем в духе святости, люди с радостью платят деньги». Замечу, что «Зогар» в большей степени ценился христианскими мистиками, нежели в иудейской среде, и причина в том, что эта книга призывает к суровому аскетизму, что присуще именно христианскому учению.
Пока Бонч-Бруевич рассказывал Короленко о происхождении книги «Зогар», между обвинением и защитой разгорелся спор. Обвинение ходатайствовало об оглашении составленной Пранайтисом исторической справки о ритуальных убийствах. Несмотря на бурные протесты защиты, суд решил удовлетворить эту просьбу. Один из членов суда встал из-за стола и начал монотонно читать:
— В 419 году евреи распяли христианского мальчика в Имностаре близ Антиохии…
Короленко, схватившись двумя руками за голову, простонал:
— Как им не совестно! Это не суд, это какая-то Лысая гора!
Чтение продолжалось:
— В 1182 году за убийство двенадцатилетнего мальчика в Понтуазе евреи были изгнаны из Франции… В 1293 году в Кремье два еврея были приговорены к смерти за убийство христианского ребенка… В 1305 году в Иберлингене христианский мальчик был распят евреями, а тело его, исколотое и покрытое множеством мелких ран, было найдено в колодце. Осужденные евреи были казнены… В 1401 году в Диссенгофене в Швейцарии был убит христианский мальчик Конрад Лора, четырех лет, Иоганном Цааном по подговору еврея Виттельмана, купившего у него кровь ребенка за три гульдена. Оба виновные были казнены…
Короленко заткнул уши.
— Не могу слышать этот бред. Дайте мне знак, когда он закончит.
Монотонное чтение продолжалось:
— В 1476 году в Регенсбурге кровь восьми христианских детей была собрана евреями для каббалистических целей. В подземелье под домом еврея Иоселя были найдены останки детей и камень-жертвенник. Семнадцать евреев были осуждены и казнены…
Вскоре Бразуль перестал различать бесконечное перечисление дат, стран, городов, имен — все слилось в утомительное жужжание. Потом слух зацепился за русские имена.
— По саратовскому делу установлено, что в 1852–1853 годах в Саратове местными евреями был налажен промысел по добыванию христианской крови и оптовой рассылке ее в другие города…
Пока читалась справка, Бейлис сидел, низко склонив голову. «Каково ему слушать про оптовую рассылку крови!» — с жалостью подумал журналист. Наконец, прозвучали заключительные слова справки, но на этом мучения подсудимого не закончились. Вперед выступил обвинитель Виппер и, поминутно справляясь с выписками, начал расспрашивать Пранайтиса:
— По поводу одного из фактов, указанных в вашем перечне ритуальных преступлений. Не было ли в Саратовском деле данных, что хасидскому цадику Шнеерсону в Любавичи отправили две бутыли с кровью?
— Да, такой факт имелся.
После прокурора Пранайтиса допрашивал Грузенберг. Негодование так и клокотало в нем, и он едва сдерживался, задавая один вопрос за другим:
— Вы сказали, что Шнеерсону была послана бутылка с кровью? Скажите, любавический раввин был осужден или нет?
Председатель Болдырев, пытаясь успокоить негодующего адвоката, пояснил:
— Экспертом была уже изложена фактическая сторона.
— Я предлагаю вопрос, свидетель может ответить или нет. Вот этого, у которого якобы нашли под Свитком Завета нож, его судили? — упрямо повторял Грузенберг.
— Всех подробностей я не помню, — уклончиво ответил Пранайтис.
— Я удовлетворен! Господин эксперт ничего не помнит, — с презрением сказал Грузенберг. — К вашему сведению Шнеерсон даже не привлекался к суду.
Адвокат Карабчевский также попросил у Пранайтиса разъяснения по исторической справке.
— Вы сообщили о процессах, которые состоялись много столетий назад. Одновременно с этим не можете ли вы перечислить процессы ведьм и колдунов, которые были равным образом сожжены и казнены?
— Не могу, — пробормотал патер.
— Известен ли вам процесс, на котором один старый еврей сознался, говоря: «Да я резал и употреблял кровь, во всем признаюсь и прошу скорее меня сжечь, потому что иначе вы снова будете меня пытать»?
— Не знаю.
— Но вы знаете, что в Средние века применяли пытки?
— Знаю, — Пранайтис помолчал, потом убежденно сказал. — Не все тогда было плохо, и не все, что теперь, хорошо. Правда, были ужасы в средние века, но разве в наш век их нет? Еще хуже есть пытки, еще больше колдовства совершается сейчас в двадцатом веке. Разве раньше похищали Святые Дары? Теперь же многие из приверженцев черной магии нарочно причащаются и потом выплевывают Святые Дары, чтобы надругаться…
— Господин Пранайтис, этого не касайтесь! — вмешался председатель.
— Я сейчас вынужден прятать Святые Дары…
— Прошу вас этого не касаться!
— Я только хочу сказать, что, конечно, очень плохо, что применяли пытки. Но все-таки под пытками указывали места и даже вещественные доказательства.
Карабчевский продолжил допрос.
— А в христианских книгах разве нельзя найти подобных доказательств? Например, указаний на жертвоприношения, на агнца, на козла отпущения? Я имею в виду Священное Писание.
— Как можно сравнивать! — с негодование воскликнул патер. — В Священном Писании это аллегория.
— Ну, конечно, — прокомментировал Карабчевский. — Когда в христианских книгах, то это аллегория; а когда в еврейских, то это убийство младенца.
Следующим задавал вопросы Замысловский.
— Правильно ли я вас понял, что догмат крови в иудаизме является величайшей тайной?
— Да, в ритуал посвящают немногих избранных.
— Не сталкивались ли вы с таким фактом, что книги, в которых имелись опасные места для еврейства, непостижимым образом исчезали из хранилищ, и их сейчас невозможно найти?
— Постоянно сталкивался, — с чувством сказал патер. — А еще имеются особые еврейские издания, где опасные места выпускаются.
Грузенберг, сменивший Замысловского, спросил:
— Я хотел бы спросить, по каким таким книгам вы ознакомились с опасными местами? У вас эти особые издания были на руках?
— Были, — кивнул стриженной головой Пранайтис. — В католической академии я познакомился с так называемым амстердамским изданием Талмуда. Потом у меня было современное бердичевское издание, и в нем выпущены те самые места, которые есть в амстердамском издании.
— В каком месте вы вычитали, что у евреев проповедуются убийства? Укажите, в каком месте об этом написано, — настаивал Грузенберг.
— Как же я могу указать, когда книги в академии в Петербурге, — озадачено сказал Пранайтис.
— Заявляем вам, — обратился к председателю адвокат Зарудный, — что все те книги, на которые ссылался господин эксперт, все до единой имеются у нас под рукой. Мы утверждаем, что приведенные им выдержки неправильны.
— Всех изданий у вас нет, — безапелляционно заявил Шмаков.
— Будьте спокойны, все имеются.
— Даже редчайший амстердамский Талмуд 1644 года?
— Имеется.
— Не верю! Покажите!
Зарудный поднял над головой толстый фолиант в темном кожаном переплете. Шмаков сконфуженно пробормотал что-то и сел на место. В зале засмеялись, Бразуль тоже улыбнулся. Историко-богословская тема была коньком Шмакова. С экспертами, давшими заключение в пользу ритуальной версии, он держался предупредительно, например, подсказывал нужные ответы Сикорскому, запамятовавшему название какого-то антисемитского сочинения. С учеными противоположного направления старик долго и нудно спорил, углублялся в исторические дебри, часто невпопад, чем раздражал даже своего коллегу Замысловского.
За свидетельской конторкой Пранайтиса сменил профессор петербургской духовной академии Троицкий, грузный, облаченный в долгополый темный сюртук и от того выглядевший совсем коротконогим. Он говорил вежливо и спокойно.
— Здесь указывалось на один факт, — Троицкий покосился в сторону патера Пранайтиса, — что александриец Афион, страшный ненавистник евреев, допустил такую клевету, будто в Иерусалимском храме был найден грек, заключенный туда евреями с тем, чтобы впоследствии, когда он достигнет большей полноты и телесности, его принесли в жертву. Это рассказ дикий, никем из серьезных историков еврейства не подтверждаемый. Что касается Талмуда, на который ссылался выступавший передо мной эксперт, то это сочинение можно сравнить с собранием протоколов многолюдного собрания лиц, очень жарко спорящих между собой, имеющих различные взгляды и не приходящих в итоге ни к какому определенному заключению. Если протоколы такого собрания издать, это до известной степени даст картину Талмуда. Там есть выражения, которые давали повод обличать талмудистов в полной нетерпимости и человеконенавистничестве. Особенно часто ссылаются на фразу «Лучшего из гоев умертви». В действительности же там добавлено: «на войне», что полностью меняет смысл изречения.
Шмаков буквально взвился с места, но ему пришлось долго ждать, пока профессор не ответит на все двадцать шесть вопросов, поставленных судом перед экспертами. Когда Троицкий закончил, поверенный истицы накинулся на него:
— Вы утверждаете, будто свидетельству Афиона о человеческих жертвах, приносимых в Иерусалимском храме, нельзя верить, не так ли? Но позвольте, господин профессор, разве до нашего времени дошли сочинения Афиона?
— Определенной работы не дошло, — ответил Троицкий.
— Вот, вот! Его сочинения исчезли, как это происходит со всеми свидетельствами против евреев. А с чьих слов вы о нем знаете?
— Из трудов Иосифа Флавия.
— Ах, Иосифа! То-то и оно! Значит, вы со слов еврейского писателя Иосифа утверждаете, что Афион был лжецом! — насмешливо протянул Шмаков. — Вы тут поправили, что в Талмуде следует читать «Лучшего из гоев умертви на войне». Но ведь добавление «на войне» имеется лишь в трактате «Абодазар». Ни в трактате «Мехильта», ни в других сочинениях этого добавления нет, не правда ли?
— Это собственно толкование на библейскую книгу «Исход»… — начал было Троицкий, но Шмаков рявкнул на него:
— Отвечайте на вопрос, есть или нет?
— Кажется, нет.
— А в трактате «Соферим»?
— Кажется, есть.
— Ошибаетесь, тоже нет. Из трех трактатов только в одном имеется эта смягчающая оговорка, — заключил поверенный истицы, торжествующе оглядывая публику.
Следующим должен был выступать академик Коковцов, но старшина присяжных Мельников, важно подняв карандаш, как жезл полководца, обратился к председателю с просьбой прекратить выступления экспертов, так как присяжные утомлены до последней крайности. Адвокаты запротестовали, указывая, что действительный член Академии наук Коковцов является лучшим в России знатоком древнееврейских текстов и с его заключением обязательно следует ознакомиться. После некоторой перепалки было решено дать слово академику, попросив его сократить, насколько возможно, свое выступление. Арабист и гебраист Коковцов говорил в иной манере, чем Троицкий, резко и отрывисто, словно удивляясь невежеству слушателей.
— Книга «Зогар» написана на арамейском языке. Патер Пранайтис пользуется переводом пражского профессора Августа Ролинга. Лет тридцать назад его перевод наделал немало шума, поскольку Ролинг указал на несколько мест в каббалистических сочинениях, где якобы говорилось об убиении христиан и описывалось, как именно такое убийство должно совершаться. На самом деле в книге «Зогар» нет ни слова о христианах. «Ам-гаарцы» — это евреи-отступники, не соблюдающие религиозных законов. Ролинг неправильно перевел, и впоследствии данное место было вполне объяснено. В книге «Зогар» говорится, что отступник умрет подобно жертвенному животному, которое резник закалывает после некоторых манипуляций с ножом. Резник двенадцать раз пробует, нет ли зазубрины на лезвии ножа, потому что, если окажется впоследствии, что была зазубрина, то жертва признается негодной для употребления с точки зрения еврейского закона. На тринадцатый раз он ножом прорезает кровеносный сосуд на шее животного.
Когда академик закончил свое выступление, адвокат Карабчевский попросил уточнить, как следует понимать слова книги «Зогар», что у «ам-гаарца» нет уст, чтобы роптать?
— Это обычная восточная поговорка, часто встречающаяся в еврейской литературе. Синоним смирения и безропотности, — ответил эксперт.
— Значит, просто красивый восточный образ, — удовлетворенно констатировал адвокат.
— Скажите, — вскочил Шмаков. — Нет ли такой цитаты в Талмуде: «Когда израильтянин и гой являются на суд, то всеми способами оправдывай израильтянина»? Если нет доказательств, то рабби Измаил учит выдумывать их против гоя.
— Если не ошибаюсь, далее в Талмуде сказано: «А рабби Акиба советует не прибегать ко лжи, чтобы не посрамить имени Божьего в случае изобличения еврея во лжи». Мнение рабби Акибы предпочтительнее.
— Это вы полагаете, что рабби Акибе отдается предпочтение, — запальчиво возразил Шмаков.
— Нет, извините, это закон. Когда рабби Акиба спорит с кем-то, то закон согласно суждению рабби Акибы, — отрезал Коковцов.
Все происходившее в зале суда до странности напоминало субботний вечер у синагоги в патриархальном местечке черты оседлости, когда два знатока Талмуда спорят о значении того или иного изречения, цитируя различные трактаты и ссылаясь на авторитет древних мудрецов. Бразуль недоумевал, какое отношение имеет богословский диспут к приказчику кирпичного завода. За что и во имя чего его судят? Во имя каббалистической книги «Зогар»», о которой он вряд ли слышал; во имя мертвенных трактатов, которых он, разумеется, не читал? О Шимоне бен Гохае говорят так, как будто этот талмудист, почивший тысячу восемьсот лет тому назад, был соседом Бейлиса по Верхне-Юрковской и подстрекал приказчика к преступлению. Ну почему за все запальчивые слова, произнесенные в древнюю эпоху, сейчас, в двадцатом веке, должен отвечать Мендель Бейлис?
Последним из экспертов выступил московский раввин Мазе. Он был низенького росточка, настоящий гном, каких любят ставить в своих ухоженных дворах немецкие колонисты. Дубовая конторка оказалась вровень с его бородой, и эксперту пришлось подставить скамейку под короткие ножки. Нервно снимая и опять надевая золотое пенсне, Мазе говорил с придыханием, скороговоркой, иной раз путая и глотая слова. Председатель суда Болдырев несколько раз просил эксперта успокоиться, но его призывы приводили к противоположному результату.
— Господа судьи! Недостаточно представить вам скелет Талмуда, нужно представить его душу и тогда вы сами — просвещенные люди — будете судить, возможно ли допустить, чтобы в Талмуде были такие изуверские указания. Талмуд по своей гуманности, которая сквозит в каждом слове его…
— Это слишком детальное изложение верований, — прервал его председательствующий. — Мы не сомневаемся, что верующие евреи искренни. Но собственно говоря, здесь возбуждается вопрос о Талмуде, может ли изувер вынести из Талмуда такое указание, что можно проливать кровь — вот что нам важно.
— Сами евреи говорят: «леко миде ремиза веорайто» — нет такой мыcли, которую нельзя было бы найти в Талмуде. Можно найти всякую мысль, за исключением мысли об употреблении крови какой бы то ни было.
Бразуль мог бы подтвердить этот факт, не обращаясь к раввину. Его жена, вполне эмансипированная особа, никогда не позволила бы себе зарезать даже цыпленка, а когда они гостили у тещи, то уж там в местечке, населенном патриархальными евреями, строжайше выполнялись все религиозные предписания не смешивать мясное и молочное и тому подобное.
— Господа судьи, — раввин в отчаянии тянул к коронным судьям коротенькие ручки. — Еврейство очень любит религии, которые вышли из его недр. Евреи любят магометан больше, чем магометане их…
— Прошу вас, не отвлекайтесь.
Судя по всему, московский раввин был весьма осведомлен в богословских вопросах, но он говорил так страстно и быстро, словно хотел в один час изложить все, чему учился всю жизнь. Бразуль быстро потерял нить его рассуждений и встрепенулся лишь тогда, когда Мазе приступил к ответу на семнадцатый из поставленных перед экспертами вопросов: «Когда появилось среди евреев учение нео-хасидов и какое отношение оно имеет к учению каббалы»?
— Хасиды, — взволнованный раввин сделал глоток воды из стакана. — Эта секта образовалась у еврейского народа вследствие пустоты и страшного разочарования духовного. Поначалу мысли хасидов о вездесущности Божества, в чем-то напоминающие пантеизм Спинозы, были насторожено встречены раввинами. Некоторое время хасидов считали сектой, но, господа судьи, сектантство у еврейского народа не пользуется никаким успехом. Подобно тому как здоровый организм или выталкивает микроб, или его поглощает, так и в еврействе секты или изгоняются, или парализуются. Так случилось с хасидизмом. Со временем дело хасидов перешло в руки рабби Шнеура Залмана, известного впоследствии под именем Шнеерсона. При нем был нанесен смертельный удар хасидизму как секте. Тут окончательно успокоились и раввины, увидев, что хасидизм не внес изменений ни в одно из религиозных предписаний. В наши дни вся разница сводится к тому, что в молитвенниках миснагидов прежде читается один псалом, а у хасидов то же самое, только наоборот. Кого это волнует? Рабби Залман Шнеерсон, которого тут представляют чуть ли не изувером, отличался своим патриотизмом по отношении к России. В Отечественную войну 1812 году он принял большое участие в противодействии французам. Рабби Залман от себя устроил разведочный отряд и не переставал говорить еврейскому народу, чтобы не поддавались обещаниям Наполеона дать евреям равноправия и разные льготы. Теперешний раввин, который живет в Любавичах, потомок Шнеерсона, по имени Шолом Доб Бер мне лично знаком. Три года назад…
— Это уже относится к свидетельскому показанию… — остановил его председатель.
— Замечательное выступление! — заключил Бонч-Бруевич. — Какой контраст между крошечным росточком раввина и величием его речи! Отсюда, из зала киевского суда, перед всем миром полилась от сердца к сердцу исповедь народа, всюду гонимого, униженного телесно, но в страданиях и несчастьях сохранившего всю мощь и силу своей духовной красоты!
— Эксперты защиты наголову разгромили экспертов обвинения, — подвел итог Набоков, однако сидевший рядом Короленко с сомнением покачал головой.
— Для интеллигентного человека это ясно, но трудно сказать, так ли думают присяжные заседатели. Взгляните — они все на одно лицо, точно писец с репинских «Запорожцев», и вид у них совершенно отсутствующий. Я тут наблюдаю, как один из них сладко дремлет по получасу, сложив руки на животе. Остается только надеяться, что луч народного здравомыслия пробьется сквозь плотный туман, затянувший горизонт русского правосудия. Вообще, состав присяжных удивительный для университетского города. Вчера я заглянул в соседнее отделение, там рассматривалось рядовое уголовное дело. И что же! Среди присяжных двое профессоров, врач, несколько интеллигентов. А у нас крестьяне и мещане.
— Неудачная жеребьевка.
— Жеребьевка ни при чем, она происходила публично, и суд щеголял особенной корректностью всей процедуры. Здесь хитрая механика. Я собираюсь просмотреть списки присяжных на всю серию сессий, которая совпала с разбирательством ритуального дела, и уверен, что обнаружу резкое отличие от средней нормы. Предмет, конечно, имеющий чисто теоретическое значение.
— Нет, нет, как раз чисто практическое, — горячо заверил Набоков. — Если шмаковым и пранайтисам удастся задурить головы крестьянам, то доказательство подтасовки будет великолепным поводом для кассации приговора. Будем требовать назначения нового слушания с другим составом суда, не удастся выиграть второй процесс — будем добиваться третьего, как вы в свое время с Мултанским делом. Мы не можем допустить обвинительного приговора, ибо осуждение Бейлиса будет равнозначно поражению всех прогрессивных сил. Об этом шла речь на заседании ЦК кадетской партии до моего отъезда в Киев. Я вам больше скажу…
Набоков склонился к Короленко. Журналист подался вперед и уловил шепот:
— В «Северной Звезде», ну вы, наверное, в курсе, что это одна из лож послушания «Великого Востока», братья принесли клятву спасти Бейлиса.
— Знаете ли, я не сторонник масонских ритуалов и удивляюсь, зачем взрослые, серьезные люди рисуют каббалистические значки и напяливают на себя передники, — сухо заметил Короленко.
— Я тоже ни в одной ложе не состою. А вот все адвокаты Бейлиса, во всяком случае: Грузенберг, Маклаков, Зарудный, Григорович-Барский — имеют высокие степени. Среди масонов люди разных направлений, но все они едины в отношении к киевскому процессу. Они поклялись…
Внезапно со скамьи подсудимых раздался громкий смех. Мендель Бейлис, перегнувшись через загородку, хохотал во все горло. Журналист не мог понять причину бурного, почти истеричного веселья. Короленко и Набоков, отвлекшиеся беседой, тоже недоумевали. Один только Бонч-Бруевич, внимательно слушавший спор эксперта с поверенным истца, был в курсе произошедшего и, давясь от смеха, объяснил:
— Шмаков дорапортовался до того, что объявил Бейлиса потомком Аарона. Якобы Бейлис совершил человеческое жертвоприношение, потому что по прямой линии происходит от первосвященников Иерусалимского храма.
Бейлис истерически хохотал:
— Вай мир! Оказывается, я потомок Аарона!.. Спасибо, не знал! Аарона, брата Моисея! И детки мои, Пинька и Давидка, тоже, выходит, его потомки!.. Ха-ха-ха!.. Эстер, жена моя, ты здесь? Таки ты слышала новость? Какой знатный твой муж! Близкий родственник самого Моисея!.. Ха-ха-ха!
Глава двадцать четвертая
28 октября 1913 г.С раннего утра Софийскую площадь окружили усиленные наряды полиции. В одиннадцать часов городовые очистили территорию перед зданием присутственных мест и перекрыли движение по Большой Владимирской улице. По суете, начавшейся среди полицейских чинов, легко было догадаться, что ожидается прибытие высокого начальства. И действительно, когда Владимир Голубев вместе с Розмитальским и Позняковым подошли к площади, с противоположной стороны показался киевский губернатор Суковкин со свитой. Губернатор, срочно вызванный из Ниццы телеграммой министра внутренних дел, вернулся в Киев только позавчера и уже успел вступить в конфликт с киевскими патриотами. В день вынесения приговора в Софийском соборе должна была состояться панихида по Андрею Ющинскому. Губернатор Суковкин пытался воспротивиться этому, ссылаясь на строжайшее предписание министра не допускать агитацию в непосредственной близости от здания суда. Руководители черносотенных союзов пожаловались Святейшему Синоду на вмешательство светских властей в распорядок церковного богослужения, и после интенсивного обмена телеграммами между Киевом и Петербургом, панихида была разрешена, правда, с условием, что не должно быть никаких внецерковных манифестаций. «Ну, это уж вам дулю с маком! — посмеялся Голубев. — Кто запретит русским людям ликовать, когда изуверов осудят?»
— После панихиды проследи, чтобы никто из орлят не ушел, — инструктировал он Познякова. — Займите позицию между Братским корпусом и духовным училищем; за ограду раньше времени не высовывайтесь, ждите моего сигнала.
— Главное, иконы вперед, тогда полиция не посмеет остановить патриотов, — прошепелявил Розмитальский.
— Не учите ученого, — лениво отозвался Позняков.
При входе в здание суда Голубев и Розмитальский предъявили именные пропуска. Публика в кулуарах обсуждала завершившиеся вчера прения сторон. К стене вестибюля устало прислонился человек, в котором Голубев узнал писателя Короленко, а рядом с ним отчаянно жестикулировал брюнетик в очках на крючковатом носу — ходячая карикатура на журналиста уездного листка. Таких корреспондентов каждый день наезжало в Киев все больше и больше, они суетились вокруг здания присутственных мест и жадно набрасывались на знаменитостей. Корреспондент счастливо улыбался, интервьюируя самого Короленко. Писатель делился впечатлениями от обвинительной речи прокурора Виппера.
— Куда девалась холодная снисходительность, подчеркнутая корректность петербургского чиновника, которой он щеголял в первые дни. Господин прокурор спустился с высот олимпийского спокойствия, и горячность его вышла за пределы, установленные уставом уголовного судопроизводства. Он строил из себя смельчака, бросившего вызов силам ада. Вспомните его речь: «Я лично чувствую себя под властью евреев, под властью еврейской мысли, под властью еврейской прессы. Выступать против евреев — значит вызвать упрек, что вы или черносотенец, или мракобес, или реакционер, или не верите в прогресс». Вообще, это мрачный анекдот — православный пафос лютеранина Виппера, подготовляющего культ Андрея Ющинского с благословения католического патера Пранайтиса.
— Что вы скажите о речах поверенных гражданской истицы? Оскар Осипович Грузенберг смеялся, что таких совсем глупых выступлений ему слышать не приходилось.
— Речь Замысловского была построена достаточно логично, беда только, что поверенный гражданской истицы руководствовался порочной логикой. Что касается Шмакова, то вот уж кто утомил и присяжных заседателей и всех слушателей бесконечными разглагольствованиями о незапамятных временах. Все было свалено в кучу, без системы, без внутренней связи, непомерно растянуто. Под конец его никто уже не слушал. Единственное ценное в речи Шмакова — это сделанное сквозь зубы признание, что Вера Чеберяк могла участвовать в преступлении. Видно, самим устроителям процесса стало неудобно прилагать усилия для обвинения честного обывателя и в то же время всеми мерами и натяжками защищать настоящих убийц.
— Несколько слов для наших читателей об адвокатах Бейлиса, об Оскар Осиповиче? Здорово Грузенберг спустил прокурора на три тона ниже, сказав, что три тысячи лет назад другие люди ходили себе голыми по лесам и кушали друг друга, как дикие звери, тогда как евреи уже знали единого Бога и молились ему в Храме!
— Все речи адвокатов были шедеврами. И Грузенберга, и Григоровича-Барского, и Зарудного. Замечательно выступил Карабчевский, которого я с Мултанского дела считаю лучшим судебным оратором России. Но знаете, я бы выделил Маклакова. Его речь была не столь изощренной, не столь красивой, зато удивительно искренней. Если кто и достучался до сердец присяжных, то им был Маклаков. Впрочем, несправедливо хвалить кого-то одного, ибо все честные люди постарались распутать хитросплетение лжи и обмана вокруг позорного ритуального дела. Это и эксперты: академики Бехтерев, Коковцов…
— Что вы скажете об рабби Мазе, об его выдающейся экспертизе? — нетерпеливо спросил репортер.
— Будет вам терзать Владимира Галактионовича, — сказал незаметно подошедший Бонч-Бруевич. — Пойдемте на хоры, скоро начнут.
Голубев тоже поспешил в зал. Проходя мимо огорченного корреспондента, он подумал: «Жаль ты меня не интервьюируешь! Я бы тебе сказал про твоего раввина!» Студента терзала глубокая обида на православных экспертов. Никто из них не оборвал московского раввина Мазе, толковавшего о величайшем человеколюбии и терпимости, сквозивших в каждой строке Талмуда. А вот над евреями-выкрестами, осмелившимися упомянуть о ритуале, эксперты всячески глумились. В качестве свидетеля на суд был вызван престарелый архимандрит Автоном, происходивший из еврейской семьи. «Если бы открылась земля, — восклицал он, — то там нашли бы много костей замученных христиан». Семидесятилетнего старца попросили привести факты. «Вот факт, что евреями в XVI веке был замучен младенец Гавриил, который признан святым», — отвечал он. «А вы были свидетелем этого факта?» — насмешливо спрашивали его. «Святая церковь проповедует», — в отчаянии пытался вразумить богохульников архимандрит. «Вот как!» — откровенно ухмылялся Грузенберг. Но во стократ гаже глумливого инородца был русский, профессор петербургской духовной академии Троицкий, снисходительно разъяснивший, что «умученный от жидов» младенец Гавриил — это святой «третьего или четвертого разряда», унаследованный от униатов. Увы, недуг неверия поразил даже оплот православия!
Розмитальский занял для Голубева стул. Усаживаясь напротив конторки, предназначавшейся для свидетелей, студент подумал, что это место как будто заколдовано злым каббалистом-чернокнижником. Русскому человеку тяжко было говорить перед присяжными, словно чья-то невидимая рука сдавливала горло. Когда Владимир давал показания о результатах своего расследования и упомянул кирпичный завод, он вдруг почувствовал, что ему не повинуется язык. Голова закружилась, и зал суда качнулся набок. Он услышал чей-то испуганный возглас: «Держите его, он падает!» и в следующее мгновение потерял сознание. Очнулся он от резкого запаха нашатырного спирта. «Слава Богу, кажется, приходит в себя», — обрадовался Замысловский. «Не отравили ли его?» — испуганно предположил Шмаков. Немного спустя Голубев продолжил показания, и ему почудилось, что Бейлис разочаровано вздохнул.
Громкий возглас пристава оторвал студента от воспоминаний. Двенадцать присяжных заняли свои места. Они были по-особому сосредоточены и серьезны — сегодня им предстояло вынести вердикт. Председательствующий Болдырев начал с формулировки вопроса для присяжных заседателей:
— Суд предполагает поставить на обсуждение присяжных вопрос в следующей редакции: «Виновен ли подсудимый Менахем-Мендель Тевьев Бейлис в том, что, заранее задумав и согласившись с другими, не обнаруженными следствием лицами, из побуждений религиозного изуверства лишить жизни мальчика Андрея Ющинского…»
Студент едва сдержался, чтобы не выкрикнуть, что все сообщники им установлены, но судебные власти не сумели призвать их к ответу. Он же говорил, что подручным Бейлиса выступал торговец сеном Файвел Шнеерсон — тот самый, которого студент выследил на Кирилловской. Говорили, что его отец служил резником в Любавичах, а родной брат даже был раввином. И вот этот Файвел Шнеерсон, родом из Любавичей, имел нахальство утверждать под присягой, будто никогда не слышал о хасидах. Как оказалось, этот удивительный свидетель не знал ни Андрюшу Ющинского, которого участливо расспрашивал об отце, ни Женю Чеберяка. Ни на один вопрос он не мог внятно ответить — ни о том, какие отношения его связывали с управляющим Дубовиком, ни о том, почему он срочно выписался с кирпичного завода в день убийства. И после этого толкуют о необнаруженных сообщниках Бейлиса!
Болдырев, прочитав вопросы, спросил, имеются ли какие-нибудь возражения.
— Мы просим выделить вопрос о событии, то есть о самом факте преступления, — сказал Замысловский. — Для нас имело бы значение включение тех побуждений, которыми руководствовались преступники.
— Есть ли предложения у защиты? — спросил Болдырев
— Редакция вопроса об убийстве из изуверских побуждений не соответствует требованиям закона. Мы протестуем против данной формулировки, — заявил адвокат Грузенберг.
Болдырев, посоветовавшись с членами суда, объявил, что суд считает необходимым разделить один вопрос на два — о событии преступления и о виновности Бейлиса. Ходатайство же защиты об исключении слов «из побуждений религиозного изуверства» не подлежит удовлетворению. Наконец, вопросы были согласованы, оглашены и скреплены подписью председателя. Оставалось только произнести резюме, в котором председатель обязан был подытожить результаты судебного следствия. Болдырев, глядя на присяжных заседателей поверх пышной бороды, обратился к ним со словами:
— Это дело, как вы сами убедились, господа присяжные заседатели, особенное. В нем имеется масса наносного материала и вам прежде всего необходимо будет в нем разобраться. Здесь говорилось, что могло явиться предположение, что мальчик Андрюша был убит шайкой Веры Чеберяковой…
Голубев подумал, что о Вере Чеберяк на суде говорили едва ли не больше, чем о Бейлисе. Она была польщена всеобщим вниманием к своей особе, держалась бойко, пререкалась с председателем суда. Ее громкий, резкий голос можно было часто услышать в комнате для свидетелей. Студент видел, как Вера подсаживалась к соседям с Лукьяновки, что-то им шептала, советовала, а если с ней не соглашались, грубо бранилась. Однажды она подошла к Голубеву и развязано попросила объяснить, что такое пантомима. На недоуменный вопрос, зачем ей знать, она ответила, что дирекция цирка предложила ей участвовать в пантомиме про убийство Ющинского. «На афишах обещали напечатать: „в главной роли г-жа Чеберякова“. Счастье само в руки плывет, я, может, всегда мечтала актеркой быть» — Вера по-цыгански затрясла грудями и рассмеялась.
Между тем Болдырев продолжал резюме:
— Защита указывала, что был допущен промах — волосы Сингаевского, Рудзинского и Латышева не сравнили с несколькими волосками, найденными на теле Ющинского. Однако прозектор Туфанов определенно установил, что эти волосы были из бороды. Названные же лица бород не носят и не носили…
Голубев глянул на иссиня-черную бороду Бейлиса. Вот уж чья борода подходила по всем статьям, но экспертиза не признала тождества. Чьи же волосы остались в кулачке мальчика? Файфел Шнеерсон безбородый. Не иначе это волосы евреев в странных одеяниях, погнавшихся за Ющинским. Правда, приехавшие из-за границы Ландау и Эттингер были бритыми, но Голубев нисколько не сомневался в том, что на суд явились подставные лица. Долго ли подделать паспорта и отметки о въезде и выезде за границу! Настоящие служители ритуала наверняка посмеиваются себе в бороды где-нибудь в надежном заграничном убежище.
— Что касается ковра из квартиры Веры Чеберяковой, — говорил председатель суда, — ковра, в каковой якобы было завернуто тело мальчика, то защита напрасно удивляется, что этот предмет не приобщен к вещественным доказательствам. Вам здесь очень обстоятельно объяснял прозектор Туфанов, как он исследовал этот ковер. Вспомните, что он рассматривал его через лупу, а все подозрительные места вырезал и исследовал под микроскопом. Никаких следов крови на ковре не оказалось…
Еще бы, подумал Голубев, откуда там могла быть кровь! И вообще, квартира Чеберяков стоит почти такой же, какой была два с половиной года тому назад. Там даже обоев не переклеили, потолка не побелили — бери и исследуй. Зато конюшня на заводе сгорела, там уже не определишь, была кровь или нет.
— Вы должны спросить себя, — разъяснял присяжным заседателям Болдырев, — а соответствует ли картина убийства, нарисованная господами защитниками, выводам судебно-медицинской экспертизы? Собственно говоря, выводы профессора Оболонского, вскрывавшего труп, прозектора Туфанова, профессоров Кадьяна и Косоротова во многих частях сходны. Остался в отдельности только лейб-хирург Павлов. Однако вы должны помнить, что он, хотя, может быть, и очень знающий человек по своей специальности, но на все наши вопросы отвечал крайне неопределенно; тогда как остальные профессора дали нам определенные, ясные ответы, хотя иногда между собой и разноречивые, но разноречивые потому, что эти мужи науки различно смотрят на одни и те же вещи…
Мужи науки! Что за наука такая, горько размышлял Голубев, если она позволяет делать прямо противоположные выводы. Эксперты, приглашенные обвинением, — прозектор Туфанов и профессор Косоротов — утверждали, что нанесенные Ющинскому раны были прижизненными, тогда как эксперты, приглашенные защитой, — профессор Кадьян и лейб-хирург Павлов — называли их посмертными. Особенно тягостное впечатление произвело выступление лейб-хирурга Павлова, облаченного в парадный мундир со множеством орденов. Перед тем как Павлов приступил к объяснениям, Грузенберг почтительно попросил эксперта назвать свой чин и звания и, как будто не удовлетворившись длинным перечнем, спросил: «А что значит звание лейб-хирурга?», и выслушав ответ, еще раз уточнил: «То есть это очень почетное звание». — «Да, просто так оно не дается». — «Господа присяжные заседатели, заметьте, что перед вами лейб-хирург, то есть лицо, которому доверяют здоровье государя императора! Может ли быть более убедительное подтверждение квалификации эксперта!» — с пафосом воскликнул Грузенберг.
Голубев недоумевал, как и почему лейб-медик, осыпанный всеми милостями и наградами, какие только существовали в государстве Российском, стал приспешником инородцев. Как оказалось, этот спевшийся дуэт Павлова и Грузенберга уже участвовал в нескольких процессах, и каждый раз Грузенберг разыгрывал комедию, объясняя присяжным заседателям важность звания лейб-хирурга. Другие эксперты тоже держали еврейскую сторону, но они соблюдали хотя бы внешнюю беспристрастность, тогда как лейб-хирург даже не считал нужным скрывать презрение к жертве. Ни слова сочувствия не вызывал у него злодейски умерщвленный мальчик. На одном из заседаний лейб-хирург, доказывая, что ужасающие раны якобы не были болезненными, допустил характерную оговорку: «Вот еще одна забавная рана!» и недоуменно захлопал глазами, когда эти слова вызвали протест поверенных гражданской истицы.
Между тем председатель суда отпил из стакана и продолжил речь:
— Вам придется еще задаться вопросом: если это убийство совершили воры из мести или из желания вызвать еврейский погром, почему они перенесли труп в пещеру и оставили там улики. Подумайте, могли ли воры так неосторожно действовать, не проще ли было бросить труп в Днепр или в один из колодцев…
Именно это пытался объяснить Голубев, когда суд в полном составе выехал на осмотр места преступления. Они шли по узкой тропинке на дне оврага. «Э, да тут дюжину мальчишек можно было зарезать, никто бы не увидел!» — присвистнул кто-то, оглядывая круто вздымавшиеся, поросшие орешником склоны. Пещера совсем обвалилась, а склон вокруг нее был истоптан ногами зевак. Один за другим присяжные добросовестно залезали в пещеру. Адвокат Карабчевский встречал их у выхода и пояснял: «Обратите внимание, господа присяжные, как удобно было вынести тело из квартиры Веры Чеберяк. Пустынная Нагорная улица, жилья почти нет». Поверенные гражданской истицы тоже обратились к присяжным. «П-а-звольте! — возмутился Шмаков. — От печи до пещеры расстояние вдвое короче. Здесь прямая линия». Поверенный истицы ткнул рукой в смутно видневшиеся в осенних сумерках трубы кирпичного завода. «Дело не в расстоянии, а в удобстве дороги. По прямой линии сплошные яры и лес», — возразил адвокат. «Я вам докажу, что с завода нести несравненно удобнее. Надо сделать опыт». Прокурор Виппер запротестовал, что уже поздно, его поддержал промочивший ноги Чаплинский. У Голубева кружилась голова после обморока, и не было сил спорить. Да и бесполезно было доказывать очевидное, все равно каждая из сторон осталась бы при своем мнении.
Между тем Болдырев, обстоятельно разобрав версию о причастности к убийству шайки Веры Чеберяк, перешел к уликам против Бейлиса.
— Конечно, самое главное показание дает Люда Чеберякова, которая каталась на мяле вместе с Андрюшей перед тем, как его схватил Мендель Бейлис…
Мяло — карусель для лукьяновской детворы, любимое место игр. Однако никто из детей не осмелился рассказать, как весело катались на этой карусели на заводском дворе. Кроме Люды Чеберяк никто не решился свидетельствовать. Адвокаты устроили ей перекрестный допрос, надеясь сбить девочку с толку, но она не дрогнула, доказав, что пошла характером в мать.
— Прямыми уликами против Бейлиса являются только показания Люды Чеберяковой, — объяснял Болдырев. — От того, признаете ли вы эти показания достоверными или нет, зависит ваше решение по данному делу. Но в вашем распоряжении имеется множество косвенных улик, которые разобрали перед вами господин прокурор и господа поверенные гражданских истцов. Хочу обратить ваше внимание, что косвенные улики главным образом и бывают в тех преступлениях, которые совершаются по предварительному соглашению, поскольку преступники тщательно обдумывают план своих действий и предусмотрительно устраняют прямые доказательства…
Голубев знал, как устраняются прямые доказательства. Таинственная смерть Жени и Вали Чеберяк, попытка отравить свидетеля Шаховского. Его не убрали, зато насмерть запугали. На суде фонарщик и его жена отвечали уклончиво и невнятно. Шаховской проговорился, что его подкараулили в темноте и избили, но на вопрос о том, кто его бил, невнятно пробормотал: «Не знаю».
Покончив с уликами против Бейлиса, председатель суда начал объяснять, какое наказание будет назначено судом в случае обвинительного вердикта. Свою речь он заключил словами:
— Господа присяжные заседатели, здесь часто говорили, что вам предстоит разрешить мировой вопрос. Это совершенно неверно. Здесь много говорили о еврействе — об этом вы тоже забудьте. Помните, что вы решаете судьбу одного Бейлиса, но отнюдь не судьбу всего еврейского народа. Будьте справедливы и беспристрастны. Вот и все, что я хотел вам сказать.
Болдырев помолчал, давая присяжным возможность прочувствовать важность момента, потом вручил старшине присяжных листок с вопросами. Присяжные заседатели в сопровождении жандарма вышли в боковую дверь. «Не подведите, русские люди», — мысленно напутствовал их Голубев.
Публика потянулась к выходу. Студент встал со своего места, подошел к Замысловскому.
— Ну как, Георгий Георгиевич?
— Победа за нами, — уверенно предрек депутат.
Это было заметно по поведению адвокатов Бейлиса, сидящих с траурными лицами, словно на похоронах близкого родственника. Бейлис закрыл глаза ладонями и раскачивался из стороны в сторону. Журналисты на хорах, обычно шумливые и напористые, затихли. Когда Голубев вышел из зала, первым, кого он увидел в коридоре, был редактор «Киевлянина» Шульгин, беседовавший с кучерявым брюнетом, который перед началом заседания интервьюировал Короленко.
— Как ни прискорбно, осуждение Бейлиса более чем вероятно, особенно учитывая серый состав присяжных, — грустно предсказывал Шульгин.
— Таки нельзя ничего сделать? — растерянно спрашивал репортер.
— Процессуальных нарушений тьма, чего стоит одно только резюме председателя! Вместо предписанной законом беспристрастности — откровенное давление на присяжных. На протяжении всего процесса Болдырев подыгрывал обвинению, а в своем резюме раскрылся полностью…
Студент прошел мимо Шульгина, отвернув лицо. Нельзя было придумать удара подлее, чем тот, что был нанесен им в патриотов. Встав на сторону кровавых ритуалистов, Шульгин патетически восклицал: «Есть вещи, есть храмы, которые нельзя безнаказанно разрушать!» Что же, он выбрал свой храм — храм золотого тельца. В черносотенных газетах писали, что Шульгин, затеяв строить сахарный завод, занял деньги в еврейском банке, прогорел, как и положено барину, а теперь расплачивался за отсрочку векселя гнусными статьями в «Киевлянине». Страшно было представить, какими людьми окружен государь. Кто окажется с ним рядом в минуту опасности, кто поддержит его словом и делом? Такой же предатель, как Шульгин? Но он просчитался, подумал Голубев. Близится час торжества русского дела!
Радужное настроение Голубева испарилось, едва он вышел из здания суда. Среди желтых деревьев сквера по Большой Житомирской качнулись удаляющиеся хоругви, промелькнуло и исчезло знамя «Двуглавого орла». Предчувствуя недоброе, студент перебежал площадь и увидел Познякова, одиноко топтавшегося у колокольни.
— Где наши? — накинулся на него Голубев.
— Полиция потребовала, чтобы все немедленно разошлись.
— Я тебе что приказывал?!
— Не кричи, сделай милость. После панихиды преосвященный Никодим произнес слово. Примите, сказал, с христианским смирением приговор, каким бы он ни был, и ступайте с миром. Разве можно было перечить архиерею? К тому же дождь собирается, — Позняков ткнул пальцем в набухшие черные тучи.
— Так и говорил бы, что побоялись промокнуть. Эх, вы, патриоты!
Он в бешенстве отвернулся от Познякова, быстро пробежался до дверей собора, заглянул внутрь. Парившая в золотом мозаичном облаке Богороматерь укоризненно глядела на него, прижимая к груди младенца. Голубев ринулся обратно, надеясь, что кто-то все же задержался в сквере. Народу было полно, но ни одного из орлят. Вдруг он услышал свою гимназическую кличку:
— Постой, Конинхин!
Перед ним стоял улыбающийся Михаил, сосед по улице и бывший однокашник по гимназии. Он был не один, а с молодой барышней, которую нежно придерживал под локоть.
— Знакомься, это моя жена Таня, — представил он спутницу. — Мы гуляли, потом смотрим народ на площади. Ты чего такой смурной?
— Ожидаю приговора.
— Чудной народ! — удивился Михаил. — Читал я в «Новом времени» статью Розанова о каббалистическом истолковании ран Ющинского: трактаты чернокнижников, демон темных сил Азазелло или как его там! Сплошная мистика! Неужели ты веришь?
— Приговор покажет! — коротко ответил Голубев.
Возвращаясь в здание суда, он на мгновение представил, какое будущее ждет его однокашника по гимназии. Женился он рано, пойдут детишки, а значит, сразу после окончания университета на него навалится забота о хлебе насущном. Устроится он лекарем в клинику, в свободное время будет бегать по частным пациентам, со временем заведет солидную практику, повесит на дверях дома по Андреевскому спуску белую дощечку «Доктор М. А. Булгаков. Венерические болезни и сифилис. Прием с 4-х до 6-ти». Днем доктор будет выписывать рецепты, по вечерам играть в вист. Через много-много лет в «Вестнике венерологии» появится некролог: «Спи спокойно, скромный труженик!» Жизнь почтенная, но уж очень скучная!
Пробираясь к своему месту, Голубев услышал обрывок разговора адвокатов:
— Скорее бы уж кончали совещание, — Маклаков вынул часы из жилетного кармашка. — Что томить, все равно Бейлис погиб.
— Обидно только, что понапрасну пришлось тридцать четыре дня терпеть эту мерзость, — отвечал ему Грузенберг. — Кругом одни враги, все желают беды евреям, буквально все, за исключением Владимира Галактионовича и еще нескольких газетных сотрудников. Скажу вам откровенно, возвращаясь по вечерам домой, я скреб в ванной комнате лицо. Мне казалось, что мои щеки заплеваны теми пакостями, какие безнаказанно произносились обвинителями о священных для евреев предметах.
Публика уже заполнила зал, председатель и члены суда давно сидели в своих креслах, обвинитель Виппер нервно перекладывал на конторке ненужные уже бумажки. Тягостное ожидание объединило всех — и судей, и поверенных истцов, и защитников. Студент ощутил непроизвольную нервную дрожь, нараставшую с каждой минутой. Он вцепился пальцами в жесткое сидение стула и тут же почувствовал, как заходили ходуном коленки; поставил на них локти, но дрожь пробралась внутрь. Так он и просидел, борясь с собственными руками и ногами, до громкого звонка, возвестившего, что вердикт присяжных готов.
По залу пронесся короткий шорох, потом все замерли, и установилась тишина, какой не было за все время процесса. Присяжные вошли гурьбой, смущенно прячась друг за дружку. Старшина Мельников на цыпочках подошел к столу и положил перед председателем лист с ответами. Голубев впился в Болдырева глазами, пытаясь угадать вердикт присяжных, но по его лицу ничего нельзя было узнать. Председатель внимательно прочитал ответы, передал лист членам суда, те тоже ознакомились с решением, вернули Болдыреву. Еще несколько бесконечных секунд, и председатель скрепил своей подписью лист, промокнул чернила, отдал лист старшине. Мельников, одернув светлый жилет, зачитал тонким вибрирующим голоском первый вопрос, доказано ли, что в одном из помещений кирпичного завода Андрею Ющинскому из побуждений религиозного изуверства были нанесены сорок семь ран, повлекших за собой почти полное обескровление тела и смерть его.
— На этот вопрос нами дан следующий ответ, — старшина сглотнул слюну и коротко выдохнул: — Да, доказано!
Голубев почувствовал прилив ни с чем не сравнимого счастья. Два с половиной года трудов увенчались успехом. Киевским вампирам не удалось уйти от ответа. Он увидел, как по лицу Бейлиса разлилась мертвенная бледность.
— По пункту второму: «Если событие, описанное в первом вопросе, доказано, то виновен ли подсудимый, мещанин города Василькова Киевской губернии Менахем-Мендель Тевьев Бейлис… — старшина скороговоркой зачитывал второй вопрос.
Голубев набрал полные легкие воздуха, чтобы провозгласить громовое «Ура!» обвинительному вердикту.
— Нет, не виновен, — тихо произнес старшина.
Голубев поперхнулся. Все вокруг молчали, думая, что ослышались. Бейлис рухнул на скамью как подкошенный. Ему подали воды, в тишине было слышно, как зубы приказчика стучат о край стакана. Потом в разных концах зала и на хорах раздались робкие одиночные аплодисменты, и вслед за этим зал суда взорвался ликующими криками. Люди будто сошли с ума, вскакивали со своих мест, обнимались и целовались. Адвокаты жали руку Бейлису, хлопали его по плечу, а он рыдал и смеялся одновременно.
Голубев прирос к стулу. У него возникло ощущение нереальности происходящего, как на уроке в гимназии, когда он был вызван к доске и ничего не мог ответить из космогонии. Он убеждал себя, что это нелепая ошибка. Председатель суда зазвонил в колокольчик, заронив призрачную надежду, что сейчас он рявкнет на старшину: «Что за чепуху вы городите!». Но Болдырев всего лишь объявил, что судьи удаляются на совещание. Розмитальский заспорил с соседом, что коронные судьи по закону имеют право не утверждать заведомо неправильное решение присяжных. Ему отвечали, что это право распространяется только на тот случай, если члены суда единодушно придут к выводу, что осужден невиновный. Голубев заткнул уши, не желая слушать возражений. «Отменят, обязательно отменят», — шептал он про себя как заклинание. Судьи отсутствовали не более четверти часа, и это короткое время показалось студенту вечностью. Вернувшись из совещательной комнаты, Болдырев строго поглядел на публику и огласил определение суда, в котором Голубев от волнения не понял ни слова. И только когда Болдырев сказал Бейлису: «Вы свободны», он ощутил такое же чувство отчаяния и безысходности, как в детстве после равнодушных слов учителя: «Голубев, кол!»
Конвоиры сунули сабли в ножны и отошли от подсудимого. Зал разразился криками восторга, все бросились к деревянному ограждению поздравлять Бейлиса и его адвокатов. Голубев, как лунатик, поднялся с места и двинулся к выходу. По дороге он наткнулся на Замысловского и машинально спросил:
— Как же так, Георгий Георгиевич?
Депутат сконфуженно пробормотал:
— Видите ли, Володя, оправдательный приговор нельзя считать безусловным поражением. Главное, что ритуал доказан.
Студент недоуменно поднял на него глаза: «О чем это он?» и двинулся дальше. У дубового барьера он натолкнулся на плотную толпу репортеров, поздравлявших защитников.
— Ша! — крикнул, перекрывая общий гвалт юнец в ермолке. — Ша! Дайте же сказать Оскару Осиповичу.
До ушей студента донесся ликующий голос:
— Оправдание стало естественным результатом разработанной мною тактики…
— Качать Оскара Осиповича, гордость русской адвокатуры! — зычно провозгласили из толпы.
Грузенберг взлетел над головами, фалды его фрака нелепо болтались, крахмальная сорочка и белье под ней задрались. Студент оттолкнул какого-то иностранца и выбрался в коридор. У лестницы, в окружении нескольких десятков человек, стоял Шульгин и прочувствованно говорил:
— Спасибо присяжным заседателям! Низкий поклон киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа! Им, этим серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасать чистоту русского суда и честь русского имени…
Обе половинки дверей с треском распахнулись, из зала вывалилась толпа, несшая на своих плечах Грузенберга. Среди толпы были дамы. Одна восторженная шатенка, не заботясь о своем модном наряде, припала губами к лакированным штиблетам адвоката. Все стоящие на лестнице устроили овацию. Голубев плюнул и вышел из суда, дав клятву, что отрясает с ног своих прах капища лжи.
На площади кипел людской водоворот. Два пожилых человека, побросав на булыжную мостовую верхнюю одежду и заложив большие пальцы за атласные жилеты, отплясывали бешенный маюфес. Почти у всех в толпе белели в руках газетные листки. Все читали и обсуждали отпечатанное пятивершковым шрифтом, видимо, заготовленное загодя сообщение: «Бейлис оправдан!» Мальчишки-газетчики не успевали распродавать экстренный выпуск, а им со всех сторон сыпали, не считая, серебро и бумажки. Еврей в студенческой шинели забрался на памятник Богдану Хмельницкому и, стоя под стременем гетмана, что-то выкрикивал. Внизу восторженно махали фуражками.
Голубеву невыносимо было оставаться на ликующей площади, домой идти тоже не хотелось. Он побрел куда глаза глядят, лишь бы подальше от толпы и криков. Ноги сами привели его на Владимирскую горку. Здесь было пустынно и темно, только горели лампочки по краям огромного креста в руках чугунного князя Владимира. Пошел дождь, собиравшийся с самого утра. Казалось, матушка-природа крепилась, крепилась, но после оглашения приговора не выдержала и разрыдалась по своим детям, не нашедшим правды в суде. Вниз по крутым склонам, изборожденным глубокими промоинами и рытвинами, как морщинистые старушечьи щеки, стекали ручьи слез. Ветер налетал порывами, и в покорном шуме покачивающихся деревьев и в робком шорохе сбиваемых на землю осенних листьев чудился тихий плач земли русской. А с поднебесной высоты — там, где ветер с размаху разбивался об обрамленный электрическими лампочками крест, — доносились завывания, в которых студенту слышался ликующий сатанинский хохот.
Дождь хлестал в лицо двум Владимирам, огромному на постаменте и крошечному внизу. Но святой Владимир прямо глядел в московскую даль, а маленький Владимир, стоя у балюстрады, смотрел вниз на Подол, на мельницу Бродского. К строениям, окружавшим мельницу, недавно добавилась дизель-моторная станция с динамо-машинами, и теперь Нотер Дам де-Подол сверкал электрическими фонарями на крыше. В этот момент налетел особенно сильный порыв ветра. На Владимирской горке что-то оборвалось с металлическим звуком, и сияющий крест в высоте потух. Святой Владимир погрузился в кромешный мрак, наполненный дьявольским воем ветра.
В темной бездне особенно ярко засветилась мельница Бродского, и студенту почудилось, что огненный узор фонарей на ее крыше складывается в каббалистические знаки наподобие таинственных слов: «Мене, Текел, Фарес», возникших на стенах чертогов вавилонского царя Валтасара. Содрогаясь от собственной дерзости, Голубев впервые в жизни усомнился в библейском толковании. Глупо было верить, что Даниил, один из плененных иудеев, отрыл вавилонскому царю истинный смысл грозных заклинаний? Воспаленные губы Голубева прочитали сияющие огни по-новому: «Исчислены — и богатства ваши найдены привлекательными для нас! Взвешены — и найдены легкими для захвата нами! Разделены — и отданы в рабство нам!»
Он отошел от пропавшего во тьме святого Владимира, добрел под дождем до стеклянной галереи Михайловского механического подъема, предназначенный для подъема и спуска с Верхнего города на Подол. Стальной канат подтянул по рельсам длинный вагон, построенный по образцу лучших швейцарских фуникулеров. Голубев машинально вступил на открытую площадку, не думая о том, что можно было спрятаться от косого дождя в закрытом купе. Вагон двигался вниз медленно, со скоростью, узаконенной в красивой альпийской стране, где никто не спешит и жизнь течет плавно и размеренно. Пока вагон фуникулера полз вниз по рельсам, в памяти Голубева мелькнули смутные воспоминания о прочитанных несколько лет назад протоколах заседаний всемирного союза франкмасонов и сионских мудрецов, выкраденных из тайного хранилища Он подставил горячее лицо под струи дождя, ежась не столько от холода, сколько от точности предсказаний протоколов: «Бог даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь привела нас к порогу всемирного владычества».
Сионские мудрецы похвалялись, что дьявольский механизм завоевания мира был запущен несколько веков назад, когда они подбросили лозунг: «Свобода, Равенство, Братство». Но так звучало только для ушей гоев, а для посвященных в тайну они означали: «Мене, Текел, Фарес — Исчислены, Взвешены, Разделены». Эти слова были на знамени кровавой Французской революция, во имя этих слов устраивались бунты во всех концах света. По всей Европе чья-то незримая рука заботливо подготавливала почву, вырывая национальные корни и сея ядовитые семена космополитизма, неверия и гордыни.
Евреи, захватив все золото мира, добиваются своих целей экономическими войнами, более страшными по своим последствиям, чем сражения прежних эпох. Власть стала мишенью для честолюбцев, болтливые адвокатишки возомнили себя государственными деятелями, демагоги пролезли в депутаты и превратили заседания Думы в бесконечные словопрения. Народ уже никого не уважает, и скоро наступит день, когда революционные партии выведут на улицы рабочих: «Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чье имущество им можно будет тогда грабить».
Бунт темных, обманутых людей — лишь первая часть зловещего плана сионских мудрецов. Когда рухнет самодержавие, к власти приведут марионеток, чье предназначение будет заключаться в том, чтобы измучить народ своей ненасытной алчностью, интригами, склоками, неспособностью предвидеть последствия своей безумной и бездумной политики. Они должны будут довести простых людей до такого состояния, чтобы те взмолились: «Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя!» И только после этого выйдут из тени настоящие кукловоды. В один день изумленным народам явится деспот сионской крови, правитель от семени Давида, царь Израильский. Он установит диктатуру, которой еще не видел свет, он отбросит все разглагольствования о свободе, разрушит храмы, вычеркнет из учебников истории неугодные евреям события.
Вагон остановился на нижней станции, Голубев вышел на Боричев ток. Прямо перед ним сверкала фонарями мельница Бродского. Дождь стих. У ограды дымилась кучка сырых листьев, которую пытался разжечь какой-то бродяга. Он подкладывал кору и ветки, и костер постепенно разгорался к радости бродяги, гревшего над слабым пламенем озябшие руки. На улице показалась толпа рабочих во главе с молодым, черноусым евреем. Электрический фонарь хорошо освещал его лицо, и Голубев сразу узнал агитатора, которого когда-то, в день похорон Ющинского, пытался задержать на Контрактовой площади. Внезапно Голубев услышал свою фамилию. Предводитель толпы вещал на ходу:
— Руководитель киевских черносотенцев студент Голубев связан с высшими придворными кругами Петербурга и имеет крупнейшее влияние на всю политику и поведение генерал-губернатора и полиции. Главной погромной силой Голубева являются мародеры и подонки из так называемого люмпен-пролетариата. Как вы знаете, товарищи, киевский комитет социал-демократической рабочей партии выпустил следующее обращение: «Дело Бейлиса приковало к себе внимание всего мира. Весь мир против ритуальных обвинений еврейского народа в людоедстве — обвинений, основанных исключительно на злой корысти, пользующейся грубым суеверием». Спасибо, товарищи, что поддержали наш призыв к однодневной забастовке на Подоле.
— А как завтра, товарищ Лазарь? Будем бастовать? — спросили из толпы рабочих.
— Отменяется, товарищи! Перед оглашением приговора большевики приняли решение начать всеобщую политическую стачку в случае осуждения Менделя Бейлиса. Однако Бейлис оправдан, и это сильнейший удар по самодержавию!
— Треба випити горилки, бо вин на воли! — раздались веселые голоса.
— Таки хто против? — засмеялся Лазарь.
Толпа прошла, делясь приятными воспоминаниями:
— Ми тут гуртом уклали мало не дви видри…
Голубев силился вспомнить фамилию этого Лазаря. Что-то вроде Рабиновича или Кагановича. «Какая разница, — махнул рукой студент. — Кагановичи, Рабиновичи, Бронштейны! Сегодня день их торжества, а завтра они станут хозяевами Святой Руси!»
Озябший бродяга, полуживая иллюстрация люмпен-пролетария, о котором толковал сознательный Лазарь, оторвался от костра и спросил хриплым голосом:
— Тютюна нема?
— Не курю, — ответил студент.
— Шо? Оправдали того жида? Це гарно!
— Чему ты радуешься?
— Як же! Мени самого судили. Знаю, як погано в остроге.
Щеки люмпен-пролетария покрывала многодневная щетина, а усы, густые и черные, свалялись и обвисли. Что-то в его внешности было необычным, отталкивающим. Приглядевшись, Голубев заметил, что голова бродяги была приплюснута с двух сторон, будто ее сжимали щипцами. От этого затылок человека был сильно вытянут назад, так что голова его, обросшая длинными черными волосами, напоминала положенное на бок куриное яйцо. Одежда на нем была городская, мокрая, заляпанная, пропахшая мочой, но все же когда-то купленная в магазине не за самую дешевую цену. Его голову покрывал облезлый котиковый картуз, на плечи было наброшено пальто с вытертым барашковым воротником. Шею он кутал в кашне грязно-белого цвета. Голубев подумал, что люмпен был из спившихся старших приказчиков или коммивояжеров. Как будто прочитав мысли Голубева, бродяга заговорил, мешая русскую и малороссийскую речь:
— Вы, паныч, не думайте, шо я всегда был босяком. Я на цукерном заводе приход и расход записывал. Тильки жизнь у меня, хоть я и при цукере, с детства была горькая. Мамашу в девицах обманули, обещали под венец, да бросили с обтрепанным подолом. Хотела плод вытравить, не получилось, а при родах мне повивальная бабка голову повредила. Мамаша, царствие ей небесное, женщина была характерная, надо мной, нелюбимым сыном, потиранствовала вволю. Определила в контору, а жалование усе отбирала до полушки, на гулянье али пойти куда — ни-ни, сиди дома. А как она вмерла, так меня словно понесло, захотелось сразу за все отгулять. Стал вести поганую жизнь, пропил все и проигрался в трынку. Запустил руку в кассу, меня отдали под суд. Аблакат Марголин защищал.
— Адвокат Марголин? Арнольд?
— Ну да! Арнольд Давидович, миллионщик, вин самый! — с гордостью подтвердил бродяга. — Он был такой молодой, защищал по назначению. Такой уважительный пан, не гребовал мне руку дать. Речь сказал на суде, аж слезой прошибло! Ей Богу, сам поверил в свою невиновность! Потом мени еще три разу судили, но боле такого аблаката не було.
Бродяга замолк, но желание излить душу пересилило.
— Поверите ли, паныч? — продолжал он. — Судили строго, да не за то. Я грешник, злодей, якого свит не бачил. Креплюсь, креплюсь, потом не выдюжу, побачу якого гарного хлопчика, да и зроблю с ним страшно. Хуже зверя дикого, по справедливости мени следует вбить в грудь осиновый кол. Як мени, гром не разразит, того я не розумию? А судят невиновных, як тот жид Бейлис.
Голубев, присевший на корточки у костра, раздраженно отозвался на последние слова бродяги:
— Да уж, Бейлис невиновен! Откуда тебе знать?
— Мени-то?.. Кому, колы не мени и знати! Тильки не гадал, шо буде такой шум, шо кого-то заарестуют. Не було такого раньше. Выдь, паныч, на Днипро. За газовым заводом полно плотов и барок, а под ними ночуют бездоглядные хлопцы. Никто их не шукает. Про них знае один Днипро… Тильки ответ все равно держать треба, пана Бога не обманешь. Покаяться треба, да острога боюсь… На воле хочу помереть, хоть под дождем, як пес смрадный, тильки на воле… Один конец, вже скоро… — он зашелся в надрывном кашле.
Голубев, отчаявшись раздуть мокрые ветки, встал на ноги.
— Трохи годите, паныч, — едва прокашлялся бродяга. — Хочу вас спытать… Из-за хлопца русского був такий шум… А коли зарезали бы жиденка?
— Что за глупость ты спрашиваешь? Они своих детей в жертву не приносят.
— Це вирно, я тоже разумею, шо из-за жиденка шуму бы не було. Прощайте, паныч, доброго вам здоровьичка.
Голубев зашагал по Боричеву току. Сильный ветер сдул тучи, на темном небе высыпали звезды. Крест в руках Святого Владимира вновь засиял электрическим светом. Приступ отчаяния, охвативший студента после оправдательного приговора, постепенно утих. Он подумал, что Замысловский прав. Важно было осудить ритуал. Надо устроить торжественные проводы обвинителю и поверенным гражданской истицы, дабы показать всем врагам отечества, что патриоты считают киевский процесс своей победой. Более тысячи лет стоит Святая Русь! Немало бед она претерпела, но все выдюжила, крепкая верой православною и властью самодержавною!
«Еще поборемся!» — повторял Голубев, пиная промокшим сапогом обрывок афиши:».. астроли сезона 1913 года несравненной мадемуа…». Обрывок афиши отлетел на голый куст и затрепетал на ветру, как кружевные юбки шансонетки. Были видны только крупные цифры — «1913».
Эпилог
Суд присяжных вынес вердикт о невиновности Менделя Бейлиса. «Но кто же убийца?» — резонно спросит читатель. Детективный жанр имеет свои каноны, и нельзя поставить точку, не назвав имени убийцы. Сложность в том, что все описанное в романе не является вымыслом автора, а происходило на самом деле. Убийство Андрея Ющинского не было раскрыто по горячим следам, и тем более трудно рассчитывать на успех спустя полвека.
Разумеется, у автора есть своя версия, однако прежде чем познакомить с ней читателя, я хотел бы коснутся обстоятельств написания этой книги.
Знакомство с делом
Признаюсь (если кто-нибудь этого до сих пор не понял), что я вовсе не писатель, а историк, профессор, доктор исторических наук, автор нескольких специальных работ по истории России начала XX века. Киевский процесс заинтересовал меня как один из эпизодов политической деятельности крайне правых партий. Ознакомившись с литературой, насчитывающей десятки книг и статей различной направленности[1], я взялся за первоисточники, в частности за мемуары участников этого дела[2]. Трехтомные стенограммы судебных заседаний донесли до меня живое дыхание процесса.[3] Следующим шагом стало обращение к архивам[4].
Интерес к этому делу привел меня в Киев. Было это в конце 80-х годов, еще при СССР, когда существовала Украинская Советская Социалистическая республика. Оформив «квиток дослидника» в тесном читальном зале державного архива Киевской области, я перенес на свой стол двадцать томов следственного производства об убийстве Андрея Юшинского.[5] До революции эти документы хранились в отдельном помещении окружного суда. После гражданской войны здание на Софийской площади заняло украинское НКВД. Чтобы освободить кабинет для замнаркома, старые документы вывалили на улицу, рассчитывая, что их приберут торговки с соседней Бессарабки. Так и разошлось бы следственное производство на кульки для семечек, если бы мимо не проходил юрист еще с дореволюционным стажем, помнивший дело Бейлиса. Он поднял шум, и документы были спасены.[6]
Что ни говори, а подлинники обладают особой магией. При чтении протоколов допросов, у меня возникало странное ощущение, будто я живу сразу в двух эпохах. Отчасти это происходило потому, что после работы в читальном зале я, вооружившись планом города за 1911 год, отправлялся бродить по тем самым местам, о которых шла речь в документах. Улица Верхне-Юрковская была переименована в улицу Отто Шмидта. Знаменитый полярник жил в доме № 32, а в следующем, № 34, обитала семья Бейлисов. На месте дома Бейлиса возвышалась груда земли, которую сгребали бульдозеры. Пройдя дальше, я увидел, что еще неделя-другая и от старой Верхне-Юрковской не останется следа. На улочку наступали панельные многоэтажки, почти все старые лачуги уже были снесены. Строение № 40 сохранилось, но уже было необитаемо. Через покосившиеся ворота я прошел во двор. Шаткие ступеньки вели на верхнюю веранду, дверь оказалась незапертой. В квартире Чеберяков царил разгром, обои висели клочьями, прогнившие потолочные балки угрожающе прогнулись. Тесная кухня, «любимый уголок» хозяйки, маленькая гостиная, еще одна комнатушка, где раньше стояли кровати детей.
Выйдя из заброшенного дома, я осмотрел двор. Вокруг шел обвалившийся, с оторванными досками забор. Легко было представить, как местная детвора пролезает сквозь эти дыры. Вот только на мяле им сейчас покататься бы не удалось. На месте кирпичного завода сейчас большая автобаза. Вместо навесов для кирпича — гаражи, а знаменитая Кирилловская стоянка периода неолита — древнейшее поселение на Подоле — закатана в асфальт. Пещера, в которой два гимназиста нашли тело Андрея Ющинского, не сохранилась, хотя склон горы был изрыт лазами и гротами — вероятно, продолжались поиски легендарных гайдамацких кладов. По заросшей кустарником круче с немалым трудом удалось спустится вниз на Кирилловскую. Хирургическая лечебница и богадельня, построенные на средства Зайцева, были переоборудованы в родильный дом № 2. В советское время здесь родилось большинство жителей Подола, но позже, в 90-х годах, роддом был переведен на другую улицу и сейчас в этих зданиях разместилась фармацевтическая фирма. В пристройке к богадельне, вызвавшей такие споры, сейчас не молельня, а офис.
Еще один уголок старого предместья — Лукьяновское кладбище, куда я, не надеясь на успех, направился разыскать могилу Андрея Ющинского. Около кладбищенской конторы разговаривали несколько старушек, среди них оказалась работница кладбища. На мой вопрос, не сохранилась ли могила Ющинского, похороненного в 1911 году, она с сомнением пожала плечами и пошла посмотреть книгу записей. Кто-то спросил, не могилу ли родственника я разыскиваю. «Нет, — объяснил я. — Было такое дело, его еще называют делом Бейлиса. Евреев обвинили в ритуальном убийстве мальчика». Одна из старушек всплеснула руками: «Ах, Боже мой! Я ведь знаю, о чем идет речь. Я была девчонкой, когда Бейлиса арестовали. У меня и газета сохранилась, где все о суде расписано. Мы с матерью жили на Половецкой, совсем рядом с Юрковской». — «Неужто правду говорят, что евреи резали детей?» — ахнула ее подруга. «Что за глупости! — горячо возразила старушка. — Это выдумки одной дурной женщины, ее звали Верка Чеберячка. Сама со своими дружками убила и задумала свалить на других».
Не успел я подивиться тому, что на Лукьяновке помнят о Вере Чеберяк, как меня ждал новый сюрприз. Кладбищенская служительница вышла из конторы и сказала, что Ющинский похоронен на центральной аллее и назвала номер участка: 34-й. Изрядно поплутав между ограждениями, я нашел могилу мальчика. Дубового креста с затейливой славянской вязью уже не было. После революции одних только слов «от Союза русского народа» было достаточно, чтобы его снесли. Тем не менее крест на могиле стоял, самый простой, сваренный из обрезков трубы, покрашенный серебрянкой, но стоял. И табличка имелась: «Андрей Ющинский трагически погиб 11 марта 1911 г. на 13 году жизни». Озадачила не столько неточность (мальчик пропал 12 марта), сколько свежеподправленные буквы. За могилой определенно ухаживали. Тогда я еще не знал, что существует неканонический культ блаженного мученика Андрея Киевского и составлен акафист: «… воистину слово в похвалу тебе приносимое не вяжется ни кровию, ни страхом иудейским».
Собранные материалы были частично использованы в моей монографии о черносотенных партиях и союзах,[7] а несколько позже глава о «полицейской Цусиме», как называли современники дело Бейлиса, вошла в книгу о политическом розыске в России[8]. Тот же самый материал был опубликован в сборнике «Дело Бейлиса», изданном к столетию киевского процесса. Но меня не оставляла мысль, что о деле Бейлиса невозможно написать в рамках чисто научного исследования, да и само уголовное дело с хитроумно сплетенной интригой и участием известных исторических деятелей просто просилось в детективный роман. Останавливало то, что по мотивам дела Бейлиса было написано несколько художественных произведений. Шолом Алейхем еще до начала киевского процесса начал публиковать роман «Кровавая шутка».[9] По жанру это скорее авантюрный роман. Двое выпускников гимназии: еврей из бедной семьи, золотой медалист, и русский, сын губернского предводителя дворянства, посредственный ученик, решают на год поменяться паспортами и аттестатами. Сын предводителя, добровольно превратившийся в Гершку Рабиновича, вскоре попадает под подозрение в ритуальном убийстве подростка Володи Чигиринского. И только на суде всплывает вся правда.
Роман американского писателя Бернарда Маламуда «Мастер»[10] был издан в середине 60-х годов и получил Пулицеровскую премию. Героя романа Якова Брока бросают в тюрьму, заподозрив в ритуальном убийстве подростка Жени Голова. На самом деле мальчика убила его мать Марфа вместе со своим слепым любовником. Но Брок не может доказать свою невиновность, хотя добрый следователь Бибиков пытается защитить его от злого прокурора Грубешова. По этому роману был снят голливудский фильм, к сожалению, в духе такой «развесистой клюквы» по отношению к бытовым деталям, что у зрителя, мало-мальски знакомого с историей России, он может вызвать только приступ безудержного смеха. В современной России дело Бейлиса также не осталось без внимания писателей. Так, Гелий Рябов опубликовал художественное изложение дела Бейлиса[11].
В отличие от романов, написанных по мотивам дела Бейлиса, я решил максимально приблизить сюжет своего произведения к реальным событиям и придать ему вид документальности. В романе нет вымышленных персонажей, а слова и поступки воспроизведены на основе воспоминаний, стенограмм выступлений, протоколов допросов. Строго соблюдается хронология событий. Страницы романа густо населяют жандармы, филеры и секретные агенты охранного отделения, один из которых убил Председателя Совета министров Российской империи П. А. Столыпина[12]. Конечно, элемент художественного вымысла был неизбежен. Документы и мемуары, какими бы подробными они ни были, никогда не дадут полного представления о внутреннем мире человека. Поэтому к действующим лицам романа следует относится все-таки как к литературным героям, имевшим реальные прототипы. К тому же каюсь в одной художественной вольности. На страницах романа возникает жандармский подполковник Иванов, не названный по имени. На самом деле в киевском губернском жандармском управлении служили два офицера: Иванов-первый и Иванов-второй, Алексей и Павел. Один занимался расследованием убийства Столыпина, другой — делом Бейлиса. Я решил слить двух жандармов в одного.
Повествование строится вокруг основных версий: уголовной и ритуальной. В романе соблюдается некая симметрия: четверо основных героев, разбитых на условные пары. Одна пара (судебный следователь В.И.Фененко и журналист С.И.Бразуль-Брушковский) поддерживают уголовную версию; другая пара (прокурор киевской судебной палаты Г.Г.Чаплинский и студент В.С.Голубев) пытаются доказать ритуальный характер убийства. Попробуем вкратце рассмотреть обе версии, нашедшие отражение в романе.
Уголовная версия
Мнение о том, что убийство Андрея Ющинского было совершено на уголовной почве, имело много сторонников еще до революции, а в советское время стало общепринятым. Например, в дважды переизданном в 30-х годах исследовании А. А. Тагера «Царская Россия и дело Бейлиса», утверждалось, что царские власти пошли на прямой сговор «с воровской шайкой, заведомо для прокуратуры убившей Ющинского». Это мнение утвердилось в советских учебниках, энциклопедиях, в популярной литературе.
Читатель, внимательно ознакомившийся с романом, несомненно обратит внимание на то, что версия об уголовной подоплеке преступления имела два варианта. Сначала возникло предположение о причастности к убийству родной матери и отчима мальчика. На эту мысль полицию навели несколько журналистов, евреев по национальности. Отметим, что еврейская община Киева пристально следила за делом, грозившим вылиться в погром. Правда, вмешательство евреев в ход расследования принесло больше вреда, чем пользы.
Сошлюсь на мнение самого авторитетного криминалиста России, начальника московской сыскной полиции А. Ф. Кошко, которому министерство юстиции поручило тщательно изучить материалы киевского следствия. А. Ф. Кошко ни в коей мере не являлся сторонником ритуальной версии, однако отзывался о поведении киевских евреев в следующих словах: «Быть может, вследствие паники, ими овладевшей и заставившей их высказать в этом деле усердие не в меру, они не только не рассеяли дела, но затемнили его множеством подробностей, десятками ненужных свидетелей, попытками подкупов и т. п. Эти напуганные насмерть люди судорожно хватались за все, что могло доказать их невиновность и отвести от них надвигающуюся бурю, причем ради своего спасения они не брезговали никакими средствами»[13].
Судебный следователь В. И. Фененко (по крайней мере на первом этапе расследования) придавал слишком большое значение сведениям, якобы указывавшим на виновность родственников Ющинского. Думается, это произошло по разным причинам, в частности потому, что он был скорее юристом кабинетного типа, избегавшим рутиной розыскной работы, которая оказалась в руках сыщиков киевского сыскного отделения. Они подделывали улики и устраивали фальшивые опознания с целью возложить вину на мать и отчима убитого. К чести киевской магистратуры следует сказать, что в итоге родственники Андрея Ющинского все же были освобождены.
В романе я попытался показать полицейский произвол, допущенный по отношению к этим, может быть, не самым симпатичным, но совершенно невиновным людям. Эпиграфом к этим страницам могла бы послужить реплика дяди убитого мальчика. Когда его спросили на суде, почему он не жаловался, он недоуменно ответил: «Кому жаловаться? Городовому в участке скажешь, он в ухо даст». Примечательно, что в советский период эпизоды, связанные с преследованием родных убитого, просто выпали из истории дела Бейлиса, поскольку не укладывались в общепринятую концепцию сговора властей с уголовниками. В уже упомянутой обширной монографии А. С. Тагера о родных мальчика упоминается лишь мельком и в примечаниях.
Появление нового, видоизмененного варианта уголовной версии было связано с именем А. Д. Марголина, адвоката и наследника одного из богатейших киевских воротил. По его инициативе для противодействия ритуальному обвинению был образован комитет, в состав которого вошли адвокат Марк Виленский, казенный раввин Ш. Я. Аронсон, владелец кирпичного завода М. И. Зайцев и несколько еврейских общественных деятелей. В романе приводятся подлинные слова А. Д. Марголина, изложившего план действий комитета: «На обвинение надо было ответить не обороной, а наступлением — надо было найти действительных виновников»[14].
В этих целях комитет привлек к сотрудничеству журналиста «Киевской мысли» С. И. Бразуля-Брушковского. Согласно полицейским документам, он принадлежал к партии эсеров, прославившейся громкими террористическими актами. Правда, в описываемый период партия эсеров была дезорганизована, поскольку выяснилось, что главный руководитель террора Е. Ф. Азеф являлся платным агентом департамента полиции. С. И. Бразуля-Брушковского можно назвать одним из пионеров журналистского расследования — нового жанра для России той эпохи. Вместе с тем он не брезговал недобросовестными методами. В романе рассказывается, что он начал свое расследование с публичного обвинения слепого гармониста Павла Мифле, его брата, а также нескольких родственников Андрея Ющинского, только-только вышедших из тюрьмы. Позже журналист цинично признавался, что придал гласности заведомо ложные сведения «… с тактической целью вызвать ссоры и недоразумения среди преступного мира и создать этим путем более благоприятную почву для собирания сведений по делу»[15].
Поскольку первые разоблачения Бразуля-Брушковского были опровергнуты официальным судебным следствием, комитет из еврейских общественных деятелей решил привлечь профессионального криминалиста в лице бывшего пристава Н. А. Красовского. Читатель знаком с подвигами этого сыщика, несколько раз менявшего свою позицию. Прокурор киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинский потребовал уволить пристава с полицейской службы, мотивируя свое требование тем, что, по негласным сведениям, «считает несомненным, что Красовский изменил свой образ действия единственно под влиянием получения им денежной взятки от еврейской колонии»[16].
Журналист и сыщик действовали совместно. Н. А. Красовский добывал материалы при содействии своей обширной агентуры, а С. И. Бразуль-Брушковский придавал их гласности. Весной 1912 года журналист опубликовал в печати результаты частного расследования, поименно назвав убийц — Веру Чеберяк, её брата Петра Сингаевского, Бориса Рудзинского, Ивана Латышева и других. Накануне киевского процесса состоялось совещание адвокатов, решивших использовать «все важнейшие свидетельства против Веры Чеберяк и ее дружков, открытые в результате частного расследования». Приказчика кирпичного завода защищал цвет российской адвокатуры: Д. Н. Григорович-Барский, О. О. Грузенберг, А. С. Зарудный, Н. П. Карабчевский, В. А. Маклаков. На суде они доказывали, что на скамье подсудимых должны сидеть уголовники. Речи защитников звучали весьма убедительно и подействовали на публику.
Тем не менее рискну выразить свое мнение, что уголовная версия не выдерживает серьезной критики. Прежде всего отсутствовал внятный мотив преступления. В предположениях не было недостатка, но все они на поверку оказывались пустыми слухами. Воссозданная частным расследованием картина преступления вызывает ряд недоуменных вопросов. В доме № 40 располагались несколько квартир, разделенных тонкими перегородками, а на первом этаже находилась винная лавка, самое бойкое место на всей Верхне-Юрковской улице. Трудно представить, как можно было утром, когда весь дом уже проснулся, затащить мальчика в квартиру Веры Чеберяк и нанести ему почти полсотни ран, не переполошив всех соседей и не забрызгав кровью пол, стены и даже низкие потолки. Еще удивительнее, что по версии частного расследования тело убитого мальчика якобы в течение нескольких дней оставалось в квартире, куда заходили посторонние люди, играли дети, ночевали гости.
Не вызывают доверие свидетели преступления, которых обнаружили подручные Красовского. Одна из ключевых свидетельниц — белошвейка Екатерина Дьяконова выведена в романе. Если читатель решит, что автор прибегнул к гротеску, то прошу поверить, что это не так. Показания Дьяконовой сами по себе настолько анекдотичны, что прибавить к ним просто нечего. Жаль, что ограниченный объем романа не позволил описать других «свидетельниц» — типа сиделицы винной лавки Зинаиды Малицкой, известной всей Лукьяновке, как «дама со бзиком». Стенограмма ее показаний в суде пестрит ремарками: «Смех в зале».
Столь же сомнительной выглядела «царица доказательств» — признание вора Петра Сингаевского по кличке Плис. О том, что вор якобы признался в преступлении стало известно только со слов свидетелей Сергея Махалина и Амзора Караева. В романе цитируются справки департамента полиции о том, что оба «свидетеля» являлись бывшими платными агентами киевского охранного отделения, от чьих услуг отказались ввиду «провокационной деятельности и склонности к шантажу». Крайне сомнительно, что матерый уголовник признался в убийстве двум молодым людям, которых видел первый раз в жизни. Легче предположить, что вся история с признанием была от начала до конца выдумана друзьями-провокаторами, когда охранное отделение оставило их без средств к существованию. Судя по перехваченным полицией письмам, им не удалось поправить свое финансовое положение. Амзор Караев за свои труды получил весьма скромное вознаграждение и остался очень недоволен: «Участникам розысков по этому делу выданы были и выдаются теперь большие деньги для того, чтобы можно было посвятить все время делу розысков, а не заботится приисканием занятий для пропитания… Деньги буржуев сыпется во все стороны — нужно это или не нужно, а для того, кто все сделал для дела, на ком зиждется все обвинение новых преступников, для того — нет 150 рублей…»[17].
В романе прокурор Г. Г. Чаплинский недоумевает, почему светила адвокатуры делают вид, что верят в историю о черной маске, разгуливавшей по Киеву и называвшей имена убийц. Надо полагать, что защитники Бейлиса все видели и все понимали, но на публике выступали единым фронтом. Отчасти их позиция объяснялась особенностями адвокатской профессии, хотя главная причина, на мой взгляд, заключалась в накале идейной и политической борьбы, которая развернулась вокруг ритуального обвинения. Адвокаты были людьми оппозиционных воззрений. В. А. Маклаков и Д. Н. Григорович-Барский являлись членами ЦК партии кадетов, Зарудный был народным социалистом. Кстати, любопытный факт, что четверо из пяти адвокатов, а именно: Д. Н. Григорович-Барский, О. О. Грузенберг, А. С. Зарудный и В.А.Маклаков состояли в масонских ложах. В их понимании — киевский процесс был битвой с религиозным и политическим мракобесием, для победы над которыми годились все средства. К тому же совесть никого из адвокатов явно не мучила, так как по ворам из шайки Веры Чеберяк давно плакала каторга.
Ритуальная версия
Итак, с авторской точки зрения, уголовная версия, по крайней мере в том виде, в каком она была представлена суду, не может считаться состоятельной. Как же обстоит дело с ритуальной версией?
Кровавый навет, или обвинения евреев в употреблении христианской крови имеет давнюю историю, в том числе судебную хронику. О некоторых из ритуальных дел — Дамасском, Житомирском, Велижском, Саратовском упоминается в романе. Чтобы познакомить читателя с разноголосицей мнений, я вложил рассказы об одних и тех же событиях в уста разных героев. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что к подобного рода историческим документам следует относиться критически, так как признания в совершении ритуальных убийств в подавляющем большинстве случаев были вырваны под жестокими пытками или в лучшем случае под угрозами и давлением. Если брать на веру такие признания, то придется поверить и полученным под пытками признаниям заподозренных в колдовстве, что они наводили порчу, летали по воздуху на шабаши нечистой силы и заклинаниями вызывали бури.
Мы видели, что представители киевской еврейской общины активно вмешивались в ход расследования. Киевские черносотенцы действовали точно также. В. А. Маклаков, один из защитников Бейлиса, справедливо отмечал, что «Следствие проходило под давлением, можно сказать, террором правых организаций. Свободные от занятий студенты, обанкротившиеся содержатели ссудных касс стали руководить этим делом»[18]. Не доверяя судебным властям, черносотенцы организовали собственное расследование, главную роль в котором играл студент Владимир Голубев, секретарь патриотического общества молодежи «Двуглавый орел».
Голубев был сверстником писателя Михаила Булгакова, его однокашником по Первой гимназии и ближайшим соседом по Андреевскому спуску. Рискуя вызвать гнев булгаковедов, признаюсь, что лично для меня черносотенное семейство Голубевых ассоциируется с дружной семьей Турбиных из «Белой гвардии». Тот же круг общения, то же мировоззрение. Вспомним надпись рукой на изразцовой печке: «Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие!», запальчивые слова Алексея Турбина: «Я… монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова социалист», наконец, выкрик опьяневшего Карася: «Жиды!» Если что и отличало Голубева от его сверстников, воспитанных в православно-монархических традициях, так это его экзальтированность и фанатизм. Он целыми днями пропадал на Лукьяновке, стараясь что-нибудь разузнать о преступлении, и первым провозгласил, что убийство было совершено на кирпичном заводе.
Лазарь Каганович, будущий партийный вождь Украины и сталинский нарком, а в ту пору молодой большевистский агитатор на Подоле, вспоминал: «Стоявший во главе черносотенцев студент Голубев был связан с высшими придворными кругами Петербурга и имел крупнейшее влияние на всю политику и поведение генерал-губернатора и полиции Киева». Представляется, что влияние студента на губернские власти, не говоря уж о его мифических придворных связях, было явно преувеличенным. Во всяком случае официальное судебное следствие отмахнулось от сведений Голубева. Прокурор киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинский показывал: «У меня однако не укладывалось в голове, чтобы в ХХ веке в таком городе, как Киев могло бы возникнуть такое дело»[19]. Архивные документы доказывают, что в первые месяцы расследования Г. Г. Чаплинский действительно отвергал ритуальную версию как фантастическую. В скором времени прокурор изменил свою позицию.
В романе я пытался показать психологическую подоплеку, предопределившую эволюцию взглядов Г. Г. Чаплинского. На первый взгляд кажется странным, что поляк по рождению и католик по воспитанию оказался в одном стане с «истинно русскими». Однако следует учитывать, что для черносотенцев данный термин означал не этническую или религиозную, а скорее политическую принадлежность. Среди черносотенцев было немало немцев, татар, молдаван, а в черте оседлости большинство отделов Союза русского народа состояло из украинцев, или «малоросов» по терминологии того времени. Поэтому не стоит удивляться, что среди единомышленников Голубева оказались отпрыск старинного польского рода Г. Г. Чаплинский и чех с внешностью библейского патриарха В. Э. Розмитальский.
Возможно, киевские судебные власти не пошли бы на поводу у черносотенцев, если бы официальное расследование не зашло в тупик. Все версии, которые разрабатывались судебным следствием в течение трех месяцев, оказались ложными. Между тем натиск крайне правых усиливался с каждым днем. Черносотенная «Гроза» недоумевала «разве не странно — упорно плевать на указания правой и националистической печати и всего народа о ритуальном характере убийства и не арестовать ни одного жида»[20]. В ночь на 22 июля 1911 года власти арестовали еврея Менахема Менделя Бейлиса, приказчика кирпичного завода.
В романе два юриста, следователь В.И.Фененко и прокурор окружного суда Н. В. Брандорф, отказываются признать сколько-либо серьезными улики против Менделя Бейлиса. Действительно, подозрение против приказчика кирпичного завода базировалось на путанных и противоречивых показаниях супружеской пары Казимира и Ульяны Шаховских. О том, как были добыты такие показания, в романе рассказывается в точности по протоколу показаний сыщика Полищука: «Просидели мы там приблизительно до трех часов ночи и водки выпили порядочно — полторы бутылки. Шаховская довольно сильно охмелела и даже порывалась затянуть песню. Мне все никак не удавалось тогда побеседовать с ней наедине… Улучив удобную минуту, я спросил Шаховскую… Тогда Шаховская мне прямо сказала, что муж ее знает все и видел, как Мендель вместе с сыном Дувидкой повели или потащили Андрюшу к печке»[21].
Супруги Шаховские ссылались на Женю Чеберяка, однако сам мальчик категорически отрицал, что Бейлис гонялся за Ющинским. Его допрашивали много раз, но безрезультатно. Внезапная кончина Жени и его сестры в начале августа 1911 года породила множество слухов. Черносотенная пресса не сомневалась, что малолетние свидетели были погублены евреями, проводя исторические параллели: «При разборе дела Дрейфуса — этого подлого изменника, поочередно, один за другим, скоропостижно скончались одиннадцать человек свидетелей»[22]. Напротив, либеральная пресса называла преступниками самих черносотенцев: «Известно, что за дело взялся Союз русского народа. Стоит ли удивляться, что в результате получилось новое преступление. Союзу русского народа во что бы то ни стало надо доказать, что совершено ритуальное убийство»[23].
Мне кажется, что отравление детей является одной из многочисленных легенд, сопровождавших дело Бейлиса. Вскрытие тел умерших не обнаружило признаков отравления. Приобщенное к следственному делопроизводству заключение Киевского Бактериологического института свидетельствует, что Женя и Валя Чеберяк умерли от дизентерии. Конечно, можно пойти по конспирологическому пути, указав, что Бактериологический институт финансировался семьей Бродских, следовательно… И все же думается, что легче поверить соседям, которые засвидетельствовали, что дети Веры Чеберяк, оставшиеся после ареста матери на попечении пьяницы-отца, питались чем попало, рвали зеленые яблоки и ели их немытыми. И еще одна легенда! В советской литературе, посвященной делу Бейлиса, безапелляционно утверждалось, что Вера Чеберяк, из страха быть разоблаченной, отравила собственных детей. На самом деле её выпустили из-под стражи, когда дети уже находились в безнадежном состоянии.
Зато супруги Чеберяк не погнушались потревожить память своих детей. Через четыре месяца после смерти сына Василий Чеберяк показал: «Кстати, я припоминаю такой случай: однажды незадолго до обнаружения трупа Ющинского, сын мой Женя пришел домой с усадьбы Зайцева и рассказал мне, что к Бейлису приехали два какие-то евреи, совершенно непохожие на тех, которых обыкновенно встречал на улицах Киева, и остановились в квартире Бейлиса. Женю заинтересовало то, что одеты они были в не совсем обычных нарядах и внешность их указывала на то, что они как будто бы духовные лица. К тому же он видел, как они молились»[24]. Поскольку на тот момент следствием занимался следователь по важнейшим делам Фененко, он не придал ни малейшего веса этим сведениям то ли из-за недоверия к ритуальной версии в целом, то ли к пьянице-телеграфисту в частности.
Совсем иначе расценил эту историю петербургский следователь по особо важным делам Н. А. Машкевич, командированный летом 1912 г. в Киев для проведения доследования. Роман построен таким образом, что в нем не нашлось главы для доследования Н. А. Машкевича. Думаю, это небольшая потеря, так как петербургский следователь не обнаружил ничего нового. Допрошенная им Вера Чеберяк дополнила рассказ мужа живописными подробностями вроде того, что остановившиеся у Бейлиса евреи были «одеты во все черное», носили «очень длинные волосы и большие бороды». Эти таинственные длиннобородые евреи погнались за детьми, игравшими на мяле: «Женя и Люда передавали мне, что они видели, как Мендель Бейлис поймал Андрюшу за руку и повел вниз по направлению к оврагу»[25]. Столичного следователя не насторожило, что хозяйка притона сплела красочную историю, когда над ней самой нависло подозрение в убийстве. Н. А. Машкевич также не задался вопросом, почему дети не переполошили всю округу, когда на их глазах был похищен товарищ. Наконец, он проигнорировал тот факт, что соседские дети не только не подтвердили рассказ о похищении, но даже не смогли припомнить, чтобы Бейлис когда-либо гонял их с завода.
Нетрудно догадаться, что дело было не в наивности следователя по важнейшим делам. Н. А. Машкевич прекрасно понимал, чего от него ждет столичное начальство.
Министр юстиции И. Г. Щегловитов являлся рьяным сторонником ритуальной версии. Правда, следует оговориться, что в канун киевского процесса Щегловитов уже отдавал себе отчет в том, что за два с половиной года чины судебного ведомства не смогли раздобыть серьезных доказательств виновности Бейлиса. Министр даже сожалел, что невозможно остановить им же запущенный механизм: «Дело получило такую огласку и такое направление, что не поставить его на суд невозможно, иначе скажут, что жиды подкупили и меня и все правительство»[26]. Не было единства даже среди крайне правых и националистов. Один из лидеров думской фракции националистов В. В. Шульгин опубликовал в «Киевлянине» передовую статью с резкой критикой обвинительного акта.
Государственный обвинитель О. Ю. Виппер и поверенные гражданских истцов Г. Г. Замысловский и А. С. Шмаков постарались перевести обсуждение из невыгодного для них криминального аспекта в догматическую плоскость. Такая тактика была выработана обвинением загодя. В романе приведены несколько измененные слова Г. Г. Замысловского, произнесенные в кулуарах Государственной думы: «…на указание Маклакова, что за слабостью улик Бейлиса оправдают, Г. Г. Замысловский ответил: «Пусть оправдают, нам важно доказать ритуальность убийства».
Логично предположить, что защита решила придерживаться прямо противоположной линии. О.О.Грузенберг писал в своих мемуарах: «Когда я ознакомился со списком присяжных заседателей, состоявших сплошь из деревенских крестьян, я сказал себе: ни слова о ритуальных убийствах; это будет не только недостойно твоего самоуважения, но поведет к неминуемой гибели Бейлиса. Его задушат фолиантами книг, непонятных присяжным, затопчут разговорами о Талмуде, Зогаре, раввинской письменности и т. п. Если талантливые, сведущие писатели не сумели на протяжении многих и многих лет убить злостную легенду об употреблении евреями христианской крови, то неужели допустимо обращать в судей над наукой темных обывателей? На суде нужно только одно: доказать, что тот, которому приписывается убийство из ритуальных побуждений, убийства не совершал»[27].
Задача обличения ритуала была возложена в основном на поверенного гражданской истицы А.С.Шмакова, имевшего репутацию идейного антисемита. В своих сочинениях он повествовал о том, как одна ветвь арийцев направила «свет арийского духа» на монголов, а другая двинулась из Индостана на Русь, «отбиваясь от развратных и жестоких семитов».[28] В качестве эксперта по иудаизму был приглашен католический священнослужитель патер Иустин Пранайтис, автор книги «Христианин в Талмуде еврейском». Ксендз утверждал, что в иудаизме существует «догмат крови», в который посвящены только немногие из евреев, а в каббалистической книге «Зогар» имеется прямое предписание совершать человеческие жертвоприношения «двенадцатью испытаниями ножа и ножом», что составляет в общей сложности тринадцать. Эксперты, приглашенные защитой, — академик П. К. Коковцов, профессора П. В. Тихомиров и И. Г. Троицкий — подвергли резкой критике интерпретацию талмудических и каббалистических трактатов в духе догмата крови. В частности, арабист и гебраист П. К. Коковцов указал, что фраза о человеческих жертвах является заведомо недобросовестным переводом из книги «Зогар».
Обвинение предназначало роль изуверов представителям одного из религиозных течений в иудаизме, именуемых хасидами. О «секте хусидов» еще в самом начале расследования твердил студент В.С.Голубев. В романе устами профессора С.Т.Голубева дается краткий очерк возникновения и распространения хасидизма. Возможно, так и было, хотя на процессе студент Голубев оговорился, что знает о хасидах «из географии». Один из духовных вождей хасидизма Шнеур Залман (Шнеерсон) разработал учение Хабад, или «Мудрость». Его сын поселился в местечке Любавичи, превратившемся в цитадель Хабада, особой формы хасидизма.
В Любавичах пристально следили за делом Бейлиса. Перед процессом тогдашний духовный руководитель хасидов Шолом Дов Бер Шнеерсон направил адвокату О. О. Грузенберга послание, которое передал его сын: «когда мы сказали ему, что пришли посетить его по поручению моего отца и учителя, Любавичского Ребе, по поводу навета на г-на М. Бейлиса, его светлое лицо заволокло облаком грусти, и хрусталь его глаз погас»[29]. Адвокат объяснил, что суд будет нелегким, ибо «событие в Киеве и арест г-на Бейлиса — это сапфировый браслет на руке ненавистников Израиля», но обещал приложить все усилия для спасения подзащитного.
На киевском процессе состоялся, если так можно выразиться, заочный спор между хасидами и их обвинителями. Московский раввин Я. И. Мазе, приглашенный защитой в качестве «сведующего лица», не являлся хасидом. Из Любавичей к нему прибыли несколько человек, познакомивших раввина с особенностями Хабада и снабдивших его необходимой литературой. В своем выступлении на процессе Я. И. Мазе сделал основной упор на том, что хасидизм не является сектой, а все отличия между хасидами и традиционным иудаизмом сводятся к незначительным изменениям в порядке чтения молитв.
По мнению Голубева, одним из главных исполнителей преступления являлся торговец сеном Файвел Шнеерсон, столовавшийся в доме Бейлиса. Для сторонников ритуальной версии Шнеерсон из Любавичей представлял собой ценную находку, а его знакомство с Менделем Бейлисом позволяло говорить о хасидском гнезде на кирпичном заводе. Степень родства этого человека с духовными вождями хасидов осталась невыясненной. На суде он заявил, что вообще ничего не знает о хасидах и никогда не слышал о Шнеерсонах из Любавичей. Не приходится сомневаться, что это была неправдоподобная ложь. С другой стороны, Файвел Шнеерсон, бывший солдат, повоевавший в русско-японскую войну и ходивший с бритой бородой, не слишком походил на типичного хасида.
Киевский процесс имел уникальную особенность, состоявшую в том. что за историко-богословскими спорами был забыт сам подсудимый. Присяжные заседатели недоумевали: «Як судить Бейлиса, колы разговора о нем нема?» Наблюдавший за процессом с хор для прессы В. Д. Набоков, один из лидеров кадетской партии, с удивлением отмечал: «Единственный существенный вопрос, который можно было бы поставить именно с точки зрения ритуалистов, остался нетронутым. Никто и не заикнулся о том, доказано ли, что Бейлис — изувер. Психиатрической экспертизы над ним произведено не было. Духовный его мир остался вовсе неисследованным»[30].
Современная хасидская литература называет Менделя Бейлиса истинным хасидом. Позволю себе усомниться. Известно, что отец Бейлиса был хасидом, возможно также, что сам Бейлис впоследствии обратился к религии. Однако киевский период биографии Бейлиса не дает оснований считать его человеком, строго исполнявшим обряды и предписания. Эстер Бейлис бесхитростно объясняла на допросах: «Муж мой совсем не религиозный и только один раз в году, а именно в судные дни, бывает в синагоге. Очень часто он работает даже в субботу и еврейских праздников не соблюдает, так как человек он бедный и праздновать нам некогда, а нужно заработать кусок хлеба, чтобы содержать семью»[31]. Дети Бейлиса не знали ни слова на древнееврейском, а старший сын Пинхус, учившийся в русской прогимназии, был нетверд даже в разговорном еврейском. Вряд ли можно всерьез говорить о познаниях главы семейства в каббале. После суда Бейлис иронически поблагодарил своих обвинителей: «Теперь я стал образованным. Узнал, что был какой-то Зогар, Маймонид. Спасибо Шмакову».
По всей видимости Мендель Бейлис был обязан спасением от каторги прежде всего тем, что в глазах присяжных заседателей он никоим образом не ассоциировался с религиозным изувером, о которых так подробно вещало обвинение. Присяжные заседатели, вынесшие оправдательный вердикт, смотрели на него также, как ближайшие соседи по Лукьяновке. В воспоминаниях самого Менделя Бейлиса имеется любопытный эпизод. Когда его вели под конвоем из полицейского участка в тюрьму, к нему подошел Захарченко, владелец злополучного дома № 40 по Верхне-Юрковской. «Братец, не падай духом, — ободрил его домовладелец. — Я сам член „Двуглавого орла“, но говорю тебе: камни мостовой сотрутся, а правда все-таки выйдет наружу».[32] Сцена выглядит неправдоподобной, а между тем так оно и было. Единственное, в чем ошибся Бейлис, так это в том, что Захарченко состоял не в «Двуглавом орле», а в Союзе русского народа. Как свидетельствуют протоколы показаний Захарченко, принадлежность к черносотенной организации не мешала ему горячо отстаивать невиновность соседа-еврея.
Вердикт присяжных был ярким примером подобной двойственности. Присяжные заседатели признали доказанным, что убийство Андрея Ющинского было совершено евреями из побуждения религиозного фанатизма в одном из помещений кирпичного завода, но отказались признать приказчика этого завода виновным в преступлении. Двоякое решение позволило каждой из сторон праздновать свою победу. На следующий день после вынесения приговора газета «Двуглавый орел» огромными буквами напечатала ответ присяжных на первый вопрос: «Да, доказано» и мелкими буковками ответ на второй вопрос: «Нет, не виновен». Надо ли говорить, что на страницах либеральных и левых органов печати акцент был сделан на втором ответе.
Третья версия
Что если отойти от дилеммы: ритуал или воровская шайка. На мой взгляд, печальную услугу следствию оказал вывод судебно-медицинской экспертизы о том, что убийство Ющинского было совершено группой лиц. Профессор Н. А. Оболонский и прозектор Туфанов, проводившие вскрытие тела Ющинского, отметили в своем заключении: «Что касается количества лиц, участвовавших в убийстве Ющинского, то, судя по сложности манипуляций, производившихся над жертвой преступления, надо полагать, их было не менее двух»[33]. Профессор И. А. Сикорский пошел еще дальше, утверждая, что в убийстве участвовало не менее шести человек. Кстати, вывод о групповом характере преступления был едва ли не единственным, по которому сошлись все медицинские эксперты, принимавшие участие в процессе как со стороны обвинения (профессор Д. П. Косоротов), так и со стороны защиты (профессор А. А. Кадьян и лейб-хирург Е. Г. Павлов). Согласился с этим выводом и академик В. М. Бехтерев, также выступавший на киевском процессе. И лишь позже Бехтерев, еще раз взвесив все доводы за и против, изменил первоначальное мнение: «Возможно допустить, что непосредственным убийцей, не принимая во внимание других возможных соучастников убийства, мог быть и один, ибо нужно ли много лиц, чтобы, оглушив мальчика 12 лет, при внезапном нападении рядом тяжелых ударов, нанесенных швайкой в голову и в правую сторону шеи, покончить с ним задушением и путем дальнейшего нанесения ударов»[34].
Предположение Бехтерева в корне меняет взгляд на загадочное преступление. Изначально судебное следствие было сориентировано на розыск преступного сообщества, примеряя на эту роль то родственников мальчика, то цыган из табора, то обитателей кирпичного завода, то завсегдатаев воровского притона. Между тем убийцей мог быть один психически ненормальный человек. Следствию надо было внимательнее приглядеться к Кирилловской психиатрической лечебнице, расположенной в полуверсте от пещеры. Впрочем, вполне возможно, что убийца-одиночка не был пациентом лечебницы и производил на окружающих впечатление совершенно нормального человека. Уголовная хроника свидетельствует, что маньяки чаще всего бывают именно такими: серыми, неприметными, не вызывающими ничьих подозрений. Что заставляет их выходить на охоту за живыми людьми — ущербное воспитание, тяжелая наследственность или же сбой на генетическом уровне — в точности неизвестно, но они совершают леденящие кровь зверства.
Можно вспомнить ряд громких дел уже наших дней, например, ростовского садиста Чикатило, который зверски убил 52 подростков и взрослых обоего пола. Орудовавший в Подмосковье маньяк Головкин заманивал мальчиков-подростков в специально оборудованный подвал, подвешивал их на железных крючьях, наносил множественные ранения, вырезал на коже какие-то знаки и в завершение жесточайших пыток убивал. Подобные преступления случались и в дореволюционной России. Достаточно перелистать «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского, отбывавшего каторгу в Омском остроге. «Помню, — писал Достоевский, — как однажды один разбойник, хмельной (в каторге иногда можно было напиться) начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал».
Если такой маньяк рыскал в поисках жертвы по лукьяновским ярам, то вероятно именно его встретил печник Ященко неподалеку от пещеры. На это можно резонно возразить: предположения предположениями, но где доказательства? Что же, попытаемся найти следы садиста. Из опыта криминалистики известно, что серийному убийце трудно остановиться. Если в Киеве действовал маньяк, рано или поздно должна была появиться новая жертва. И такая жертва была обнаружена в киевском пригороде Фастове.
Что более всего поражает в Фастовском деле при его сравнении с делом Бейлиса, так это сходство почерка преступления, а также близость места и времени его совершения. После громкого процесса прошел всего лишь один месяц, еще не остыли страсти, а Киев вновь был взбудоражен вестью о зверском убийстве ребенка. Приведу выдержку из рапорта уездного исправника: «Около 7 часов утра 27 сего ноября приставом 2-го стана вверенного мне уезда были получены сведения, что в м. Фастове, по Воскресенской улице, на лесном складе Кагана обнаружен труп какого-то человека… Прибыв на склад Кагана, чины полиции действительно нашли там, в скрытом месте, между задней глухой стеной нежилого домика-конторы и кучами лесного материала труп мальчика, который лежал на подмостках из дерева в виде нар, положенных на брусьях… Под трупом на досках и на земле также лужи крови, а на шее около 13-ти колотых расположенных под подбородком, на пространстве от одного уха к другому, ран, причиненных, по-видимому, перочинным ножом. Других признаков насилия не найдено…»[35]
Итак, на теле убитого было обнаружено тринадцать колотых ран. Снова зловещее число — «двенадцатью испытаниями ножа и ножом», как сказано в трактате «Зогар». Однако в Фастовском деле имелись два существенные отличия от дела Бейлиса. Во-первых, еврей Фроим Пашков (Пасиков) опознал в убитом своего сына Иосселя, а во-вторых, неподалеку от места преступления был задержан неоднократно судимый Иван Гончарук в запачканной кровью одежде, с окровавленным ножом за голенищем. Поскольку жертвой оказался еврейский мальчик, а подозрение пало на бродягу, черносотенцы не имели оснований связывать это преступление с ритуалом.
Вместе с тем в напряженной атмосфере того времени Фастовское дело не могло не стать предметом домыслов и спекуляций. Начало положила газета «Речь», являвшаяся главным печатным органом партии кадетов. Корреспондент этой петербургской газеты съездил в Киев, поговорил с очевидцами и изложил свою версию происшедшего. По его словам, арестованный Гончарук был близок к членам Союза русского народа: «он имел какие-то знакомства и связи на станции железной дороги, где весь штат служащих состоит из «союзников». Соседи по ночлежке видели у Гончарука большую сумму денег, а самое удивительное, что он присматривался к русским подросткам, словно намечая будущую жертву. По словам корреспондента, убийца случайно принял Иосселя Пашкова за русского: «Что мальчик говорил с какой-то девочкой (сестрой) по-еврейски, могло его и не смутить, потому что в этой местности многие христианские дети говорят свободно по-еврейски». Газета «Речь» прозрачно намекала на то, что убийца, нанятый черносотенцами, должен был зарезать христианского ребенка, чтобы можно было устроить новый ритуальный процесс: «И вот он заводит свою жертву на еврейскую усадьбу и там закалывает ее 13-ю ударами ножа в шею по всем правилам «ритуала», столь популярно изложенного гг. Замысловским, Шмаковым и компанией. Все это невольно наводит на мысль, что за спиной убийцы могли здесь стоять «черные цадики» из той «секты», которой хорошо ведома тайна политико-ритуальных убийств…»[36]
Воистину помешательство овладело всеми. Одним мерещился всемирный жидо-масонский заговор, другие во всем усматривали полицейско-черносотенную провокацию. Но такова была сила печатного слова, что судебное ведомство незамедлительно взялось за проверку газетной корреспонденции. Тело Иосселя Пашкова было извлечено из могилы, прозектор Туфанов произвел повторное вскрытие. Ни один из фактов, упомянутых в корреспонденции, не подтвердился.
На этом, однако, помешательство не прекратилось. Спустя несколько дней начальник киевского жандармского управления полковник А. Ф. Шредель доложил директору департамента полиции С. П. Белецкому: «… возникли основательные предположения о том, что задержанный по подозрению в убийстве Иван Гончарук к этому делу не причастен и что убитый Иоссель Пашков не есть сын еврея Пашкова, а христианский мальчик, исчезнувший из Житомира в начале ноября 1913 года, сын местного канцелярского чиновника Тараненко, который до предъявления ему трупа дал точное описание особых скрытых примет, действительно оказавшихся на трупе»[37].
Легко представить, какой шум подняла черносотенная пресса. Вырисовывалась кошмарная картина. Изуверы не отказались от кровавых обрядов, но после процесса над Бейлисом стали более осмотрительными. Похитив в Житомире мальчика Борю Тараненко, они придумали отвлекающий маневр. Один из сектантов якобы опознал в злодейски умерщвленном русском ребенке своего сына и тем самым сбил следствие с верного пути. Настоящий же Иоссель Пашков, по утверждению черносотенной прессы, скрылся за границей вместе с семьей Менделя Бейлиса (действительно, с Бейлисами выехал один из родственников Пашковых). К тому же выяснилось, что накануне убийства в Фастове заложили синагогу, и на церемонию приезжали раввины.
Все возвращалось на круги своя. Профессор И. А.Сикорский назвал фастовское убийство ритуальным, Г. Г. Чаплинский, уже получивший высокое назначение в сенат, но еще не покинувший Киев, докладывал о результатах расследования министру юстиции И. Г. Щегловитову. Были арестованы Фроим Пашков и некий Гутгарц (тоже приказчик, как и Бейлис).
Новый ритуальный процесс не состоялся, потому что пропавший мальчик Боря Тараненко вскоре был обнаружен живым и невредимым. Он просто сбежал из дома. Что касается убитого подростка, то, по заключению экспертизы, он оказался все-таки Иосселем Пашковым. Его отца и других арестованных евреев освободили, следствие о подмене тела закрыли. Иван Гончарук был предан суду и в феврале 1915 года приговорен к пятнадцати годам каторжных работ. Преступник невнятно объяснил, что якобы хотел отомстить каким-то евреям, поколотившим его за кражу. Однако вся обстановка свидетельствовала о том, что это было садистское преступление, совершенное по схеме убийства Ющинского.
Казалось бы, сопоставление напрашивалось само собой, но судебное следствие ограничилось рамками исключительно Фастовского дела. Отчасти это объяснялось тем, что процесс над Иваном Гончаруком состоялся в разгар первой мировой войны, когда было не до возобновления закрытых дел. Но главная причина, на мой взгляд, заключалась в том, что убийца-садист абсолютно никому не был нужен — ни черносотенцам, доискивавшимся религиозных изуверов, ни защитникам Бейлиса, так долго доказывавшим виновность шайки Веры Чеберяк.
Разумеется, нельзя с полной уверенностью утверждать, что именно Гончарук был виновен в смерти Андрея Ющинского. Однако версия о маньяке представляется куда более вероятной, чем предположение о ничем не мотивированном убийстве, совершенном воровской шайкой, или кровавом ритуале, якобы осуществленном изуверами. В романе настоящий преступник появляется в последней главе. Сцена встречи Владимира Голубева с бродягой у мельницы Бродского, конечно, вымышленная. Маньяк заранее решил, что выберет «жиденка», чтобы не вызвать лишнего шума. Но студент до такой степени поглощен мыслями о заговоре Сионских мудрецов, что никаких намеков не воспринимает.
Судьбы участников дела Бейлиса
Возможно читателям покажется интересным узнать о дальнейшей судьбе людей, фигурирующих в романе. Мендель Бейлис вскоре после оправдания вместе с семьей уехал в Палестину, но не вынес тягот, которые преследовали первых еврейских переселенцев на Земле Обетованной, и в конце концов перебрался в США, где написал (вернее, продиктовал) свои мемуары. Больших гонораров он не получил, поскольку общественный интерес к его особе почти иссяк. Бейлис трудился в типографии и умер в 1934 г. почти таким же бедняком, каким жил в Киеве.
Студент Владимир Голубев добровольцем ушел на Первую мировую войну. Прапорщик Голубев командовал ротой, получил ранение, вернулся в строй, был представлен к Георгиевскому кресту и пал на поле сражения через два месяца после начала войны. Еще два человека, доказывавших существование догмата крови, умерли в годы войны, но не на поле боя, а по естественным причинам: А. С. Шмаков — в 1916, Иустин Пранайтис — в 1917 г.
После Февральской революции 1917 года судебные деятели, причастные к организации киевского процесса, предстали перед Чрезвычайной следственной комиссией, созданной Временным правительством для расследования злоупотреблений царских сановников. Одним из первых был арестован и заключен в Петропавловскую крепость бывший министр юстиции И. Г. Щегловитов, в канун революции назначенный председателем Государственного совета. Комиссия Временного правительства именовалась Чрезвычайной, отчего её иногда путают с ЧК более позднего периода. На самом деле деятельность этого следственного органа осуществлялась с соблюдением законов. И. Г. Щегловитова обвиняли во многих злоупотреблениях, в том числе в организации ритуального процесса. Чрезвычайная следственная комиссия допрашивала также Г. Г. Замысловского, А. В. Лядова, Г. Г. Чаплинского.
Напротив, юристы, чьи имена прогремели в качестве защитников Бейлиса, получили высокие посты в судебном ведомстве. А. С. Зарудный стал министром юстиции в одном из составов Временного правительства, Д. Н. Григорович-Барский — председателем киевской судебной палаты, В. А. Маклаков — послом в Париже. Были карьеры и поскромнее: бывший пристав Н. А. Красовский объявил себя социалистом и вновь возглавил киевское сыскное отделение, но теперь его должность называлась по-новому — комиссар совета объединенных общественных организаций.
В октябре 1917 г. власть перешла к большевикам. Бывшие обвинители и защитники оказались в одинаковом положении. Большевики собирались устроить показательный процесс над И. Г. Щегловитовым, известным своими правыми взглядами. Но суд так и не состоялся. И. Г. Щегловитов был перевезен в Москву и 5 сентября 1918 года расстрелян вместе с другими заложниками на Ходынском поле. Что касается Г. Г. Чаплинского, то ему повезло: накануне октября он был освобожден и уехал из Петрограда. Дальнейшая его судьба неизвестна. Впрочем, зная о хаосе периода Гражданской войны, удивляться этому не следует. Люди исчезали бесследно. Человеческая жизнь ничего не стоила: если не убивали пули, то косили болезни. Так, от тифа скончался Г. Г. Замысловский.
Государственный обвинитель на киевском процессе О. Ю. Виппер скрывался в Калуге под видом скромного советского служащего. В 1919 году он был арестован и предстал пред Московским революционным трибуналом. Обвинитель Н. В. Крыленко потребовал расстрела: «пусть же будет у нас одним Виппером меньше» (у прокурора был брат, известный историк Р. Ю. Виппер), однако трибунал проявил «милосердие» и постановил отправить подсудимого «в концентрационный лагерь… до полного укрепления в Республике коммунистического строя». Последний раз его видели в Бутырской тюрьме истощенным до состояния скелета.
В Киеве в период Гражданской войны одна власть сменяла другую: Временное правительство, Центральная Рада, большевики, опять Центральная Рада, гетман Скоропадский, Директория, большевики, белые. Впрочем, лучше Михаила Булгакова эту смутную эпоху не описать. Кто-то вынужден был скрываться, а кто-то, наоборот, оказался на виду. Так, А. Д. Марголин занял пост товарища министра иностранных дел Директории. Позже, в эмиграции, ему пришлось объясняться по поводу сотрудничества с петлюровским режимом, печально прославившимся еврейскими погромами.
Большевики несколько раз возвращались в Киев, и каждый раз отмечались массовыми репрессиями. В городе действовали несколько «чрезвычаек». Все арестованные содержались в Лукьяновской тюрьме, а для расстрела был оборудован сарайчик на Институтской улице. В марте 1919 года Киевская губернская ЧК вынесла приговор одному из активных участников ритуального расследования: «Слушали дело Виктора Эдуардовича Розмитальского — председателя Союза Михаила Архангела и сотрудника „Двуглавого орла“. Постановили — Виктора Эдуардовича Розмитальского расстрелять»[38].
Среди жертв диктатуры пролетариата была Вера Чеберяк. О её жизни после революции известно немного, хотя в 1917 году кинематографисты даже сняли немой художественный фильм в пяти частях «Вера Чеберяк, или Кровавый Навет», в котором можно было увидеть и дом на Верхне-Юрковской, и другие места, связанные с делом Бейлиса. Говорили, впрочем бездоказательно, что Вера Чеберяк, воспользовавшись революционной неразберихой, якобы попала в состав какого-то революционного комитета. Так или иначе, в 1919 г. она уже была в руках чекистов.
А. И. Солженицын писал о ее судьбе, ссылаясь на материалы Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, созданной по распоряжению А. И. Деникина: «Веру Чеберяк допрашивали все евреи-чекисты, начиная с Сорина (председателя ЧК Блувштейна). При этом комендант ЧК Фаерман «над ней издевался, срывая с ней верхнее платье и ударяя дулом револьвера… Она отвечала: «вы можете со мной делать что угодно, но я что говорила… от своих слов и сейчас не откажусь… Говорила на процессе Бейлиса я сама… меня никто не учил и не подкупал…». Её тут же расстреляли»[39]. Сторонники ритуальной версии указывают на эти бессудные расправы, как на доказательства того, что евреи, составлявшие большинство сотрудников ЧК, жестоко отомстили участникам киевского процесса. Однако В. Э. Розмитальского скорее всего заподозрили в подготовке Куреневского восстания против большевиков. Веру Чеберяк казнили, конечно, из мести за дело Бейлиса, а вот её брата Петра Сингаевского, вероятно, за уголовщину.
Красный террор был безличным. Об этом открыто писал председатель Всеукраинской ЧК латыш М. И. Лацис, который непосредственно руководил деятельностью киевских чекистов: «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс». Руководствуясь этими указаниями, чекисты хватали всех подряд, не щадя тех, кто выступал против ритуального обвинения. Например, Н. И. Суковкин в бытность свою киевским губернатором не допустил черносотенной манифестации по поводу дела Бейлиса. Когда он был арестован чекистами, тысячи киевских евреев подписали ходатайство о его освобождении. Тем не менее бывшего губернатора расстреляли.
Большинство адвокатов, защищавших Бейлиса на киевском процессе, покинули родину, не найдя общий язык с новой властью. Н. П. Карабчевский издал в Берлине мемуары «Что глаза мои видели», свидетельствующие о пересмотре прежних взглядов. Имевший репутацию либерального деятеля, он заклеймил прежних единомышленников как главных виновников развала России. В его мемуарах нашли место горькие размышления о чрезмерном влиянии евреев на русскую общественную жизнь. Он скончался в Риме в 1925 году.
О. О. Грузенберг долго жил в Риге, издавал журнал, занимался адвокатской практикой, позже переехал во Францию. Свои воспоминания он писал в Ницце, там же и умер в 1940 году. В. А. Маклаков, назначенный Временным правительством послом во Францию, в октябре 1917 года успел вручить верительные грамоты, но был сразу же уволен приказом наркома иностранных дел Л. Д. Троцкого. В 20-е годы В. А. Маклаков представлял интересы русских эмигрантов в Швейцарии. После оккупации Франции нацистами он был арестован гестапо, несколько месяцев провел в тюрьме. В. А. Маклаков приветствовал победы Красной Армии, но так и не примирился с советской властью. Почетный досточтимый мастер ложи «Северная звезда» скончался в Бадене в 1957 году. Д. Н. Григорович-Барский пережил коллегу по партии кадетов и собрата по масонству всего на один год. Он умер в Чикаго в 1958 году.
А. С. Зарудный, С. И. Бразуль-Брушковский и В. И. Фененко остались в СССР. Может показаться странным, но А. С. Зарудный, который в качестве министра юстиции Временного правительства требовал ареста В. И. Ленина и тщательного расследования изменнической работы большевиков, получал персональную пенсию от советской власти и жил в относительном достатке и почете. Следы журналиста С. И. Бразуля-Брушковского обрываются в 1937 году. С большой степенью вероятности можно предположить, что он был репрессирован. Не исключено, что ему припомнили эсеровское прошлое. Жизненный путь В. И. Фененко завершился не так драматически. Бывший следователь по важнейшим делам скончался в Киеве в 1931 году и был похоронен на Лукьяновском кладбище неподалеку от могилы Андрея Ющинского.
В настоящее время могила Андрея Ющинского выглядит совсем не так, как в советский период. Вновь появился деревянный крест с иконой, потом кто-то повесил табличку с надписью «Андрей Ющинский, умученный от жидов». Надпись вызвала скандал, её сняли. Теперь на кресте прикреплена другая надпись: «Здесь почивают мощи Св. отрока-мученика Андрея (Ющинского). Увенчан мученическим венцом на 13-м году 12/25 марта 1911 г. Святый мучениче Андрее, моли Бога о нас». На могилу положили белую плиту с вердиктом присяжных заседателей в переводе на украинский язык. Могила «местночтимого святого» Андрея Киевского стала объектом паломничества.
Примечания
1
Наиболее полная разработка ритуальной версии содержится в книге Замысловского Г. Г. Убийство Андрюши Ющинского. Пг., 1917; наиболее полное изложение версии о причастности шайки Веры Чеберяк приводится в монографии Тагера А. С. Царская Россия и дело Бейлиса, М., 1933. На английском языке была издана книга: Samuel M. Blood accusation: The Strange history of Beilis Case. London, 1967. В настоящее время появились новые публикации, продолжающие старый спор. Примером издания, в котором поддерживается ритуальная версия, является книга одного из деятелей возрожденного Союза русского народа М. В. Назарова Убиение Андрея Киевского. М., 2006. Прямо противоположную направленность имеет историко-теологическое исследование Леонида Кациса Кровавый навет и русская мысль. М., 2006.
(обратно)2
Это прежде всего мемуары самого Менделя Бейлиса (Beilis M. The story of my sufferings, 1926; более позднее издание: Scapegoat on trial. The story of Mendel Beilis, 1992), а также воспоминания его адвокатов О. О. Грузенберга, Н. П. Карабчевского, В. А. Маклакова, А. Д. Марголина.
(обратно)3
Дело Бейлиса. Стенографический отчет. Т. 1–3, Киев, 1913.
(обратно)4
В фонде департамента полиции хранятся десять томов документов, посвященных делу Ющинского (Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ), ф. 102, ОО, 1911, д. 157, т.1—10), а также ряд сопутствующих дел. Другой крупный комплекс материалов имеется в фонде министерства юстиции (ГАРФ ф.124, оп.65, д. 221–223, 227) и Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (ГАРФ, ф. 1467) Кроме того, имеется целый ряд дополнительных дел: «Об убийстве А. Ющинского» — 4-е делопроизводство, 1911, д.148; «О нападках прессы на профессора Киевского университета И. А. Сикорского» — 4-е д-во, 1912, д.156; «О беспорядках, вызванных делом Бейлиса» — 4-е д-во, 1913, д. 134; фонде
(обратно)5
Документы Киевского окружного суда хранятся в Государственном архиве Киевской области (далее ГАКО). ф.864, опись 10, д.1—15; оп. 6 д. 52, 64, 65. Возможно, сейчас архив имеет другое название, но нумерация дел вряд ли изменилась. Комплекс материалов состоит из нескольких частей: следственного производства В. И. Фененко, (ф. 864, оп. 10, д. 2–8, 14,15; доследование судебного следователя по особо важным делам при Петербургском окружном суде Н. А. Машкевича (оп. 6, д.52,64,65), а также ряда примыкающих дел: «Об оклеветании В. Чеберяк газетой «Киевская мысль» (оп.10, д. 13), «О мещанине П. Сингаевском»(оп.10, д.1), «О потомственном дворянине В.В.Шульгине»(оп. 10, д. 17) и другие.
(обратно)6
Утевский Б. С. Воспоминания юриста. М.,1989, с.220
(обратно)7
Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905–1914 гг. М., 1992, с.265 -321
(обратно)8
Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М., 1993, с.301–331. Ruud C, Stepanov S. Fontanka, 16. The tsar’s secret police, 1999.
(обратно)9
Шолом-Алейхем Кровавая шутка. Необыкновенный роман. М., 1991.
(обратно)10
Malamud B. The Fixer, 1966. Издание на русском языке: Маламуд Б. Мастер. М., 2002.
(обратно)11
Рябов Гелий Конь бледный еврея Бейлиса. М., 2000
(обратно)12
Обстоятельства покушения на Столыпина рассматриваются в моей работе: Степанов С. А. Загадки убийства Столыпина. М., 1995
(обратно)13
Кошко А. Ф. О деле Бейлиса \\ Новый журнал, Нью — Йорк, 1968, кн. 91, с. 169—171
(обратно)14
Марголин А. Украина и политика Антанты (Записки еврея и гражданина). Берлин, 1921, с. 30
(обратно)15
ГАКО, ф. 864, оп. 10, д. 6, л. 81
(обратно)16
ГАРФ, ф.1467, оп. 1 д. 494, л. 128
(обратно)17
ГАРФ, ф. 102, ОО, д. 157, т. 1, л.30
(обратно)18
Маклаков В. Спасительное предостережение. Смысл дела Бейлиса// Русская мысль, 1913, № 11, ч. 2, с. 140
(обратно)19
ГАРФ, ф. 1467, оп. 1, д. 494, л. 245
(обратно)20
Гроза, 1911, 22 июля
(обратно)21
ГАКО, Ф.864, Оп.6, Д.65, Л.133
(обратно)22
Земщина, 1911, 8 августа
(обратно)23
Современное слово, 1911, 11 августа
(обратно)24
ГАКО, ф. 864, оп. 10, д. 5, л. 60
(обратно)25
ГАКО, ф. 864, оп. 10, д. 6, л. 8—9
(обратно)26
ГАРФ, ф. 1467, оп. 1, д. 494, л. 207, 249
(обратно)27
Грузенберг О. О. Вчера. Воспоминания. Париж, 1938, с. 113—114
(обратно)28
Шмаков А. Международное тайное правительство. М., 1912, с. 20
(обратно)29
Хава-Броха Корзакова Дело Бейлиса и хасидское движение Хабад\ Лехаим, 2013, сентябрь, 9 (257)
(обратно)30
Набоков В. Мировой процесс \\ Вестник Европы, 1913, № 12, с. 358
(обратно)31
ГАКО, ф. 864, оп. 10, д. 5, л.57
(обратно)32
Beilis M. The story of my sufferings, р. 49
(обратно)33
Дело Бейлиса. Стенографический отчет, т. 2, с. 246
(обратно)34
Бехтерев В. М. Убийство Ющинского и психиатро-психологическая экспертиза. СПб., 1913, с. 30
(обратно)35
ГАРФ, ф. 102, 4-е д-во, 1913, д. 146, л. 2
(обратно)36
Речь, 1914, 10 января.
(обратно)37
ГАРФ, ф. 102, 4-е д-во, 1913, д. 146, л. 24 об
(обратно)38
Черная сотня. Историческая энциклопедия. М., 2008, С.447
(обратно)39
Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795–1995) Ч.1, С.451, М., 2001
(обратно)



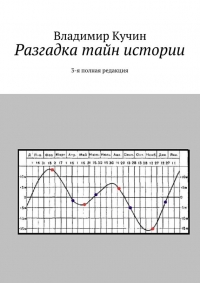

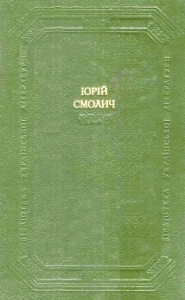
Комментарии к книге «Догмат крови», Сергей Александрович Степанов
Всего 0 комментариев