Кэти Гольке Спасая Амели
© Cathy Gohlke, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2016
* * *
Кэти Гольке – мастер смешивать в своих стремительно развивающихся сюжетах интригу, любовную линию, красоту, историю и веру… Роман «Спасая Амели» ошеломил меня. Удивительная, захватывающая, трогательная история.
Мелани Добсон, отмеченный наградой автор «Замка секретов» (Château of Secrets)
Посвящается Дэну
В тридцать вторую годовщину совместной жизни и наших приключений.
Я люблю тебя – всегда буду любить.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть
Бытие [2: 23–24]Слова благодарности
За помощь в подготовке и написании этой книги я хотела бы выразить глубокую благодарность…
Ныне покойному Дитриху Бонхёфферу, немецкому пастору-диссиденту, пророку, заговорщику и мученику, который с самого начала верно оценил извращенную идеологию нацистов и науки евгеники, который бросил вызов церковным властям, требуя, чтобы они встали на защиту людей, восстали против зла и жили по заветам Христа. Перед тем как умереть от рук нацистов, Бонхёффер написал «Шипы и тернии апостольского служения» – книгу, которая меня воодушевила.
Наташе Керн, моему литературному агенту и подруге, которая верила в эту книгу с момента рождения замысла и отстаивала ее идеалы.
Стефани Броен и Саре Мейсон, моим чудесным талантливым редакторам, и Шайне Тернер, помощнику редактора по вопросам авторских прав – за терпеливую работу и преодоление трудностей, возникавших во время написания этого романа, за помощь в воплощении на страницах книги образа Божьего, который я носила в сердце; Джули Дамлер, моему новатору-менеджеру по маркетингу; Кристи Страуд, энтузиасту, преданному человеку и специалисту по печати и рекламе; удивительно талантливому Стивену Вослу – за дизайн обложки; отличной команде специалистов из отдела PR и отдела продаж; всем, кто так усердно работал в издательстве «Тиндейл хаус паблишерс», для того чтобы дать жизнь этой книге и подарить ее читателю.
Терри Гиллеспи, дорогой подруге и коллеге – за то, что уловила дух этого романа, за помощь в исследованиях, за то, что поделилась страстью, направленной на объединение во Христе людей Божьих, евреев и неевреев. Отдельное спасибо тебе за моральную поддержку и молитвы, когда исследования деяний нацистов угнетали меня слишком сильно. За твою критику и неоднократное прочтение этой рукописи.
Керри Туранской, дорогой подруге и коллеге – за преданность, неослабевающую поддержку и молитвы, а также за критику этой рукописи.
Дэну Гольке, моему мужу – за то, что, когда я работала над книгой, частенько натягивал шоферскую кепку и ездил со мной по Англии, Франции, Германии, Польше. За критику этой рукописи. Лучшего мужа и спутника в путешествии не найти.
Элизабет Гардинер, моей дочери – за то, что ездила со мной по Берлину в поисках мест, где нацисты сжигали книги, бродила по заросшим кладбищам в Польше. Спасибо за проницательность и «мозговой штурм», за то, что одной из первых прочла эту рукопись. Мне было очень приятно разделить это литературное путешествие с тобой.
Даниэлю Гольке, моему сыну – за тщательные поиски в музеях и памятных местах в Берлине, Ораниенбурге, концлагерях на территории Германии и Франции; за все те тяжелые исследования, которые подвергают испытанию наши души, но пробуждают наш голос и рождают историческую истину среди многочисленных споров и обсуждений. Меня воодушевляло твое участие в моем литературном путешествии.
Карен и Полу Гардинерам, дорогим родным и друзьям, родителям моего зятя, Тома, за приглашение попутешествовать по Германии и заехать в Обераммергау, чтобы посмотреть «Страсти Христовы». Эта поездка еще больше скрепила нашу дружбу, начавшуюся со дня свадьбы наших детей. А теперь мы празднуем появление драгоценной внучки, родившейся в этом благословенном союзе!
Бобу Уэлшу, бывшему регенту реформатской баптистской церкви в Спрингфилде, штат Виргиния, который повез свой хор в Обераммергау, чтобы посмотреть «Страсти Христовы». Когда в крошечной Рождественской капелле в Оберндорфе ваш великолепный хор запел «Тихую ночь», от красоты этого мгновения я не смогла сдержать слезы. Откуда вам было знать, что вы исполнили заветную детскую мечту!
Бриджит Сайлиерс – за увлекательные экскурсии, организованные для верующих реформатской баптистской церкви по Южной Германии и Австрии, включая посещение представления «Страсти Христовы» в Обераммергау. Вы удивительная женщина, изумительный, терпеливый экскурсовод, сестра моя во Христе.
Моим семьям – родственникам и свойственникам, моей духовной семье из объединенной методистской церкви города Элктон, читателям, которые постоянно молятся и вдохновляют меня в этом литературном путешествии. В одиночку я бы не справилась – от всего сердца благодарю вас.
Хранителям музеев и исторических памятных мест в Англии, Франции, Германии, Польше; экскурсоводам из Лондона, Дувра, Нацвейлер-Штрутгофа, Берлина, Заксенхаузена, Равенсбрюка, Баварии и Орлиного гнезда; участникам представления «Страсти Христовы» в Обераммергау; авторам исторических книг, журналов, дневников, интервью о Второй мировой войне, Берлине и Обераммергау в эпоху правления нацистов; а также работникам Баварской государственной библиотеки в Мюнхене.
Авторам четырех самых интересных книг, которые значительным образом помогли мне в написании романа: Уильяму Л. Ширеру («Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента». Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941); Хелене Вэдди («Обераммергау в эпоху нацистов: судьба католической деревни в гитлеровской Германии». Oberammergau in the Nazi Era: The Fate of a Catholic Village in Hitler’s Germany); Эрику Метаксасу («Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего рейха». Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy) и Майклу Ван Дайку («Радикальная честность: история Дитриха Бонхёффера». Radical Integrity: The Story of Dietrich Bonhoeffer).
Очень хочется поблагодарить тех, кто пережил или помогал другим пережить холокост и продолжает рассказывать об этом, чтобы подобное никогда не повторилось. Невозможно подыскать достойные слова благодарности. Но я никогда вас не забуду. Обещаю.
И спасибо тебе, дядя Вилбур, за то, что напоминал мне: надежный способ узнать, действую ли я по воле Господа, – это спросить себя: «Приносит ли работа мне радость? Не гнетет ли бремя? Легок ли груз?»
Написание этой книги научило меня, что степень радости зависит от силы духа и следования Слову Божьему, особенно когда во время исследования начинаешь плакать.
Часть I Август 1939 года
1
Рейчел Крамер швырнула льняную салфетку поверх утренней газеты с кричащим заголовком: «Ученый из лаборатории в Колд-Спринг-Харборе вступил в сговор с Гитлером». Взглянув на отца, вошедшего в совмещенную с кухней столовую, девушка попыталась невинно улыбнуться.
– Можешь не прятать! – Его покрасневшие глаза, в которых читался мягкий укор, открыто взглянули на Рейчел. Отец устроился на своем месте во главе полированного массивного стола красного дерева. – Мне уже звонили из Института.
Рейчел посмотрела на бесстрастное лицо слуги, наливавшего ее отцу кофе, и лишь потом осторожно сказала:
– Разумеется, это неправда.
– Сговор с фюрером? Ты веришь бредням этого писаки Янга? – усмехнулся он. – Брось, Рейчел… – Отец рывком достал салфетку из кольца. – Ты же меня знаешь.
– Разумеется, папа. Но я должна понять…
– Именно поэтому нам необходимо уехать. Сама увидишь: иностранные журналисты все преувеличивают – лишь бы продать газеты в Америке, не думая о том, что своими заявлениями они ставят под угрозу международные отношения и пятнают репутацию тех, кто занимается важным делом.
Хотя Рейчел и была неопытной, как всякая девушка, недавно окончившая университет, но провести ее не удалось.
– В статье также утверждается, что Гитлер обвиняет поляков в том, будто они подрывают мир в Европе – стремятся развязать войну; словом, ищет повод, чтобы оправдать свое вторжение. Если все это правда, если Гитлер в самом деле нападет на Польшу – этому человеку нельзя доверять, отец. А если этот журналист прав, люди ему поверят…
– Люди поверят в то, во что хотят верить – в то, во что им выгодно верить. – Профессор рывком встал из-за стола, продолжая сжимать в руке треугольный тост. – Не обращай внимания на грязные газетенки. Уверен, герр Гитлер знает, что делает. С минуты на минуту подъедет машина. Ты готова?
– Отец, ни один здравомыслящий человек не поедет сейчас в Германию. Американцы бегут оттуда.
– Уверяю тебя – я в здравом уме и твердой памяти. – Профессор остановился и, что было ему совершенно несвойственно, погладил дочь по щеке. – Ты достойна самой лучшей судьбы. – Он поправил идеально накрахмаленные манжеты. – И запомни, Рейчел: следует говорить «герр Гитлер». Немцы не прощают непочтительности.
– Да, отец, но мы с тобой… мы же должны понимать…
Профессор уже пересек комнату, жестом приказал, чтобы подали пальто.
– Джеффрис, поторопи водителя. Нельзя опаздывать на самолет. Рейчел, где твои вещи?
Девушка неторопливо сложила салфетку, пытаясь унять негодование… только на время этой поездки… «Пока я не заставлю тебя понять, что это моя последняя поездка во Франкфурт… в Германию… и что наши отношения коренным образом изменятся… как только мы вернемся в Нью-Йорк».
* * *
Через два дня Рейчел уже натягивала белые летние перчатки, как будто стремясь установить некий барьер между собой и немецким городом, который когда-то был ей хорошо знаком. Прошло пять лет с тех пор, как она в последний раз ездила по широким и чистым проспектам Франкфурта. Средневековые остроконечные башни и живописная геометрическая кирпичная кладка ничуть не изменились. Но ветвистые липы, которые возвышались вдоль главной улицы и были основным ее украшением, срубили, а их место заняли стальные столбы с шестиметровыми алыми флагами, на которых была изображена черная свастика в белом кругу. «Эбонитовые пауки подохнут от зависти».
– Не стоит раздражаться. Это ненадолго. Скоро обследование закончится. Ты пропустила предыдущий сеанс, поэтому не ропщи из-за того, что этот продлится чуть дольше. – Отец, чьи волосы, казалось, редели с каждой минутой, рассеянно улыбнулся, облизал губы. – Наш поезд в семь, – пробормотал он, выглядывая в окно. – Не будем задерживаться.
Рейчел старалась унять дрожь в пальцах, положив руки на колени. Демонстративные попытки отца подбодрить ее утешения не принесли. Зачем она согласилась на это ненавистное, каждые два года повторяющееся обследование у докторов, которое она терпеть не может? Зачем вообще согласилась приехать в Германию? Нет ответа.
Ан нет… ответ есть. Рейчел громко вздохнула, взглянула на сидящего рядом изможденного, погруженного с собственные мысли мужчину – своего отца. Потому что он на этом настоял, потому что никогда раньше до этой поездки они так не ссорились, потому что он умолял ее, потом шантажировал и в конце концов просто приказал. Потому что, будучи приемной дочерью, другого отца она не знала. И потому что ее мама любила этого человека – по крайней мере, любила того, кем он был раньше… когда еще была жива. И во многом потому, что новый начальник Рейчел согласился отсрочить дату ее выхода на работу до двадцатого сентября.
Девушка откинулась в уютную прохладу роскошного кожаного сиденья, с трудом переводя дух. Рейчел решила, что на прощание подарит отцу свое время и будет принимать его таким, какой он есть, хотя дело всей его жизни уже вызывало у нее не просто вопросы, а мучительные сомнения.
От попыток излечить туберкулез, болезнь, убившую его жену, профессор свернул в другую сторону. Общественное неприятие его любимых исследований в области евгеники все росло, приобретало уродливые формы благодаря праведному гневу дотошных журналистов, возомнивших себя крестоносцами как дома, так и за границей. Рейчел с радостью отошла бы в сторону, когда ее отцу пришлось несладко.
Возможно, мир, который они с отцом заключили, поможет Рейчел смягчить сообщение о том, что ей предложили работу в «Кемпбелл-плейхаусе» – для начала скромную должность «девочки на побегушках». Однако, если ей удастся себя проявить, ее уже в ноябре могут перевести в Лос-Анджелес – еще один шаг к участию в радиопостановках. Такие новости не на шутку встревожат отца. Он презирал радиопостановки даже больше, чем ненавидел ее участие в театральном университетском кружке, где они ставили современные пьесы, – профессор считал, что преподаватели и «сверстники-актеришки» оказывают дурное влияние на мышление его дочери. Рейчел обо всем расскажет отцу, как только они вернутся в Нью-Йорк. Самой ей казалось, что этот момент еще долго не настанет.
Сперва нужно было пережить медосмотр во Франкфурте и торжественный прием в Берлине – в честь ее отца и немецких ученых, совершивших прорыв в евгенике. Прием, на котором будут присутствовать Герхард и ее подруга детства Кристина. Рейчел отмахнулась от этих мыслей, словно от мухи, которая села ей на щеку. Что подразумевала Кристина под словами: «Герхард и все, о чем невозможно написать»? Что она «ужасно боится» за свою дочь, Амели? Подруга написала Рейчел впервые за пять лет.
Рейчел не спеша закинула ногу на ногу. «Наверное, Кристина устала разыгрывать из себя милую немецкую домохозяйку. Так ей и надо за то, что предала меня!» Рейчел прикусила губу. Подобные мысли были слишком грубыми даже для такой прямолинейной особы, как она.
Черные «мерседесы» пролетели вдоль размеренно текущего Майна и наконец плавно въехали на мощеную подъездную аллею Института наследственной биологии и расовой гигиены, раскинувшегося на берегу. Дверцу распахнул водитель – в черных сапогах, с квадратной челюстью – сама немецкая деловитость в форме СС.
Рейчел глубоко вздохнула. Опираясь на предложенную руку, она вышла из машины.
* * *
Лия Гартман вцепилась в руку мужа, пока ждала в длинном стерильном коридоре. Какое счастье, что Фридриху на три дня дали увольнительную! Она и представить не могла, как поехала бы на поезде в одиночку, особенно когда внутри у нее все сжималось от страха – все сильнее с каждым городом, мимо которого они проезжали.
Сколько Лия себя помнила, каждые два года она ездила в Институт. Деньги на обследование и требование явиться присылали из самого Института, но она не понимала, кому и зачем это нужно. Знала одно: все это имеет какое-то отношение к ее маме, которая умерла во время родов в этом Институте.
В детстве поездки сюда воспринимались Лией как длинное волнующее приключение. Даже надменные, самоуверенные врачи и их пренебрежительное отношение не могли затмить радость от волшебной поездки так далеко от Обераммергау[1]. Став подростком, Лия начала стесняться докторов, которые ее обследовали, язвительные медсестры вселяли в нее ужас – поэтому она боялась противиться и не выполнять их требований. В шестнадцать Лия храбро заявила в письме, что больше не желает приезжать в Институт, что со здоровьем у нее все в полном порядке и в дальнейших обследованиях она не видит смысла. Уже на следующей неделе у дома ее бабушки завизжали тормоза присланной из Института машины. Несмотря на протесты старушки, водитель сунул ей под нос некий договор, который бабушка якобы подписала, когда ей передавали опеку над Лией, а потом увез девочку-подростка во Франкфурт… одну. Ее на целых две недели поселили в белой, выложенной плиткой палате, в замкнутом пространстве стерильного Института. Каждый час девочку будили медсестры, ежедневно обследовали врачи – тщательно и во всевозможных местах. Больше Лия противиться не решалась.
Она заерзала на стуле. Фридрих улыбнулся жене, сжал ее руку, желая подбодрить. Лия глубоко вздохнула и откинулась назад.
Теперь, когда она вышла замуж – почти восемнадцать месяцев назад – невзирая на страх перед регулярным обследованием, Лия все же надеялась, что врачи скажут ей, почему она не может забеременеть. Не было никаких видимых причин. Они с Фридрихом хотели ребенка… много детей… Очень хотели. Лия закрыла глаза и в очередной раз молча взмолилась о милосердии Господнем, о том, чтобы Он открыл ее лоно.
Муж приобнял ее, стал поглаживать по спине, пытаясь снять напряжение. У него были сильные загрубевшие руки резчика по дереву – большие и чувствительные к нюансам древесины, еще более чувствительные к ее потребностям, эмоциям, к каждому вздоху. Как же она любила своего мужа! Как скучала по нему, когда его призвали в Первую Горную дивизию – и не важно, что солдатские бараки располагались по обе стороны от их родного Обераммергау. Как она боялась, что его отправят на одну из «операций» фюрера, чтобы завоевать больше жилого пространства для Volk – народа Германии. Как боялась, что Фридрих может ее разлюбить.
Открылись двери смотровой.
– Доктор Менгеле!
Лия сразу узнала его, несмотря на то что не видела два года. Сама она ни за что не выбрала бы этого врача, хотя и не могла объяснить почему. Осмотры, вне зависимости от того, кто их проводил, проходили одинаково. Неприязнь к врачу – ее личное ощущение, а разве ей бесчисленное количество раз не говорили не доверять собственным ощущениям? На них полагаться нельзя, они вводят в заблуждение. Нельзя доверять ни чувствам, ни себе самой.
– Я могу присутствовать, герр доктор? – Фридрих встал рядом с женой.
Лия ощутила, как сила мужа просачивается в ее позвоночник.
– Во время осмотра? – Доктор Менгеле изумленно изогнул брови. – Nein[2]. – И добавил еще резче: – Ждите здесь.
– Но мы бы хотели обсудить с вами, герр доктор, чрезвычайно важный для нас вопрос, – настаивал Фридрих.
– Неужели взрослая женщина сама не сможет его задать?
Изумление доктора Менгеле переросло в презрение. Он даже не взглянул на Лию, фыркнул и пошел по коридору.
Лия еще раз посмотрела во встревоженные глаза мужа, почувствовала, как он ободряюще сжал ей руку, и поспешила за доктором Менгеле в смотровую.
* * *
Фридрих взглянул на часы. Если верить циферблату в коридоре, Лия находилась за закрытыми дверями всего сорок семь минут, но ему эти минуты показались вечностью.
Он не одобрял ее поездок во Франкфурт. Фридрих никогда не понимал, почему Институт вцепился в его жену и не отпускает. Почему она, с одной стороны, боится этого доктора, а с другой, чуть ли не заискивает перед ним. Но Фридрих женился на ней – на женщине, в которой видел то, чего она и сама в себе не видела – и в горе, и в радости, – и эти поездки в Институт, по его мнению, были частью ее жизни. Фридрих не запрещал Лии ездить сюда; она слишком боялась ослушаться врачей.
А сейчас, если начнешь противиться представителям власти, последствий не избежать – и в настоящее время, когда его часто не бывает дома, Лия не может позволить себе этих последствий. Меньше всего Фридриху хотелось, чтобы на пороге их дома возникли люди из Института, когда его не будет рядом с женой, чтобы защитить ее. Лии лучше не привлекать к себе внимания. Судя по тому немногому, что было известно о «переговорах» фюрера по поводу Польши, Фридриха с бригадой в любой момент могут перебросить на Восток. Ему вообще повезло, что дали увольнительную.
Фридрих взъерошил волосы, опять тяжело опустился на скамью без спинки, сцепил руки между коленей.
Он был простым парнем. Любил жену, Господа, Церковь, страну, свою работу, Обераммергау со всеми его странностями и одержимостью «Страстями Христовыми». Фридрих был благодарным человеком; единственное, чего ему не хватало в жизни, – это дети, которых они бы с Лией холили и лелеяли. Он не считал, что просит у Господа слишком многого для себя.
Но Фридрих сомневался, сумеет ли Лия задать доктору нужный вопрос. А вдруг она что-то упустит? Лия женщина умная и проницательная, но чем ближе они подъезжали к Франкфурту, тем больше она становилась похожа на ребенка. И этот доктор Менгеле казался таким неприступным…
Фридрих в очередной раз взглянул на часы. Ему не терпелось забрать жену из этого места, вернуться домой, в Обераммергау, – назад в прохладную долину в Альпах, туда, где все знакомо и любимо. Не хотелось только возвращаться в казармы, а хотелось поехать домой, заняться с женой любовью. И дело не в том, что Фридрих не желал служить своей стране или любил Германию меньше остальных граждан. По крайней мере, он любил ту Германию, в которой вырос. Но эта новая Германия – Германия последних семи лет, с ее сочившимися ненавистью Нюрнбергскими расовыми законами[3], согласно которым преследовали евреев, с повсеместным притеснением Церкви, ненасытной жаждой расширить жизненное пространство и привилегии для истинных арийцев – была совершенно иной. Фридрих не мог ее понять, не мог прикоснуться к ней, как прикасался к дереву.
Как всякий немец, он был исполнен надежд и горячо поддерживал Адольфа Гитлера, когда тот обещал поднять страну с колен, на которые она опустилась после Версальского договора. Фридриху хотелось чего-то большего, нежели просто коптить небо, он хотел сам быть кузнецом счастья для своей семьи. Но только не в ущерб правилам приличия и морали, не теряя человеческого облика. Не предавая Всевышнего на Небесах, сотворив себе кумира из фюрера.
Фридрих прикрыл глаза, чтобы унять тревогу за Лию и за политическую ситуацию. Он подождал, пока в его голове прояснится. Сейчас не время вести с самим собой прения о том, над чем он не властен.
Лучше он сосредоточится на сюжете «Рождества Христова» – сцены, которую Фридрих вырезáл у себя в мастерской. Он всегда мог положиться на дерево. До того как его мобилизовали, он как раз закончил вырезать последнюю отару овец. Сейчас Фридрих представлял себе тончайшие изгибы древесной шерсти и небольшое количество морилки, которое он велит использовать Лие, чтобы покрыть трещины. Да, легкий коричневый оттенок придаст древесине глубину, сделает фигурки более объемными. У его жены отменный вкус. Какое удовольствие наблюдать за тем, как она расписывает вырезанные им деревянные фигурки – их совместное произведение искусства!
Фридрих подсчитывал, сколько пигмента и оттенков краски понадобится его жене, чтобы расписать весь набор, но тут из задумчивости его вывел цокот каблучков по безукоризненному кафельному полу. Шлейф духов предвосхищал появление женщины. Фридрих открыл глаза, и ему показалось, что он очутился в каком-то ином мире. Что-то в лице этой женщины было ему до ужаса знакомо, но ее шикарный наряд он видел впервые.
Упасть – не встать! Фридриху показалось, что почва уходит у него из-под ног. Женщина тоже была среднего роста. У нее были такие же лучистые голубые глаза. Такие же золотистые волосы, но уже не заплетенные в косы и не уложенные вокруг головы, как было час назад. У этой локоны свободно свисали, извивались кольцами, струились по плечам, как будто скользили. Ногти были ярко-красного цвета – в тон губной помаде. На ногах – бежевые колготки со швом, узенькие туфельки на высоких каблуках, которые, когда женщина остановилась и полуобернулась к двери, подчеркнули изящные лодыжки и крепкие икры.
Фридрих успел заметить идеально сидящий темно-синий костюм с поясом и отделкой. Резчик вновь закрыл и открыл глаза. Женщина продолжала приближаться к нему по коридору.
Потом невысокий худощавый мужчина средних лет встал перед ней, закрывая незнакомку от взглядов.
– Entschuldingung[4], нам здесь ждать доктора Фершуэра? – спросил он.
Но Фридрих не нашелся с ответом. Он ничего не соображал. Никакого доктора Фершуэра он не знает, разве нет?
В этот момент из противоположного конца коридора к ним торопливо направилась бледная, взволнованная медсестра в халате.
– Доктор Крамер… прошу прощения, вы повернули не в тот коридор. К доктору Фершуэру сюда. – И украдкой взглянув на Фридриха, она поспешно увела мужчину с редеющими седыми волосами и юную красавицу туда, откуда они пришли.
– Лия! – прошептал Фридрих. – Лия! – уже громче позвал он.
Женщина в костюме с поясом обернулась. Он с надеждой шагнул вперед, но в глазах красавицы не было узнавания. Медсестра схватила женщину за руку и потянула ее по коридору, в открытую дверь.
Мгновение Фридрих не знал, как поступить. Может быть, стоило пойти следом? Но тут распахнулась дверь ближайшей смотровой и к нему в объятия бросилась его жена: убитая горем, с растрепанными косами.
2
Герхард Шлик достал из серебряного портсигара сигарету и поднес драгоценный табак к носу. Он умел ценить маленькие радости, которые давала служба в СС – хорошую еду, отличное вино, красивых женщин. Время от времени ему перепадал также настоящий американский табак.
Мужчина улыбнулся, закурив, с удовольствием не спеша затянулся. После сегодняшнего вечера он надеялся пополнить свои запасы по крайней мере двумя пунктами из перечисленного: табаком и женщинами. Остальному – свое время. Герхард взглянул на собственное отражение. Более чем удовлетворенный увиденным, он расправил плечи, поправил форменный китель. Потом посмотрел на часы; его губы зловеще сжались.
– Кристина! – зарычал он.
Им нельзя было опаздывать – только не сегодня. Там будут все офицеры СС, занимающие более-менее видное положение, включая Гиммлера, а также все литераторы Нацистской партии. Не будет только самого фюрера, и Герхард был уверен, что это, несомненно, какой-то хитрый пропагандистский ход, задуманный Геббельсом.
Сегодня устраивали вечер в честь тех, кому доверили разработку и укрепление германской родословной с помощью евгеники – с целью создания чистой расы, избавленной от недостатков, которые возникали в результате кровосмешения с низшими, неарийскими расами. Кампания по увеличению нордического населения Германии закончится не скоро. Совершенный план восстановления законного положения Германии в мире – по всему миру.
Герхард видел, как в рамках этого грандиозного проекта он сам поднимается по служебной лестнице. Женитьба на чрезвычайно достойной кандидатуре – приемной дочери выдающегося американского ученого доктора Рудольфа Крамера – была очередной ступенью этой лестницы. Идеальное смешение германских генов – нордические черты, физическая сила и красота, интеллект… Идеальная семья для рейха.
Герхард вновь усмехнулся. Он не против исполнить свой долг перед отечеством, особенно с Рейчел Крамер.
Он мог рассчитывать на доктора Фершуэра и доктора Менгеле. И подозревал (в особенности после сегодняшнего звонка из Института), что, используя минимальное количество аргументов, может также рассчитывать на содействие доктора Крамера в том, что касается его дочери.
Мешало одно обстоятельство. Или, точнее, два.
В этот момент в комнату вошла Кристина Шлик. Она смущенно покрутилась туда-сюда. Вечернее платье из небесно-голубого атласа, струившееся вдоль ее изящного тела, подчеркивало цвет ее глаз.
Их четырехлетняя дочь Амели радостно била в ладоши, пока мама кружилась. Кристина подхватила девочку на руки и поцеловала в щеку. Амели хлопала маму по щекам и смеялась, издавая нестройный поток звуков.
Застигнутый врасплох Герхард не сводил с Кристины глаз. Вне всякого сомнения, его жена была красавицей. Стоит отдать ей должное – она была настолько красива, что дух захватывало. И обладала покладистым нравом. Но она родила генетически неполноценного ребенка, а подобное в новой Германии не прощается.
– Что скажешь? – осторожно поинтересовалась Кристина. – Нравится?
«Вопрос, который задает женщина, точно знающая ответ, но не решающаяся в него поверить. Вопрос, который задает женщина, которая очень хочет, чтобы ей сказали, как она красива».
Но Герхард презирал мольбы, как презирал и Кристину за недопустимый проступок – рождение глухой дочери. Абстрагироваться от эмоций – одной из форм проявления слабости – стало совсем нетрудно, как только он на это решился. И Герхард абстрагировался. Шлепнул вечерними перчатками по бедру, не обращая внимания на внезапный страх, появившийся в глазах ребенка, когда мама посадила его на пол, заслонив от приближающегося отца.
– Машина ждет, – сказал Герхард. – Из-за тебя мы опаздываем.
* * *
Рейчел еще раз покрутилась перед зеркалом, которое висело в ее комнате, наклонила голову, потом повернулась в другую сторону. Она любила зеленый цвет. Но надеть зеленое на бал означало бы вызвать очередную ссору с отцом. Профессор настоял на том, чтобы дочь отдала предпочтение ярко-синему платью, которое подчеркнет бледность ее кожи, голубизну глаз и золотистый оттенок волос. Бал давали в честь доктора Крамера, в честь дела его жизни, чтобы отметить его достижения в области евгеники; он работал в США, Германии и по всему миру, поэтому заявил: крайне важно, особенно в такое неспокойное время, появиться в полном блеске во всех смыслах этого слова. Рейчел закатила глаза и молча согласилась.
Рейчел вынуждена была признать, что это платье из струящегося шелка насыщенного синего цвета, с драпировкой возле выреза, шло ей больше, чем любая другая вещь из ее гардероба. И поскольку отец сам выбирал и цвет, и фасон – даже запредельная цена его не смутила, – Рейчел решила, что платье еще не раз пригодится ей для посещения мероприятий в Нью-Йорке – можно будет сходить в нем в оперу или на премьеру в театрально-концертный зал Радио-сити.
Девушка вздернула подбородок, выпрямила спину. Ей хотелось вскружить кому-нибудь голову и покрасоваться перед Кристиной и Герхардом Шлик. Возможно, она испытывала бы иные чувства, если бы Кристина поддерживала с ней связь. Ведь больнее всего Рейчел ранил неожиданный разрыв с подругой.
Рейчел всегда знала, что Кристина хочет жить размеренной жизнью, иметь мужа, собственную семью – все то, о чем друг дружке рассказывают девочки. Почему бы нет? Кристина добрая, умная, красивая женщина, она вправе сама решать, как ей жить. В глубине души Рейчел признавала, что по ее вине подруга часто оставалась в тени.
Кристина слишком поспешно бросилась утешать уязвленную гордость Герхарда пять лет назад, когда он застыл в Нью-Йорке в гостиной Крамеров, вне себя от гнева, не веря в то, что девятнадцатилетняя Рейчел посмела ему отказать. Он и на Кристине женился, только бы ей досадить – в этом Рейчел нисколько не сомневалась. Кристина же вышла за него, потому что предложение Герхарда застало ее врасплох и ей, разумеется, захотелось блистать на далеких берегах Германии, а не прятаться в тени Рейчел.
«Если теперь она жалеет о своем выборе… что ж, какое мне дело?»
– Рейчел! – Отец постучался в ее номер. – Пора.
– Уже иду, – ответила девушка, накидывая на плечи легкий шарф и неторопливо проводя помадой по губам.
Рейчел промокнула лишнее, взяла шелковую серебристо-голубую – в тон туфель – сумочку и поспешила «на сцену».
* * *
Джейсон Янг снял шляпу перед роскошной дверью в танцевальный зал, затянул узел галстука, расправил плечи. Он поверить не мог собственной удаче. Вот уже два года Джейсон гонялся за неуловимым доктором Рудольфом Крамером из Ассоциации исследователей в области евгеники из Колд-Спринг-Харбора. Не один раз этот «сумасшедший ученый», как прозвал его сам Джейсон, мог бы дать интервью по обе стороны Атлантики, поскольку Крамер нередко наведывался в Германию. Однако ученый ни разу не перезвонил Джейсону, хотя его секретарь уверяла, что он обязательно это сделает. Но это не останавливало Янга: он умело преподносил читателю мерзость, которая кроется за исследованиями этого человека, пятнал его работу с газетных страниц – исследования профессора Джейсон считал негуманными, а в свете тайного соглашения с Германией и кампании Гитлера по стерилизации – просто преступными.
Но все эти препятствия остались в прошлом. Потому что сегодня у журналиста был пропуск на бал – законное основание наблюдать и записывать все, слово в слово, что скажет этот человек и его последователи. Если все пойдет хорошо, еще до полуночи Джейсон сможет взглянуть Крамеру в лицо. Он ни за что не упустит этот шанс прославиться.
– Берегись, Пулитцер[5], я иду! – прошептал Джейсон.
– Попридержи лошадей, сорвиголова! – Дарен Питерсон, коллега Джейсона, положил руку ему на плечо, мягко подталкивая к накрытому льняной скатертью столу, откуда отлично было видно Рудольфа Крамера и его ослепительную дочь. – Всему свое время. Пусть расслабится. Пусть насладится овациями. Потом я сделаю несколько снимков и можешь сожрать его живьем.
Джейсон нетерпеливо потер руки и облизнулся.
* * *
Рейчел решила, что с нее довольно. Почти три часа ханжеских речей о том, как улучшается чистота арийской расы, тостов, сочившихся панегириками научному сообществу за его масштабные планы избавить мир от больных и убогих. Наконец заиграла музыка и начались танцы. Рекой полилось шампанское, окончательно развязались языки.
Девушка чувствовала, как ее раздевает блуждающими глазами чуть ли не каждый присутствующий мужчина, а женщины просто испепеляли ее завистливыми взглядами. Откровенные взоры, которые бросал на нее Герхард Шлик, напомнили Рейчел сцену из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» – когда Ретт Батлер смотрел на Скарлетт О’Хара, поднимавшуюся по лестнице в усадьбе «Двенадцать дубов». Вот только она сомневалась, что намерения Герхарда, в отличие от намерений Ретта, были пристойными.
Рейчел было искренне жаль Кристину. Герхард намеренно держался от собственной жены на расстоянии, обращая на нее внимание лишь для того, чтобы сделать очередное резкое замечание. Для Кристины, пусть она и была подшофе, колкости мужа не остались незамеченными.
– Ты должна потанцевать, – прошептал на ухо Рейчел отец, отвлекая ее от наблюдения за Шликами, сидящими всего в паре метров от них на диване в форме лошадиной подковы.
Рейчел взбунтовалась:
– Не хочу я танцевать!
– Разреши тебя пригласить. – Профессор встал и, не обращая внимания на отказ, повел дочь в центр зала.
Что ж, танцевать с ним, по крайней мере, лучше, чем с офицерами СС или лебезящим доктором Менгеле. Рейчел всегда изумлялась и радовалась, когда вальсировала с отцом. В ту секунду, когда он выходил танцевать, его осанка и поведение менялись: это был уже не загруженный работой ученый со сгорбленной спиной, а светский лев. Отец поклонился, взял Рейчел за руку, и они закружились в венском вальсе. Идеальное тело, идеальное чувство ритма, умение вести партнершу. Родители Рейчел любили танцевать на балах, и несмотря на то, что сама Рейчел не умела вальсировать столь же чудесно, как ее мама, она знала: с таким партнером и она выглядит прекрасно.
Они сделали только один стремительный тур по залу, и профессор остановился: кто-то похлопал его по плечу. Крамер улыбнулся, едва заметно поклонился и отошел в сторону.
Своей очереди ожидал штурмбаннфюрер СС Герхард Шлик. От его улыбки у Рейчел мороз пробежал по коже, хотя она и постаралась это скрыть. Она позволила ему сделать еще один круг по залу. Заходя на второй, Шлик крепче прижал ее к себе.
– Сколько лет, сколько зим. Приятно снова увидеть тебя, Рейчел.
Она сглотнула и самоуверенно улыбнулась, хотя во рту у нее пересохло.
– Неужели? А как же Кристина? И твоя дочь?
Взгляд Шлика стал ледяным.
– Суди сама.
Девушка удивленно изогнула брови.
Он вздохнул.
– Брось притворяться! Наверняка и раньше были какие-то признаки. Ты должна была мне сказать, предупредить меня. Я-то полагал, что мы, по крайней мере, друзья.
– Понятия не имею, о чем ты.
– Твоя подруга… – Шлик колебался, подыскивая слова, – генетически нездорова. Она… я бы употребил такое заумное выражение – «эмоционально нестабильна».
– Более сдержанной девушки, чем Кристина, я не знаю.
– Я тоже так думал, когда согласился на ней жениться. Но как я уже сказал: суди сама.
– Что ты с ней сделал?
Герхард выглядел уязвленным: ему нанесли ужасное оскорбление.
– Вы обидели меня, фрейлейн! Вы ко мне несправедливы.
– Сомневаюсь.
– Вот не везет, как всегда! – Он улыбнулся. – Ты такая же красивая, как в тот день, когда я впервые тебя увидел. – Герхард прижал ее еще крепче.
– Вы женаты, герр Шлик! – Рейчел отпрянула от него.
В ответ офицер негромко фыркнул.
– Твоя правда, это моя ошибка. – Он поклонился, но удержал руку девушки и поцеловал ее. – Мне следовало дождаться тебя. Не важно, сколько бы ушло на это времени.
Рейчел повернулась, чтобы уйти, но Шлик все не отпускал ее руку.
– Насколько я понимаю, вы пробудете в Берлине несколько недель, фрейлейн Крамер.
Она промолчала.
– С нетерпением жду наших дальнейших… и частых встреч.
– Это вряд ли. – Рейчел отстранилась от него, испытывая скорее отвращение, чем страх.
Она чувствовала, что Герхард провожает ее взглядом. Ее отца рядом не оказалось – он стоял в окружении врачей в паре метров от Рейчел, всецело поглощенный беседой. Кристина уже ушла.
Резкие выпады Рейчел в адрес Кристины – «следовало-думать-раньше» – испарились. Не важно, что подтолкнуло ее подругу к такой глупости, как поспешный брак, но она не заслужила такого мужа, как Герхард Шлик.
Рейчел забрала лежавшую на столе сумочку и устремилась в дамскую комнату, искренне надеясь, что Герхард не потащится следом за ней.
3
Несмотря на то что Джейсон Янг все время старался быть рядом с доктором Крамером, изобретая для этого вполне правдоподобные предлоги, журналисту так и не удалось остаться с ним наедине.
– Гиммлер его подавляет, а рядом с Фершуэром он кажется просто карликом.
– Крамер – бледная рыбка в мутной воде, – согласился Питерсон. – Он теряется на фоне офицеров СС и харизматичного Менгеле.
– А кто бы не потерялся? Я уже думаю, что нам всем следует обуть высокие сапоги и носить кнуты.
– И что теперь? – проворчал Питерсон, облизывая основание лампы-вспышки.
– Они не хотят, чтобы Крамер общался с прессой наедине. Придется отвести его в сторонку. – И Джейсон стал незаметно продвигаться к тесному кружку офицеров и врачей.
– Будешь расталкивать эту толпу локтями – и глазом не успеешь моргнуть, как окажешься на каторжных работах, – прошептал Питерсон. – Отличная возможность лично познакомиться и подружиться с немецкими пасторами и католическими священниками, которых отправили в концентрационные лагеря и которых ты так любишь защищать. – Он вкрутил лампочку в камеру и прямо в лицо улыбнулся особенно грозному на вид офицеру СС с моноклем.
Джейсон убрал с глаз прядь волос песочного цвета.
– Принято считать, что мы об этом не знаем.
– Верно, – хмыкнул Питерсон. – Как не знает и половина Германии.
– Я не беру интервью в тюрьмах… там ужасный запах.
– Он еще пытается шутить!
Джейсон начал обходить небольшую группку и, пытаясь вмешаться в беседу, заговаривал то с одним, то с другим. Тщетно. Создавалось впечатление, будто собравшиеся намеренно изолируют американского ученого.
Если бы Джейсон не знал, что профессор свободно изъясняется по-немецки, он мог бы заподозрить, что Крамер не понимает, о чем говорят окружающие – ни те, кто выступал с трибуны, ни те, кто стоял рядом с ним. Высказывания должны были показаться чересчур радикальными даже такому фанатику евгеники, как Крамер. Он совершенно не походил на высокомерного, поглощенного своим делом ученого, которого Джейсон преследовал в Нью-Йорке. «Что же изменилось?»
Питерсон толкнул коллегу локтем.
– Ты тут не единственный стервятник. – Он кивнул в сторону дочери Крамера, которая, казалось, безуспешно пыталась привлечь внимание отца. – Почему бы не попробовать пробраться окружным путем?
Рейчел Крамер не входила в круг интересов Джейсона. Он сомневался, что ей что-либо известно об исследованиях отца или об альянсе между Ассоциацией исследователей в области евгеники и Третьим рейхом. Еще в Нью-Йорке журналист проверил девушку на причастность к делам доктора Крамера, но убедился, что она увлечена исключительно современным театром. Теперь Джейсон вновь окинул девушку оценивающим взглядом с головы до ног – ничего личного, только работа. Потом еще раз посмотрел на нее – истинное удовольствие для глаз. Она могла бы стать обходным мостиком к великому ученому.
У Джейсона перехватило горло. И он прекрасно понимал, что это было вполне объяснимо. Нельзя отвлекаться. Красивые женщины часто кружат головы. И тем не менее попытаться стоило. Он шагнул ближе и только было открыл рот…
– Рейчел! – Между ними протиснулся эсэсовец, увлекая девушку подальше от группы ученых и военных. – Нам нужно поговорить.
Но она ответила по-немецки:
– Я не желаю с тобой разговаривать. Не трогай меня!
– Дорогая, пожалуйста, не устраивай сцен. Подумай об отце. – Эсэсовец наклонился ближе, приобнял девушку, но она начала вырываться.
– Снимаем. – Джейсон толкнул локтем Питерсона, убрал в карман записную книжку и карандаш, взял с ближайшего стола бокал с шампанским и налетел на эсэсовца. – Entschuldigung[6], герр штумбаннфюрер. Виноват.
– Идиот! – взорвался офицер, отпуская Рейчел.
– Вы совершенно правы; я неуклюжий болван. Прошу вас… – Джейсон схватил льняную салфетку и стал промокать рукав эсэсовца. – Позвольте все исправить.
– Убирайся, Dummkopf![7]
– Спокойнее, спокойнее. – Питерсон протиснулся между двумя мужчинами и увел эсэсовца в сторону. – Ни к чему выходить из себя и обострять международные отношения. Это была всего лишь оплошность. Можно я сфотографирую вас для газет? Как вас зовут?
В это время Джейсон мягко ухватил Рейчел за локоть.
– Не желаете ли потанцевать, мисс Крамер? Пусть тоскующему по дому американцу будет что вспомнить о Берлине.
Рейчел, явно испытывая облегчение, прошла на середину зала.
– Спасибо вам. Это было…
– Неловко, – закончил за нее Джейсон.
Он взял Рейчел за руку, дважды покружил ее, потом притянул к себе, как того требовал фокстрот.
– Девушка в отчаянии от противного нациста и всего, что происходит вокруг.
Рейчел засмеялась, немного отступая назад.
– Именно так! И кто этот благородный янки, которому я обязана своим спасением?
– Сэр Джейсон к вашим услугам. – Журналист театрально поклонился.
Она в ответ сделала реверанс и тепло улыбнулась. Джейсон почувствовал, как в его жилах забурлила кровь.
– Ну-с, сэр Джейсон, что же привело вас в Берлин? Не похоже, что здесь в разгаре туристический сезон, вы согласны?
– Едва ли. – Журналист развернулся в пол-оборота, чтобы краем глаза видеть Питерсона и эсэсовца. – Первый большой бал за время правления нового режима.
– Вы иностранный корреспондент?
Джейсон засмеялся, когда почувствовал, как она напряглась.
– Ваши бы слова да в уши моему главному редактору! Скажу по секрету… – Он вновь покружил Рейчел. – Я догадываюсь, он ставит десять к одному, что еще до Нового года меня уложат лицом в землю, а гестапо пинками выгонит из страны, и вы не успеете и глазом моргнуть, как я вернусь в Нью-Йорк.
– Все настолько плохо?
Джейсон скорчил гримасу.
– Вы всегда говорите только то, что думаете?
Теперь настал ее черед смеяться.
– Надеюсь. Я лишена журналистского таланта льстить.
– Вы слишком высокого мнения обо мне. – Он заставил ее наклониться, проделывая очередное па.
– А вы ловкий танцор!
– Не такой степенный и серьезный, как ваш эсэсовец? – Джейсон усмехнулся, хотя и заметил мельком, что офицер испепеляет его взглядом из противоположного угла зала.
Рейчел вздрогнула – достаточно сильно, чтобы он это почувствовал.
– Кто этот негодяй, из-за которого вы так трепещете?
– Муж одной моей старинной подруги, которая ведет себя довольно странно.
– Ясно. Хотите, чтобы я увел вас отсюда?
– Нет-нет. Разумеется, нет. Благодарю вас. Я тут с отцом. – Она кивком указала на группу людей у дальней стены.
– Насколько я понимаю, ваш отец не один из военных.
– Нет. Он американский ученый, доктор Крамер. – Рейчел едва заметно вздернула подбородок, но взгляд отвела.
Джейсон успел заметить, как в ее глазах вспыхнули гордость и неуверенность.
– Ага… участник совместной программы в области евгеники, которую курирует Гиммлер.
– Я почти уверена, что герр Гиммлер излишне подчеркивает вклад американцев.
– Не стоит скромничать. Сейчас в Германии стремятся достичь блестящих результатов в выведении нордической расы. Стерилизация сомнительных семейств. Ликвидация нежелательных элементов. – Джейсон еще раз покружил девушку. – Что вы на это скажете?
Она выглядела захваченной врасплох, и он понял, что теряет ее.
– А что думает ваш отец? Намерены ли США ускорить внедрение своей программы… чтобы не отставать от фюрера?
От улыбки Рейчел не осталось и следа; девушка отстранилась.
– Я не говорю о политике, мистер… мистер Джейсон.
Он поднял руки в знак того, что сдается.
– Примите мои извинения, мисс Крамер. Я не хотел вас обидеть. Просто этот бал устроили в честь совместных исследований, которые проводят США и Германия. Я решил, что вы их одобряете или, по крайней мере, ваш отец их поддерживает. – Джейсон приблизился к девушке, протянул руку, изобразив на лице раскаяние. – Я буду хорошо себя вести. Обещаю.
Она вложила в его руку свою ладонь.
Джейсон не мог поверить в удачу.
– Давайте поговорим на какую-нибудь отвлеченную тему. Чем вы намерены заняться в Германии? Вам не нужен гид?
– Я с детства регулярно приезжаю в Германию. Что вы можете мне показать?
– Все, что пожелаете. Только скажите. – Он улыбнулся. – Я стану самым лучшим туристическим гидом, которого только можно найти в Германии, а если понадобится, готов подкупить всех извозчиков и водителей в Германии.
В конце концов Рейчел улыбнулась. Джейсон вновь закружил ее, радуясь тому, что девушка на него больше не сердится.
– Откровенно говоря, сэр Джейсон, я, наверное, знаю Берлин лучше вас. Возможно, я сама бы могла устроить для вас экскурсию.
– Вот это другое дело!
– Только перестаньте меня кружить… иначе у меня закружится голова и я не смогу сделать ни шагу!
Оба рассмеялись. Музыка стихла.
– Хотите пить?
– Я думала, вы уже никогда мне этого не предложите.
Не успели они взять бокалы с шампанским с подноса официанта, как вмешался Питерсон.
– Янг, я поехал. Нужно проявить фотографии. До завтра. – Он кивнул Рейчел. – Мисс Крамер.
Но когда Джейсон повернулся к Рейчел, та, стиснув зубы, холодно смотрела на него.
– Янг? Ваша фамилия Янг? Джейсон Янг?
Джейсон сглотнул, отчетливо понимая, что за этим последует.
– Вы тот самый наемный писака, который возомнил себя рыцарем и поэтому жаждет растоптать моего отца?
– Эй-эй, я никого не хотел топтать!
– Вы знали, как меня зовут. Знали, кто я. Именно поэтому пригласили меня танцевать… Вам нужна сенсация.
– Я не спасаю женщин ради того, чтобы заполучить сенсацию. Я не звал этого эсэсовца. Было заметно, что вам нужна помощь.
Но ее проницательного взгляда он выдержать не смог.
– Вы намеренно преследуете моего отца, чтобы раньше времени свести его в могилу.
– Преследую? – Такого обвинения Джейсон вынести не смог. – А вам известно, чем занимаются нацисты на основании результатов его исследований и опытов его коллег из Германии? Вы слышали, о чем они говорили сегодня вечером?
Рейчел повернулась, чтобы уйти, но Джейсон не отставал от нее.
– Если ваш отец невиновен, если в его работе есть и положительная сторона, тогда помогите мне написать об этом. Убедите его поговорить со мной. Я буду объективен… честно.
– Честно? – Рейчел едва ли не фыркнула журналисту в лицо, смерив его уничижительным взглядом, словно перед ней была кучка навоза. – Вы уже проявили свою честность, мистер Янг. Полагаю, что ни Америка, ни Германия больше не в силах ее вынести.
Джейсон резко остановился, как будто земля уходила у него из-под ног.
– Послушайте, я не выдумываю новостей! – крикнул он вслед Рейчел. – Этим занимаются такие люди, как ваш отец! Я их просто записываю.
* * *
Пронзительная боль все никак не проходила. Даже свет фар едущих навстречу машин заставлял Рейчел морщиться. Но у ее отца настроение было приподнятым.
– Если хочешь знать мое мнение, праздник удался! – Он говорил так, как будто ожидал ответа, но Рейчел предпочла промолчать.
Она закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья «мерседеса».
– Должен сказать, что герр Гиммлер выступил гораздо убедительнее, чем смог бы это сделать я. Германия на правильном пути. Они пошли дальше нас, американцев. Мы многого достигнем благодаря их исследованиям.
Рейчел отвернулась, не зная, отчего ей так паршиво: то ли оттого, что болит голова, то ли оттого, что ее отец не видит реального положения вещей.
– Во вторник мы отправляемся на конференцию. Я еду в Гамбург с майором Шликом и доктором Фершуэром; потом мы поплывем в Шотландию. После конференции намечен съезд. Я не хочу оставлять тебя одну на целых две недели.
– Я предпочитаю остаться здесь. Пока мы в Берлине, хочу походить по магазинам, узнать, какой репертуар предлагают местные театры. – Рейчел изо всех сил сдерживала волнение. – Не думала, что Герхард принимает участие в конференции по евгенике.
– Ему это интересно. К нему благоволит доктор Фершуэр. С Герхардом стóит поддерживать знакомство… Это восходящая звезда СС.
Даже в темноте Рейчел чувствовала на себе отцовский взгляд. К ее горлу подступила тошнота, когда профессор назвал Герхарда Шлика одним из выдающихся людей Германии.
– Эта поездка позволит вам лучше узнать друг друга.
– У меня нет ни малейшего желания узнавать Шлика. Сегодня вечером он вел себя отвратительно… и по отношению ко мне, и по отношению к своей жене.
– Думаю, что их брак долго не продлится.
– Откуда такие предположения?
Профессор отвернулся, посмотрел в окно.
– Ты же сама видела, какие между ними отношения. – Секунду он колебался. – Ты разговаривала с Кристиной?
– Нет. – Рейчел чувствовала, как растет ее возмущение. – Хотела поговорить, но во время выступлений мы сидели довольно далеко друг от друга, а к концу ужина Герхард совершенно ее запугал.
– Она напилась.
– И я понимаю почему! Ее муж ужасно к ней относится.
– Ты же не знаешь, с чем ему приходится сталкиваться. Не стоит судить поспешно.
– Поспешно?
– Этот брак с самого начала был обречен на неудачу. Ты была бы ему гораздо лучшей женой. Ты… поторопилась с отказом.
Рейчел ушам своим не верила. Должно быть, отец слишком много выпил.
– А как же их дочь? Сейчас Амели уже… года четыре?
Но в ответ на упоминание об Амели профессор только махнул рукой. Рейчел и сама с радостью прекратила этот разговор. Возможно, к утру ее отец образумится.
* * *
Когда Рейчел проснулась, она обнаружила просунутую под дверь записку. Отец рано уехал на деловой завтрак с коллегами. Он извинялся за то, что оставил ее одну, но обещал, что вечер они проведут вместе. Их пригласили на ужин американский посол с женой. Рейчел поняла, что это приказ.
Она открыла балконную дверь, наслаждаясь утренним солнышком, радуясь тому, что ей не придется целый день провести с отцом и его друзьями. Вместо того чтобы заказать завтрак в номер, Рейчел решила отправиться на разведку: найти где-нибудь летнее кафе, где подают крепкий суррогатный немецкий кофе и вкусные булочки.
Девушка уже выходила из номера, когда вспомнила о ключе. Она порылась в сумочке, достала расческу и губную помаду, компакт-пудру, паспорт – ключа от номера не было. Рейчел высыпала все из сумочки. Ключа не было. Девушка прощупала подкладку – да, ключ был под ней. Рейчел поднесла сумочку к окну и открыла ее. На свету она увидела дырку в подкладке – раньше, девушка знала точно, ее там не было. Рейчел просунула туда палец, нащупала заблудившийся ключ… и что-то еще.
Она попыталась ухватиться за бумажку, но и ключ, и бумажка выскальзывали. Рейчел достала маникюрные ножнички и немного расширила дыру. Из-за подкладки выпал ключ и скрученный свиток. Рейчел тут же узнала быстрый неровный почерк Кристины.
4
Фридрих вертел в руках брусок липы – то в одну, то в другую сторону. Лучший кусок древесины, который у него был, с тончайшими волокнами. Фридрих оставил его на потом. Сперва он задумал вырезать второстепенные рождественские фигурки: волхвов и пастухов, овец и ослов, даже архангела, потом с удовольствием вырежет Святое семейство, и, наконец, черед дойдет до младенца Иисуса. Работу над этой фигуркой Фридрих отложил напоследок. Теперь он знал в этом дереве каждое волоконце и живо представлял себе характеры членов Святого семейства. Ибо несомненно, что каждый из них был личностью уникальной.
С тех пор как Фридрих женился на Лии, на лице Девы Марии он всегда вырезал нежную, любящую, немного озабоченную улыбку жены. Иосифа он наделял собственными чертами защитника очага. А младенец – младенец олицетворял ребенка, на появление которого они так надеялись, о котором так молились. Идеальный ребенок, который днем будет сосать грудь и агукать, которому на ночь Лия будет петь колыбельные. За минувший год Фридрих вырезал их с десяток, и каждой фигуркой мог гордиться.
Он положил брусок на рабочий стол, встал. Подошел к окну своей небольшой мастерской, взглянул на залитую солнцем гору. Ирония судьбы: никакого младенца не будет. У них с Лией никогда не будет детей. Какую надежду, какую радость он мог теперь вырезать на лицах Святого семейства?
С тех пор как Фридрих привез жену домой, у Лии был тот же потухший взгляд, скорбно сжатые губы – а прошла уже неделя. И просвета не было.
«За что, Господи? Почему Лия?» Врач, этот неприятный доктор Менгеле, сказал ей, что она никогда не сможет зачать, что ее стерилизовали тем летом, когда ей исполнилось шестнадцать – тем летом, когда она проявила своеволие.
– Ты пошла в мать, – пояснил ей тогда врач. – Этот наглый отказ признавать авторитеты – дурная черта, присущая многим в Германии, именно она подвергает риску наше отечество. Мы должны ее искоренить.
Лия не понимала, даже отважилась умолять, чтобы врач все вернул, как было, ссылаясь на свой брак со старшим по возрасту, уравновешенным Фридрихом. Говорила о том, что он уже давно работает резчиком по дереву, о том, как они поддерживают благотворительный фонд, упомянула о службе мужа на благо отечества, объясняла, как сильно они хотят воспитать детей во имя Всевышнего и на благо Германии. Доктор Менгеле только рассмеялся ее наивности и ответил, что подобную тупость следует искоренить в новой Германии, и чем скорее, тем лучше. Ее слова лишь подтверждают правильность принятого решения. Обратный процесс невозможен. И он удивлен, что такой мужчина, как Фридрих, вообще на ней женился.
Фридрих ударил себя по ладони кулаком – так сильно он злился на этого жестокого, бесчувственного врача. В Институте Лия была не в силах говорить. Она вылетела из здания, Фридрих помчался за ней, еще не понимая, что же произошло. Он с ума сходил от беспокойства, но поспешил отвезти жену домой. А когда они приехали – тут она не выдержала. От ее рыданий внутри у Фридриха все переворачивалось.
Даже сейчас он сомневался, что она все ему рассказала.
Неделю спустя Фридриху дали увольнительную, но Лия осталась безучастной. Она сидела и смотрела в окно. Он помахал рукой у нее перед лицом, а она даже не заметила этого. Ему казалось, что, если бы она опять расплакалась, ей стало бы легче. Но слез не было. По крайней мере, Лия не плакала, когда он находился рядом. Фридрих молился, чтобы с бабушкой она вела себя иначе. С бабушкой Лия точно расслабится, и на душе у нее станет легче.
Военную часть Фридриха скоро отправляют на фронт. Он сказал командиру, что у него заболела жена, и умолял отпустить его повидать ее в последний раз. Когда речь шла о Лии, Фридрих забывал о гордости. Но его жена даже глазом не моргнула. Когда он целовал ее на прощанье, она прильнула к его груди, потом отстранилась, всей своей позой, опущенными плечами выражая смирение.
Фридрих вздохнул, положил брусок на верхнюю полку, прибрал на верстаке. Он всегда и везде наводил порядок. Однако порядок его уже не радовал.
Он как раз закрывал двери мастерской, когда заметил, что в скульптурной группе, изображавшей Рождество Христово, которая была выставлена в витрине мастерской, не хватало младенца Иисуса.
Это сделал Генрих Гельфман – все всякого сомнения. За минувший месяц этот шестилетний сорванец дважды утаскивал фигурку. Фридрих нахмурился. Дверь в мастерскую всегда заперта. Как мальчишка мог войти? Мужчина осмотрел дверь. Никаких следов проникновения. «Что движет этим ребенком? Он наверняка знает, что если не я, то родители и священник обязательно накажут его за воровство!»
Будь у Фридриха время, он бы вырезал младенца Иисуса мальчишке на память, но пропавшая фигурка была слишком ценной, чтобы смириться с кражей, к тому же она являлась частью композиции – композиции, которую он вырезал, когда они с Лией больше чем когда-либо надеялись на чудо.
Но даже несмотря на это у Фридриха не хватило духу заглянуть к Генриху домой. Мужчина написал Лии записку с просьбой при случае уладить этот вопрос с ребенком или его родителями. Возможно, у нее появится занятие. Если же нет – в конце концов, это просто дерево.
* * *
Хильда Брайшнер, бабушка Лии, которая с самого рождения внучки прогоняла поцелуями все ее обиды и печали, в этой беде помочь не могла. Лия ничего ей не рассказывала, пока часть Фридриха не перебросили на новое место дислокации.
– А ты сказала этому врачу, что твою мать изнасиловали? Что она не виновата в том, что забеременела?
– Он сам все прекрасно знает! – Лия рыдала в объятьях пожилой женщины. – Он ответил, что, наверное, она своим видом провоцировала мужчин. Наверняка она сама этого захотела.
– Неправда!
Бабушку трясло от негодования. Но эмоциями делу не поможешь, да и дочь ее давным-давно умерла и постоять за себя не сможет.
– Он сказал, что стерилизация – процесс необратимый. Что он, даже если бы захотел, ничего не смог бы сделать. Сказал, что с такой родословной нам никогда не позволят усыновить ребенка, не разрешат опекать ни одного малыша. И добавил, что мне, как и моей матери, доверять нельзя.
Лия рыдала с такой безысходностью, что бабушка начала побаиваться за ее рассудок. Она прижала голову внучки к груди и раскачивалась вперед-назад, вперед-назад, пока Лия не отстранилась и не выбежала из дома, оставив бабушку плакать в одиночестве.
* * *
Лия побежала не домой. Обнаружив, что двери лютеранской церкви заперты, она тайком прокралась в церковь Святых Петра и Павла. Теперь, когда сердце ее было разбито, слез нельзя было остановить. Лия отчаянно нуждалась в утешении. В утешении и милосердии – и не имеет значения, что она не могла открыться ни одной живой душе.
Она проскользнула в заднюю дверь богато украшенного храма. Понятия не имея, как ее примут, не зная, как себя вести – преклонить колена или перекреститься, – потрясенная видом золота и резного орнамента, Лия кралась по проходу. Она дошла почти до середины. Скользнула между церковными лавками, упала на колени, разрыдалась, стала молиться, просить прощения, сама не зная за что. Был в ней какой-то тайный стыд, что-то грязное, отвратительное, что бросалось в глаза окружающим – по крайней мере, все доктора во Франкфурте обвиняли ее в этом с рождения. Что-то, что делало ее недостойной, лишало шанса на нормальную жизнь. Лия никогда ничего не рассказывала бабушке, даже не намекала на те ужасные вещи, которые ей говорили во время каждого визита – до сегодняшнего дня. Если бабушка узнáет то, что знали они, увидит то, что видят они, неужели она тоже ее возненавидит? Лия этого не вынесет.
Лия не услышала, как рядом с ней оказался курат[8]. Она лишь заметила, что освещение в церкви изменилось.
Пораженная тем, что сидит одна в темном помещении, рядом с этим священником-католиком, да еще заплаканная и сломленная, Лия, сгорая от стыда, попыталась встать. Но ноги не слушались ее, колени подгибались, и она вновь опустилась на скамью.
– Фрау Гартман. – Курат говорил мягким голосом. – Bitte[9], сидите. Вы выпили?
– Nein, курат Бауэр! – Она почти кричала. – Прошу прощения. Простите меня. Пожалуйста, простите меня! Пока я молилась, у меня затекли ноги. Вот и все.
– Не стоит извиняться, дитя. Вы всегда можете приходить сюда помолиться.
Лия оказалась беззащитной перед его добротой, и ее губы задрожали. Она попыталась сдержаться, но горе и стыд оказались сильнее – Лия опять разрыдалась.
Курат протянул ей платок.
– Чем я могу помочь?
– Вы подумаете, что я сошла с ума. – Она вытерла слезы, пытаясь отдышаться.
– Вы не первая женщина, которая ищет утешения в церкви… Слава Богу. Особенно в нынешней ситуации.
Лия глубоко вздохнула, изо всех сил стараясь взять себя в руки.
– Герр Гартман исполняет свой военный долг, – заметил курат. – Должно быть, вам сейчас непросто?
Лия покачала головой.
– Я бы ни за что не хотела, чтобы муж увидел меня такой.
– Чем я могу помочь вам, фрау Гартман? – повторил курат свой вопрос.
– Тут уже ничем не поможешь.
– Всегда есть выход.
Лия сдавленно засмеялась.
– Только не в этот раз.
– Вы должны верить, фрау Гарт…
– Вера, – фыркнула она, – нам не поможет.
– Фрау Гартман! – предостерегающе воскликнул он.
– У нас не может быть детей! – выплеснула Лия свою боль.
А потом, испугавшись собственной несдержанности, чувствуя унижение от своего признания, зажала рукой рот и встала, чтобы уйти.
– Откуда вам это знать? Вы замужем всего год. – Курат пожал плечами. – Наверное, Бог еще даст вам ребенка.
– Прошло уже полтора года!
– Пусть полтора. Господь творит чудеса. Вспомните о Сарре, жене Авраама… Ей было девяносто! И Господь открыл лоно Анне, матери пророка Самуила!
Сломленная большим горем, в запале гнева, Лия призналась, почему подобные чудеса не для нее. Она поведала курату все, о чем узнала от доктора Менгеле во Франкфурте, испытывая даже некое извращенное удовольствие от ужаса в округлившихся глазах священника. Лия сказала ему, что ее стерилизовали, признав ущербной и нечестивой, – и эта греховность настолько омерзительна, что даже она сама ее не замечает. Она поселилась у Лии в душе. А когда женщина выплюнула свои самые ядовитые слова – в свой адрес и в адрес врачей, которые возомнили себя богами, – она даже осмелилась сказать курату, что теперь он может донести на нее в гестапо. Она ловила воздух ртом, задыхалась. В церкви сгустились сумерки, когда Лия наконец-то смогла дышать нормально, когда воцарилась тишина. Но курат Бауэр продолжал молчать.
Лия наконец встала, вздохнула с облегчением, однако стыдясь того, что открыла свой секрет чужому мужчине. Она понимала, что курат, должно быть, смущен, напуган ее истерикой и настолько поражен ее неприличным поведением, что не может говорить. Ей было плевать. Что-то в ней изменилось. Она больше не будет трусихой.
Когда дрожащая рука курата опустилась ей на голову, Лия вскочила со скамьи и кинулась по проходу прочь из церкви. Женщина широко распахнула входную дверь. От альпийского ветра у нее захватило дух, и этот ветер понес ее домой.
5
Рейчел вздохнула с облегчением – радуясь передышке, – когда ближе к обеду, три дня спустя после бала, доктора Фершуэр и Менгеле вместе с ее отцом и Герхардом Шликом отправились на Седьмой Международный конгресс по вопросам генетики, проходивший в Эдинбурге, в Шотландии. Уехали они на две недели: семь дней проведут в Шотландии, а потом состоятся очередные встречи с врачами во Франкфурте.
Через два дня Рейчел вопреки здравому смыслу, но движимая неутолимым любопытством последовала указаниям Кристины, которые та торопливо нацарапала на бумаге и спрятала за подкладку ее сумочки. Назначенное место оказалось маленьким кафе – старомодным изолированным заведением на открытом воздухе, рядом с Тиргартеном[10].
Женщина, которая ждала ее за столиком на двоих, мало чем походила на школьницу, с которой Рейчел выросла, равно как и на выпившую, запуганную даму в голубом атласном платье, которую она встретила на балу. Эта женщина – Рейчел нахмурилась – была для нее загадкой.
Кристина подняла взгляд. Рейчел пожалела, что ей не хватило времени на то, чтобы как следует рассмотреть свою закадычную, пусть и бывшую, подругу.
Но Кристина улыбнулась, как будто и не было нескольких лет, что миновали с тех пор, как они, учась в старших классах, оставались друг у друга ночевать.
– Ты пришла! Я знала, что ты придешь! – И она едва не задушила Рейчел в объятиях, как в те давно забытые школьные времена.
Рейчел была обескуражена.
– Кристина! – Она обняла подругу, но объятия вышли неловкими.
Кристина усадила ее на стул напротив.
– Столько лет прошло…
– Пять, – с упреком уточнила Рейчел.
Кристина недоуменно уставилась на подругу, зарделась, но затем поспешно добавила:
– Прости. Прости, что я тебя обидела.
На глазах у Рейчел невольно выступили слезы. «Ты действительно меня обидела. Ты очень сильно меня ранила. А теперь…»
– Чего ты хочешь, Кристина? К чему вся эта таинственность?
Кристина откинулась на спинку стула, сняла перчатки, облизала губы.
– Я хочу, чтобы ты забрала Амели. Хочу, чтобы ты увезла ее в Америку.
Рейчел ожидала чего угодно, только не этого.
– Амели? А тебе не кажется, что она еще слишком мала для подобного путешествия туда и обратно?
– Увези ее и воспитай как собственную дочь. – Теперь уже на глаза Кристины навернулись слезы, но она не стала их смахивать.
Рейчел мысленно возвратилась к загадочному письму Кристины, к ее написанной тайком записке, к обвинениям Герхарда. Она пыталась сложить два и два, приправляя свои размышления критическим отношением доктора Крамера к их браку и ребенку, но у нее все равно пока что ничего не выходило.
– Ты уходишь от Герхарда?
Это было единственное, что приходило в голову Рейчел, – и единственное сколько-нибудь разумное объяснение.
Но Кристина хрипло засмеялась.
– Я бы ушла не задумываясь! – Она посерьезнела. – Амели глухая.
– И что?
– Ты хоть понимаешь, что значит быть глухим в современной Германии?
Рейчел покачала головой – не только для того, чтобы разогнать туман, который окутывал все вокруг, но и чтобы показать, что она не знала: она понятия не имела о том, что Амели глухая, понятия не имела о том, каково быть глухим в современной Германии, поэтому просьба Кристины не укладывалась у нее в голове.
– Ты слышала выступавших на вечере? Поняла, что они говорят? – Кристина подалась вперед, понизив голос. – Они собираются избавить Германию от генетически несовершенных мужчин, женщин и детей. И не важно, физические эти недостатки, психические или умственные. Для блага отечества искоренят всех. А это означает – и Амели.
– Что ты имеешь в виду под словом «избавить»?
Кристина ухватила Рейчел за руку, вцепившись сильнее, чем Рейчел могла бы ожидать.
– Они их убьют… убьют их!
Рейчел припомнила слова Герхарда. «Эмоционально нестабильная». Девушка попыталась сосредоточиться, понять, о чем говорит Кристина… что она имеет в виду. Просто потому, что Рейчел терпеть не могла Герхарда, она хотела верить словам подруги. Но тем не менее покачала головой.
– Они шутят, Кристина. Это же полный абсурд.
Голубые глаза Кристины вспыхнули, она еще сильнее сжала пальцы Рейчел.
– Они хотят, чтобы все вокруг думали именно так.
Подошел официант, и Кристина отпрянула, выпрямив спину. Рейчел стала растирать под столом затекшие пальцы.
– Заказать за тебя? – весело предложила Кристина. В присутствии официанта ее поведение изменилось в одну секунду. – Два кофе и пирожное?
– Nein. – Рейчел сделала заказ по-немецки, намереваясь оставаться независимой и как-то отдалиться от Кристины.
Когда официант удалился, Кристина извинилась по-английски.
– Я забыла, что ты прекрасно говоришь по-немецки.
– Ты и сама неплохо его освоила, – признала Рейчел.
– Это первое, на чем настоял Герхард: я должна знать немецкий в совершенстве и говорить с берлинским акцентом. – Кристина достала из сумочки сигарету, закурила. – Мне это не помогло. – Она выпустила облачко дыма, снова затянулась. – Понимаю, тебе это кажется безумием.
– Мне это кажется невероятным. Невероятным, невозможным. Мне очень жаль, что Амели глухая. Это наверняка очень тяжело – вы оба расстроены. Но Герхард не позволит убить собственного ребенка. И когда ты начала курить?
Кристина глубоко затянулась. Потом еще раз. Казалось, курение успокаивало ей нервы. Она окинула взглядом Тиргартен.
– Я видела документы. У Герхарда в портфеле, хотя он об этом и не знает. «Т4».
Она издала короткий жалкий смешок.
– Знаешь, почему план получил название «Т4»? Потому что однажды они обедали как раз напротив… – она указала куда-то за спину Рейчел, – и разрабатывали план. И план этот – уничтожить тысячи тысяч людей – был разработан между блюдами. Что скажешь? Между консоме и говяжьим языком? Или за десертом? Место, где они обедали, находится по адресу Тиргартен, четыре. – Кристина швырнула только что прикуренную сигарету на вымощенную плитами площадку и раздавила туфлей.
– Наверное, ты что-то неправильно поняла.
– Неправильно поняла? – Кристина повысила голос. На них стали оборачиваться, поэтому она взяла себя в руки, заговорила тише. Дождалась, когда сидящие за соседними столиками вновь вернутся к своему кофе или уткнутся в газеты, и прошептала: – Ты читала Mein Kampf[11]. Фюрер называет таких людей, как Амели, «непригодными» и «жизнями недостойными жизни». Теми, кто станет тянуть соки из немецкого общества и использовать ресурсы, когда нация вступит в войну – когда немецкая армия выполнит свое «предназначение» и завоюет для Volk больше жизненного пространства.
– Он не мог всерьез рассуждать о войне. Военные действия в последнюю минуту прекратятся, или произойдет то же, что и с Австрией.
– По-твоему, Польша согласится на Anschluss[12]? Откроет границы и с радостью позволит Гитлеру маршировать по своим улицам? – Кристина вновь подалась вперед. – Рейчел, все не так, как ты полагаешь. Открой глаза!
Эта молодая женщина, сидевшая напротив, совершенно не походила на мягкую, плывущую по течению Кристину. Рейчел не могла привыкнуть к манере ее поведения.
– Начиная с 1936 года врачам и акушеркам приказано докладывать о детях с генетическими патологиями. Я сама видела этот приказ. Не знаю, было ли поручение доведено до сведения общественности, но это обязательно сделают.
– В чем-то это похоже на евгенику, которой занимаются в Америке, Англии и Шотландии. Ученые ведут различного рода записи и составляют списки семей… на протяжении нескольких поколений. В особо тяжелых случаях рекомендуют стерилизацию. Но по большей части просто наблюдают.
Кристина ответила:
– Сперва они подбадривают родителей. Приглашают их приводить детей в центры для специальных занятий и лечения – такого лечения и реабилитации дома получить невозможно.
– Что ж… может быть, это действительно так. Заботиться об инвалидах, должно быть…
– Но пройдет немного времени… совсем чуть-чуть… и их убьют.
– Кристина!
– Посадят в фургоны, будут возить по городу и травить газом. Или сделают укол. Младенцев они заморят голодом – так дешевле и за один раз можно уничтожить целые палаты. Они все продумали с немецкой педантичностью и аккуратностью, прописали и предусмотрели все неожиданности.
Рейчел вскочила из-за стола, схватила сумочку.
– Я больше не хочу тебя слушать, Кристина. Ты вышла замуж за человека, которого не любишь… и который явно не любит тебя. Мне очень тебя жаль. Герхард, конечно, хам и тебя не заслуживает. Но ты все неправильно поняла. Он же не чудовище.
Подошел с заказом удивленный официант, и Кристина усадила Рейчел на место.
– Danke[13]. – Кристина протянула ему две рейхсмарки.
Официант кивнул, в его глазах зажглась благодарность; он, пятясь, ретировался. Обе молодые женщины отхлебнули суррогатный кофе – черный и крепкий.
Рейчел поморщилась.
– Не понимаю, как вы пьете эту гадость!
Кристина не обратила внимания на насмешку.
– Как только Амели не станет, Герхард найдет способ порвать со мной.
– Кристина…
Рейчел не могла больше этого вынести. Ее сердце болело за подругу. Откровенно говоря, ее вывели из душевного равновесия.
– Герхард – восходящая звезда СС. Священный долг каждого эсэсовца родить и воспитать детей для рейха – генетически совершенных арийских детей. Для этих целей им нужны генетически совершенные арийские жены.
– Но нет никаких доказательств того, что глухота – наследственное заболевание. Нет причин так полагать…
– Нацисты думают иначе. Они верят, что это невозможно, если в роду нет патологий или предрасположенности к ним. А подобные несовершенства следует искоренять.
Рейчел задумалась. Это было правдой. От отца она знала, что среди ученых, занимающихся евгеникой, бытует именно такое мнение. И об этом много говорилось на балу.
– Евгенисты рекомендуют стерилизацию, а не уничтожение! И даже в этом случае нет закона, предписывающего стерилизовать людей, у которых дети-инвалиды.
– В Америке нет. Пока нет.
– А здесь? Ты хочешь сказать, что в Германии есть такой закон?
– Гитлер меняет законы в угоду своим грандиозным планам. – Кристина наклонилась ближе к подруге, понизив голос до шепота и сделав вид, будто рассматривает пирожное Рейчел. – И даже если он не отдает приказ прямо, то действует через своих доверенных – все делается так, чтобы казалось, будто все происходит во благо отечества.
Рейчел откинулась назад. «А если все эти разговоры о создании господствующей нордической расы не просто болтовня, не просто надежды и фантазии мечтателей? А если они все-таки намерены увеличить количество тех, кто обладает этими качествами, и сократить число тех, кто ими не обладает? А если…»
– Как только Герхард от меня избавится, он сможет на законных основаниях жениться повторно… – у Кристины дернулся глаз, – на более подходящей кандидатуре. А пока он волен передавать по наследству свои гены, выполняя долг перед отечеством с проститутками, которые, по мнению рейха, подходят для этих целей.
– Уверена, ты ошибаешься. Должно существовать иное объяснение.
Рейчел ушам своим не верила. Она даже не осознавала, что защищает Герхарда.
Кристина сняла серый шелковый шарф, и взору ее подруги открылась цепочка багровых синяков на шее, а ниже ключицы – четкий след большого пальца.
– Это не жемчужное колье. – На этот раз слез не было. – Как считаешь, это ожерелье для женщины, которой дорожат? – Она вновь спрятала синяки под шарфом.
Рейчел не могла дышать. Кристина опять схватила ее за пальцы.
– Забери Амели, молю тебя! Увези ее с собой в Америку.
6
Рейчел ворочалась в постели. После встречи с Кристиной она так и не смогла заснуть. Закрыла глаза и в двадцатый раз стала убеждать себя в том, что не хочет брать с собой Амели. Что ей известно о том, как воспитывать, да и просто общаться с глухим ребенком? Сама Рейчел даже не решила еще, хочет ли она выйти замуж – и захочет ли вообще когда-нибудь. Не говоря уже о том, что ей не позволят вывезти из Германии чужого ребенка. Особенно когда его отец – штурмбаннфюрер СС Герхард Шлик.
Рейчел села, сунула ноги в сандалии. Больше всего ей хотелось вернуться в Нью-Йорк, начать карьеру в «Кемпбелл-плейхаусе» и не оглядываться назад. Она четыре года грызла гранит науки, чтобы этого добиться. Небольшое, но все же достижение, возможность проникнуть в театральные круги Нью-Йорка – это чудо… и за эту возможность нужно хвататься обеими руками.
Ей хотелось забыть о Кристине, о ее бреднях, забыть самодовольного хама Герхарда, забыть дикие обвинения, брошенные Джейсоном Янгом. Рейчел отчаянно надеялась, что ее отец не ступил на скользкую с моральной и этической точки зрения дорожку, иначе ему не свернуть, не устоять, не очистить душу.
Но она пообещала Кристине подумать о том, чтобы забрать Амели в Нью-Йорк. И не обманула – думала об этом почти неделю.
Рейчел позвонила и заказала кофе в номер, впервые радуясь тому, что немцы любят крепкий кофе – точнее суррогат, который в последнее время называли кофе.
И хорошо, что ее отец был в отъезде. Если бы он был рядом, Рейчел, наверное, обратилась бы к нему, доверилась, попросила совета, даже вопреки здравому смыслу. Ей было неприятно отношение ее отца к Герхарду и то, как он холодно отмахивался от проблем Кристины. Такое поведение невольно внушало сомнения в искренности отцовских советов и даже вызывало вопросы по поводу мотивов, которые им двигали. Но кому еще Рейчел могла довериться?
Вероятно, отец прав. Вероятно, у Кристины слишком разыгралось воображение. В любом случае, на следующей неделе он возвращается. Остается только ждать.
Никто не ограничивал походы Рейчел по магазинам и театрам, поэтому в эти дни она вовсю пользовалась свободой: посещала лучшие магазины Берлина и современные театры, славившиеся экспериментальными постановками, – этих культурных заведений не одобрял отец девушки и официально осуждал рейх, но они тем не менее процветали. В день возвращения профессора Рейчел собиралась отправиться на оперу Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», которую давали в Немецкой опере. Она была уверена, что отец одобрит ее выбор.
К сожалению, ее любимые магазины были закрыты – еврейские лавочки, отмеченные шестиконечными желтыми звездами, скорбно смотрели на улицу пустыми витринами и пестрели надписями, которые запрещали немцам совершать здесь покупки – не говоря уже о том, что в них нечего было продавать. Соответственно, самим евреям было запрещено совершать покупки в нееврейских магазинах, есть в нееврейских кафе, покупать продукты у нееврейских лоточников – повсюду виднелись знаки «Juden verboten»[14].
Рейчел достала из гардероба синий саржевый костюм, задаваясь вопросом: а где, собственно, разрешено покупать продукты евреям? Где им можно есть? Для них вообще что-нибудь осталось? Отец велел ей не лезть в чужое дело, не задавать вопросов, не высказывать своего мнения.
– Ты не в Америке, – напомнил он. – Сейчас здесь все зыбко, царит напряжение. Ты же не хочешь, чтобы о тебе создалось неверное впечатление? – Он едва заметно улыбнулся. – Или затеять международный скандал?
Насколько Рейчел могла судить, она была не в Германии – по крайней мере, не в той Германии, какую помнила с детства. Нынешняя Германия была наводнена эсэсовцами в черных блестящих сапогах, офицерами гестапо с мрачными лицами, а также подростками из гитлерюгенда в коричневых рубашках, марширующими гусиным шагом, – энергичными, суровыми, наводящими ужас. И Рейчел знала, что отец не шутит; он предупреждал, приказывал. Причин ни того, ни другого Рейчел не понимала. Ей хотелось вернуться домой.
* * *
Пятница, первое сентября, выдалась серой и сумрачной. Сонное ленивое утро Рейчел в семь часов было резко прервано выступлением рейхсканцлера Адольфа Гитлера, который объявил, что в четыре часа утра немецкие войска пересекли польскую границу и перешли в «контрнаступление».
Рейчел просмотрела утренние газеты, которые ей просунули под дверь номера, но там не было ни слова о вторжении, отчего столь радикальное заявление казалось нереальным, больше похожим на театральную постановку, чем на действительность.
Час спустя в ресторане гостиницы никто не выказывал удивления. Как и каждое утро, постояльцы завтракали ржаным хлебом с ломтиками мяса и сыра, как будто вторжение в соседнюю страну случалось каждый день. Официанты твердой рукой наливали из исходящих паром серебряных кофейников обжигающий напиток.
Рейчел слонялась по гостинице, боясь выйти за дверь. На обед, как обычно, подали суп, салат, мясо с овощами. Официанты оставались такими же невозмутимыми, хотя и были чуть более сдержанными. К трем часам дня Рейчел стало казаться, что она упала в кроличью нору[15], где все совершенно не такое, каким кажется. Вспомнились слова Кристины о воплощении в жизнь плана «Т4». «Когда нация вступит в войну…»
Отец до сих пор не вернулся. Рейчел не с кем было поговорить – сама она не решалась ни с кем заводить беседу. Но если она задержится в гостинице еще на минуту, у нее от страха мурашки побегут по коже.
– По магазинам! – произнесла она вслух, промокнула уголки губ салфеткой и бросила ее на стол.
Поход по магазинам – это то, что она любила и чем могла заняться вместо того, чтобы смаковать яблочный штрудель, макать в кофе пирожное или мерить шагами комнату.
Рейчел влилась в послеполуденную толпу покупателей и служащих; большинство прохожих быстро шагали по Берлину, занятые своими делами, но на их лицах застыло едва заметное оцепенение, на лбу залегли морщинки неуверенности. А еще Рейчел заметила скрытую апатию – такое отношение ставило ее в тупик.
Продавцы газет выкрикивали заголовки, демонстрируя истинные эмоции:
– Контрнаступление на Польшу! Армия продвигается! Началась война!
Рейчел поверить не могла в это безумие. Даже она понимала, что армию Польши нельзя сравнить с мощной армадой Германии. Представить, что Польша напала первой… Рейчел просто не могла в это поверить.
Девушка отправилась туда, где находилось множество знакомых ей магазинов. Разумеется, ее отец поймет, что им необходимо немедленно уехать, вернуться в США раньше, чем они планировали. Все, что она намерена взять с собой, нужно купить сегодня.
Рейчел была совсем не готова столкнуться с армией людей, красивших бордюры.
– Светомаскировка, фрейлейн, – пояснили ей. – Сегодня вечером будет первое отключение электричества. Простые меры предосторожности. Эти линии для того, чтобы помочь нам найти дорогу в темноте. Наш фюрер никогда не пропустит врага в Берлин. – Мужчина встал, потянулся. – Но позаботьтесь о противогазе, если сегодня вечером планируете выходить на улицу.
Польша будет бомбардировать Берлин? Сложно представить. Но если Гитлер не выведет свои войска, Великобритания с Францией, вне всякого сомнения, вступят в войну еще до захода солнца. Их с Польшей связывает договор. Рейчел ускорила шаг, твердо решив вернуться в гостиницу до наступления темноты. У нее не было противогаза.
Около семи она вышла из последнего магазина, радуясь тому, что купила по сходной цене модный в этом сезоне кардиган с поясом насыщенного коричневого цвета. Мысль о том, что она в состоянии думать о моде, когда объявлена война и уже начались разговоры о продовольственных пайках в Берлине, лишь немного омрачала радость девушки. Но война не пришла сюда – пока не пришла. А еще Рейчел купила подарок отцу: его любимую писчую бумагу, которую можно приобрести только в Берлине, в магазине канцтоваров. В тот момент, когда девушка раздумывала над тем, чтобы купить коробку шоколадных конфет на обратную дорогу, повсюду завыли сирены. Да так громко, что Рейчел побросала пакеты и свертки, чтобы закрыть уши руками.
Лица прохожих побледнели в сумеречном свете; шаги вокруг нее ускорились, кто-то поспешил к совсем недавно оборудованным убежищам на случай воздушного налета. Но как только вой прекратился, бóльшая часть пешеходов и несколько владельцев магазинов, которые выбежали на улицу и стали всматриваться в небо, пытаясь разглядеть польские бомбардировщики, натянули на лица маску спокойствия, оживились и продолжили заниматься своими делами, как будто ничего неординарного не случилось. Рейчел, которую била дрожь, убрала руки от ушей, задышала ровнее. Вот тогда-то на противоположной стороне улицы она и увидела Джейсона Янга.
Чувствуя, как краска заливает ее лицо, Рейчел отказывалась замечать его призывные взмахи рукой, но все же остановилась, чтобы подобрать груду пакетов. Самый тяжелый выскользнул из рук. Тщетно Рейчел ловила воздух ртом, пытаясь собрать стопку бумаги из лопнувшего пакета. Неожиданно Джейсон оказался рядом, стал совать ей в руки коричневые пакеты, гоняться по тротуару за листами, которые кружились на легком вечернем ветру.
Когда под возмущенные гудки клаксонов, издаваемые нетерпеливыми таксистами, он настиг последний лист на мостовой, Рейчел закричала:
– Пусть летит! Пусть летит!
Но Джейсон галантно поспешил назад, сжимая в руках листы-беглецы. Он протянул Рейчел стопку бумаги, как будто преподносил ее на серебряном блюде.
– Леди Крамер… – Серьезное выражение лица, только глаза смеются. – Мы снова встретились.
Она не хотела улыбаться в ответ, просто ждала, когда этот отвратительный день закончится. У Рейчел не было желания думать о приличиях и о хамах репортерах. Поэтому она выдавила из себя улыбку, смутившись оттого, что в очередной раз оказалась у журналиста в долгу.
– Сэр Джейсон спешит на помощь! У вас вошло в привычку спасать попавших в беду девиц.
Янг растянул губы в улыбке. Рейчел рассердилась на себя за то, что от этих сияющих карих глаз у нее перехватило дыхание. «Он дьявольски красив – такое надо запретить законом. Он хоть сам это понимает? И что же он – нахал? Или просто мальчишка?» Ответить на этот вопрос Рейчел не могла, но не отказалась бы в этом разобраться. Девушка не могла бы этого объяснить, но ей хотелось утонуть в его глазах. Ей стало страшно от собственных желаний. «Он враг моего отца!» И тут Рейчел задумалась над тем, что ее отцу просто необходимо иметь врага… или по крайней мере совесть. Какими бы ужасными, леденящими душу ни были журналистские расследования Джейсона Янга, они также давали пищу для размышлений… для Рейчел.
Возможно, Джейсон Янг знал о Германии то, чего не знала она, – и мог бы многое ей объяснить. А она могла бы задать ему вопросы. Но как это сделать?
– Проклятая сирена!
– Это для того, чтобы поставить нас на уши и обезоружить. Уверен, что они станут утверждать, будто проводились испытания, чтобы проверить, хорошо ли работает система оповещения на случай воздушных налетов… и, разумеется, все это только во благо народа. – Джейсон с почти серьезным выражением лица вглядывался в небо.
Рейчел почувствовала, как побледнела.
– Польша… Но вы же не думаете всерьез, что они…
– А вы ожидали чего-то иного? – Журналист загадочно посмотрел на нее, широко взмахнул рукой. – Подготовка ведется уже несколько недель. Они будут убивать поляков, и если те не врежут им в ответ – стыд им и позор! Гитлеровские… – Он замолчал. – Прошу прощения, фрейлейн Крамер. Вы ведь не хотите ничего знать. – Джейсон коснулся тульи на своей шляпе, как будто собирался попрощаться и уйти.
Рейчел почувствовала, как ее лицо заливает краска стыда.
– Это неправда!
Но его обвинения звучали в унисон со словами Кристины: «Рейчел, открой глаза!»
– Да что вы! – Джейсон обернулся. – Что-то изменилось?
«Очень много всего – Кристина, Амели, разговоры о центре, где убивают, умерщвляют газом детей. Это безумное вторжение в Польшу… к чему оно приведет? Союзники наверняка не оставят Польшу в беде, как поступили с Австрией и Чехословакией. И если Гитлер решился на это, чего еще можно от него ожидать? Есть ли для него что-то невозможное?»
Джейсон помахал рукой у нее перед носом.
– Вернитесь на землю, фрейлейн Крамер.
Рейчел недоуменно уставилась на него.
– Где ваш отец? – спросил журналист. – Уже вернулся из Шотландии?
В мозгу Рейчел зазвучал сигнал опасности. Должно быть, все эмоции отразились у нее на лице.
– Я спрашиваю потому, что, скорее всего, границу закроют. Будет непросто ее пересечь. Пора возвращаться в добрую старую Америку.
– У отца большие связи… среди немецких ученых, в СС, – попыталась защититься Рейчел.
Джейсон кивнул, но она заметила в его глазах неодобрение.
– Это может стать для него пропуском. Зеленый свет дают в первую очередь военным.
– Я должна вас кое о чем спросить, мистер Янг.
Но журналист больше не слушал ее. Прищурившись, он наблюдал за тем, как по улице едет черный фургон. Водитель явно искал какой-то конкретный адрес. Джейсон заметил, как фургон замедлил ход, потом повернул за угол.
– Возвращайтесь домой, мисс Крамер. Это мой вам совет. И отец ваш пусть уезжает и остается в Америке. Покиньте Германию, пока не стало хуже… а хуже обязательно станет.
– Это я и хочу обсудить. Я… Может быть, за ужином мы могли бы…
Но Джейсон, недослушав ее, опустил глаза.
– Прошу прощения, мисс. Не хотел бы показаться невежливым, но мне пора.
Рейчел словно отвесили пощечину.
– Очередная спасательная операция?
Ей трудно было сдержать сарказм. Сейчас, когда она хотела уделить ему внимание, он ей отказал!
Джейсон приподнял шляпу – прощаясь скорее с пустотой, чем с ней – и быстрым шагом удалился.
Ошарашенная Рейчел смотрела ему в спину (в душе у нее боролись любопытство и негодование), наблюдая за тем, как он приблизился к перекрестку, где скрылся фургон. Джейсон поспешил пересечь улицу и исчез за углом здания. Еще никогда ее не оставлял в одиночестве на улице мужчина, который явно хотел попросить у нее номер телефона, да и вообще мужчины никогда не отказывались уделить ей внимание.
– Черт с тобой, Джейсон Янг! – выпалила Рейчел в отчаянии.
Она повесила сумочку на плечо, подхватила пакеты, стиснула зубы и уверенно зашагала в противоположном направлении. Она уже пропустила вечерний кофе, но если сядет в трамвай, может успеть заказать в гостинице легкий ужин. «Возможно, мне даже удастся убедить их заварить хорошую чашку чая – крепкого чая». Похоже, боль в висках – это надолго.
Рейчел завернула за угол в тот момент, кода в конце квартала остановился трамвай. Она ускорила шаг, подняла руку, чтобы показать, что хочет сесть на него, но кондуктор не обратил на нее внимания. Двое пассажиров вошли в вагон. Раздался звонок. Рейчел побежала, крича, чтобы ее подождали. До трамвая оставалось всего десять шагов, когда он тронулся.
В боку кололо, в туфлю попал камешек. Рейчел швырнула пакеты на лавочку на углу и выругалась. Оставалось одно – ждать следующего трамвая. «Не рыцари они! Не рыцари!»
Девушка вытряхнула камешек из туфли, поправила шов на чулке. Выпрямившись, она заметила припаркованный за полквартала черный фургон – именно эта машина так заинтересовала Джейсона. Или очень похожая на эту.
Но самого Джейсона Янга нигде не было видно. Снедаемая любопытством, Рейчел поспешила в переулок, чтобы получше разглядеть фургон.
По тротуару гуськом шагали дети в возрасте от трех до десяти-одиннадцати лет. Замыкающий как раз выходил из дверей двухэтажного каменного здания. Какой-то мужчина в белом халате вел их за фургон, где детей собирала вокруг себя женщина в черном платье. Было что-то особенное в этих детях… Некоторые из них двигались неестественно, скованно, не размахивали ручками в такт, а если и размахивали, то как-то слишком сильно. Одна высокая девочка, явно слепая, вцепилась в плечо идущего впереди нее.
Очень маленький ребенок с круглым, как луна, лицом налетел на шагающего впереди, споткнулся и упал. Рейчел находилась слишком далеко, чтобы расслышать, что он говорил, когда плакал. Женщина подбежала к нему, рывком поставила малыша на ноги, сильно встряхнула и втолкнула назад в строй. Мальчик опять споткнулся, прижал оцарапанную руку к груди. Женщина случайно посмотрела в сторону Рейчел. Их взгляды встретились. Мрачная женщина поспешно отвернулась.
Рейчел знала: не стоит вмешиваться в то, что происходит в Берлине, но эта женщина вела себя гораздо грубее, чем было допустимо. Это наверняка какое-то специальное заведение.
Ей вспомнились слова Кристины: «Они собираются избавить Германию от генетически несовершенных мужчин, женщин и детей».
– Это смешно! – прошептала Рейчел.
Но воспоминание о настойчивой просьбе Кристины не покидало ее. Рейчел вернулась к своим покупкам, которые оставила на противоположной стороне улицы, и продолжала наблюдать за фургоном, ожидая, когда из-за него появится череда детей. Но никто так и не появился. Дети просто исчезли. Вскоре мужчина в белом халате обошел автомобиль и взобрался на переднее пассажирское сиденье. Как только он сел, водитель тронулся и фургон покатился в конец улицы. Рейчел вновь ступила на мостовую.
«Дети, скорее всего, забрались сзади в фургон. Больше никуда они деться не могли».
Фургон достиг перекрестка, проехал мимо Рейчел, остановился, пропуская машины, потом повернул налево.
«Окна закрашены черным – детям ничего не видно, и я их не вижу».
Сердце Рейчел бешено забилось. «Посадят в фургоны, будут возить по городу и травить газом…»
– Всему этому должно быть какое-то другое объяснение, – произнесла девушка вслух.
Женщина в черном как раз вышла из двери кирпичного здания. К остановке подъехал трамвай. Рейчел взглянула в лицо кондуктору. Он ждал, когда она войдет в вагон и оплатит проезд. Но она отступила, покачав головой.
Рейчел повесила на плечо сумочку, оставив пакеты на скамейке, и поспешила к кирпичному зданию… пока, руководствуясь эмоциями, не передумала.
На белой маленькой табличке золотыми буквами было написано: «Институт Шмидт-Вейлинга». Рейчел постучала медным молоточком в дверь. Никто не открыл, поэтому она постучала снова, на этот раз громче. Подождала, но ей все равно никто не открыл. Рейчел не привыкла к тому, чтобы ее игнорировали, к тому же испугалась собственных догадок, поэтому продолжала без остановки громко барабанить в дверь. В конце концов дверь распахнулась и на пороге возникла женщина с красным от… от… от чего, интересно, лицом? От злости? От страха? От подозрения? Рейчел не знала.
– Дети, – запинаясь, произнесла Рейчел по-английски. Она заметила, как страх в глазах женщины уступил место презрению, и перешла на немецкий. – Die Kinder – куда они поехали? Что с ними случилось?
Женщина попыталась захлопнуть дверь, но Рейчел просунула ногу в щель и протиснулась в темный вестибюль.
– Отвечайте.
– Вы кто? Какое ваше дело?
В Рейчел проснулась актриса.
– Моя двоюродная сестра привезла сюда дочь. Я требую ответа: что вы сделали с детьми?!
От слов Рейчел женщина побледнела.
– Дети спят. Сейчас тихий час. Вот и все. Передайте сестре, чтобы позвонила перед тем, как приехать.
– Детей, которых я видела, посадили в фургон… в черный фургон. Только что.
Глаза женщины неестественно заблестели. Она оглянулась через плечо, потом опять посмотрела на незваную гостью.
– Они… их… – Женщина запнулась лишь на мгновение. – Их забрали на лечение.
– На какое лечение?
– На то, которое назначил врач, на необходимое им лечение. Каждому свое.
Она шагнула вперед, заставив Рейчел попятиться к двери.
– Прошу прощения, фрейлейн. Нам нужно работать.
Рейчел заколебалась и едва не сдалась под натиском, понимая, что ничего не сможет доказать, ни в чем не может быть уверена. Но когда она уже отступила в сторону, по коридору разнесся громкий плач.
– Кто плачет? Кто это?
– Дети часто плачут, фрейлейн. В таком большом заведении, как это, плач – обычное дело. Вы должны уйти.
– Это плакал не ребенок!
Женщина была уже не в силах сдерживать раздражение.
– Это фрау Хефнер. Если хотите знать, ее единственного сына забрали на фронт. Она законопослушная немка, но боится за сына. – Женщина вытолкала Рейчел в открытую дверь. – А теперь уходите.
* * *
Из-за растущих на углу улицы кустарников Джейсон наблюдал за тем, как Рейчел вышла из приюта. Он отлично понимал, что произошло с детьми; его предупреждали о чем-то подобном. Но он понятия не имел о том, какая роль здесь отведена Рейчел Крамер. Он полагал, что она бессердечная особа, очень похожая на страуса, прячущего голову в песок, и не желает замечать вокруг ничего, что не имеет к ней непосредственного отношения. Джейсон и подумать не мог, что она может быть каким-либо образом связана с этими кошмарами.
Журналист спрятал фотоаппарат поглубже в карман куртки и последовал за девушкой, держась на несколько шагов позади нее.
Рейчел брела не спеша. А когда обернулась, у нее был такой потерянный и встревоженный вид, что Джейсон моментально понял: она не может быть причастна к ужасу, свидетелем которого он только что стал. Его сердце защемило от жалости к девушке.
– Мисс Крамер! – Джейсон тронул ее за руку.
Она отшатнулась, недоуменно таращась на его руки, потом взглянула ему в лицо, как будто не узнавая. Он приблизился.
– Рейчел! С вами все в порядке?
Джейсон усадил ее на скамейку среди оставленной ею кучи пакетов и сумок, которые кто-то успел обыскать и выпотрошить. Девушка подняла разорванную коричневую упаковочную бумагу.
– Никому нельзя верить. – Джейсон попытался разрядить обстановку.
Но в глазах Рейчел стояли слезы.
– Нет. Нет, верить нельзя. Никому…
– Расскажите, что там произошло.
Она откинулась на спинку скамьи.
– Что вам ответила та женщина?
Рейчел смотрела прямо перед собой. У нее уже выработалась такая привычка – отстраняться от происходящего. Джейсон подумал, что, если помашет рукой у нее перед лицом, она, возможно, даже не заметит этого.
– Она сказала, что детей увезли на лечение – каждого на свое, на то, которое прописал доктор.
– Эта женщина сказала, когда они вернутся?
Слезы наполнили глаза Рейчел, потекли по щекам, отчего она казалась ранимой, наивной девчонкой. Она медленно покачала головой и прошептала:
– Мне кажется, они не вернутся.
«Она все знает… но откуда?»
– Это часть исследований вашего отца?
Рейчел взглянула на Джейсона, ее взгляд сфокусировался на собеседнике.
– Что?
– Вам известно, что они делают в фургоне, не так ли? Отец рассказал вам об этом?
Рейчел невольно поежилась.
– Мой отец не имеет к этому никакого отношения! Он работает над тем, чтобы сделать мир лучше! Нет! Только не это!
Джейсон нагнулся ближе, страстно желая защитить ее, однако прекрасно понимал, что не должен этого делать.
– Именно этим и занимается евгеника, мисс Крамер. Это и есть ее конечная цель: избавить мир от инвалидов, стариков, политически неугодных – от любой расы или группы людей, которую Гитлер сочтет неприемлемой.
– Нет! – Рейчел готова была зарыдать. – Это не так!
Джейсон присел на скамью, и, несмотря на то, что ему хотелось встряхнуть девушку за плечи, вернуть ее к реальности, ему было очень жалко Рейчел.
– Если вы в это верите – значит, вы купились на вранье. Я ничем не могу вам помочь, если вы сами не пожелаете снять розовые очки. – Он достал из кармана визитную карточку. – Вот номер моего телефона. Звоните в любое время дня и ночи, если захотите поговорить. Там знают, где меня найти. – Янг замер в нерешительности. – Давайте я проведу вас до гостиницы. Сегодня ожидается первое отключение электричества. Не стоит вам оставаться одной.
– Нет, спасибо. Здесь недалеко. Я сама доберусь.
– Это не очень хорошая идея, мисс Кра…
– Я справлюсь!
Джейсон встал, глядя на Рейчел с упреком и не решаясь уйти. Ему не хотелось оставлять ее здесь одну, сбитую с толку, особенно когда сгущались сумерки и вот-вот могли отключить электричество. Но Рейчел даже в страдании оставалась самонадеянной. Придется подождать за углом, а потом последовать за ней, чтобы удостовериться: она добралась до гостиницы целой и невредимой.
Журналист видел, что Рейчел серьезно напугана. Но он знал, что и она, и весь мир должны испугаться. Другого способа разбудить людей, заставить их действовать не было.
7
Воскресное утро выдалось ясным и солнечным – идеальное утро в самом начале осени, когда гуляет легкий ветерок. Именно в такой день хочется прокатиться на лодке по Шпрее, или отправиться на пикник, или просто прогуляться по тенистым аллеям Тиргартена.
Но с тех пор, как в пятницу после пережитого ужаса Рейчел вернулась в номер, она не покидала гостиницу. В тот вечер девушка с трудом дотащилась в темноте до своего временного жилища, причем каждый шаг эхом отдавался у нее в голове, но из-за отключенного электричества невозможно было никого разглядеть, а повсюду слышались приглушенные голоса, и даже шепот пугал… Рейчел была по горло сыта этим Берлином.
Кроме того, она хотела находиться рядом с телефоном – на случай, если позвонит отец. Все страшные новости, которые Рейчел была в состоянии переварить, она узнавала из передач разрешенных рейхом радиостанций и от горничной.
– Я лично слышала выступление герра Гитлера через репродуктор на Вильгельмплац сегодня днем! – тараторила девушка. – В одиннадцать часов Британия объявила нам войну! Но наш фюрер им задаст: разобьет в пух и прах этих разжигателей войны – британцев и жидов-капиталистов!
У Рейчел внутри похолодело.
– Издали новый декрет. Слушать иностранные радиостанции – verboten[16]. Фюрер не желает, чтобы иностранная пропаганда лишила нас силы духа, как это произошло во время прошлой войны. Слишком много жен писали своим мужьям на фронт о том, что говорят о войне, о скудном рационе и тому подобных вещах – meine Mutter[17] рассказала мне, как все было. Наши солдаты приуныли и слишком быстро сдались. А все из-за вранья жидобольшевиков, которое, как вам известно, направлено на то, чтобы сломить наш моральный дух. – Девушка рассуждала со знанием дела, пока меняла наволочки и встряхивала стеганое одеяло. – Meine Mutter говорит, что именно поэтому мы потерпели такое унизительное поражение в Версале. Фюрер уверяет, что нам не было нужды сдаваться. Но благодаря ему сейчас мы намного сильнее. На сей раз мы не станем слушать все эти выдумки и обязаны докладывать о тех, кто в них верит.
– Ты понятия не имеешь о том, что такое война, – попыталась образумить ее Рейчел.
– Мы не хотим воевать, но не станем проигрывать тем, кто нам ее навязал!
Берлинские женщины шили полотняные мешки. Мужчины и мальчики наполняли их песком, сотнями укладывая у основания домов, чтобы смягчить последствия взрыва. Правительственные учреждения раздавали противогазы – только для арийцев, – но ни женщин, ни детей не эвакуировали.
Рейчел надеялась, что бахвальство Гитлера о том, что ни британские, ни французские самолеты никогда не появятся над немецкими городами – правда. И потом начала гадать: а не пожалеет ли она об этом? Может быть, лучше надеяться на то, что этих безумцев выкинет ударной волной из Рейхстага?
В газетах напечатали график отключения электричества. И только белые бордюры помогали передвигаться по темным улицам.
Но Рейчел больше не гуляла после заката. Даже в театры перестала ходить, хотя двери там по-прежнему были открыты. Она собрала свои вещи и готова была ехать в США в ту же секунду, как только отец вернется из Франкфурта. Единственной, с кем девушка поддерживала связь с тех пор, как стала свидетельницей того, что детей куда-то увозят в фургоне, была Кристина. Рейчел позвонила ей в субботу, намереваясь сказать, что готова сделать все возможное для Амели, но тут же повесила трубку, когда к телефону подошел Герхард.
«Если Герхард уже вернулся, где же мой отец?»
Все утро и весь воскресный день девушка мерила шагами гостиную, расположенную между ее комнатой и комнатой отца. Рейчел снова и снова репетировала свои реплики: о чем она его спросит, что скажет, чтобы не выдать Кристину и Амели. Отец не может быть частью этого кошмара. Он точно знает, как поступить. И они должны немедленно уехать… пока еще можно это сделать.
Отец вернулся ближе к ужину, когда Рейчел уже извелась от беспокойства. Ни об ужине в ресторане, ни о походе в театр не могло быть и речи. Он пожаловался, что очень устал с дороги, спросил, не возражает ли она, если ужин накроют в гостиной.
– Нисколько. Я сама с радостью поем в номере. – Рейчел сдерживала эмоции, но видела, что переигрывает – отвечает слишком беспечно. – Мы должны поговорить о том, когда вернемся домой, – чем скорее, тем лучше!
Отец сделал заказ и устало опустился на диван.
– Моя дорогая, ты понятия не имеешь о том, какой сложной выдалась эта поездка. Война… нельзя сказать, что она началась неожиданно, но все же… Я рад, что ты дождалась меня здесь, в Берлине. Это… – Он сглотнул. – По крайней мере, что-то…
– Ты заболел?
Профессор отмахнулся от ее предположения.
– Просто… слишком много мнений, да еще все эти приготовления к конференции в Эдинбурге. И разочарование. Так мало сотрудничества между народами. Напряжение между монархами… – Он закрыл глаза. – В конечном счете все хотят от евгеники одного и того же, но боятся действовать заодно с Германией, опасаясь реакции мирового сообщества. Они не понимают: мы стоим на краю пропасти!
– Мы в эпицентре войны! – воскликнула Рейчел.
Отец снова отмахнулся.
– Война вот-вот закончится. Франция, Британия – им не сравниться с Германией. Они вскоре увидят это и образумятся. Как и Польша.
Рейчел ушам своим не верила.
– Боюсь, отец, я разделяю мнение людей, с которыми ты встречался. И тоже не понимаю.
Он потер переносицу.
– Чего? Чего ты не понимаешь?
Рейчел устроилась в глубоком кресле напротив отца и подалась вперед.
– В пятницу, в тот день, когда фюрер объявил Польше войну…
– Он сказал «контрнаступление».
Она не обратила внимания на слова отца.
– Я увидела кое-что, что чрезвычайно меня встревожило, и надеюсь, что это не то, о чем я подумала.
Профессор открыл глаза.
– О чем ты говоришь?
– Я ходила по магазинам. А когда ждала трамвая, увидела, как фургон, окна которого были выкрашены в черный цвет, остановился возле приюта для детей-инвалидов.
– Вероятно, детей повезли на экскурсию.
– Я не говорила, что их куда-то увозили. С чего ты решил, что они вообще куда-то поехали?
Отец вновь отмахнулся, но Рейчел заметила, как напряглась его спина.
– Просто предположил. Ты же сказала, что был фургон.
– На самом деле…
В дверь постучали. Рейчел вздрогнула.
– Входите! – пригласил доктор Крамер, явно испытывая облегчение и взбодрившись при виде официанта, который вкатил столик с ужином.
Как только они принялись за еду, Рейчел продолжила прерванный разговор:
– Ты прав, отец, детей погрузили в фургон. Но мне кажется, их повезли не на увеселительную прогулку. Женщина-воспитатель сказала, что они отправились на лечение. На какое такое лечение могут везти целый фургон детей-инвалидов? Причем инвалидов с различными патологиями?
– Откуда я знаю? Это могут сказать только их лечащие доктора.
Но Рейчел не отставала.
– На балу я слышала, как герр Гиммлер рассуждал о тех, кто в случае войны станет обузой для общества Германии – о тех, кого рейх с трудом содержит в мирное время, но не сможет содержать во время военных действий. Что он имел в виду?
Отцу явно не нравился этот поворот.
– Откуда мне знать, о чем он думал? Рейчел, ты все принимаешь слишком близко к сердцу.
– Но в этом и заключается суть евгеники, разве нет? Избавить сильных от слабых.
– Да, конечно. Но тебе не стоит волноваться. Ты – идеальный экземпляр. – Он подмигнул, как будто отпустил удачную шутку.
– Как? Как они будут это делать?
– Дела Германии – это ее личные дела. Равно как и то, что делает Америка, касается только Америки. Мы делимся результатами исследований, от этого обе стороны только выигрывают, но мы не диктуем друг другу политику в области медицины.
– Однако я слышала…
– Сплетни? Никогда не верь пустым разговорам. Ты должна бы уже это понимать! Важно то, что Германия сейчас находится в состоянии войны, и все ресурсы она бросает на своих солдат. Нам очень повезет, если герр Гитлер продолжит финансировать исследования доктора Фершуэра.
Рейчел открыла было рот, но отец не дал ей ничего сказать.
– Мы в большом долгу у Германии и доктора Фершуэра. Неужели ты не понимаешь, что евгеника может помочь искоренить такие болезни, как туберкулез, полиомиелит?
– Но не ценой жизни других людей. Нельзя оправдать…
– Для достижения великой цели иногда приходится идти на большие жертвы. Все должны чем-то жертвовать и вносить свой вклад.
Рейчел была настолько расстроена, что не нашлась, что ответить.
– Отец! – взмолилась она.
– Ты, например, тоже можешь сделать весомый вклад. Ты принадлежишь к чистокровной арийской расе; ты здоровая, умная.
– О чем ты говоришь?
Профессор взял дочь за руку.
– В твоих жилах течет арийская кровь, о которой мечтает вся Германия, весь мир. Если ты выберешь человека с похожими генами и подходящей родословной и продолжишь свой род, то внесешь неоценимый вклад в укрепление человеческого генофонда. А это – конечная цель нашей работы.
– Я не подопытная мышка, отец. Кроме того, у меня нет в запасе «подходящего человека». И замужество меня сейчас вообще не интересует! Пожалуйста, перестань менять тему разговора.
На смену показному обаянию пришла усталость.
– Лучше выбирать самой, чем позволить сделать выбор за тебя. – Профессор пристально смотрел на дочь, пока та, смутившись, не отвела взгляд. – Рейчел, я устал. Вынужден пожелать тебе спокойной ночи. Но ты подумай над тем, что я тебе сказал. – Уже у дверей своей спальни он остановился и, не оборачиваясь, добавил: – Завтра вечером мы ужинаем у Герхарда и его жены. Сама увидишь, в каком она состоянии.
– Кристина… ее зовут Кристина, – сказала Рейчел.
«Девушка, с которой я выросла, которая почти все выходные проводила у нас в доме!»
Отец ничего не ответил и закрыл дверь; щелкнула щеколда.
Рейчел обхватила голову руками. «Что с ним происходит? О чем он говорил? А как же дети? Как же Амели?»
Час спустя концерт, который передавали по радио, прервала очередная речь фюрера. Он опять резко осуждал Польшу и подчеркивал, как важно дать немецкому народу жизненное пространство.
Рейчел покачала головой и выключила радио, чтобы не слышать этого выступления. «Все это звучало очень театрально! Прямо “Война миров”. Неудивительно, что все в Америке напуганы подобными передачами. Нашествие марсиан похоже на безумие Гитлера. Жаль только, что герр Гитлер – это не вымышленный персонаж».
8
Курат Бауэр беспомощно ходил за фрау Фенштермахер по классной комнате. Она была не в силах ни сидеть, ни стоять спокойно и, казалось, не могла достаточно быстро собрать вещи.
– Демоны! Они исчадия ада, курат, уверяю вас, мне конец – kaputt! – Она засовывала ноты в папки. – Найдите кого-нибудь другого!
– Тише, тише, фрау Фенштермахер, это же дети! Возможно, немного нервные, легковозбудимые, но отцов многих из них мобилизовали. А детям нужна стабильность. – Он осторожно попытался забрать сумку у нее из рук.
– Стабильность? Это мягко сказано! – отрезала фрау Фенштермахер. – Хватит с меня и наших местных сорванцов. Им, по крайней мере, я могу пригрозить: если они не будут себя хорошо вести, то не смогут принять участие в постановке! Но дети беженцев – они не могут на это надеяться, поэтому мне нечем их припугнуть!
– Может быть, в это непростое время мы сделаем исключение. Они действительно очень хорошие.
Фрау Фенштермахер рванула свою сумку у него из рук.
– Ха-ха! Ни отец Оберлангер, ни бургомистр, ни жители городка не позволят, чтобы ребенок, рожденный не здесь, принимал участие в «Страстях Христовых»! Это святотатство! Привилегию участвовать в постановке получаешь по праву рождения, ее нельзя передавать из рук в руки! – Она намеренно тяжело вздохнула. – Не хочу вам перечить, курат, но я не вижу перед собой хороших детей, когда смотрю на этих сопливых хулиганов! Снимите розовые очки! А моим нервам нужна хорошая порция шнапса!
– Я лично куплю вам бутылку, если вы останетесь на время Рождественского поста, фрау Фенштермахер, – умолял курат. – Куплю самую большую бутылку самого лучшего шнапса в Обераммергау! Во всей Баварии!
Женщина внезапно остановилась и с жалостью уставилась на священника. Опустила плечи, коснулась его руки.
– Это очень любезно с вашей стороны, курат, несмотря на ваши обеты жить скудно и все такое. Но вы не можете позволить себе купить шнапс, который заставил бы меня задержаться с этими дикарями еще на неделю. Не говорю уже до Рождественского поста. И вам придется смириться с действительностью. Если фюрер все не уладит и не выведет наши войска…
– Что тогда? – Молодой курат присел на стол, стоявший позади него. – Директора хора отправили на маневры. Каждый третий из тех, кто принимал участие в постановке «Страстей Христовых», теперь на войне, еще больше людей находятся в состоянии боевой готовности. В любой день их могут мобилизовать. Школьного учителя призвали. Нам нужен человек, который мог бы справиться с этими детьми, человек, который мог бы руководить хором и учить их петь – не говоря уже о том, чтобы проводить внеклассные занятия.
– Трудная задача! Для этого нужны три крепких мужика. – Фрау Фенштермахер замолчала, отвернулась и добавила, понизив голос: – Наверное, пришло время подумать о том, чтобы не ставить «Страсти Христовы», хотя я вам не завидую. Наш городок, мы все каждые десять лет только и ждем этой инсценировки.
– Да меня повесят! И я не могу их в этом винить. Отменить представление? – Курат вздохнул. – Никогда. Обераммергау и есть «Страсти Господни».
– Как по мне, не уверена, что мы найдем много участников, когда Иисуса и апостолов забрали на войну, когда в нас стреляет Британия и Франция, не говоря уже об урезании норм на Benzin[18]. Люди становятся очень раздражительными. Еще живы воспоминания о минувшей войне, и не имеет значения, что теперь мы начали с Польши. Если все у нас будет идти как идет, не поможет даже то, что фюрер считает наше представление «Страстей» «лучшим примером антиеврейской кампании в Германии, и такие представления надо показывать постоянно».
Курат Бауэр вновь застонал. Он любил «Страсти Христовы» и поддерживал миссию городка – каждые десять лет ставить представление, но ненавидел антисемитские намеки, которые таились в сценарии; ему не нравилось, что евреи демонизировались – именно то, что многие века подталкивало христиан к погромам, к стремлению уничтожить «убийц Христа». Избранный Божий народ, братьев и сестер, за которых умер Иисус.
Фрау Фенштермахер впихнула папки с нотами в книжный шкаф, стоявший напротив двери, и схватила сумку для покупок.
– Знаете, курат, вы разбираетесь в чудесах. Советую вам надеяться на чудо.
– Ваши слова граничат с кощунством, фрау Фенштермахер, – пожурил ее священник, но не искренне.
– Совсем нет, отец. – Впрочем, женщина тут же перекрестилась. – Вы сами говорили, что Всевышний обращал воду в вино.
– В вине я понимаю; в руководителях детского хора – нет. – Курат вздохнул. – Пожалуйста, фрау Фенштермахер, до тех пор, пока я не найду замену…
– Я вас уверяю, что в сложившейся ситуации вы, скорее всего, не сможете найти хорошего руководителя хора, к тому же католика, чтобы подготовить детей этих беженцев к Рождественскому посту. Вам нужен агент гестапо! А пока можете поискать среди протестантов. Разве они не крадутся через черный ход, чтобы посмотреть нашу постановку? Может быть, настало время их приобщить?
Во дворе раздался вой. Курат Бауэр знал, что следует посмотреть, в чем дело, но придется подождать.
– Понимаете…
Женщина отмахнулась от священника.
– Все, что вы можете сделать за такое короткое время, – это найти человека, который умеет читать ноты и может обуздать детей. Это все, на что вы можете рассчитывать в такой суматохе, скажите спасибо… да не важно. Шалопаи, которые здесь родились и воспитывались, знают свои роли, если их угомонить. Но с детьми беженцев я справиться не в силах, и мое старое сердце не выдержит еще одной репетиции.
– Но… – Курат едва слышал себя из-за шума в коридоре за закрытыми дверями.
– Спасибо за предложение, но советую вам, курат, взять первого же человека, который войдет в эту дверь, если он знает хоть что-нибудь об обучении детей. Предлагайте ему работу, пока он не успел отказаться. Даже не спрашивайте, умеет ли он петь.
Громкий стук в дверь и всхлипывания выбили у священника почву из-под ног.
– В чем дело? – крикнул он, признавая поражение.
Дверь распахнулась, и на пороге возникла негодующая Лия Гартман, мертвой хваткой держащая за ухо шестилетнего Генриха Гельфмана.
– Прошу прощения за то, что побеспокоила вас, курат Бауэр, но Генрих вновь украл младенца Иисуса из сцены Рождества Христова, которую вырезал Фридрих. Я должна просить вас принять меры…
Оставшуюся часть тирады курат Бауэр не слушал. Слишком сильное впечатление произвели на него небывалые чудеса и то, как высоко взлетели брови фрау Фенштермахер.
9
По мнению Рейчел, ужин у Герхарда и Кристины проходил крайне натянуто. Герхард – само воплощение немецкой деловитости, позолоченное высокомерием, и испуганная, нервная Кристина – коврик, о который Герхард вытирает сапоги. Его показное рыцарство, когда он придерживал стулья для дам, когда приказывал жене подать на стол, больше стремясь показать свою власть над ней, чем продемонстрировать хорошие манеры.
Всякий раз, когда Рейчел пыталась вовлечь в разговор Кристину, Герхард отвечал за жену или мгновенно исправлял и высмеивал ее ответы. «Она выглядит запуганной, так же как и на балу».
– Расскажи мне о своей дочери, – настаивала Рейчел.
Герхард продолжал улыбаться, хотя глаза его превратились в ледышки. Неожиданно Кристину словно парализовало.
– Ей уже четыре года.
– Амели несколько задержалась в развитии. – Герхард осуждающе взглянул на жену. – Как там вы говорите: слабоумная? отсталая?
Кристина подалась вперед – львица, защищающая своего детеныша.
– У Амели проблемы со слухом, вот и все. Она умненькая – правда умненькая, и говорит очень смешно. – Она с мольбой взглянула на Рейчел, ища понимания.
– Она разговаривает? – поинтересовался доктор Крамер.
– С помощью рук – и довольно хорошо для маленького ребенка, – похвасталась Кристина.
– Кривляется, как обезьяна, – передернул плечами Герхард. – Кристина убедила себя, что этот ребенок похож на человека.
– Она и есть…
– Довольно! – осадил Герхард жену. – Мы отправим ее на лечение. – Он говорил об этом как о чем-то давным-давно решенном. – Как вам известно, доктор Крамер, в последнее время была проведена масса исследований по этой теме. Об Амели будут заботиться, и она больше не будет пить соки из Кристины.
– Она не пьет из меня соки! – даже привстав от возмущения, воскликнула Кристина, хотя темные круги у нее под глазами свидетельствовали об обратном. – Я люблю свою дочь. Ей необходимо только одно – наша любовь. – Казалось, что в присутствии Рейчел Кристина осмелела. – Я не представляю себе жизни без нее. Не хочу никуда ее отсылать.
Но Герхард заставил жену замолчать, решительно накрыв ее руку своей ладонью.
– Ты настолько измотана, что уже не понимаешь, что правильно, а что нет. Сама увидишь – все образуется к лучшему. – Он улыбался, но Рейчел заметила, что он сильнее сжал пальцы Кристины, пока в ее глазах не заблестели слезы.
Доктор Крамер мало разговаривал за ужином, поэтому Рейчел подумала, что происходящее напоминает сценарий, в котором ему отвели малозначительную роль. «Тогда зачем эта встреча?»
– Я с радостью показал бы вам, как расцвел наш прекрасный город благодаря фюреру, фрейлейн Крамер, – произнес Герхард. – Возможно, мы могли бы начать с прогулки по Тиргартену завтра ближе к вечеру, когда жара спадет.
– Боюсь, что в это время отключат электричество, – съязвила Рейчел. – Я удивлена, что вы не в Польше, штурмбаннфюрер Шлик. Кажется, что бóльшую часть жителей Берлина перебросили туда.
– Нашему фюреру необходима разнообразная поддержка, и, как вы уже наверняка слышали, мы довольно успешно продвигаемся в Польше. Вскоре мы возьмем Краков и уже до конца недели должны быть в Варшаве. Пока мое место здесь. – Он поднял бокал, салютуя Рейчел.
Когда подали кофе, Рейчел уже устала от настойчивых попыток Герхарда пригласить ее на свидание.
– Рейчел, прогулка пойдет тебе на пользу, – поддержал Шлика Крамер.
В конце концов Рейчел не выдержала.
– Отец, ты должен понять, что для меня совершенно неуместно прогуливаться в компании штурмбаннфюрера Шлика без его жены. – Она через стол протянула руку подруге. – Я пойду при одном-единственном условии – если ты с Амели составишь нам компанию, Кристина. Мы так давно не виделись. Хочу поделиться с тобой новостями и с Амели хочу познакомиться. Похоже, она чудный ребенок!
Герхард засмеялся.
– Вы, американцы, удивляете меня своими выходками. – Но он согласился: – Разумеется, Кристина с Амели пойдут с нами, если вам так будет удобнее. Я все время забываю, что вы вместе росли. – Он оценивающе посмотрел на Рейчел. – Вы такие разные.
Рейчел из вежливости улыбнулась, но не смогла не заметить боль и страх, которые мелькнули в глазах у Кристины. Она нисколько не сомневалась, что Кристина с Амели не смогут пойти на эту прогулку в парке, следовательно, в дальнейшем у Рейчел не будет возможности поговорить с подругой – ни наедине, ни в компании. Поэтому она нарочно перевернула бокал красного вина на собственную юбку.
– Рейчел!
Отец подхватил бокал, пока темное вино растекалось по чистой скатерти, а Герхард подозвал одетого в белую форменную куртку официанта.
– Моя лучшая поплиновая юбка! – ахнула Рейчел, в ужасе вскакивая с места и швыряя приборы на стол.
– Рейчел, успокойся! – велел отец.
Кристина стала промокать льняной салфеткой юбку подруги, пока доктор Крамер, который терпеть не мог беспорядка, отодвинулся от стола.
Герхард кричал на официантов, как будто это они разлили вино.
– Кристина, идем… поможешь застирать пятно на юбке. – Рейчел потянула подругу к лестнице, ведущей в коридор.
– Я пошлю официантку, – вмешался Герхард.
– Не желаю, чтобы незнакомые люди видели меня раздетой, Герхард! Кристина в состоянии мне помочь.
Герхард замолчал, заметив негодование Рейчел, и та потянула подругу за собой.
Оказавшись в дамской комнате, Кристина направилась к умывальнику, но Рейчел увлекла ее на диван.
– У нас мало времени. Скорее всего, у нас не будет другой возможности поговорить наедине. Прости, что не поверила тебе, Кристина. Прости… я не знала о приказе, не знала о том, что детей… – Рейчел не могла подобрать слова. – Я хочу помочь тебе, помочь Амели, только не знаю, как вывезти ее из страны.
Кристина покачала головой.
– Герхард выдвинул мне ультиматум: до субботы я должна отвезти Амели в Бранденбург, после того как он вернется из очередной поездки во Франкфурт. Или он сам ее отвезет. Понятия не имею, что делать. Как его остановить? – Ее глаза наполнились слезами. – Он ни за что не позволит мне отдать дочь в другую семью… не позволит вывезти ее из страны. Он говорит, что Амели нужно отослать – никаких «концов», которые могли бы подвергнуть сомнению его родословную.
– Неужели у тебя нет человека, который мог бы ее забрать? Спрятать?
По щекам Кристины потекли слезы отчаяния.
– Никого. Я точно знаю: в живых Герхард ее не оставит. А долго ее прятать я не могу. Все боятся. Соседи доносят на соседей. Дети из гитлерюгенда стучат на братьев и сестер, родителей, учителей. – Она закрыла лицо руками. – Моя бедняжка Амели!
«Немцы не могут быть такими бессердечными – они не могут знать обо всем и потакать этому!» Но не они одни были слепы, и Рейчел это понимала. Еще никогда она не чувствовала себя такой беспомощной, связанной по рукам и ногам. Рейчел не видела выхода. Она в отчаянии взъерошила волосы.
Что сказал ей Джейсон Янг? «Я ничем не смогу вам помочь, если вы сами не пожелаете снять розовые очки…»
«Что ж, мистер Янг, я сняла очки. Покажите, чем можете мне помочь, – я готова вас выслушать».
– Кристина, нельзя сдаваться. Успокой Герхарда, чтобы он не волновался. Пообещай, что к концу недели отвезешь Амели в центр. Скажи, что просто хочешь провести с ней еще несколько дней.
– С ума сошла? Я не могу!
– Ты не можешь, но я знаю человека, который – возможно – окажется настолько безумным, что поможет нам. Давай адрес центра.
* * *
Когда они вернулись в гостиницу, отец Рейчел был не в настроении разговаривать.
– Ты нас обоих поставила в неудобное положение. Никогда не думал, что ты такая неловкая. Складывалось впечатление, будто ты старалась меня унизить.
– Тем, что уронила бокал? Отец, подмочена моя юбка, а не твоя репутация. С нами были только Герхард и Кристина. Какое это имеет значение?
– Огромное! – отрезал он, постукивая сигаретой по серебряному портмоне, и настолько увлекся, что раздавил ее кончик.
В это мгновение Рейчел стало ужасно жаль отца, но она не смогла сдержаться. От этого зависела жизнь Амели.
– Отец, я хотела бы забрать Амели с нами в Америку.
– Что?
– Я хотела бы забрать Амели, – мягко настаивала она. – Ты слышал, что говорил Герхард. Сейчас в Германии нет места для глухого ребенка. В Нью-Йорке мы могли бы обеспечить ей необходимую помощь. Там есть школы для глухих детей.
– Рейчел, не вмешивайся. Это не твое дело.
– Я же ничего у тебя не прошу, только помочь мне убедить Герхарда. Он уважает тебя и…
– Довольно! – Профессор никогда не повышал голос на дочь, поэтому такое неожиданное поведение сбило Рейчел с толку. – Не хочу с тобой спорить. Я спорил с половиной ученых-евгенистов Германии, и тщетно. – Морщины на его изможденном лице служили лучшим доказательством сказанного.
– В таком случае ты отлично знаешь, чем они занимаются. И понимаешь, что мы должны спасти Амели. Отец, она дочь Кристины!
– До нашего приезда ты не хотела даже слышать о Кристине.
– Я обиделась, когда она сбежала с Герхардом, не написав мне ни строчки. Но это не означает, что я хочу, чтобы этого ребенка убили!
Профессор упал на диван и, обхватив голову руками, наклонился вперед.
– Мы ничем тут не поможем. Ты понятия не имеешь о том, что на кону. Герхард сказал, что девочку отправят на лечение…
– Мы можем забрать ее с собой! Кристина мне как сестра!
– Она не твоя сестра! Она тебе не ровня! – взорвался отец.
Рейчел опустилась перед ним на колени.
– Я этого и не говорила. Отец, я не знаю, что обо всем этом думать; не знаю, во что верить. Знаю одно – детей убивать нельзя!
Крамер побледнел.
– Великие дела требуют особых жертв.
– Но это же не означает, что нужно убивать детей!
Он откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза.
– Грань тонка. Дело всей моей жизни – искоренить туберкулез, сделать человеческую расу сильнее. На благо людей. Я предполагал, что на благо и жертвы – стерилизация – только для тех, кто болен, чтобы они не передавали эту болезнь последующим поколениям. – Голос его дрожал.
– Тогда… – начала Рейчел.
Но он не дал ей сказать.
– Довольно. Больше ничего не говори. – Профессор открыл глаза, схватил ее за пальцы. – Над всем, что происходит здесь, я не властен. Нам есть о чем подумать, есть что обсудить.
– Что может быть лучше, чем…
– В присутствии моих коллег ты обязана намекать… нет, должна высказываться вполне определенно, что тебя интересует замужество, что вскоре ты намерена выйти замуж.
– Что?
– В противном случае они подумают… в противном случае они подумают, что ты ненормальная. В сегодняшней Германии важнее всего быть… казаться… здоровой, сильной и нормальной.
– Отец, это не обо мне!
Усталый, он подался вперед и настойчиво произнес:
– Ты ошибаешься. Как ты ошибаешься, Рейчел! Это именно о тебе – это всегда было и есть о тебе. Никогда этого не забывай!
Рейчел понимала, что именно так она и думала… всегда – ее вырастили с мыслью, что она лучшая. Но после того как девушка увидела отчаявшуюся Кристину и узнала, что ее глухой дочери собираются сделать эвтаназию, она стала задаваться вопросами.
– Ты же понимаешь, что были некие условия. Касающиеся тебя и твоего удочерения.
– Какие условия? Я гражданка Америки. Какое…
– По месту рождения ты еще и немка – и прекрасно об этом знаешь. Я сделаю для тебя все, что от меня зависит. Но ты должна быть готова…
– Готова к чему? – Рейчел чувствовала, как растет ее беспокойство.
– Рейчел, я очень устал. Я узнáю больше после встречи с коллегами во Франкфурте. – Профессор встал. – Давай поговорим, когда я вернусь.
– Ты уже вернулся!
Он положил руку дочери на плечо, нежно, что было совсем на него не похоже, сжал его.
– Планы изменились. Я уезжаю рано утром. Не стану тебя будить. К концу недели мы вернемся ночным поездом.
– А Герхард тоже едет с тобой?
– Да.
По голосу профессора можно было подумать, что он несет на себе весь груз земной. Отец закрыл дверь.
Рейчел необходимо было знать, что он хотел сказать и какое отношение она имела к его встрече – почему он так скоро возвращается во Франкфурт? И что означает его крепнущая связь с Герхардом Шликом? Почему эсэсовец столько времени проводит с ученым, занимающимся евгеникой?
Единственное, что связывало Рейчел с Франкфуртом, – бесчисленные осмотры у доктора Фершуэра. Она всегда полагала, что ездит туда потому, что отец знаком с доктором Фершуэром и доверяет ему, потому что он и ее мать так дорожили своей приемной дочерью и считали, что немецкие врачи лучше американских. Но такие объяснения больше не казались девушке логичными. Какова их настоящая цель? «Какова цель моего отца теперь?»
* * *
Когда сгустились сумерки, Лия вышла из кабинета курата, намереваясь отправиться домой по самой длинной дороге. Ей нужно было время, чтобы подумать.
Священник назвал ее чудом. Лию никогда еще чудом не называли, в этом она была абсолютно уверена.
Тем утром курат Бауэр дотошно расспрашивал ее и она честно ему отвечала.
– Вы умеете читать ноты? – поинтересовался он.
– Да.
– Поете?
– Я люблю петь.
– Вы сможете держать в руках целый класс неуправляемых детей?
– Возможно…
– Могли бы ежедневно выделять время на репетиции?
– Конечно.
Но он не спросил самого главного: о том дне, когда она кричала в его храме о зле, которое так глубоко укоренилось в ее душе, что она его не видела, не могла назвать. Курат просто продолжал объяснять Лии ее обязанности, как будто предлагал работу. Она слышала его слова, однако не все понимала: так громко билась в ее сердце надежда.
Курат Бауэр – добрый, милый курат Бауэр из римской католической церкви Святых Петра и Павла – предлагал ей, ничтожной, бесплодной протестантке Лии Гартман возможность руководить детским хором самых маленьких школьников – семнадцатью неуправляемыми, буйными, шумными хулиганами, которым еще и восьми не исполнилось, если верить словам фрау Фенштермахер. Репетиции не имели никакого отношения к постановке «Страстей Христовых», просто надо было учить детей пению и удерживать их подальше от неприятностей. О большем Лия и не мечтала. Только бы в Институте об этом не узнали.
Она согласилась. Но позже в ее душе поселился страх – живое существо, которое сворачивалось клубком и разворачивалось. Уже днем она остановилась у дверей кабинета курата. Понимая, что очередного разочарования она не вынесет, женщина не смогла сдержаться и полагала, что и эту радость у нее отберут, как только она решится в нее поверить. Лия еще раз напомнила священнику о том дне, когда он встретил ее в церкви.
Лии почти не верилось, что она решилась на подобный поступок, говорила таким деловым, прозаичным тоном. Курат Бауэр был не женат, собственных детей не имел – это был его осознанный выбор – он дал обет. Как ему понять, что такое боль из-за стерилизации? Что такое презрение, которое испытывали к бесплодной пациентке врачи, открыто заявлявшие, что знают ее как свои пять пальцев, хотя она сама себя не знала. Что такое ужасный страх, что муж перестанет ее любить. И Лия обо всем рассказала курату… дважды.
После того как она еще раз исповедуется – напомнит ему о своей нечестивости, – он наверняка передумает. Лучше вообще не знакомиться с детьми, чем думать, что потом их у нее заберут. На этот раз курат плакал и молился вместе с молодой женщиной. Он отреагировал странно: сказал, что не может жалеть ее, потому что у каждого свой крест и Отец Небесный таким образом введет ее в Царство Божие.
Лия не до конца поняла, что он имел в виду. Она поверить не могла, что Господь сначала презирал ее, а потом благословил, позволив опекать этих драгоценных детей. Вероятно, потом Он увидит, что совершил ошибку, и заберет их у нее. Но пока Господь этого не сделал, Лия была намерена стать самым лучшим руководителем детского хора, какой только был в Обераммергау, – не ради грядущего праздника, а ради самих детей.
Она отдаст им всю свою любовь до последней капли.
На каждую репетицию она будет приносить свежее молоко от своей коровы – и плевать, что из-за этого меньше молока продаст на рынке. Она пороется по сусекам и купит или выпросит все необходимое, чтобы испечь штрудель, кекс и пирог с начинкой. Нет, наверное, пить молоко перед репетицией не годится – оно будет обволакивать голосовые связки. Вода – вот что нужно. Но после репетиции Лия будет поить детей молоком, чтобы домой малыши возвращались не с пустыми желудками.
Она сошьет новые наряды к празднику – для каждого ребенка. Лия была уверена, что Фридрих не пожалеет денег на ткань. А если окажется, что сшить новые наряды очень дорого, что ж, у нее есть старые, ненужные занавески. Наверное, они подойдут даже больше – лучше впишутся в праздник.
Лия засмеялась – негромким нежным смехом, который слышали только она сама и Господь. Она дождаться не могла, когда напишет Фридриху. Он сразу поймет, что для нее это значит. Но она не расскажет ему о том, о чем сказала курату Бауэру. Даже от Фридриха Лия скрыла, как ее клеймили позором врачи в Институте. Она отмахнулась от этих воспоминаний – по крайней мере, на время.
Обходя деревушку, Лия начала негромко напевать. Настала ночь. Когда женщина дошла до ворот своего дома, небо стало угольно-черным и звезды на нем казались белыми огоньками – наверное, еще никогда они не светили так ярко. Лия не помнила, когда чувствовала себя более чистой, более умиротворенной. Интересно, как долго продлится это ощущение? Или это всего лишь мгновенное просветление в ее жизни? Она не станет спрашивать об этом у Бога. Пока что она будет воздавать Ему хвалу.
Лия улыбнулась и со смехом и слезами стала обнимать себя. Этой ночью даже у Генриха Гельфмана, который так и не вернул фигурку младенца Иисуса и упрямо заявил курату Бауэру, что и не вернет, появился нимб над головой.
* * *
Джейсон Янг зевнул, потянулся. Он уже семнадцать часов посвятил репортажу – и последние три провел, стуча по клавишам печатной машинки. Джейсон только что передал свой материал в Нью-Йорк по телефону и уже намеревался идти спать – долго-долго, – но тут на столе зазвонил телефонный аппарат. Янг взглянул на часы. Половина второго. Ночь он проведет на раскладушке в отделе новостей. Телефон опять зазвонил. Джейсон хотел было проигнорировать звонок, но журналист в нем взял верх.
– Мы можем поговорить? – задыхаясь, спросил на том конце провода женский голос по-английски. Он был таким же напряженным, как и у всех информаторов Джейсона в Германии.
– С моей роковой дамой? Разумеется! – хмыкнул Джейсон, неожиданно почувствовав, что полностью проснулся.
– Вам весело, да?
– Я вообще известный балагур. Чем могу помочь? – Джейсон старался не называть имен, будучи уверенным в том, что все телефоны редакции прослушиваются.
– Кофе. Вы любите кофе?
– Настоящий кофе – очень люблю!
– И я. Завтра утром в одиннадцать? На нашем углу.
– Увидимся в одиннадцать.
Джейсон положил трубку на рычаг. «Она напугана. Что-то произошло». Он расправил рукава, перекинул пиджак через плечо и поспешил к двери, недоумевая, что же произошло. Джейсон радовался тому, что она позвонила. И сомневался, что теперь ему удастся заснуть.
10
Джейсон ждал на том углу, где встретил Рейчел после убийства детей. Увидев приближающуюся девушку, он приподнял шляпу в знак приветствия, и они пошли рядом. Кафе находилось неподалеку, и Джейсону приятно было прогуливаться по Тиргартену в компании Рейчел.
Через полчаса им принесли заказ и девушка закончила свою историю.
– Давайте уточним. – Джейсон перегнулся через столик к Рейчел, но его невероятно отвлекали и запах ее духов, и серебристые блики в голубых глазах. – Вы хотите, чтобы я спрятал глухого ребенка, который не понимает, что я говорю, до тех пор пока Гитлер со своими приспешниками не потерпят крах и не исчезнут, а потом вернул его целым и невредимым, и желательно с улыбкой на лице, любящей матери, супруге офицера СС – которому, кстати, не терпится перерезать им обоим горло?
Рейчел откинулась на спинку стула, зажмурилась от утреннего солнца, лучи которого струились сквозь ветви лип. Она медленно потягивала кофе, потом поставила чашку.
– Я понимаю, что это задача непроста…
– Непроста? Она невыполнима, опасна… и может стоить мне головы.
– Мне больше не к кому обратиться, некому довериться. – Рейчел выглядела отчаявшейся.
– Я вам помогу.
– Если мы будем сидеть сложа руки, отец Амели в конце недели отвезет девочку в центр… – Рейчел запнулась. – Поможете?
– Помогу. – Джейсон откинулся на спинку стула. Он выглядел серьезным и сосредоточенным. – Не знаю как. Но я знаком с теми, у кого есть связи с людьми, которые могут нам помочь. Мне нужно немного времени. Первое – найти место, куда ее можно спрятать… найти человека, который позаботится о девочке. А потом нужно сделать так, чтобы казалось, будто она исчезла навсегда.
– Я хочу забрать ее с собой в Америку. Тайком от Герхарда.
– Вам ни за что не вывезти глухого ребенка из Германии. Если вы не заметили, сюда вы приехали без ребенка. Вас не выпустят с немецкой малышкой, если вы решитесь поспешно бежать, мисс Крамер.
– Мне бы очень хотелось, мистер Янг, чтобы вы перестали разговаривать, как гангстер из Чикаго, – нахмурилась Рейчел.
– Вы слышали, что сегодня США объявили нейтралитет? Не уверен, что мы можем рассчитывать на наше правительство… сейчас или когда-нибудь.
– Тогда что вы предлагаете?
– Дайте мне сорок восемь часов. Посмотрим, кто сможет нам помочь и что я смогу придумать.
– Вы знакомы с влиятельными людьми?
Джейсон пожал плечами и отвернулся. Он не мог поделиться с Рейчел тем немногим, что знал сам.
– Поглядим.
– Почему? Почему вы беретесь мне помочь?
Джейсон не знал, что ответить. Он не был уверен, что знает ответ. Только понимал, что Гитлера ему не остановить, как не остановить евгенистов и того безумия, которое творилось во имя создания сильной Германии. Джейсона тошнило от того, что мир переворачивается и никто ничего не предпринимает. Может быть, если он спасет жизнь этой девочки… возможно, это что-то да изменит.
Янг взглянул на Рейчел – такую одновременно красивую, и смущенную, и ранимую, и гордую. Беспомощность девушки напомнила ему о собственном бессилии, которое он уже много месяцев испытывал в Германии. Напомнила о недавнем разговоре…
– На прошлой неделе я брал интервью у одного профессора-еврея – человека, который много лет работал в Берлинском университете и был корифеем в своей области. Три года назад его уволили с кафедры, лишили гражданства, конфисковали – «ариизировали» – его имущество и вполовину сократили продовольственный паек. Сейчас профессор метет улицы – когда повезет. В такие дни ему удается немного поесть. Даже эти крохи он делит с женой и соседом-евреем. После интервью я отдал ему свой обед. Можно было подумать, что я преподнес ему на блюде целый мир. В знак благодарности профессор подарил мне пословицу: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь свет».
Рейчел недоуменно уставилась на собеседника. Джейсон почувствовал, что внутри нее что-то происходит, идет борьба, рождаются мысли.
– Я ничего не знаю о тысячах людей, которых вычеркнули из общества, которых посадили в тюрьмы и которые умерли на каторжных работах. Но я хочу узнать о них, и сейчас – как раз подходящий случай. Кроме того, возможно, мы сумеем спасти не одного ребенка.
Джейсон встал, спрятал в карман адрес медицинского центра.
– Пообедаем вместе в четверг в «Уммерпляц», в двенадцать ноль ноль. Больше никаких звонков по телефону. Редакция прослушивается. Глаза и уши Геббельса прикованы ко всему, что попадает в прессу. Он не хочет, чтобы газеты «порочили» репутацию Германии перед мировым сообществом, а убийство детей может подмочить репутацию фашистов, невзирая на пропаганду.
Рейчел, широко распахнув глаза, кивнула.
Джейсон понимал, что для нее открылся новый мир. И был рад, что она так все воспринимает. Кому-то ведь необходимо знать правду. Журналистам не всегда удается разбудить людей.
– Такое нельзя печатать в газетах, – прошептала Рейчел. – Только не здесь и не в Америке. Для Амели это очень опасно, и для Кристины тоже.
– Что уж говорить о вас. – Джейсон швырнул на стол монетку. – Сейчас я ничего печатать не буду, не стану называть никаких имен. Но когда-нибудь этот материал выйдет в свет и станет сенсацией. Не забывайте об этом.
* * *
Спустя два дня Рейчел получила от Джейсона общие указания и передала их Кристине, с которой он пообещал связаться лично и обсудить детали. На следующий день – за день до возвращения Герхарда и ее отца из Франкфурта – была проведена операция по спасению девочки. Рейчел не знала, что это означает; знала только то, что общий план Джейсона звучал слишком дико, чтобы сработать, – и хорошо, если в процессе никого из них не поймают и не убьют.
Сама Рейчел должна была оставаться в гостинице – крутиться на глазах у служащих, создавать себе алиби. Но с другой стороны, это означало, что она ничего не узнает о том, как все прошло, пока не получит известий от Джейсона, который подтвердит, что Амели в безопасности. А уж потом Рейчел передаст новость Кристине. Джейсон верил, что чем меньше женщины будут посвящены в детали, тем естественнее будут себя вести. Но Рейчел знала: просто сидеть и терпеливо ждать – выше ее сил. Впрочем, на занятиях по театральному мастерству она научилась изображать невинность и разыгрывать озабоченность.
* * *
Кристина ценила каждую минуту последнего дня, который ей предстояло провести со своей малышкой Амели. Молодая женщина старалась запомнить каждую улыбку, то, как девочка выглядит во сне, каждый взмах ее ресниц, румянец на щечках. Она постоянно знаками показывала дочери, как любит ее, твердила, что Амели радость и свет ее жизни. Как могла, говорила дочери все, что не сможет больше сказать никогда.
В пятницу утром Кристина встала рано, чрезвычайно заботливо выкупала и одела свою малышку, завила ей волосы. Затем приколола розовый атласный бантик к золотистым локонам Амели – это украшение идеально подходило к кремово-розовому платьицу с буфами, любимому наряду Кристины, который она сшила своими руками.
Она уложила в чемодан дочери ее лучшие летние наряды, несколько платьев и ярко-красную куртку на осень – как будто твердо верила, что она понадобится. Женщина знаками объяснила Амели, теперь уже взрослой девочке, что та отправляется в путешествие одна, без мамы. А потом Кристина прижала ребенка к груди, не давая Амели возможности ответить жестами, что она ничего не понимает.
Несколько раз Амели тянула к матери ручки, проводила пальчиком по слезам, которые текли по щекам Кристины, пробовала их на вкус, потом беспокойно морщила бровки. Девочка тыкала крохотным пальчиком между губ Кристины, пока не увидела, что мама улыбается. Тогда и сама Амели улыбнулась, как будто все вокруг должны были радоваться, и знаками показала: «Я люблю тебя, мамочка!» У Кристины разрывалось сердце.
Дважды Кристина опускала руки, понимая, что не сможет пройти через это испытание, и зная, что обязана это сделать. Иного пути нет, лучше плана не придумаешь. Но план был опасным – для Амели. Если Джейсон Янг и его доверенные люди допустят хотя бы малейшую ошибку, если на секунду опоздают… Об этом нельзя даже думать! Она должна верить, что они сделают все, что необходимо – что на их стороне Господь и Он поможет им исполнить их миссию.
В девять часов Кристина подхватила небольшой чемоданчик, провела свою доченьку по коридору, закрыла за собой дверь дома. Затем взяла маленькую розовую ладошку Амели в свою руку и направилась на вокзал, отчаянно пытаясь остановить мгновение, запомнить каждый вдох дочери.
Когда они добрались до медицинского центра, Кристину била дрожь. Амели обычно радовалась поездкам с мамой, но сейчас зарывалась лицом в ее юбку и капризничала. Кристина понимала, что девочка реагирует на напряжение, исходящее от матери, но ничего не могла с собой поделать. Не могла вести себя более естественно. Женщина знала: что бы ни произошло, она больше никогда не увидит дочь с той секунды, как выйдет из медицинского центра.
– Не хмурьтесь, фрау Шлик, – попеняла ей медсестра из приемного покоя. – Вы приняли правильное решение. Благодаря нашим порядкам девочка расцветет, она получит самое квалифицированное лечение.
Глаза Кристины наполнились слезами. Она едва не рыдала, когда подписывала бумаги.
– Это ваш долг как добропорядочной немецкой матери, – вещала медсестра.
Подобное проявление чувств со стороны молодой матери вызывало у нее явное отвращение.
Кристина была больше не в силах все это выносить.
– Я не «добропорядочная немецкая мать», фрау Браун. – Она швырнула ручку на стол. – И уверяю вас, я лучшая из матерей. Я люблю свою дочь больше жизни! А теперь дайте мне мой экземпляр бумаг.
Фрау Браун покраснела, приняла сосредоточенный вид и стала подписывать, разбирать копии и оригиналы. Потом встала, рывком протянула один экземпляр документов Кристине.
– Вы же не хотите опоздать на поезд, фрау Шлик?
Кристина не спеша свернула документы, спрятала их в сумочку и щелкнула застежкой. Но вся ее злость куда-то испарилась, когда она вновь повернулась к дочери. Кристина присела, заключила Амели в объятия, стала покрывать ее поцелуями. Девочка, широко распахнув голубые глазенки, уцепилась за мать.
Закрыв глаза, Кристина пыталась запомнить ощущения от прикосновения дочери, которая обвила ручками ее шею, тепло ее хрупкого тельца. Запомнить, как бьется сердечко Амели, когда мать прижимает ее к груди.
– Вам пора, фрау Шлик. Вы только расстраиваете ребенка, – настаивала сестра Браун.
Она с силой разжала ручки Амели, обнимавшие шею Кристины.
В одно безумное мгновение Кристина хотела было схватить Амели, вырвать ее отсюда и бежать, бежать с ней без оглядки.
– Уверяю вас, так всем будет лучше. Мы действуем по плану. Или мне позвать охрану? – пригрозила медсестра.
«Да, по плану! Я должна действовать по плану… ради Амели». Кристина зашептала дочери на ушко:
– Я всегда буду любить тебя… пока живу… и после смерти тоже!
Кристина знала, что Амели все равно ничего не слышит, но она была абсолютно уверена, что девочка понимает ее сердцем.
Встав, Кристина отстранилась от Амели и знаками показала дочери, что та должна пойти с этой женщиной. Но Амели не хотела уходить. Она сопротивлялась, в широко распахнутых глазах застыла тревога, ручки тянулись к маме.
– Ты должна идти, дорогая.
Кристина опустила руки. Теперь расстояние между ней и дочерью стало еще больше.
Фрау Браун потащила Амели за собой, обхватив ее за талию. Малышка испугалась и завизжала. Медсестра вызвала помощь. Появился санитар, подхватил брыкающуюся Амели и безо всякой нежности унес ее за дверь, которая с громким щелчком закрылась у них за спиной.
Из-за слез Кристина не видела ничего, кроме зловеще поджатых губ фрау Браун. Она не слышала и не понимала, что ей говорят. Единственной ее мыслью была: «Амели! Моя Амели!»
Любовь к дочери погнала ее прочь из кабинета, по коридору, потом на улицу. Обезумевшая от горя, но отчаянно желающая знать, как воплотится в жизнь план по спасению ее драгоценной девочки, Кристина замедлила шаг. Не прошло и минуты, как у нее за спиной прогремел взрыв.
* * *
Джейсон видел, как Кристина опустилась на колени перед Амели у двери клиники, сунула что-то за ворот платья малышки, прижалась лбом ко лбу дочери. Они сказали что-то друг другу с помощью пальцев – этих знаков Джейсон не понял. Идиллия: мать и дитя.
Джейсон отвернулся, ощущая неловкость из-за того, что стал невольным свидетелем подобного проявления нежности. Он дождался, когда Кристина покинет здание, потом подал знак своим друзьям-заговорщикам. Группа Сопротивления была настолько секретной и ее члены были настолько тесно связаны между собой, что Джейсон даже не знал, кто заложил бомбу, кто закричал, кто вызвал пожарных, кто заблокировал дорогу гружеными повозками и инсценировал аварию с велосипедом, чем еще больше отсрочил приезд пожарных, которых и без того послали по неверному адресу.
Он не знал, как звали женщину, которая неистово спорила во дворе с фрау Браун и остальными сотрудниками центра, и откуда неожиданно взялась толпа пешеходов, которые бросились спасать оставшихся детей из горящего здания. Джейсон понятия не имел, кто в дыму и суете украл детский чемодан, который он сейчас держал под мышкой.
Сам Джейсон участия в движении Сопротивления не принимал, его знакомства были мимолетными. Но он нахлебался достаточно нацистского дерьма и заводил друзей среди тех, кто был знаком с людьми, которые в свою очередь были знакомы с теми, кто управляет движением. Джейсон доверял «друзьям своих друзей» – они знали, что делают, поэтому он сам сосредоточился на том, чтобы выжать из медперсонала историю происшедшего: как могло такое случиться? Почему они халатно относятся к оборудованию? Неужели они не понимают, что дети могли погибнуть? И подробно записывал имена. Повсюду царила суета, когда Джейсон велел фотографам во всех ракурсах снимать горящее здание и испуганных, но живых детей.
К тому времени, когда наконец-то приехали пожарные, уже собралась толпа из местных жителей, которые продолжали загораживать подъезд. Когда же брандспойты развернули в сторону пламени, от здания остались одни стены; жар был настолько сильным, что никакой надежды проникнуть внутрь не было.
Кристина Шлик с обезумевшими глазами и растрепанными волосами бегала от ребенка к ребенку, от медсестры к санитару и вновь к медсестре. Она искала Амели – плакала, звала дочь, которую только что оставила в клинике. Кристина безукоризненно исполнила свою роль, но Джейсон знал, что это не игра.
Журналист едва сдержался, чтобы не схватить ее, не начать успокаивать, уверяя, что Амели и остальные дети похищены, их везут в секретное место, чтобы спрятать. Но он не мог, не решился заговорить с Кристиной, чтобы не выдать себя. Вместо этого он послал фотографа, чтобы тот запечатлел впавшую в истерику, убитую горем мать. И в то же время придумал вариант истории для газет, который – Джейсон молился, чтобы так и было, – всколыхнет Берлин и Нью-Йорк.
11
Рейчел была просто в ужасе, когда в утренних газетах, на пятой полосе, прочла душераздирающий репортаж. В нем рассказывалось, что кто-то позвонил пожарным и направил их по неверному адресу. Автор хвалил отважное местное население: обычные прохожие бросились спасать детей, когда в медицинском центре взорвались старые бойлеры. Тел погибших не нашли. Сильный огонь не дал пожарным возможности войти в здание, пока все внутри не превратилось в пепел. Четырехлетняя Амели Шлик и еще двое детей из предместья Берлина были признаны погибшими. Дело закрыто. Заупокойную службу по ним отслужат утром в воскресенье.
Рейчел никогда бы не согласилась на взрыв, никогда бы не стала рисковать жизнью детей. При мысли о Кристине внутри у нее все сжалось. Если бы ее подруга могла еще раз обнять свою доченьку или, по крайней мере, точно знать, что она в безопасности! Но здесь Рейчел была бессильна: веских доказательств того, что Амели жива, у нее не было. Девушка не решалась звонить Джейсону, боясь, что за ней следят и что телефон – ее или его – прослушивается. Ей и, следовательно, Кристине оставалось только ждать.
* * *
Амели запомнила сильные руки, оторвавшие ее от мамы, вырвавшие ее из маминых объятий. Девочка помнила, как мужчина в белом халате закрыл ее в комнате с другими детьми. Те ее заинтересовали – почти все они были намного старше Амели. Но ей хотелось к маме. У остальных детей мам не было. А где их мамы?
Когда в воздухе появился резкий запах и повис туман, взрослые рывком открыли дверь, стали хватать детей и выносить их из комнаты в горящий коридор. Амели испугалась происходящего, испугалась взрослых и смотрела на них полными ужаса глазами. Девочка спряталась за стоявшую в углу детскую кроватку.
Вернулся мужчина в белом халате. Через перекладины кроватки Амели видела, как шевелятся его губы, видела его искаженные черты, видела, как он кашляет из-за все сгущающегося дыма и жара. Он казался таким противным, таким злым – похожим на ее отца, когда тот бывал ею недоволен. Девочке не хотелось, чтобы этот человек ее увидел, вновь к ней прикоснулся. Амели крепко зажмурилась и сжалась, как только могла, стараясь превратиться в клубочек под кроватью.
Она не заметила, когда сильные руки рывком вытащили ее из укрытия. Амели больно ударилась о дно кровати головой. Закричала от боли. А потом руки уронили ее на пол. Мужчина отшатнулся назад. Затем девочку подхватили другие руки, завернули в одеяло, да так крепко, что она едва могла дышать.
И понесли. Пока незнакомец бежал, Амели подскакивала вверх-вниз. У нее в ушах пульсировала кровь. И еще девочка чувствовала, как липкая кровь сочится из ее разбитого лба. А потом стало темно.
* * *
Когда в номер Рейчел подали воскресный кофе, она получила нацарапанную на салфетке записку. Два слова, которые так много значили:
«Жива-здорова».
Девушка отправилась с отцом на воскресную поминальную службу, которая проходила в самой большой в Берлине кирхе. В темной церкви собралось десятка два людей, чтобы оплакать и отдать дань уважения погибшим – большей частью это были любопытные соседи, жившие неподалеку от эпицентра взрыва.
Герхард был образцом немецкого офицера-стоика, смиренно сносящего горе. Сгорбленная, заплаканная Кристина была так бледна, что этого не скрывала даже черная вуаль.
Никакие слова лютеранского пастора не могли утешить молодую мать. Рейчел чувствовала, что участие, которое проявлял Герхард к жене перед собравшимися в церкви, показное. Но девушка радовалась, что у него хватило такта вести себя на публике как подобает. Она надеялась, что так или иначе это послужит Кристине поддержкой.
Но когда немногочисленные скорбящие начали расходиться, а Кристина преклонила колени у алтаря и слушала пастора, Герхард отступил и подошел к Рейчел и ее отцу, как будто это они были его семьей, которая заботит его больше, чем Кристина.
– Прими мои соболезнования, Герхард, – сказал профессор, протягивая ему руку.
Герхард кивнул.
– Печальный конец.
В груди у Рейчел вскипел гнев.
– Печальный, герр Шлик?
– Ты же сама видишь, как смерть Амели повлияла на Кристину. Я каждый день был свидетелем того, как влиял на нее ребенок. – Эсэсовец расправил плечи. – Кристина будет скорбеть. А мы посмотрим, сможет ли она пережить утрату.
– Ей нужно отвлечься. – Решение пришло к Рейчел неожиданно. – Отец… – Она тронула его за плечо. – Я бы хотела увезти Кристину с нами в Штаты. Ей необходимо развеяться. – Она повернулась к Герхарду. – Путешествие пойдет ей на пользу.
В глазах офицера вспыхнуло удивление, потом от него повеяло холодом.
– Об этом не может быть и речи.
– Почему? – настаивала Рейчел. – Посмотри на свою жену, Герхард, – она в отчаянии. Ей нужна помощь.
– Именно поэтому я и не могу позволить ей уехать от меня. Лучшие врачи работают у нас здесь, в Германии. Я прослежу за тем, чтобы Кристина получила необходимую помощь и уход. – Он наклонился к Рейчел. – Вы забыли, фрейлейн Крамер, что Кристина моя жена, что я тоже потерял этого несчастного ребенка, поэтому и скорбеть мы, конечно же, должны вместе. Этого требуют приличия.
– Ты не похож на убитого горем отца.
– Рейчел! – предостерегающе воскликнул ее отец. – Сбавь тон.
Она заговорила тише, но сдержаться не смогла.
– Отсутствие жены даст тебе возможность целиком посвятить себя своей чрезвычайно важной работе. И отважусь предположить, что ты знаешь, где найти утешение.
На губах Герхарда застыла полуулыбка. Он наклонился к Рейчел еще ближе и прошептал ей в самое ухо:
– Если это приглашение…
Девушка почувствовала, как волна негодования заливает ей шею, лицо и руки до кончиков пальцев. Она бы отвесила Шлику пощечину, если бы не заметила приближающуюся к ним Кристину.
Рейчел шагнула к подруге, заключила раздавленную горем женщину в объятия.
– Я хочу, чтобы ты знала, Кристина: я тебя люблю и хочу, чтобы ты вернулась с нами домой, в Нью-Йорк. Отдых пойдет тебе на пользу. – Рейчел повернула голову, не разжимая объятий, и прошептала подруге на ухо: – Она жива и здорова.
Кристина в ответ так сильно сжала Рейчел в объятиях, что последняя едва не задохнулась.
– Рейчел, – с укором произнес профессор, – не вмешивайся. Место жены – рядом с мужем.
– Лучше и не скажешь, доктор Крамер. – Герхард потянул супругу к себе, высвобождая ее из объятий Рейчел. – Кристина, перестань, выше голову. Ты же жена офицера. Скоро будут отпевать целые семьи – это естественное следствие войны. Ты обязана подавать пример тем, кто был сегодня на панихиде.
12
И недели не прошло, как тело Кристины вытащили из реки Шпрее.
И вновь, всего через неделю после заупокойной службы по Амели, Рейчел с отцом стояла позади Герхарда в темной лютеранской церкви, где не было ни одного цветочка, и слушала, как тот же самый пастор, который, казалось, постарел лет на десять, служил заупокойную литургию.
На этот раз в церкви было еще меньше прихожан: только соседи, жившие справа и слева от Шликов; два эсэсовца с элегантно одетыми женами; какая-то старушка в шляпке с черной вуалью, признавшаяся, что время от времени продавала Кристине цветы; доктора Фершуэр и Менгеле, которые приехали по делам из Франкфурта, в наглаженных летних костюмах. За время жизни в Германии Кристина не сумела завести друзей. Герхард об этом позаботился.
Рейчел посмотрела в затылок Шлику, и ее сердце защемило. Она совершенно точно знала, что это он убил свою жену, как знала и то, что Кристина предвидела подобный конец. Но Рейчел не ожидала, что все произойдет так быстро. Она была уверена, что у нее будет время помочь Кристине сбежать и вместе с Джейсоном Янгом придумать, как помочь матери и дочери воссоединиться.
Лишь сейчас Рейчел поняла, как была наивна и насколько была права Кристина. Жаль, что ничего нельзя изменить, нельзя повернуть время вспять… А что бы она сделала? К кому еще могла бы обратиться за помощью? Рукой, затянутой в перчатку, Рейчел скомкала платочек и промокнула слезы, которые скрывала вуаль.
– Моя жена обезумела от горя, – признался Герхард, скорбящий вдовец, пастору, когда вынесли гроб. – У нее не было сил, не было смысла жить дальше…
– Штурмбаннфюрер Шлик. – Доктор Фершуэр протянул ему руку. – Это прискорбно.
Рейчел заметила, как он вглядывается Герхарду в лицо.
Но тот даже глазом не моргнул, выражая согласие.
– Кристина сломалась. – Шлик пожал плечами. – Река поманила ее, и она, по всей видимости, не смогла противостоять искушению.
Рейчел хотелось надавать им пощечин, накричать на них за разыгранную дешевую мелодраму – мелодраму, в которой невольно вынуждены были участвовать все присутствующие. Но отец увлек ее к выходу.
– Сегодня вечером у меня встреча с доктором Фершуэром и доктором Менгеле, пока они здесь в Берлине. Возможно, я вернусь поздно. Тебе вызвать такси?
Рейчел покачала головой. «В чем дело? Неужели он ничего не видит?»
– Отец, ты же знаешь, что это не самоубийство. Ты же прекрасно понимаешь, что Герхард…
Профессор резко схватил ее за локоть, обернулся через плечо. Рейчел заметила, что за ними наблюдает доктор Менгеле. Отец нервно кивнул коллеге. Девушка, не сопротивляясь, поспешно спускалась по церковным ступенькам под руку с отцом, который зажал ее ладонь, словно тисками, и быстро зашептал:
– Молчи, Рейчел!
– Но…
– Молчи! Случившееся тебя не касается. Ничего не поделаешь.
– Это убийство, отец.
– Прекрати! – Он встряхнул дочь, не останавливаясь ни на секунду. – Предупреждаю тебя! У тебя истерика. Возвращайся в гостиницу и жди. Я вернусь, как только освобожусь.
Но Рейчел была больше не в силах это выносить. Она вырвала руку.
– Отец, я хочу домой! Хочу вернуться в Нью-Йорк! Немедленно!
– Это невозможно.
– Что ты имеешь в виду? Ты же говорил, что мы поедем домой, когда… Завтра утром у нас самолет!
– Фрейлейн Крамер! – окликнул ее сзади Герхард, сбегая по ступеням церкви в компании Фершуэра и Менгеле.
Профессор предостерегающе взглянул на дочь.
– Не откажетесь ли с нами пообедать? – спросил Герхард – слишком беспечный и веселый для человека, только что опустившего крышку гроба, в котором покоилась его жена.
Обескураженная поведением отца, Рейчел решила сказаться больной.
– Нет-нет… я вернусь в гостиницу. Ужасно болит голова. И есть не хочется.
– Очень жаль, фрейлейн. Я надеялся, что вы составите нам компанию.
Рейчел почувствовала, что ее сейчас стошнит от его наглости. «Что с ними такое? С моим отцом? С остальными? Неужели они не видят, как ведет себя Герхард?»
Шлик взял ее за руку.
– Вы знаете, Кристина очень вас любила.
Рейчел попыталась высвободить руку, но Герхард не отпускал.
– Она была моей подругой.
– Да, я понимаю. Еще одно: уверен, что Кристина хотела бы, чтобы у вас осталось что-нибудь на память о ней… что-нибудь особенное.
Рейчел едва не задохнулась. Слезы горя и разочарования готовы были вот-вот хлынуть у нее из глаз.
– Мне бы хотелось, чтобы вы пришли ко мне домой, разобрали ее вещи. И взяли все, что пожелаете.
Рейчел не могла говорить: ее охватили отвращение, сожаление и нестерпимая боль из-за загубленной жизни Кристины.
– Вы понимаете, как это тяжело? Для меня это было бы подарком… и для Кристины тоже… – Шлик опять сжал руку девушки. – Пообещайте, что придете.
Рейчел боролась с собой. С одной стороны, она чувствовала, что хочет побыть рядом с вещами, принадлежавшими Кристине, изнывая от невозможности дать подруге знать, как отчаянно она сожалеет о том, что не поверила ей с самого начала, как раскаивается в своих заблуждениях. С другой – испытывала страх от того, как сильно Герхард сжимал ее пальцы. Девушка колебалась. Потом кивнула с несчастным видом.
– Я приду. Но только завтра. Вечером у нас самолет. – Она бросила вызов отцу, но тот отвернулся.
– Отлично! – Герхард едва сдерживал ликование. – Завтра в обед я за вами заеду.
На глаза Рейчел навернулись слезы, и она была не в силах справиться с собой. Но она не станет плакать в присутствии Герхарда Шлика и врачей. Рейчел отвернулась, готовая умчаться прочь. Она сделала пять широких шагов, тонкий каблук попал в стык между брусчаткой, и черная кожаная туфля соскользнула с ноги.
Вернувшись и надевая туфлю, Рейчел услышала слова доктора Менгеле – их донес ветер.
– Все встало на свои места. – А потом решительно добавил: – Больше никаких преград.
– Она послушается, – ответил отец. – Я гарантирую.
Рейчел взглянула на говорящих из-под вуали на шляпке. Все они пожирали ее глазами.
* * *
Джейсон Янг наблюдал за входом в церковь, спрятавшись за газетным киоском всего в квартале от церкви. Он обратил внимание на то, как Герхард и Рейчел разговаривали на ступеньках церкви, пока что-то писал под заголовком на первой полосе газеты. Когда компания из четырех мужчин уселась в черный «мерседес» и машина проехала мимо, Джейсон сложил газету и поспешил в противоположном направлении.
Он дождался, когда Рейчел дойдет до перекрестка, встал рядом с ней и случайно уронил газету. Потом поднял упавшую газету, протянул ее девушке и произнес достаточно громко, чтобы услышали стоявшие рядом:
– Прошу прощения, фрейлейн, вы уронили газету.
Не давая Рейчел возможности заговорить или каким-то образом показать, что они знакомы, Джейсон приподнял шляпу и запрыгнул в проезжающий трамвай.
Журналист с полчаса покатался на трамвае, потом вернулся в кафе, адрес которого написал под заголовком. Он подождет еще час, чтобы Рейчел успела вернуться в гостиницу и выскользнуть оттуда через черный ход на тот случай, если за ней следят.
Джейсон понимал, что ведет себя как в романе о шпионах. И хотел бы ошибаться, чтобы в этом не было необходимости.
* * *
В половине второго официант провел Рейчел к столику на террасе уличного кафе на Цигельштрассе. Каменные вазоны со стелющимися цветами – всех оттенков красного и белого – возвышались между коваными столиками. Рейчел заказала кофейный суррогат и порцию теплого яблочного штруделя с кремовым соусом – когда Рейчел была маленькой, мама часто пекла это лакомство, чтобы ее утешить. Жаль, что мамы больше нет. Она бы знала, как достучаться до мужа. Как сделать так, чтобы он вновь стал тем добряком, которым был раньше, – по крайней мере, Рейчел верила в то, что он таким был.
Словно закованный в непробиваемый панцирь мужчина, который встряхнул Рейчел на ступенях церкви и ошарашил ее новостью о том, что они, скорее всего, завтра в Америку не вернутся, который позволяет убивать детей и в том числе – дочь ее подруги, был незнаком Рейчел, и она не знала, как ему противостоять. Ее вырастил совершенно другой человек.
– О чем вы задумались, хотелось бы знать? – Неожиданно напротив Рейчел устроился Джейсон.
– Не стоит. Это грустные мысли. – Она прикусила губу и отвернулась, боясь разреветься прямо у него на глазах.
Джейсон взял ее за руку.
– Ваша маленькая бандероль в безопасности… как и остальные пропавшие без вести.
Рейчел закрыла глаза. По ее щеке покатилась слеза.
– Слава Богу! Спасибо за хорошие новости.
– Спасибо Богу и нескольким очень добрым и очень смелым немцам.
– И вам, – сглотнув, произнесла Рейчел, нисколько не покривив душой.
Джейсон пожал ее пальцы, откинулся на спинку стула.
– Она не может там долго оставаться… это слишком рискованно.
Сердце Рейчел упало.
– Тогда…
– Придется перевезти ее в другое место.
– Она похожа на Кристину? – Рейчел почти не хотела слышать ответ.
Джейсон усмехнулся, взял ее вилку, проглотил кусок штруделя.
– Только не сейчас.
Рейчел терпеливо ждала.
Журналист подался вперед и зашептал:
– Они коротко подстригли ей волосы и покрасили. Она по-прежнему блондинка, но более темного оттенка. Ее нарядили как мальчика. Но не уверен, что это поможет. Таких красивых мальчиков мне видеть еще не доводилось. – Джейсон откинулся на спинку стула и стал потягивать свой кофе. – Труднее всего скрыть глухоту. Издали все отлично – Амели ничем не отличается от других детей. Но подойди ближе, заговори – она не отвечает, не реагирует на резкие звуки. И общается с помощью знаков – по крайней мере, пытается это делать. Но Амели никто не понимает, поэтому стараются, чтобы девочка как можно дольше находилась в полудреме, чтобы она не привлекала внимание. Это опасно для всех. Поэтому… – он пожал плечами, – и возникла проблема.
Рейчел прижала ладони к глазам, потом к вискам. Она не могла помочь Амели. Даже себе она помочь не могла. Аппетит пропал, и девушка пододвинула штрудель Джейсону, который с удовольствием принялся за него. Вскоре тарелка оказалась пуста.
– Мне очень жаль вашу подругу. Никогда не думал, что она…
– Это не она! – отрезала Рейчел. – Это Герхард ее убил.
– Серьезное обвинение. У вас есть доказательства?
Рейчел смотрела на собеседника, решая, насколько можно ему довериться. Но больше доверять было некому. От отца помощи не дождешься – то ли из-за страха, то ли потому, что он продал остатки души Герхарду и докторам, которые занимаются евгеникой. А возможно, и самому рейхсфюреру – Рейчел не знала. Единственное, что ей было известно, – кроме Джейсона, у нее больше никого нет, а он к тому же спас Амели.
– Кристина говорила мне, что Герхард хочет от нее избавиться. Он намерен производить для рейха совершенных арийских детей – именно это требуется от высших чинов СС.
Джейсон кивнул.
– Это правда. Гитлер даже организовал домá, где поселил «генетически чистых» незамужних женщин, чтобы повысить рождаемость, – и все это находится в полном распоряжении великих представителей мужского населения Германии, сверхлюдей Гитлера.
– СС. – Рейчел почувствовала, как к горлу подступила тошнота. – Кристина говорила, что Герхард хочет освободиться от нее, чтобы жениться на женщине генетически – евгенистически – сильной, чистокровной. На той, кто никогда не родит ему глухого ребенка.
– В семье Кристины страдали глухотой?
– Нет!
– В таком случае откуда ему известно, что проблема в Кристине, а не в нем? Я не знал, что глухота вообще передается по наследству.
– Она не передается – по крайней мере, весомых доказательств этому не существует. Но евгеника полагает, что физические недостатки и уродства вызваны ослабленными генами в роду, и эти гены следует искоренять.
– Именно этого я и пытался добиться от вашего отца – публичного признания.
– Чтобы у вас взлетели тиражи? Чтобы вы смогли закрепиться на полосах газет? – Рейчел не смогла сдержать сарказм.
Джейсон перегнулся через стол.
– Чтобы не допустить победы евгенистов.
Рейчел пристально смотрела на собеседника. Он вновь откинулся на спинку стула.
– Но если мне выделят полосу, я возражать не стану, – признался Джейсон.
– Однако в США поддерживают идею стерилизации – чтобы некоторые люди не могли иметь детей.
– В Германии тоже проводят стерилизацию, если к родителям нет претензий. А если есть – носителей дефектных генов уничтожают. Дешево и сердито! – Сарказм журналиста не уступал едким замечаниям Рейчел.
– По словам Кристины, Гитлер дает распоряжение убивать тех, кто считается обузой для немецкого общества – кто «недостоин жить». Но мне кажется, что, даже следуя этим законам, нельзя оправдать убийство Кристины.
– Именно поэтому Шлик и провернул все так быстро после взрыва – чтобы сложилось впечатление, будто сломленная горем мать наложила на себя руки.
– Но Кристина не убивала себя – я точно это знаю! Я, как только услышала от вас новости, сказала ей, что Амели в безопасности. Сообщила об этом прямо в день похорон девочки. Кристина продолжала бы жить – в надежде однажды увидеть свою дочь.
Девушка закрыла глаза, чтобы отогнать видения: потасовка на мосту… потом дамба, берег – в реке Кристину и нашли. Рейчел представила ужас последних мгновений ее жизни. Она почувствовала, как Джейсон сунул ей в руку платок. Не открывая глаз, Рейчел приняла его, благодарная за молчание.
В конце концов журналист сказал:
– Когда все закончится – предположим, что мы сумеем сберечь Амели, – вы все еще хотите увезти ее в Америку?
Рейчел открыла глаза. Она бы рассмеялась, если бы задача не казалась настолько невыполнимой, настолько нелепой, абсурдной и пугающей.
– Я на это надеюсь… когда закончится эта глупая война. Но проблема в другом. Похоже, что я вообще не вернусь в Нью-Йорк.
– Что?
Она рассказала Джейсону о разговоре с отцом на ступеньках церкви. О том, что завтра они никуда не летят. О приглашении Герхарда. О словах доктора Менгеле, которые донес ветер. Рассказала ему о тех таинственных вещах, которые говорил отец о ее удочерении. Рассказала о Франкфурте, об истории болезни, которую с самого детства завели на нее врачи, о частных медицинских осмотрах, ради которых приходилось ездить в Германию. Пока Рейчел говорила, она вспоминала все больше и больше подробностей, включая настойчивые просьбы отца, чтобы она свободно говорила по-немецки и обязательно с берлинским акцентом. И, наконец, его слова о том, что дело закрыто…
Впервые с момента их знакомства Джейсон Янг выглядел по-настоящему встревоженным.
13
День близился к закату, когда Рейчел закрылась в своем гостиничном номере и подперла дверь деревянным чайным столиком. Если профессор вернется, она надеялась, что он не сразу справится с замком, а столик даст ей преимущество во времени и предупредит о появлении отца.
Рейчел никогда не примеряла на себя роль частного сыщика, и тем более шпиона, но более подходящей возможности может и не представиться. Отец предупредил ее, что задержится, а поскольку они вместе были на похоронах, девушка знала, что портфель и документы на встречу с докторами и Герхардом он не брал.
Все, что сказал Джейсон, все, что он убедил ее сделать, звучало разумно. Если между докторами и Герхардом Шликом есть какая-то связь и она, Рейчел, имеет к этому непосредственное отношение – вероятнее всего, подробности можно узнать из отцовских бумаг. Если повезет, там можно будет кое-что обнаружить. Последняя надежда была на дом Герхарда – возможно, там удастся найти доказательства его причастности к смерти Кристины.
Как Рейчел и предполагала, двери отцовской комнаты и кабинета были заперты. Но умением открывать замки шпилькой они с Кристиной овладели в совершенстве, когда подростками ночевали в гостях друг у друга. Рейчел понадобилось меньше минуты, чтобы справиться с замком.
Она задернула занавески и достала из-под кровати портфель. О том, чтобы подобрать пароль, не могло быть и речи. Замок оказался с цифровой комбинацией. Рейчел почти час пыталась угадать цифры. Перепробовала дни рождения, номера телефонов, возраст, дни недели, адрес – все, что пришло в голову, – но тщетно!
«Ох, мама! Мама! Если бы ты была рядом. Как бы ты поступила? Я не знаю, что делать дальше! Не знаю, а время бежит!»
«Люби его». Перед глазами, как наяву, возникла мамина улыбка, ее объятия, ее всегдашняя готовность помочь – так что Рейчел даже ахнула.
«Ты не знаешь, как он изменился, мамочка. Настолько изменился, что даже ты его не узнала бы!»
Но видение не исчезало, а ощущение, будто плавится мозг, все усиливалось.
«Не могу! Я так зла на него… мне так больно. Не знаю, о чем он только думает. Да, ты любила его, но когда ты выходила за него замуж, он был совершенно другим… Когда вы поженились…»
Не решаясь даже дышать, Рейчел набрала дату свадьбы родителей. Замок щелкнул. Она надавила на защелку, и портфель открылся.
В первой пачке документов подробно перечислялись симптомы туберкулеза у пациентов, начиная с повреждений кожи и заканчивая ослабленными легкими. Тут были снимки, списки пациентов, описание лечения и эффект от приема экспериментальных лекарств.
Вторая пачка документов была посвящена близнецам, которых разделили в самом начале эксперимента. Одному из близнецов вводили сыворотку с туберкулезом, а в некоторых случаях кормили молоком больных туберкулезом коров. Второй близнец питался здоровой пищей и рос в нормальном окружении. В деле приводились таблицы с результатами развития болезни у незащищенного близнеца. Как только развивалось заболевание, близнецов воссоединяли и здорового близнеца держали в непосредственной близости от больного туберкулезом. Результаты исследований показывали, что у некоторых пациентов появлялся иммунитет к болезни, в то время как в большинстве случаев заболевание развивалось у обоих близнецов, что неминуемо вело к смерти.
«Приходим к выводу, – прочла Рейчел, – что это желаемый ген…» Дальше читать она была не в силах.
«Эксперименты над людьми. Я знала, отец, что ты изучаешь туберкулез. Но понятия не имела, что при этом ты убиваешь людей!»
Девушка достала из сумочки маленький фотоаппарат, который дал ей Джейсон, и сфотографировала последние несколько страниц, надеясь, что через крошечный глазок слова кажутся ей размытыми исключительно из-за стоявших в глазах слез.
Часы пробили восемь. Рейчел продолжила изучение документов. Еще несколько папок содержали информацию о других близнецах, но, похоже, это были в основном клинические наблюдения – никакого лечения. «А почему именно близнецы?»
Последней лежала папка на Герхарда Шлика. В ней содержалось упоминание о том, что эксперимент провалился – что-то о субъекте В-47. Далее следовала записка о его браке с Кристиной и более подробная докладная о рождении Амели. Запись акушерки о том, что девочка родилась здоровой, а два года спустя диагноз врача – глухота. Ничего криминального… ничего о Кристине, только запись о ее смерти. И что-то о прерванном эксперименте. В папке содержались подробная родословная Герхарда, его физическое и психическое развитие, основанное на клинических наблюдениях в Институте во Франкфурте за последние несколько лет; каждый показатель сравнивался с эталоном совершенного арийца.
Сверхчеловек Гитлера. Рейчел непроизвольно сжалась. Она дочитала последнюю страницу в папке Герхарда и увидела поспешно сделанную запись – почерком отца – внизу страницы. «Вводим субъект В-47».
«Вводим субъект В-47? Что это означает?» Она понятия не имела, и у нее не было времени разгадывать ребусы. Отец может вернуться с минуты на минуту.
Рейчел спрятала папку в портфель и уже собиралась было защелкнуть его, но тут поняла, что в отделении под подкладкой что-то есть. Она достала из тайника еще несколько папок.
Все папки были обозначены буквами и пронумерованы. Девушка открыла первую попавшуюся папку и увидела фотографию мальчика лет трех-четырех. Далее шли снимки этого же мальчика, но в разном возрасте, в одном белье. К каждому снимку прилагалась таблица с подробным описанием физического и психического развития субъекта. Фон на каждом снимке показался Рейчел знакомым. Где это?
Когда девушка пролистала вторую папку, она узнала стерильные стены клиники во Франкфурте. Рейчел вспомнила, как ей самой велели встать у стены, повернуться, наклониться вправо, влево, замереть. В детстве это казалось ей веселой игрой с врачом. Когда она превратилась в молодую женщину, ее это стало возмущать, но она все равно повиновалась знакомым с детства приказам медсестры, которая теперь вместо доктора отдавала их раздетой Рейчел. Девушка понятия не имела, что ее фотографировали скрытой камерой.
Несмотря на жаркую волну стыда, Рейчел пролистала оставшиеся папки, уверенная, что найдет среди них и свою порцию унижения, фотографии и собственную карточку с подробным описанием роста и развития.
Цифры и буквы на папках, по всей видимости, обозначали субъектов эксперимента. А-25, А-36, А-37, А-42, А-47, А-51 – мужчины. В-29, В-34, В-47, В-56, В-71 – женщины. Помимо снимков, сделанных во время клинических осмотров, в папках имелась масса семейных фото каждого субъекта, подробности семейной жизни, происхождение родителей, были указаны физические способности, образование, интеллектуальные достижения, вероисповедание, политические и социальные предпочтения.
Рейчел пересняла несколько фотографий из папок, не зная, пригодятся ли они, сменила пленку и сделала еще пару десятков снимков. Ничто из того, что она увидела, не могло стать поводом для привлечения к суду – даже в Америке, – если только не удастся доказать, что папки хранились для каких-то преступных целей.
Общественность может всколыхнуть сообщение о том, что здоровым детям вводили сыворотку с туберкулезом, но папками и таблицами с результатами развития детей, какими бы унизительными ни были снимки, никого не удивишь.
Рейчел искала свою папку. Она ожидала, что найдет ее здесь, но оказалась не готова к тому, что обнаружила. Девушку больно ранило то, насколько отец вмешивался в ее личную жизнь; его манера в мельчайших подробностях описывать ее жизнь унижала достоинство Рейчел. Но осознание того, что он рассматривал ее как образец, как часть своего эксперимента, совершенно вывело ее из равновесия. Краткие обзоры о ее обучении, об отношениях с людьми, обо всех гранях ее жизни содержались в папке с шифром В-47.
Часы пробили девять. Рейчел не могла больше читать, не могла усваивать информацию, но знала, что захочет услышать объяснения отца – позже, когда немного поспит и переварит увиденное. Она разложила бумаги на отцовской кровати и сфотографировала их одну за другой. Рейчел как раз возвращала последние папки в тайник, когда у нее перед глазами возникли слова, написанные отцом на папке Герхарда: «“Вводим субъект В-47”. Субъект В-47 – это же я!»
Она достала свою папку, перелистала до последней страницы, прочла. Рейчел не просто была частью эксперимента. Она сама являлась «экспериментом и необходимым элементом других экспериментов». Рейчел почувствовала, как все поплыло у нее перед глазами. Свет померк. Девушка тряхнула головой, заставляя себя сосредоточиться. Уже другим почерком, не похожим на почерк отца, в конце были сделаны записи: «Крайне важно, чтобы данный субъект произвел потомство, тогда цель эксперимента будет достигнута. Несогласие повлечет за собой прерывание эксперимента. – Доктор Дж. Менгеле».
«Тот самый доктор Менгеле, который не любит преград. Мой отец, который предвкушает окончание эксперимента. Они рассчитывают, что я выйду замуж за Герхарда. Я была рождена, чтобы выйти за Герхарда Шлика – или кого-то очень на него похожего! Именно это имел в виду отец, когда настаивал на том, чтобы я демонстрировала интерес к замужеству, выбору супруга и проявляла нежелание возвращаться в Нью-Йорк». Рейчел закрыла глаза. Внутри у нее все переворачивалось. Девушка пыталась взять себя в руки. «Кристину убили потому, что она не смогла произвести на свет “совершенного” ребенка. Герхарду приказали жениться на мне – мы оба часть этой тошнотворной программы размножения. А теперь, когда эти люди устранили Кристину, они намерены вновь вернуться на рельсы эксперимента. Но что будет, если я их ослушаюсь?»
Девушка собрала документы, сунула их в портфель, застегнула замок. Спрятала портфель под кровать, убедившись, что он лежит под таким же углом, что и раньше. Выключила свет, раздвинула шторы и уставилась в темноту, пытаясь осмыслить то, что прочла.
Рейчел не верила в Бога – ее воспитали так, что она считала религию опорой для слабых. А она, принадлежащая к элите, слабой не была. Но впервые в жизни девушка жалела о своем неверии. Она чувствовала себя слабой и нуждалась в помощи.
14
«Мой любимый Фридрих,
ты ни за что не поверишь в то, что случилось…
Юные беженцы и местная детвора просто прелесть, такие доверчивые, жаждут внимания – и яблочного штруделя! Их сладкие голоса напоминают тембром голоса херувимов и практически не нуждаются в постановке!
Курат Бауэр попросил меня проследить за ними – и когда их нимбы временами немного тускнеют, и когда малыши вновь начинают вести себя лучше. К моему величайшему изумлению, эту задачу оказалось выполнить намного легче, чем я представляла. Дети с радостью стараются быть частью веселого коллектива. А что может быть веселее, чем детский хор? Даже Генрих Гельфман – настоящее сокровище, моя радость, наслаждение, – хотя по-прежнему упорно отказывается отдавать твоего младенца Иисуса. Не знаю, что на него нашло, но у меня не хватает духу давить на него.
Передать не могу, мой дорогой супруг, как эти дети наполняют мое сердце, как их вопросы не дают закостенеть моему разуму, а их маленькие ладошки в моей руке, когда мы возвращаемся из школы, придают смысл моей жизни.
Я люблю тебя, мой дорогой. Возвращайся скорее домой и сам все увидишь. Ты их тоже полюбишь».
Фридрих лег на спину на койку, сложил письмо. Закрыл глаза, сжимая послание жены. Перед его внутренним взором возникла ее улыбка – улыбка настоящего ангела.
Когда Фридрих впервые прочел о предложении курата Бауэра, он заволновался. От фрау Фенштермахер он знал о том, каким кошмаром была ее работа с детским хором – много недель об этом слышала вся деревня. Фридрих понять не мог, почему курату вообще пришло в голову обратиться к его жене с подобным предложением – как на это пошло руководство, как согласились родители-католики, пусть даже оплата у Лии была минимальной – настолько ей хотелось получить эту работу.
Фридрих покачал головой и спрятал письмо за пазуху, рядом с сердцем. Лия была не только красавицей, она еще и пела, как ангел. Надо отдать должное бабушке, которая с детства учила внучку читать ноты и играть на пианино. В Обераммергау это было явлением обычным – как среди католиков, так и среди протестантов и евреев. Музыка являлась важным предметом обучения – пение было обязательным для всех, и к нему часто добавлялась игра на каком-нибудь инструменте. Особенно это относилось к детям католиков – с ними с младых ногтей начинали заниматься музыкой, пением и актерским мастерством. Кроме того, детей обучали резьбе по дереву или хотя бы умению радушно принимать гостей. А как еще деревушка могла подготовиться к тому, чтобы каждые десять лет ставить «Страсти Христовы» и при этом целый год принимать у себя желающих их посмотреть?
Но Лия не имела специального педагогического образования. Ничего из этого не выйдет, и Фридрих боялся за душевное состояние жены, если священник по какой-то причине заберет свое предложение назад или предложит работу другому человеку – тому, кто будет лучше подготовлен или окажется католиком. Жаль, что он не мог предостеречь Лию, возможно, даже отговорить ее принимать это предложение.
Но оказалось, что в сердце его жены зажегся огонек. Фридрих заметил это в торопливом почерке, которым было написано ее письмо. Лия просто светилась – он понимал это из ее слов, из того, как чуть заметнее над строчкой подскакивает буква «t», как весело закручен хвостик у «k». Выяснилось, что его жена – прирожденный педагог, строгий, когда необходимо, но умеющий стать для детей добрым наставником и советчиком. Она сама не раз в этом признавалась. Впервые с тех пор, как они поженились, Лия почувствовала свою силу.
Как он мог запретить ей это или отговаривать ее? Если ничего не изменится (Фридрих представить себе не мог, каким образом это произойдет), ей понадобятся поддержка и радость, которую давала ей такая жизнь. Да и заработок Лии пригодится.
Фридрих достал из кармана фигурку младенца, которую вырезáл из сосны в редкие свободные минуты, провел большим пальцем по ее лицу, ручкам и ножкам.
С тех пор как они вошли в Польшу, его подразделение только тем и занималось, что уничтожало поляков[19]. Фридриха на прошлой неделе не послали жечь синагогу, но его приятель Гюнтер Фридман вернулся с задания белее мела. Он шепотом поведал о том, как они согнали мужчин, женщин и даже детей из деревни в синагогу. Уже закрывая дверь, Гюнтер встретился взглядом с девчушкой, и ростом, и возрастом напомнившей ему Гретель – дочурку, которая осталась дома. Гюнтер сказал, что девочка, казалось, лучше, чем он сам, понимала, что происходит. По приказу он задвинул засов снаружи, и его подразделение сожгло синагогу дотла. Крики несчастных – раздававшиеся до тех пор, пока беззащитные люди не задохнулись в дыму, – несколько дней стояли в ушах у Гюнтера. И долго еще липкий запах горящих волос и плоти не выветривался из его кителя. Фридриху показалось, что его вот-вот стошнит.
Он больше не мог убивать людей, быть частью машины-убийцы, уничтожавшей сельских жителей, которые были виноваты только в одном – они оказались на пути у немецкой армии. Но с другой стороны, Фридрих понимал: выбор у него невелик. И ничего хорошего ему этот выбор не сулил.
Он едва не испачкал младенца Иисуса, когда погладил его грязным пальцем. Фридрих вспомнил малыша Генриха, его интерес к младенцу Иисусу – Лия написала, что так и не смогла забрать фигурку у самого трудного, но тем не менее любимого ученика.
«Генрих Гельфман? Любимый ученик?» Фридрих покачал головой. Лия ослеплена любовью. Неужели всех детей, так же, как и Генриха, привлекают другие дети, младенцы?
Впервые за время пребывания в Польше Фридрих улыбнулся, ему стало теплее. «А разве можно не любить детей? И что может быть дороже моей Лии? Я не могу подарить ей ребенка, но когда она растворяется в этих детях, они становятся ее семьей. У нее вновь появляется желание жить».
* * *
Джейсон прождал Рейчел в кафе на Тиргартене еще два часа после условленного времени. Прочел от корки до корки две утренние газеты, съел два пирога со сливами, выпил три чашки черного кофе – точнее напитка, похожего на кофе, – благодаря звезды за то, что как иностранный корреспондент получил специальные продовольственные карточки. Однако девушки все не было.
Взъерошив негнущимися пальцами волосы, Джейсон помассировал затылок. «Какой ты, Янг, дурак! Какой дурак! Ни одна сенсация того не стоит! Какому риску я подвергнул тебя, Рейчел? Если они убили Кристину… если твой отец тоже в этом замешан… если он обнаружил, что ты рылась у него в бумагах…» – Дальше он даже думать боялся.
Ради них обоих он решил, что не станет звонить Рейчел в гостиницу, и ей звонить себе в редакцию запретил. Джейсон мог поспорить на недельное жалованье, что телефоны прослушиваются рейхом. Но два часа – слишком долго. «Что-то случилось».
Джейсон бросил несколько монет на столик и направился в гостиницу. Он не мог оставить девушку в беде, что бы ни произошло.
Он уже почти дошел до Вильгельмштрассе, когда увидел, как из потока утренних покупателей отделилась стройная фигурка Рейчел, облаченная в синий дорожный костюм. Джейсон даже не пытался скрыть облегчение, но его внимание привлекло напряженное лицо девушки.
Рейчел перешла улицу.
– Уверен, вам известно, мисс Крамер, как заставить парня страдать. – Джейсон взял у нее из рук сумку. – Собрались в путешествие?
Она прошла мимо него, не замедляя шага, даже не глядя ему в глаза.
– Помогите мне попасть на самолет, на корабль – куда угодно, лишь бы выбраться из Германии и как можно быстрее вернуться в Нью-Йорк. Мне очень нужно уехать. – Девушка оглянулась через плечо. – И не только из Берлина, но и из Германии.
Джейсон, сбитый с толку, шагал рядом с ней, не понимая, что означает ее просьба. Что произошло? Как это отразится на судьбе Амели? Без веских причин Рейчел таких разговоров не заводила бы.
– Мы можем поменять ваш билет?
Джейсону показалось, что ее голос поник.
– Билеты у отца – по крайней мере, он так говорит.
Рейчел и Джейсон прошли полквартала. Девушка ритмично цокала каблучками по тротуару.
– Понятия не имею, где безопаснее. Но у меня есть деньги. Я выгребла у него всю наличность.
«Что произошло?»
– А доктор Крамер знает, что вы уезжаете?
– Пока нет. Я дождалась его ухода. – Рейчел зашагала быстрее, ее голос становился все ниже. – Вы были правы насчет моего отца. И его исследований. – Она протянула Джейсону фотоаппарат и сумочку с пленками. – Здесь все, что вам нужно. Используйте по своему усмотрению, только… – Рейчел резко остановилась, и шедшие за ними прохожие едва не наткнулись на них.
Джейсон увлек девушку в сторону и заметил, что она кусает губы.
– Тут есть документы и обо мне… и о других таких, как я. Пообещайте, что не станете… не будете использовать эти снимки.
Джейсон нахмурился, не понимая, о чем она говорит.
– Пообещайте! – настаивала Рейчел.
– Обещаю, обещаю, – ответил он.
– Будьте осторожны. – Девушка пристально посмотрела ему в глаза. – Будьте предельно осторожны.
Джейсон часто попадал в неприятности. Издержки профессии, ничего необычного. Он взял Рейчел за руку, повел по многолюдной улице, потом по переулку, в единственное место, где – он точно знал – нет поблизости подозрительных машин. Удастся ли им преодолеть блокпост на границе с Австрией – это другое дело.
* * *
Заплатив три сотни долларов и потратив час на дорогу, Рейчел шепотом посвятила Джейсона в содержание документов. Она рассказала все, что узнала об экспериментах, проводимых в Колд-Спринг-Харборе, о туберкулезе, на изучении которого сосредоточился ее отец, изложила подробности медицинских обследований во Франкфурте, частью которых стала и она сама. Поведала о том, что нашла исследования, проводимые над близнецами – как в рамках изучения туберкулеза, так и в других программах, в которые у нее не было времени вникать.
– Насколько я понимаю, они взяли на себя роль Купидона, хотя любовь не имеет к подобному сводничеству никакого отношения. По всей видимости, речь идет о подборе пары родословных – генетически совершенных арийских родословных.
Рейчел взглянула на Джейсона, испытывая смущение оттого, что, сама того не зная, стала частью подобной программы. Но сильнее всего ее ранило предательство отца.
– И ваша пара – это Герхард Шлик.
– Несомненно, наш брак планировался много лет.
– Следовательно, когда вы ему отказали и он женился на Кристине, они были обречены с самого начала. В конечном счете глухота Амели здесь ни при чем.
Рейчел вздохнула.
– Я бы не стала так утверждать. Если бы Амели была «приемлемой кандидатурой», они могли бы все оставить как есть – по крайней мере в том, что касается их брака.
– Но теперь согласно плану добрых врачей вы должны выйти замуж за Герхарда и родить много маленьких чистокровных арийцев.
Рейчел поморщилась.
– Никогда! Я видела эти плакаты в поддержку рождаемости, утверждающие, что «обязанность каждой здоровой немецкой женщины» – родить множество детей.
– Наверное, это как-то связано с близнецами. А возможно, имеет отношение к увеличению численности арийцев.
– Не знаю. Но тут все сложнее. Во время проведения экспериментов одного из близнецов инфицировали туберкулезом и ничем не лечили. И только когда болезнь буйно развивалась, близнецов воссоединяли.
– Медицинские эксперименты ради искоренения болезни?
– Ради выявления и искоренения «ослабленного гена» – вот все, что я знаю. – К горлу Рейчел подступала тошнота с того момента, когда она прочла эти документы. И быстрая езда по автостраде не улучшала ее состояния. – Но они позволяли близнецам – одному или обоим – умереть и ничего не предпринимали для их спасения, пока у одного из них не выявляли иммунитет к болезни.
– Вы же не думаете, что где-то живет ваш близнец, нет?
Сарказм Джейсона возмутил девушку. Это не шутки. «Отец меня предал! Как он посмел? – Рейчел расправила плечи. – А мама об этом знала?» Она не могла даже допустить такой возможности.
– Все начиналось иначе… он был другим, – настаивала девушка. – Отец был совсем другим до смерти мамы… По крайней мере, мне хочется в это верить. – Она сглотнула; ей казалось, что у нее во рту появился привкус железа. – Я не смогла дочитать документы. Боялась… боялась, что вот-вот вернется отец, и просто… просто не могла больше этого выносить.
– Значит, вы ничего не знаете о…
– Когда я вернулась к себе в комнату, я пожалела, что не заглянула в свою папку еще раз… не заставила себя прочесть все до конца. Наверное, там были указаны имена моих настоящих родителей. Мне известно, что моя мама – немка, она умерла во время родов. Родилась я во Франкфурте, и меня практически сразу удочерила американская семья. Они уверяли, что я была единственным ребенком. Это все, что мне известно. – Рейчел повернулась к Джейсону, радуясь тому, что он не сводит глаз с дороги. – Я чуть не вернулась обратно, но услышала, как в двери проворачивается ключ. Я не могла встретиться с отцом и скрыть свои чувства. Уверена, он не стал бы показывать мне бумаги, даже если бы я попросила его об этом прямо.
– А утром?
– Еще с вечера я оставила записку о том, что плохо себя чувствую и хочу поспать. Пообещала, что мы встретимся за ужином. Когда я вышла из своей комнаты, отец уже ушел. По-моему, у него была назначена встреча с коллегами из института кайзера Вильгельма[20]. Отец тоже оставил записку о том, что вернется поздно. Наверное, он полагает, что я проведу весь день, разбирая с Герхардом вещи Кристины.
– К тому времени, когда он вернется, вас уже не будет. И он никогда не узнает, где вы. – Джейсон барабанил кончиками пальцев по рулевому колесу. – Возможно, лучше было бы подождать, пока они уедут на более продолжительный срок – у вас было бы больше времени.
Рейчел печально покачала головой.
– Я больше не могла там находиться… ни дня. Я оставила письмо.
– Письмо? – Изумление в голосе Джейсона застало Рейчел врасплох.
– Я сообщила ему о том, что мне за него стыдно и меня от него тошнит. Что маме было бы противно, если бы она узнала, что он опорочил ее память, продав меня. Любая благая цель, к какой бы он ни стремился в попытке избавить мир от туберкулеза, не оправдывает убийства невинных людей.
Джейсон негромко присвистнул.
– Мы больше никогда с ним не встретимся. Я написала, что возвращаюсь в Нью-Йорк и ему не стоит пытаться меня найти. Не хочу иметь с ним ничего общего. – Голос девушки сорвался.
– Он обязательно отправится следом за вами, Рейчел. Они все отправятся за вами, – произнес Джейсон. – Они столько лет потратили на то, чтобы вырастить вас как чистокровную племенную кобылицу. Вам не удастся так легко сорваться с крючка только потому, что вы заявили, будто не желаете играть в эти грязные игры.
– Когда я вернусь в Нью-Йорк, я перееду в другую квартиру. Сменю имя.
– Вы их недооцениваете.
Рейчел не привыкла сдаваться раньше времени. Впереди предстояло немало сражений, и ей не хотелось тратить силы на перепалку с Джейсоном.
– Просто увезите меня из Германии.
* * *
Еще через пять часов, когда сгустились сумерки, Джейсон притормозил у железнодорожного вокзала, ближайшего к австрийской границе.
– Я надеюсь, что у вас еще есть время. Если проедете Австрию, следующая остановка – Швейцария. – Он неловко пожал протянутую руку.
– Спасибо вам. Спасибо за все, – запинаясь, произнесла Рейчел. – Особенно за то, что вы сделали для Амели… и за то, что еще сделаете.
– Пока не за что благодарить.
– Сообщите мне о ее безопасности.
Джейсон кивнул.
– Когда вы… Если вы найдете способ отправить девочку в Америку, я позабочусь о ней. – Рейчел беспомощно взглянула на журналиста. – Я ничего не знаю о детях… о глухих детях. Но я что-нибудь придумаю.
– Я дам вам знать. Через своего американского редактора, используя наши секретные слова.
– Я свяжусь с ним, когда устроюсь… где бы я ни была. – Она повернулась, чтобы выйти, но Джейсон ее удержал.
– Будьте осторожны. Берегите себя.
Рейчел сдержанно, тревожно улыбнулась.
– И вы.
Она отстранилась и, собираясь покинуть машину, потянулась за сумкой, которая лежала на заднем сиденье. Джейсон тоже поспешно вышел и забрал у нее сумку.
– Не отпущу вас, пока не удостоверюсь, что вы успешно пересекли границу.
Рейчел вздохнула, коснулась его руки.
– Еще остались рыцари, да?
– Остались, – усмехнулся он, чувствуя себя немного глупо, но ничуть не жалея о своем решении.
15
Джейсон немного отстал, как они и договаривались. Он сделал вид, что читает газету, когда остановился у газетного киоска внутри вокзала. Возможно, американский паспорт позволит Рейчел пересечь границу, но журналист слишком много времени провел в новой Германии, чтобы полагаться на волю случая.
Они дождались, когда зал заполнится людьми и очереди станут длинными. Рейчел положила на конторку рядом с паспортом немецкие марки.
Служащий даже не взглянул на пассажирку. Он пересчитал деньги, выбил и проштамповал билет, вернул сдачу. Бросил мельком взгляд на паспорт, на секунду замер в нерешительности, вгляделся в лицо Рейчел и вернул ей документ. Спросил что-то по-немецки – Джейсон не услышал. Рейчел кивнула, ответила с улыбкой, наклонилась, чтобы взять собранную накануне вечером сумку.
Джейсон вздохнул с облегчением.
Но служащий окликнул Рейчел, явно попросив ее подождать. Девушка послушалась, замерла в нерешительности, задала вопрос. Служащий нахмурился, заколебался, указал в противоположный конец зала – в сторону двух коридоров. Она улыбнулась и подняла руку, как будто давала клятву.
Служащий продолжал хмуриться, когда Рейчел удалялась от конторки.
Следующий пассажир положил на конторку деньги, мгновенно закрыв служащего. Джейсон видел, как тот отошел в сторону, порыскал по залу глазами и махнул одному из вооруженных солдат. Взглядом и кивком головы указал на Рейчел, которая как раз заходила в дамскую комнату.
Солдат вытащил из внутреннего кармана кителя какую-то бумажку, показал ее служащему. Тот кивнул в ответ. Они подозвали еще одного солдата – напарника первого.
У Джейсона зашевелились волосы на голове. По тыльной стороне ладони побежали мурашки. Он свернул газету.
Вооруженные солдаты прошли мимо него. Джейсон опустил глаза в газету, заставил себя досчитать до пяти, вздохнул, поднял голову. Солдаты прошли по короткому коридору, ведущему к лестнице на железнодорожную платформу, и встали по обе стороны.
«Мне это не нравится», – подумал Джейсон.
Служащий за конторкой не сводил глаз с двери дамской комнаты.
По громкоговорителю объявили посадку. Пассажиры подхватили багаж, обняли на прощание родных, и толпа хлынула к ступеням на платформу. Опоздавшие пассажиры выстроились у окошка кассы, высоко держа паспорта и марки, заставляя служащих за окошками торопиться. Рейчел распахнула дверь.
Джейсон преградил ей путь, схватил сумку, взял девушку за локоть и развернул к арочной двери, ведущей на улицу.
– Просто иди, – произнес он.
Ему было не до церемоний.
– Но…
– Доверься мне.
Уже у самой двери они услышали за спиной резкий свист. Но толпа пассажиров, намеревавшихся успеть на вечерний поезд, хлынула вперед, блокируя дорогу вооруженным солдатам.
Джейсон вытолкнул Рейчел на улицу. Оказавшись снаружи, он схватил девушку за руку и побежал к машине.
– Джейсон! Что…
– Тебя ищут… садись в машину!
Они тронулись и полетели в сторону автомагистрали. Вой сирен заглушил гудок прибывающего на станцию поезда.
* * *
– Разве у меня был выбор? – Джейсон уже устал спорить. – Либо ты возвращаешься к отцу, либо прячешься, пока мы не придумаем, как вывезти тебя из страны.
– Я же говорила тебе… Не думаю, что отец хочет, чтобы я покинула Германию! Я даже не знаю, намерен ли он сам покинуть страну!
– И может ли он вообще это сделать.
– Ты о чем?
– А если он такой же заложник в этой истории, как и ты?
– Это смешно! Я видела документы. – Рейчел колебалась. – Я даже не знаю, до какого предела они готовы идти в отношении меня. И есть ли вообще этот предел?
– Профессор тоже может этого не знать.
– Почему ты его защищаешь?
– Я не защищаю, а рассматриваю все возможные варианты. У них уже есть твои фотографии – уверен, что именно со снимком сверялась охрана. А твой отец никаким образом не мог бы разослать их пограничникам сегодня, даже если прочел твое письмо уже в обед.
– Если только заранее не предвидел, что я сбегу. – Рейчел взглянула на Джейсона. – Или если еще несколько дней назад они не подозревали, что мы с отцом можем сбежать вдвоем и обыграть их.
– Вот именно! В их планы не входит, чтобы вы покинули страну – никогда не входило.
Джейсон сбросил скорость, притормозил в переулке и выключил фары.
– Что ты делаешь?
– Мы не можем сегодня вернуться в город незамеченными, особенно учитывая отключение электричества и патрули. И куда бы мы поехали? – Он повернулся к Рейчел в темноте. – Тебе нельзя возвращаться в гостиницу, и я не могу поселить тебя в своем номере или спрятать в редакции. Завтра мы что-нибудь найдем.
Рейчел надавила костяшками пальцев себе на глаза.
– Поверить не могу, что все это происходит со мной.
– Придется поверить.
– Наверное, лучше мне вернуться к отцу. Мы могли бы вместе молиться, пытаться взывать к их разуму. Если бы мы могли просто вернуться домой! – застонала она.
– Немцы не позволят вам этого. – Джейсон развалился на сиденье, устроил голову на спинке и закрыл глаза. – Катастрофа!
– Прости. – Голос Рейчел звучал тихо, как у маленькой девочки, которая готова вот-вот расплакаться. – Я втянула тебя в спасение глухого ребенка, которого нужно прятать, в заговор с убийством, а теперь тебе приходится возиться со мной. Твои фотографии расклеят на стендах «Их разыскивает полиция» по всей Германии. И ты можешь потерять работу – по меньшей мере.
Джейсон пробормотал:
– У них точно есть твое фото. Моего нет – пока… По крайней мере, кроме тех, которые есть у них на всех иностранных корреспондентов. Я могу раствориться в толпе, словно тень. – Он улыбнулся, щелкнул себя по носу. – Худшее, что может случиться с моей карьерой, – меня отошлют назад в Штаты за международный инцидент.
– Худшее? Ну да, мистер Тень. – Рейчел положила голову ему на плечо. – И кто из нас живет в выдуманном мире?
* * *
Незаметно настало утро. Джейсон выехал на главную дорогу. Густой тоскливый туман скрывал свет фар, когда они возвращались в Берлин.
– Возможно, нам удастся проехать незамеченными и нас никто не остановит.
– Я всю ночь об этом думала, – призналась Рейчел.
Джейсону не понравилось начало.
– Мне кажется, тебе следует отвезти меня назад в гостиницу.
Журналист был рад, что никто не едет им навстречу, – он едва не свернул с дороги.
– Я намерена убедить отца, заставить его вернуться домой вместе со мной. Если я буду с ним, меня никто не остановит.
– Но ты же сказала…
– Я помню, что сказала. Мне только сейчас пришло в голову: а что, если я приняла все слишком близко к сердцу?
– Ты шутишь? Я видел, что ты не заметила на вокзале ребят в черном. Тех, что с оружием. Это не игрушки. Тебя уже ищут… ждут повсюду. Теперь им известно, что ты пытаешься выехать из страны. Возможно, твой отец сам спустил на тебя собак. Ты же оставила ему письмо, Рейчел! Он не станет делать вид, будто не читал его. Они не дадут тебе уйти.
– Но… одной мне не выбраться.
Джейсон ухватился за рулевое колесо.
– Я поговорю с друзьями. Новая – Исповедальная – церковь[21] помогла одному моему знакомому журналисту-еврею выехать из страны вместе с семьей. Они могли бы…
– Нет. Я больше не хочу, чтобы ты рисковал. Мне не следовало втягивать тебя в это дело. Никто в малоизвестной радикальной церкви, помогающей евреям, не станет помогать дочери ученого-евгениста, готового их истребить! Высади меня за квартал от гостиницы. – Рейчел откинулась на сиденье, положив руки на колени.
Джейсон узнал характерную женскую позу: «вопрос решен – говорить больше не о чем». Он все это уже видел у своих матери и сестры.
«Только ты мне не сестра и не мать, Рейчел Крамер». Он прищурился, полный решимости сосредоточиться на дороге.
Пролетали километры. До Берлина оставалось полчаса езды, когда Джейсон вновь заговорил:
– Амели. Ты могла бы спрятаться вместе с Амели.
Рейчел хмыкнула.
– Чего еще ожидать от женщины! – произнес Джейсон.
Рейчел покраснела.
– Я просто уверена, что твоя чудесная добропорядочная семья готова удочерить двадцатичетырехлетнее «дитя» вместе с глухой четырехлетней девочкой. Было бы легче спрятаться под ковриком.
– Не язви.
– Не будь смешным. Мы понятия не имеем, как долго продлится это безумство.
– Пока Гитлер у власти. И я не понимаю, каким образом это будет продолжаться. Внутри зреет сопротивление. Теперь в конфликт вступила Британия.
– Они даже самолеты на Берлин не послали! Гитлер каждый день набирает обороты.
Рейчел была права. Именно это Джейсон и говорил своему человеку, который давал ему информацию о движении Сопротивления.
– Говорят, что Британия просто ждет нужного момента.
– Нужного момента? – Рейчел опять фыркнула. – А когда он настанет: когда Гитлер возьмет Париж? Или Лондон?
Джейсон сердито взглянул на девушку.
На этот раз она не залилась краской стыда.
– Его все боятся. Они напуганы – как и мы сами. Я лучше попробую договориться с отцом. Должен же он что-то ко мне чувствовать.
Джейсон сглотнул. «Каким нужно быть отцом, чтобы поступить так с дочерью?»
– У меня родилась идея, – сказал он.
Рейчел закатила глаза, покачала головой.
– Есть одна журналистка, она возвращается в США. Она уже получила паспорт, билет – все.
– А ее пропустят?
– Конечно, она же журналистка.
– А ее не пропустят вместе с сестрой? – В глазах Рейчел зажглась надежда.
– Без вариантов. Но мы могли бы отослать с ней твой паспорт.
– Остаться в Германии без паспорта, без документов? – Рейчел отвернулась. – Ты с ума сошел.
– Выслушай меня! Шейла плывет на пассажирском лайнере. Она зайдет на борт как журналистка – ничего необычного. Непосредственно перед тем, как покинуть корабль в Нью-Йорке, она подбросит твой паспорт в кладовую или куда-то еще – подальше от своей каюты, – чтобы выглядело так, будто ты все время была на борту, где-то скрывалась, пряталась.
– А я все это время буду находиться в Германии без паспорта.
– Мы могли бы обеспечить тебя документами – фальшивыми. Я знаком с людьми, которые знают специалистов, способных это сделать. Вся суть в том, чтобы тебя перестали искать здесь, в Германии. Они подумают, что ты каким-то образом сошла на берег – вернулась в США. И мы можем спрятать тебя, пока не найдем способа вывезти тебя из страны.
– Ты знаешь людей, готовых взрывать здания, прятать от рейха детей, подделывать паспорта. И ты на самом деле журналист?
Джейсон удивленно приподнял бровь, подражая Граучо Марксу[22].
– Не отвечай, – сказала Рейчел. – А если ее поймают с моим паспортом? А если она забудет его выбросить? А если не найдет, куда его подбросить?
– Как ты похожа на мою бабушку!
– Это безумие. Рискует слишком много людей – включая меня. Я не хочу оставаться в Германии; я хочу домой.
Повернув на улицу, на которой располагалась гостиница, они увидели, что там образовалась пробка. Черные автомобили с официальными эмблемами стояли по обе стороны тротуара, загромождая улицу. Вооруженные эсэсовцы в черных высоких сапогах замерли по обе стороны от входа в гостиницу.
– Что происходит? – Рейчел вытянула шею.
– Я не вижу. Погоди, они кого-то выводят.
Рейчел перегнулась через Джейсона, чтобы лучше видеть.
Журналист не знал, то ли закрыть от нее это зрелище, то ли позволить ей увидеть все собственными глазами. Из гостиницы выводили бледного, помятого доктора Крамера. Он придерживал левую руку, на лице – щетина. Никто с ним особо не церемонился – ни два охранника, ни знакомая фигура в форме.
– Пригнись!
– Отец! Почему они его забирают? – вскрикнула Рейчел. – Это же Герхард! У него отцовский портфель!
Джейсон потянул ее вниз и прошептал:
– Пригнись! Они не должны тебя увидеть!
Машины начали медленно двигаться вперед.
– Я не могу перестроиться из этого проклятого ряда! Ложись на пол!
– Но куда его увозят? – Рейчел соскользнула с сиденья.
Джейсон не сводил взгляда с дороги. Он беспечно перебросил руку через руль, чтобы прикрыть лицо.
– Думаю, что мы не получим ответа на этот вопрос – по крайней мере сегодня.
– Что происходит? – Рейчел пыталась что-то разглядеть, сидя на полу.
– Они заталкивают его в машину. Шлик садится с другой стороны. Остальных не узнаю́. – Джейсон проехал вперед еще несколько метров; его надвинутая на глаза шляпа едва не касалась руля. – У гостиницы оставили пару часовых.
Как только черные автомобили отъехали от тротуара, движение по улице возобновилось. Рейчел едва сдерживала слезы.
Джейсон обогнул квартал, проехался по бульвару в сторону Бранденбургских ворот.
– Нам нужно составить план.
– Меня ищут. Такое впечатление, что его били…
Джейсон погладил ладонь девушки, которую та вложила в его руку.
– Я должна сдаться.
– Неужели ты забыла, что твой отец сам собирался сдать тебя полиции, закрыв дело, а, субъект В-47?
Она зажмурила глаза.
– Я постоянно думаю: может быть, я ошибалась? Возможно, отец имел в виду что-то другое, не то, что написано в документах? Он же мой отец. Он не мог…
– Продать тебя?
Рейчел была больше не в силах сдерживать рыдания и расплакалась.
16
– Здесь вы будете в безопасности. – Коренастая фрау черенком метлы открыла деревянный люк, расположенный в потолке узкого коридорчика. – Но днем вы должны сидеть очень тихо, не шевелиться. Моя соседка, фрау Вейшман, – староста в нашем дворе. Она докладывает обо всем подозрительном. – Женщина пристально смотрела на Рейчел, судя по всему, ожидая обещания.
– Буду сидеть как мышка.
Женщина кивнула.
– Можете спускаться вниз в туалет и мыться, когда мой муж уйдет на работу, а дети в школу. Если нет возможности терпеть, в углу стоит ведро. Но пользоваться им нельзя, пока домашние не уйдут. Вас могут услышать. Один раз утром и один раз вечером перед возвращением мужа я буду приносить вам еду.
Из кухни женщина принесла стул, жестом велела Рейчел встать на него. Девушка прикусила губу, растерянно улыбнулась в знак благодарности и взобралась на предложенный стул. Она ухватилась за края люка, попыталась подтянуться и влезть на чердак. Фрау подтолкнула ее снизу – к досаде Рейчел. Но девушка все-таки забралась наверх.
– Когда я заиграю на пианино – это знак, что можно двигаться и потягиваться. Музыка заглушит другие звуки. Последним я всегда играю Вагнера – после этого вам нужно сидеть тихо. Когда я перестану играть, вы должны затаиться.
Рейчел кивнула, выглядывая из квадратного люка на чердаке.
– Спасибо вам, фрау Гиммершмидт. Спасибо за то, что помогаете мне.
– Ja[23], мы все должны помогать друг другу. – Женщина жестом велела Рейчел опустить крышку люка.
Девушка осталась сидеть прямо на грязном полу, скрестив ноги, у люка, вокруг которого пробивалась полоска дневного света. В центре потолок на чердаке был выше, но даже там Рейчел не могла выпрямиться в полный рост. В углах прятались тени, виднелись очертания каких-то сундуков и коробок, поломанной мебели – перевернутый вверх ногами стул, какие-то длинные балки – скорее всего, остов кровати. Воздух был тяжелый, пыльный, пах плесенью. Пока что Рейчел не стала осматриваться более внимательно – еще рано. Девушка просто надеялась, что единственный живой, дышащий организм на чердаке – она одна.
Глубокой ночью, прислушиваясь к негромкому храпу спящей под ней семьи, Рейчел растянулась, полностью одетая, на комковатом, пропахшем чем-то кислым тюфяке, который она обнаружила в углу чердака. Перебирая в памяти события последних трех дней, девушка вспомнила об изначальном плане их маршрута, который считала настоящим, – по крайней мере, она верила в то, что говорил отец, когда они впервые ступили на землю Германии. Сегодня вечером они должны были бы уже приземлиться в Нью-Йорке. Рейчел могла бы лежать в своей роскошной постели, мечтать о завтрашнем дне – своем первом рабочем дне на Манхэттене в «Кемпбелл-плейхаусе».
Рейчел прикусила губу, чтобы не расплакаться, молча перевернулась на другой бок и уставилась в темноту.
* * *
Джейсон потер щетину. Когда он вернулся, устроив Рейчел в безопасное место, то заглянул в свой номер – лишь затем, чтобы скомкать постель: пусть все выглядит так, словно он явился поздно ночью. «Как будто можно провести любопытных горничных!» На всякий случай он придумал оправдание: скажет, что спал на койке в редакции, заработался до поздней ночи, не заметил, который час, потом отключили свет… и далее в том же духе.
Журналист прикрыл глаза. Ситуация усложнялась. Семья, которая прятала Амели, отказалась принять Рейчел – это было слишком рискованно. Но его информатор сказала, что знает людей, которые смогут ее приютить. Джейсон оставил Рейчел там, надеясь, что на эту женщину можно положиться. Но как он мог быть в этом уверен?
В течение дня Джейсон несколько раз нащупывал в карманах пленки, отснятые Рейчел, и ждал, задаваясь вопросом, когда же Питерсон выйдет из лаборатории и можно будет их проявить. Меньше всего Джейсону хотелось делиться с кем-то сенсацией. А он нисколько не сомневался, что это настоящая бомба!
День тянулся бесконечно. Джейсон не раз ловил себя на том, что засыпает, положив локти на стол.
– Беспокойная выдалась ночка, да, Ромео? – Элдридж, его коллега и конкурент в погоне за сенсационными новостями, в половине шестого уронил папку на стол, прямо у локтя Янга, отчего тот окончательно проснулся.
Джейсон откинулся на спинку стула, зевнул, потер глаза.
– Мы с миссис Гитлер… вчера ночью… Всему городу было горячо.
– Познакомь меня с миссис Гитлер, и я сам ее приглашу. Я бы хотел осветить эту историю.
– Ты, я и весь мир.
– В Нью-Йорке ждут статью в передовицу к полуночи. О том, что происходит здесь в Берлине с начала войны – продуктовые карточки, отключение электричества… – Элдридж постучал по папке. – Здесь есть все. Будь другом, «причеши», чтобы цензоры пропустили статью. Мне нужно быть на ужине в посольстве США.
– Лакомый кусочек. Вся слава тебе. Прибереги для меня ломтик торта – и по рукам.
– Договорились. Я забираю с собой Питерсона, возможно, ему удастся сделать фотографии.
– Покорми бедолагу, пока будешь собирать сплетни – он исхудал на новых продовольственных карточках.
Внезапно Джейсону расхотелось спать. Ужин с высокопоставленными особами гарантировал ему по меньшей мере два часа в пустой проявочной. А возможно, даже до самого утра, если не произойдет ничего экстраординарного. Масса времени, чтобы проявить отснятые Рейчел пленки. Джейсон открыл папку и, пытаясь сдержать ликование и нетерпение, сделал вид, будто погрузился в чтение.
Не прошло и часа, как он достал из ванночки с проявителем первую порцию снимков и развесил их на веревке сохнуть. Насколько он мог судить, Рейчел постаралась на славу – фотографии не смазаны, не затенены. Он сможет прочесть документы, как только вынесет их на свет.
Первые снимки людей, которые она сделала, походили на фотографии на паспорт. Но по мере проявления стали появляться другие изображения: снимки во время осмотров, которые, в чем Джейсон был практически уверен, были сделаны без ведома родителей. Он присвистнул. «Неудивительно, что она взяла с меня обещание».
Ожидая, когда высохнут фотографии, Джейсон устроился за столом у входа в проявочную, на всякий случай – несмотря на то, что на этаже уже никого не было, – и занялся статьей Элдриджа. Это было не очень сложно, но Джейсон несколько раз переписывал материал, стараясь не обвинять нацистов, а просто рассказывать о положении дел в нынешнем Берлине, искренне надеясь, что американцы сумеют все прочитать между строк. Впрочем, особых надежд по этому поводу Джейсон не питал. Американцы не возмутились гитлеровскими Нюрнбергскими законами, согласно которым евреи лишались гражданства; не слишком заливались слезами над репортажами Джейсона о Kristallnacht[24], когда жгли синагоги, а евреев вышвыривали из домов, бросали в тюрьмы и грабили принадлежащие им магазины и лавки.
Не удостоился особого внимания даже сенсационный материал о Якове Гольдмане, семидесятишестилетнем владельце небольшого книжного магазинчика – достопримечательности Берлина, старой как мир. Отряды штурмовиков вытащили старика с женой из постели (Гольдманы жили тут же, над магазинчиком) и вышвырнули обоих на улицу. Когда охваченную ужасом пожилую пару ударами дубинок заставили замолчать, молодчики разбили окна магазина – двухэтажного здания, почти музея – и подожгли.
Джейсон покачал головой. Даже несмотря на жесткую нацистскую цензуру, в Нью-Йорк просачивалось достаточно информации, чтобы вызвать в стране возмущение. Где его «христианский народ», скажите на милость? Разве не должны они помогать нуждающимся и угнетенным?
Через два часа, когда статья на первую полосу была готова, а в проявочной царила такая стерильная чистота, что Питерсон ее не узнáет, Джейсон сидел в одиночестве в редакции, рассматривая снимки.
Он все прочел, но переварить полученную информацию оказалось непросто. Журналист был уверен, что Рейчел не знала многого об отце, как не знала и о роли, которую сыграла приемная мать в ее воспитании. Что уж говорить о настоящей семье Рейчел.
«Это настоящая сенсация! И не только история Рейчел. В каждом личном деле проглядывает истинное лицо чудовищ, которые манипулируют судьбами людей. Но могу ли я это напечатать? И если напечатаю, как это отразится на несчастных? – Джейсон глубоко вздохнул, потер переносицу. – В любое другое время, в любом другом месте это стало бы разгромным материалом – поставило бы плохих людей на колени. Но опубликовать это здесь и сейчас… все равно что подписать несчастным смертный приговор… И себе тоже. Не один журналист уже забил тревогу и исчез. Мне нужна идея… нужна идея!»
Джейсон сложил снимки, спрятал их в конверт. Потом положил негативы в отдельный конверт поменьше и прилепил его липкой лентой ко дну верхнего выдвижного ящика справа. Выключил свет – в темноте лучше думалось.
«Пришло время, мисс Крамер, перестать волноваться об отце-ученом – он того не стоит. Совершенно очевидно, что вы были для него лишь подопытным кроликом. Ужасно то, что, с ним или без него, добрые немецкие врачи взялись за дело.
Взялись за дело.
Но если я расскажу вам правду, если покажу эти документы, усидите ли вы на месте? А если нет? Если броситесь в Обераммергау, чтобы встретиться со своей давно потерянной семьей? Накличете беду на них – а в конечном счете и на Амели, и на меня, на всех тех, кто помогал вас прятать».
Джейсон прикрыл глаза. Он и сам только что ступил на опасную дорогу…
17
Длинный день уже близился к вечеру, когда курат Бауэр остановился у дверей класса, чтобы послушать, как поют дети после уроков на занятиях хора. Фрау Гартман знала какой-то секрет: ей было известно, как сделать так, чтобы детские голоса гармонично слились и звучали, как хор ангелов.
Курат даже не удосужился принести себе стул из другого кабинета. Он просто присел на корточки, прислонившись спиной и затылком к прохладной штукатурке. Закрыл глаза и позволил хору голосов унести его в небеса, подальше от бед и тревог прихожан.
– Курат, – окликнул его кто-то шепотом.
Священник вздрогнул – шепот казался таким близким, что дыхание щекотало его волосы. Но курат Бауэр не открывал глаз. Он узнал этот голос.
– А почему ты не на уроке, Генрих? Фрау Гартман уже начала занятие.
– Знаю, – прошептал Генрих.
Курат продолжал сидеть с закрытыми глазами, но почувствовал, как мальчишка опустился рядом с ним на пол.
– Я должен покаяться. – Генрих продолжал шептать, но в его голосе слышалась решимость.
Курат Бауэр открыл глаза.
– Покаяться? Но ты еще ни разу не был у исповеди. И не будешь исповедоваться, пока в следующем году не пройдешь конфирмацию.
– Но, отче, я согрешил…
– Не сомневаюсь. – Курат Бауэр впервые улыбнулся.
– Я не отдам его назад, – заявил Генрих.
– Свой грех?
– Нет, младенца.
– Кого? – Курат Бауэр окончательно очнулся и насторожился.
– Младенца Иисуса… я не отдам его назад.
– Ты имеешь в виду фигурку, которую вырезал герр Гартман для сценки «Рождество Христово»? – За последние полгода курат отобрал у него фигурок младенца Иисуса больше, чем у всех своих прихожан вместе взятых за все годы своей службы.
– Да, курат… красть – это грех. И я понимаю, что брать чужое – неправильно.
– Да, неправильно. А еще более грешно красть младенца Иисуса, Генрих. Фрау Гартман так добра к тебе. Почему ты воруешь у Гартманов?
– Потому что герр Гартман лучший мастер резьбы по дереву. И благодаря улыбке… у него очень красивый рот.
– У герра Гартмана? – Курат Бауэр был согласен, что у Фридриха Гартмана теплая улыбка, и улыбается он часто, но какое отношение это имело к краже его работ?
– Нет, у младенца Иисуса. – Генрих всплеснул руками, как будто терпеливо что-то объяснял ребенку.
– Не думаю, что ты сможешь убедить себя в том, будто твои кражи вызывают улыбку у Господа нашего Иисуса, Генрих.
У курата Бауэра разболелась голова. Утром выслушивать просьбы и помогать голодающим семьям, обреченным жить неизвестно где, неизвестно за что, а ближе к вечеру – вникать в откровения драчливого маленького воришки. Даже святому этого не вынести, что уж говорить о таком грешнике, как он. Курату хотелось отодрать мальчишку ремнем.
– Отдай фигурку мне, и я верну ее вместо тебя – и только потому, что ты покаялся. И один-единственный раз! Больше это повториться не должно!
– Не могу. Не хочу. – Генрих отодвинулся от священника. – Я просто покаялся, вот и все.
– Генрих! – Терпение курата истощилось. – Ты должен…
Но не успел он повторить, что же должен сделать Генрих, как мальчишка уже вскочил и побежал по коридору прочь на улицу.
Курат Бауэр устало поднялся. Он считал, что находится в хорошей форме, но где уж ему угнаться за ребенком, который живет в горах? Священник остановился у дверей школы, глядя, как мальчишка перепрыгнул через живую изгородь и припустил дальше по каменистому холму. Курат воздел руки к небу. Он был не стар, не немощен, но отказывался бегать за быстроногим Генрихом Гельфманом по всей деревне. Они с фрау Гартман разберутся с мальчиком в другой раз.
* * *
Лия не успела запереть дверь класса, когда два черных «мерседеса», к которым были прикреплены развевающиеся флаги со свастикой, на полной скорости пронеслись по тихим деревенским улочкам. Явление это было настолько редким для здешних мест, что владельцы магазинов поспешно закрыли двери, а матери завели детей в дом и заперли ставни. Как будто что-то могло остановить СС!
Каким бы тревожным ни было это зрелище, подобное уже случалось раньше – в особенности перед рейдами. Такие же автомобили ездили по улицам Обераммергау на прошлой неделе. Сначала остановились на несколько часов в одном месте, потом в другом – как будто за кем-то наблюдали. А потом исчезли. Почему они вернулись? Лия сочувствовала объекту их внимания. Наверное, на кого-то донесли, что он прячет врагов рейха.
Лия шла не спеша. К ней никто не мог приехать, ее не могли искать. Ей скрывать нечего. Сегодня она пообещала отвести домой пятилетнюю Гретхен Цукерман, потому что ее мама помогала повитухе принимать роды у соседки. До прихода фрау Цукерман старшие братья Гретхен, вернувшись с собрания гитлерюгенда, присмотрят за ней.
Побыть еще несколько минут с детьми – что могло быть приятнее для Лии? Ей понравилось, когда Гретхен вложила маленькую ладошку в ее руку, радуясь тому, что сможет пройтись с учителем. Когда девочка улыбалась, у нее на личике появлялись ямочки. Лию распирало от счастья, когда она чувствовала, как крепкое тельце ребенка двигается в одном ритме с ней, когда они шли, размахивая руками. Счастье, когда тебе так доверяют, и Лия испытывала благодарность за это.
Она заставила себя не задерживаться у ворот Цукерманов, несмотря на соблазн остаться до возвращения матери малышки. В этом не было необходимости; возможно, это даже сочли бы бесцеремонностью. Лия пожала Гретхен ручку на прощанье, улыбнулась, когда малышка помахала ей вслед.
Лия уже практически дошла до дома, когда из-за поворота появились флаги с красно-черной свастикой. Неожиданно машины остановились у бабушкиных ворот. Сердце Лии упало. «Они наверняка ошиблись!»
Но из машины выскочили два человека, облаченных в черное. Они распахнули ворота и широким шагом решительно направились к двери бабушкиного дома, в то время как еще двое достали револьверы и стали обходить здание. У Лии бешено колотилось сердце, когда она торопливо поднималась по холму. Ошибка это или нет, но слабое сердце бабушки может не выдержать такого потрясения.
Еще возле соседского двора Лия услышала, как эсэсовцы отдают приказы, кричат. С одной стороны, страх удерживал ее на месте, с другой, толкал вперед. Женщина ускорила шаг. Словно в замедленной съемке Лия увидела, как бабушка открыла дверь, увидела, как один из солдат оттолкнул пожилую женщину в сторону и ворвался в ее маленький домик. Лия пошла еще быстрее.
– Бабуля! Бабуля! – Женщина распахнула ворота, бросилась в дом, но один из эсэсовцев сбил ее с ног и заломил ей руку за спину.
Как в тумане Лия увидела, что бабушка схватилась за сердце. Эсэсовец закрыл дверь.
18
Джейсон ослабил узел галстука и резко стянул рубашку с галстуком через голову. «На завтра сойдет». Он бросил рубашку и штаны на стул, стоявший у кровати, и упал в постель. Джейсон настолько устал, что не мог ни есть, ни пить. Последние двое суток он провел, интервьюируя оставшихся в Германии иностранных послов. Журналист пытался выяснить их точку зрения – официальную точку зрения их стран и их личное мнение – о том, представляет ли Гитлер угрозу.
Война в Польше продлилась недолго. У поляков не было ни достаточно сильной армии, ни воздушных сил, чтобы дать отпор немецкой военной машине. Когда в Восточную Польшу вошли войска СССР, исход войны был предрешен. Варшава пала за двадцать дней. Зарубежная пресса в Берлине принялась за дело: стали заключать жуткие пари о том, как долго будут ждать за Северным морем друзья-британцы, прежде чем вступят в войну, которую они объявили Германии.
Сентябрь приближался к концу. Однажды утром из зарубежной прессы Джейсон узнал, что доктор Рудольф Крамер находится в критическом состоянии. Журналист невольно сжался, когда представил, каким мучительным допросам подвергали профессора. Джейсон не сомневался: с того момента, как Рейчел попыталась пересечь границу, доктора Крамера обвинили в причастности к ее побегу. Какой бы отец не помог своей дочери избежать жалкого существования с таким мужем, как Шлик?
Однако Рудольф Крамер ничего подобного не совершал, он даже не думал о таком подвиге. Джейсон покачал головой, вспоминая содержание документов. «Отвратительно! Дерьмо! И что будет с Рейчел? – Он был рад, что она сейчас скрывается. – По крайней мере, не нужно ей ничего говорить… пока».
* * *
Фрау Вейшман, любопытная соседка и староста двора, наведалась к фрау Гиммершмидт, когда Рейчел вторую неделю жила на чердаке. Женщина зашла перед обедом, якобы за салом.
Ее заинтересовала дополнительная порция еды в кастрюле фрау Гиммершмидт. Откуда у нее взялся кусок сала, учитывая введение новых продовольственных карточек? Где она его раздобыла?
Когда женщины беседовали, Рейчел подслушивала их разговор, прижав ухо к полу чердака над кухней, и внутри у нее все сжималось. Она слышала, как фрау Гиммершмидт, вероятно, слишком охотно, стала советовать соседке, как более экономно расходовать картофель и что еще можно добавлять в муку, чтобы испечь хлеб.
Даже не видя лиц говоривших, Рейчел понимала: фрау Вейшман бережливость соседки не убедила. Больше – значит больше, разделенное на порции сало лгать не станет.
К тому времени, когда фрау Вейшман ушла, унося с собой подозрения, измотанная расспросами фрау Гиммершмидт решила, что для ее семьи слишком рискованно и дальше прятать Рейчел на чердаке. Перед возвращением детей из школы она прошептала в люк чердака о том, что Рейчел должна найти себе другое место. И немедленно. Потому что она просто уверена: фрау Вейшман что-то подозревает и вскоре тайна откроется.
В полдень дети фрау Гиммершмидт пообедали и снова отправились в школу. Рейчел слышала, как женщина разговаривала со старостой двора: любопытная соседка, разыгрывая из себя великомученицу, пошлепала по лужам к местной больнице – оказывать добровольную помощь. Не прошло и пары минут, как фрау Гиммершмидт распахнула чердачный люк и помогла Рейчел спуститься.
Чтобы выглядеть более тучной, девушка обмоталась тряпками, набила карманы и накинула на себя плащ хозяйки. Затем Рейчел припудрила волосы и, вспомнив театральные хитрости, которым ее научили на занятиях по гриму в Нью-Йоркском университете, состарила с помощью макияжа лицо, использовав то немногое из косметики, что могла предложить ей фрау Гиммершмидт. «Совсем не так я собиралась воспользоваться полученными знаниями», – подумала девушка.
Рейчел понимала, что должна бы испытывать страх. Но ее уже тошнило от сиденья на чердаке, поэтому мысли о том, что сейчас она сможет пройтись по улице, придавали ей сил.
Фрау Гиммершмидт позвонила в редакцию иностранных газет и попросила к телефону Джейсона Янга.
– Ваше белье уже постирано, можно забирать. Прощу прощения, но я решила, что больше не буду брать стирку на дом. У меня много своих дел по хозяйству. Придется вам найти другую прачку. – И, не дожидаясь ответа, она повесила трубку и повернулась к Рейчел. – Простите… – Женщина развела руками. – Но у меня дети. Не знаю, почему за вами охотятся… на вид вы такая милая молодая женщина. – Фрау Гиммершмидт помогла Рейчел надеть плащ. – Вы же не еврейка, нет?
– Нет. – Рейчел вспыхнула, и ей стало стыдно за то, что она покраснела. – А какое это имеет значение?
Фрау Гиммершмидт вздохнула.
– Мне бы хотелось, чтобы это не имело никакого значения.
Рейчел кивнула. Она все понимала. Люди опасались прятать евреев – боялись нацистов: эсэсовцев, «коричневорубашечников», членов гитлерюгенда, старост своих многоквартирных домов и дворов, любопытных соседей, готовых тут же донести на своих давних друзей, а еще быстрее на врагов. Всюду чувствовался запах страха. Рейчел была настолько погружена в себя, настолько слепа, что раньше этого совершенно не замечала. Да ей и не было в том нужды – раньше ее это не касалось.
– Спасибо, что прятали меня все эти дни. Я знаю, как вы рисковали.
Фрау Гиммершмидт прикрыла глаза, потом отодвинула краешек занавески на окне и прошептала:
– Пройдете через двор, повернете налево. Остановка трамвая через квартал, следующая еще через один.
Рейчел замерла в нерешительности, с ужасом осознавая, что ей некуда идти, некому довериться. Но фрау Гиммершмидт отступила и опустила глаза – она умывала руки. Женщина открыла дверь, и Рейчел выскользнула во двор. Имитируя тяжелую поступь своей благодетельницы, она пересекла двор и направилась в соседний квартал.
Ехать на трамвае было опасно, но еще рискованнее было идти по улице.
Девушка молилась о том, чтобы Джейсон понял намеки фрау Гиммершмидт, молилась, чтобы он в очередной раз бросился ее спасать и нашел место, где она могла бы спрятаться, – молилась, пока не вспомнила, что не верит в Бога. Рейчел брела медленно; не стала она спешить и тогда, когда заметила приближающийся трамвай.
Она дошла до середины второго квартала, когда рядом с ней притормозил темно-серый БМВ.
– Вас подвезти, meine Frau[25]? – За рулем сидела красивая молодая женщина.
– Nein, danke[26]. – Рейчел кивнула на трамвайную остановку.
– Я друг Джейсона, – прошептала женщина и потянулась через сиденье, чтобы открыть дверь.
Рейчел замерла в нерешительности.
– Садитесь, фрау Вагнер. – Женщина говорила по-немецки свободно, но с легким американским акцентом. – Я вас подвезу. Мне совсем нетрудно. Я с радостью заберу его белье у прачки.
Рейчел глубоко вздохнула и села в машину.
– Шейла Грэм, – протянула руку женщина.
Рейчел с благодарностью пожала ее.
– Ничего не говори. Джейсон велел не задавать вопросов.
– Тогда как…
– Мне лучше ничего не знать. Мы время от времени сотрудничаем. – Шейла улыбнулась, и ее автомобиль влился в поток машин. – Позже Джейсон придет ко мне домой. Ты сможешь принять ванну… расслабиться, возможно, даже поспать до его прихода. Насколько я могу судить, эти морщинки не только результат умелого театрального грима.
– Боюсь, вы правы, – вздохнула Рейчел. – Спасибо вам.
Шейла кивнула, переключила передачу.
– Сегодня вечером у меня свидание. И у вас с Джейсоном будет достаточно времени, чтобы поговорить. Не знаю, что с тобой происходит, но чем смогу – помогу. А пока можешь пожить у меня.
Рейчел опустила плечи и кивнула в знак благодарности, изо всех сил стараясь не позволить слезам облегчения заструиться по ее загримированным щекам.
* * *
Еще никогда купание и мытье головы не приносили Рейчел такого наслаждения. Ей казалось, что в этой маленькой ванне она может сидеть целую вечность. Наверное, девушка заснула бы, если бы Шейла не окликнула ее из-за висящего одеяла, служившего импровизированной перегородкой.
– Скоро приедет Джейсон. Ты, вероятно, хочешь выглядеть хорошо к его появлению.
Радуясь тому, что Шейла одолжила ей свою блузку и юбку, Рейчел быстро оделась. Волосы она собрала сзади в тугой конский хвост, надеясь, что, когда они высохнут, у нее на голове не останется завитков.
Девушка как раз заправляла блузку в юбку, когда Шейла пошла открывать дверь. В квартиру вошел Джейсон. Он принес с собой ужин.
– Китайская еда на вынос – по-берлински!
Журналист радостно улыбнулся. В его глазах были облегчение и радость оттого, что он видит Рейчел.
– Моя любимая!
Девушка не смогла сдержать улыбку, растянувшуюся у нее на лице от уха до уха.
Шейла перевела взгляд с Джейсона на Рейчел и засмеялась.
– Я уже ухожу. Не шумите и не открывайте дверь. Свет притушите. Когда я приду, вы услышите, как звякнут ключи в замке.
Рейчел почувствовала, что краснеет.
Лицо Джейсона тоже стало пунцовым, но он быстро нашелся:
– Когда ты вернешься, меня здесь уже не будет.
– Когда будешь уходить, убедись, что тебя никто не видит. Ты же знаешь мою старосту.
Он кивнул, и Рейчел удивилась тому, как легко, как непринужденно они общаются. Наверное, это не первая их общая тайна.
Когда за Шейлой закрылась дверь, Рейчел внезапно смутилась.
– Шейла приготовила кофе. Хочешь кофе?
– Настоящего? Конечно. В наши дни за пределами дорогих ресторанов это большая редкость. Должно быть, у Шейлы остались прежние запасы. А я накрою на стол.
– Отличная идея.
Пока они ели, Рейчел не могла придумать тему для разговора. Она постоянно подносила ко рту салфетку, чтобы убедиться, что не оставила на губах зернышко риса или пятно соуса.
– Довольно вкусно, но совсем не похоже на китайскую еду из американских ресторанов, – заметил Джейсон.
– Да, – согласилась Рейчел. – Но это гораздо лучше, чем когда и на обед, и на ужин у тебя один картофель.
– Да уж… – Журналист мягко улыбнулся. – Такова судьба беглецов.
– Беглецов, – повторила Рейчел упавшим голосом.
Она откинулась на спинку стула и отодвинула тарелку.
– Тяжело было жить на чердаке?
– Да, это не дома. – Девушка поморщилась. Она не хотела показаться неблагодарной. – Впрочем, теперь я не знаю, где мой дом.
О чем еще говорить?
Джейсон достал из куртки большой конверт.
– Это новый паспорт? – с надеждой спросила Рейчел.
– Фотографии. – Он облизал губы, как будто не зная, что сказать дальше. – Я проявил отснятые тобой пленки.
Рейчел почувствовала, как учащенно забилось ее сердце. В груди у нее все сжалось. Что еще было в ее деле? Чего она не знает?
Джейсон подвинул ей конверт через стол. Рейчел затаила дыхание, пытаясь унять дрожь в пальцах, и достала пачку снимков. Пока она, словно стирая годы жизни, читала, прошло минут пять.
– После маминой смерти отец изменился, – призналась она. – Даже по его записям заметно, что он избрал иной путь.
– Может быть, она его сдерживала?
– Или не давала сойти с ума, – произнесла Рейчел и вновь углубилась в чтение. – Сестра? У меня есть сестра?
– Вы однояйцевые близнецы. Этим объясняются поездки в клинику – на осмотр – каждые два года. За вами обеими наблюдали.
Рейчел поняла, что является частью эксперимента, как только увидела папку со своим именем в номере отца, но до сих пор не могла осознать суровую действительность – что отец ее использовал. А теперь, когда узнала о том, что у нее есть сестра-близнец, была не в силах это осмыслить.
– Значит, я… мы… мы были частью долгосрочного эксперимента.
– И есть… вы и сейчас являетесь участниками долгосрочного эксперимента. Именно поэтому немцы решительно настроены не выпускать тебя из Германии. Прочти еще вот это. – Джейсон взял документы, часть из них отложил и придвинул Рейчел еще один снимок. – Это доказывает, что твой отец не собирался позволять тебе покинуть Германию. Это ведь его почерк?
Рейчел кивнула.
– Он подделал твою подпись, намереваясь лишить тебя американского гражданства. Документ вступил в силу в пятницу, в день вашего приезда в Берлин. – Джейсон откинулся на спинку стула, давая девушке возможность осознать услышанное. – Нет документального подтверждения того, что идея сработала, но, по-моему, ты можешь перестать об этом беспокоиться.
«Во что труднее поверить? В то, что отец меня предал, вырастив для науки и собственных исследований? Или в то, что у меня есть сестра?»
– И давно ты это узнал? – спросила Рейчел.
– С тех пор как проявил пленки – через два дня после того, как ты мне их отдала.
– Но ты ни слова мне об этом не сказал… даже не намекнул.
Джейсон покраснел.
– Я боялся, что ты захочешь найти сестру, бросишься к ней сломя голову. В первую очередь тебя будут искать у сестры. Возможно, эсэсовцы уже побывали там, если заподозрили, что ты видела отцовские документы. Или если решили, что он сам тебе все рассказал.
– Отец никогда ничего мне не рассказывал.
– Шлик со своими головорезами этого не знал. Они, должно быть, решили, что тебе что-то известно, что ты что-то выяснила, оттого и сбежала. К тому же ты оставила письмо. Поверь мне, СС используют любую зацепку.
– Но ты все знал и…
– Тебе было безопаснее оставаться там, где ты была, – перебил девушку Джейсон. – Теперь все изменилось, значит, нам придется придумать что-то другое.
– Где моя сестра? Кто она? – Рейчел хотелось знать все.
Джейсон порылся в пачке, достал оттуда снимок.
– Ее зовут Лия Гартман. Чуть больше года назад она вышла замуж. Детей нет. В последних записях указано, что она живет в Обераммергау… Похоже, она провела там всю жизнь.
– Она моя копия! – ахнула Рейчел. – Только… какая-то старомодная… Обераммергау… деревушка, где ставят «Страсти Христовы».
– Тебе и это известно?
– Я была там однажды… в 1934 году. Как раз после того, как к власти пришел Гитлер. Это был особенный год – трехсотлетний юбилей постановки. Отец… – Рейчел запнулась. Ее сердце защемило. Она на секунду прикрыла глаза и продолжила: – Мы с отцом приехали туда в августе… в тот же день, когда там был Гитлер. Отец показал мне фюрера. – Девушка как-то обмякла на стуле. – Но отец никогда не говорил, что у меня есть сестра. И что она живет в Обераммергау. – Рейчел взглянула на Джейсона, как будто ожидая, что он бросит ей спасательный круг. – Наверное, он и сам этого не знал.
– Знал и он, и его жена… с самого начала. – Джейсон посмотрел Рейчел прямо в глаза. – И доктор Крамер, и твоя приемная мать были учеными, Рейчел. Ты была для них объектом эксперимента, как и твоя сестра, хотя не похоже, чтобы твоей настоящей семье было об этом известно.
Рейчел отвернулась, неожиданно почувствовав себя грязной. «Быть настолько никчемной, растоптанной собственным отцом! Но мама… Я искренне полагала, что она меня любит. Теперь я не знаю, во что верить». Девушка сглотнула.
– А тут сказано, кто мои настоящие родители?
– Имя матери указано, но, кажется, информация об отце отсутствует.
– Отсутствует?
– Я имею в виду, что здесь ничего об этом не написано… как будто имя отца неизвестно.
Рейчел вздохнула, чувствуя, как закрывается очередная дверь в ее жизнь. Девушка наклонилась к Джейсону.
– Расскажи мне о моей настоящей маме. Как ее зовут? Она еще жива? – Сердце девушки забилось с надеждой.
– Нет. Мне очень жаль.
Рейчел прикусила губу.
– Но есть еще бабушка, – произнес Джейсон. – Кажется, она жива.
– У меня есть бабушка?
Журналист откинулся на спинку стула и через стол пододвинул Рейчел оставшиеся документы.
– Сама посмотри. Наверное, тебе хочется прочесть это.
– А моя сестра?..
– Как я уже сказал, она жива… и живет в Обераммергау. По всей видимости, у нее не очень легкая жизнь.
– Моя сестра… – Рейчел произнесла эти слова вслух. Два слова, таившие новый для нее мир. – Я хочу ее увидеть. Познакомиться с ней. – Никогда в жизни она не испытывала такого страстного желания.
– Еще одна новость.
– Еще одна?
– Мне сообщили, что Шлик поспешно отправился на юг… в Обераммергау. И вернулся не очень довольный.
Рейчел округлила глаза.
– Не знаю, что это означает, но догадываюсь, что твоей сестре и бабушке пришлось несладко. Расспрашивать об этом я не могу, чтобы не вызвать подозрений. Никогда не знаешь, кому можно полностью доверять, кто будет держать язык за зубами в случае ареста. – Джейсон снова откинулся на спинку стула. От его взгляда не укрылась тревога Рейчел.
Шлик безо всяких колебаний убил свою дочь и жену. Рейчел могла только догадываться, чем обернулась встреча с ним для женщин ее семьи.
19
К тому времени, когда эсэсовцы уехали, дом бабушки был перевернут вверх дном, чуланы разворочены, а в деревянных стенах продолблены дыры – в тех местах, где, по мнению СС, могли быть тайники. Но кого они могли прятать, ни бабушка, ни Лия понятия не имели. На чердаке все разнесли в пух и прах, в подвале опустошили полки: банки с соленьями побросали на пол, пучки сухих трав и цветов расшвыряли в ярости.
Эсэсовцы выкручивали Лии руки. Их начальник, высокий немец, разорвал на ней блузку и облапил, требуя сказать, где же она прячется. Лия только плакала. Еще один эсэсовец угрожал бабушке. Он ударил старушку, отчего та оказалась на полу – у нее на щеке багровела ссадина. Но ни одна из женщин не могла понять, о чем говорят эсэсовцы, чего они хотят.
Прошло целых двадцать минут, прежде чем кошмар прекратился и эсэсовцы укатили восвояси. Они злились, но, по всей видимости, были довольны, что ее здесь не оказалось. И тем не менее их главарь с обезумевшими глазами пригрозил, что прятать ее бесполезно, как и вообще кого бы то ни было. А если она появится, Лия с бабушкой должны отказать ей в приюте и сразу же выдать полиции. Он сунул Лии за пояс юбки свою визитную карточку с именем штурмбаннфюрера Герхарда Шлика и номером телефона, заверив перепуганных женщин, что знает, где ее искать. А если найдет и выяснит, что они ей помогали, они с бабушкой поплатятся за это. Он обязательно вернется.
Как только эсэсовцы ушли, обе женщины какое-то время не двигались с места. Они скрючившись лежали на полу, едва смея дышать, собираясь с силами и мыслями.
Происшедшее было слишком странным, слишком ненормальным, чтобы в него можно было поверить.
Потом Лия уложила бабушку в кровать, обмыла ее щеку, принесла горячего чаю. Они ни словом не обмолвились о вторжении в их дом, об избиении. Да и как описать это словами?
Вернувшись в кухню, Лия подошла к раковине, задернула занавески и стала неистово тереть руки, грудь, все тело. Она изо всех сил старалась привести в порядок разорванную одежду и сдержать слезы. «Фридрих! Фридрих! Ты так мне нужен!»
Лия закуталась в бабушкину шаль и крепко завязала ее на груди. Она придет сюда завтра, поможет бабушке привести в порядок дом, но теперь ей необходимо вернуться к себе – к деревянным фигуркам Фридриха, к теплому одеялу, которым они могли укрываться вдвоем, пока ее мужа не мобилизовали.
Женщина торопливо шагала в темноте домой, оглядываясь через плечо на малейший шорох. Когда она наконец-то дошла до порога, ее сердце упало: входные двери были распахнуты. Вандалы побывали и в ее доме. Райский уголок, который они с Фридрихом так трепетно создавали и берегли, был разрушен: статуэтки, стоявшие в ряд на полках, были сброшены, фарфоровые фигурки и чашки, которые подарила бабушка, – разбиты.
Такого Лия вынести не смогла. Она бросила в сумку свою ночную сорочку, выгнала Мидред, пятнистую кошку, за дверь, закрыла дом и побрела назад – устало потащилась на холм. Завтра она наведет у себя порядок. А сегодня будет спать на своей кровати в доме, в котором выросла. Будет прислушиваться к бабушкиному дыханию и молиться, чтобы Фридрих скорее вернулся домой.
* * *
Почти час Джейсон взывал к разуму Рейчел, отговаривая ее немедленно мчаться в Обераммергау, но она оставалась непреклонна. Журналист утверждал, что нисколько не сомневается: Обераммергау – первое место, где ее будут искать нацисты, возможно, они даже организуют засаду, если не найдут ее сразу. В конце концов он сдался. Джейсон уговорил девушку немного поспать и пообещал, что они поговорят завтра.
Как только за ним захлопнулась дверь, Рейчел пододвинула лампу к кухонному столу. Она впилась глазами в сфотографированные документы, прищурившись, чтобы разобрать написанное. Отогнав противоречивые воспоминания о единственных родителях, которых она знала, Рейчел сосредоточилась на семье, которую никогда не видела и о существовании которой даже не подозревала.
– Лия. Ее зовут Лия.
Рейчел вглядывалась в черты, напоминавшие ее собственные. Но прическа была другая. На лице женщины, запечатленной на фото, не было ни грамма косметики, и что-то в глазах и губах неуловимо отличало ее от Рейчел. Другой была не форма губ, а их изгиб. Рейчел никак не могла понять, в чем именно заключалось отличие, но оно имелось – не было искорки, не хватало уверенности в себе.
Она покачала головой. Возможно, изображение на фотографии искажено. Рейчел узнает обо всем, когда познакомится с сестрой поближе.
– Когда я ее увижу, – прошептала девушка, закрывая глаза. Слова проникали в ее разум, в самое сердце. – Свою сестру.
Рейчел понимала, чем обязана Джейсону. Она доверилась ему во всем: вручила пленки, свою историю, всю жизнь… и Амели. Ради того, чтобы ей помочь, он рисковал работой и репутацией – даже свободой и жизнью. И сейчас она снова просит его помочь: отвезти ее в далекую баварскую деревушку, где ее, скорее всего, уже ищут. Неудивительно, что Джейсон считает эту затею небезопасной. Наверное, он побаивается, что она проговорится, выложит все, что знает, и подставит его под удар.
«Но он не понимает, каково это – быть одной, по крайней мере, в душе – всю свою жизнь. Всегда чувствовать, что какой-то части меня не хватает, а теперь неожиданно узнать, что у меня есть сестра – сестра-близнец… и бабушка…»
Было уже поздно, когда Рейчел закончила читать документы и выключила свет. Она скользнула под одеяла, которые Шейла оставила для нее на диване. Рейчел радовалась тому, что эта щедрая молодая женщина еще не вернулась. Девушке хотелось чуть дольше побыть наедине со своими мыслями, с образами, которые рождало ее воображение. Но ее веки тяжелели. День выдался длинным, эмоционально насыщенным, тревожным, утомительным.
Рейчел закрыла глаза – всего лишь на минуточку – и провалилась в сон. Ей снились величественные Альпы со снеговыми шапками, цветочные ящики на баварских окнах с буйствующей ярко-красной геранью, пестрым плющом, плетущимся по бежевым отштукатуренным стенам домов, на которых изображены сцены из «Страстей Христовых» – на их постановке Рейчел присутствовала несколько лет назад. Или сцены из сельской жизни. В своих снах Рейчел гуляла по деревушке, из одного конца в другой. На краю, в самом дальнем переулке расположился старомодный, изящный, веселый домик. На крыльце у открытой двери стояла улыбающаяся бабушка – морщинки покрывали ее обветренное лицо. Она раскрыла объятия, приглашая Рейчел домой.
Проснувшись, девушка вновь закрыла глаза и прикусила нижнюю губу, отчаянно пытаясь восстановить в памяти каждую подробность, каждую деталь своего сна. Потому что она знала: это всего лишь сон. Жизнь показала ей, что мечты не всегда сбываются. Но, по крайней мере, у нее была надежда.
* * *
К обеду Лия уже навела порядок на крошечной бабушкиной кухне и в гостиной. Вдвоем они, качая головами, заштопали порванное стеганое одеяло.
– Как будто кто-то мог прятаться в этом одеяле! – возмущалась бабушка.
– Они хотели нас напугать… пригрозить нам.
Бабушка вздохнула.
– Им это удалось. Но за что? Чего они хотели? Кого искали?
Лия не знала ответа. Обе женщины решили, что будет лучше, если Лия переедет к бабушке – до тех пор, пока Фридрих не вернется.
– Вместе безопаснее, – сказала Лия.
– По крайней мере, спокойнее. – Бабушка улыбнулась и прикоснулась к внучкиной руке.
Лия весь день просидела дома, а вечером отправилась в деревню – учить детей пению. На ночь она вновь осталась у бабушки, а на следующий день убрала у себя в доме.
Многие фигурки, вырезанные Фридрихом, удалось спасти. Тут и там валялись щепки – где нос, где палец, где другие части. Но она все сбережет. Лия не была уверена, что Фридрих захочет хранить поломанные фигурки, но она и мысли не допускала о том, чтобы швырнуть их в огонь. Ее фарфоровым фигуркам повезло меньше. Лия усердно склеивала осколки побольше – словно собирала картинку-загадку. Когда все высохло, женщина упаковала фигурки. Она не звала беду. Но оказалось, что беде не нужно приглашения, а этот ненавистный эсэсовец поклялся, что еще вернется… Лия содрогнулась.
Собирая работы Фридриха, она приняла решение ничего не писать ему о случившемся. «Зачем его беспокоить? Он с ума сойдет из-за того, что его нет рядом, чтобы нас защитить. Нет, не стану его тревожить, ему и так несладко приходится. А если Господь вновь сведет нас вместе, а Он должен – должен свести! – тогда мы и поведаем друг другу о том, что нам довелось пережить». Лия смахнула слезы и заперла дверь. Еще в июне они с мужем так мечтали о будущем. Но лето пролетело, Фридриха мобилизовали, а она узнала о том, что никогда не сможет иметь детей. Когда часть, в которой служил ее муж, перебросили на передовую… все их мечты рассыпались в прах. А теперь еще и это.
Лия подняла голову. «Но это еще не конец. Нет! У меня есть детский хор и бабушка, я все переживу».
Поскольку жители Обераммергау все обо всех знали, ни для кого не осталось тайной, что к Лии и фрау Брайшнер наведывались СС. Все хотели выяснить причину их интереса. Что такого сделали эти две обычные женщины, почему попали в поле зрения СС? Чем вызвали весь этот ужас? Но Лия не могла дать ответ на этот вопрос, потому что сама его не знала.
Еще месяц назад она бы испугалась этих пристальных, подозрительных взглядов и расспросов. Возможно, даже заподозрила бы злой умысел. Но теперь в глазах многих односельчан она видела страх, жалость, беспокойство и мысль: «Слава Богу, это не я». И Лия была благодарна людям за сочувствие. Она справится.
Высокие детские голоса подняли Лии настроение, и когда занятия закончились, она была решительно настроена развеселить свою бабушку.
Когда в пятницу ближе к вечеру женщина открыла заднюю дверь бабушкиного дома и вошла в кухню, ее встретил изумительный аромат яблочного штруделя. Лия улыбнулась, сняла толстый шарф и повесила его у двери, радуясь тому, что слеплена из того же теста, что и ее бабушка. На тот случай, если эсэсовцы вернутся, они с бабушкой будут лучше подготовлены. Вдвоем они выстоят.
Час спустя морщинистые руки старушки, еще так недавно дрожавшие от страха в присутствии эсэсовцев, радостно порхали. Бабушка подала вторую порцию горячего супа с капустой и наливала некрепкий кофе – остатки настоящего кофе, – пока Лия развлекала ее рассказами о детском хоре.
Наконец бабушка взмолилась, чтобы Лия перестала, но тщетно. Старушка глотала кофе и беспомощно сгибалась от смеха пополам, когда ее внучка изображала неугомонного шестилетнего Генриха.
– Одна выходка… вторая… третья! – рассказывала Лия. – Он связал ленточки на косичках у стоявших перед ним девочек, а когда дети должны были разойтись, обе девочки упали на пол, их юбочки взлетели выше колен… Малышки ползали, как морские крабики. Их головки были связаны вместе! – Она всплеснула руками. – В классе стоял такой ор! А какая серьезная физиономия была у Генриха! Никогда не видела, чтобы у исчадия ада было такое ангельское личико!
– Ох, Лия, нельзя так говорить! – предостерегла ее бабушка, озорно сверкая глазами.
– Но это правда!
И обе вновь засмеялись.
Наконец бабушка вытерла слезы салфеткой, потом протянула платок, чтобы вытереть слезы, которые выступили от смеха на глазах у Лии.
– Ты счастлива, да, моя малышка?
Лия перехватила бабушкину руку.
– Да! Я знаю, это не мои дети, но многие из них мне как родные. Я хочу отдать им все, что у меня есть – всю до капельки любовь, помощь, преданность. Хочу, чтобы они почувствовали ту радость, которую дарят мне! Не хочу из-за страха терять эти драгоценные дни.
– Я так горжусь тобой, Лия!
Лия замерла в нерешительности, а потом прошептала, как будто их кто-то мог подслушать:
– Иногда я боюсь, что работа с детьми – это сон. И я могу неожиданно проснуться. Так же нежданно-негаданно, как появились те люди. Все в нашем мире… не вечно, да? – Она вздохнула, потом затаила дыхание. – Я даже боюсь быть счастливой, особенно во время такого безумия и неопределенности – как будто это неправильно. Как будто со мной что-то не так.
– Нет, нет, моя Лия. Радость – это дар Божий, а ты дитя Господа. Он тебя любит. Он посылает тебе радость через пение!
Лия подняла голову и улыбнулась. Ей так хотелось в это верить. Но ее сердце точил червячок сомнения.
20
Рейчел напоминала себе мячик для пинг-понга, сидя возле круглого столика между Джейсоном и Шейлой перед началом комендантского часа.
– Ничего из этих документов носить с собой нельзя, – настаивал Джейсон. – Если у тебя что-нибудь найдут, упомянутым в них людям будут грозить крупные неприятности.
– Но я хочу, чтобы их увидела моя сестра! Ей понадобятся доказательства моих слов! Что я та, за кого себя выдаю, – сказала Рейчел.
– Если эсэсовцы тебя остановят, – негромко вмешалась Шейла, – они захотят узнать, откуда у тебя эти документы.
– Я сама сделала снимки, скопировала документы отца. Я не боюсь ему навредить. Господи Боже, его уже арестовали!
– Но ты потянешь за собой Джейсона. Эсэсовцы захотят узнать, кто проявил пленки, где, когда. Ты должна запомнить все, что касается твоей семьи, на память: имена, адреса, расписание поездов, как будто знала это всю жизнь. И тебе все время следует маскироваться. – Шейла откинулась на спинку стула. – Вы однояйцевые близнецы; тебе будет нетрудно убедить свою бабушку в том, что ты дочь Айбин Брайшнер.
– Сложнее будет уговорить ее разрешить тебе пожить у нее… возможно, с Амели… какое-то время. Пока я не смогу переправить вас в Шотландию. Или еще лучше – в США. Если мне удастся найти Амели. – Джейсон побарабанил пальцами по столу.
– Что ты имеешь в виду?
– Через две недели после взрыва моего связного арестовали. Гестапо не нравится, что евреев снабжают продовольственными карточками. И меня к нему не пускают. Начальство не очень-то допускает иностранную прессу к арестованным.
– Джейсон! – Рейчел не знала, что сказать.
Журналист покачал головой.
– Ради безопасности я согласился на то, чтобы был один связной. Это большая ошибка. А теперь он требует еще денег – уверяет, что дело слишком опасное, к тому же женщина, которая прячет Амели, требует увеличить плату за то, чтобы она оставила девочку у себя. Я должен привезти Амели к тебе, а потом спрятать вас двоих в надежном месте.
Рейчел колебалась. Одно дело просить Джейсона спасти дочь подруги и убедиться в том, что она живет в немецкой семье, с женщиной-немкой, которая, скорее всего, знает, как воспитывать детей. А совсем другое – заботиться о ней самой. Если бы Рейчел смогла увезти Амели в Нью-Йорк… Там есть школы для глухих детей. Рейчел представить себе не могла, как будет воспитывать этого ребенка.
Но ей не понравилось то, как на нее смотрел Джейсон. Казалось, он увидел ее нерешительность в новом свете, как будто отведал чего-то кислого. Рейчел натянула на лицо маску нетерпения, заверив Джейсона, что ждет этого не дождется. Если дело дойдет до того, что ей действительно придется заботиться об Амели, она… как-нибудь справится с задачей. Это была ее новая роль. Пока Рейчел представляла, что играет главную роль в сложной постановке, она думала, что сможет побороть собственный страх.
Следующие два вечера троица посвятила тому, чтобы придумать образ для Рейчел и усовершенствовать ее маскировку. На третий день вечером Джейсон приехал с ее новым паспортом, спрятанным за подкладку куртки: Эльза Брайшнер, пятьдесят семь лет, из Штелле.
Шейла предложила покрасить волосы Рейчел на несколько тонов темнее и сделать множество седых прядей.
– Волосы отрастут. Но, по крайней мере, глядя на Рейчел, охрана на станции не увидит перед собой блондинку.
– Но тогда мне будет труднее убедить мою семью.
Рейчел немного понизила голос, произнося слова «моя семья». Она употребляла их при каждом удобном случае, смакуя на языке. Ей не хотелось признаваться в тщеславии, но Рейчел нравился цвет ее волос. Они были частью ее естества.
– Подойдут парик и косынка. Сможешь достать?
Шейла удивленно приподняла брови – ее не проведешь! Сошлись на том, что присыплют волосы пудрой.
Следующую неделю они отрабатывали историю Рейчел, проверяли документы, совершенствовали ее образ. Рейчел то трусила, то немедленно рвалась в бой.
Готова была Рейчел или нет, но наконец пришло время уезжать. Накануне вечером она неловко обняла Джейсона на прощанье. Шейла собрала вещи перед отъездом в Штаты, где она и подбросит паспорт Рейчел – где-нибудь на корабле, когда они будут подплывать к Нью-Йорку. План Джейсона должен был сработать, ведь немцам уже было известно, что Рейчел пыталась покинуть страну.
Джейсон, Рейчел и Шейла надеялись, что Германия сосредоточена на том, что ответит Лондон на предложение Гитлера о перемирии, а также на подавлении польского сопротивления. И что фото Рейчел уже нет на блокпостах.
– Не знаю, как тебя благодарить… за все.
Рейчел позволила Шейле заключить ее в объятия, перед тем как они обе по отдельности отправятся на вокзал.
– Надеюсь, ты сможешь поблагодарить меня позже, малышка. – Глаза Шейлы затуманились. – Будь осторожна. Береги себя. Не пиши! – Она усмехнулась. – Но когда все закончится – а всему когда-то приходит конец, – ты должна будешь накормить меня, уложить спать и пропустить со мной по бокальчику где-нибудь в Нью-Йорке.
– Договорились.
Рейчел и Шейла скрепили договор рукопожатием.
– Целый вечер будем гулять по городу, и ты останешься жить сколько угодно… в Нью-Йорке.
Слова звучали, как музыка, казались такими далекими.
А потом Шейла уехала. Они договорились, что Рейчел дождется, когда староста двора уйдет на базар, и незаметно выскользнет из квартиры и через запасные ворота.
Рейчел вымыла посуду после завтрака, убрала ее в буфет. Вытерла плиту и стол, сложила фланелевые простыни, спрятала их на верхнюю полку шкафа. Хозяйственные хлопоты были для нее в новинку, но пока это было частью ее роли.
Она поставила сумку у двери и присела на краешек стула, чтобы час подождать. Еще никогда минуты не тянулись так долго, а часы на стене не тикали так громко.
21
По пути из Берлина в Мюнхен поезд останавливался несколько раз: как для того, чтобы высадить или забрать пассажиров на указанных станциях, так и на военных блокпостах. На каждом посту вооруженные солдаты бродили по проходам, выборочно проверяя документы.
– Знаете, они ищут евреев, – прошептала сидевшая рядом с Рейчел женщина. – Как будто евреи не знают, что могут ехать только в багажном отделении. – Женщина поцокала языком.
Рейчел проглотила стоявший в горле комок. Она не обращала внимания на разговоры отца, которые тот вел за столом еще дома, в Нью-Йорке. Он упоминал о снижении иммиграционных квот для нежелательных иммигрантов из Восточной Европы. Тогда Рейчел думала, что отцу лучше знать. И что эти иммигранты действительно могут сильно разбавить американскую кровь. Но теперь она лицом к лицу столкнулась с предрассудками и ненавистью.
«Даже если евреи и не такие, как мы, притеснять их – бесчеловечно. Почему немцы не поднимутся, не возмутятся – не сделают хоть что-нибудь?» Когда к Рейчел приблизился вооруженный человек в форме, она вжалась в спинку сиденья.
Они уже подъезжали к Мюнхену, когда документы проверили у женщины, сидевшей через два места от Рейчел. Проверили также документы у ее сына. Рейчел плохо видела профиль мальчика. Он был юным, невысокого роста – макушка не доставала до верха спинки сиденья.
– Ваша фамилия Коган? Вы евреи?
– Нет… Я имею в виду, это фамилия мужа. Он… его уже больше нет в живых, – ответила женщина. Ее голос лишь немного дрожал от страха перед властью.
– Значит, ты еврейская шлюха. Это твой сын?
– Это Эрик, мой сын. – Женщина не обращала внимания на оскорбления.
– Фамилия мальчишки Коган?
– Да, разумеется.
– И он наполовину еврей, ja?
– Ja, но он всего лишь ребенок. И едет со мной.
– Еврей – везде еврей. Он будет сидеть в багажном отделении или сойдет с поезда.
– Прошу вас, mein Herr[27], я… я возьму его на руки, если так надо.
Но офицер не хотел ударить лицом в грязь перед остальными пассажирами. Он проучит эту женщину с ребенком, чтобы другим было неповадно. Рейчел видела решимость, написанную на его лице. Она глубоко вздохнула и затаила дыхание.
– Встать!
Представитель власти рывком заставил мальчика подняться и вытолкал его в проход. Мать схватила сумку и тюки и, спотыкаясь, поспешила за сыном.
– Ты оставайся здесь! – рявкнул офицер, силой усаживая женщину на место.
– Но это мой сын!
– Мальчишку ссадят с поезда, если ты не сядешь. Вот что бывает, когда спишь с der Juden![28]
Мальчик молчал с широко открытыми от ужаса глазами.
Испуганная женщина переводила взгляд с одного пассажира на другого – отчаянно моля о помощи. Но Рейчел видела, как все отворачиваются, прячут взгляды в книги и газеты, смотрят в окно, даже делают вид, будто спят – словно в такой ситуации можно заснуть!
Рейчел хотелось вскочить, броситься за нахальным военным, сказать ему все, что она о нем думает, поставить на место этого возмутительного наглеца. Но когда молодая мать обратила на нее свой взгляд, Рейчел показалось, будто та смотрит прямо ей в душу: знает, о чем она думает, что представляет, что отказывается сделать.
Рейчел отвернулась. Ни мальчику, ни женщине она помочь не могла. Рейчел не хотела привлекать в себе ненужного внимания и меньше всего хотела быть узнанной. «А если бы я не была в бегах? Если бы не пряталась? Помогла бы я им? И даже если бы я…» Рейчел закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья и притворилась, будто спит. Девушка знала одно: она сама до ужаса напугана.
22
Хильда Брайшнер разложила тяжелые, похожие на попоны плетеные ковры на деревянных скамьях, которые были расставлены по периметру двора, и стала неистово выбивать. Размышляя о чем-то, она больше всего любила выбивать из ковров пыль, которая клубилась в воздухе. Что бы там ни говорили врачи о чрезмерных нагрузках на сердце, пожилая женщина находила в этом занятии чрезвычайное удовольствие. Бах!
Она несколько дней пыталась вычеркнуть из памяти рейд СС. Но что-то в их словах – еще до прихода Лии – постоянно вертелось у нее в голове.
Бах!
Они хотели знать, не приезжала ли ее внучка. Хильда понятия не имела, зачем им понадобилась Лия, и не хотела говорить, где она.
Бах!
И когда неожиданно во двор вбежала Лия, оказалось, что она эсэсовцам совершенно не интересна. Они твердили, что им нужна «другая». Ничего не понятно. Наверняка им нужны другие Брайшнеры.
Бах!
– Фрау Брайшнер? – Уже немолодой голос с едва заметным акцентом нерешительно окликнул ее со стороны задних ворот.
– Ja! – Хильда вздрогнула. – Я фрау Брайшнер.
Она терпеть не могла, когда ее отрывали от домашних дел. В деревне все об этом знали, поэтому не заглядывали к Хильде в гости, пока она не приготовит обед и не помоет посуду. Это неписаное правило мог нарушить только кто-нибудь нездешний.
– Мы можем с вами побеседовать, фрау Брайшнер? – Женщина с сединой в волосах стояла на дорожке, терпеливо ожидая. – Наедине?
Хильда обвела руками двор.
– Мы здесь совершенно одни. – Она вытерла руки о фартук, не сводя глаз с холщовой сумки незнакомки. – Но если вы хотите что-то продать, meine Frau, лучше ступайте прочь. У меня нет денег. – Старушка отвернулась от незнакомки, намереваясь продолжить выбивать половики.
– Nein, meine Frau! Я ничего не продаю, но… – Женщина заговорила тише и настойчивее. – Мне нужно с вами поговорить… с глазу на глаз.
Ее голос звучал твердо, что не вязалось с внешностью женщины. Хильда задумалась. Было что-то неуловимо знакомое в этой женщине. Лицо? Глаза? Хильда покачала головой. Она была уверена – никогда раньше она эту женщину не видела.
– Что вам нужно?
Женщина огляделась по сторонам. Хильде показалось, что она нервничает.
– Прошу вас, фрау Брайшнер, позвольте я войду в дом… Мы сядем и поговорим. Это… это важно для нас обеих… это очень личное.
Хильда нахмурилась. Внизу живота у нее неприятно похолодело. Она слышала, что в Обераммергау тайком пробираются иностранцы. Они умоляют, чтобы их взяли на постой, потому часть Германии уже «вычистили» от евреев и поляков.
Разумеется, Хильде было жалко этих людей. Гитлер нес разрушения. Ходили слухи о невероятной жестокости СС. Но это было очень далеко от Обераммергау. Люди, которые участвуют в «Страстях Христовых», никогда не станут так себя вести – такое поведение несовместимо с тем, чему учат «Страсти». Конечно, Хильда знала, что сама постановка «Страстей» направлена против евреев. Но это совершенно не означает, что жители деревушки ненавидят евреев – Хильда очень на это надеялась. По крайней мере, не все из них.
«Не станем же мы кусать руку тех, кто платит по нашим счетам, ведь так? И все же эта женщина не похожа ни на еврейку, ни на польку. Но разве можно сказать наверняка?»
– Как вы сюда попали?
– Прошу прощения? – Женщина наклонилась ближе, в ее глазах появилась тревога.
Хильда вздохнула. Она никогда не умела отказывать просящим, несмотря на то, что не могла позволить себе прокормить еще один рот.
– С такой сумкой далеко не уйдешь, meine Frau. Откуда вы? С кем приехали? – Хильда не хотела, чтобы на нее донесли за то, что она прячет у себя в доме беглецов – евреев или нет, – ее вокруг пальца не обвести. Если Хильда кого-то и пригреет, то только получив полную информацию и лишь потому, что сама решила помочь.
– Одна… Я пришла в деревню со станции.
Хильда вышла на улицу, огляделась. Ни души.
– Пожалуйста! – взмолилась женщина. – Не зовите никого. Позвольте поговорить с вами наедине.
– Что бы вы мне ни сказали – говорите здесь, средь бела дня, на улице.
Глаза женщины округлились, стали еще более испуганными. Хильде опять показалось, что в ее чертах есть что-то знакомое, но фрау Брайшнер была настроена решительно.
– Oma – бабуля, – прошептала женщина.
Хильда почувствовала, как екнуло ее сердце.
– Что вы сказали?
Женщина, продолжая сутулиться, шагнула ближе. Но ее шепот был едва различим.
– У меня есть новости о вашей дочери.
Хильде стало нечем дышать. Она узнала эти глаза – глаза своей дочери. Глаза Лии. Но продолжала возражать:
– Моя дочь умерла.
– Да, да, я знаю. Но я ее дочь – ваша внучка, Рейчел.
Перед глазами Хильды закрутился яркий калейдоскоп цветов. Старушка пошатнулась. Незнакомка бросила свою сумку и подхватила пожилую женщину с удивительной для ее возраста ловкостью. Сбитая с толку, чувствуя, что хочет присесть в кресло-качалку на кухне, Хильда махнула рукой в сторону дома.
* * *
Рейчел заботливо усадила бабушку в кресло-качалку, потом наполнила глиняную кружку водой из бочонка, стоявшего на столе. Пока бабушка пила, пытаясь отдышаться, Рейчел внесла со двора свою сумку, продолжая имитировать неторопливую походку.
Вернувшись в дом, Рейчел заперла дверь, задернула ближайшую занавеску, пододвинула к креслу-качалке невысокий табурет и стала ждать. Девушка была не в силах оторваться от глаз, которые были зеркальным отражением ее собственных.
Она жадно смотрела в лицо Хильде Брайшнер, на ее скулы, потом переместила взгляд на узловатые пальцы. Рейчел даже не ожидала, что у них столько общего. Казалось, она смотрела на саму себя, только на пятьдесят лет старше. Девушка едва сдерживалась, чтобы не засмеяться, не разрыдаться на плече у сидящей перед ней старушки.
Когда пожилая дама немного успокоилась, Рейчел взяла ее за руку.
– Я дочь Айбин.
Хильда отпрянула – широко распахнула от удивления глаза, нахмурилась. И покачала головой.
– Вы из Института. Вас прислали СС, верно? Пожалуйста, пожалуйста, оставьте нас в покое!
Сердце Рейчел упало. Джейсон оказался прав: Герхард уже наведывался сюда, скорее всего, пытал ее бабушку. Возможно, и Лию тоже пытали. Рейчел стряхнула пудру с волос, чтобы показать, что это всего лишь маскарад.
Хильда ахнула, но продолжала молчать.
– Понимаю, это звучит… невероятно. – Рейчел нагнулась ближе. – Мне столько нужно вам рассказать, столько спросить у вас. Но должна предупредить: меня ищут. Если меня здесь найдут, мне несдобровать. И вам с Лией тоже.
– Зачем же вы сюда приехали? – Глаза старушки наполнились слезами, в ее взгляде смешались гнев, страх и удивление. – Что вам нужно?
– Нет, прошу вас, поверьте… я никому не желаю причинить зло. Я всего лишь хотела увидеть вас… спросить…
Звякнула щеколда, кто-то постучал в дверь.
– Бабуля! – раздался мелодичный голос, в котором слышалось беспокойство. – Ты дома? Что происходит? Почему дверь заперта?
Но пожилая женщина молчала. Казалось, она была не в состоянии говорить. Хильда все не могла отдышаться, а потом ее дыхание стало свистящим. Во взгляде старушки вспыхнула паника. Она кивнула в сторону дальней стены. Рейчел отпустила руку бабушки, не зная, куда бежать, что делать.
В дверь заколотили.
– Бабуля… открой! С тобой все в порядке? Кто у тебя? Откройте дверь!
Старушка сжала горло, приложила руку к груди. Рейчел рывком открыла дверь молодой женщине, стучавшей кулаком в дверь, – молодой женщине, которая казалась, как ни крути, ее собственным – только провинциальным – зеркальным отражением.
– У нее приступ… сердечный… Не знаю! Помоги ей! Пожалуйста, помоги!
Рейчел не успела договорить, как молодая женщина оттолкнула ее в сторону и подбежала к задыхающейся бабушке.
Хильда махнула в сторону дальней стены.
– Твои таблетки? В серванте? – Молодая женщина рывком распахнула дверцу серванта, порылась среди бутылочек и горшочков, схватила коричневый пузырек и вытащила пробку. – Держись, бабуля, я уже иду!
Казалось, взгляд бабушки затуманился.
– Открой рот. – Молодая женщина сунула бабушке две таблетки под язык, потом присела рядом с ней и стала нежно поглаживать старушку по плечу, по спине. – Отдохни. Просто посиди немножко. – Она дожидалась, когда бабушка успокоится, перестанет задыхаться.
Никогда еще Рейчел не встречала такого заботливого ухода за больным человеком, в особенности среди врачей, которых ей приходилось видеть на работе у отца.
Но когда молодая женщина повернулась к гостье, ее лицо омрачилось. Глаза метали молнии. Она увлекла Рейчел в дальний угол комнаты.
– Что произошло?
Рейчел была напугана гневом молодой женщины и случившимся у бабушки приступом.
– Не знаю, – пролепетала девушка. – Она просто… Что с ней?
– У нее больное сердце. Ей нельзя…
Но тут молодая женщина замерла в нерешительности, уставившись на Рейчел, словно только что ее увидела.
– Лия! Ты же Лия!
Когда та увидела свою сестру, от изумления у нее едва не остановилось сердце.
– Кто вы? – Лия смотрела на нее, как будто перед ней было привидение.
– Я – Рейчел. Твоя сестра.
– Моя… сест…
– Близнец, – настаивала Рейчел. – Айбин Брайшнер – моя… и твоя мать.
Женщина по имени Лия побледнела, покачала головой.
– Это невозможно! Моя мать умерла во время родов. Я была ее единственным ребенком.
Пожилая женщина опять тяжело задышала. Рейчел с Лией обернулись.
– Бабуля! – воскликнули обе почти в унисон.
Изумленно вскинув брови, Лия встала между Рейчел и бабушкой.
– Тебя прислал доктор Менгеле, чтобы мучить нас?
– Нет!
– Тогда доктор Фершуэр, – продолжала Лия тоном обвинителя. – С нас довольно… довольно! Убирайся!
– Я не из Института! – Теперь уже Рейчел едва не плакала. – Я сама от них сбежала!
– Это за тобой они приезжали. Тебя искали СС. Они напугали бабулю, едва не разнесли в щепки ее дом… и мой заодно. Эсэсовцы уверяли, будто есть женщина, как две капли воды похожая на меня. Они предупредили: когда она появится, мы не должны верить ничему из того, что она скажет. Поклялись, что вернутся, и если мы станем ее прятать – горько об этом пожалеем.
– Мне очень жаль, что они обидели вас, но это лишний раз доказывает, что я не одна из них. – Рейчел наклонилась ближе. – Наша мама родила близнецов. Когда она умерла, нас разделили. – Она заговорила еще тише: – Мне кажется, что ей просто позволили умереть, возможно, даже помогли. Меня отослали в Америку, чтобы я там воспитывалась, а тебя отдали на воспитание нашей бабушке.
Лия покачала головой.
– Ты все выдумываешь!
Рейчел не знала, что отвечать. Ее подготовленная речь рассыпалась на глазах.
Бабушка опять застонала, пытаясь восстановить дыхание.
Лия принесла полотенце, скрутила его валиком и подложила бабушке под голову в изголовье деревянного кресла-качалки.
– Бабуля, отдыхай, – нежно прошептала она.
Рейчел опустилась перед старушкой на колени.
– Мне очень жаль, что я вас расстроила. Я просто хотела с вами познакомиться… с вами обеими.
Бабушка протянула руку к Рейчел. Девушка ухватилась за нее, как за спасательный канат.
– Ты с нами познакомилась. И что теперь? – холодно произнесла Лия.
– Лия, Лия, – мягко попеняла ей бабушка.
Ее глаза вновь нашли Рейчел, и она стала переводить взгляд с одной внучки на другую.
– Неужели…
– Нет, бабуля! Не позволяй себя одурачить. Meine Mutter[29] родила одну-единственную дочь.
– Я тоже так думала! – заявила Рейчел. Слова застревали у нее в горле. – Я тоже считала, что являюсь единственным ребенком. Именно в этом меня убеждали в Институте и уверяли мои приемные родители.
– У моей Айбин… родились близнецы, – изумленно пробормотала бабушка.
Рейчел прикусила губу.
– Я бы ни за что в жизни вас не обидела. Я просто должна с вами поговорить. Должна расспросить о маме, об отце… Мне очень много нужно узнать. – Она запнулась. – И еще я должна попросить, чтобы вы меня спрятали.
* * *
Прошел целый час, прежде чем бабушка окончательно пришла в себя и Лия почувствовала, что может уже не так пристально следить за старушкой. В течение этого часа Рейчел рассказала им достаточно. Лии пришлось ей поверить, несмотря на то, что рассказ Рейчел звучал фантастически, – что-то подобное можно было бы прочесть в приключенческом романе-триллере, который привез из Англии один из покупателей Фридриха.
Лию убедили детали рассказа о проклятом Институте во Франкфурте, а еще то, что, умывшись, причесавшись и стряхнув пудру с волос, Рейчел стала выглядеть как точная ее копия, только более стильная. Оставалось лишь качать головой от невозможности осознать происходящее, и Лия изо всех сил старалась избавиться от груза, давившего ей на сердце.
Лия не могла думать исключительно о себе. Она боялась, что на крыльце в поисках Рейчел опять появятся СС. Лия видела в глазах бабушки горькое понимание того, что этот Институт позволил ее драгоценной Айбин, ее единственной дочери, умереть ради экспериментов над ее однояйцевыми девочками-близнецами. «Помоги нам, Святой Отец, помоги нам!»
Но что они с бабушкой могут сделать для Рейчел? Как могут помочь ей покинуть Германию, когда на всех блокпостах ее ищут?
– Разумеется, ты останешься у нас! – заявила Хильда. – Лия живет у меня, пока Фридрих в отъезде.
– Они вернутся за ней. У нас негде ее прятать!
– Тогда мы устроим тайник! – Бабушка взяла внучек за руки.
– Это еще не все, – призналась Рейчел.
– Еще не все? – Лия была поражена: куда уж еще больше!
– Ребенок… – начала Рейчел.
– У тебя есть ребенок? – ахнула бабушка. – Моя праправнучка!
У Лии упало сердце.
– Ребенок не мой; это дочь моей подруги. Но я… в ответе за малышку. Я заберу ее в Штаты, как только мы найдем способ выехать из Германии.
Рейчел рассказала им о Герхарде Шлике, о программе «Т4», об уловке, к которой пришлось прибегнуть, чтобы Шлик поверил, будто его дочь погибла. Об убийстве Кристины. Лия даже представить себе не могла ничего подобного, а бабушка лишилась дара речи.
– Значит, теперь этот безумец ищет не только тебя, но и свою дочь! Здесь, в Обераммергау! – едва не плакала Лия.
– Шлик не знает, что Амели жива! Он уверен, что она погибла. И ему неизвестно, что я приехала к вам.
– Мы не можем тебя прятать… не можем прятать этого ребенка! – Лия поверить не могла, что произнесла это. – Соседи все видят… все знают!
– Девочка здесь? – Глаза бабушки затуманились.
– Нет, но один мой друг привезет ее сюда… если вы позволите. Я должна послать ему письмо по почте. Зашифрованное. Амели очень маленькая – ей всего четыре года. – В глазах Рейчел была мольба.
– Привози! – разрешила Хильда.
Но Лия сжала руку бабушки, призывая ее не спешить, подумать.
Глаза старушки заблестели от посетившей ее мысли.
– Лия учит петь детей-сирот из городка и детей беженцев, которые тоненькой струйкой стекаются в деревушку. Мы можем сказать, что взяли беженку. Она затеряется среди остальных. – На устах старушки играла полуулыбка. – Но ты должна продолжать маскироваться. Если кто-нибудь увидит вас с Лией – даже поодиночке, – сразу же станет понятно, что вы сестры.
– Амели глухая. Она не сможет затеряться среди других ребятишек.
С момента знакомства Лия еще не видела, чтобы Рейчел было так неловко.
– Она не сможет петь. На самом деле ее вообще никто не должен видеть.
Часть II Октябрь 1939 года
23
Амели давно уже не сосала палец. Но в кромешной ночной темноте, лежа на самодельной соломенной постели под крышей сельского дома, девочка незаметно сунула большой палец в рот. Она немного успокоилась, хотя пальцем маму не заменишь.
Малышка не понимала, что произошло, в чем она провинилась, почему много недель назад ее вырвали из приятно пахнущих маминых объятий и запихнули в вонючее, пропахшее дымом шерстяное одеяло. А потом была тряска по ухабистым дорогам, и наконец ее сунули в руки незнакомой женщине – женщине, которая тут же остригла кудряшки Амели, сделала ее похожей на мальчика.
Амели не нравилась колючая рубашка, ледерхозен[30] и грязная шерстяная кепка, в которую ее обрядили. Девочка скучала по своим красивым платьям и мягким косичкам-бубликам, которые иногда заплетала ей мама и которые потом щекотали щечки. Ей не хватало даже купания.
Амели снилась мама, но, когда девочка просыпалась, образ маминой улыбки блекнул так же быстро, как высыхала роса за окном кухни. Амели боялась, что, если она забудет маму, мама забудет ее.
Женщина в засаленном фартуке кормила девочку, иногда улыбалась ей, ласково двигала губами – очень похоже делала и мама. Но эта женщина совершенно не умела разговаривать на языке жестов, поэтому не имело значения, как часто и отчаянно Амели задавала ей вопрос: «Где мамочка? Где мамочка?» – она не получала ответа. Малышка прикоснулась к груди женщины, ее горлу, лицу и почувствовала такое же нежное урчание, какое чувствовала, когда льнула к маме.
Но эта женщина пахла иначе, ее кожа была не такой мягкой и шелковистой, как у мамы. От этой женщины доносился легкий запах животных, которые жили в сарае и на скотном дворе прямо за дверью кухни: корова с большими глазами, расхаживающий с важным видом гусь, валяющаяся в грязи свинья, покорный коричневый ослик с грубой, покрытой перхотью шерстью. И все это дополнял дрожжевой аромат свежеиспеченного хлеба.
Еще никогда в жизни Амели не пробовала такого восхитительного хлеба и такого желтого сливочного масла, тоненьким слоем размазанного по кусочку хлеба. Эта женщина иногда даже накладывала поверх масла сладкое варенье из черной смородины – редчайшее лакомство. Мама частенько отказывала Амели в темно-пурпурной сласти: она, улыбаясь, качала тонким пальчиком, когда малышка тянулась ручками за глиняным горшочком.
Амели до сих пор засыпала в слезах. Иногда ухаживавшая за ней женщина взбиралась по лестнице на чердак, брала девочку на руки и нежно ее укачивала. Амели не знала, когда это случится, и случится ли вообще. И почему женщина это делает. Но в такие исполненные нежности мгновения Амели вновь пыталась разговаривать на языке жестов, однако, похоже, это только расстраивало женщину – она отталкивала ручки девочки.
Днем и ночью в дом приходили и уходили люди, иногда Амели быстренько прятали под раковину в кухне, за занавеску, которая доходила до самого пола. Женщина показывала Амели, чтобы та сидела тихо как мышка, и девочка изо всех сил старалась быть послушной. Обычно там она и засыпала.
* * *
В тот вечер Лия поставила чернильную кляксу на столе, когда в нерешительности замерла над письмом Фридриху. «Еще один секрет – целая литания секретов. Очередное “кое-что”, о чем я не расскажу своему супругу… из страха, что он встревожится из-за того, в чем помочь не сможет, чего не сможет предотвратить? Из боязни, что он велит мне выгнать Рейчел, потому что она со своей преследуемой глухой девочкой может накликать опасность и на нас? Нет. Из страха, что он заставил бы меня принять их помимо моего желания. Из страха, что она так похожа на меня, но намного превосходит меня во всем. К тому же она явилась с ребенком, которому так нужна любовь! Из страха, что Рейчел понравится Фридриху – и ее саму привлечет его мужественность и надежность. – Лия прикусила губу. – Она ничего не сказала о том, сделали ли ей в Институте…» – Она подавила рыдания.
Лия недописала письмо, но сложила его и спрятала в конверт. Завтра она закончит. Женщина погасила свет, проверила, как чувствует себя бабушка – старушка тихонько и размеренно дышала во сне, – и отправилась в комнатку, в которой выросла. Сбросила туфли, откинула одеяло и легла рядом с сестрой.
Лия повернулась на бок, спиной к сестре. Рейчел действительно ее сестра-близнец – бесспорно, более красивая сестра, – но именно Лия вышла замуж за Фридриха, именно ее бабушка воспитала как родную дочь. Лия должна убедиться, что эта нежданная гостья не забудет, кто она такая. О том, где ее место. И при любой возможности будет напоминать ей об опасности, которую она навлекла на их головы.
24
Часы в редакции били каждые полчаса: четыре, половина пятого, пять, половина шестого, шесть часов утра. Джейсон потянулся, потер тыльной стороной ладони глаза, пытаясь проснуться. Он закончил работу еще час назад, но не мог заставить себя вернуться в гостиницу, опасаясь внимания слишком ретивых утренних патрульных. Лучше он час подождет, а потом попытается найти место, где по утрам в воскресенье подают завтраки.
У него еще должно хватить времени на то, чтобы забежать в гостиницу, побриться, надеть свежую рубашку, прежде чем отправиться на подпольную церковную службу. Джейсон встал, потянулся – вверх, к потолку, потом вниз, к полу, выгнул затекшую спину, как кошка.
Его нельзя было назвать человеком, регулярно посещающим церковь, – у Джейсона не было ни времени, ни желания, и с детства его никто не заставлял это делать. Но сегодня он решил отправиться туда ради сенсации о некоем непокорном священнике-пацифисте. Этот человек помог основать новую церковь, о которой Джейсон уже писал, – Исповедальную церковь, – и осмелился выказать неуважение к политике Гитлера. Когда Гитлер только-только пришел к власти, священник заявил, что настоящим правителем, истинным учителем есть один Иисус Христос. Уже после первого подобного высказывания радиопрограмма Бонхёффера была прервана. А совсем недавно ему было запрещено проповедовать в Берлине.
Больше всего Джейсона и его редактора удивило и обескуражило то, что Дитрих Бонхёффер решил вернуться в Берлин. Предположим, здесь осталась его семья. Но согласно проверенным источникам, Бонхёффер благополучно отбыл в Америку. По словам самого пастора, он вернулся в Германию потому, что не мог в такое время оставить свою церковь. Он не будет иметь права участвовать в восстановлении христианской жизни в послевоенной Германии, если не разделит горести и беды со своим народом. Подобного рода бунтарство и героизм, неважно даже, направлены ли они на благое дело, были как раз по душе Джейсону и к тому же могли стать настоящей сенсацией.
А ему была необходима сенсация. Вся эта история с Рейчел Крамер нарушила его размеренную жизнь. Когда американский журналист из конкурирующего издания опубликовал сенсационный репортаж об аресте доктора Рудольфа Крамера и о таинственном исчезновении его дочери, главный редактор едва не стер Джейсона в порошок, угрожая отослать его в Китай, – потому, что именно Джейсон крутился возле дочери Крамера на августовском балу.
Если бы редактор только знал! Подлинная история Рейчел – настоящая бомба, она достойна целого романа, а возможно, и Пулитцеровской премии. Но Джейсон не решался ее напечатать – ни здесь, ни в Америке. Нельзя, чтобы его имя хоть каким-то образом было связано с участниками событий.
Джейсон знал, что фотографии Рейчел публиковались в газетах, были они и в гестапо, и на контрольно-пропускных пунктах, и у патруля на границе. Эсэсовцы не придумали ничего лучше, как объявить Рейчел врагом рейха, и в случае обнаружения ее надлежало арестовать и доставить в Берлин для допроса. Джейсон закрыл глаза, вздохнул и в сотый раз пожалел о том, что не знает, в безопасности ли она. Безопасность Рейчел – единственное, чего он хотел, единственное, о чем просил. Но Джейсон отлично понимал, что безопасность сейчас не означает безопасность в дальнейшем. Рейчел, ее бабушка и сестра – все оказались под прицелом СС.
Если повезло, Шейла подбросила паспорт Рейчел на океанский лайнер. Как только власти его обнаружат, они решат, что Рейчел каким-то образом пробралась в Штаты без документов. Еще больше масла в огонь подольет ее неявка на работу на Манхэттене. Штаты и Германия станут обвинять друг друга – до тех пор, пока эта история, как и остальные истории, которые казались Джейсону важными, не окажется на последних полосах газет и всем будет на нее наплевать. Всем, кроме Герхарда Шлика и шайки институтских лжеврачей.
«Если я хочу остаться в Германии, нужно постараться откопать доказательства того, на что готова пойти Германия, но при этом мне не стоит совать нос в эту зловонную клоаку, иначе меня вышлют из страны. – Джейсон сел. – Ладно, это я хорошо умею: ходить по лезвию, домысливать недостающее».
Джейсон завел часы, сверил их с теми, что висели на стене. Поправил галстук, перебросил пиджак через плечо, положил в карман рубашки небольшой блокнотик и ручку. Журналист надеялся, что Бонхёффер не даст ему заснуть.
Два часа спустя, с завтраком в желудке, в свежей сорочке, Джейсон незаметно проскользнул в боковые двери дома по указанному адресу. Какая-то женщина поприветствовала его, пригласила в дом. Джейсон мельком оглядел лица лысеющих мужчин среднего возраста, собравшихся на пороге большой гостиной. Среди них, похоже, был тот, кто ему нужен.
Джейсон много раз слышал о семье Бонхёфферов – все знали отца опального священнослужителя, доктора Бонхёффера, выдающегося психолога. Но священником он не стал. Прихожане переполненной домовой церкви зашевелились, подтянулись. Два гимна они исполнили а капелла, и Джейсон не ожидал, что это пение так на него подействует. Где-то посредине второго гимна позади собравшихся появился мужчина в твидовом костюме. Он направился к самодельной трибуне. Высокий, белокурый, немногим старше Джейсона, спортивного телосложения, широкоплечий, с квадратным подбородком, он больше напоминал футболиста немецкой сборной, чем священника.
Пел он хорошо поставленным баритоном. Когда в зале воцарилась тишина, пристроил на нос очки в проволочной оправе, при этом сделавшись похожим на профессора, и приготовился выступить с речью.
Джейсон подался вперед. Он был решительно настроен ловить каждое слово этого человека, нащупать сенсацию, которую купит его редактор. Но через три минуты Джейсон понял, что не услышит пламенной речи – вернее, не услышит страстной проповеди, которой следовало ожидать от человека, имеющего репутацию бунтаря. Невыспавшийся Джейсон ущипнул себя за руку, чтобы сосредоточиться, и стал мысленно переводить с немецкого.
Этот человек говорил негромко, убедительно, пристально глядя собравшимся в глаза, как будто они просто сидели за чашкой кофе, но ему необходимо было срочно что-то рассказать. Он строил длинные предложения. При этом мысли, которыми он делился со слушателями, были достаточно сложными, как будто он надеялся привлечь людей на свою сторону с помощью одного лишь здравого смысла.
Пастор завладел аудиторией, его проповедь бросала вызов власти, хотя и не была откровенно политической. По истечении часа Джейсон знал, что Дитрих Бонхёффер предвидел: с алтарей в Германии начнут сбрасывать Христа. Он наблюдал за тем, как германская церковь стала нацистской, после того как вместо Христа ее возглавил фюрер. В книге Гитлера Mein Kampf Бонхёффер прочел о намерениях убивать невинных – еще задолго до того, как по обе стороны Атлантики поверили, что этот безумец всерьез говорит об истреблении евреев, поляков, детей-инвалидов и немощных стариков. Разве не было все это написано черным по белому? И разве Гитлер не поступает именно так, как обещал?
– На кон поставлены сердце и душа Германии!
Джейсон едва не присвистнул, не затопал ногами. «Он все понимает!»
Бонхёффер заявил:
– Когда Церковь перестанет защищать евреев – всех людей, – тогда она перестанет быть Церковью. Нам была дарована высшая милость – наш Господь, Иисус Христос, наш Спаситель умер за нас. От каждого из нас требуется такое же самопожертвование. Но мы привыкли к дешевому милосердию – милосердию, которое кажется Божьей милостью, но ничего нам не стоит – и это мерзко! Это смердящая мерзость в глазах нашего Господа!
Джейсон еще никогда не слышал, чтобы кто-то так открыто призывал Церковь Германии к тому, чтобы она восстала против жестокости нацистов по отношению к евреям, против гитлеровской манипуляции Немецкой протестантской церковью – даже за закрытой дверью. За это грозила смертная казнь. И тем не менее казалось, что молодой священник совершенно не боится за себя, – его тревожит исключительно судьба Германии, души его прихожан.
Джейсон оглядел зал, пытаясь понять, какое впечатление произвел пастор на остальных. Женщина, которая впустила журналиста в дом, в ответ на его взгляд улыбнулась и кивнула. Глаза ее горели.
Джейсон не мог петь последний гимн, потому что в ушах у него стояли слова священника. Единственное, о чем он мог думать: «Что теперь? Что мы можем сделать?»
* * *
Ближе к вечеру, когда три женщины пили напиток из жареного цикория и ели несладкий кекс с тмином, Лия призналась Рейчел, что никогда не знала, кто их отец.
– Мою бедняжку Айбин изнасиловали, когда она гостила у друзей в Мюнхене, – объяснила бабушка. – Она никогда не называла имени этого человека. Я даже не уверена, что она вообще знала, как его зовут. Была вечеринка, а на следующее утро ее нашли в кустах без сознания. – По щекам старушки струились слезы. Она глубоко вздохнула. – С тех пор Айбин изменилась. Поэтому до рождения ребенка мы отправили ее к нашим родственникам, которые жили недалеко от Франкфурта, надеясь, что там ей будет легче. Как я ошиблась! Когда начались роды, они отвезли Айбин в Институт. Это было ближайшее медицинское учреждение от их дома. Они даже представить не могли… я никогда и подумать не могла, что моя дочь больше не вернется… и что она родит близнецов.
Лия не стала дожидаться, пока Рейчел переварит информацию, а принялась расспрашивать ее о приемных родителях, о жизни в Америке, об исследованиях отца, узнавать подробности о документах, обнаруженных в портфеле доктора Крамера, об Амели. Она не успела закончить, когда бабушка, немного успокоившись, заговорила об их именах.
– Рейчел-Рахиль и Лия… имена из Библии. Они были сестрами – дочерьми Лавана-арамейца. – Хильда задумалась. – Если моя Айбин не дожила до того… чтобы вас увидеть, кто же тогда вас назвал? Врач или акушерка, которые принимали роды? У вас нетипичные немецкие имена.
Рейчел беспомощно пожала плечами.
– Из Библии… Обе были верными женами патриарха Иакова. – Бабушка кивнула, потом прищурилась, как будто ей в голову пришла мысль.
– Как по-вашему, почему нас так назвали?.. Это некая литературная аллюзия? А может, это что-то означает? – Рейчел переводила взгляд с бабушки на сестру. – Я не знаю этой притчи. Можете мне рассказать?
Лия понимала, что бабушка рассказывать не станет. Поэтому поступила так, как должна была поступить – ведь правду все равно невозможно было бы скрыть.
– Один человек по имени Иаков – родившийся в результате соглашения, которое Бог заключил с Авраамом, – полюбил Рахиль и захотел жениться на ней. Отец ее, Лаван, пообещал отдать за Иакова свою дочь при условии, что тот отработает у него семь лет. Но Лаван обманул Иакова и в первую брачную ночь подослал к нему в шатер старшую дочь, Лию. – Женщина облизала губы и посмотрела на бабушку, которая не сводила глаз с зажатой в руках чашки. – Когда Иаков раскрыл обман, он был настолько разгневан, что потребовал отдать ему в жены и Рахиль. Вскоре Лаван отдал за Иакова и вторую дочь, но заставил его отслужить у него еще семь лет.
Рейчел широко раскрыла глаза, не веря своим ушам.
– Какой ужас! Столько работать, столько лет кого-то ждать…
Лия изо всех сил старалась говорить спокойно.
– Лаван объяснил, что у них такой обычай: старшая дочь должна выйти замуж раньше младшей. Но, возможно, этот срок не показался Иакову таким уж долгим – потому что он любил Рахиль. Младшая дочь была намного красивее, именно ее Иаков желал. – Лия заставила себя взглянуть Рейчел в глаза, готовая увидеть любую реакцию. Затем вновь посмотрела на бабушку, догадываясь, что та прекрасно понимает ее чувства.
– Что ж, по крайней мере, в конце концов у Иакова было две жены, – расхохоталась Рейчел.
– И множество детей, – заметила бабушка, как будто пытаясь вторить оптимистично настроенной Рейчел и вовлекая в беседу Лию. – Совсем как в твоем детском хоре.
– Да, Рахиль подарила Иакову двоих детей, – сказала Лия и заметила, как бабушкины щеки заливает румянец. – По-настоящему он любил только ее.
В животе у Лии, как всегда при мысли о собственном бесплодии, затянулся тугой узел.
Бабушка заерзала в кресле, как будто таким образом можно было сменить тему разговора.
– Мы должны решить, где будем прятать тебя… и ребенка, – произнесла она, обращаясь к Рейчел. В ее голосе крепла решимость. – Я не… я не могу… отпустить тебя так скоро. – Она перевела взгляд с Рейчел на Лию, которая очень редко видела бабушку такой счастливой. – А когда эсэсовцы вернутся, чтобы тебя отыскать, они никого не найдут.
Сияющая Рейчел искренне поблагодарила старушку: девушка была счастлива. И не имеет значения, что ее сестре и бабушке может грозить смертная казнь, – они все равно думают о том, как спрятать ее и ребенка. Лия заметила, как между ее бабушкой и сестрой протянулись родственные ниточки, – словно иссохшие цветы, которые напились весеннего дождя. Они расцветают, выпрямляются, набираются силы прямо у нее на глазах. Это настораживало Лию.
Она встала. Приближалось время отправляться на урок хорового пения.
– У тебя есть все, что тебе нужно, бабуль? Пока я не ушла…
– Все есть! – Старушка коснулась руки Лии, не выпуская из другой руку Рейчел. – Все есть!
– Если мы договорились, тогда я напишу письмо, чтобы привезли Амели, – просияла Рейчел. – Сможешь завтра его отправить? Безопаснее будет сделать это не здесь в деревне, а в другом месте.
Лия кивнула, хотя эта просьба совершенно ее не обрадовала. Благодаря этому шифрованному посланию привезут ребенка – ребенка, который принадлежал Рейчел. Лия провела пальцем по письму, адресованному Фридриху, которое лежало у нее в кармане. Сегодня она его отправит – как обычно, напишет общие фразы, опуская важные события.
Стараясь не выдавать своих эмоций, Лия вдела руки в рукава пальто, намотала вокруг шеи толстый теплый шарф. Рейчел вышла в другую комнату – написать записку. В каждом ее движении сквозила решимость. Впервые с момента приезда Рейчел бабушка и Лия остались наедине.
– Все будет хорошо, – прошептала Хильда. – Все будет хорошо, вот увидишь!
– Рахиль и Лия… Это было бы смешно, если бы не было так грустно – правда жизни.
– Но твой Фридрих полюбил Лию – он всегда ее любил. У тебя есть дом, муж, целая жизнь, которую мы провели вместе, «Страсти Христовы», детский хор. А Рейчел сейчас в бегах, прячется. Ее предали: у нее нет ни дома, ни семьи, только мы. Ни понимания жизни, ни веры, насколько я могу судить. Моя дорогая, у тебя есть все. Согласись, что ты можешь быть великодушной.
– Наверное, так утешали и Лию, когда Иаков ее отверг.
– Не слишком-то он ее отвергал, – поддразнила бабушка. – У них родилось семеро детей!
Лия отстранилась от бабушки.
– Потому что ее никто не стерилизовал. И держу пари, что Рейчел тоже не стерилизовали.
* * *
Целых два дня Джейсона преследовали слова Бонхёффера. Они дали его разуму пищу для размышлений и не оставляли его в покое.
– Это даже не моя страна, – возразил журналист своему отражению, когда брился и смывал мыльную пену ужасно холодной водой. – А даже если бы и была моей, кто может остановить Гитлера?
Джейсон обдумывал эту мысль со всех сторон, пока ел, метался и ворочался перед сном, ехал в троллейбусе в редакцию газеты, и даже не заметил, как преодолел расстояние между остановкой и местом работы.
Пастор и его слова о высшей милости Иисуса не выходили у Джейсона из головы. «Неужели эта высшая милость и вынуждает Бонхёффера действовать? Та милость, во имя которой жил Иисус?»
И только к утру третьего дня у Джейсона хватило смелости заглянуть в собственную душу. Он узнáет, где живет Бонхёффер, и поговорит с ним. Но было уже слишком поздно. Фрау Бергстом, которая разрешила пастору провести службу у нее в доме, сообщила Джейсону, что Бонхёффер отправился в Померанию. Женщина подарила журналисту книгу Бонхёффера Nachfolge[31], сказав, что в ней лучше объясняется позиция пастора.
Джейсон прочел ее, последующие три дня мысленно переводя Nachfolge, или «Шипы и тернии апостольского служения», на родной язык, хотя, чтобы понять некоторые страницы, приходилось перечитывать их по пять, а то и по шесть раз. Несмотря на сложность немецкого языка, идеи Бонхёффера поразили Джейсона.
«Неужели возможно жить вот так? Как жил Иисус. А если нет, зачем Он нас этому учит? Показывает нам пример?» Вот о чем рассуждал Бонхёффер. Многие из его идей шли вразрез с девизом «получай все, что можешь, так долго, как сможешь» и «ищи новую сенсацию, пока кто-то из конкурентов не обскакал тебя», и Джейсон понимал, что пастор прав. Это было именно то связующее звено, которого ему не хватало в Германии.
Книга Бонхёффера заставила Джейсона заглянуть в себя, и ему не очень понравилось то, что он там увидел. Выяснилось, что жизнь вращается не вокруг него. И даже не вокруг Рейчел и Амели, хотя помощь несчастным – часть этой жизни.
Одно Джейсон понял точно, закрывая книгу: он заметил, как меняются его принципы, как над ним будто вырастают своды. Они становятся выше, исчезают из поля зрения, до них слишком высоко – не достать. Но впервые он понимал, что не сможет и не должен доставать их в одиночку.
Когда Джейсон наконец-то сдал свою сенсационную статью о Бонхёффере, его редактор едва не задохнулся:
– Нельзя об этом писать! Ты хочешь, чтобы этого парня арестовали? Выслали навсегда? Переделай!
Джейсон откинулся на спинку стула. Сильно сдавил кончиками пальцев виски, чтобы утихла боль, пока он мысленно редактировал статью.
Все написанное им было правдой, но чересчур сенсационной, направленной на провокацию, на то, чтобы заставить читателя задуматься. Поскольку нацистская цензура стала слишком жесткой, Джейсон даже не надеялся на то, что увидит свою статью в немецких газетах. Такая правда может гарантировать ему скорое возвращение домой или, что вероятнее, длительное пребывание в концентрационном лагере. А нью-йоркским издателям хотелось похоронить истории о Германии на последних полосах, там, где их никто не станет читать и не поверит в зверства Гитлера – в поголовное уничтожение евреев в Польше; в аресты политических активистов, пасторов и католических священников и в отправку их в концлагеря; в использование юных девочек, которым рано думать о материнстве, для того, чтобы они рожали от эсэсовцев; в уничтожение детей, которых нужно пустить в расход, потому что они не соответствуют идеалам рейха.
Неужели читатель считает, что все это пропаганда? Джейсон покачал головой. Ему десятки раз говорили, что у Америки свои проблемы, и он знал, что это правда: падение фондовой биржи, скудный урожай, суды Линча по всему Югу, которые, хотя сами американцы и не хотели этого признавать, слишком походили на то, как фашисты относятся к евреям. Янки не должны волноваться из-за неразберихи в Европе.
– Янг, признай, – смеялся его коллега Элдридж, – нужно играть, чтобы победить. Расскажи им ровно столько, чтобы продать эту сенсацию, но попридержи своих ретивых коней. Мученики никогда не выигрывают, а в данных обстоятельствах тебя просто арестуют цензоры – или распнут на кресте, а твоих героев убьют. – Он засмеялся собственной шутке и ткнул указательным пальцем Джейсону в грудь. – Эта статья принесет тебе несколько лакомых кусочков, и ты останешься в игре.
В тот вечер Джейсон возвращался в гостиничный номер пешком. Все его мысли были о работе, жизни, дешевом милосердии.
25
Судьба Амели беспокоила Джейсона с тех самых пор, как арестовали его первого связного. Малышка понятия не имела о том, что произошло с ее мамой, почему она теперь должна быть похожей на мальчика. Зачем ее ни с того ни с сего вырвали из городской жизни, увезли из родного дома и поселили с чужими людьми в деревне. Джейсон догадывался, что девочка наверняка напугана, сбита с толку – как бы хорошо ни относилась к ней женщина, которая ее прячет. И он почему-то сомневался, что материнские чувства этой женщины увеличиваются вместе с все возрастающими суммами денег, которые она требовала.
Но Джейсон никогда бы и подумать не мог, что Марк Элдридж, готовый при первом удобном случае утереть ему нос, поможет ему справиться с этим затруднением. Джейсон с Элдриджем и главным редактором уже собирались покинуть затхлую, прокуренную редакцию, когда Элдридж пожаловался:
– Ну и дерьмо эта негласная кампания Гитлера, направленная на избавление мира от тех, кто не такой, как он!
– Ты имеешь в виду евреев? – Главный редактор засунул карандаш за ухо и раздавил сигарету в пепельнице.
– Да, евреев… но не только их, – ответил Элдридж. – Всех.
– Тех, чьи политические взгляды отличаются от его собственных. Коммунистов, – кивнул главный редактор.
– Поляков, чехов, цыган, гомосексуалистов, свидетелей Иеговы, священников, – вмешался Джейсон. – Членов Исповедальной церкви, которые не признаю́т фюрера своим богом. Христиане не торопятся заменять изображение Иисуса портретами дядюшки Адольфа… как ты его называешь.
– Они сами его так называют, – пожал плечами Элдридж.
– Ты прав… это дерьмо!
Зазвонил телефон, и главный редактор повернулся, чтобы ответить на звонок.
– И… – подтолкнул Джейсон Элдриджа, чувствуя, что тот еще не все сказал.
Элдридж поднял на него взгляд, потом отвел глаза.
– Я слышал, что Гитлер тайно убивает детей и больных стариков в газовых камерах… с тех пор как вторгся в Польшу.
Сердце Джейсона затрепетало. Интересно, из каких источников узнал об этом Элдридж? Но Янг согласился с собеседником:
– По крайней мере, такая участь ожидает инвалидов и психически больных. Он называет их «недостойными жить».
– Быть не может!
– Может. Гитлер называет это планом «Т4» – эвтаназия. Мой источник уверяет, что фюрер не сомневается: на фоне блистательных военных побед исчезновения нескольких сотен детей-инвалидов никто и не заметит, а убийство этих детей поможет рейху достичь еще бóльших высот – освободятся койки для раненых солдат.
– Я не думаю, что кто-то может быть недостоин жизни.
Джейсон уставился на человека, который за последний год соперничал с ним почти за каждую сенсацию, за каждый сданный в срок материал. Он считал, что Элдридж беспощаден и одержим. Но вновь согласился с ним:
– Жизнь каждого человека бесценна.
– Да, каждого. – Элдридж потер трехдневную щетину.
– Мы никогда не убедим американские газеты напечатать об этом на первой полосе.
– Не стоит обижать великого Адольфа – есть риск потерять благосклонность Германии… или, если точнее – ее репарации, – фыркнул Элдридж.
Джейсон проворчал:
– Как будто мы их получим!
– Никогда!
Янг повернулся, чтобы убрать все с письменного стола.
– У меня дома остался младший брат, – произнес Элдридж.
Джейсону даже в голову не приходило, что у его коллеги может быть семья. Элдридж слишком ценил лидерство и одиночество – а эти качества не для семейной жизни.
– Повезло. – Думая о том, что его младшая сестра сейчас тоже очень далеко, Джейсон сунул черновик статьи в папку, но промахнулся, и статья упала на стол. Испытывая смущение и ожидая язвительных комментариев, он нагнулся, чтобы собрать листы.
– Он не слышит… да и видит так себе.
Джейсон замер.
– Но любая мысль в его голове стоит трех в голове безмозглого немецкого солдата, размахивающего плетью и взахлеб рассуждающего об увеличении жизненного пространства. – У Элдриджа вздулись желваки, губы плотно сжались.
– Откуда ты знаешь? – Осознав, что сказал глупость, Джейсон почувствовал, что краснеет. – Я хотел сказать… откуда ты знаешь, о чем думает твой брат?
– Мы разговариваем. – Элдридж смотрел на собеседника как на идиота.
– Ты же сказал, что он глухой.
– Мы используем язык жестов. Я умею читать по лицу, по губам. Мы общаемся через прикосновения – даже используем дактильную азбуку. Я пишу у него на ладони.
– И ты умеешь все это делать? – Джейсон не мог себе этого представить.
– Мама научила этому нас… всю семью. Ничего сложного… только нужна практика.
– А мне ты мог бы показать?
У Элдриджа было такое лицо, как будто он готов содрать с Джейсона маску, чтобы убедиться в том, что коллега над ним издевается.
– Я серьезно. У меня есть приятельница. Я не могу с ней поговорить.
– У тебя глухая подружка?
– Я не сказал, что она моя подружка… просто приятельница. Она знает язык жестов, но я не понимаю, что она говорит. Не знаю, как с ней общаться.
Элдридж натянул куртку, собираясь отправиться домой.
– Почему бы нет? Но на твоем месте первое, что бы я ей посоветовал – держаться подальше от отечества.
И он покинул редакцию, не дожидаясь ответа Джейсона.
«Держаться подальше от отечества – все правильно! Как долго можно прятать ребенка, которого хочет уничтожить рейх?» – Джейсону был известен ответ. Он понимал, что Амели нужно перепрятать.
* * *
Рейчел повернулась вправо, потом влево, стоя перед зеркалом в бабушкиной спальне.
– Платье Лии сидит на тебе идеально! Вы похожи как две капли воды. – Хильда обрадованно захлопала в ладоши.
Но Лия сердилась из-за каждой бабушкиной похвалы.
– Ты правда думаешь, что это сработает? – Рейчел сомневалась, что даже ее выдающийся актерский талант поможет ей превратиться в провинциалку из горного села.
– А почему нет? – ворковала бабушка. – Когда мы изменим твою прическу, вас никто не сможет отличить.
– Бабуль, это неправда, – негромко возразила Лия. – Рейчел должна стоять, сидеть, ходить, говорить так же, как я, если мы хотим всех обвести вокруг пальца и беспрепятственно отвести ее на вокзал.
– Ты права. – Рейчел взглянула на сестру. – Мне нужно поработать над акцентом. По-моему, я говорю похоже, но не совсем так.
– В вашей задумке все не совсем так, – заметила Лия.
Бабушка поджала губы.
– Вы, девочки, все сделаете так, как нужно. Вы должны сделать это… ради всех нас.
– Да, бабуля, – согласилась Лия.
Поведение сестры раздражало Рейчел. «Почему она такая двуличная, тихая как мышь? Очевидно же, что она ревнует. Лия презирает меня, но никогда об этом не скажет – никогда не признается в этом бабушке». Рейчел бросила на сестру-близняшку взгляд, которым хотела поставить ее на место, но когда пылающее лицо и ледяной взгляд дали понять Рейчел, что Лия все осознала, Рейчел почувствовала укол жалости. Она отвернулась, чтобы завязать добротные немецкие туфли (туфли Лии, которые Рейчел находила ужасными), делая вид, будто ничего не заметила.
Но Рейчел прекрасно видела, что бабушку не проведешь. Она еще никогда не встречала такой наблюдательной, сообразительной, терпеливой и милосердной женщины. «Ни одна из нас ее не проведет. И все равно, похоже, она нас любит… любит!»
Для Рейчел Хильда была воплощением баварской бабушки, живущей в старомодном пряничном домике. Но было здесь что-то нетипичное – не такое, как в остальном Обераммергау – в доме и во дворе, в самой природе бабушки. Рейчел не могла бы выразить это словами. Девушке понадобилось бы какое-то время, чтобы разгадать эту тайну, однако времени у Рейчел не было.
Многие строения в Обераммергау были расписаны сценами либо из баварской жизни, либо из немецких сказок, либо из «Страстей Христовых». Домик бабушки был не расписан, а просто оштукатурен и выкрашен в обычный кремовый цвет, ставни – черного цвета – ничем особо не отличались от цвета фундамента остальных домов. Вдоль каждого из окон висели традиционные черные цветочные ящики с буйно разросшейся алой геранью, вьющимся плющом и еще каким-то зеленым растением, названия которого Рейчел не знала, – все в традиционном баварском стиле. Но узкий, обнесенный живой изгородью задний двор густо зарос стелющимися желтыми, оранжевыми и бордовыми цветами, вдоль тропинок были высажены цветы и кустарники, тут и там в саду стояли небольшие скамейки под цветущими или печально склонившимися кустами – скорее это был сад из английской сказки, а не из сказки о Гензеле и Гретель.
Лия хвасталась, что до того, как в деревне – и по всей стране – стали регулярно выключать свет, погружая все в темноту, их бабушка по вечерам зажигала десяток маленьких фонариков, воткнутых то тут, то там вдоль тропинок. Соседка не одобряла такой расточительности, но Хильда их очень любила, утверждая, что эти огоньки оживляют ночь – как будто светлячки летают по саду.
– А в Германии водятся светлячки? – Рейчел не могла этому поверить.
– Их очень мало, – призналась бабушка. – Но ты бы удивилась, узнав о том, где я жила, куда ездила, моя дорогая. Чем занималась… Англия, Ирландия, Голландия… Я не всегда была старой немецкой Hausfrau[32].
Она подмигнула и замолчала, но Рейчел в очередной раз удивилась и в очередной раз осознала, что Лия всю жизнь прожила рядом с их бабушкой, которую знала и любила и которая знала и любила ее.
Рейчел пришла к выводу, что бабушка живет в идеальном месте – позади дома возвышались заснеженные альпийские вершины. Ранний снег окрасил горы в белый цвет на фоне кристально чистого голубого октябрьского неба – это было прекрасно как в сказке.
Но Лия не преминула напомнить, что эти красивые снежные шапки – предвестники ранней зимы; путешествовать станет сложнее, что есть – неизвестно. И чем скорее они помогут Рейчел и Амели покинуть Германию, тем безопаснее будет для всех.
Бабушка рассердилась, явно не желая, чтобы вновь обретенная внучка так быстро уезжала. Но Рейчел понимала, что Лия права: они с Амели должны уехать, как только Джейсон найдет способ переправить малышку сюда, к бабушке в Обераммергау. Согласно их дерзкому плану побега Рейчел должна будет изобразить свою обидчивую сестру, и девушка сосредоточилась на подготовке к осуществлению этого плана.
– Садись, моя дорогая, – велела бабушка. – Давай заплету тебе косу.
Рейчел одернула платье – платье Лии – и села, улыбнувшись бабушке в зеркало.
– Я сама заплету. – Лия отобрала у Хильды расчески. – А ты сделай кофе.
Бабушка неохотно отдала расчески. Рейчел тоже расстроилась. Ей бы очень хотелось, чтобы ее расчесала бабушка… хотя бы раз, до того как она уедет. Но эта мысль тут же вылетела у нее из головы, когда Лия резко дернула ее за длинный локон и стала грубо расчесывать волосы у корней.
Рейчел прикусила губу, не желая, чтобы сестра видела, как она морщится. Лия снова дернула расческу, не заботясь о том, чтобы распутать узел, который всегда образовывался у Рейчел возле шеи, сделала пробор прямо посередине головы – ото лба до основания шеи. По обе стороны пробора Лия разделила волосы на пряди и заплела тугие косы, дергая волосы каждый раз, когда переплетала пряди. Потом уложила косы вокруг головы и закрепила шпильками, втыкая их, казалось, прямо сестре в голову.
Рейчел не проронила ни звука, хотя ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не расплакаться.
Взгляды сестер встретились в зеркале.
– Тебе стало легче? – поинтересовалась Рейчел.
Лия зарделась, но в ее глазах читалось торжество.
– Я совсем на тебя не похожа. У тебя косы не такие тугие и более длинные, – заметила Рейчел. – Переплетай.
У Лии уже пылали не только щеки, но и уши. Она взглянула на прическу сестры, находившуюся менее чем в полуметре от ее прически. Рейчел видела, что попала в точку, и ждала, что сестра ее послушается.
Лия швырнула расческу на туалетный столик и отвернулась.
– Сама переплетай.
Рейчел ухватила сестру за запястье и развернула к себе:
– В чем дело?
– Твой приезд принес одни неприятности, а когда ты уедешь, мне останется только собирать осколки бабушкиного сердца. Ты подвергла ее – нас всех – ужасному риску.
– Я просто хотела разыскать вас, познакомиться с вами. Мы же сестры… близнецы! Мне не терпелось узнать о родителях. И я хочу познакомиться с бабушкой поближе! Мне очень нужно ее узнать!
Лия выдернула руку, но подошла ближе, сократив расстояние между ними.
– Вот видишь – в этом все дело! Ты этого хочешь! Похоже, ты всегда получаешь то, что хочешь, верно?
Лия отошла.
У Рейчел было такое чувство, как будто ей отвесили пощечину. Не об этом она мечтала… совсем не так все себе представляла. Девушка опустилась на банкетку перед зеркалом. «Лия понятия не имеет о том, каково это – расти и верить в то, что тебя любят, верить в свою исключительность, а потом вдруг понять, что твои мечты растоптаны, и узнать, что все вокруг – ложь и нет никакой любви…»
Рейчел стала медленно вытаскивать шпильки. Слезы, которые она старательно сдерживала, теперь струились по вымытым щекам. Девушка осторожно расчесала волосы, помассировала кожу. Затем нетуго заплела косы, уложила их вокруг головы, заколола шпильками – получилась практически идеальная копия прически Лии. И платье, и туфли тоже принадлежали ее сестре. Их прически были похожи. Но душа той девушки, что смотрела на нее из зеркала, принадлежала кому-то другому – не Рейчел и не Лии. Эту девушку Рейчел не знала.
* * *
Джейсон решил, что Элдридж относится к этому как к игре, чтобы скоротать время томительного ожидания звонка из Нью-Йорка – с новым заданием или намеком на сенсацию. По крайней мере, Джейсон надеялся, что его коллега воспринимает все как игру, и полагал, что Элдридж верит, будто Джейсон увлекся языком жестов лишь потому, что «запал» на какую-то девицу дома, в Америке.
Он быстро овладел дактильной речью. Чуть дольше изучал общепринятый язык жестов. Значение некоторых из них было понятно, некоторые Янг угадывал интуитивно, но таких было мало.
– Неплохо, – похвалил коллегу Элдридж. – Похоже, стук по клавишам не прошел даром – твои пальцы стали проворными.
Джейсон что-то проворчал в ответ. Он готов был поддакивать Элдриджу и дальше, лишь бы тот учил его – ради Амели, если только им вообще выпадет шанс пообщаться. Джейсон надеялся, что язык жестов универсален. Наверное, Амели еще слишком мала для дактильной речи. Единственный способ сейчас помочь ей и самому не впасть в отчаяние и что-то делать – выучить язык жестов.
Но Джейсон вынужден был прекратить брать уроки. Весточка от жены фермера пришла раньше, чем он ожидал. Джейсон перевел записку, спрятанную в сандвиче, который всучил ему какой-то юнец на улице, делая вид, будто продает еду. «Сумма за хранение вырастает вдвое – оплатить немедленно. Хранить можно, избыток нежелателен. Заберите или уничтожьте». Яснее не напишешь.
26
У Джейсона была одна ниточка – одна надежда, которая появилась у него благодаря Исповедальной церкви, – и он попытался потянуть за нее еще до заката.
Вот-вот должны были выключить электричество, когда он позвонил в заднюю дверь на Потсдамштрассе. Дверь приоткрыла коренастая служанка.
– Чего вам надо?
– Мне нужно поговорить с фрау Бергстром.
– Вы американец. – Это прозвучало как обвинение.
– Ничего не попишешь. Мне все равно нужно с ней поговорить.
– Приходите завтра. А сейчас уже пора занавешивать окна.
Служанка собиралась закрыть дверь, но Джейсон оказался проворнее и сунул ногу в щель. Служанка схватила его за ворот куртки и рукав, едва не оторвав от пола.
– Завтра может быть слишком поздно! – взмолился репортер. – Фрау Бергстром меня знает. Я друг пастора Бонхёффера.
Это было явным преувеличением, но Джейсон был в отчаянии.
– Не стоит скандалить и обижать мою бедную служанку, молодой человек. – В хорошо поставленном голосе, который донесся слева из темной комнаты, чувствовалась улыбка. – Впусти его, Грета. Послушаем, что он нам скажет.
Джейсон ахнул, когда коренастая служанка, которую он теперь уважал больше, чем полицию Тиргартена, с глухим стуком поставила его на пол.
– Так вы говорили…
– Фрау Бергстром… мы с вами познакомились, когда Дитрих тут выступал. Вы подарили мне его книгу.
– Я вас не забыла, герр журналист. Но не припоминаю, чтобы вы лично были знакомы с Дитрихом. – Она провела его в соседнюю комнату и закрыла дверь. – Почему вы не пришли днем?
– Я оказался в тупике. Надеюсь, что вы мне поможете.
Женщина ждала, что он скажет дальше. По выражению ее лица Джейсон ничего не мог понять.
– Есть один ребенок… маленькая девочка… которую нужно где-то спрятать.
– Вот как! – Фрау Бергстром колебалась. – Она еврейка?
– Нет, она глухая. – Джейсон понимал, что должен говорить правду. – Она дочь офицера СС.
Женщина побледнела.
– Этот офицер, безусловно, в состоянии найти место, где бы… где бы позаботились о его дочери.
– Он думает, что она умерла. Он хочет, чтобы она умерла.
– Но откуда вы… нет… нет. – Фрау Бергстром запнулась. – А что вы от меня хотите?
– Я хочу, чтобы вы ее спрятали, спасли малышку и, если это возможно, помогли мне вывезти ее из страны – желательно в США. Не знаю, в ваших ли это силах, но после проповеди Дитриха, после того, как я прочел Nachfolge, я… я просто хочу ее спасти. У меня есть всего лишь номер в «Адлоне» – там негде спрятать ребенка. Это хорошая девочка… просто замечательная.
Хозяйка дома покачала головой.
– И откуда вы знаете этого ребенка? Эту удивительную немецкую девочку, к которой воспылали таким сочувствием? Вы рискуете ради дочери эсэсовца? И просите рисковать и меня?
– Это длинная история, мадам. – Джейсон почувствовал усталость, когда осознал безумие и дерзость своей просьбы.
– Вы просто обязаны мне ее рассказать, если хотите, чтобы я вам помогла, рискуя жизнью своих родных.
Фрау Бергстром жестом пригласила гостя располагаться за обеденным столом. Кивнула служанке, которая принесла им кофе, пока Джейсон говорил.
Журналист рассказал фрау Бергстром абсолютно все, что знал. Он ни секунды не сомневался в том, что может доверять этой женщине, распахнувшей двери своего дома перед опальным священником, за которым следят полиция, СС, – перед священником, который, рискуя жизнью, помогает, учит, предостерегает немцев и иностранцев, поддерживает всех, кто нуждается в поддержке. Такого мужества среди нацистской жестокости еще поискать! Джейсон видел, как горят ее глаза.
Когда журналист закончил свой рассказ, фрау Бергстром поставила чашку на блюдце.
– Скорее всего, самое безопасное место для девочки – рядом с подругой ее матери, американкой. Она – ниточка, связывающая малышку с памятью о маме. Человек, которому, по всей видимости, не безразлична ее судьба, раз она попыталась спасти ребенка.
– Я пока не получал от нее вестей. Она должна найти способ покинуть страну, – колебался Джейсон. – Мы не ожидали, что нацисты так быстро захватят Польшу.
Хозяйка сложила руки.
– Мало кто этого ожидал. Еще до того, как герр Гитлер пришел к власти, Дитрих предвидел, сколько зла в зародыше этого движения. А еще он видел слабость, раскол внутри Церкви – нежелание Церкви встать, дать отпор, защитить, пока зло не распространилось так далеко и широко.
Фрау Бергстром откинулась на спинку стула, внимательно взглянула на собеседника. Джейсон чувствовал себя так, как будто находился на чаше весов.
– Вы упомянули, что прочли его книгу?
– Да. Поэтому и надеялся, что вы мне поможете… поможете Амели.
– Привозите ребенка на ночь сюда, а потом я помогу вам переправить девочку к подруге ее матери, потому что верю: именно этого хочет от меня Господь. Но, по-моему, герр Янг, прежде чем просить других рисковать своей жизнью и жизнью близких, вы должны ответить себе на вопрос: «Почему я это делаю?»
Джейсон сглотнул.
– Это правильно. Нельзя убивать детей.
– Почему? Вы должны спросить себя: почему нельзя убить этого ребенка, если таким образом освободится место для других, для тех, кто силен и духом, и телом.
Джейсон ушам своим не верил.
– Именно такой политики придерживается наш фюрер: есть люди, которые больше достойны жить, чем другие. По правде говоря, он утверждает, что в мире очень мало людей – элита, – достойных того, чтобы жить и размножаться. – Фрау Бергстром умолкла. – Спроси́те себя: если вы в это не верите, то почему? – Она опять сделала паузу. – Если этот ребенок не способен принести пользу обществу, как мы с вами, становится ли он от этого менее значимым? Откуда это известно?
Джейсон твердо верил, что Гитлер неправ, но от вопроса, который затронула фрау Бергстром, и из-за того, что сам Джейсон не выспался, у него заболела голова.
– Вы делаете это ради того, чтобы опубликовать потом в газете?
– Нет. Я не могу публиковать такое… не сейчас.
– А позже? Вы надеетесь заложить фундамент сенсационного материала? Или готовы отдать жизнь ради этого ребенка?
Она ждала ответа. Джейсон заерзал.
– Вы бросите ее, если все пойдет не слишком гладко? Если больше никто не сможет ее забрать?
– Я думал… я просто считал, что кто-то сможет… спрятать ее.
– Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?
Джейсон почувствовал, как в груди у него все сжалось. Именно эти вопросы одолевали его каждый раз, когда он гасил свет перед сном, каждый раз, когда он пытался заснуть. Ему вспоминались слова Бонхёффера, они преследовали его, не давали покоя. Джейсон хотел поступить правильно, но ноша была слишком тяжела.
– Такова плата учеников Христа.
– Высшая милость, – вспомнил Джейсон, осознавая, как мало он понимал.
Хозяйка кивнула и, поднявшись, взяла его за руку.
– Везите девочку сюда. Обещаю помочь вам узнать о вашей подруге – находится ли она до сих пор в Обераммергау. Если да – у меня есть друзья, которые смогут переправить туда ребенка. В свою очередь вы должны пообещать мне, что прочтете абзацы, которые я отмечу для вас в Библии. А потом подéлитесь со мной своими мыслями: ради кого вы все это делаете и почему. Вы должны будете дать мне ответ: готовы ли вы делать то же самое для других.
Джейсон кивнул, крепко пожимая женщине руку.
Он был уже на полпути к гостинице, пряча за пазухой Библию, которую дала ему фрау Бергстром, когда сообразил, что только что согласился на долгосрочное сотрудничество с этой женщиной и ее друзьями – людьми, чьи убеждения могут затянуть петлю на шее, как у него, так и у них. Как ни странно, у Джейсона как будто камень с души свалился. Он ничуть не жалел о своем решении.
27
Штурмбаннфюрер Герхард Шлик во второй раз прочитал донесение из Франкфурта, потом швырнул его на стол. Рейчел Крамер не могла исчезнуть бесследно – ни в Германии, ни в Нью-Йорке.
Ее паспорт был обнаружен на борту одного из лайнеров в бухте Нью-Йорка, но Рейчел так и не появилась – ни дома, ни в институте Лонг-Айленда, ни в своем Нью-Йоркском университете, ни даже в «Кемпбелл-плейхаусе», где, как сообщают, за ней держали место. Предположительно, она была мертва – сначала тайно проникла на борт, а потом исчезла по пути в Нью-Йорк.
Исчезновение Рейчел в довершение к неожиданной смерти ее отца-ученого в Берлине наделало немало шума в международной прессе и послужило поводом для взаимных обвинений по обе стороны Атлантики.
Но Герхард отказывался верить, что кто-то из немцев убил Рейчел. Она была все еще нужна доктору Фершуэру и Менгеле; они – мягко говоря – допрашивали доктора Крамера до тех пор, пока он уже просто не смог отвечать на вопросы. Врачи были в бешенстве, как и сам Герхард: эксперимент, в который они больше двадцати лет вкладывали свои силы, провалился. Герхарда с войсками СС послали в Обераммергау на тот случай, если Рейчел стало известно о сестре-близнеце. Они с пристрастием допросили женщин, но тщетно.
Герхард был не просто зол, он был унижен, когда доктор Крамер признался, что не смог повлиять на свою строптивицу дочь. Девушка не хотела иметь со Шликом ничего общего. После этих слов Герхард ударил старика, наверное, слишком сильно. Эсэсовец не мог вынести того, что Рейчел второй раз с презрением его отвергла.
Но в то, что она мертва, Герхард тоже не верил, как не верил в то, что она смогла покинуть страну. У каждого патруля на границе была фотография Рейчел – задолго до того, как доктора Крамера увезли на допрос, задолго до того, как девушка могла бы достичь границы Германии. Один патрульный доложил, что видел ее на вокзале на границе, но ей удалось сбежать. Как? Куда она могла спрятаться? Кто ей помог? Разве после смерти Кристины у нее остались знакомые в Германии?
Шлик допросил всех сотрудников Института, а также служащих гостиницы во Франкфурте, водителя машины, на которой доктор Крамер и Рейчел приехали в Берлин, горничных из гостиницы, официантов, швейцара, коридорного. Ничего.
Герхард продолжал терзать свою память.
И тут он вспомнил бал. И одного особенно противного америкашку, который облил его шампанским – грудь и рукав.
Второй америкашка – в очках – отвел Герхарда в сторону, чтобы сфотографировать, потом нарочито долго записывал имя, проговаривая его по буквам, и адрес. Он обещал, что фотография Шлика появится в зарубежных изданиях, прямо рядом со снимком Гиммлера – дань уважения балу и людям, возглавившим движение евгеники. Такого мгновения славы Герхард пропустить не мог.
Шлик заставил подчиненных проверить все газеты в Берлине. Их осведомители просмотрели все газеты в Нью-Йорке и Лондоне. Ничего.
Эти америкашки действовали заодно: пошли на хитрость, чтобы вырвать Рейчел у него из рук. Пока он фотографировался и отвечал на вопросы, где была она? Шлик закрыл глаза, напряг память – голубой вихрь, смех, разговоры… америкашка разливает шампанское. «Журналист. Зарубежная пресса. Они были знакомы еще в Нью-Йорке? Кто он?»
Это нетрудно выяснить. Герхард снял трубку стоявшего на письменном столе телефона.
28
Анонимное шифрованное послание Рейчел наконец-то попало к Джейсону – такое впечатление, будто оно облетело полмира и его вскрывали раз шесть.
Джейсон позвонил фрау Бергстром из таксофона, сказал, что послушал симфонию, и, зная, как она любит музыку, настойчиво рекомендовал сходить в театр – партитура просто великолепна, а вечер стоил того, чтобы провести его с друзьями. Сегодня дают концерт. Он пришлет ей билеты.
Через полчаса Джейсон позаимствовал машину и отправился в деревню, на ферму, где, по его сведениям, прятали Амели.
Женщина, открывшая дверь, стала отрицать, что приютила ребенка, но когда журналист достал тридцать марок, закатила глаза и повела его на кухню.
Впервые Джейсон увидел Амели издали в тот день, когда Кристина привезла ее в клинику. Второй раз – после того, как малышку подстригли, покрасили ей волосы и переодели в мальчика. Но этого робкого, печального ребенка, который вылез из-под раковины в кухне, едва можно было узнать.
– Мы зовем ее… его Герберт, – сказала хозяйка.
Джейсон сглотнул. Он полагал, что готов ко всему. В конечном счете этот маскарад ради безопасности ребенка. Но он ни за что бы не догадался, что это тот же самый розовощекий херувимчик с косичками, который вошел в клинику с мамой – мамой, которой уже нет.
– Она совсем на себя не похожа.
– Так и задумано, mein Herr, – раздраженно ответила хозяйка и подозвала Амели к столу. – Ваш приезд сюда – рискованный поступок. И для нее, и для меня. Как видите, с девочкой все в порядке. В наше время это все, на что можно надеяться. – И женщина надменно вздернула подбородок.
Джейсон поморщился.
– Я понимаю.
Женщина смягчилась, вздохнула.
– Проходите, садитесь рядом с ней, пока я накрою на стол. Поешьте. Это единственное, что вы можете сделать вместе.
Джейсон не стал спорить, но обрадовался, что заранее позаботился о подарке для ребенка. Когда хозяйка вышла из комнаты, журналист достал из внутреннего кармана куртки маленькую книжку с самыми яркими картинками, какие ему удалось найти.
Амели распахнула глазки, и впервые в них вспыхнула жизнь. Джейсон тоже ощутил радость. Он сказал языком жестов: «Меня зовут Джейсон», потом сделал возле уха знак, обозначающий букву «Д», – причудливый жест, выбранный им для обозначения своего имени. Ничто в Германии не могло сравниться с робкой улыбкой, которую подарила ему малышка, когда в ответ сделала знак «А» у ямочки на щеке.
Джейсон засмеялся, а Амели прижала ручку к его груди.
– Ты чувствуешь? – Он вновь засмеялся.
Девочка робко улыбнулась ему, но он практически ничего не видел – у него перед глазами была пелена. Джейсон закашлялся, указал на книгу, что лежала на столе перед ними, и сделал знак, которому его научил Элдридж: прижал ладони друг к другу, потом открыл их, как обложку книги. Это означало: книга – подарок для тебя.
Амели наклонила голову набок и жестом показала: «спасибо», но при этом выглядела сбитой с толку. Джейсон вновь сказал языком жестов «книга» и стал ждать.
Девочка прищурилась и тоже ждала.
Джейсон улыбнулся, распахнул объятия.
Амели вскарабкалась ему на колени, пытаясь заглянуть в глаза. Явно удовлетворенная увиденным, она уселась и открыла книгу. Девочка стала шевелить губами, и Джейсон понял: она мимикой показывает: «читать», – явно вспомнив о том, как ей вслух читала мама. Амели повернулась, обхватила его лицо маленькими ладошками, обвела пальчиком рот и показала на книжку.
– Хочешь, чтобы я тебе почитал? – Джейсон погладил ее по голове. – Но ты же не слышишь этих слов, разве нет, малышка? Ты не знаешь, что они означают.
Однако Амели опять показала пальчиком на книжку и прижалась к нему. Джейсон одной рукой обнял ее и вновь раскрыл ладони. Амели раскрыла свои.
В комнату вошла невысокая плотная хозяйка и, покачав головой, вытерла руки фартуком.
– Она как обезьяна: копирует все, что видит. – Женщина поставила перед Джейсоном чашку горячего, но сильно разбавленного напитка из цикория, а перед Амели – кружку молока. – Жаль, но на большее она не способна. – Хозяйка вернулась к мытью посуды.
«Обезьяна? – Джейсон стиснул зубы, чтобы не выругаться вслух. – Амели умная. Смышленая. Она нас обоих за пояс заткнет».
Девочка потянула его за рукав и опять показала на книгу, а сама тем временем уложила головку ему на грудь.
– Ты чувствуешь вибрации, когда я говорю – вот оно что! – Джейсон улыбнулся. – По-моему, я могу читать что угодно, говорить что угодно, и все будет хорошо до тех пор, пока буду показывать на картинки.
Амели заерзала у него на коленях, и Джейсон понял, что малышка довольна.
Казалось, книга открыла для нее целый мир воспоминаний. Как только он закончил читать, девочка подняла четыре пальца и гордо указала на себя.
Джейсон поднял все пальцы, стянул туфли и носки, указал на пальцы ног, потом на уши, глаза, нос, рот и на локоть. Затем ткнул пальцем себя в грудь, выражая восхищение. Хозяйка дома невольно рассмеялась, и Амели тоже залилась радостным хохотом. У нее был красивый смех, только немного неестественный.
Не прошло и часа, как Джейсон встал и потянулся. Амели внимательно следила за ним. В ее глазах журналист заметил страх того, что он сейчас уйдет.
– Ни в коем случае, малышка! – прошептал Джейсон с улыбкой. – Мне просто было необходимо, чтобы ты поняла: мне можно доверять.
Хозяйка снова вышла из комнаты и вскоре вернулась с полной корзиной белья – она только что сняла его с веревки.
– Хорошо, что вы уже уходите. Скоро из города вернутся мои соседи. Они не должны видеть ваш автомобиль, иначе возникнет слишком много вопросов.
– Я увожу девочку с собой. Спасибо, что прятали ее все это время. Знаю, для вас и для вашей семьи это был огромный риск. Если бы вы помогли собрать ее вещи…
– Увозите ее? Но куда? Человек, который привез девочку, ничего не говорил о том, что ее заберут. И он еще не расплатился со мной за эту неделю. Обещал отдать деньги через две недели.
– Планы изменились.
«Мне следовало бы догадаться, что срочное письмо – всего лишь уловка посредника, чтобы запросить больше денег», – подумал Джейсон.
– Нельзя увозить девочку… пока я с ним не поговорю. Пока не получу свои деньги.
Пока хозяйка говорила, Джейсон осмотрел комнату. Он не увидел ни телефона, ни телефонных проводов, которые вели бы к дому, но журналист не собирался попадать в расставленные силки, не хотел, чтобы эта женщина вызвала подкрепление.
– Несите вещи девочки. Я заплачý.
– Ну… не знаю… – Женщина колебалась.
Джейсон пожал плечами.
– Как знаете. Мы уезжаем. – И подхватил Амели на руки.
– Подождите! Подождите! Сейчас я поищу то, с чем она приехала… хотя вещей у нее почти не было.
– Поскорее.
Джейсон достал бумажник. Он не мог рисковать и оставлять что-то из принадлежащих Амели вещей для последующего шантажа.
У женщины загорелись глаза. Она кивнула и поспешно скрылась на втором этаже.
Не прошло и минуты, как она вернулась с платьем и туфельками Амели, с лентами, чтобы вплетать в волосы, и бельем.
– Где украшения ее матери?
– Украшения? Для ребенка? Ничего не было.
Джейсон знал, что женщина лжет. Он сам видел, как мать вешала что-то на шею Амели, прежде чем они вошли в клинику. Еще он знал, что Кристина оставила дочери что-то из своих личных вещей. Украшение стало бы опознавательным знаком – медальон, кольцо на цепочке. Что-то маленькое, что всегда можно носить при себе. Джейсон спрятал портмоне в карман.
– Вы уже взяли за услуги. Попытаетесь продать украшение на черном рынке – и я позабочусь о том, чтобы ваше имя и фотография как похитительницы детей появились во всех газетах Германии.
– Nein! Постойте! Подождите! – воскликнула женщина.
– Вы испытываете мое терпение, фрау.
– Дайте-ка я еще разок проверю. Возможно, что-то и было. Одну секунду! – И женщина опять помчалась наверх.
Джейсон услышал, как выдвигается ящик, как в нем шарят.
Хозяйка вернулась на кухню уже не торопясь, без прежней наглости.
– Покажите деньги! – потребовала она, сжимая ладонь.
Джейсон вновь вытащил портмоне.
– Покажите украшение!
Женщина раскрыла ладонь. Там лежал небольшой серебряный медальон – филигранное сердечко.
– Откройте.
Внутри была фотография Кристины.
* * *
Джейсон сожалел, что сам не может отвезти Амели в Обераммергау. Он чувствовал, что должен ее защитить. Никто прежде не смотрел на него с таким доверием, с такой надеждой.
Самому себе он признался, что еще ему бы очень хотелось увидеть Рейчел, узнать, что она в безопасности, разглядеть в ее голубых глазах хоть что-то похожее на беспокойство, которое испытывал он сам. Но иностранный журналист, американец, путешествующий с маленькой немецкой девочкой – неважно, мужчина или женщина, – обязательно вызовет подозрения. Он мог бы всех выдать.
Джейсон знал, что Амели в надежных руках фрау Бергстром, и понимал, что связи этой женщины в Германии и ее возможности доставить малышку в целости и сохранности в Обераммергау намного превосходят его собственные. И тем не менее журналисту претила мысль о том, чтобы оставить Амели незнакомым людям, в особенности на попечение служанки, которая открыла ему заднюю дверь в доме Бергстромов.
Но на этот раз коренастая служанка положила ему на плечо руку в знак утешения.
– Мы о ней позаботимся. Фрау Бергстром можно доверять. Забирайте платье, ленты и туфли – все сожгите. Их не должны найти – по этим вещам слишком легко опознать малышку. А медальон мы для нее сохраним. – Служанка уже закрывала дверь. – Ой! Чуть не забыла! Фрау Бергстром просила вам передать. – Она сунула ему в руки какие-то бумаги и вытолкала за дверь. – Теперь ступайте.
Джейсон обреченно кивнул, закрывая за собой дверь. От надрывных рыданий Амели у него разрывалось сердце.
Тем же вечером, оставшись в одиночестве в гостиничном номере, он прочел полученные бумаги. Адрес, инициалы «Д. Б.».
– Дитрих Бонхёффер, – прошептал журналист. – Этого человека я должен знать.
Джейсон закончил читать цитаты, которые выделила для него в Святом Писании фрау Бергстром, а потом сосредоточился на абзацах, которые он отметил в книге Бонхёффера. В конце концов журналист закрыл обе книги и погасил свет. В темноте легче в чем-либо признаваться – например, в собственном желании сыграть перед Рейчел и Амели роль героя и в том, что он до сих пор точно не знал, что им двигало. Джейсон очень привязался к малышке – к ребенку, который только начинал жить во враждебно настроенном к нему мире. Янг знал об этом не понаслышке, он на собственной шкуре прочувствовал это в те времена, когда жил в деревне и его отец-алкоголик до смерти избивал маму. Отца арестовали, но потом выпустили на поруки семьи. Джейсону тогда было всего шесть лет, и единственное, что он мог делать, – заталкивать младшую сестричку под кровать, подальше от отцовских сапог. Началось все с того, что, помогая Амели, Джейсон надеялся произвести впечатление на Рейчел – сначала в поисках сенсации, а потом – без ума влюбившись в старшую из этих двух блондинок.
«Самоотверженность? Вряд ли!»
– Дешевое милосердие. – Он поморщился. – Лучше и не скажешь.
Фрау Бергстром быстро его раскусила. Джейсон уже представлял себе заголовки газет: «Американский журналист спас глухую девочку от безжалостного эсэсовца-отца» – и неважно, сколько времени ему придется ждать, чтобы опубликовать эту историю. Он бы подождал – ради Рейчел, ради Амели. Но рисковал Джейсон отнюдь не бескорыстно.
«Как там говаривал мой дедушка? “Можно иногда обмануть людей, но самому – наибольшему болвану из всех – лучше никогда не обманываться”».
Джейсон ударил кулаком в подушку, перевернулся на другой бок. Было уже далеко за полночь. Правда слишком сильно била ему в глаза, была слишком пронзительной, чтобы можно было заснуть.
29
Поначалу Лия не тревожилась из-за того, что от Фридриха нет писем. В конце концов, он же предупреждал, что на фронте могут быть проблемы с почтой. Слишком многое зависело от обстоятельств: время и возможность написать, способ отослать и получить почту. Он советовал ей не волноваться.
Но когда пролетел октябрь, настал ноябрь и Германия официально присоединила к себе территорию Западной Польши, Данциг и так называемый Польский коридор, Лия начала беспокоиться. Если немецкие войска побеждают, почему тогда от Фридриха нет писем?
Владелица одного из местных магазинчиков, фрау Рейнгардт, получила весточку о том, что ее мужа, которого мобилизовали одновременно с Фридрихом, ранили под Варшавой и теперь он лежит в госпитале неподалеку. Вдова Гельмес тоже получила официальное письмо, в котором сообщалось, что ее сын погиб во время Польской кампании. Погиб за фюрера, как настоящий герой. Лия же не получила ничего.
Когда остальные жительницы деревушки получали письма от своих мужей и любимых, в которых те подробно описывали победы на фронтах, сердце Лии сжималось. Единственное, что ей оставалось, – вымученно улыбаться соседям и желать им «guten Morgen»[33].
Однажды в воскресенье поздним вечером в дверь бабушкиного дома коротко постучали, и у Лии едва не остановилось сердце.
Но это всего лишь доставили посылку. Лия начала спорить с мужчиной, который держал большой деревянный ящик. Они ничего не заказывали, а если это что-то из древесины для мастерской Фридриха, какой-то забытый заказ, его следовало доставить по адресу. Как ей самой нести туда такую тяжесть? Но водитель-грузчик, не обращая внимания на ее протесты, втащил посылку в дом, громко разговаривая. Он озабоченно вглядывался в сгущающиеся сумерки, качал головой и просил Лию поскорее расписаться за доставку. Она отказывалась ставить подпись, не узнав, что же в посылке.
– Вы фрау Лия Гартман?
– Ja, ja, разумеется.
– Тогда эта посылка вам. – И добавил шепотом: – Перед тем как будете распечатывать, закройте ставни, и не тяните, открывайте ящик сразу же. Это прилагалось к посылке. – Грузчик достал из нагрудного кармана небольшой конверт и сунул его Лии в руку.
Пока женщина недоуменно разглядывала конверт, грузчика уже и след простыл. Она закрыла дверь.
– Что это? – спросила бабушка.
– Понятия не имею. Фридрих говорил, что все его заказы пришли еще до того, как он уехал, что мне не стоит беспокоиться. И кто доставляет посылки по воскресеньям? – Лия обошла ящик, сжимая в руках конверт. – Тот, кто принес его, велел закрыть ставни и побыстрее открыть ящик. – Она распечатала конвертик, подставила ладонь. Оттуда выпало маленькое украшение в форме сердечка. – Медальон.
– Что это значит?
Лия пожала плечами, и тут же в коробке раздался какой-то странный звук. Обе женщины отпрянули.
– Что это? – шепотом поинтересовалась из спальни Рейчел.
– Мы… мы не знаем, – ответила бабушка. – Это… это…
– Неси молоток, бабуля. Мы должны снять крышку. Рейчел, закрой ставни и задерни занавески.
– А не рано ли?
– Закрывай! – велела Лия.
Бабушка протянула внучке молоток, и Лия со знанием дела вытащила длинные гвозди по периметру крышки. Сдвинула крышку в сторону. Из коробки послышалось тоненькое поскуливание. Бабушка замерла с открытым от удивления ртом.
– Рейчел, мне кажется, тебе лучше подойти сюда. – Лия не могла скрыть изумление, глядя на свернувшегося в одеялах ребенка – спутанные волосы, широко открытые заплаканные глазки, жмурившиеся от внезапного света.
Рейчел подошла к сестре и ахнула, не зная, что сказать.
– Это и есть твоя Амели?
– Нет… я… я не знаю, – запинаясь, произнесла Рейчел. – Это же мальчик. Я хочу сказать, что никогда не видела Амели… только на фотографии. Но это… Джейсон предупреждал, что ее подстригли, чтобы она походила на мальчика. Поэтому…
Лия открыла лежавший у нее на ладони медальон. С фотографии на нее смотрела улыбающаяся женщина – светловолосая красавица. Лия подняла медальон выше, чтобы его могла рассмотреть Рейчел.
– Ты ее знаешь?
– Кристина!
Лия еще мгновение подождала, надеясь, что Рейчел вытащит ребенка из ящика. Но та даже рук не протянула, и Лия сама достала малышку из импровизированного гнездышка.
– Никогда еще не видела такого хорошенького мальчика!
Ребенок переводил взгляд с одной женщины на другую. В каждой черточке детского личика читался страх.
– Какой же ужас тебе довелось пережить, Амели, – нараспев произнесла Лия. – Только подумать, все это время ты ехала в ящике! Наверное, ты проголодалась и хочешь пить.
– Она тебя не слышит, – фыркнула Рейчел и отступила. – Она испачкала одеяла.
– А ты бы не испачкала, если бы тебя заперли в ящике неизвестно на сколько часов? – возразила Лия.
– Помоги мне достать одеяла, Рейчел, – велела бабушка. – Замочим их… и посмотрим, нет ли под ними записки.
Но под одеялами ничего не было, никакого обратного адреса.
– Твой друг творчески подошел к тому, как перевезти ребенка, – заметила Лия.
– Ты же не думаешь, что грузчик – это он, верно?
Лия с бабушкой изумленно изогнули брови, услышав в голосе Рейчел резкие нотки.
– Грузчик явно не американец, – ответила Лия. Но, заметив разочарование Рейчел, смягчилась. – По крайней мере, он прислал тебе ребенка.
Рейчел даже не улыбнулась.
Бабушка наполнила таз водой и поставила его у печи.
– По-моему, теперь нужно ее вымыть. Хвала Небесам, что у нас достаточно дров, чтобы растопить печь. Можно немного подогреть водичку.
– Но сперва надо дать малышке чего-нибудь попить, а возможно, и поесть, – вмешалась Лия. – Наверное, она проголодалась.
Глазки Амели, широко открытые от удивления, перебегали с одного лица на другое и остановились на Лии.
Лия нежно улыбнулась и сунула чашку в руки малышки. Когда Амели попила, Лия стянула с девочки кожаные штаны и погладила покрасневшие от сыпи ножки.
– Она слишком долго носила эту одежду для мальчиков, – закудахтала бабушка.
– Исключительно для маскировки, – тут же ответила Рейчел.
– Ja, что ж… Рейчел, принеси из спальни горшок. Возможно, девочка захочет сходить на горшок, перед тем как будет купаться.
Рейчел пожала плечами, но послушно исполнила просьбу.
Бабушка положила руку Лии на плечо и прошептала:
– Наверное, сперва стоит спросить Рейчел, не хочет ли она сама искупать и покормить ребенка.
Лия замерла. Ей не хотелось ни о чем просить Рейчел, не хотелось отдавать ей малышку. Она не видела в сестре даже намека на материнский инстинкт. Но бабушка была права: за Амели отвечает Рейчел, это ее ребенок во всех смыслах этого слова.
Когда вернулась Рейчел с горшком, Лия посадила на него Амели.
– Это девочка, все верно, – заметила Рейчел.
– Хочешь сама ее искупать? – спросила Лия. – Или мне искупать ребенка?
Рейчел округлила глаза.
– Я никогда раньше этого не делала.
– Тогда пришло время научиться, – подбодрила ее бабушка. – Мы тебе поможем.
Лия изо всех сил сдерживалась, чтобы не вмешаться. Вместо этого она достала яблоко и стала резать его на кусочки. Пока бабушка учила Рейчел, как наливать воду в таз и пробовать температуру, Лия кормила Амели тонкими кусочками яблока и ласково ей улыбалась.
Рейчел неуклюже попыталась взять Амели на руки и при этом, видимо, причинила ей боль – девочка застонала. Лия, не выдержав, выхватила из рук сестры Амели и удобно устроила ее на согнутом локте. Малышка прижалась к ее груди и спрятала головку у Лии под подбородком.
– Ты должна дать ей понять, что ни за что ее не уронишь.
– Она меня не слышит! – возразила Рейчел. – Я ничего не могу ей сказать.
– Девочка ощущает уверенность твоих рук, когда ты ее держишь, чувствует себя в безопасности в твоих объятиях, у тебя на руках.
Рейчел смотрела на сестру, как будто та разговаривала с ней на иностранном языке.
Лия взглянула на бабушку, ища одобрения, но та лишь пожала плечами. Лия поставила Амели в таз с теплой водой, слегка побрызгала ей на ножки, нежно что-то приговаривая и напевая, потом усадила девочку в таз, провела фланелевой тряпочкой по маленькому тельцу, волосам, намылила эту тряпку и стала тереть малышку, пока не отмыла. Хильда протянула внучке большой кувшин с теплой водой, и Лия осторожно стала лить воду на склоненную головку Амели, закрывая ей глазки и что-то тихонько напевая.
Через какое-то время малышка расслабилась от прикосновений Лии, а когда открыла глазки, то вытерла мыло и улыбнулась.
Сердце Лии забилось быстрее.
– Полотенце, – попросила она.
Бабушка протянула Рейчел только что нагретое полотенце и мягко подтолкнула ее вперед. Лия поставила Амели в таз, и сестры вместе вытерли ее досуха.
– А что она наденет? – Рейчел огляделась, радуясь тому, что Лия ей помогает.
– Какую-нибудь сорочку на ночь. К утру ее вещи высохнут. – Бабушка в другом тазу стирала маленькие штанишки и рубашку.
– Амели могла бы надеть мою рубашку с длинными рукавами, – предложила Лия. – Конечно, моя одежда будет на нее велика, но мы можем ее подпоясать, да и так ей будет теплее.
– Это очень мило с твоей стороны, – поблагодарила Рейчел.
Лия искренне улыбнулась в ответ.
– Амели – уникальный ребенок!
– А где она будет спать?
– Она могла бы спать со мной, – предложила бабушка.
– Но она будет вертеться – ты не заснешь, – сказала Лия. – Наверное, с тобой пусть ляжет Рейчел, а я лягу с Амели.
– Ты не против? – спросила Рейчел, явно испытывая облегчение.
– Вовсе нет. – Лия едва сдерживала ликование.
Но тут вмешалась бабушка:
– Теперь Амели твой ребенок, Рейчел. Ей следует быть с тобой. Она должна привыкнуть к тебе, а ты – к ней.
– Но я ничего не знаю о детях.
– Научишься. – Бабушка говорила мягко, но решительно. – Должна научиться. Ты взяла на себя эту ответственность.
Лия почувствовала, как сжалось ее сердце.
– Если честно, я не против. Я…
Но бабушка одним взглядом пресекла ее возражения. Хильда надела на шею Амели серебряный медальон.
– Чтобы ты всегда помнила свою маму, крошка, – прошептала она.
Глубокой ночью, когда все уже убрали и Амели крепко спала рядом с Рейчел, Лия лежала, повернувшись к бабушке спиной.
– Не спишь? – прошептала Хильда.
Лия промолчала.
– Я знаю, что тебе больно отдавать этого ребенка Рейчел. Но Амели не твоя дочь, моя любимая. Когда Рейчел уедет, малышка уедет вместе с ней. Если ты к ней привяжешься, то лишь еще больше разобьешь свое сердце.
Лия продолжала молчать. Из-за слез она не могла разговаривать. Лия понимала, что бабушка права. Фридрих сказал бы то же самое, предостерег бы ее, а возможно, даже запретил бы отдавать свое сердце ребенку, который может разбить его, сам того не желая.
Но держать, кормить, купать и баюкать Амели, чувствовать ее маленькие ручонки, обвившие шею, ощущать вес маленького тельца, которое прижимается к твоей груди, – настоящее блаженство. Целый час Лия молилась о том, чтобы она всю жизнь могла заботиться о девочке, кормить ее, мыть и завивать ей волосы, которые позже станут длинными и шелковистыми, так что можно будет заплетать их в косички. Она бы шила для Амели красивые наряды. Отдавала бы все, что может отдать женщина, которая лучше других знает, что для нее означает иметь ребенка… Слишком больно, невозможно вынести… невозможно говорить.
«Все для Рейчел, для Лии – шиш». Лия знала, что это неправда, что это попахивает жалостью к себе, что это Институт лишил ее всего, о чем она мечтала с детства, но у нее не было сил сдерживаться. «Малышка не нужна Рейчел! Она даже не знает, что с ней делать! Я могла бы полюбить Амели, мы бы с Фридрихом стали ее семьей. Ох, как бы мы ее любили!»
Но лежа в темноте, Лия даже себе не могла признаться в том, что объятия Амели помогли ей примириться с потерей Фридриха. Нет, она больше ни в чем не признáется. Лия закрыла глаза и пролежала без сна до самого утра.
30
Аромат свежих булочек, испеченных бабушкой к завтраку, заманил Рейчел на кухню, где Лия, изображая ложкой взлетающий и садящийся самолет, кормила Амели кашей.
– Пахнет божественно, бабуля! Как тебе удается стряпать такую вкуснятину из скудных продуктов? – Рейчел еще раз принюхалась.
Бабушка рассеянно улыбнулась, ломая булочку на маленькие кусочки для Амели.
Рейчел налила себе чашку растворимого напитка из цикория, впилась зубами в приятно пахнущее лакомство и присела за стол напротив Лии.
– Тебе не кажется, что она должна есть сама?
Лия промолчала, но ласково пощекотала малышке щечку. Амели застенчиво улыбнулась, а затем неестественно засмеялась.
Бабушка сняла с плиты чайник.
– Рейчел, поставь таз ближе к печке. Я налью ей водички, чтобы искупаться.
– Она же купалась вчера вечером!
Рейчел три дня просила нагреть воды, чтобы можно было вымыть волосы, но бабушка настаивала на том, что мыло и дрова нужно экономить, поэтому придется подождать.
– Совсем немножко воды. Амели надо сделать ванночки с овсяной мукой, чтобы прошла сыпь. Она снимет воспаление.
Рейчел поставила таз рядом с плитой, как бабушка велела, и отошла, попивая теплый напиток.
Лия усадила малышку в таз, нежно потерла у нее за ушками, вычистила грязь из-под ногтей, все время что-то кудахтала, как старая наседка. Потом ополоснула ее и вновь усадила, добавив в воду овсяную муку.
Рейчел закатила глаза и покачала головой.
– Ей уже четыре года, Лия. Уж точно она должна мыться сама. – Рейчел потянулась за второй булочкой. – Если она глухая, это не значит, что она недоразвитая.
Ничего не говоря в ответ, Лия держала Амели в тазу с овсяной мукой. Бабушка продолжала помешивать что-то в кастрюле на печи. В конце концов она отложила ложку и встала перед Рейчел.
– Амели пережила такое, что никому из нас даже и не снилось. Считайте, что нам повезло. Мы должны отдать ей всю свою любовь и заботу.
Рейчел ощутила, как заливаются краской стыда ее шея и щеки. Она не привыкла выслушивать ничьих поучений, кроме отцовских.
– Но Амели должна сама этому научиться, чтобы к ней не относились, как к инвалиду, если она хочет вписаться в этот мир.
– Она научится, как научились все мы, – заверила Рейчел бабушка. – Но сегодня… пока… мы будем ей помогать, так же, как помогли тебе, когда ты впервые появилась у нас на пороге. Мы все будем ей помогать.
Лия даже не повернулась, но торжествующе улыбнулась, чувствуя негодование Рейчел.
* * *
– Мюнхен? Ты хочешь перевестись в Мюнхен?
У главного редактора чуть сигара изо рта не выпала. Но он успел ее подхватить. Табак тоже выдавали по карточкам.
– Пока… да. – Джейсон пожал плечами. – Там не хватает журналистов. Я могу еще успеть на вечерний поезд, чтобы в среду осветить юбилейное выступление Гитлера, поездить по баварским деревушкам. Посмотрю, как повлияла на них война и чем жизнь там отличается от жизни в крупных городах вроде Берлина. Побеседую с пограничниками. К тому же в Баварии много старых добрых нацистских тренировочных лагерей.
– Размечтался! Так тебя туда и пустили!
Джейсон не обращал внимания на возражения.
– Может быть, я увижу эти «Страсти Христовы», от которых фрицы в Обераммергау просто с ума сходят. Я слышал, что они готовятся к постановке в следующем году… что это традиция. Было бы интересно посмотреть, как активность дядюшки Адольфа на это повлияла. – Он переступил с ноги на ногу. – В Берлине остается Элдридж. Мы с ним постоянно стараемся вырвать друг у друга лучший кусок. А так вы одним махом решите две проблемы.
– Трижды в неделю будешь звонить по телефону мне и два раза – в Нью-Йорк, а потом напишешь статью. Если обнаружишь что-то экстраординарное, вышлешь материал сразу же, договорились?
– Буду звонить по часам.
Главный редактор откинулся на спинку стула, как будто раздумывая, как себя подстраховать.
– Тебе нужен фотограф.
– И это можно было бы уладить. Я просто буду отсылать отснятый материал Питерсону.
Главный редактор приподнял брови и опустил уголки рта, как будто размышляя над сказанным.
– Я подумаю над этим.
Джейсон кивнул, заткнул карандаш за ухо – словно на самом деле ему было все равно, словно эта идея только что пришла ему в голову – и медленно направился назад к своему столу.
Но Элдридж все слышал.
– Подлизываешься к начальству? Не знал, что в тебе живет подхалим.
Джейсон швырнул карандаш на столешницу и плюхнулся на стул.
– Просто я устал гоняться за призом, старина.
Элдридж хмыкнул, но тут же оборвал себя. Он прищурился, как будто пытался сосредоточить взгляд на коллеге, прочесть его мысли.
«Он слишком умен – к своему и моему счастью. Это еще одна причина, чтобы отсюда убраться». Джейсон не сомневался, что Элдридж напечатает все статьи, наброски которых сделал. А если бы Элдридж знал, почему его коллега на самом деле рвется в Мюнхен – и почему фрау Бергстром посоветовала ему это, – жизнь их всех оказалась бы под угрозой.
* * *
Пока Амели спала после обеда, Лия обратилась к сестре:
– До сих пор, когда кто-нибудь заходил, нам удавалось прятать тебя на чердаке или в чулане. Но теперь, когда Амели здесь, мы должны придумать что-то получше.
– Она так смешно скулит во сне. Только представь, что будет, если она закричит не вовремя. Невозможно объяснить ей, что в случае опасности она должна сидеть тихо как мышка.
– Объяснить, наверное, можно, но мы еще мало ее знаем, чтобы понять, как ей об этом сказать. Пока что бабушка отваживает соседей, но я беспокоюсь. – Лия прикусила губу. – Нельзя ожидать, что Амели часами будет прятаться в шкафу одна. А если вернутся эти животные…
– Герхард Шлик ничего не забывает. Больше всего он хочет заполучить меня. Он ненавидит, когда его кто-то обводит вокруг пальца, ненавидит проигрывать. – Рейчел поставила чашку на блюдце. – Шлик вернется.
Вошла усталая бабушка.
– Тоже не спится, да, бабуля? – спросила Лия.
Хильда покачала головой, придвинула стул к столу.
– Мы должны все это обдумать. Эсэсовцы вернутся. Они обещали, и я это чувствую.
Лия пододвинула к бабушке чашечку крепкого горячего напитка из цикория.
– Мы как раз это обсуждали.
– Разбазариваешь продукты, – пожурила внучку Хильда, потом вздохнула, отхлебывая горький напиток. – Всего разочек.
– Я понимаю, что мы должны уехать, – сказала Рейчел. – Я могла бы загримироваться. У меня есть документы и до сих пор остались деньги, которые я взяла у отца. Но путешествовать с ребенком – совсем другое дело, особенно когда не сечешь, что происходит.
– Не сечешь?
Бабушка поморщилась, услышав странное слово, которое употребила Рейчел. Старушка сосредоточенно нахмурила лоб. Обе сестры засмеялись, видя ее смятение, и Лия замахала руками.
– Мы не можем тебя отсюда вывезти… пока не можем. – Лия наклонилась ближе. – Под лестницей стоит шкаф, который Фридрих построил перед отъездом. Мы не упоминали о нем потому, что он еще не закончен и туда наверняка заглянут. Но мне кажется, если пристроить там еще одну стенку – фальшивую, на одном уровне с боковинами, – можно создать сзади отдельное помещение. Тайник. Можно выстлать его внутри одеялами и прятать вас там на случай, если эсэсовцы вернутся. Шкаф стоит недалеко от дымохода, который ведет на чердак, поэтому не замерзнете.
– Когда они вернутся, – поправила Рейчел. – Мы тут ненадолго…. Мы не можем здесь жить.
– Иногда вам нужно будет спать и там и быть готовыми спрятаться в любую секунду в течение дня. Мы могли бы разобрать потолок, в полу чердака сделать люк, а к стене прикрепить перекладины – получится что-то вроде лестницы.
– Ты еще и плотник? – Рейчел недоверчиво покачала головой. – Я ценю все то, что вы обе для меня делаете, но мы должны найти способ выбраться отсюда. Я могу без проблем путешествовать по Австрии – даже могла бы провезти Амели через границу, если дать взятку патрулю или придумать какую-то историю, а Джейсон достанет нам документы. Если мы в скором времени не выберемся из Европы, боюсь, что границы со Швейцарией закроются, и что тогда?
* * *
Поздним вечером в понедельник поезд Джейсона прибыл в Мюнхен. Молодой человек потянулся, нахлобучил шляпу на голову, подхватил сумку. На ночь он поселится в гостинице (если будут свободные номера), найдет, где перекусить, а потом, как только спадет шумиха после юбилейной речи Гитлера, поищет себе на несколько дней пансион.
Завтра Джейсон планировал отправиться на поезде в Обераммергау. Не помешает посмотреть, как готовят к очередному сезону постановку «Страстей Христовых». Он мысленно набрасывал краткое содержание статьи: «Несмотря на вторжение в Польшу, несмотря на объявленную Францией и Англией войну, неужели “Страсти Христовы”, которые ставят в Обераммергау каждые десять лет, вновь откроют сезон? Неужели, несмотря на то, что война в разгаре, жители деревни целый сезон будут разыгрывать эту постановку? Неужели кто-то приедет посмотреть на нее?»
Джейсон сомневался, что крепких, сильных мужчин, которые задействованы в главных ролях, не мобилизовали. Еще меньше мужчин осталось в гостиницах и магазинах к тому времени, как Гитлер призвал на военную службу население деревни. Журналист представить не мог, как небольшая деревушка сможет прокормить толпы зрителей на нынешние скудные продуктовые карточки. И как быть с отключениями электричества?
Но у Джейсона были свои причины наведаться в Обераммергау и познакомиться с его жителями. Он надеялся, что длинный перечень идей для сенсационных репортажей позволит ему постоянно возвращаться в деревушку и неделями беседовать с местными жителями. Если ничего не получится или главный редактор не одобрит его замысел, он придумает что-то другое.
Благодаря своей работе журналиста Джейсон мог оставаться на месте, но ему необходимо быть осторожным. Гестапо в Берлине следили за ним и его коллегами словно бладхаунды. Мюнхен не станет исключением.
31
Уже в половине седьмого, когда в небе только-только забрезжил рассвет, курат Бауэр спешил по мощеной улице к церкви. Он провел долгую бессонную ночь, обсуждая продажу личных ценных вещей, которые были слишком тяжелы, чтобы брать их с собой. Священник намеревался превратить их в наличные и драгоценности – богатство, которое можно унести с собой. Вещи принадлежали одной еврейской семье христиан, которые намерены были бежать из Обераммергау до того, как их отсюда выдворят. Теперь курат должен был вернуться в церковь раньше, чем Максимилиан Гризер, один из членов гитлерюгенда, совершит утренний обход. Этот подросток, изо всех сил старавшийся завоевать уважение в нацистской партии, слишком серьезно относился к возложенным на него обязанностям. Такие зоркие глаза и чуткие уши, такое болезненное эго могли быть очень опасными.
Раньше, давая обет, курат полагал, что навсегда оставил позади злословие, эгоизм, политику и начал тихую, размеренную жизнь. Но то, от чего он бежал, преследовало его на каждом шагу. В этих грехах погрязли его прихожане и те, кого они подвергали гонениям из-за страха или безразличия. И исключений не было. Курат пытался не судить свою паству, но этот конфликт день и ночь словно ножом резал ему сердце, неимоверно изматывая.
По крайней мере, поскольку Бауэр был представителем духовенства, его не заставили вступить в нацистскую партию. Он испытывал жалость к тем жителям Обераммергау, которые хотели лишь усердно работать, содержать свои семьи, сохранять традиции «Страстей Христовых». Теперь этого было недостаточно. Если они не вступят в партию, если не будут маршировать и петь, по команде кричать «Heil Hitler!» – «Хайль Гитлер!», над ними станут насмехаться, изводить… и даже делать кое-что похуже.
А теперь начали притеснять соседей, выселять тех, с кем бок о бок прожили много лет – потому что в их венах текла (или были хотя бы малейшие подозрения на то, что текла) еврейская кровь. Как будто то, что ты еврей, запрещало тебе быть христианином, или гражданином Германии, или человеком вообще. Как будто сам Христос не был иудеем.
Курат выругался, потом стал молить о прощении. Он чувствовал себя беспомощным перед лицом подобного лицемерия, несправедливости и безумства. Хороших мужчин и женщин выселяли из их домов, угоняли в концлагеря или переселяли на оккупированные Германией территории – и все ради «ариизации» Германии. Ходили слухи, что не все лагеря были созданы для содержания евреев в заключении или для исправительных работ, невзирая на то, что на железных заборах была надпись: «Труд делает свободным». Курат вздрогнул от того, что представил.
«Ни совести, ни страха перед Всевышним! А что делаем мы – что делаю я? Просто сижу и наблюдаю?» Курата Бауэра трясло от злости перед бессилием нации, Церкви, перед собственным бессилием.
К тому времени, как курат стал взбираться по ступеням в церковь, он весь продрог, а в его душе продолжалась борьба. Он оперся о дверь, чтобы перевести дух, восстановить дыхание и обрести душевное равновесие, прежде чем войти в храм. Бауэр стал бы биться головой о дверь, если бы это помогло.
– Курат! – окликнул его кто-то негромко из темного алькова за лестницей.
Священник вздрогнул, спустился по ступенькам и вгляделся в темноту, чтобы разглядеть ребенка – очень худенького, лет шести-семи.
– Ты из семейства Леви. – Бауэр не хотел, чтобы его слова звучали как обвинение.
– Д-да, курат, – запинаясь, произнес мальчишка, отпрянув.
– Заходи, я не кусаюсь. Что ты делаешь здесь в такой ранний час?
– Вас жду, курат. – Мальчик осторожно выполз из угла, огляделся. На его лице читался страх быть обнаруженным. – Мы сегодня уезжаем… и больше никогда не вернемся, – прошептал он.
Сердце курата упало. Еще одна семья.
– Mein Vater[34] велел отдать это вам. – Из-под лестницы мальчик достал пакет – большую прямоугольную коробку, завернутую в шерстяной шарф. – Он сказал, вы знаете, что с этим делать. Просил передать, что это особенный предмет – сделанный из оливкового дерева, растущего на холмах Иерусалима. Нам прислал это дедушка в прошлом году на Хануку[35].
Курат Бауэр помнил тот день, когда Яков Леви получил эту разрисованную коробку и весточку о жестокой смерти отца – детям об этом решено было не сообщать. Священник осторожно развернул пакет. Гладкая, красиво расписанная темными, светлыми и золотисто-коричневыми красками, это была не просто коробка для хранения изумительных наборов красок, растворителей, кистей и лоскутков. Она сама по себе была произведением искусства.
– У нас не осталось времени, чтобы ею воспользоваться, а отец сказал, что он только учится рисовать. Сказал, что вы знаете, кому она больше нужна – что ее используют для благих целей. – Мальчик ожидал ответа, но курат Бауэр лишь поглаживал красивую поверхность коробки. – В следующем году мы будем уже в Иерусалиме, и отец говорит, что там мы найдем другую. – В глазах мальчишки светилась надежда.
Курат Бауэр медленно кивнул – он не мог говорить из-за вставшего в горле кома.
– А еще отец говорит, что наш дом нам тоже больше не нужен; что кому-то он нужен больше и вскоре туда переедут. Мы вот-вот уедем к дедушке; у него, говорит папа, хватит места для всех нас. Придется только немножко подождать на границе – пока причалит корабль, на котором мы все сможем уплыть.
Курат Бауэр продолжал молчать, не доверяя собственному голосу.
Мальчик неловко заерзал, и курат понял, что просто обязан взять себя в руки.
– Прощайте, курат. Было приятно с вами общаться. – Мальчик протянул руку, и священник крепко ее пожал.
Курат Бауэр от души перекрестил лоб мальчика и прошептал:
– Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир![36]
Мальчишка уже припустил по улице, когда курат Бауэр окликнул его:
– Отцу передай…
Ребенок остановился, повернулся, замер в ожидании. Курат Бауэр попытался еще раз:
– Передай ему спасибо! Я сохраню это до его возвращения!
Парнишка ликующе поднял руку.
– Я передам! Но он сказал, что вы можете делать с ней все, что захотите! Мы не вернемся! – Он повернулся и побежал домой.
Курат Бауэр как можно аккуратнее завернул деревянную коробку, словно она была сделана из хрупкого стекла.
– Да, – прошептал священник, – вы уже не вернетесь.
Он толкнул дверь и вошел в церковь. Закрыв за собой дверь, Бауэр подошел к стоящему справа алтарю, преклонил колени перед замысловато вырезанным распятьем и заплакал.
* * *
Джейсон взял одну смену белья. Он не решался провести в Обераммергау много времени, к тому же ему необходимо вернуться назад в Мюнхен, чтобы успеть на выступление Гитлера, – в противном случае главный редактор его уволит. Джейсон не знал, до сих пор ли Рейчел с Амели находятся в деревне. Но если они там, лучшего времени увезти их оттуда, пока все сосредоточены на Гитлере и на его безопасности, не будет. Можно прибегнуть к хитрости.
«Сенсация. Буду относиться к этому, как к любой другой сенсации. Что делают жители деревни для подготовки к “Страстям Христовым”? А как же главные роли? Неужели Иисуса тоже мобилизовали? А двенадцать апостолов?» Джейсон представил тринадцать бородатых мужчин в длинных хитонах – Иисуса и двенадцать апостолов – с пистолетами Люгера в руках. От подобной картины, нарисованной воображением, Джейсон поморщился.
Он заскочил в утренний поезд, положил дорожную сумку, вытащил из нагрудного кармана блокнот.
Работай не покладая рук и старайся не ввязываться в сомнительные авантюры – таково было напутствие его главного редактора, когда он хлопнул Джейсона по спине и проводил до дверей издательства. А еще не затягивай с сенсациями. Напиши что-то стóящее или будешь уволен.
Джейсон вздохнул и ослабил узел галстука. Без зарплаты он точно долго не протянет. Журналист нахлобучил шляпу на глаза – чтобы лучше продумать предстоящие интервью.
Но мысленно он постоянно возвращался к преследующим его загадкам. Каждый абзац, который отметила для него фрау Бергстром, противоречил его жизненным принципам. Нельзя сказать, что кто-то прививал ему жизненные ценности, – скорее он впитал их с течением жизни.
Служба Исповедальной церкви, на которой Джейсон побывал в Берлине, поставила эти ценности под сомнение – не так, как Бонхёффер в своей Nachfolge; впрочем, взгляды священника тоже противоречили личным убеждениям Джейсона.
«Система личных ценностей? Неужели в этом проблема? Неужели мы все просто принимаем за правду то, во что верим лично мы? Или это коллективное притворство? Неужели есть правда для Германии – и правда для Британии, Польши и США, для каждой страны своя? И плевать, как она затрагивает других? Неужели не существует правды – универсальной истины, – применимой абсолютно ко всем?» Он никак не мог этого осознать.
Джейсон как-то попытался расспросить пастора, рядом с которым он сел, когда ехал на поезде из Берлина. Но почувствовал: пастор испугался, что журналист обманным путем пытается заставить его сказать что-то противозаконное и провокационное, поэтому Джейсон прекратил расспросы. Он часто встречался с подобной реакцией – это было неотъемлемой частью работы журналиста. Интервьюируемые либо хотели, чтобы их цитировали до отвращения дословно, либо желали оставаться неизвестными.
И Джейсон не мог их в этом винить: в последнее время оставаться личностью в рейхе было очень опасно… опасно быть приверженцем чего-то или быть связанным с чем-то или кем-то еще помимо Гитлера и нацистской партии. А равняться на радикального Иисуса было вдвойне опаснее.
Скорее всего, Джейсон заснул, потому что не слышал, как кондуктор попросил предъявить билеты на проверку. Сперва журналист почувствовал, как кто-то стучит по его шляпе, которую он нахлобучил на глаза. Джейсон убрал шляпу с лица, прищурился и достал из кармана билет. Кондуктор прокомпостировал его и пошел дальше.
Нацисты, следующие за кондуктором, оказались не такими расторопными.
– Документы!
Джейсон протянул им свои документы.
– Американец. Куда следуете?
– В Обераммергау, всего на один день.
– Что на сей раз привело вас в Обераммергау?
– Хочу посмотреть, как ставят «Страсти Христовы». – Джейсона бесило то, что от разговоров с этими парнями у него пересыхает во рту.
– Не рано ли едете, герр Янг?
Сидящие рядом с ним пассажиры начали ухмыляться, одобрительно кивать, провоцируя на дальнейшие расспросы нациста, который был рад тому, что с ним соглашаются.
– Вы правы… но именно это и хочет узнать мир. Разыгрывают ли до сих пор «Страсти»? Собирается ли кто-нибудь туда приехать? Можно ли купить билеты?
Лицо нациста застыло. Джейсон понимал: этот немец может воспринять сказанное как сарказм и устроить сцену, проучить его, а может просто оставить его в покое. Джейсон уже убедился в том, что показывать свой страх все равно что крикнуть «Попробуй поймать меня!», вскочить и выхватить пистолет.
Немец решил сыграть роль великодушного хозяина.
– С нетерпением будем ждать вашей статьи, герр Янг. – Он швырнул документы Джейсону в грудь. – Когда-нибудь.
Джейсон, не поднимая глаз, спрятал документы в карман и вновь натянул шляпу на глаза.
* * *
– Я больше ни минуты не стану сидеть в этом дурацком шкафу! – сердилась Рейчел. – Это просто смешно и ничего не гарантирует. Особенно когда за дверью стоят СС.
– Не смей разговаривать с бабушкой подобным тоном! – осадила ее Лия. – Она этого не заслужила.
– Девочки! – Хильда захлопала в ладоши, как будто обращаясь к непослушным детям.
Амели засмеялась и тоже захлопала в ладоши, решив, что бабушка начала новую увлекательную игру.
Рейчел воздела руки.
– Эта девочка сводит меня с ума! Я не могу целый день сидеть с ней в тесном шкафу.
– Ты просидела там всего лишь час! Один-единственный час! – попеняла сестре Лия. – Ты должна тренироваться. Ты же говорила, что несколько дней, даже недель провела на чердаке.
– Я была одна… и там было, по крайней мере, достаточно места для того, чтобы потянуться!
Бабушка схватила внучек за руки и встряхнула их.
– Прекратите! У нас у всех расшатаны нервы, а вы еще нагнетаете обстановку!
– Сегодня с утра приходила фрау Герда, спрашивала, не хочет ли бабушка взять постоялицу – племянницу одной из ее постоялиц из Гамбурга, – сказала Лия. – Ты понимаешь, что это может означать?
– Это невозможно! – Рейчел почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки. – А почему она не поселит ее у себя?
– У нее уже живут двое, – устало ответила бабушка. – В год, когда ставят «Страсти Христовы», мы все берем жильцов. И за год до этого события, когда готовимся к сезону.
– Зачем? «Страсти» начнутся только следующей весной.
– Мы берем временных жильцов, – пояснила Лия, терпеливо проговаривая каждое слово. – В год, когда ставят «Страсти Христовы», люди приезжают сюда сотнями в поисках работы: служащие гостиниц, повара, плотники, кочующие музыканты, портные и швеи – всем нужна работа, еда, жилье. Люди живут даже в сараях и конюшнях.
– А сейчас их еще больше, – покачала головой бабушка. – Города пустеют: уезжают женщины, оставшиеся без мужей, сéмьи, которые выселили, когда их отцы ушли на фронт, или те, кто боялся бомбежек и продовольственных карточек.
– А кто-то хочет сменить обстановку, просто выехать из города, воспользовавшись тем, что в Обераммергау, как всем известно, в сезон «Страстей» берут постояльцев! – фыркнула Лия.
– Не стоит поспешно судить людей. Мы не знаем всех обстоятельств…
– В том-то и дело! Мы будем вашими постояльцами! – воскликнула Рейчел.
Лия зашикала на нее.
Рейчел дернула бабушку за руку.
– Неужели не понимаете? Вы вообще можете нас не прятать! Я могу пойти работать… управляющей в гостиницу или еще куда-нибудь.
– Дорогая моя, ты не сможешь даже из дому выйти – весь Обераммергау будет поворачивать голову тебе вслед. Ведь у вас с Лией одно лицо! Мы не сможем спрятать тебя в толпе. Шкаф – единственный выход.
– Нам не удастся долго отказываться от постояльцев, – предостерегла бабушку Лия. – Фрау Герда не единственная, кто будет к тебе обращаться.
Хильда согласилась.
– Да, в деревне не так уж много домов, чтобы можно было отказывать постояльцам.
– И в шкафу слишком мало места, чтобы там прятаться! – добавила Рейчел.
* * *
Обед прошел спокойно. Амели поела раньше, и ее уложили отдыхать. Малышка спала, засунув большой палец в рот, и всем своим видом напоминала херувима.
Лия отправилась к себе, чтобы перед занятиями с хором отмыть и привести дом в порядок. Они с бабушкой сошлись на том, что единственный выход – пустить постояльцев туда. Когда станет известно, что до возвращения Фридриха она переехала к бабушке, возможно, Хильде перестанут докучать просьбами принять жильцов.
Бабушка и Рейчел сидели за столом друг напротив друга. Рейчел положила ложку на стол и отломила от булочки еще один кусочек. Она заметила, как Хильда провела рукой по лбу и вздохнула.
– Прости, бабуля, за беспокойство. Не следовало привозить сюда Амели.
Бабушка печально улыбнулась.
– Я жалею об одном: что Германия докатилась до всего этого. Невероятно! Я даже подумать не могла, что стану прятать свою внучку и малышку в тайнике в шкафу. В собственном доме.
– Не знаю, сколько это продлится… эти прятки в шкафу. Мне кажется, что я сойду с ума… я закричу и выдам нас.
Бабушка взяла внучку за руку.
– Нет, моя дорогая. Не закричишь. И никого не выдашь.
– Не уверена, что смогу…
– Ты должна смотреть дальше своего носа, Рейчел. Должна прежде думать о других.
Рейчел тут же перефразировала сказанное бабушкой:
– Должна постоянно заботиться об Амели.
– Да, – ответила Хильда. – Теперь ты за нее в ответе… она твой ребенок. Разве это так трудно?
– Если честно… да. Я не привыкла к этому. Дети требуют столько терпения… столько внимания с моей стороны.
Бабушка в притворном удивлении приподняла брови.
– Я имею в виду, что никогда не присматривала за детьми. И уж точно не имела опыта общения с глухим ребенком.
– Неужели это настолько тяжело?
Рейчел убрала руку.
– Мне нет еще и двадцати пяти. Я не хочу…
– Мы все делаем то, что нам не хочется, дорогая.
– Ты не хочешь, чтобы я здесь оставалась?
Рейчел была не в силах справиться с растущим в груди негодованием – знакомой горечью предательства.
– Не перекручивай мои слова. Конечно, я хочу, чтобы ты тут осталась. И Амели тоже. – Старушка вздохнула. – Мне просто хотелось бы, чтобы это случилось при других обстоятельствах. – Она скрестила руки на груди. – Но мы должны принимать вещи такими, какие они есть – радоваться тому, что мы вместе, и жить полной жизнью. И мы все должны чем-то жертвовать… с готовностью. – Бабушка ласково улыбнулась, но оставалась непоколебимой. – Это называется милосердием, моя дорогая.
32
Лия разложила ноты, предвкушая приход учеников. Поставила тарелку с нарезанным небольшими кусочками яблочным штруделем и кувшин молока на учительский стол – чтобы видел весь класс. Так уж повелось, что дети старались петь еще лучше, если перед глазами у них было угощение. Несколько матерей приносили продукты, чтобы Лия могла испечь что-нибудь вкусное для их детей и тех малышей, у которых не было семьи.
Лия любила баловать своих учеников, любила учить их петь – еще никогда работа не приносила ей такого удовольствия. Но сегодня ей было не до веселья. Сегодня ее мысли были заняты сестрой и бабушкой, Амели и Фридрихом.
Бабуля права. Когда вокруг столько запретов, Рейчел не в силах сохранять хладнокровие. Лия видела, что ее сестра старалась, но Рейчел – это вихрь, яркая бабочка, готовая вырваться из своего кокона. А теперь, когда появилась Амели, Рейчел перестала быть центром внимания… и не могла с этим легко смириться. Не в ее характере держать себя в руках или жертвовать собой, допускать, чтобы еще кто-то был центром внимания.
Лия вздохнула и бросила партитуру на крышку пианино. Все дело в том, что она отлично понимала Рейчел… понимала суть проблемы. Сама Лия тоже не хотела бы сидеть в тесном шкафу с человеком, который ее не слышит. Но это же ребенок! Разве можно не любить Амели? Сама Лия без всяких жалоб послушалась бы и была бы благодарна бабушке за приют. За то, что она спрятала ее.
Лия знала: Рейчел ничего не заслуживала… а раз так – не могла ни на что рассчитывать. Но сама Рейчел, похоже, ожидала, что все бросятся выполнять ее прихоти, ее желания. Сестра не говорила ничего подобного, но Лия была уверена, что она чувствует себя выше всех… даже выше бабушки.
Достаточно того, что она назвала их платья провинциальными, а уклад жизни – отсталым. Рейчел ахнула, когда поняла, что Лия не умеет краситься, не разбирается в моде. Она морщилась, глядя на добротные туфли Лии – туфли, которые носили все немки, шагая по мощеным улицам, взбираясь по крутым склонам холма.
Лия опустилась на стул перед пианино. Еще она должна признаться… по крайней мере, хотя бы себе самой, что она не очень любит свою сестру.
«Ох, Фридрих! Где ты? Мне нужно все с тобой обсудить. Нужно, чтобы ты увидел Амели и понял, что она могла бы для нас значить. Мне так нужно, чтобы ты был рядом, проявил свою силу там, где я слаба… просто чтобы ты был здесь. Где ты, моя любовь?»
– Фрау Гартман, вам нехорошо? – Неожиданно на пороге возник Максимилиан Гризер в новенькой форме гитлерюгенда. Через секунду он был уже рядом с Лией. – Я могу вам чем-то помочь?
Смутившаяся Лия встала, чувствуя себя в присутствии молодого человека на удивление неуютно.
– Ничем, Максимилиан. Я просто немножко устала, вот и все. – Она поправила ноты. – Боюсь, ты не вовремя. Ты что-то хотел? С минуты на минуту придут дети.
– Я хотел быть вам полезен. – Юноша подошел ближе… слишком близко. – Пока герра Гартмана нет, вам, наверное, время от времени нужна помощь.
Лия обошла пианино, направилась к письменному столу.
– У меня все хорошо, Максимилиан. Спасибо за беспокойство.
Юноша не отставал.
– Ради вас, фрау Гартман, я готов сделать что угодно. Надеюсь, вы это знаете. Я полностью в вашем распоряжении.
В класс тихо вошел отец Оберлангер, приходской священник.
– Спасибо, Максимилиан, но мне ничего не нужно, – ответила Лия. – У меня сейчас урок. А у тебя, наверное, есть другие заботы.
Гризер выглядел задумчивым и несчастным, но в конце концов кивнул.
– Только позовите.
Лия отвернулась, съежившись от его взгляда и откровенного любопытства отца Оберлангера.
Когда юноша ушел, отец Оберлангер произнес, оставаясь на месте:
– Надеюсь, юный Гризер вам не докучает. Партия прислала несколько членов местного гитлерюгенда, чтобы они присутствовали на службе. Не стоит его избегать.
Лия понимала, что это означает: власти хотели следить за теми, кто посещает церковь, за представителями духовенства. Отец Оберлангер ходил по лезвию ножа: с одной стороны, боялся вмешательства партии и доносов, с другой – вынужден был сотрудничать с ними, чтобы сохранить как можно больше свободы для церкви.
– Мне неловко в его присутствии, отче. Не уверена, что он ведет себя подобающе.
Священник вздохнул.
– В наши дни, насколько я могу судить, только гестапо знает, что подобает, а что нет, фрау Гартман. – Он собрался было уйти, но задержался у двери. – Постарайтесь не перечить Максимилиану. Это только… усложнит ситуацию. Эти юные гитлеровцы такие самодовольные, но на самом деле безвредные.
* * *
Через несколько минут в дверь класса нерешительно постучал курат Бауэр – он не был уверен, стоит ли беспокоить фрау Гартман, которая, похоже, молилась перед приходом детей. Отец Оберлангер пожаловался ему на нежелательное внимание к учительнице со стороны Максимилиана Гризера. Ей уж точно такое внимание было не нужно. Курат затаил дыхание, молясь о том, чтобы дети не вывели Лию из себя и не превратились в маленьких дьяволят, какими их представляла фрау Фенштермахер.
– Фрау Гартман! Я могу войти?
Она подняла голову, и курат заметил мокрые следы на ее щеках. Лия стыдливо вытерла слезы.
– Простите, курат Бауэр. Через минуту я успокоюсь.
– Не стоит стыдиться слез, фрау Гартман. Я и сам порой плáчу.
– Вы?
– Священникам тоже бывает грустно.
– Да… да… конечно. – Лия откашлялась. – Сейчас много поводов для грусти.
– Да, – кивнул курат. – Много. – Он стянул шерстяной шарф с большой деревянной прямоугольной коробки – коробки с красками, которую подарил ему сын Леви.
В глазах Лии вспыхнула признательность.
– Вы жена резчика по дереву, – улыбнулся курат Бауэр. – И разбираетесь в прекрасном.
– Изумительно! Какой цвет, структура! – Она провела рукой по гладкой поверхности. – Это масличное дерево?
– С самих Иерусалимских холмов. Отличная работа, никаких шероховатостей. Никогда не видел ничего более совершенного.
– Просто великолепно! Фридрих с удовольствием посмотрел бы на это.
– Это подарок ему. Вам обоим.
– Отче, это слишком дорогой подарок!
– Мне вручили его в знак высокого доверия. Содержимое коробки должно быть использовано для изображения чего-то ценного – чего-то святого. Не могу представить более достойных людей, чем вы с мужем, которые могли бы оправдать это доверие. – Священник улыбнулся. – Вы разрисовываете работы герра Гартмана, как уверяет Генрих Гельфман, а герр Гартман – лучший резчик в Обераммергау.
– Генрих Гельфман так говорит? Неужели? – Лия грустно улыбнулась.
– Да, я хотел сказать вам, что он приходил ко мне, чтобы исповедаться в том, что украл младенца Иисуса работы Фридриха, но упорно отказывается возвращать фигурку.
– А зачем он…
Курат Бауэр не смог ответить на этот вопрос. Он просто пожал плечами.
– Каждый раз, когда мы возвращаем фигурку, он опять ее ворует… или забирает еще одну. Похоже, Генриху нравится именно та, что стоит в витрине мастерской. Нам с вами необходимо с ним поговорить. Я постараюсь убедить его вернуть фигурку… в очередной раз.
– Только не сегодня, отче. Сегодня у меня нет настроения беседовать с Генрихом ни о чем, кроме его соло.
Курат Бауэр кивнул, вспоминая заплаканное лицо Лии, которое стало еще красивее.
– Я могу вам чем-то помочь, фрау Гартман? – Он широко развел руками. – Вы так много сделали для меня, для наших детей. Сочту это за честь.
Она открыла было рот, но остановилась, явно передумав. Потом произнесла:
– От Фридриха нет писем уже… уже слишком долго. Я боюсь…
Часы на церкви пробили три раза, и в класс заспешили ученики.
Лия вытерла слезы, выпрямила спину, глубоко вздохнула.
Курат Бауэр сжал ее плечо. Ее боль была ему знакома – и у него не было ответа. Он поклонился, шагнул к двери, давая возможность самым маленьким детям утешить фрау Гартман своими объятиями. Детские объятия – он знал это – лучшее лекарство для ее души!
33
На спинки скамей легли тени, когда курат Бауэр, поглощенный беседой с заезжим американским журналистом, поднял голову и заметил решительно шагающих по проходу бургомистра и Максимилиана Гризера.
Курат Бауэр никак не ожидал бургомистра сегодня. Откровенно говоря, из-за непреодолимых идеологических различий эти двое редко общались. Поэтому возникла определенная неловкость, когда священник познакомил мужчин друг с другом.
– Бургомистр Шульц, позвольте представить вам Джейсона Янга, который приехал, чтобы написать новую статью о нашей подготовке к предстоящему сезону «Страстей Господних». Герр Янг, знакомьтесь, наш бургомистр.
– Надеюсь, немного публичности вам не повредит, – произнес Джейсон.
– Постановке – да. – Бургомистр расправил плечи. – Очень любезно с вашей стороны, герр Янг. Но прошу меня простить… Курат Бауэр, я должен поговорить с вами… касательно постановки.
Однако курат Бауэр не хотел, чтобы прерывали их беседу с журналистом, и не мог скрыть, что удивлен неучтивостью бургомистра.
– Господин бургомистр, я буду к вашим услугам, как только покажу герру Янгу наш детский хор. Фрау Гартман с минуты на минуту должна закончить занятия. – Священник подхватил журналиста под локоть. – Это хор самых маленьких детей. У них великолепные голоса.
Бургомистр вновь вмешался:
– Пожалуйста, курат, до того как вы продолжите беседу с герром Янгом… Это займет всего секунду. Может быть, Максимилиан проводит нашего гостя?
Джейсон округлил глаза, потом коснулся двумя пальцами лба в шутовском приветствии.
– Продолжим позже, курат. – Он протянул руку. – Приятно было с вами познакомиться, господин бургомистр. С нетерпением жду нашей встречи в более подходящее время.
* * *
Джейсон был бы несказанно рад, если бы распрощался с юным гитлеровцем у двери. Надежда, что ему удастся встретиться с Лией Гартман без свидетелей, оказалась напрасной.
– Значит, вы патрулируете церковь? – поинтересовался Джейсон.
Ему показалось, что мальчишка шагает с таким видом, как будто он здесь хозяин.
– Я служу там, где больше нужен, – ответил Гризер высокопарно. – Отнеситесь к фрау Гартман со всем надлежащим уважением, герр Янг.
Джейсон едва не прыснул от повелительного тона юнца. Но он не испытывал к Лии Гартман ничего, кроме уважения, и очень надеялся оказаться у нее в долгу.
– Разумеется, – пообещал он серьезно.
Как только они вошли в ту часть церкви, где располагалась школа, их тут же увлекли звуки пианино, и до слуха Джейсона донеслись сладкие голоса. «Курат Бауэр был прав… они поют, как ангелы».
Джейсону так не терпелось увидеть сестру Рейчел – узнать, насколько она похожа на свою сестру-близнеца в реальной жизни, – что он решился преградить Гризеру путь к двери в класс. Журналист понимал, что его приход отвлечет и учеников, и их учительницу.
– Позвольте минутку-другую насладиться музыкой.
Гризер нахмурился и уже набрал воздуха в грудь, чтобы дать достойный ответ, но Джейсон прикрыл глаза, прислонился к стене, не обращая внимания на вспышку юношеского раздражения. Прошла минута. Джейсон слышал, как юный гитлеровец нервно топчется рядом, но глаз не открывал. Музыка по ту сторону двери парила, словно на крыльях ангела. «Неужели в современной Германии может быть что-то более чистое, более красивое, более настоящее?»
– Правда, это истинное таинство? – прошептал курат Бауэр на ухо Джейсону, как будто прочел его мысли.
– Не слышал, как вы подошли, курат. – Джейсон досадовал на себя за упущенную возможность побеседовать с сестрой Рейчел наедине и расстроился из-за того, что курат застал его врасплох.
– Я научился бесшумно ходить по коридорам. – Священник наклонился ближе и откровенно сказал: – Не хотелось вам мешать. Когда дети поют, меня уносит от… от… – Курат Бауэр грустно улыбнулся и отступил. – Я забываю себя.
– В наши дни это непозволительная роскошь, не так ли, курат? – произнес Джейсон.
– Да, непозволительная. Мы многое не можем себе позволить.
Священник выглядел обеспокоенным, как будто с тех пор, как Джейсон его оставил, на него взвалили какой-то груз. У бургомистра был такой вид, словно он прибыл по поручению. Неприятности со «Страстями Христовыми»? В сложившейся политической ситуации Джейсон ничуть бы не удивился, если бы постановку отложили… или отменили.
Музыка замерла. Джейсон слышал, как учитель обращается к классу, слышал веселые крики «ура». Потом – возня у двери и вновь тишина.
– Сейчас детей покормят штруделем с молоком. Герр Янг, ваш черед.
Курат Бауэр слегка улыбнулся и открыл дверь.
* * *
Лия очень любила эти полчаса после занятий. Ее маленькие подопечные выглядели такими невинными, несмотря на незаправленные рубашки и разбитые коленки. Их голоса звучали, как струны хорошо настроенной арфы, однако после заключительного «аминь» малыши ястребами бросались к блюду с угощением.
Во время еды дети ставили локти на стол. Очень быстро у них вошло в привычку делиться с Лией забавными происшествиями, тайнами, иногда тревогами, которые омрачали их день. Это было для нее самой прекрасной музыкой.
Генрих Гельфман начал рассказывать ужасную, если только не вымышленную (Лия молилась об этом!) историю о том, как вывел у дяди в сарае целое полчище крыс. Девочки визжали, мальчишки хлопали Генриха по спине и повторяли «Молодец!», оценив и выдумку, и грубую откровенность рассказа.
Лия подняла голову: интересно, как долго курат Бауэр с незнакомцем стояли в дверях? Веселье стихло. Инстинктивно Лия положила руку на плечо Генриха, мысленно с мольбой обращаясь к Иисусу, чтобы курат не услышал о попытках мальчика избавиться от грызунов.
– Фрау Гартман, позвольте представить нашего гостя. Мистер Янг приехал сюда, чтобы написать историю о наших «Страстях Христовых» – о том, каким образом постановка влияет на нашу жизнь. – Курат отошел в сторону. – Он только что наслаждался плодами вашего труда.
Лия стояла, робко улыбаясь, явно смущенная вниманием и неожиданным визитом и встревоженная оттого, что имя гостя показалось ей знакомым.
– Герр Янг.
Джейсон побледнел. Он хотел было что-то сказать, запнулся и в конце концов произнес:
– Прошу прощения… фрау Гартман? – Это прозвучало как вопрос.
Лия поймала любопытный взгляд курата Бауэра – поведение журналиста было странным. Она почувствовала, как зарделась. «Это тот человек, который прислал сюда Амели? Тот, кто помогал Рейчел нас разыскать? Прошу, Господи, не позволяй ему нас всех выдать!»
– Это самые юные солисты хора в Обераммергау. – Она широко улыбнулась ученикам, надеясь переключить на них внимание журналиста.
Но он, казалось, не мог оторвать взгляд от ее лица.
Между ними встал курат Бауэр.
– Фрау Гартман совсем недавно руководит нашим хором неуправляемых непосед. Мы очень ей за это благодарны.
Казалось, что священник давал Джейсону Янгу время собраться.
– Отлично. – Журналист достал из кармана блокнот. – Курат говорит, что вы потрудились на славу.
– Золотые сердца и прекрасные голоса – работа мне только в радость, – сказала Лия, – даже когда дети немного шалят. – Она изогнула бровь, глядя на Генриха, который тут же залился румянцем.
Малыши начали ерзать на местах, и Лия добавила:
– Если у вас есть вопросы к детям, герр Янг, прошу, задавайте их прямо сейчас. Матери уже ждут их дома.
– Ясно. – Он покачал головой, как будто пытаясь разогнать туман, и наконец-то сосредоточился на детях. – А давай-ка начнем с тебя!
Он указал на Генриха. Остальные малыши захихикали и стали подталкивать друг друга локтями.
Лия снисходительно улыбнулась. Как только Генрих заговорил, остальные с готовностью стали дополнять то, что он рассказывал.
Пока Джейсон беседовал с Генрихом, курат Бауэр отвел Лию в сторону.
– Я хотел у вас кое о чем спросить, фрау Гартман, но увидел, как ведет себя этот молодой человек, поэтому боюсь, что мой вопрос покажется вам бестактным.
Лия покраснела.
– После всего, что я вам наговорила, курат, – прошептала она, – мне кажется, вы можете спрашивать обо всем без колебаний.
Курат Бауэр нахмурился.
– Смею думать, что это правда. В таком случае, надеюсь, вы скажете прямо… насколько приемлема для вас моя просьба. – Он повернулся спиной к журналисту, закрывая Джейсона Янга от Лии. – Герр Янг хочет остаться сегодня на ночь в Обераммергау и, наверное, в будущем еще пару раз… чтобы взять несколько интервью. Он собирается время от времени возвращаться сюда, следить за развитием событий. Я удивлен, что гестапо это позволило, но, вероятно, они хотят, чтобы журналист изобразил наше отечество более сговорчивым. – Священник пожал плечами. – Как бы там ни было, я не знаю, к кому обратиться, чтобы его взяли на постой. Понимаете, герр Янг не обычный постоялец и не сможет заплатить. Члены труппы уже взяли себе постояльцев и требуют за постой немало денег. В этом году приехало столько народу: женщины, дети. Из городов в деревню.
– И вы хотите, чтобы я взяла герра Янга на постой?
– Я тут подумал, что вы собираетесь сдавать свой дом… а сами остаетесь у фрау Брайшнер. – Курат искоса взглянул на Джейсона Янга. – Но если эта просьба кажется вам странной…
– Нет-нет… мы с радостью возьмем его на постой. Бабушка говорит по-английски, поэтому ей будет полезно попрактиковаться. Если я буду время от времени пускать постояльцев, то смогу заработать, не отказываясь от собственного дома. Если Фридрих… Когда Фридрих вернется, мы переедем к себе. Да, так будет лучше: время от времени брать постояльцев, а не сдавать дом постоянно какой-то семье.
Курат Бауэр улыбнулся и пожал Лии руку, зажав ее между ладонями.
– Да благослови тебя Всевышний, дитя мое. Уверен, что Фридрих скоро вернется. Должен вернуться. – Курат вновь посмотрел на журналиста. – У него ужасный акцент, разве нет?
Лия улыбнулась. Если это тот, о ком она думала, у него наверняка есть план, как вывезти Рейчел из Обераммергау… из Германии… подальше отсюда. Зачем еще ему было рисковать?
Женщина убирала пустое блюдо – вылизанное до последней крошки, когда поняла, что, скорее всего, Джейсон Янг приехал, чтобы помочь и Амели уехать из Германии. У Лии тут же пересохло в горле. Она сглотнула, потом еще раз. «Помоги мне, Господи!»
34
Прогулка по деревушке в компании прекрасной Лии Гартман истрепала Джейсону нервы.
«Она копия Рейчел. Если переодеть Рейчел – одно лицо. Если бы они стояли рядом, я не отличил бы их друг от друга».
Однако выйдя из церкви и зашагав по деревушке, Лия Гартман изменилась. Идти она стала медленнее – чуть-чуть. Ее плечи поникли, а горящий еще несколько минут назад взгляд подернулся пеленой тревоги.
Обычно Джейсон не оказывал на женщин подобного эффекта, и, в конце концов, она была замужней фрау. Наверное, Лия боялась, что ее мужу не понравится то, что посторонний мужчина останавливался у них дома в его отсутствие. Скорее всего, она отказала бы священнику в просьбе и согласилась лишь из уважения к курату.
Пока они шли по улице, Джейсон искоса на нее поглядывал. «Знает ли она, кто я?»
Журналист ускорил шаг, заставляя себя дружески улыбаться. Чем быстрее он завоюет доверие Лии Гартман, тем быстрее увидит Рейчел и Амели. И тем раньше узнает, готовы ли Лия с бабушкой на жертвы.
* * *
Бабушка уже подоила корову и отделила сливки. Обвязав шею теплым шарфом, она вышла во двор и в вечерних сумерках заметила Лию. Хильда совершенно не удивилась, когда ее внучка вошла в ворота вместе с красивым американцем. В глубине души старушка ожидала появления Джейсона Янга, просто не могла представить, как он добьется направления в Обераммергау, не вызвав подозрения. Просьба местного священника оказать американцу радушие была искренней – и не имеет значения, как тому удалось сюда добраться.
– Разумеется, вы выпьете с нами кофе и останетесь на ужин. У нас так принято, – произнесла Хильда.
Из того немногого, что успела рассказать Рейчел, бабушка знала: этот человек здорово рисковал, помогая ее внучке и Амели. Старушка не верила, что янки совершал эти поступки исключительно из благородства. Любой мужчина влюбился бы в ее внучку. И разве может человек, у которого есть хотя бы половинка сердца, отказаться помочь Амели?
– Принесите дров, герр Янг. – Хильда указала на охапку дров за дверью. – Я приготовлю кофе.
– Очень любезно с вашей стороны, фрау Брайшнер, оказать мне такой радушный прием.
– В это время в Обераммергау собирается довольно много народу.
– Вы имеете в виду, из-за постановки?
– Из-за постановки, из-за войны. – Бабушка оглядела гостя. – Количество умелой обслуги выросло.
– Бабушка имеет в виду, что из городов бегут матери с детьми, – вмешалась Лия. – Здесь в деревне больше еды. Многие жители берут себе постояльцев: селят их в домах и даже в магазинах и сараях. Мы всегда будем рады принять вас у себя, когда вы вернетесь в Обераммергау, чтобы взять интервью.
– Danke schön[37], – поклонился американец.
– Bitte schön[38], – улыбнулась Лия. – Вы хорошо говорите по-немецки.
Джейсон засмеялся.
– Но с чудовищным акцентом! Пожалуйста, не стоит притворяться… мне самому это известно.
Бабушка улыбнулась. «Такой мужчина не может не нравиться».
– Мы рады, что вы приехали, герр Янг. Только не забывайте: мы народ «Страстей Христовых». Мы предлагаем радушие и убежище – милосердие – для нуждающихся и ожидаем того же от других.
– Народ «Страстей Христовых» – такого я раньше не слышал.
– Услышите еще, если узнаете нас получше. Для всех нас, живущих в Обераммергау, «Страсти» – это профессия, мы зарабатываем представлением на жизнь. Для некоторых из нас это целая жизнь и выполнение обета, данного Господу нашими предками. А для кого-то – например, для нас – способ выполнить собственные обещания Всевышнему. Так мы учимся у Христа.
– Я совершенно незнакомый вам человек, а вы впустили меня в дом? – процитировал Джейсон, склоняя голову набок.
Бабушка с улыбкой кивнула.
– Ja. Значит, мы понимаем друг друга. – Она указала на дверь кухни. – Давайте зайдем в дом. Нам есть что обсудить, не так ли?
* * *
Рейчел трудно было сказать, кто больше обрадовался встрече: Амели или Джейсон, когда эти двое увидели друг друга. Джейсон присел, и девочка бросилась ему в объятия – глазки малышки сияли, как свечи на новогодней елке, она что-то лепетала. Даже бабушка ахнула.
– Как дела у моей самой лучшей девочки? – Джейсон подхватил Амели и закружил с ней по кухне, крепко прижимая малышку к себе. – Тебя тут не обижают?
Рейчел знала, что Амели не слышит ни звука, но, казалось, она отлично понимала, что говорит Джейсон. Эти двое обменялись несколькими простыми знаками – как будто у них был собственный секретный язык. Амели радостно засмеялась, словно услышала самую смешную шутку на Бродвее.
Наконец Джейсон присел за стол и огорошил их новостями.
– Завтра вечером Гитлер выступает в Мюнхене. Весь город кишит нацистами. Очень рискованно вывозить вас отсюда, но сейчас все заняты безопасностью фюрера. Они не станут искать женщину средних лет, которая едет в поезде… и детей тоже не станут искать.
Но Лия воскликнула:
– Амели не может остаться незамеченной! Слишком быстро станет очевидным, что у нее проблемы со слухом.
– Все правильно… вместе они ехать не могут.
– Но вы же сами с ней не поедете! – сказала бабушка. – Американец с немецким ребенком…
– Они тут же меня остановят. – Джейсон перевел взгляд с одной женщины на другую, погладил Амели по голове. – Ящик уже сработал. Мы могли бы…
– Нельзя ее опять сажать в ящик! – воскликнула бабушка. – Видели бы вы, что с ней было. Она была напугана!
Джейсон откинулся на спинку стула, продолжая держать Амели на коленях, но поднял руку в знак того, что сдается и ждет другого предложения.
– Зато она осталась жива, бабушка, – прошептала Лия.
Хильда подняла голову.
– Вот уж никогда бы не подумала, что ты согласишься на…
Лия сглотнула вставший в горле ком, не сводя глаз со спины Амели.
– Я не хочу, чтобы она вообще уезжала. Но мы не знаем, как долго сможем ее прятать; и если, как утверждает герр Янг, в Берлине ходят слухи о вторжении в Швейцарию… Того, чтобы Амели осталась в живых, я хочу больше, чем того, чтобы она была со мной.
Джейсон поднял взгляд на Рейчел, которая продолжала стоять в дверях кухни.
– А ты почему молчишь? Что думаешь?
– Все это так неожиданно.
Рейчел почувствовала одновременно прилив адреналина и неуверенность, к которым примешивалось растущее влечение к Джейсону. Она хотела, чтобы остальные покинули комнату, оставили их наедине, дали им возможность поговорить. А еще ей хотелось убрать у него со лба прядь волос песочного цвета, которая постоянно падала ему на глаза.
Джейсон выдержал ее взгляд.
– Что скажешь о том, чтобы снова посадить Амели в ящик? Или есть иной способ ее замаскировать и отправить с тобой… по крайней мере в том же вагоне, в котором будешь ехать ты?
– Нет, – произнесла Рейчел слишком поспешно. Ей не хотелось отвечать за Амели. – Не думаю, что мне удастся сделать так, чтобы она вела себя тихо. А еще я… У меня не получается с ней общаться.
– Я тоже так думаю, – сказала Лия. – Это было бы опасно для них обеих.
– Настойка опия, – негромко произнесла бабушка. – Мы давали ее младенцам в больницах во время последней войны. Чтобы они спали.
Лия прищурилась.
– Но…
– Можно дать девочке ровно столько опия, чтобы бóльшую часть времени она спала, но чтобы доза не превышала допустимую норму и не повлекла за собой необратимых изменений. От опия Амели не только проспит несколько часов; еще ей не будет так страшно в ящике.
– И как мы отошлем этот ящик? – поинтересовалась Лия.
– Это могут быть мои вещи – часть багажа. Нужно взять сундук, а не ящик.
Все это напоминало Рейчел пьесу.
Но бабушка была против.
– Если ты вызовешь подозрение, немцы обыщут твой багаж. А это выдаст вас обеих.
– Можно использовать работы Фридриха, – предложила Лия.
– Что-что?
– Когда доставили ящик с Амели, я первым делом подумала, что это древесина для Фридриха – просто ее принесли не по тому адресу. – Лия подалась вперед. – Рейчел могла бы путешествовать одна – по крайней мере, как женщина средних лет, на имя которой у нее есть документы. А я могла бы ехать с ящиком. Мы оборудуем для Амели отделение, как сделали это в шкафу, а сверху положим вырезанные фигурки. Я сделаю вид, будто собираюсь продать работы мужа и найти новых клиентов. Я, наверное, могла бы отвезти их в Австрию, даже в Швейцарию. – Она повернулась к Рейчел. – Мы могли бы там встретиться… или ты могла бы у меня что-то купить, и я бы нацепила на ящик новый ярлык, чтобы багаж ехал дальше с тобой.
Рейчел не верила, что Лия готова пойти на подобный риск.
– Если немцы узнают, они…
– Со мной они поступят не более жестоко, чем поступили бы с тобой… или с Амели. А так я смогла бы заботиться о ней в дороге.
Бабушка прижала ладони к щекам. В ее глазах заблестели невыплаканные слезы.
– Это очень опасно – для всех вас. Неужели нельзя все оставить как есть?
Джейсон усадил Амели на другое колено.
– Это еще не все новости из Берлина. – Он взглянул на Рейчел.
У девушки пересохло во рту.
– Отец?
Джейсон кивнул, пытаясь поймать ее взгляд.
– Рассказывай. – Рейчел решительно встала. – Рассказывай нам все.
Джейсон поделился с женщинами тем, что ему удалось узнать: доктор Рудольф Крамер умер от сердечного приступа после допроса в тюрьме.
Рейчел могла себе только представить, какие ужасы происходят на допросах, проводимых такими людьми, как Герхард и компания. Но ее отец не мог сказать того, чего сам не знал. Неужели она предала его? «Но как мне самой жить с предательством отца? С собственной глупостью – неспособностью догадаться, что они с мамой использовали меня? Как мне жить, зная, что он никогда меня не любил… что я была для него всего лишь подопытной крысой?»
Девушка отвернулась, не желая плакать, лить слезы из-за этого никчемного человека, но все же не смогла сбросить давящий камень с души. Рейчел надеялась, что ее отцу не пришлось долго страдать. Как ни печально, но все, во что она верила еще три месяца назад, оказалось неправдой. Ложь о ее приемных родителях…
Рейчел услышала скрип стула, и маленькие ножки Амели побежали по полу. Джейсон обнял девушку за плечи. Она повернулась к нему лицом, радуясь тому, что оказалась в его объятиях.
* * *
Сразу после полуночи водитель Герхарда Шлика остановился рядом с недавно выкрашенными бараками на околице Обераммергау. Шофер открыл дверь и почтительно отошел в сторону.
Герхард взглянул на часы, подсветив себе зажигалкой. Улицы деревушки «Страстей Христовых» окутывали темнота, сон и тишина. Герхард вышел из машины и улыбнулся.
Чем больше он об этом размышлял, тем сильнее убеждался, что этот Джейсон Янг каким-то образом связан с Рейчел и ее семьей, живущей в Обераммергау. Пришлось немного попугать человека по фамилии Элдридж, чтобы получить у него необходимую информацию. Герхард покачал головой, дивясь наивности американского журналиста. Гитлеру следует оставить их в Германии потехи ради, если больше они ни на что не сгодятся.
Очередной телефонный звонок – и Герхард уже знал все, что ему было нужно. Но это было слишком просто. Если Янга с Рейчел связывают более запутанные и близкие отношения, чем кажется на первый взгляд, подобный звонок мог бы склонить чашу весов не в его пользу.
Примечательно, что Янга перевели в Мюнхен именно в тот момент, когда фюрер праздновал годовщину своей речи во время «пивного путча»[39], которую он произносил в 1923 году. Репортеры обязательно захотят написать статьи о ранних попытках Гитлера поднять массы и захватить власть. Самому же Герхарду было приказано давать официальные комментарии.
Он сунул револьвер в кобуру. Когда взгляды всей Германии прикованы к Мюнхену, никто не ожидает рейда в маленькой деревушке.
Герхард отправил в Обераммергау части СС с собаками. Солдат нужно было расселить в бараки и быть начеку. На заре они поприветствуют Обераммергау так, что местные не скоро их забудут. Полуночные рейды нагоняют страх, но слишком часто позволяют скрыться в темноте.
Шлик нетерпеливо облизал губы. Когда деревушка только-только начнет просыпаться, он включит сирены и спустит собак. Они обыщут каждый дом, каждый сарай, каждый магазинчик и церковь, школу, каждый квадратный сантиметр. Если Рейчел Крамер прячется в Обераммергау, он обязательно ее найдет.
Перед отъездом из Берлина Герхард в последний раз позвонил во Франкфурт. Врачи согласились, что еще слишком рано закрывать дело. Однояйцевых близнецов не так-то уж много, чтобы преждевременно заканчивать эксперимент – особенно такой продолжительный и особенно в свете новых обстоятельств, которые обнаружил Герхард.
Но времени у него в обрез. Доктор Менгеле уже предложил поставлять из концентрационных лагерей новые пары близнецов для его экспериментов – экспериментов, которые не подобает проводить над людьми с арийской кровью. Врачи полагают, что гены Герхарда все еще представляют интерес… пока он в расцвете лет. Доктор Менгеле сам посмеялся над своей шуткой. Герхарду же было не до смеха.
Он не собирался позволить Рейчел Крамер в очередной раз выскользнуть у него из рук. И дело не в том, что он пытался угодить «добрым» докторам, благодаря чему его ждало повышение в СС, или не мог найти другую женщину. Красавиц, готовых исполнить любое его желание, было пруд пруди. Но найти и приручить Рейчел Крамер стало для Шлика вопросом самолюбия, венцом охоты – делом чести. Он бы с радостью распял всех тех, кто ей помогал.
Герхард натянул перчатки и улыбнулся. «У ваших “Страстей Христовых” будет подходящий новый эпизод».
35
Джейсон задержался до начала комендантского часа – помогал Лии сбивать деревянный ящик. Она сказала, что этот ящик был меньше того, в котором приехала Амели. Лия устлала его мягкими одеялами, положила даже новое вязаное розовое одеяльце, которое, как подозревал Джейсон, связала для ребенка своей мечты. Но из добытых Рейчел документов он отлично знал, что никакого ребенка у Лии никогда не будет.
Лия ловко управлялась с деревом – научилась у мужа – и знала, как сделать так, чтобы крышка плотно закрывалась, но в то же время ее легко можно было снять.
Джейсону становилось не по себе, когда он думал о том, что сам посылает на такое опасное испытание двух своих самых любимых девочек – одна была так красива, что он едва мог дышать, когда она была рядом с ним, а вторая так мала и уязвима, что ему хотелось остановить время, чтобы уберечь ее невинность.
Впервые Джейсон почувствовал, что понял значение словосочетания «дорогое милосердие» – жертвенная жизнь и смерть. Он лишь молился, чтобы не сделать глупость, чтобы Господь позаботился о Рейчел и Амели, приглядывал за ними. Джейсон помолился за Рейчел, когда отправлялся в свою комнату в доме Гартманов, и сделал пару снимков на новой пленке: на одном запечатлел Рейчел, которая держит Амели, обе улыбаются друг другу; на другом Амели тянет ручки к лицу Рейчел, а та смотрит на Джейсона. Если он не ошибался, в глазах девушки было все, на что он надеялся.
* * *
Когда сестры попрощались и бабушка со слезами на глазах отпустила Рейчел, пообещав, что обязательно разыщет ее после того, как закончится безумное правление Гитлера, над горами забрезжил серый рассвет – сначала пополз туман цвета лаванды, потом на небе появились все оттенки розового, позже – янтарного и, наконец, цвета дыни. Мычание коров на окраине деревушки, звон их колокольчиков ознаменовали утреннюю дойку.
Рейчел, прикрыв глаза и съежившись от холода, спустилась по холму и пошла по деревушке к вокзалу. Девушка чуть-чуть согнулась, стараясь имитировать неровную походку женщины средних лет, страдающей ревматизмом. Рейчел была даже рада идти не спеша. Ей хотелось впитать каждый звук, посмаковать каждый запах, каждый нюанс Обераммергау, этого окошка в мир ее матери – ее настоящей матери, – а также в мир ее бабушки и сестры.
Было очень важно выбраться из деревни. Если ее остановят, то, скорее всего, здесь, где каждый новый человек на виду.
Лия утверждала, что на первый поезд до Мюнхена будет мало пассажиров. По ее словам, как только они достигнут большого города, там проще будет затеряться. Никто их не узнáет. Они должны продолжать делать вид, будто незнакомы друг с другом. Рейчел не должна снимать грим, и ей следует всегда быть настороже. Они не смогут дышать спокойнее, пока не достигнут границы со Швейцарией, пока не убедятся в том, что предъявленные ими документы не вызвали никаких подозрений у нацистского патруля.
Лия выйдет из дому через полчаса. Лучше, если односельчане увидят, что она уезжает по каким-то делам. Могут, конечно, поползти слухи о том, что женщина пытается продать работы своего отсутствующего мужа, но во время войны чего только не случается.
Больше всего Рейчел волновало пересечение границы. У пограничников наверняка есть ее фото, скорее всего, ее до сих пор ищут. Но если нацисты полагают, что Рейчел попытается добраться до Обераммергау, возможно, они будут следить и за перемещениями Лии?
Джейсон же думал вот что: идея Лии принять участие в их операции ему не нравилась, но он был согласен с тем, что ее действительно трудно в чем-то заподозрить. Ее ничто ни с кем в поезде не связывает, поэтому это может спасти Амели.
Рейчел купила билет и уже собиралась садиться в вагон, как вдруг услышала за спиной:
– Фрау Гартман!
Девушка постаралась не смотреть на румяного священника, протягивающего Лии руку. Рейчел заняла место в вагоне и немного приопустила окно, чтобы слышать разговор.
– Курат Бауэр, guten Morgen! – Лия пожала священнику руку.
– Вы сегодня рано встали. – Курат кивнул на багаж. – Куда-то уезжаете?
– Ja, ja. Хочу посмотреть, что можно продать из работ Фридриха, заработать немного денег, чтобы преодолеть временные затруднения, пока муж не вернется.
Участие – или недоверие, как показалось Рейчел, – промелькнуло в глазах священника. Он пристально смотрел на Лию, как доктор, который ищет симптомы гриппа.
– Хорошая… просто отличная идея.
«Жалость… он смотрит на нее с жалостью!»
– Я тоже собираюсь в Мюнхен… всего на один день. – Курат колебался. – О детях не волнуйтесь. Завтра я сам проведу репетицию. Ничего страшного, если сегодня одного урока не будет.
– Ja, конечно! Danke, курат Бауэр. Следовало сначала поговорить с вами. Мне очень жаль.
– Не стоит извиняться. Уверен, что мы справимся. Я попрошу фрау Фенштермахер помочь мне до конца недели. Или даже на следующей. Вы же не задержитесь дольше, нет?
– Nein, nein. Я еду всего на пару дней – продать все, что смогу, перед Рождеством, на рождественских ярмарках.
Священник вглядывался в лицо женщины, в его голубых глазах застыли жалость и вопрос. Он подхватил сумку Лии, и они вошли в вагон.
Рейчел выдохнула (хотя сама не заметила, что сидела все это время затаив дыхание) и пересела ближе к концу вагона. Она положила свой чемодан на верхнюю полку, потом присела у окна и закрыла глаза, делая вид, будто дремлет, и надеясь, что никто не станет докучать ей разговорами.
Тянулись минуты, и хотя Рейчел знала, который час, ей казалось, что поезд опаздывает. Она скорее чувствовала, чем видела, что вагон наполняется людьми и свежего воздуха становится все меньше и меньше. Кондуктор дал свисток, последний раз крикнул, что поезд отправляется, и тиски, сжимавшие легкие Рейчел, ослабли. И тем не менее поезд не трогался.
Она взглянула из-под ресниц. Лия сидела в шести рядах впереди нее – Рейчел ни с чем не могла бы спутать косы медового цвета, уложенные на макушке.
В начале вагона стояли два эсэсовца. Все головы повернулись в их сторону. Руки пассажиров автоматически потянулись за сумочками и во внутренние карманы пальто за документами. У каждого должны быть документы, каждый обязан по требованию предъявить их, каждый постоянно должен иметь при себе удостоверение личности.
Еще до того, как эсэсовцы к ней приблизились, Рейчел знала, что их целью является Лия. Именно она была причиной задержки поезда и испуга местных жителей. Нацисты намерены разыграть сцену, представление. Их неспешное приближение по проходу к ее сестре тоже было частью прекрасно поставленного спектакля.
Рейчел открыла кожаную сумочку. Когда она достала документы, мужчина – священник, который разговаривал с Лией, – встал, блокируя эсэсовцу дорогу. Присутствующие подивились храбрости священника.
– В чем причина задержки, роттенфюрер[40] Фондгаурдт? Вы же нас знаете. Вы же видите, здесь все местные. Вы уже десяток раз проверяли наши документы.
– Сядьте, отче. – Эсэсовец хлопнул священника по плечу и толкнул его, чтобы тот опустился на место, а сам продолжил медленно двигаться по проходу.
Рейчел заставила себя дышать глубоко, ровно, чтобы сердце не выскочило из груди, заставила себя не обращать внимания на угрозу, затаившуюся на лице немца.
– Фрау Гартман. – Эсэсовец остановился. – Давно вас не видел в этом поезде. Разрешите поинтересоваться, куда вы собрались этим прекрасным утром?
Даже Рейчел видела, что он с ней играет. Но Лия ответила на сарказм:
– Я наконец-то решила воспользоваться советом нашего фюрера и посмотреть наше отечество.
– Вы праздно путешествуете по стране? В одиночестве? – Эсэсовец не выглядел удивленным.
Лия смущенно посмотрела по сторонам, ожидая помощи соседей. У Рейчел участился пульс, когда она поняла, что ее сестра была куда лучшей актрисой, чем можно было бы ожидать.
– Если хотите знать, господин роттенфюрер, я собираюсь продать работы своего мужа. – Лия храбро вздернула подбородок. – Я уже несколько недель не получала от него весточки и вынуждена продать его работы, чтобы позаботиться о нас с бабушкой.
– Значит, – проворчал нацист, не обращая внимания на ее признание, – наша маленькая руководительница хора – пчелка, которая настолько занята, что ей некогда вступить в Женскую нацистскую партию, – решила проехаться по рейху? Пока вовсю не разошлась зима? А не слишком ли вы загружены, фрау Гартман, репетициями детского хора – с будущими участниками постановки «Страсти Христовы», – чтобы отлучаться в такое время? Накануне Рождества?
Рейчел почувствовала, как сжалось сердце, во рту у нее пересохло. По глазам курата она видела, что они совершили ошибку. Лия никогда бы не оставила детей в такое время!
Рейчел уже начала было вставать, собираясь спасать сестру. Но не успела она и слова произнести, как курат вновь вскочил.
– Мы все устроили, герр роттенфюрер. Почему вас это беспокоит? Мы с фрау Фенштермахер будем заниматься репетициями до возвращения фрау Гартман. – Священник стал разыгрывать нетерпение, но Рейчел видела, что он действует на собственный страх и риск.
– Сядьте, отче. – Приказ прозвучал уже резче, у эсэсовца кончилось терпение. – Боюсь, что ваше присутствие крайне необходимо в Обераммергау, фрау Гартман. Вы, разумеется, понимаете, что дети не могут без вас обойтись. – Он улыбнулся одними губами; от его взгляда по спине Рейчел пробежали мурашки. – Для вас же важны дети, верно?
Рейчел услышала, как Лия невольно ахнула, и поняла, что в позе сестры что-то изменилось. Вот только что?
– Я всего лишь на пару дней, герр роттенфюрер, и сразу назад. Я выехала из Обераммергау впервые за несколько месяцев.
– С тех пор как ездили во Франкфурт, если не ошибаюсь. – Эсэсовец вздернул подбородок. – Думаю, что вам не стоит уезжать. Понимаете, мы очень ценим граждан рейха. – Он покачал головой и громко вздохнул. – Конечно, очень жаль, но Обераммергау не сможет обойтись без фрау Гартман – ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Я ясно выразился?
– Герр роттенфюрер, я прошу вас, пожалуйста, подумайте еще раз. Это всего одна поездка.
– Мы предпочитаем, чтобы наши пешки всегда находились на шахматной доске, где мы сможем их ясно видеть. – Нацист взял под козырек. – Сами покинете поезд, фрау Гартман, или вам помочь?
Рейчел мысленно молила Лию о том, чтобы та не артачилась, не вступала в спор, хотя она отлично знала свою сестру – сестру, которая казалась робкой тихоней и вдруг превратилась в решительную воительницу, когда речь зашла о безопасности Амели.
Лия встала в проходе.
– Вы приняли мудрое решение, фрау Гартман, – поддразнил ее эсэсовец.
Она не поднимала на него взгляда.
– Ваш багаж? – Он потянулся за чемоданом у нее над головой и поставил его у ног женщины.
Когда Лия нагнулась, чтобы взять его, эсэсовец откинул ее шляпку и погладил по волосам.
– Какие красивые баварские косы.
В душе Рейчел росли негодование и страх, но тут в разговор в очередной раз вмешался священник.
– Моя поездка может подождать. Я помогу вам, фрау Гартман.
Лия шагнула вперед, но роттенфюрер дубинкой перекрыл ей проход, не позволяя пройти.
– И больше не пытайтесь покинуть деревню.
Лия молчала.
Рейчел перехватила ее взгляд, полный страха и отчаяния, и поняла, что курат знает… он знает, что она что-то скрывает.
Лия и священник, подхвативший ее чемодан, сошли с поезда. Роттенфюрер Фондгаурдт следовал за ними по пятам. Не успела нога Лии ступить на платформу, как вновь раздался свисток.
Краем глаза Рейчел заметила, что начальник станции укладывает в товарный вагон последнюю сумку. Двое грузчиков начали складывать ящики и сундуки побольше. Один из грузчиков уже схватил ящик с Амели, но тут группа эсэсовцев приказала ему остановиться: они были намерены досмотреть багаж.
– А как же расписание?! – крикнул начальник станции.
Один из эсэсовцев достал пистолет. Начальник станции поднял руки и молча отступил. Роттенфюрер быстро шагнул к спорщикам.
Ящик, стоявший рядом с ящиком, в котором была Амели, вскрыли, его содержимое валялось на платформе. По ту сторону улицы с грузовиков соскакивали эсэсовцы. Свист поезда заглушали звон битого стекла и удары прикладами в двери.
«Рейд! Рейд!»
Рейчел и все, кто сидел в поезде, ахнули и прильнули к окнам.
Поезд, не дожидаясь, пока погрузят большие ящики, еще раз засвистел и тронулся с места. Рейчел встретилась с полным паники взглядом Лии, и в то же мгновение стоявший рядом с ней курат посмотрел прямо на Рейчел. Менее чем на секунду его глаза прищурились, потом расширились.
«Он знает!»
Облаченный в черное эсэсовец, стоявший в конце платформы, уже занес винтовку, чтобы разбить ящик с Амели. Один удар – и крышка лопнула прямо посредине. Лия закричала.
Рейчел достала свои документы и швырнула открытую сумочку под сиденье. Она что есть мочи закричала, соскакивая с подножки медленно набиравшего скорость поезда и бросаясь в объятия эсэсовца, который занес приклад над ящиком.
– Помогите! Помогите! Мою сумочку украли! В поезде вор! Остановите его! Пожалуйста, остановите его!
Эсэсовец оттолкнул ее в сторону, тремя широкими шагами догнал поезд и запрыгнул в него. Из поезда стали выпрыгивать мужчины и женщины. Они кричали, спотыкались друг о друга – и в этой неразберихе между бегущими пассажирами летала ручная кладь.
Рейчел продолжала вопить и отчаянно жестикулировать, когда еще два эсэсовца догнали отправляющийся поезд и заскочили в него. Остальные рассредоточились по улицам, наводнили деревушку, пока священник, ведомый Лией, потихоньку унес с платформы разбитый ящик.
36
Когда часы пробили семь, Джейсон услышал вдали гудок поезда. Журналист повернулся на бок, наконец-то отважившись глубоко вздохнуть. Он верил, что Рейчел, Лия и Амели благополучно следуют в Мюнхен и дальше на запад. Еще через час он закроет дом Гартманов, побеседует с парочкой местных жителей и сядет, как и планировал, на утренний поезд, который отправлялся немного позднее.
Но в семь ноль восемь по горной дороге проехал грузовик, взвизгнул тормозами под окнами и остановился.
Хлопнули дверцы автомобиля. Залаяла немецкая овчарка. Ей вторила еще одна. Паника прогнала из головы Джейсона остатки сна. Он натянул штаны, обулся. Журналист уже достиг лестницы, когда вспомнил о пленке, на которой он запечатлел Рейчел и Амели. Джейсон достал пленку из фотоаппарата и спрятал ее в мужской пиджак, висевший на крючке в коридоре, молясь только об одном: чтобы у Гартманов был фотоаппарат и этот пиджак принадлежал герру Гартману.
Эсэсовцы как сумасшедшие заколотили в двери – одновременно с парадного и черного хода. Джейсон, спотыкаясь, поспешил по лестнице, нащупывая пуговицы на своей одежде.
Он уже спустился на первый этаж и открывал задвижку, когда двери распахнулись и его отбросило к стене. И журналист тут же получил прикладом в челюсть.
В дом ворвались вооруженные солдаты с собаками. Повсюду слышались резкие, быстрые приказы. Солдаты обыскали дом, открыли все шкафы, разбили посуду, побросали на пол книги. Один из них подбежал к Джейсону, вытолкал его на середину комнаты и ткнул пистолетом в живот. Немец заставил Джейсона опуститься на колени, жестом показав, чтобы он держал сомкнутые руки за головой.
Джейсон поморщился, когда вверху стали переворачивать кровати и комоды. Черные сапоги топали по паркету в поисках тайников. С улицы раздавался звон бьющихся стекол, треск и грохот упавших с поленницы дров, остервенелый лай собак.
И в этом хаосе появился штурмбаннфюрер Герхард Шлик – непреклонный, с важным видом, победоносно растянув губы в улыбке.
Джейсон почувствовал, как у него в горле от злости и страха встал ком. «Успела ли Рейчел уехать? А что с Амели и Лией?»
– Герр Янг, насколько я понимаю, – произнес Шлик.
Джейсон видел, как в глазах эсэсовца неуверенность боролась с триумфом.
– Как разительно вы переменились со времени нашей последней встречи… вдали от берлинского бального зала.
– Вы тоже.
Едва заметная улыбка на лице Герхарда поблекла, когда он снова взглянул на Джейсона.
– Вы перешли все границы. Отвратительное поведение для гостя рейха.
– В наше время переходить границы – хороший тон.
– Но пистолет-то у меня! – Шлик обошел комнату по кругу. – Чудесно. Это один-единственный частный дом в Обераммергау, который удостоила честью зарубежная пресса. А теперь признайтесь, почему фрау Гартман пригласила такого гостя, как вы?
– Она никого не приглашала. Местный священник попросил ее сдать мне комнату – вероятно, решил, что фрау Гартман не помешают деньги, пока ее муж на фронте. Сомневаюсь, что хозяева почтут за честь наше с вами пребывание здесь.
– Похоже, вы многое знаете о семейных делах Гартманов, герр Янг.
– Работа такая: задавать вопросы. За это мне платят. А вы что здесь ищете?
Герхард стиснул зубы. Шагнул ближе.
– Задать вопрос – обычно самый простой способ получить ответ, – продолжал Джейсон, не отводя взгляда.
Казалось, Шлик задумался над его словами. Офицер прищурился, показывая, что он здесь главный, но отступил. В помещение ввалились эсэсовцы. Шлик махнул головой в сторону двери, и солдаты в форме так же быстро покинули помещение, как и вошли. Не оборачиваясь к Джейсону, Герхард пробормотал:
– А я, пожалуй, воспользуюсь вашим советом, герр Янг, и задам вопросы.
Он обратился к стоявшему рядом с ним солдату:
– Забирайте его.
Солдат схватил Джейсона, рывком поставил на ноги, заломив ему руку за спину, и стал толкать стволом винтовки к двери, на улицу, освещенную утренним солнцем.
* * *
Как только в деревне раздались первые крики, бабушка поспешила на улицу, прижимая руку к сердцу и быстро, отчаянно молясь.
Она оставалась во дворе, сжав зубы, чтобы они не стучали, пока СС обыскивали, раздирали ее опрятный домик – в очередной раз. Слава богу, что она вымыла посуду и спрятала ее, застелила кровати и замочила полотенца после того, как уехали ее внучки и Амели. Хильда часто слышала, что много грязной посуды, разобранные постели или большое количество белья подсказывали тем, кто обыскивал, истинное количество проживающих в доме людей. Но у нее ищейкам нечего было находить.
Мимо прошел штурмбаннфюрер Шлик – в каждом его шаге сквозило раздражение.
Старушка не поднимала глаз. «Они не нашли их, если до сих пор ищут».
Местные часы пробили час. Солдаты заскочили в грузовик, и машина тронулась. Бабушка разглядела бледный профиль Джейсона Янга, руки которого заломили за спину. Она ничем не могла ему помочь, не решилась показать, что они знакомы. Но всей душой Хильда молилась за него, внучек и Амели.
* * *
Медленно разгоралось утро. У бабушки не было сил убирать в доме.
Первой с разбитым ящиком вернулась Лия. Ее сопровождал курат Бауэр, который помог внести тяжелый ящик на кухню.
При виде живой и здоровой Лии бабушка заплакала от облегчения, но, увидев разбитый ящик, ахнула.
– Фрау Гартман заверила меня, что все фигурки хорошо упакованы и не сломаются, – подбодрил ее курат Бауэр. – Я бы с радостью помог вам их распаковать, чтобы посмотреть, можно ли починить разбитое…
– Nein, отче! В этом нет необходимости. Я сама этим займусь, – пожала плечами Лия. – Нам обоим теперь прекрасно известно, что я не могу уехать, чтобы их продать. – Она повернулась к бабушке. – Мне запрещено покидать деревню.
– Что? Почему?
Лия молча покачала головой, и бабушка заметила, как дрожат у нее руки.
Курат Бауэр расправил плечи.
– На вокзале… во всей деревне… просто сумасшедший дом. СС проверяют дома и магазины, крушат багаж… – Он осмотрел кухню, которую уже обыскали. – Здесь они уже побывали. – Священник перевел взгляд с одной женщины на другую. – Сожалею, фрау Брайшнер, что вам довелось это пережить. Вы не пострадали?
– Nein, отче. Со мной все в порядке. Я благодарна, что моя Лия цела.
Курат Бауэр рассеянно кивнул.
– Я не понимаю, что они ищут. Почему из всех жителей деревни изводят только вас? – Не получив ответа, он повернулся к Лии. – Знаю, вы рассчитывали выручить деньги от продажи работ герра Гартмана. Если вы с бабушкой в чем-либо нуждаетесь… возможно, мы могли бы попросить родителей тех малышей, кто ходит на хор, оплачивать уроки пения.
– Nein! – поспешно запротестовала Лия. – В этом нет необходимости. Откуда у них деньги?
Курат кивнул.
– Да, для всех настали тяжелые времена. Спасибо, что вы это понимаете, фрау Гартман. Если вы уверены…
– Если только, отче… – отважилась бабушка.
– Говорите, фрау Брайшнер. Я сделаю все, что смогу.
Старушка облизала губы. Просить было очень рискованно.
– Мы могли бы взять мясо… и овощи. Может быть, немного хлеба… сверх продовольственных карточек.
Брови курата поползли вверх.
– Бабуля, мы справимся… все ведь справляются! – воскликнула Лия.
Курат огляделся, посмотрел на женщин, как будто увидел их в новом свете.
Но бабушка стояла на своем и не прятала глаз. Она надеялась, что не совершает ошибки.
Из ящика донеслось странное поскуливание.
Курат Бауэр округлил глаза. Ни одна из женщин не полезла в ящик, чтобы посмотреть, что там, только Лия встала между ящиком и куратом. Прошло мгновение.
– Хорошо, – произнес курат. – Да, понимаю, вам может понадобиться больше продуктов.
– Мы могли бы продавать молоко – у нас же есть корова, – сказала бабушка. – Хоть немного молока…
– Но не слишком много, – ответил курат.
– Нет, разумеется, не слишком много, – ответила она.
– Я понимаю. – На его лице появилась усталая, но обнадеживающая улыбка. – Посмотрим, что можно сделать. – Священник взял свою шляпу и собрался попрощаться. – Вы должны быть осторожны. Очень осторожны. – У двери он повернулся и пожал бабушкину руку. – Храни вас Господь. Храни Господь вас обеих.
Лия открыла для него дверь кухни.
– Увидимся на занятиях, отче, как обычно?
– Как обычно. – Он улыбнулся уже шире, закрывая за собой дверь. – Слава Богу, что теперь мне не придется обращаться к фрау Фенштермахер! Не самый приятный был бы разговор!
* * *
Остаток дня бабушка с Лией баюкали все еще сонную Амели и места себе не находили из-за Рейчел и Джейсона. Девочке было приятно внимание, и, казалось, она нисколько не пострадала. Похоже, благодаря опию, которым напоила ее бабушка, Амели даже не поняла, какой ужас пережила, какой опасности подвергалась. И за это незнание обе женщины были благодарны.
К ночи наконец-то вернулась Рейчел. Весь этот холодный день она пряталась в алькове лютеранской церкви.
Когда Рейчел с Амели вернулись к ней под крыло, бабушка не могла скрыть радость:
– Благодарю тебя, Всевышний!
Она прижала к себе Рейчел. Слезы счастья струились по морщинистому лицу, когда Хильда растирала замерзшие руки внучки, раскачивая ее, как маленького ребенка, несмотря на то, что Рейчел была на голову выше бабушки. Девушка просто таяла в ее объятиях.
По глазам Лии старушка видела, что та испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, бабушка знала, что Лия совсем не рада тому, что вернулась ее сестра-близнец. Но ее восторженный рассказ о том, как Рейчел быстро придумала способ спасти Амели, рискуя собственной жизнью – жизнь Амели была поставлена выше ее собственной, – подтверждал то, что Лия восхищается Рейчел. «Это лишь начало – начало новой жизни для всех нас».
Только от Джейсона Янга не было весточки. И маловероятно, что она появится. И хотя бабушка пыталась успокоить Рейчел, девушка не могла говорить об американце – даже имени его не произносила, – настолько боялась за него. Она верила, что он никогда их не предаст, но за такую преданность ему придется дорого заплатить.
Весь вечер Рейчел и Амели не отходили от шкафа. Лия с бабушкой по очереди дежурили у занавешенных окон, ожидали затаив дыхание, не вернутся ли их мучители. Но никого не было.
Когда все в деревне затихло, Лия выскользнула на улицу – проверить свой дом. Вернулась она через час и только покачала головой: слишком больно было описывать то, что она там увидела. Бабушка и ее сжимала в объятиях, давая возможность выплакаться.
Когда часы пробили девять вечера, все четверо были уставшими до предела. Рейчел впихнула стеганое одеяло за фальшивую стену шкафа, даже не отваживаясь взбираться на чердак. Они с Амели свернулись калачиком и устроились как можно уютнее, хотя ни одна из них не могла лечь удобно в таком тесном пространстве.
Лия пошла к себе, бабушка – в свою комнату. Но как только все в доме затихло и прошел еще час, бабушка проскользнула в комнату Лии и села на кресло у внучкиной кровати.
– Не спишь?
Лия повернулась к ней.
– Разве можно заснуть? У меня такое чувство, будто я только и жду, что кто-то сейчас вломится в дверь. Рейчел подвергла нас ужасной опасности!
– Значит, мы в опасности, – негромко ответила старушка. – А когда мы не были в опасности, с тех пор как к власти пришли нацисты? – Она покачала головой. – Это чудо Господне, что вас не было дома, когда они приезжали – и это в первый же день, когда мы попытались вывезти Рейчел и Амели из деревни.
Лия открыла было рот, чтобы возразить, но бабушка дотронулась до руки внучки – нежное прикосновение, чтобы заставить ее замолчать.
– Рейчел и Амели спят в шкафу. Чего еще нам желать?
Лия вздохнула.
– Там для них безопаснее. Эсэсовцы в любой момент могут вернуться. Они часто так делают после рейдов: думают, что люди утратили бдительность.
– Ja, ja. Но ты же говорила, будто слышала их разговоры о том, что они отправляются в Мюнхен, что они уже и так опоздали, поскольку должны обеспечивать безопасность во время выступления герра Гитлера. Пока все это не закончится, эсэсовцы не вернутся. По-моему, мы могли бы разрешить Рейчел и Амели еще одну ночь провести в кроватях.
– Тебя не было на вокзале. Ты не видела, как нацисты крушили ящики. Амели могли убить… ее могли убить! – Лия отвернулась.
– Но ведь не убили же, – возразила бабушка. – Ты должна взять себя в руки.
Лия покачала головой, как будто сочла этот совет бесполезным.
– Рано или поздно они ее найдут, найдут их обеих. И что тогда будет с нами?
37
Джейсон провел языком по зубам. Нащупал обломанный кусок правого резца. Он не мог понять, где заканчивался его распухший бесформенный язык и начиналось горящее горло. Все в его голове превратилось в одну жалкую, опаленную путаницу.
Он попытался сесть на влажный пол тюремной камеры, но от боли, пронзившей ребра, у Джейсона перехватило дыхание – он тут же поморщился, и глаз вновь заныл, несмотря на то, что был полностью заплывшим. Джейсон мог себе представить, как он выглядит. Интересно, есть ли на его лице живое, без кровоподтеков место? Янг не сомневался, что его ребра сломаны, надеялся лишь на то, что легкое не пробито; дыхание у него стало свистящим. Если он когда-нибудь выберется из этой дыры, то отправится к докторам, чтобы те его подлатали.
Джейсон знал, что без еды он продержится довольно долго – ему и раньше приходилось голодать, когда заканчивались гонорары, но три дня без воды, постоянное яркое освещение в камере и каждый час – высокий звуковой сигнал по всем коридорам, чтобы заключенные не спали круглые сутки… Его разум больше не справлялся с этим. Еще никогда его не подвергали таким пыткам.
Но больше, чем физические муки, Джейсона убивало ожидание… осознание того, что придет охрана, осознание того, что Герхард Шлик, упивающийся победой с высокомерностью офицера СС, будет расхаживать вокруг стула, на котором будет сидеть Джейсон, допрашивать его снова и снова, приказывать своим мелким сошкам впечатывать стальные кулаки ему в лицо и тело, как будто расставляя знаки препинания после каждого вопроса, на который Джейсон отказался отвечать, а потом рывком поднимать его с пола и начинать все сначала.
Как только Янг выберется отсюда, он незамедлительно поведает миру о том, как нацисты допрашивают иностранных журналистов. Эта мысль очень беспокоила Джейсона. Эсэсовцы ведь должны предполагать, что молчать он не станет. Зачем они так рискуют? Или они сразу отошлют его в концлагерь Дахау? А может, его тело найдут в реке Изар?
Намного легче было бы сдаться, покончить со всем одним махом и признаться во всем. Но этого не случится. Это невозможно. Он никогда не расскажет эсэсовцам о том, о чем они хотят знать. Джейсон боялся одного: из-за его истощения и собачьего нюха нацистов может просочиться какая-то информация, он может обмолвиться, и это навредит ему, докажет его вину или приведет эсэсовцев к Рейчел и Амели.
«Господи Всевышний, – молился он, – не дай сему случиться! Спаси меня от меня самого. Спаси их. Помоги Рейчел найти выход…»
И как только его голова бессильно упала на грудь, охранник открыл дверь камеры и рывком поднял заключенного на ноги. Джейсон стиснул зубы – его челюсть неимоверно распухла. Для Герхарда Шлика начинался новый день.
* * *
В начале следующей недели курат Бауэр вернулся из Мюнхена послеобеденным поездом. Священник поспешил вверх по холму, к дому фрау Брайшнер, намереваясь встретиться с Лией после уроков хорового пения. Новости, которые он узнал, нельзя было сообщать при детях. Курат вообще не хотел бы приносить таких новостей.
Когда Лия вернулась в кухню бабушкиного дома, светомаскировочные шторы были уже плотно задернуты, а на столе горела лампа. Курат затаил дыхание, не зная, с какой из новостей начать.
– Курат Бауэр! Я полагала, что вы сегодня поехали в Мюнхен, – сказала Лия.
Ни курат, ни бабушка ничего не ответили.
Лия повесила пальто и шарфик на крюк у двери.
Курат встал, предложил Лии стул.
– Присаживайтесь, пожалуйста, фрау Гартман, – посоветовал он. – У меня для вас новости.
Бабушка налила чай и придвинула внучке чашку.
– Рассказывайте!
– Я узнал, что сегодня должны освободить герра Янга. Но методы допроса штурмбаннфюрера Шлика настолько… таковы, что нашему другу потребуется время на то, чтобы полностью восстановиться.
Курат намеревался предупредить, предостеречь женщин. Ему вовсе не хотелось, чтобы они испугались и перестали делать то, что уже делали… А возможно, они согласятся и на большее.
Хильда и Лия смотрели на него широко открытыми глазами.
– Я проводил герра Янга на вокзал и посадил его на поезд до Берлина. Не бойтесь. Он оправится… через какое-то время. – Курат сглотнул. – У нас была возможность пообщаться. Он хороший человек и надеется, что сможет помочь… намного больше, чем уже помог.
– Я рада, что он поправится, – сказала бабушка. – Ужасно, когда с твоим гостем обращаются…
Лия не дала ей договорить.
– Его отпустили под ваше поручительство?
– Я взял на себя обязательство отправить его к вам – в уважаемую семью, где в уютном доме найдется место для туристов – место, подходящее и для представителей зарубежной прессы. – Курат запнулся. – В дом, который, я надеюсь, в будущем распахнет свои двери для герра Янга, а может быть, и для других гостей.
Лия молчала.
– Герр Янг вскоре надеется вернуться в Обераммергау и продолжить брать интервью. Может случиться, что он привезет кого-то из своих помощников – человека, которому нужно будет на время здесь остаться.
Бабушка положила руку внучке на плечо. Та накрыла ее ладонью.
– К чему вы ведете, отче? – В глазах Лии не было даже намека на понимание.
– Я спрашиваю: готовы ли вы поселить у себя беженцев? Беженцев-евреев, которых преследует рейх. – Он вглядывался в лица женщин. – Скорее всего, детей или подростков, чьих родителей… переселили.
– Нам нечем их кормить, – сказала бабушка.
– Вам поможет один из наших местных владельцев магазина, а двое фермеров, живущих на окраине, обещали мясо – немного мяса. Герр Янг знаком с людьми, которые смогут достать дополнительные продовольственные карточки. – Священник несколько мгновений раздумывал. – И документы в случае необходимости.
– Поддельные документы? – Бабушка закатила глаза.
Курат кивнул.
– Ах, отче… не думаю, что мы можем…
– Да, – негромко произнесла Лия.
– Лия! – предостерегающе воскликнула Хильда.
– Разве мы можем отказать детям? – Лия повернулась к бабушке. – Ты знаешь, как нацисты поступают с евреями?
– Я слышала, что их переселяют в другие места. Куда-то в Польшу. – Но в голосе пожилой женщины не было уверенности, а Лия молчала.
Курат отвел взгляд.
– Тогда куда? – спросила старушка.
Курат Бауэр задался вопросом, сможет ли Хильда Брайшнер осознать ужасающую правду.
– Говорят, что их вывозят в лагеря. Не в лагеря для переселенцев, а в концентрационные лагеря – исправительно-трудовые колонии, где заключенные считаются расходным материалом: они работают и голодают, пока не умрут. А еще поговаривают, что нацисты намерены создать лагеря смерти – с недвусмысленной целью: убить как можно больше узников. Что на самом деле это означает и когда их будут строить, мне неизвестно.
– Нет, – стояла на своем бабушка. – Рейнбаумы уехали всего пару недель назад. Они собирались в Палестину – хотели дождаться корабля до Палестины и переселиться туда.
Курат Бауэр покачал головой.
– Квота на эмигрантов заполнена. Больше мест нет, и здесь небезопасно. Если они попытались уехать, то только нелегально. Но я знаю порт, где они хотели сесть на корабль, – нацисты оказались там раньше.
Бабушка побледнела, откинулась на спинку стула, прикрыла рот рукой.
– Мы их примем, курат Бауэр, – негромко пообещала Лия. – Но я не знаю, где мы будем их прятать. Как мы можем кого-то спрятать, если нацисты обыскивают наш дом, когда им заблагорассудится.
– Герр Янг и об этом подумал. Пока жил у вас в доме, он нашел способ.
– Я и не знала, что вы были знакомы с герром Янгом, когда просили меня его приютить.
– Я с ним совсем недавно познакомился, – признался курат Бауэр. – Но я понял, он задает свои вопросы не просто так. – Морщинки у него на лбу залегли еще глубже. – И я в отчаянии. – Он развел руки, положил их на стол ладонями вверх. – Мне некуда обратиться, и сердце разрывается за тех, кому я не могу помочь. Я рискую церковью, а других прошу рисковать бóльшим – хотя не имею на это никакого права.
– В таком случае мы тоже доверимся американцу и вам, – ответила Лия. – Мы найдем способ. Если герр Янг полагает, что в моем доме можно спрятаться, так тому и быть.
Курат ощутил, как давит на него новость, которую он собирался сообщить следующей… наверное, нужно было начать с нее. Ах, если бы у него хватило смелости! Если бы только он не боялся, что, услышав эту новость, бабушка и внучка откажутся помогать другим.
– Прежде чем вы согласитесь, я должен еще кое-что вам сообщить. У меня есть друг в военном министерстве. Две недели назад я просил его узнать о судьбе герра Гартмана.
Лия выпрямила спину, на ее лице застыли надежда и страх.
Курат Бауэр сглотнул.
– Ваш муж ранен – серьезно ранен – во время Польской кампании. Его отправили в берлинский госпиталь на лечение.
– Я должна ехать к нему в Берлин!
– Нет, фрау Гартман, – негромко возразил курат Бауэр. – Нет.
– Они, конечно же, разрешат мне выехать из Обераммергау, когда узнают…
Но курат покачал головой.
– Нет. Не разрешат. Я уже спрашивал. Умолял позволить вам это. Но вашего мужа скоро отправят домой.
– Отправят? – удивилась бабушка.
– Герр Гартман пока… у него пока что не восстановились все функции мозга и тела. И неизвестно, восстановятся ли.
Лия недоуменно смотрела на курата.
– Что это значит?
– Это значит, что он может только лежать или сидеть. Его можно кормить – простой мягкой пищей, и поить – он умеет глотать. Но глаза у него остаются закрытыми. Он никого не узнаéт, не может говорить.
– И таким его отправят домой? Неужели нельзя сделать ему операцию? Как-то вылечить?
Курат Бауэр почувствовал, как его накрывает горячей волной. Такое же негодование он испытал, когда ему сообщили об этом.
– По всей видимости, им нужны больничные койки для тех, кто может поправиться – поправиться и вернуться на фронт.
Ни одна из женщин, казалось, не осознала сказанного.
– У Фридриха раздроблена нога. Он потерял один глаз. Пулю извлекли… она едва не задела мозг. Но, даже несмотря на все это, врачи не понимают, почему он не говорит, почему ни на что не реагирует. – Курат Бауэр сделал паузу, собираясь с силами, молясь перед тем, что должен сказать дальше. – Даже если герр Гартман и очнется, маловероятно, что он станет прежним… таким, как был раньше. – Курат терпеть не мог сообщать подобные новости и меньше всего хотел бы сообщать их Лии Гартман.
Женщины сидели, сцепив руки. Несколько слезинок скатились из полных боли глаз, заструились по щекам.
– Мне очень жаль, фрау Гартман. Жаль от всей души.
38
Бригадефюрер Шелленберг едва ответил штурмбаннфюреру Герхарду Шлику на салют и приветствие «Heil Hitler!» – настолько он был раздосадован на своего подчиненного. Шелленберг знал этого человека с детства, служил у его отца и бесконечно восхищался матерью – выдающейся красавицей, умом превосходящей десятерых женщин. Сын таких родителей многое обещал. Но Герхард этих обещаний не оправдал, а сейчас его одержимое желание найти женщину, которая дважды обвела его вокруг пальца, едва не стоило фюреру жизни.
– Вас послали обеспечивать безопасность нашего рейхсканцлера. Пока вы гонялись в Альпах за женщиной-привидением, наши враги замыслили убийство нашего любимого фюрера! – Шелленберг изо всех сил сдерживался, чтобы не сорвать с мундира Шлика знаки различия СС.
«Этот человек заслуживает не просто наказания. Его нужно расстрелять!»
Шлик продолжал стоять навытяжку.
– Нечего сказать? Что ж, отлично. Пренебрежительному отношению к своим обязанностям нет прощения!
Шелленберг откинулся в кресле, пристально вглядываясь в стоявшего перед ним неудачника. Он испытывал стыд из-за того, что такой человек затесался в ряды СС – сверхлюдей рейха, производителей высшей расы. Шелленберг радовался, что родители Шлика не дожили до этого дня. В юности парень подавал надежды, но не смог справиться с мелкой обидой. И как мать ему ни выговаривала, как ни пыталась воспитать в нем мужественность, он продолжал вести счет проявлениям пренебрежения и равнодушия с таким упорством, как будто ему в лицо швырнули перчатку. Мелочный, мстительный, ограниченный, слабый. Какой позор для его родителей!
«Вероятно, на него повлияла смерть жены и дочери, хотя, скорее всего, все проблемы у него оттого, что он преследует эту женщину».
– Ради памяти ваших родителей я сохраню вашу шкуру. На этот раз. – Шелленберг подался вперед, поставив локти на письменный стол.
– Так точно, бригадефюрер! – послушно закричал Шлик.
Бригадефюрер закрыл глаза, повернулся к подчиненному спиной. Он слышал, как щелкнули каблуки штурмбаннфюрера.
– Герхард, – устало вздохнул Шелленберг, – советую вам как отец[41]: забудьте эту женщину. Она не стоит вашей карьеры. Возможно, ее и обещали вам, но она дважды от вас ускользала. Она была вашей партнершей в грандиозном медицинском эксперименте. Но мы воюем. А во время войны происходит всякое. Женщин, желающих и подходящих – не счесть! Женщин-ариек, которые вам очень понравятся и вас не разочаруют. Женщин, которые с радостью произведут на свет детей от офицера СС, женщин, готовых исполнить свой долг перед отечеством. Не позволяйте мелочности и гордыне ослепить вас, мой мальчик.
* * *
Герхард молча поклонился в ответ на проникновенную речь бригадефюрера, да другого от него и не требовалось. Аккуратно закрыв за собой дверь, он выпрямился, стиснул зубы.
Шлик натянул кожаные перчатки, расправил их между пальцами и энергично зашагал по огромному коридору. Цокот его каблуков эхом отражался от стен. Герхард Шлик не был школьником, которого мог отчитывать какой-то бригадефюрер, возомнивший себя его отцом. Герхард вдоволь натерпелся от матери, пока она была жива, поэтому не станет слушать наставления и замечания после ее смерти.
Не стоило выпускать Джейсона Янга. Герхард не сомневался: тому что-то известно о Рейчел. Но журналист не сломался под давлением, а когда начальство Герхарда узнало, что он арестовал иностранного журналиста и допрашивает его, используя все «доводы», Герхарду пришлось Янга отпустить. Журналист вернулся в Берлин несколько помятым.
Вероятно, на сей раз следует подождать, стереть это пятно со своей репутации. Шлик умел ждать, а за Янгом продолжит следить издалека. Мать дала Герхарду ценный совет: «Выжидай, пока твой враг решит, что ты обо всем забыл. Когда он утратит бдительность – тогда и нападай!»
Ее наука сослужила Герхарду хорошую службу: когда его мать впала в слабоумие, он насладился возможностью ей отомстить. Превышение дозы препарата, немного небрежности… Она недолго ему докучала.
В данном же случае ожидание, к несчастью, было чревато потерей драгоценного времени. Но ничего не попишешь. Он любой ценой должен подтвердить свою принадлежность к высшей касте Германии. Если Рейчел до сих пор не удалось покинуть страну, после того как Германия вторгнется в Англию, девушка тем более не сможет выехать. На границе стали еще требовательнее и подозрительнее. А вторжение может произойти в любой день – как только Гитлер отдаст приказ. Это тоже потребует от Герхарда времени и внимания.
Но чтобы он забыл Рейчел Крамер? Это маловероятно.
39
Фридрих уже привык к темноте, привык к запаху дезинфицирующих средств, которые у него давно ассоциировались с белыми кафельными больничными коридорами. Он ждал следующих взрывов сигнальных ракет, тошнотворного сладковатого запаха крови с примесью серы, стремительно взлетающих в воздух конечностей. Фридрих плыл между полумраком и полной темнотой, в которой слышались только голоса – отчетливые, усталые голоса, выкрикивающие приказы, – они разрезáли тишину, а потом растворялись.
Он не мог сказать, когда эти голоса изменились, когда гул в костях сменился резкими рывками и толчками. Только после этого Фридрих испытал глубокий покой и кошмары, преследовавшие его, отступили.
В канву разума Фридриха вплетались все новые сцены. Давние сны о Лии, которая расплетала косы и перед овальным зеркалом, стоявшим на комоде в спальне, расчесывала волосы – длинные, золотистые, шелковистые. Сладостные арии в исполнении его жены, у которой было настоящее альпийское сопрано. Сцены из домашней жизни: бабушка вырывала упрямые сорняки на огороде, месила тесто и резала кубиками пурпурные сливы для его любимого пирога. Запах свежеиспеченного хлеба и затянувшаяся тишина поднимали Фридриха ближе к поверхности.
А потом слышались новые голоса – шепот, нежный, женский, мимолетный. Фридрих вяло раздумывал о том, являются ли мелодично звучащие вопросы и ответы, напевание вполголоса и заверения доказательством того, что к нему спустились ангелы. Возможно, прикосновение ко лбу, теплое давление на губах, легкое скольжение по щеке означали, что его коснулся крылом серафим? Иногда Фридриху снились волнующие формы спящей рядом Лии, снилось, что ее ласковые слезы падают ему на лицо, на руки, подобно весеннему благодатному дождю. И он знал, что находится в раю. Но и там царила тьма.
* * *
Лия не в силах была сдержать слезы, падающие на лицо, грудь, руки Фридриха.
Ей вернули не мужа, а израненную, чахлую оболочку когда-то крепкого, сильного мужчины-защитника, любимого человека, который не хотел идти воевать.
Она молилась и ждала его возвращения – но живого-здорового, прежнего Фридриха, а не этой оболочки. Он не смотрел на нее, казалось, не слышал ее, даже не понимал, что она рядом.
В первую ночь Лия закрыла дверь спальни и легла рядом с мужем. Он так и не открыл глаза, а она так и не уснула.
Настало утро. Лия поднялась, умылась, оделась. Потом умыла и одела мужчину, разделившего с ней ложе, натянула на него через голову свежую сорочку, просунула руки в рукава. Поменяла испачканные простыни. Но она отказывалась верить, что это и есть Фридрих. Она стиснет зубы еще на один день, на большее просто не было сил.
«Завтра – может быть, завтра – он откроет глаза и увидит меня».
40
Убедить главного редактора вернуть его в Мюнхен в начале декабря оказалось проще, чем Джейсон себе представлял. Редактора поразил сенсационный материал Янга о неудавшейся попытке покушения на Гитлера в мюнхенской пивной. Сразу после восторженного выступления с речью перед ветеранами в годовщину «пивного путча», которая вызвала многочисленные «Heil Hitler!», фюрер ушел, живой и здоровый, всего за несколько минут до взрыва бомбы. Несмотря на арест в Обераммергау и последующее избиение, Джейсон наслушался достаточно в кругах СС, чтобы описать события в пивной под новым углом, так сказать, изнутри. Фокус был в том, чтобы статью напечатали, чтобы она прошла цензуру. Но в любом случае материал, собранный Джейсоном «на поле боя», поднял журналиста в глазах главного редактора.
Второй фокус – выйти из редакции, минуя Элдриджа, убедить коллегу в том, что у него нет скрытых мотивов и припрятанного в рукаве потрясающего осведомителя из Мюнхена. И не имеет значения, что синяки еще не сошли с лица Джейсона, челюсть до сих пор саднила, когда он брился, а три сломанных ребра едва не заставляли его сгибаться пополам.
– Ну и кто же из нацистов у тебя в кармане? – допытывался Элдридж.
– Кого ты имеешь в виду? Того, кто избил меня до полусмерти? Или того, кто оттащил его от меня? Выбор за тобой. А могу назвать и обоих. – Джейсон засунул печатную машинку в футляр.
– Я говорю о том, который «слил» тебе информацию о бомбе, заложенной в пивной для Гитлера. О том, кто послал тебя в нужное место в нужное время, чтобы ты написал сенсационный материал. А может быть, о том, кто звонил тебе вскоре после твоего отъезда?
Сердце Джейсона замерло. «Сюда звонил Шлик? Вот как он узнал – вот почему приехал с обыском. Он следил за мной. Я мог вывести его прямо на Рейчел и Амели! Я мог…» Янг заставил себя закрепить машинку ремнями, закрыл дорожный кофр, щелкнул замком. «Оставайся невозмутимым – дыши – относись ко всему проще».
– И что ты ему рассказал? Велел ехать туда и избить невиновного? Наверное, он раскопал что-то ужасное – например, что фрицы недовольны нормой на мясо в тылу. Давай отправим письмо лично фюреру. Поучим его.
– Очень смешно!
Джейсон поморщился, осторожно продел руку в рукав.
– Я вообще известный шутник.
– И что дальше? О чем ты будешь писать?
– О рождественских ярмарках – о церковной утвари, резных фигурках на сюжет «Рождества Христова», о колокольчиках, пиве, немецкой выпечке, которая потом откладывается у тебя на талии, – иногда нужно бросать вызов организму. Все любят немецкие рождественские ярмарки, и маловероятно, что Адольф Гитлер станет выступать там с речью. Значит, мне больше ничего не грозит. – Джейсон нахлобучил шляпу, лихо сдвинул ее набок, но даже это простое действие заставило его поморщиться. – С этих пор все выдающиеся речи рейхсканцлера – твои. Я сыт по горло этими «Heil Hitler!».
– Договорились. – Элдридж явно не верил коллеге. – А сам ты уходишь на покой в мир баварских сказок.
– Вся слава достанется тебе, старина, – забирай! И веселого Рождества.
Джейсон, не оглядываясь, протиснулся в дверь, надеясь, что Элдридж поверил ему… но готов был держать пари, что на этом доносчик не успокоится.
* * *
Воодушевленный курат Бауэр спешил вверх по холму к дому фрау Брайшнер.
Еще три месяца назад он и подумать не мог, что станет просить тихую, неприметную фрау Гартман о таком одолжении, но три месяца назад он не знал, что она способна организовать непослушных хулиганов в детский хор и превратить их в стройные ряды поющих херувимов. Священник не знал, что она способна прятать хнычущих детей в ящиках или каким-то образом связана с женщиной постарше, севшей с ними в один поезд. С женщиной, которая спасла их обоих, устроив переполох, с женщиной, которая удивительным образом была похожа на Лию Гартман, особенно глазами.
Для него Лия Гартман была святой.
Но она отказала.
– Я могу только ухаживать за Фридрихом и репетировать с детским хором. Мне очень жаль, отче, но я ничего не смыслю в театре, в постановках. Я умею лишь петь.
– Речь идет не о какой-то серьезной подготовке, скорее о том, чтобы чем-то занять детей. И… – священник вгляделся в ее глаза, – и о том, чтобы провести по городу еврейских детей среди толпы беженцев. Как будто они тоже дети немецких солдат, сбежавшие из города. Им нужно немного практики и немного счастья дважды в неделю.
Лия покачала головой.
– Понимаю, что подвожу вас. Но я просто не…
– Это я должен просить прощения, фрау Гартман. Я всего лишь подумал, что у вас могут быть скрытые таланты, которые вы еще не продемонстрировали. Мне следовало понимать: то, о чем я прошу, невозможно – на вас и так достаточно свалилось. – Он колебался. – У вашего мужа никаких улучшений?
Лия прикусила губу.
– Я надеюсь… каждый день.
Бабушка сжала плечо внучки.
– Мы обе надеемся и молимся.
Курат кивнул.
– Тайны Господа… Я не всегда их понимаю. – Он с усталым видом отхлебнул травяной чай, который поставила перед ним бабушка.
– Отче! – обратилась к священнику Хильда.
Он поднял голову.
– А как скоро вам нужен человек, чтобы начать уроки театрального мастерства?
– Через неделю, максимум через две. Это должен быть человек, которому я мог бы доверить наблюдение за тайными гостями, – задачка посложнее, чем просто найти учителя. – Курат пожал плечами. – Если честно, здешних детей нужно больше нагружать. Безделье к добру не приводит – вы сами знаете. – Он улыбнулся. – Признайтесь мне, фрау Брайшнер, вы подумываете взяться за преподавание?
Хильда засмеялась.
– Nein, отче. Мои кости слишком стары, а нервы слишком расшатаны для десятка херувимов. Но мне кажется, что Лия подумает еще раз.
– Бабуля, ты же знаешь, что я не могу…
– Я знаю, что ты думаешь, будто не можешь. Давай поговорим об этом за ужином. Все тщательно взвесим. Я могла бы присмотреть за Фридрихом, даже покормить его, пока ты будешь на занятиях, точно так же, как я поступаю, когда ты занимаешься с хором, и…
– Нет! – Лия повернулась к курату. – Вы должны поискать другого человека.
– Дорогая, деньги нам бы не помешали. И будет вполне естественно, если ты станешь приводить детей домой – как будто это дети беженцев, как сказал курат Бауэр.
Священник переводил взгляд с одной женщины на другую. В груди у него теплилась надежда, однако он не знал, за кем останется последнее слово. В конце концов курат привел последний аргумент:
– Я понимаю, что хнычущим ящикам нужна еда и одежда. Уроки театрального мастерства дадут еще одну возможность увеличить финансирование.
– Подождите два дня. Если через два дня Лия к вам не подойдет, считайте тему закрытой. Но дайте нам возможность обсудить все наедине.
– Бабуля!
Курат Бауэр не собирался оставаться и становиться свидетелем перебранки двух решительно настроенных женщин. Он с надеждой кивнул и, согнувшись, вышел в холодный декабрьский день.
Священник натянул шляпу пониже на уши, плотнее запахнул пальто и широким шагом направился вниз по холму в деревню.
Есть у Лии опыт работы с драмкружком или нет, но курат готов был держать пари, что этот раунд Хильда Брайшнер у внучки выиграет. Ему было искренне жаль добрую фрау Гартман – но не настолько, чтобы он отказался от своей просьбы.
* * *
– Отличное предложение! Я этим займусь! – воскликнула Рейчел, вылезая из шкафа. – Это ты и имела в виду, да, бабуля? Что я буду вести драмкружок?
– Ты шутишь! – возмутилась Лия. – Как только ты выйдешь за дверь, нас застрелят – нас всех. Скажи ей, бабуля!
– Не застрелят, если Рейчел будет тобой, дорогая.
– Мной? – Лия покачала головой. – Подумай хорошо, бабушка! Подумай, что ты говоришь!
– Я говорю, что это даст нам возможность сделать что-то для других, для детей – для еврейских детей, которым некуда идти, которых никто у себя не приютит.
– Знаю. Я понимаю, что им нужна помощь. Я уже согласилась оборудовать в своем доме секретную комнату, но…
– Нужен человек, которому курат мог бы доверять. Разве ты не слышала, что он сказал? У детей, которые попадут сюда, уже отняли родителей. И к тому же это занятие даст возможность заработать больше денег на еду – нужно их кормить и купить им поддельные документы. А наша Рейчел сможет выходить из дому, иначе она сведет нас с ума. – Хильда многозначительно взглянула на Рейчел. – И ей тоже представится возможность внести свою лепту.
– Нужно найти кого-то другого. Есть риск… – Лия отвернулась.
– Для Фридриха? – негромко уточнила бабушка.
– Да, если одним неосторожным движением мы привлечем сюда нацистов. Когда Рейчел станет разгуливать по деревушке…
– Не стану я «разгуливать»! Хоть немножко поверь в меня!
– Фридрих не может себя защитить! Вы видели последствия визита нацистов, но ни одна из вас не видела, как они продырявили матрасы в моем доме. Они крушили все на своем пути – стены, мебель. Шкафы, которые мастерил и украшал резьбой Фридрих, разбиты вдребезги… И он не сможет себя защитить! – повторила Лия. – Наш дом непригоден для жилья. Это явно было предупреждение со стороны эсэсовцев. Нет. – Она покачала головой. – Нет, я на это не пойду.
– Пожалуйста! – Рейчел опустилась на колени перед сидящей на стуле сестрой, схватила ее руки в свои ладони. – Просто выслушай меня и обдумай мои слова. Все получится.
Лия закрыла глаза.
Рейчел облизала губы, готовясь сыграть самую убедительную роль в своей жизни.
* * *
Курат Бауэр не ожидал так быстро услышать ответ от Лии Гартман. Он вообще не надеялся, что они вернутся к обсуждению этой темы. За завтраком священник открыл запечатанную записку, предполагая, что увещевания бабушки не помогли и он увидит там решительный отказ.
Но он с огромной радостью прочел, что Лия начнет работу в драмкружке на той неделе, которая последует за публичным выступлением детского хора в первое воскресенье Страстной недели, при условии, что эти занятия не будут совпадать по дням с занятиями хоровым пением и учеников разделят: либо они посещают хор, либо драмкружок. Лия будет по горло занята подготовкой и проведением уроков, к тому же подобное разделение позволит принять участие в постановке большему количеству детей. И еще она была бы очень признательна, если бы Максимилиан Гризер поискал себе работу в другом месте во время ее занятий. Он пытается ее поучать. К тому же Лия сомневается, что в обязанности члена гитлерюгенда входит наблюдение за занятиями для детей. У нее есть ответная просьба: она хотела бы, чтобы ее дом отремонтировали плотники, которым курат Бауэр мог бы доверять, и другие жители деревни. Лия благодарила священника за оказанное ей доверие и просила помолиться за успех ее начинания.
Отлично. Он покажет это письмо таким, как оно есть, местной власти и попросит разрешения нанять плотников – работников, которым он мог бы доверять, – и присмотреть за ними. Он убедит бургомистра, что им очень повезло и что они должны соглашаться – это такое благо для деревни и такой простой способ вовлечь детей беженцев в подходящее – а главное, санкционированное свыше – мероприятие, столь важное для жителей Обераммергау.
А еще во время ремонта в доме Гартманов представлялась прекрасная возможность оборудовать тайный проход, даже комнату. Идея герра Янга была просто превосходной – сделать стены и проход, ведущий на улицу через подвал, немного толще. Курат Бауэр лишь надеялся, что работы удастся завершить до окончания Рождественского поста, когда ожидается прибытие еще большего количества детей.
41
Джейсон и красивая молодая блондинка с темно-карими глазами забронировали себе билеты на десятичасовой вечерний поезд из Берлина. С крашеными, выпрямленными плойкой волосами, тщательно собранными сзади, в модном американском дорожном костюме и на пятисантиметровых каблуках пятнадцатилетняя Ривка Сильверман совершенно не походила на еврейку. Ее можно было принять за помощницу американского журналиста. Должность – фотограф (именно так и значилось в ее поддельных документах).
Джейсон лишь надеялся, что девочке не придется демонстрировать искусное обращение с фотоаппаратом. В этом она была не сильна.
Фрау Бергстром заверила его, что у Ривки изумительный английский – и к тому же английский пехотинцев на пропускных пунктах оставлял желать лучшего. Если к ней не станут слишком тщательно присматриваться, она сможет ввести собеседника в заблуждение. «Как это называется? Нахальство?» – усмехнулся Джейсон. Девочка напоминала ему Рейчел.
К тому времени, как поезд прибыл в Мюнхен, у Джейсона ужасно болели ребра. Они с Ривкой устали с дороги и очень хотели есть, так что были бы рады даже скудному завтраку в гостинице.
– Прости, малышка. Придется довольствоваться этим. – Джейсон протянул ей несвежую булочку и стаканчик теплого напитка из жареного цикория, который продавал уличный торговец. – В моей гостинице слишком много глаз и ушей, и я сомневаюсь, что в это время мы найдем какое-нибудь открытое кафе.
Ривка отмахнулась, как будто еда совершенно не имела для нее значения, и, не выходя из образа, отхлебнула горьковатую бурду, словно каждый день своей взрослой жизни пила напиток из цикория. Она взглянула на часы и подхватила фотоаппарат в чехле. Джейсон восхищался тем, как быстро она вжилась в роль журналистки – не понадобилось никаких уроков.
С дальнего конца платформы раздался резкий свист. Джейсон едва не лишился чувств, когда они с Ривкой вскочили в поезд.
– Билеты! Билеты! – кричал идущий по проходу кондуктор.
За ним следовал нацистский патруль, проверяя документы, шаря по лицам, вглядываясь в написанное. Даже это стало уже привычным. Казалось, этим ранним воскресным утром ни один солдат не думал о шпионах и саботажниках.
Джейсон откинулся на сиденье, натянул шляпу на глаза и сделал вид, что спит.
Первая воскресная рождественская служба, рождественские песнопения, деревенские ярмарки сулят не только великолепные снимки, которые можно будет передать в нью-йоркские газеты, но и возможность затеряться в толпе. Сперва он найдет курата Бауэра – пусть тот проведет их по деревне. Джейсон надеялся увидеть Лию Гартман, дирижирующую детским хором. Но больше всего ему хотелось поговорить с ней наедине. После того рейда он узнал только одно: Лии запрещено покидать Обераммергау, запрещено путешествовать для того, чтобы продать работы мужа. Но что это означало для Рейчел и Амели? Если бы он только мог быть уверен в том, что они в безопасности! И Джейсону просто необходимо было забрать одну пленку.
Как ему остаться наедине с замужней немкой, которая в этот знаменательный день руководит детским хором? Или попасть к ней в дом, не вызывая подозрений? «Все в Твоих руках, Господи. Я понятия не имею, что мне делать. Со мной Ривка, наш первый пробный шар. Позаботься о ней, Господи! Направь нас. Спаси и сохрани ее».
* * *
Уже много недель Рейчел не выходила на улицу – впервые с тех пор, как она попыталась бежать и ее едва не поймали. Она не предполагала, что будет рада вновь перевоплотиться в женщину средних лет, но наряд, который достала из своих запасов бабушка, стал для Рейчел пропуском к свежему воздуху и свободе. Девушка с радостью согласилась сыграть роль дальней родственницы мужа фрау Брайшнер, приехавшей из Штелле с внуком на рождественскую ярмарку.
Рейчел и Хильда дождались, когда Лия уйдет в церковь к детям из хора, собравшимся в стайку. Подождали еще немного: пока фрау Хелльман, любопытная соседка, разрядившись в пух и прах, отправится на воскресную службу. Наконец бабушка и внучка натянули на Амели курточку и бриджи, взъерошили недавно подстриженные кудри, на голову нахлобучили кепку, подвязали лоскутом подбородок, как будто у нее разболелся зуб и она не может разговаривать, и побрели по заснеженному холму в городок в толпе других беженцев, временных рабочих и местных жителей.
Сыграть роль пожилой родственницы – хорошая практика перед тем, как перевоплотиться в Лию, что нужно будет сделать на следующей неделе. Но если там будет Джейсон Янг (а курат обещал Лии, что американец приедет), Рейчел не была уверена в том, что сможет унять сердцебиение или скрыть радостный блеск глаз. У нее было время – долгие-долгие недели, – чтобы оценить жертвы, на которые ради нее и Амели пошел Джейсон, долгие недели, чтобы вспоминать его страстный фокстрот, непослушные волосы, падающие на лоб и иногда скрывающие один глаз.
– Обрати внимание, – негромко велела Рейчел бабушка, улыбаясь, как будто они с родственницей были увлечены разговором. – Надо все время держать Амели за руку. Если не сможешь, признайся в этом прямо сейчас, дорогая.
Рейчел отогнала мысли о Джейсоне. Она не собиралась возвращаться назад в шкаф, как нашкодивший щенок. Девушка вновь улыбнулась, но на сей раз это была улыбка немолодой фрау.
Рождественская ярмарка была в самом разгаре. Рейчел разглядела сестру. Та велела детям из хора строиться на площади, которую расчистили от снега лопатой. За Лией по пятам следовал член гитлерюгенда в форме.
Пока поющие дети шли по деревне, бабушка шепотом называла каждого из них по имени. Рейчел в свою очередь запоминала все, что видела, как будто готовилась к грандиозной премьере.
Имена детей врéзались ей в память, к каждому она приклеила ярлыки с характерными чертами. У Галли соломенные спутанные косички и яркие ленточки. У Терезы нет переднего зуба и весь нос в веснушках. Герберт – с ушами-блюдцами, торчавшими по обе стороны его маленького личика. По описанию Лии узнать Генриха Гельфмана было парой пустяков: в каждой черточке его лица сквозило озорство.
Амели широко открытыми глазами смотрела на происходящее. Бабушка обнимала малышку, рассказывая всем, что это внук ее родственницы.
– Так жаль, что у малыша болит зуб и воспалилось ухо! Воспаление настолько серьезное, что он ничего не слышит. Чем ему помочь? Завтра они поедут домой к своему стоматологу. Мы не хотели, чтобы мальчик пропустил рождественскую ярмарку.
Они как раз выбирали, к какому лотку подойти, когда из-за угла стоявшей перед ними палатки вышел Джейсон. Он был всего в полутора метрах от них в компании привлекательной девушки в американском костюме. Янг оцепенел от неожиданности среди круговорота черных и красных национальных костюмов. Сердце Рейчел отказывалось ее слушать. Она уронила сумочку и отпустила руку вырывавшейся Амели. Обе упали в снег. Бабушка подхватила Амели на руки. Рейчел слишком поспешно, слишком легко для женщины в возрасте, которую она изображала, нагнулась и стала собирать содержимое сумочки: нащупала пудру, платок и драгоценные поддельные документы.
А потом Джейсон оказался рядом с ней, наклонился и неловко помог ей собрать оставшиеся вещи. Он был так близко, что Рейчел чувствовала его дыхание на своих волосах, но не могла говорить.
– Прошу вас, meine Frau, позвольте вам помочь.
Джейсон взял ее за руку, помог выпрямиться. Он улыбался своей обычной улыбкой рыцаря, хотя и морщился при этом и почти не смотрел Рейчел в глаза.
– Благодарю вас, – выдохнула она – слишком чистым и четким голосом для женщины пожилого возраста.
Джейсон замер.
– Я хотела сказать «спасибо». Спасибо, юноша, – попыталась исправить ошибку Рейчел.
Джейсон не двигался, застыв как столб. Его глаза засияли. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Рейчел покачала головой – едва заметно – и отшатнулась.
К нему подошла его юная спутница.
– И что же вы хотите, чтобы я сфотографировала в первую очередь, шеф?
Рейчел попятилась, потянув за собой вырывавшуюся из рук бабушки Амели. Когда девочка заметила Джейсона, ее глаза засияли, маленькие ручки потянулись к журналисту. В его взгляде тоже читалось страстное желание ее обнять, но вместо этого он отвернулся. Рейчел почти ничего не видела перед собой из-за охвативших ее радости и возбуждения. «Он здесь, жив-здоров… но кто эта женщина рядом с ним?»
Бабушка помогла увести капризничавшую, вырывавшуюся Амели к другой палатке. Рейчел чувствовала на себе взгляд Джейсона, поэтому неохотно продолжала играть свою роль. Подняв голову, она поймала взгляд курата Бауэра, того самого священника, которого видела с Лией на вокзале. Рядом с ним стоял священник постарше и тоже не сводил взгляд с их троицы: с самой Рейчел, бабушки и Амели. Рейчел отвернулась. «Какая я дура! Полная дура!»
Следующий час Рейчел все время смотрела на бабушку, играя роль гостьи и не решаясь даже взглянуть на Джейсона. Лишь однажды ей удалось мельком посмотреть на журналиста, и Рейчел заметила, что он у одной из палаток – держит в руках золотую цепочку. Стоявшая рядом с ним девушка взяла цепочку и кокетливо ее примерила. Оба засмеялись. Рейчел отвернулась – у нее перехватило дыхание, как будто ее неожиданно ударили ножом в грудь.
Когда они с бабушкой и Амели взбирались по холму домой, Рейчел почувствовала, что уже обессилела от разыгрываемой роли – с одной стороны, от того, что запретила себе переживать, а с другой – от того, что изображала.
Но Рейчел еще никогда не видела Амели настолько оживленной. Глазки девочки горели, когда она смотрела на стайки деревенской детворы, щечки разрумянились от холода. Она скакала между Рейчел и Хильдой – вверх-вниз, вверх-вниз – настолько быстро, насколько ей позволяли маленькие ножки. Старушка смеялась, радуясь счастью ребенка, и время от времени слегка подталкивала локтем Рейчел, напоминая ей о том, чтобы та не забывала изображать снисходительную бабушку.
К тому времени, как они покормили Амели и уложили ее в кровать для дневного сна, девочка сразу же уснула от приятной усталости.
Но бабушке было не до сна. Она возмутилась:
– Тебя сегодня едва не рассекретили – герр Янг, курат Бауэр и отец Оберлангер, который, если я не ошибаюсь, поддерживает нацистскую партию. Я понятия не имею, кто еще это видел. Теперь я совершенно не уверена в том, что ты сможешь справляться со своей ролью два дня в неделю.
– Мне очень жаль. Я просто… разнервничалась… на секунду. Я так обрадовалась, увидев Дж…
– Одна-единственная секунда, и все было бы кончено – для всех нас, включая твоего герра Янга. Нет времени разыгрывать из себя влюбленную школьницу. Все ниточки у тебя в руках!
За все время, что Рейчел пряталась в доме у бабушки, она еще никогда не видела старушку такой взбешенной.
– Больше этого не повторится.
– Одного обещания мало. Я не могу рисковать жизнью Лии, Фридриха и Амели в угоду твоим прихотям и флирту. – Хильда сняла фартук и швырнула его на стол.
– Бабуля, я просто сказала…
– Хватит, Рейчел. Пойду проведаю Фридриха. – И пожилая женщина гордо прошествовала прочь из кухни.
Рейчел осталась стоять столбом посреди бабушкиной кухни. Еще никогда Хильда так строго ее не отчитывала. Рейчел взяла бабушкин фартук со стола, повесила его на крючок у двери. Она прислонилась к раковине и сжала виски кончиками пальцев.
Через час пришла Лия. Бабушка еще не возвращалась. Рейчел смахнула тыльной стороной ладони оставшиеся слезы.
– Все в порядке? – спросила Лия.
Рейчел кивнула.
– Тебе понравился хор?
– Да. – Рейчел по-новому, восхищенно, взглянула на сестру. – Это было великолепно. Дети чудесные… и ты тоже.
Лия зарделась. Рейчел вдруг поняла, что никогда не хвалила сестру. Лия становилась настоящей красавицей, когда улыбалась. С тех пор как Фридрих вернулся домой – тяжелораненый, прикованный к постели, но живой, – Лия стала намного меньше улыбаться.
– Ты проделала с ними огромную работу.
Лия пожала плечами.
– Местных малышей с пеленок учат петь и играть на музыкальных инструментах – один или несколько талантов у них в крови, их воспитывают для участия в «Страстях Христовых». Ты запомнила, как их зовут? Бабуля тебе сказала?
– Да. – Рейчел сглотнула. – Да, сказала.
– Ты смогла различить в толпе Генриха?
Рейчел невольно засмеялась.
– В одну секунду. Он – воплощение озорства.
Лия тоже засмеялась, потом посерьезнела:
– Что случилось? В чем дело?
– Я едва нас всех сегодня не выдала. – Признание далось Рейчел тяжелее, чем она ожидала.
– В тот момент, когда увидела Джейсона Янга?
– Да.
– Ты любишь его. Я поняла это по твоим глазам. – Это было сказано будничным тоном.
Глаза Рейчел наполнились слезами.
– Джейсон спас жизнь тебе и Амели. Это единственный американец, которого ты знаешь… или знала. Он тот, кто защитил тебя от отца и того эсэсовца. Как же тебе было в него не влюбиться?
Рейчел уже не могла сдерживать слезы:
– Прости! Прости! Я едва не выдала всех нас.
Лия покачала головой. В каждом ее движении сквозило участие. Она подошла к Рейчел с распростертыми объятиями, но та не могла пошевелиться, не могла шагнуть навстречу сестре. Однако это не помешало Лии обнять сестру, а Рейчел – тихонько разрыдаться у нее на плече.
Лия убрала волосы со лба Рейчел и прошептала:
– Когда любишь человека, это видно по глазам, по лицу, по осанке.
– Но это заметил и курат… и еще один священник постарше.
– Курат Бауэр – наш друг. Что бы там он ни знал или ни подозревал – он никому ничего не расскажет. А вот отец Оберлангер… не знаю. Но он ничего не знает наверняка, а родственницы, которая прогуливалась сегодня с бабушкой по деревне, завтра здесь уже не будет. Просто это была немного самодовольная женщина, которую взволновал молодой франт-американец – как и остальных жительниц деревни, присутствовавших на ярмарке! Но эта женщина исчезнет, как только ты смоешь седину с волос и снимешь этот ужасный наряд.
Рейчел ахнула.
Лия засмеялась и немного отстранилась от сестры:
– Я люблю нашу бабулю, но ее одежда нам не идет.
Рейчел вытерла слезы ладонью, подозревая, что весь ее грим растекся.
Лия достала из кармана платок, протянула его сестре.
– Когда Фридрих очнется, я стану каждый день, ежечасно повторять ему о том, что люблю его. Он поймет это по моему взгляду, по улыбке, по тому, как я мимоходом касаюсь его руки. Я не могу винить тебя за то, что ты влюблена.
– Но бабушка сказала…
– Что?.. Что ты не можешь рисковать драмкружком?
Рейчел кивнула.
– Бабуля боится. И у нее есть на то причины – она беспокоится за всех нас. Но это даже хорошо. Намного лучше, чем я думала вначале. Курат рассказал мне, что делают с евреями, которых отсылают в Польшу. Все гораздо страшнее, чем ты можешь себе представить.
– Но я могла бы… Может быть, ты сама будешь вести драмкружок? А я буду присматривать за детьми, которых ты будешь приводить.
Лия фыркнула.
– Рейчел, я не умею учить театральному мастерству. К тому же ты ужасно обращаешься с Амели; разве ты сможешь управиться с тремя-четырьмя малышами? Добиться того, чтобы они сидели тихо? Чем-то их занять?
– А как я стану их учить, если не умею этого делать?
– Театр – твоя страсть. По правде говоря, сегодня в деревне ты сыграла отлично. Всего лишь разок оступилась.
Рейчел смотрела на Лию, как будто видела ее впервые. Что случилось? Откуда взялась эта новая благородная сестра-близнец?
– Мы должны заключить перемирие. Теперь мы не просто сестры, не просто одна команда. Мы должны вести себя одинаково, думать одинаково. Только так мы убедим окружающих, что мы – это один человек.
– Я тебе об этом говорила, – напомнила Рейчел.
– Я не думала, что это возможно. Но сегодня я встретила первую сироту, которую мы должны приютить. Сегодня я знаю, что мы должны это сделать. Она единственная, кто выжил из ее семьи, – и только потому, что, когда гестапо пришло за ее родителями, была в гостях у подружки.
– А где…
– Она придет, когда стемнеет. Лесничий Шиф Шраде доставит ее как дрова.
– А кто такой лесничий Шиф Шраде? – Рейчел ощутила, как внутри у нее растет паника при мысли о том, что в этой операции будет задействовано еще больше доверенных лиц.
– К делу причастно больше людей, чем я предполагала, – произнесла Лия. – Они будут оказывать помощь, самую разную. Мы не одни. И тем не менее чем меньше мы знаем, тем безопаснее будет для всех.
Рейчел кивнула. Она знала, что это правда. Джейсон и Шейла говорили то же самое.
– И еще кое-что. – Лия лукаво улыбнулась. – Герр Янг… Мне кажется, что он тоже тебя любит. То, как он пожирал тебя глазами, было гораздо опаснее того, как ты на него отреагировала.
Сердце Рейчел затрепетало. Единственное, что она помнила, – красивую молодую американку, стоявшую рядом с ним… очень близко.
42
Из шкафа Рейчел услышала, как за человеком, которого бабушка называла Шифом Шраде, закрылась дверь кухни.
– Рейчел, – негромко позвала Хильда, – выходи. Познакомься со своей новой соседкой.
Девушка распахнула дверь шкафа, готовая встретиться с карими глазенками испуганного еврейского ребенка. Она не была готова к встрече с хрупкой, но соблазнительной юной блондинкой, которая вышла из мешка, оставленного посреди кухни.
– Вы! – воскликнула Рейчел. – Вы же фотограф.
Карие глаза девочки расширились от удивления. Она кивнула, переводя взгляд с одной сестры на другую.
– Это было прикрытие, – пояснила Лия. – Ривка, знакомься, это Рейчел, моя сестра.
– Вы так… похожи, – запинаясь, произнесла Ривка.
Ее речь совершенно не походила на речь американки.
– А это наша бабушка, фрау Брайшнер. Добро пожаловать к нам, Ривка.
– Да, добро пожаловать. – Хильда потянулась к девочке. – Они близнецы… мои внучки близнецы, – сказала она в ответ на удивленный взгляд Ривки. – Рейчел, покажи Ривке, где она будет спать, пока я нагрею для нее тарелку супа. – Бабушка похлопала девочку по плечу – девочку, у которой был такой взрослый, серьезный взгляд. – Ты, наверное, умираешь от голода.
Ривка кивнула, не сводя глаз с Рейчел, как будто боялась, что та ее укусит.
– Ступай, – подбодрила девочку Лия. – Рейчел все тебе покажет. А я наведаюсь к Фридриху.
Внутри у Рейчел все сжалось, но она жестом пригласила Ривку следовать за ней – через небольшой шкаф, через стену, вверх по лестнице на чердак.
– Очень хитро придумано, – прошептала Ривка, как только они оказались на чердаке.
– Да. Но сидеть нужно тихо… Ни словечка. Ни звука.
– Да. – Ривка опустила взгляд.
– Это Амели. – Рейчел указала на маленькую кучку одеял рядом с печной трубой. – Она не слышит и не умеет говорить, но у нее обострены другие чувства, поэтому не пугай ее. Она может расплакаться, и кто-то может ее услышать.
Ривка молчала. Рейчел ощутила незнакомую ей ранее потребность защитить Амели.
– Она реагирует на жесты и мимику, но не слышит, что ты говоришь.
– Об этой малышке мне рассказывал Джейсон. Он так за нее волновался! – негромко воскликнула Ривка. – Он научил меня нескольким жестам на случай, если Амели до сих пор здесь. Как называть тебя «тетя Рейчел». И еще многому. Я очень рада, что девочка в безопасности!
Рейчел разозлилась. Она не знала, то ли радоваться, что Джейсон научил Ривку знаку «тетя Рейчел», то ли обидеться на то, что он настолько доверял этой девице. Рейчел подвинула свой тюфяк ближе к Амели, оставив Ривке место у лестницы.
– Сестра говорила мне, что ты приехала одна. – Рейчел произнесла это из упрямства, желая лишний раз подчеркнуть, что Лия ее сестра, что у нее есть сестра, семья.
– Одна. – Ривка отвернулась.
Рейчел тут же пожалела о своих словах, ей стало стыдно за намеренную грубость, но тон менять она не стала.
– У тебя есть одежда для сна?
– Сорочка, – прошептала Ривка. – Все, что у меня есть, надето сейчас на мне.
Рейчел прикусила губу.
– Переодевайся в сорочку, а потом спускайся на кухню – скоро бабушка нагреет тебе суп. Но ты должна быть готова спрятаться в шкафу в любой момент – карабкайся по лестнице каждый раз, когда услышишь посторонний шум на улице или стук в дверь. Люк на чердак всегда должен быть закрыт, чтобы нас не застали врасплох. Мы не можем рисковать.
– Понимаю.
– Надеюсь… ради нас всех.
Девушка не могла смотреть Ривке в глаза. Рейчел спустилась по лестнице, прошла через шкаф, предоставив юной соседке самой о себе заботиться.
Как только в доме воцарилась тишина и Рейчел услышала ровное свистящее дыхание Амели и Ривки, она повернулась на бок. Она вела себя с Ривкой недопустимо грубо. Почему? Эта девочка потеряла всех, кто ей дорог, а Рейчел, хотя и оказалась заложницей в Обераммергау, была окружена членами своей семьи, людьми, которые ее любили, рисковали жизнью, чтобы ее спасти. Почему же она не может быть так же добра к Ривке, ведь той так необходимо участие?
Рейчел перевернулась на спину, зная ответ. «Джейсон просто помогает этой девочке или она ему нравится? Он явно смотрел на нее завороженно, когда она примеряла перед ним цепочку».
* * *
Фридрих, который все еще находился в коконе темноты, слышал, как шепотом молится Лия и читает Библию бабушка. Снились ему и другие сны, слышались и исчезали голоса – женский шепот, молитвы пастора, настойчивые просьбы мужчин, которых он не узнавал. Но все это кружилось, смешивалось, переплеталось с жуткими, лающими приказами сержанта, гулом артиллерии и взрывами динамита. Временами Фридрих ощущал жар огня, слышал безумные, чудовищные крики. И так же неожиданно дул прохладный альпийский ветер, прямо с гор, охлаждал его разгоряченный лоб. Иногда по руке Фридриха струилось что-то мокрое – то ли теплые ручейки дождя, то ли слезы. То ли он это чувствовал, то ли видел сон. Однажды Фридрих был уверен в том, что ест бабушкин суп. Он изо всех сил пытался протянуть руку… Если бы он мог заставить двигаться свои руки! Если бы мог открыть рот и заговорить, распахнуть глаза и увидеть… Однако вокруг по-прежнему царила темнота и Фридрих не мог из нее вырваться.
* * *
Во время первого урока театрального мастерства Рейчел путалась в именах, но игра в импровизацию, которой она научила детей, отвлекла их и расположила к учителю. Прошел час, и из дверей заструился ручеек маленьких ножек и соломенных косичек.
Когда Рейчел в прекрасном настроении собирала реквизит после второго занятия, в класс вошел курат Бауэр.
– Мы приняли решение, – признался он печально женщине, которую считал Лией. – Ничего не поделаешь. Вчера было заседание совета. Сегодня утром отец Оберлангер уже уведомил о нем местные газеты, а я послал весточку герру Янгу в Мюнхен, чтобы он осветил это в зарубежной прессе. В 1940 году постановка «Страстей Христовых» отменяется. – Курат вгляделся в лицо собеседницы. – Мне очень жаль.
Рейчел, которая притворялась Лией, то есть замужней женщиной, да еще и протестанткой, была бы счастлива, если бы ей разрешили вообще не бывать на репетициях этого представления. Даже без «Страстей Христовых» она была бы нужна. Это было совершенно другое – сравнительно легкое – дело: организовать после уроков драмкружок, пока те, кто обычно ставил «Страсти Христовы», воюют. Но Рейчел не решилась выразить облегчение. Лия с бабушкой объясняли ей, насколько важна эта постановка для жителей деревни – во исполнение обетов «Страсти» ставят каждые десять лет. Туристы приносили гостиницам, ресторанам и множеству резчиков по дереву дополнительный доход.
– Не знаю, что сказать. Вся деревня будет расстроена.
– Идет война, война, которую, как нас уверяют, развязала против нас Англия. – Священник едва сдержался, чтобы не фыркнуть. – Слишком много ведущих актеров мобилизовали на фронт. Немцы не приедут – нет бензина, чтобы путешествовать ради развлечения. Все продукты, мясо – по карточкам. И, конечно же, не приедут ни англичане, ни американцы. Да никто их здесь и не ждет. – Он пожал плечами. – Когда закончится эта проклятая война, возможно, они вновь захотят приехать. И, может быть, Германия снова будет их ждать.
Рейчел понятия не имела, что ему ответить, чтобы утешить.
– Наступит тысяча девятьсот сорок первый – к тому времени война уж точно закончится.
Курат посмотрел на нее так, как будто она совершила святотатство.
– Или тысяча девятьсот сорок второй… – Рейчел старалась говорить беспечно, чтобы нарушить неловкое молчание.
Но курат нахмурился, вгляделся в ее лицо.
«Они всегда ставят “Страсти” раз в десять лет. Но разве это имеет значение, если им нужны деньги, работа?» Что бы она ни сказала, утешения это не принесет. Поэтому Рейчел отвернулась, закончила собирать свою сумку и пожелала священнику спокойной ночи. Всю дорогу домой она с волнением гадала, о чем думает курат, – а он явно над чем-то размышлял.
Рейчел тщательно копировала осанку, акцент Лии, носила ее одежду. Даже думать пыталась, как сестра! Что же его так в ней смутило?
Лия настояла на том, чтобы дети, посоветовавшись с родителями, выбрали: посещать им хор или драмкружок. Но не то и другое одновременно. Курат Бауэр согласился, что будет справедливо дать возможность заниматься в кружках большему числу детей и более серьезно развить уникальные таланты каждого. Для Рейчел с Лией это исключало возможность того, что дети начнут сравнивать фрау Гартман, учительницу хорового пения, с фрау Гартман, которая ведет драмкружок.
Первые два занятия прошли гораздо лучше, чем Рейчел смела надеяться, с одним исключением: парнишка из гитлерюгенда по имени Максимилиан проявлял к ним слишком пристальное внимание. Детишки превзошли ее ожидания: они оказались очень увлеченными, удивительно живыми и непосредственными. Уроки пролетали незаметно. Жаль, что она вызвала подозрения у курата. Ах, если бы она знала, чем объясняется его любопытство!
Лии, когда она вернулась с рынка, понадобилось целых полчаса и кружка чая, чтобы успокоить Рейчел, заверить ее, что с куратом все будет хорошо.
– Ты не видела его лица! Он что-то подозревает! О чем-то догадывается!
– Даже если и подозревает, он поделится этим со мной. Курат мне доверяет. Мы прячем Ривку по его просьбе!
Рейчел кивнула, пытаясь восстановить дыхание.
– А сейчас расскажи мне об уроке. О детях, – попросила Лия. – Когда сегодня в городе я встретила курата, он упомянул о том, что у нас один ученик ходит и на хор, и на драмкружок. Я улыбнулась, как будто поняла, о ком он говорит.
– О Генрихе Гельфмане. Ему некуда идти после школы, а домой он возвращаться не хочет. И мне кажется, что он влюблен в нас. – Рейчел наконец улыбнулась. – А еще этот Максимилиан Гризер…
– Максимилиан? Он не может посещать драмкружок. Ему не меньше пятнадцати!
– Он постоянно околачивается неподалеку, предлагает поднести мои книги, собрать реквизит – даже выстроить декорации. Он надутый, как индюк, но я уверена, что он безопасен – просто влюбленный подросток.
Лия нахмурилась.
– Я просила курата Бауэра, чтобы он не подпускал его близко. Пожалуйста, не поощряй Максимилиана. От него могут быть неприятности.
Рейчел разозлилась.
– Я никогда… – Она запнулась. Лучше сменить тему разговора. – Генрих очень увлекается, но иногда кажется слишком серьезным. – Рейчел поставила чашку на блюдце. – Мой профессор всегда говорил: лучшая подготовка к игре на сцене – это личная драма. Я не знаю, что именно, но подозреваю, что в жизни мальчишки что-то произошло, что-то, что дает ему возможность проникать в душу персонажей, которых он изображает.
– У него болеет мама. В прошлом году она потеряла ребенка. Кажется, младенец родился мертвым. Знаю одно: она отправилась в больницу рожать, а вернулась с пустыми руками. Вскоре мужа забрали на фронт. Она, похоже, сильно горюет.
– Генрих ее единственный сын?
– Да.
– Он с лихвой заменяет двоих, а то и троих, – саркастически заметила Рейчел.
Лия рассеянно улыбнулась.
– По крайней мере, у нее есть ребенок.
Повисло молчание, которое нарушил стук в дверь.
– Я даже не думала… – произнесла Рейчел, – что у вас с Фридрихом… учитывая его состояние… не будет детей.
Она внезапно осознала, что это может означать для сестры – ее сестры, которая расцветала в присутствии детей, даже чужих.
Лия расправила плечи, встала, поставила чашку с блюдцем в раковину, повернувшись спиной к сестре.
– Мне очень жаль, – сказала Рейчел.
Лия не шевелилась.
Второй раз за день Рейчел пожалела о том, что не удержала язык за зубами. Она не знала, как поступить, не желала огорчать Лию еще больше. Но ей было больно, больно за Лию, которая являлась ее частью, и с каждым днем эта боль усиливалась.
– Я могу тебе чем-то помочь? – спросила Рейчел.
Лия качнула головой, но продолжала стоять, склонившись над раковиной. На кухне раздавалось лишь тиканье часов.
– Скажи… – начала Лия, не поворачиваясь.
Рейчел ждала.
– В том Институте во Франкфурте… они когда-нибудь… тебе когда-нибудь делали операцию?
– Какую?
– Какую угодно.
– Не помню.
– Ты оставалась там надолго? На пару дней? На неделю? Дольше? К тебе никогда не применяли анестезию, не помнишь?
– Нет. Визит к врачу всегда занимал часа два-три; каждые два года – обычные осмотры, иногда слишком тщательные. А потом обед с врачами в дорогом ресторане или ужин и поход в театр. Поход в оперу – с отцом и доктором Фершуэром или с этим ужасным доктором Менгеле. Они всегда были очень милы – очень предупредительны. Откровенно ласковы. Мне было все равно. Я ненавидела, когда мне указывали, куда ехать. А что?
Лия замерла.
– В чем дело?
Когда Лия повернулась к сестре, ее лицо было белее мела. Рейчел отпрянула.
Сестры не сводили друг с друга глаз. Рейчел не могла понять, что произошло. Неужели с Лией в Институте сделали что-то ужасное? Неужели именно поэтому у них с мужем никогда не будет детей?
– Что с тобой там произошло?
Лия открыла было рот, чтобы ответить, но слова не шли с языка.
– Лия! – Рейчел потянулась к сестре, но тут обе вздрогнули от резкого стука в дверь.
Рейчел схватила свою чашку с блюдцем и спряталась в шкафу.
43
Лия пыталась унять бешено колотящееся сердце. Она прижала ладони к щекам. Вновь раздался стук в дверь.
– Фрау Гартман!
Лия вздохнула и распахнула дверь.
– Шиф Шраде! Я… мы вас сегодня не ждали. – Она лихорадочно пыталась припомнить, не забыла ли чего-нибудь… Может, бабушка о чем-то упоминала? Или намекал курат Бауэр? «Новых беженцев не было – пока!»
– Сюрприз – подарок от вашего приятеля-журналиста, который снимает у вас дом. – Лесничий подмигнул.
– Подарок?
– Отойдите в сторонку – нужно место! – И он втащил в кухню норвежскую ель.
– Елка?
– Ja! Ja! Рождественская елка! Герр Янг сказал, что это самое меньшее, чем он может отблагодарить свою благодетельницу за то, что она позволила ему остановиться в ее доме. А еще он просил вам передать, что надеется скоро вернуться – за очередной сенсацией, над которой работает для американской газеты.
– Какая красивая!
В невысоком дверном проеме появилась бабушка. Она всплеснула руками, прижала их к груди.
– Елка! Рождественская елка! Ой, Шиф Шраде, как мило с вашей стороны!
– Не меня благодарите.
– Давай поставим елку у тебя в комнате, Лия? Когда Фридрих очнется, первое, что он увидит, – ель.
Шиф Шраде засмеялся, глядя на Лию. Она зарделась.
– Nein, фрау Брайшнер, по-моему, елка будет не первым, что он увидит. – Лесничий тряхнул поклажей. – Показывайте дорогу.
* * *
Как только лесничий ушел, бабушка позвала Рейчел, Ривку и Амели из тайника на чердаке, чтобы девочки пришли посмотреть на елку, а потом вновь отослала Рейчел на чердак – за коробкой с украшениями.
Когда Рейчел вернулась, бабушка обхватила Ривку за плечи.
– Похоже, ты раньше никогда не наряжала елку?
Ривка медленно покачала головой.
– Тебе понравится! – заявила бабушка.
Амели, впитывая в себя происходящее, захлопала маленькими ладошками и стала танцевать. Бабушка засмеялась.
Но у Ривки был такой вид, как будто ее заставили есть свинину вопреки ее еврейскому воспитанию.
– Как чудесно пахнет! – Рейчел провела пальцами по душистым веткам, отчасти радуясь тому, что Ривку елка не впечатлила.
«Возможно, такие мелочи и дадут ей понять, что между ней и Джейсоном пропасть».
– Лучше дождаться, когда придут дети, – посоветовала Лия.
Она была бледнее, чем обычно.
– Дети? – Рейчел округлила глаза.
У нее в голове не укладывалось, что можно взять еще кого-то из беглецов.
– Klopfelsingen – давняя традиция альпийской детворы, когда они ходят по домам и поют песни, – объяснила ей Лия. – Я буду ходить с ними. И вы можете послушать, но так, чтобы вас никто не увидел. Нам не нужно, чтобы дети заметили, как из-за занавесок смотрят любопытные глаза.
– Тут еще кое-что, – таинственно прошептала бабушка и пальцем поманила всех на кухню. – Идите посмотрите, что еще принес Шиф Шраде – очередной подарок от твоего молодого человека.
Бабушка улыбнулась Рейчел, а та подумала: «Неужели она наконец-то простила мой проступок на рождественской ярмарке?»
– Карп! – взвизгнула Рейчел, глядя на барахтавшуюся в металлическом тазу рыбу.
– Ой, у меня весь пол будет мокрый! – засмеялась Хильда.
– Карп на Рождество! – удивилась Лия. – Мы целых три года не ели карпа.
Старушка усмехнулась.
– Пусть плавает до сочельника. – Она обняла Амели. – А вы, юная леди, сможете каждый день приходить и смотреть на него.
Амели, личико которой сияло от счастья, как будто она поняла каждое сказанное слово, протянула ручонки вверх и погладила ямочки на бабушкиных щеках, которые появлялись всегда, когда та улыбалась.
* * *
Джейсон уже устал от Рождества, а может, истосковался по празднику. Он и сам не мог решить, какие именно чувства испытывал. Знал одно: встречая Рождество вдали от семьи, в городе, где идет война, где нет подарков, а рацион скуден, чувствуешь себя более одиноко и безрадостно, чем во время любого другого праздника.
Немцы просто помешаны на рождественской елке – даже больше, чем американцы. И не имеет значения, насколько беден стол, насколько нуждаются, насколько отчаялись люди, они все равно находят способ украсить елку у окна. Но согласно правилам светомаскировки не должно быть видно даже тени, все шторы должны быть плотно задернуты. Никаких мерцающих свечей, никаких электрических лампочек ночью. И было в этом что-то еще более тоскливое, более холодное, как если бы этих елей за окнами не было вообще.
Поэтому Джейсон выбрал командировку в Оберндорф, в Stille Nacht[42], где впервые был исполнен этот рождественский гимн. Янг испытывал ностальгию – чувство, проявления которого он старательно избегал вот уже много лет. Но в этом году, сидя в темноте и больше не в силах мириться с ненавистью к нацистам и их пропаганде, в особенности потому, что Рейчел с Амели находились в том месте, куда он не решался наведаться, Джейсон почувствовал, что просто должен куда-то уехать.
Хорошо бы прикоснуться к чему-то чистому, святому, пусть даже всего лишь на час. Джейсону хотелось спеть с местными жителями простые и святые слова гимна Йозефа Мора на музыку Франца Грубера.
Крошечная белая часовенка с черным куполом, известная далеко за пределами как Stille-Nacht-Kapelle, стояла отдельно на холме, среди вечно зеленых сосен, украшенная гирляндами из сосновых веток и красными лентами. Восьмиугольная, славившаяся своей удивительной акустикой, эта знаменитая часовня была открыта всего два года назад – много-много лет спустя после того, как наводнением была разрушена стоявшая на этом месте церковь.
Джейсон обошел вокруг часовни, всматриваясь в нее со всех сторон. Он целый час провел с местными жителями за кружкой пива и еще минут тридцать беседовал с представителями духовенства. Статья была уже практически написана. Радуясь тому, что находится в этом месте, Джейсон больше всего хотел бы услышать красивый гимн в исполнении сладкоголосого детского хора Лии.
Ночь тиха, ночь свята, Люди спят, даль чиста; Лишь в пещере свеча горит; Там святая чета не спит, В яслях дремлет Дитя, в яслях дремлет Дитя.Впервые в жизни Джейсона Иисус был не просто святым младенцем – не просто ребенком в яслях. Он был Мессией для евреев, Спасителем человечества – Спасителем, который так отчаянно был нужен Германии и всему миру. У Джейсона захватило дух, так он был потрясен тем чудом любви к людям, которую проявил Бог, принося свою небывалую жертву. Иисусу было бы намного проще отвернуться от всего мира – мира, в котором тогда, и даже сейчас, от Него отрекаются.
Вот что увидел Джейсон, когда второй раз прочел Nachfolge. Абзацы из Библии, которые детально разбирал Бонхёффер, больно ударили по эго журналиста – по его высокомерию, но он открыл новую жизнь, по-новому увидел Христа; с его глаз спала пелена. Джейсон менялся – трансформировался. Как? Он и сам не мог объяснить. И Бог, которого он раньше по-настоящему не знал, его не оставит.
Намного легче оказалось согласиться с фрау Бергстром: переехать в Обераммергау и прятать детей – тех, которых рейх хотел истребить, – чем отречься от себя, чем принять то, что для себя – умираешь, а живешь только во имя Христа. Одно дело – рисковать, ходить по лезвию ножа. Даже к адреналину быстро привыкаешь. А вот возлюбить своего врага, протянуть ему руку, чтобы по-настоящему жить в этом мире – не прятаться от него, пусть и за написание статей, – было для Джейсона действительно в новинку. И ему необходимо было время, чтобы осознать эту мысль, понять, что же она значит и как с ней жить в разгар войны.
На укрытые снегом холмы легли тени. Джейсон еще раз обошел часовню, спрятал замерзшие руки в карманы куртки. Вскоре местное население соберется в часовне, будет толпиться на холме. Джейсон жалел, что рядом нет Рейчел, которая могла бы вместе с ним присутствовать на церковной службе, спеть о том, как дремлет Дитя. Интересно: а она бы поняла, что это означает? Так же, как это понимает он?
Джейсон гадал, понравится ли Рейчел его подарок – отдала ли его Ривка девушке или действительно ждет Рождества.
Жаль, что он не взял с собой фотографию Рейчел и Амели. Но риск был слишком велик. После последней встречи с Герхардом Шликом и его приятелями Джейсон не решался носить при себе такие улики. Даже если Шлик не узнает в маленьком мальчике собственную дочь, он ни за что не перепутает Рейчел Крамер с Лией Гартман. Журналист пошел на риск, чтобы забрать пленку из дома Лии Гартман, когда приезжал в Обераммергау на рождественскую ярмарку. Теперь пленка лежала в безопасном месте, ждала часа, когда ее можно будет, не рискуя, проявить. А пока оставалось только мечтать.
* * *
Вокруг защищенного от непогоды бабушкиного дома кружились снежные вихри, от которых звенели стекла в окнах. Мирно горели в печи угли. Радио трещало и что-то бормотало, пока собравшимся все-таки удалось различить слова диктора.
– Какая погода! – вздохнула бабушка, поставила на полку последнюю вымытую после ужина тарелку и вытерла руки о фартук. – Не уверена, что завтра мы сможем добраться до церкви.
– Я лучше принесу еще дров, прежде чем мы ляжем спать. – Лия накинула пальто на плечи.
– Углей у нас достаточно, а ты уже приносила дрова. Мы и половины до утра не истопим.
– Ты только представь, какие глубокие будут сугробы, если метель не закончится. Я лучше схожу сейчас, чем потом буду утопать в снегу по колено. – Лия натянула рукавицы и вышла в ночь.
Бабушка вздохнула. Обычно дрова приносил Фридрих – до этой проклятой войны. Теперь все делала Лия. Рейчел помогала по дому, но ей даже в голову не приходило взять на себя часть обязанностей потяжелее. Бабушка видела, что она пытается измениться, нести свой груз, отбросить привычное чувство избранности. Семейная жизнь, где каждый живет ради других и все живут во имя Господа, была для Рейчел в новинку.
– Моя внучка чувствует себя не в своей тарелке, – пробормотала бабушка.
«И пройдет немало времени, прежде чем она взвалит на себя тяжелую работу – если это вообще случится».
Лежащий в кровати мужчина был худым – скелет, обтянутый кожей; его мышцы атрофировались. С тех пор как военные санитары внесли Фридриха в дом, он ни разу не пошевелился, ни разу не открыл глаза. И Лия, внешне оставаясь терпеливой и спокойной, вся извелась от тревоги за мужа.
Бабушка видела это по ее напряженному лицу, по блеску невыплаканных слез в глазах, по поникшим плечам, когда ее внучка наконец-то устало садилась вечером отдохнуть. Даже радость от детского хора поблекла.
Бабушка не стала говорить это внучкам, но разница между ними становилась все заметнее, и больше скрывать правду от местных жителей было невозможно. И Хильда не знала, как они тогда поступят.
Пожилая женщина придвинула стул поближе к печи и наклонилась, чтобы настроить радио. Сквозь помехи прорвался громкий голос фюрера. Бабушка инстинктивно отпрянула, потом опять стала вращать ручку настройки.
Вторая радиостанция рассказывала о домохозяйке из Берлина, которая украла у соседки продовольственные карточки, и ее осудили на три месяца тюрьмы – как раз на Рождество.
«Наверняка ей были нужны эти карточки, чтобы прокормить семью. Как война меняет нас, людей».
Далее последовало напоминание о запрете принимать зарубежные радиостанции. И наказание за проступок: «Никакой пощады преступникам-идиотам, которые слушают ложь наших врагов». Дальше можно было выключать радио. Одно и то же передавали всю неделю. Тюремное наказание грозило тем, кого поймают или просто заподозрят в том, что он ловит Би-би-си.
Бабушка услышала, как Лия топает сапогами по деревянному крыльцу, потом по соломенному половику. Затем раздался грохот поленьев в прихожей и Лия стала не спеша укладывать дрова для растопки. Она насыпала в печь еще ведро угля. Рейчел с Ривкой придвинули стулья ближе к огню. Укрытая одеяльцем Амели уже крепко спала в своей кровати на чердаке.
Бабушка в очередной раз переключила радиостанцию, надеясь найти какую-нибудь легкую музыку. Ждать подарков на Рождество не приходилось – за исключением елки, подаренной герром Янгом, и карпа, которого они уже разделали (пока не видела Амели) и приготовят завтра на обед. Сахара нет – никаких тебе булочек или медовых пряников, никаких пирожных в сахарной глазури, как бывало в минувшие годы.
Еще два вращения ручки настройки – и кухню в голубых и белых тонах наполнили нежные ноты Stille Nacht. Бабушка улыбнулась, откинулась на спинку кресла, устроила голову на высоком подголовнике, радуясь тому, что хоть что-то не меняется, хоть что-то остается истинным. По крайней мере, в Германии всегда будет звучать музыка – чистые, сладкоголосые рождественские гимны.
Когда хор перестал напевать, Хильда прикрыла глаза, счастливая оттого, что это первое Рождество – несмотря на его своеобразие и риск, которому они все подвергались, – которое она проведет с обеими внучками, а также с Амели и Ривкой, успевшими стать ее семьей, как будто они были ей родными.
«Ночь тиха, ночь свята…»
– Мой любимый гимн, – прошептала старушка. По крайней мере, в этом она могла признаться.
«Люди спят, даль чиста…»
– Как красиво, – бормотала бабушка.
Но после второй строчки слова были другие. Не те, что готовы были слететь у Хильды с языка, не ее любимые строчки, которые она пела всю свою жизнь. Старушка распахнула глаза.
Лишь наш фюрер не спит, Бой вот-вот закипит. Он за нами следит, Неустанно он бдит. Фюрер помнит о нас, Фюрер помнит о нас. Ночь тиха, ночь свята, Люди спят, даль чиста; Гитлер – гордость Германии, Он – залог процветания! Он нам славу несет, Он державу спасет! Силу немцам дает, Силу немцам дает![43]Холод, проникший в бабушкино сердце, в свете лампы отразился на бледных лицах трех девушек.
Лия выключила радио, и все продолжали сидеть в тишине.
44
Когда Лия рождественским утром выглянула в окошко из-под светомаскировки, ее взору предстали укрытые снегом дороги. После вчерашней метели все тропинки, ведущие в деревню, стали непроходимыми из-за сугробов. Лии удалось расчистить лопатой дорожку к маленькому бабушкиному сараю, подоить корову. Сегодня уж точно никто из нацистов к ним не приедет.
Было так приятно вдыхать запах ели, которая стояла у них в комнате, уютно свернуться калачиком под стеганым одеялом и поспать еще часик рядом с мужем, забыть, что скоро она должна снова встать, поменять простыни и покормить его.
Какое блаженство было представлять, что в любой момент Фридрих может проснуться, заключить ее в объятия. Это был любимый сон Лии, хотя представлять такое становилось все сложнее. «Больше похоже на то, что лежишь рядом с трупом». Она устыдилась своих мыслей, поморщилась. А потом по ее лицу заструились слезы и стали падать Фридриху на плечо – так происходило каждое утро.
– Пожалуйста, Фридрих! Пожалуйста, очнись! – шептала Лия. – Сегодня Рождество. Мне нужен только ты. Я люблю тебя, мой родненький, любимый муж. Что бы ни случилось, через что бы тебе ни довелось пройти, кем бы ты ни стал, что бы еще нам ни пришлось вынести – позволь мне испить эту чашу с тобой. Пожалуйста, Фридрих… пожалуйста, открой глаза.
Но Фридрих не шевелился. Казалось, он почти не дышал.
Целый час Лия гладила его лицо, грудь, плечо, потом встала, сунула ноги в холодные тапки. Сегодня вечером она зажжет свечи на елке и будет петь мужу – старинные рождественские гимны, те, которые он так любил. Это будет ее подарок – независимо от того, услышит он их или нет.
* * *
Хильда старалась изо всех сил, чтобы Рождество у их семьи выдалось веселым, хотя ей трудно было сохранять улыбку, когда она увидела лицо Лии, то, как та покачала головой в ответ на вопросительно вздернутые бабушкины брови. Старушка уже давно перестала спрашивать о состоянии Фридриха. Лии трудно было признать, что лучше ему не становится, что нет даже намека на улучшение, что, пока они спали, ее муж, кажется, еще больше угас.
Около полудня они закончили поздний завтрак, а взрослые выпили по второй чашке суррогатного кофе – заваренного из той же гущи, что и вчера. Амели выпила чашку горячего шоколада – шоколада, который Джейсон тайком передал через лесничего Шраде и который она с радостью разделила с новой куклой, сделанной для нее Лией из носового платка. Рейчел начала убирать со стола, когда в заднюю дверь постучали.
Все подняли головы, удивленно распахнули глаза.
– Кто это? Господи милостивый! – запричитала бабушка.
Рейчел потянула Амели к шкафу. Ривка последовала за ними. Вновь раздался стук, уже настойчивее. Лия похватала оставшиеся чашки и остатки еды и побросала все в миску для мытья. Бабушка поставила на место стулья и пошла закрыть дверцу шкафа за девочками. Стук становился все громче.
* * *
Лия поправила фартук и волосы, шагнула в холодную прихожую, открыла дверь кухни.
– Веселого Рождества, фрау Гартман! – Ребенок протянул ей что-то прямоугольное, завернутое в коричневую бумагу и перевязанное бечевкой.
Женщина втянула его в дом, подвела к печке.
– Я пришел с-с-с п-п-подарком для герра Г-г-Гартмана. – Мальчишка стучал от холода зубами.
– Для Фридриха? – Лия замерла на месте, держа шарф мальчика в руках. Она представить себе не могла, что можно подарить ее неподвижному мужу. – Он… он не совсем здоров, Генрих.
– Ему нужно это, что бы п-п-поправиться. – Мальчик продолжал стучать зубами и дрожать всем телом.
Лия не знала, что ответить.
– Стаскивай сапоги и садись у печки. Ты весь промок! А мама знает, куда ты пошел в такую погоду?
– Н-н-не знает. Они с соседкой отправились в церковь на санях. Я притворился больным, и она решила, что на улице для меня с-с-слишком холодно.
– Генрих Гельфман! Мама была права! – Лия помогла парнишке снять пальто.
– Но сегодня же Рождество, я должен был подарить это герру Гартману. – Генрих снова протянул пакет Лии. – Откройте, фрау Гартман. Он бы очень хотел, чтобы вы открыли. А потом расскажете ему, что это.
Лия не могла заставить себя ответить мальчику улыбкой, глядя в его исполненное надежды лицо. Она села у печи в кресло-качалку, взяла подарок, потянула за узел бечевки, развернула коричневую бумагу. Несомненно, это была фигурка младенца Иисуса, которую Генрих украл несколько недель назад. Как приятно получить ее назад! Это лучшая работа Фридриха, и он никогда уже не вырежет другую. Лия приготовилась поцеловать Генриха Гельфмана в лоб.
Но когда она развернула подарок, то увидела всего лишь деревянный брусок. Очередная злая шутка – от этого Лии стало больнее всего. Из ее глаз брызнули слезы.
Не успела она сказать мальчишке, как больно он ее ранил, как Генрих торопливо заговорил:
– Я забрал у герра Гартмана младенца Иисуса. Он был таким красивым, и я думаю, что он поможет – по крайней мере, надеюсь на это.
– Где он, Генрих? – спросила Лия. – Где младенец Иисус?
– Не могу сказать, – выпалил мальчик, как будто разговаривал с ребенком, который не понимает простейших вещей. – Но герр Гартман сможет вырезать еще одного… вот из этого дерева. Это отличный кусок дерева! Я целых пять недель работал у герра Хохбаума в школе краснодеревщиков – подметал и смазывал инструменты. Это отличный кусок дерева, – повторил он. – Ценный. Герр Хохбаум уверял, что это лучшее, что у него есть.
Лия покачала головой – ей было очень больно; она разозлилась настолько, что не могла говорить. Когда тебе дают кусок мертвого дерева вместо прекрасного младенца Иисуса, которого вырезал из дерева Фридрих, – младенца, который внешне, как они надеялись, походил на них с Фридрихом, – это то же самое, когда тебе привозят ссохшийся труп вместо мужа, пустую оболочку вместо улыбающегося очаровательного мужчины с силой быка. Ей было очень неприятно подбирать остатки – то, чем кто-то воспользовался за ее счет, а затем выбросил вон. Лия встала, и подарок Генриха с громким стуком упал на пол.
Мальчик не сводил с нее глаз и выглядел обиженным.
Лия почувствовала, как зарделась от стыда и злости. Она уже замахнулась, чтобы ударить Генриха, но в этот момент в дверь вошла бабушка.
– Лия! – воскликнула Хильда.
Молодая женщина вся дрожала от охватившего ее гнева. То, что она удержалась от пощечины, которую хотела дать всему миру, а особенно Генриху, окончательно вывело ее из равновесия. Бабушка гладила внучку по плечам, рукам, убрала ее ладонь, зависшую над головой мальчика.
– А зачем тебе младенец Иисус, Генрих? Расскажи. Помоги нам понять, – настойчиво попросила Хильда.
Глаза мальчишки наполнились слезами, и он покачал головой.
– Не могу. Если я расскажу, может не исполниться. – Он нагнулся, чтобы поднять деревяшку, и положил ее на стоявшее у печи кресло-качалку. – Пока что дерево еще не очень красивое, но герр Гартман создаст из него шедевр. Он лучший резчик в Обераммергау – я всем так говорю. – Генрих казался исполненным надежд, но несколько неуверенным. – Не печальтесь, фрау Гартман. Уже недолго ждать. Сами увидите.
Но Лия отвернулась и заплакала у бабушки на плече.
– Мне кажется, Генрих, что тебе сейчас лучше потеплее одеться и уйти, – прошептала Хильда. – Ты же хочешь вернуться домой до прихода мамы, пока она не обнаружила твоего исчезновения?
– Да, фрау Брайшнер. – Мальчик, нахмурив лоб, натянул черные сапоги на туфли.
Бабушка продолжала прижимать внучку к плечу.
Генрих застегнул пуговицы на пальто и натягивал кепку на уши, как вдруг поднял из-под кухонного стола тряпичную куклу и провел пальцем по пятну от шоколада.
– Это ваша кукла, фрау Гартман? – Он протянул игрушку Лии, надеясь, что у него на лице написано раскаяние.
– Нет! – воскликнула Лия, не признавая куклу своей.
У нее не было сил что-то выдумывать, в ее теле не осталось ни капли хитрости.
Мальчик в замешательстве нахмурился.
– У вас есть маленькая девочка?
Лия изо всех сил постаралась взять себя в руки и покачала головой.
– Мама сделала куклу для моей сестры еще до ее рождения, – очень печально произнес Генрих. – Но ей так и не удалось с ней поиграть. Она была слишком маленькой, когда ее забрали. – Он усадил куклу в кресло, любовно расправив вышитый кружевной передник поверх юбки. Серьезно посмотрел на Лию. – У вас тоже забрали малышку?
Лия застонала и рванулась прочь из комнаты.
* * *
На чердаке Рейчел удерживала Амели, чтобы та не двигалась, молча ругая себя за то, что не забрала новую куклу, прежде чем забраться в шкаф. «Дурацкая ошибка, которая может дорого стоить! Моя единственная обязанность – следить за Амели, а я опять все испортила! Пожалуйста, пожалуйста, огради бабушку от последствий моей глупости!»
Ривка наклонилась ближе к печной трубе – так было легче услышать то, что говорили на первом этаже. Тогда Рейчел и увидела, что под блузкой у девушки висит кулон, который подарил ей Джейсон, – маленький бриллиант в середине золотого овального медальона. Рейчел закрыла глаза и сглотнула обжигающий ком. Ривка ни разу не упоминала о своих чувствах к Джейсону, хотя сама Рейчел иногда ловила девушку на том, что взгляд ее затуманивается, как будто она мечтает о чем-то или ком-то. «Она же еще подросток! О чем думал Джейсон Янг, когда увлекся этой девочкой? Что в ней такого, чего нет во мне?»
Когда же Генрих Гельфман наконец-то ушел, Рейчел протяжно вздохнула – ее шея и плечи затекли от напряжения – и прижалась лбом к макушке Амели.
* * *
Это было самое длинное и самое напряженное Рождество на бабушкиной памяти. Обе внучки готовы были вот-вот расплакаться, одна была раздражительнее другой. У Ривки был такой вид, как будто она шагнула в мир, которому не принадлежит, и испытывает чувство вины за то, что топчется там в сапогах. Бедная девочка! Маленькая Амели переходила от одной взрослой женщины к другой, вглядывалась в лица, прижимала к себе тряпичную куклу, как будто та могла подсказать, кто из этих хмурых взрослых хочет с ней поиграть.
К тому времени, когда закончили ужинать и вымыли и убрали посуду, бабушке хотелось опустить свою усталую голову на подушку. Но, несмотря на суровое испытание с Генрихом Гельфманом с его бесконечными вопросами, Лия была решительно настроена зажечь свечи на елке, стоявшей у Фридриха в комнате, и спеть.
Было что-то ненормальное в том, чтобы петь песни возле полуживого человека в мерцающем свете свечей. «Пусть лучше он умрет, пока не высосал из Лии все жизненные соки. По крайней мере, она погорюет и в конце концов смирится. Но этот живой мертвец продолжает дышать!» Бабушка чувствовала, что ей следует пожалеть о таких греховных мыслях, раскаяться. Но не могла.
И тем не менее своей любимой Лии она была не в силах отказать, особенно в этом году и в этот день. Все переоделись в теплые пижамы, принесли стулья в комнату Лии и Фридриха, поставили их вокруг елки. Лия осторожно зажгла расставленные свечи. Бабушка держала на руках Амели – малышка прижала ушко к бабушкиной груди, чтобы чувствовать вибрации, когда взрослые будут петь. Они пели гимны вместе, потом Лия исполнила одна любимую с детства песенку Фридриха «Святая ночь». У нее был чистый, похожий на звон колокольчика голос – просто ангельское пение.
Где-то на середине второго куплета бабушка достала из кармана платочек и вытерла слезы, которые текли по лицу уставшей от пения Лии. Амели соскользнула с бабушкиных коленей. Старушка отпустила ребенка.
* * *
Фридриху снилось, что он почти на небесах, а в пути его сопровождают голоса ангелов. Чем дальше он шел, тем ближе и ярче становился свет. Ангельские создания с баварскими косичками вокруг головы, облаченные в белые одежды, пели в унисон. На его грудь перестало давить, потом давление вернулось, затем опять исчезло. Фридрих узнал бабушку, обрадовался, что она здесь, пришла его встретить, хотя и осознавал, что Лии, должно быть, очень одиноко, раз они с Хильдой уже на небесах.
А потом к нему навстречу бросился ребенок, о котором они с Лией ежедневно молились. Малыш провел крошеными пальчиками по его губам, погладил по лицу. Он был очень похож на младенца Иисуса, которого Фридрих вырезал из дерева, на младенца, о котором он так молился, когда работал. Неужели его молитвы в конце концов были услышаны на Небесах?
Ангелы с косами повернулись – очень похожие на Лию, одно лицо с ней. Фридрих всегда знал, что ангелы похожи на его ангела-жену.
Ребенок счастливо ахнул, ткнул в него пальчиком, помахал рукой. Фридрих слабо улыбнулся. Он был таким уставшим. Было бы неплохо отдохнуть после долгого пути…
– Фридрих! Фридрих! – Ангелы окружили его, хором произнося его имя.
Он чувствовал, что разрывается: с одной стороны, хочет покоя и отдыха, а с другой – его влекут голоса, которые становятся все более настойчивыми.
Его тело стало покалывать словно иглами – едва заметно, но это ощущение было новым. Фридрих хотел открыть глаза, даже не веря в то, что они откроются. Над ним повисли два размытых лица – две Лии. Он не мог вытянуть руки, но все-таки попробовал дотянуться до них, насколько мог… глазами, сердцем.
– Лия, – прошептал он. – Моя Лия.
45
Когда Фридриху удалось сфокусировать взгляд на лице жены… Рейчел едва дышала. От этого мужчины осталась одна оболочка: израненное тело без глаза, но то, что отразилось на его лице, было настолько красивым и необычным, что сбивало с ног. Рейчел даже позавидовала сестре. Ей тоже захотелось иметь то, что дарил в это мгновение Фридрих ее сестре Лии… Рейчел очень хотелось… как же ей хотелось, чтобы так смотрели на нее! Она не могла произнести это вслух, но и отрицать не могла. Девушка выскользнула из комнаты, забрав с собой покладистую, но немного испуганную Амели. Онемевшая от изумления Ривка последовала за ними.
Рейчел уложила Амели в самодельную кроватку, а сама устроилась на своей койке, придвинутой вплотную к кровати девочки. Впервые она позволила малышке прижаться к ней. Печная труба, идущая через чердак, давала достаточно тепла, чтобы можно было спать. И тем не менее Рейчел била дрожь. Не прошло и десяти минут, как рядом с ней ровно задышала заснувшая Амели.
Рейчел укрылась с головой, желая одного: скорее бы закончился этот день. Она спала на соломенном матрасе на чердаке в баварской деревушке вместе с глухим ребенком и еврейской девочкой-подростком. Ее воспитывали – холили и лелеяли – для того, чтобы она стала элитой общества, человеком, который расово и генетически находится выше остальных слоев населения. Эту философию вдалбливали в нее с детства. Однако сейчас Рейчел чувствовала себя никчемной.
Бабушка с Лией и Фридрихом прекрасно обойдутся без нее, они же как-то жили до встречи с ней. Амели расцветет в заботливых руках Лии. Даже Ривка в некотором смысле сблизилась с бабулей больше, чем сама Рейчел. И вряд ли удастся что-то изменить. Бабушка и Лия ценили и уважали тех, кто работает, вкладывая душу в свое дело, но, похоже, они не понимали, что Рейчел воспитывали не для того, чтобы она кому-нибудь помогала.
С ее точки зрения, самосовершенствование было куда важнее занятия физическим трудом. Рейчел не могла бы им этого объяснить и сама постепенно переставала в это верить. И впервые задалась вопросом: а правда ли это? Неужели это очередная ложь, слетевшая с отцовских губ? И если так, как очистить свой разум, свою суть, ото лжи?
Девушка повернулась на бок, вытерла слезы рукавом ночной рубашки.
– Рейчел! – зашептала у нее за спиной Ривка.
Рейчел решила не обращать на девчонку внимания. Ее обуревали противоречивые чувства, и меньше всего ей хотелось выслушивать просьбы девочки-подростка, укравшей того единственного мужчину, от близости которого у Рейчел по телу бегали мурашки, – человека, которого она сперва не разглядела, которого ее отец называл мерзким типом из-за решимости журналиста открыть правду.
– Рейчел! – вновь прошептала Ривка, на сей раз настойчивее.
– В чем дело? – Рейчел попыталась сделать вид, будто засыпает и не хочет, чтобы ее будили.
– Я должна тебе что-то сказать.
– Утром. Я устала. Спи, Ривка.
Но Ривка дернула плечом.
– Нет, это не может ждать. Я должна была сказать тебе об этом раньше. Должна была сказать тебе об этом еще утром…
Рейчел глубоко и громко вздохнула, стягивая с головы одеяло.
– Что еще?
Она почувствовала, что ее собеседница села, и разглядела ее размытый силуэт на фоне стены, когда девочка отбросила свои длинные спутанные волосы в сторону и потянулась руками к шее.
– Он просил сохранить это до Рождества, а с утра сразу же подарить тебе. – Ривка нащупала в темноте руку Рейчел и вложила в нее медальон. Рейчел почувствовала, что он металлический, овальной формы, на тонкой витой цепочке. Ривка сжала ладонь Рейчел. – Прости, что не отдала тебе этого раньше. Джейсон просил передать… – теперь голос Ривки дрожал, – что желает, чтобы ты была здорова, счастлива и тебе ничего не грозило… а он обязательно найдет способ вывезти вас с Амели из Германии – он обещает.
Рейчел даже дышать перестала. Зажмурилась, потом открыла глаза, не сомневаясь, что ей снится сон, и отчасти негодуя, что Ривка так долго не отдавала ей подарок Джейсона – то, что было предназначено Рейчел, она носила несколько недель. И тем не менее одна мысль вытесняла остальные. «Джейсон заботится обо мне!»
Ривка легла, повернувшись к Рейчел спиной.
– Прости, – пробормотала она. – Я просто представила, что он мой…
Рейчел решила промолчать. Закрыла глаза и спряталась под одеяло. В темноте она не могла разглядеть медальон, но снова и снова проводила пальцами по спутанной цепочке. Наконец девушка нашла замок и надела украшение на шею. Провела пальцами по медальону, представляя, что это сам Джейсон застегнул украшение на ее шее. Что он восхищается тем, как медальон устроился в ложбинке на груди. «Он заботится обо мне. Он придет за мной. Увезет меня из Германии – он это обещал! Но каким образом он это сделает?» Рейчел пока не могла себе этого представить.
* * *
Поздний час. Рождественский вечер. Редакцию покинули журналисты и секретарша. Марк Элдридж все пытался найти сенсацию или повод проникнуть в дом американского посла – едва не умолял об этом, – но двери посольства были плотно закрыты. Посол не собирался позволять журналистам вторгаться в его семью в праздничный вечер. Снимок был сделан издалека, но Элдридж сделал его, желая произвести впечатление на главного редактора.
Статья Янга «Тихая ночь в Оберндорфе», которую он продиктовал по телефону, была одновременно слащавой и простой. Но главный редактор обрадовался. Казалось, что именно этого люди и ждут на Рождество: чего-то домашнего и сентиментального из Германии. Ни о каких гитлеровских зверствах на праздники писать не желали, хотя атак меньше не становилось.
В начале месяца Янг проявил пленку, отснятую на рождественской ярмарке – розовощекие баварские девушки и белобородые старцы, которые держали на коленях счастливых малышей, играющих вырезанными из дерева игрушками. В них было столько патоки, что можно было бы покрыть самую высокую гору в Германии – Цугшпитце. Более чем достаточно, для того чтобы человека стошнило.
Элдриджу на Новый год нужно было что-то свежее, что-то жизнеутверждающее. В Берлине такого не найдешь. Он отодвинул стул от стола Янга, просмотрел пачки снимков, которые Питерсон оставил в верхнем ящике. Дополнительные. Лучшие снимки Янг уже напечатал. Элдридж видел их на полосах газет.
От разочарования он рывком задвинул ящик. Тот не закрывался. Элдридж опять толкнул ящик, но он почему-то застрял. Тогда журналист вытащил ящик полностью, ощупал его по периметру. Ничего. Вновь попробовал закрыть – и вновь неудача.
Элдридж наклонился и осмотрел внутреннюю часть стола. Под крышкой, ближе к задней стенке, что-то висело, словно наживка на крючке. Элдридж протянул руку и вытащил из тайника небольшой цилиндр, обмотанный липкой лентой. Открыв крышечку контейнера, высыпал содержимое на ладонь.
– Так, так, ас журналистики, а здесь у нас что?
46
«Немецкий народ не хочет этой войны. Я до последней минуты пытался сохранить мир с Англией. Но евреи и реакционные милитаристы дождались своего часа, чтобы воплотить в жизнь свои планы и разрушить Германию».
Рейчел выключила поздравительную речь фюрера, с которой он выступал перед Новым годом. Девушка жалела о том, что эти «евреи и реакционные милитаристы» – кем бы они ни были – на самом деле разрушили Германию, по крайней мере, ту Германию, которая появилась с тех пор, как Гитлер пришел к власти.
Новогодняя процессия со звездой – шествие бродячих музыкантов и деревенских хоров с фонарями в знак радушной встречи Нового года – была отменена из-за светомаскировки. Но несмотря на это Лия настояла: чтобы поднять настроение, они поздно вечером зажгут фонари и споют, прежде чем Фридрих заснет. И опять они принесли стулья в спальню Фридриха и Лии.
К Новому году Фридрих уже научился по часу сидеть в кровати (по крайней мере дважды в день), есть густой, наваристый бабушкин суп – спасибо курату Бауэру, который приносил им мясо и рыбу. Но физически Фридрих был еще очень слабым и изможденным, и слезы струились по его щекам по любому пустяку. Он не мог петь, с трудом разговаривал, но Рейчел еще никогда не видела, чтобы человек умел столько сказать одними глазами. Как никогда не видела и того, чтобы женщина так легко, как ее сестра, понимала этот язык. Лия от души пела благодарственные молебны Господу и светилась надеждой. Фридрих впитывал все в себя. Когда зрелище чужого счастья становилось совсем невыносимым, Рейчел потихоньку выходила из комнаты.
Но мучавшие Фридриха кошмары и крики, от которых холодела кровь, сотрясали маленький домик, расшатывали нервы его обитательницам. Через стены Рейчел слышала, как Лия успокаивает своего мужа по вечерам. Слов Рейчел не понимала, однако улавливала настойчивость в продолжительных, прерывающихся рыданиями объяснениях Фридриха.
Целую неделю между праздниками Лия не собиралась отходить от кровати Фридриха ни на минуту, поэтому между Рождеством и Новым годом и на следующей неделе уроки театрального мастерства и хорового пения отменили. Рейчел сходила с ума. Она готова была взорваться от того, что ей приходится сидеть взаперти в этом переполненном эмоциями доме. Только благодаря медальону Джейсона она не потеряла рассудок.
Но после памятной рождественской ночи Ривка стала отдаляться от нее, выглядела более подавленной, и Рейчел могла только догадываться: то ли девочка скучает по медальону, то ли ей не хватает фантазий, которые этот медальон рождал.
«Не стоило ей так долго держать украшение при себе. Не стоило фантазировать о взрослом мужчине, лет на десять старше ее».
– Тебе не жалко ее, Рейчел? – как-то утром спросила бабушка, когда Ривка в слезах выскочила из-за стола после нотаций Рейчел. – У ребенка не осталось семьи, она понятия не имеет, что произошло с ее родными.
– Я в этом не виновата! Мой отец тоже умер.
– Ты отлично понимаешь, что у тебя все по-другому. – Хильда нагнулась к Рейчел через стол. – У тебя есть я, Лия, Фридрих.
Бабушка была права, но девушка уже устала от того, что Хильда принимает чью угодно сторону, только не сторону Рейчел.
– Мы ей не нравимся. Она еврейка, – прошептала Рейчел. – Чего же ты ждешь? Даже Фридрих на нее не смотрит.
Бабушка встала, сбив при этом чашку, да так резко, что Рейчел показалось: сейчас Хильда ее ударит.
– Фридрих помнит ужасы, которые он совершил с польскими евреями. Ему стыдно.
Рейчел почувствовала, как краска заливает ее лицо.
– Я понимаю. Но Германия воюет. В этом и заключается ужас войны, – гнула она свою линию. – Ее нельзя остановить. Фридрих не мог ее остановить. Я тоже не могу остановить войну – она повсюду! Поэтому, пожалуйста, не нужно меня винить.
Бабушка расправила плечи – ее губы дрожали от злости – и вышла из комнаты.
Рейчел закатила глаза. Хильда не стала с ней скандалить. А Рейчел так необходим был хороший скандал.
Она понимала, что должна лучше относиться к Ривке, что ведет себя, как капризный ребенок, с ней, а иногда и со всеми в доме. Но Рейчел была права в одном: никто из них не был способен остановить безумие Гитлера.
И все же девушка знала, что ее желание избавить Ривку от фантазий относительно Джейсона подпитывается воспоминаниями об отцовских тирадах о поляках, евреях, славянах, неграх и азиатах. Профессор часто повторял, что уже само их существование – проклятие для мира. Что следует ограничить их размножение, пока они не ослабили общество, не утащили его вниз, до своего уровня. Такое разделение (и стерилизация – в самом крайнем случае) – всего лишь проявление милосердия. И принесет пользу всему человечеству.
Рейчел прикусила губу. Она понимала, что сама эта идея – безумие, такое же безумие, как и все, что задумал Гитлер. Она ни за что не призналась бы бабушке в том, что когда-то разделяла подобные взгляды. Даже теперь, осознавая, что евгеника – это пшик, ерунда, слишком легко было считать себя лучше остальных. Слишком много безумия, слишком много лжи – не разберешь, что правда, а что ложь. И в голове у Рейчел все переплелось, как волосы в косах.
47
Курат Бауэр преклонил колени у кровати в утренней молитве. Он молился о том, чтобы Господь лишил зрения гестапо и – да простит его Всевышний – отца Оберлангера. Чтобы они не замечали его поездок в Мюнхен за евреями и за теми, кто выступал против режима, не замечали его походов на черный рынок за едой, чтобы всех прокормить.
Он молился, чтобы Бог защитил бургомистра Шульца и ту пару, которую тот недавно незаконно сочетал браком: еврея Зибулона Гольдмана и арийку Гретель Швейб.
Он молился за приходского администратора Рааба и двух младших монахов, которые в доме Рааба недавно начали проводить еженедельные религиозные занятия-диспуты для мальчиков под видом программы гитлерюгенда, якобы для изучения и развития навыков обеспечения связи.
Он молил Господа помочь Фридриху Гартману принять прощение, которое было ему даровано. Зверства, которых он насмотрелся во время Польской кампании, могли сломать любого человека. А сердце доброго резчика по дереву не было создано для подобного зла.
Он молился о том, чтобы Джейсон Янг нашел способ рассказать миру историю Фридриха. Курат благодарил Святого Отца за то, что тот вдохновил молодого американца, за преданное сердце и смелую натуру журналиста. Священник не мог бы желать более решительного собрата по Сопротивлению или более страстного брата во Христе. Способность Янга свободно перемещаться по стране, перевозить фальшивые документы и паспорта была незаменима для обеспечения безопасности евреев.
А Лия Гартман с сестрой… Курат засмеялся прямо посреди молитвы. Он не знал, верить ли фрау Брайшнер, которая в конце концов призналась, что у нее две внучки. Все три женщины в этой семье прирожденные актрисы! Но это многое объясняло: почему фрау Гартман предложила поставить «Страсти Христовы» в нечетный год; откуда в ней взялись уверенность в себе, кипучая энергия и новые таланты. Почему сегодня она стеснительная и скромная, а завтра чуть ли не кокетничает.
Курат покачал головой. Наверное, у герра Гартмана голова идет кругом, оттого что под одной крышей с ним живут две такие красивые женщины. Если он не ошибся в своих догадках, герр Янг с радостью избавил бы Фридриха от присутствия одной из близняшек. «Пожалуйста, Господи, пусть они продолжают обводить всех вокруг пальца!»
Священник передал Рейчел экземпляр Nachfolge, полученный от Джейсона. Герр Янг надеялся завоевать сердце этой фрейлейн. Но курат Бауэр диву давался. Эта девушка воспитывалась в заносчивом духе евгеники. Вера же в Бога Единого, который настолько любил весь мир, что предложил Себя за искупление грехов, – путь к смирению. «Излечи и смягчи ее сердце, Святой Отец».
Такая огромная сеть – не запутаться бы! И столько жизней на кону. Курат Бауэр провел на коленях больше времени, чем обычно.
А еще он столько времени пытался избегать встреч с отцом Оберлангером, что не на шутку удивился, когда чуть позже утром тот остановил его на площади и негромко подтвердил, что позволяет поклоняться Деве Марии и изучать Библию старшим девочкам, если только они смогут благополучно проскользнуть под носом у гестапо.
– Даже те родители, которые являются членами нацистской партии, не очень-то спешат отказываться от католических традиций и обучения своих детей, отче. У тех, кто ставит «Страсти Христовы», так не принято. – Отец Оберлангер наклонился ближе и похлопал курата по плечу, как будто доверял ему какую-то тайну.
Курат Бауэр хотел, чтобы жители их деревни проявили непоколебимую преданность своей вере, оказывая помощь тем, кто по-настоящему бесправен в этом нацистском государстве. Но вслух он этого сказать не решался. Курат не знал наверняка, на чьей стороне старый священник; он так часто встречался с нацистскими властями деревни.
Да и евреи не очень-то хотели прятаться в Обераммергау. Постановка сцен из «Страстей Христовых», искажающих Евангелие, и злобная реакция некоторых зрителей превратили деревню в потенциальный рассадник антисемитизма, где легко приживалась нацистская пропаганда. Деревушка стала местом, которое евреи – христиане они или нет – всячески пытались избегать. Но несколько евреев могли бы затеряться в толпе беженцев, наводнивших улицы Обераммергау, особенно если их лица не свидетельствовали слишком явно о неарийском происхождении.
Курат Бауэр вздохнул, натирая распятие в церкви. Не помешало бы, чтобы ряды участников Сопротивления выросли – особенно тех, кто готов жертвовать еду или предоставлять место для укрытия в своих домах или магазинах.
Отец Оберлангер, явно поглощенный своими мыслями, остановился посреди церкви.
– Сегодня я встречаюсь с нацистскими властями. Посмотрим, удастся ли мне убедить их держать свои лапы подальше от нашей постановки «Страстей» и крестного хода. – Он уже дошел до середины прохода, но тут создалось впечатление, что его осенила мысль. – Если сегодня вам нужно будет отлучиться, отче, я не против. Я встречаюсь с гауптштурмфюрером[44].
Курат Бауэр вновь почувствовал, что отец Оберлангер его к чему-то подталкивает, хотя не мог бы сказать это с уверенностью.
* * *
Джейсон ослабил галстук, взъерошил волосы, пододвинул машинку ближе. Ему нужно записать рассказы Фридриха о жестокости нацистов в Польше, пересказанные куратом Бауэром. Они всколыхнут мир.
Журналист молился о том, чтобы его статья подстегнула страны, которые предпочитали наблюдать за происходящим со стороны, объединиться и свергнуть Гитлера, пока тот не уничтожил всех евреев и поляков, стремясь к мировому господству.
Такую статью не напечатает его главный редактор, ее не купят издатели, но у Джейсона были другие пути распространения информации. Позвонив в Нью-Йорк через доверенное лицо – Янг больше не отдавал отпечатанную на машинке копию цензорам, – он связывался с Дитрихом Бонхёффером по номеру, который продиктовала фрау Бергстром. Дитрих хотел бы узнать обо всем, что Фридрих рассказал курату.
То, что нацисты выселяли поляков из их домов, чтобы там могли поселиться немцы, присваивая не только дома, но и все вещи, – было чем-то новым. Увеличение «жизненного пространства» для немецкой нации. А поляков тем временем сажали в концлагеря или уничтожали на месте.
Участие одного из приятелей Фридриха в акции по уничтожению польских евреев, когда несчастных согнали и сожгли заживо, стало для Фридриха последней каплей. Он сам полез под пули, осознавая, что если выполнит еще хоть один садистский приказ, то никогда не сможет предстать перед Господом.
Джейсон понимал, что к тому времени, когда лживая нацистская пропаганда о войне в Польше достигнет ушей немцев, она абсолютно не будет соответствовать действительности. Немцы, без сомнения, продолжат сохранять безразличие или кивать головой, закрывая на происходящее глаза. «В конце концов, – услышит Джейсон в тысячный раз, – герр Гитлер возрождает Германию. Он ведь с самого начала предупреждал, что придется пойти на жертвы».
Джейсон фыркнул. «Пока что жертвовать приходится другим».
Несмотря на генеральную линию партии, нельзя было делать вид, будто не замечаешь ежедневно бесчеловечное обращение с евреями на улицах Германии – полное лишение прав и гражданства, изгнание евреев-христиан из церкви, из сферы услуг, из школ, университетов, симфонических оркестров и газет, лишение их права собственности. Евреям было запрещено вступать в браки с неевреями. Нормой стала конфискация товаров и собственности. Евреям отказывали в медицинском лечении, еще больше урезали карточки на продукты и одежду – на все – в сравнении с неевреями. А потом начались постоянные «переселения», запугивания, угрозы отправить их в концентрационные лагеря, изнасилования и пытки в СС.
Джейсону оставалось надеяться, что к его словам прислушаются американцы и англичане и ответят более решительно. Но больше всего его беспокоило то, о чем упомянул Дитрих во время путешествия в Америку, – он стал свидетелем того, как американцы относятся к неграм. Ничуть не лучше, чем немцы относились к евреям. «Если американцы так относятся к своим гражданам, станут ли они брать на себя ответственность и защищать своих евреев и евреев во всем мире?»
* * *
– Нет, нет, – сказала Ривка. – Не так. Попробуй еще раз. Открой ладонь, прижми к груди… Вот так, правильно. А теперь делай круг. – Она остановилась. – Ты делаешь круг не в ту сторону, Фридрих. Пожалуйста, будь внимателен.
Фридрих смиренно кивнул и заерзал на стуле, вытягивая, насколько мог, хромую ногу. Амели потянула его за рукав, и мужчина распахнул объятия. Малышка забралась к нему на колени и выжидающе посмотрела. Он попробует еще раз – ради нее. Радовало, что Ривка с Амели оказались терпеливыми и внимательными учителями. И Фридрих нисколько не обижался, что его неуклюжие попытки так их веселят. Оказалось, что его крупные пальцы были не такими гибкими и не могли так легко сгибаться, как у женщин, даже у бабушки, хотя годы работы резчиком сделали его руки сильнее. И Фридриху приходилось заново учиться концентрировать внимание.
Амели засмеялась, когда он в очередной раз сделал неправильно, схватила его ладони своими ручонками и как смогла согнула его пальцы в нужное положение. Фридриху показалось, что это гнутся сухие ветки.
– Всему свое время, любимый.
Он почувствовал нежный поцелуй в шею и улыбнулся.
Обучение языку жестов имело массу преимуществ. Лия любила наблюдать за тем, как он общается с Амели. И Фридрих увидел, что его попытки радуют жену. А он готов был сделать все что угодно, лишь бы угодить своей драгоценной супруге.
– И что бы мы делали без Амели? Она – наше солнышко, – вздохнул Фридрих.
– Надеюсь, нам никогда не придется узнать ответ на твой вопрос, – прошептала Лия на ухо мужу, усаживаясь рядом с ним и пытаясь выучить новый жест, который продолжала демонстрировать им Ривка.
Мужчина не осознавал, что сказал это вслух. В последнее время это часто случалось: он ненамеренно озвучивал собственные мысли. От его слов женщины посерьезнели, у них на лбу залегли маленькие морщинки, даже Амели нахмурилась. Малышка мгновенно отстранилась – настолько чутко она откликалась на оттенки настроения взрослых.
Фридрих улыбнулся, прижал Амели к груди, пощекотал ее щечку, пока девочка снова не улыбнулась, не засмеялась и не начала складывать его пальцы так, чтобы получился требуемый жест. Фридрих, вздохнув с облегчением, пообещал себе быть осторожнее. Сейчас всем нужны надежда и радость. И его мужской долг – дать это.
* * *
Великий пост только начался, когда нацисты издали приказ о том, что из школьных классов нужно убрать распятия и католические иконы. Были запрещены даже обычные школьные молитвы. Отец Оберлангер поседел еще больше. Сперва люди были настолько ошарашены, что никак не отреагировали на этот приказ. Но уже к концу недели разгневанные родители – в основном матери, из-за войны оставшиеся дома одни, без мужей, – стали возмущаться и требовать, чтобы им вернули религиозную символику и разрешили свободно молиться. Как можно было ожидать, что деревня, чья самобытность определялась «Страстями Христовыми», откажется от своих вырезанных вручную фигурок?
В соседней деревне Этталь курат Бауэр видел толпы возмущенных, грозившихся выйти из рядов нацистской партии и прекратить финансирование фондов, занимающихся помощью бедным и нуждающимся. В пивной поговаривали, что деньги из этих фондов идут прямо в кошельки нацистов, а угроза их кошелькам, несомненно, не останется без внимания. Разгневанные жены поклялись, что напишут мужьям на фронт о происках нацистов, а это, бесспорно, внесет сумятицу в ряды военных – чего так боится верхушка рейха.
В разгар противостояния курат Бауэр пожаловался Рейчел, когда закончилось очередное занятие драмкружка:
– Неужели подобное возможно в Германии?
– Сейчас я уже не удивляюсь ничему происходящему в Германии, отче.
– А вы циничны.
Она покачала головой, складывая в сумочку реквизит.
– Просто я реалистка. Раньше я смотрела на мир через розовые очки, которые на меня надели. Теперь я их сняла. Удивительно, насколько неправильно подобранные очки искажают восприятие.
Священник вздохнул.
– Надеюсь, в Америке ничего подобного не случится.
– Запретить молиться в школах? Содрать со стен распятия? Это все равно что в американских храмах убрать Десять заповедей. Я никогда не была усердной прихожанкой, но подобного не могу себе даже представить. Служители церкви, даже люди, которые в эти церкви не ходят, никогда бы не позволили, чтобы их подобным образом ограничивали и лишали прав.
* * *
К концу недели протесты в Берлине привели к тому, что распятия вернули на место. Курат Бауэр наблюдал за тем, как отец Оберлангер, гордый прокатолической позицией своей паствы, при каждом удобном случае одобрял стойкость прихожан.
Но, уединившись в полутемной церкви, курат Бауэр преклонил колени перед алтарем и заплакал. А если бы эти люди так же решительно воспротивились Нюрнбергским законам, по которым евреев лишали прав и гражданства? А если бы они потребовали, чтобы пощадили стариков, инвалидов, душевнобольных людей, гомосексуалистов, свидетелей Иеговы, цыган, поляков и тех же евреев? У Гитлера множество врагов! А если бы Церковь – католическая и протестантская – отказалась вступать в сговор с Гитлером и признавала бы своим истинным вождем только Христа?
«Прояви милосердие и прости нас, Отче. Мы сберегли наши священные образа, но принесли в жертву Твой образ в своих душах».
48
Резкий холодный ветер стих. Снежные заносы в городе практически исчезли. Джейсона вновь отозвали в Берлин – занять место корреспондента, которого отослали назад с США.
– А почему Кейфера отправили домой? Я думал, что он здесь надолго.
Элдридж сгрузил стопку бумаг Джейсону на письменный стол.
– Он слишком много наболтал одной нью-йоркской газете о том, что гестапо бросает инакомыслящих священников в концлагеря, где их пытают. Решили, что это он проговорился о событиях в Польше. Главному редактору удалось выслать его из страны, пока его не забрало гестапо. Нацисты не очень-то хотят, чтобы их деяния вылезли наружу. Или ты этого не знал?
Джейсон не обращал внимания на сарказм Элдриджа. Ему было очень жаль, что Кейфера обвинили в том, что сделал он, Джейсон, но, по крайней мере, его хотя бы не выслали в один из лагерей – прямо никто об этом не говорил, но любому иностранному журналисту мог грозить концлагерь. Если поспешное возвращение Кейфера домой означало, что у Джейсона все еще есть шанс изобличать грязные дела нацистов, это было бы неплохо.
– И какое у меня задание от редакции?
– Новости Церкви, старина. Ты написал такой отличный материал об этом Бонхёффере, что главный редактор решил, что ты можешь взяться за что-нибудь новое – разумеется, с большей осторожностью, чем Кейфер. – Элдридж усмехнулся. – Это не моя тема, если ты понимаешь, о чем я.
Джейсон понимал и даже обрадовался заданию, хотя и не был намерен показывать свою радость Элдриджу. Он небрежно перелистывал страницы.
Новости Церкви – католической и евангелистских – не радовали. Из донесений на местах становилось известно, что все большее число священников арестовывают за то, что те выступали против нацистской агрессии. Даже за теми, кто вслух ничего не говорил, но и не восхвалял Гитлера, тоже следили, перехватывали их письма, прослушивали телефоны. Обычным явлением стало присутствие на проповедях гестапо (с последующим донесением начальству).
Прежде всего Джейсона волновала судьба курата Бауэра. Журналист знал, что в Обераммергау и его окрестностях скрывается не меньше двух десятков беженцев – и все это при поддержке курата. Сколько еще туда можно будет отправить людей и как помочь тем, кто уже там, если Бауэра арестуют? Кто скажет? Что ж, курат никому не рассказывает о своих делах, а личного телефона, который можно было бы прослушивать, у него нет. Но его постоянные поездки в Мюнхен уже стали привлекать внимание.
А еще Джейсона тревожила занятость Дитриха Бонхёффера. Тот не старался привлечь к себе внимание, но упорно отказывался прятаться за нацистским покровом Немецкой евангелической церкви. Ему позволено было приезжать в Берлин только для того, чтобы навестить своих именитых родителей – именно благодаря им Дитриха до сих пор не арестовали. А может, нацисты надеялись, что он приведет их к другим инакомыслящим, которые также заслуживают внимания властей?
Но Джейсон знал, что его новый друг найдет способ служить Господу, неважно где, неважно, в каких условиях, – даже если ему придется на время удалиться от мира и написать очередную книжку, книжку, которая, несомненно, спровоцирует и всколыхнет Церковь.
Nachfolge радикально перевернула мировоззрение Джейсона. Он молился, чтобы эта книга произвела на Рейчел такое же впечатление.
Всю следующую неделю Джейсон выдавал статью за статьей. Он засы́пал главного редактора новостями берлинской церкви, поэтому ему легко удалось получить командировку именно туда, куда он и хотел, – на Страстной неделе Янг должен был отправиться в «страстную» деревню без «Страстей Христовых».
Джейсон пытался убедить себя, что его мотивы совершенно бескорыстны, что он сможет воспользоваться представившейся возможностью и доставить паспорта и поддельные документы курату Бауэру. Потом ему нужно будет связаться с Фридрихом Гартманом и лично убедиться в том, что с малышкой Амели все в порядке. Но кроме всего этого журналист не мог дождаться встречи с одной молодой особой, ему не терпелось узнать, что она думает о книге Бонхёффера.
И тогда он вспомнил о пленке.
Джейсон дождался вечера, когда все уйдут из редакции. Перед самым отъездом в Мюнхен он полез в глубину стола за маленьким цилиндром, который прикрепил липкой лентой. Когда Джейсон не нащупал ничего, кроме пустоты, он решил, что просто промахнулся. Журналист вытащил ящик, проверил заднюю стенку, затем все ящики по очереди и пол. В конце концов Янг выключил настольную лампу и сел. В его голове роились всевозможные сценарии развития событий. Ни один из них не радовал.
49
– Дети просто великолепны! – прошептал курат Бауэр на ухо Рейчел, когда все родители встали и зааплодировали.
Пьеса на пасхальную тему прошла изумительно, каждый даже самый маленький участник сыграл потрясающе. Рейчел, едва не лопаясь от гордости, шумно радовалась вместе со своими воспитанниками. Она волновалась, примеряя в день премьеры роль Лии, и была благодарна сестре за то, что они поменялись местами. А еще Лия взялась присмотреть за Амели.
Собственно, эту пьесу даже при самом богатом воображении нельзя было назвать «Страстями Христовыми». Это была просто история о ребенке, который познакомился с Иисусом, – Рейчел с Лией сами тайком написали эту пьесу. Рассказ о пасхальном чуде.
Пока писали, Лия настояла, чтобы Рейчел прочла Евангелие, особенно о последней неделе жизни Христа. Сперва Рейчел всячески уклонялась от чтения, помня отцовские наставления о том, что христианство и его постулаты – опора слабых, призывающая к терпению тех, кто не способен управлять собственной жизнью. Нацисты утверждали то же самое, высмеивая саму мысль о том, что страдающий Спаситель мог оказаться на месте их фюрера – сильного, решительного военачальника.
Но как только Рейчел осознала ложность подобного восприятия, она захотела выяснить все самостоятельно. Она с удивлением узнала, что Иисус был не слабовольным человеком, каким его настойчиво изображал ее отец, а сильной, решительной личностью, восставшей против лицемерия своего времени. Это выбило ее из колеи, лишило почвы под ногами. Но Рейчел упорно продолжала читать.
Когда она закончила, они с Лией в один присест сочинили пьесу, а потом несколько дней редактировали, переписывали ее, пока каждая строчка не запела. Рейчел писала историю от лица Амели, маленькой девочки, которая пришла к Иисусу за помощью, – Лия добавила, что малышка пришла и за прощением.
Но Рейчел знала, что этой маленькой девочкой была она сама – сирота, которая наконец-то поняла, что ей нужно. Она хотела, чтобы у ее истории был такой же счастливый конец, как и у истории этого ребенка, но для этого требовалось поверить в то, что Иисус – Сын Божий. Рейчел поморщилась. Верить – в кого-то или во что-то – было выше ее сил.
Рейчел видела свет веры и прощения в глазах Лии, бабушки, Фридриха. Она тоже хотела бы испытать это чувство: быть чистой и целостной, но ей приходилось уступать, смиряться, позволять гладить себя против шерсти.
– Необычное ви́дение, фрау Гартман, – произнес отец Оберлангер.
Рейчел вздрогнула от неожиданности, возвращаясь с небес на землю.
– Можно поинтересоваться, какой текст вы использовали?
– Я сама его написала. – Рейчел не смогла скрыть гордость в голосе.
– Ясно. – Отец Оберлангер выглядел не слишком довольным. – Вы же понимаете, не правда ли, что все тексты следует представлять на одобрение Церкви?
– Нет, я не… то есть я хочу сказать, да, я знаю, что это относится к «Страстям Христовым», – запинаясь, произнесла Рейчел. – Но не думала, что это касается и простых постановок для детей.
Священник вздернул подбородок.
– Вы провели здесь всю жизнь и тем не менее не знаете этого? Вы ошибаетесь. Война не повод для того, чтобы не согласовывать свои действия с общепринятым курсом.
– Это всего лишь небольшая пьеса, – защищалась Рейчел. – По-моему, дети отлично с ней справились, не так ли?
В дискуссию вмешался курат Бауэр.
– Дети были просто великолепны, фрау Гартман. Мы очень признательны вам за вашу прекрасную работу. – Он взглянул на мрачного отца Оберлангера. – Пожалуйста, простите меня, отче. Мне самому следовало обсудить с вами текст. Я не подумал об этом.
– Не думать опасно, – предостерег его отец Оберлангер, – особенно в наше время. Вы наверняка заметили нашего гостя из гестапо?
– Да, отче, – к глубокому огорчению Рейчел, смиренно отвечал курат Бауэр. – Больше подобного не случится.
– Я возлагаю ответственность на вас, курат Бауэр.
– Да, отче.
Рейчел дождалась, когда пожилой священник отойдет.
– Почему вы заглядывали ему в рот? Вы же знаете, что пьесу сыграли отлично. Родители довольны! В чем проблема?
– Его проблемой, – прошептал курат Бауэр, – является агент гестапо, который что-то быстро и небрежно писал, сидя в последнем ряду. И Максимилиан дежурит за дверью не из любви к Церкви. Он – официальный осведомитель, а гитлерюгенд – это вам не ваши американские бойскауты.
Рейчел отмахнулась от слов курата.
– Максимилиан – безопасный лунатик. А на что гестапо может пожаловаться? Это же деревня «Страстей Христовых». Пьесы об Иисусе – это нормально, не…
– На все, что касается наших духовных потребностей и не является служением рейху, например, если мы считаем Спасителем кого-то, кроме Гитлера, смотрят неодобрительно.
Курат Бауэр и Рейчел взглянули на дверной проем, в спину удаляющегося агента.
– Мы должны быть осторожны, очень осторожны.
Настроение было испорчено. Рейчел механически улыбалась родителям, которые подходили ее поблагодарить, и детям, которые тянули ручки, чтобы обнять ее на прощание.
Она написала пьесу из самых лучших побуждений. Рейчел верила, что местным властям пьеса понравится и что она заслужит их одобрение. А теперь, когда ее отчитали за то, что она впервые на своей памяти совершила по-настоящему хороший поступок – поделилась, как умела, тем, что знала, – Рейчел казалось, будто она получила пощечину.
И где Джейсон? Рейчел знала, что он в Обераммергау, берет интервью. Она была уверена, что он слышал о постановке и обязательно придет, а потом найдет предлог посетить бабушку Хильду как-нибудь вечером после комендантского часа. Рейчел хотела, чтобы он увидел, на что она способна, – девушка надеялась, что это успокоит его невысказанную тревогу о ее напичканной евгеникой душе. Но Джейсон не пришел.
Когда класс опустел, Рейчел сложила в сумку тексты и стала собирать мелкий реквизит на хранение, швыряя его в коробку с большей силой, чем было необходимо. Она вытерла непрошеные слезы.
– Фрау Гартман! – В дверях стоял Максимилиан, спрятав руки за спину. – Вы плачете? – Он в одно мгновение пересек класс и оказался рядом с ней.
– Нет! – Рейчел сморгнула слезы и вытерла лицо. – Что-то в глаз попало. Со мной все в порядке.
Максимилиан достал из кармана носовой платок.
– Пожалуйста, позвольте мне.
Рейчел смущенно улыбнулась, пытаясь решить, как в такой ситуации повела бы себя Лия. Изображала бы смирение? Благодарность? Повела бы себя чопорно? Рейчел все не могла решить и позволила подростку смахнуть остатки слез.
– Вот так! Лучше?
– Да, – шмыгнула она носом. – Спасибо. – Рейчел отвернулась, но Максимилиан позволил себе еще одну вольность и схватил ее за руку.
– Возможно, это поднимет вам настроение. – Он протянул ей прекрасный букет оранжерейных цветов с легким ароматом. – Я сам их вырастил.
– Какие они красивые, Макс!
Рейчел восхищалась от чистого сердца. Она уже давно не видела цветов, а когда ей последний раз дарили букет, и вовсе забыла.
Максимилиан улыбнулся.
– Макс… Мне нравится. Всегда зовите меня Максом.
Рейчел покраснела, осознав, что ее выдала склонность к уменьшительным именам.
– Это имя тебе подходит.
Он шагнул ближе.
– Я слышал, что говорил священник. Его претензии необоснованны.
– Ты видел пьесу?
– Нет, простите. Не видел. Я дежурил в коридоре. Но уверен: все, чем вы занимаетесь, безукоризненно. Вы столько делаете для детей: занимаетесь с ними музыкой, пением, актерским мастерством. Священник должен быть благодарен вам. Ему не следует в вас сомневаться. – Подросток спрятал платок в карман. – Я обязательно сверю свой график дежурств с тем, когда в следующий раз будет выступать ваш класс. Больше я не пропущу.
От его праведного возмущения сердце Рейчел смягчилось, хотя она прекрасно понимала, что он всего лишь мальчик, обожающий учителя.
– Как мило с твоей стороны, Макс. – Она коснулась его лица, как делала это Лия, когда Амели особенно старалась ей угодить. – С нетерпением буду ждать.
Но Максимилиан не выглядел ангелочком и не поблагодарил в ответ, как сделали бы ее ученики и Амели. В его глазах вспыхнула похоть, которую Рейчел видела только у взрослых мужчин. Он накрыл ее ладонь, прижатую к его щеке, своей рукой. Рейчел слишком поздно поняла свою ошибку. Она попыталась отнять руку, отступить. Но от Максимилиана не так просто было избавиться. Он схватил ее за руку и шагнул еще ближе, слишком близко, и оказался в нескольких сантиметрах от ее лица, не сводя глаз с ее губ. Сердце Рейчел сжалось. Впервые она осознала, что мальчишка по крайней мере сантиметров на десять выше ее и килограммов на десять тяжелее. Ей некуда было бежать.
Раздался громкий стук – распахнулась дверь. В центр класса шагнул Джейсон Янг. Если бы отвращение убивало, оно пронзило бы юного гитлеровца насквозь, словно копьем.
– Фрау Гартман, я тут подумал, могу ли я задать вам пару вопросов о детской постановке.
Максимилиан обернулся. Его щеки пылали от злости, в глазах было разочарование.
Рейчел едва не упала на колени от облегчения.
– Да-да, герр Янг. С радостью выслушаю вас. – Она расправила плечи и снова овладела собой. Положила цветы на стол. – Ступай, Максимилиан.
Юноша, продолжая испепелять Джейсона взглядом, не двигался с места.
– Я полагаю, вы слышали, что сказала дама. – Янг шагнул ближе, доставая блокнот и ручку из кармана пальто и тоже не сводя глаз с юного гитлеровца.
Максимилиан схватил кепку, которую швырнул на стол, вызывающе нахлобучил ее на голову и прошел мимо Джейсона, намеренно задев журналиста плечом.
Когда он вышел из класса, Рейчел навалилась на стол и выдох-нула с облечением.
– Спасибо!
– Похоже, что у вас возникли проблемы.
Она покачала головой.
– Лия предупреждала меня, но я решила, что он безопасен. Просто мальчик, подросток.
– Большой мальчик, – предостерегающе уточнил Джейсон.
– Да, – сглотнула Рейчел. – Большой мальчик.
Джейсон огляделся, собираясь еще что-то сказать, но запнулся.
– Так приятно тебя видеть. – В его глазах зажглась улыбка.
– И вас, герр Янг, – усмехнулась Рейчел.
Он потянулся к ее руке, но тут же замер и быстро оглянулся на дверь.
– Мне кажется, тебе лучше оставаться по ту сторону стола, а я буду здесь, – прошептала девушка.
Джейсон недовольно возразил:
– Почему тебе так весело?
– Просто так, – серьезно ответила Рейчел. – Я скучала по тебе.
– Ты и понятия не имеешь, как я по тебе скучал, – сокрушенно ответил он. Через секунду Джейсон выпрямился. – Я должен тебе кое-что сказать.
Рейчел выжидательно вздернула брови.
Джейсон достал из кармана пальто журнал и швырнул его на разделявший их стол. Девушка взглянула на обложку, и у нее перехватило дыхание: в камеру улыбалась красавица Рейчел, а обаятельная Амели обхватила ладошками ее лицо.
– Это ты снимал. – Она взяла журнал. – Я даже помню, когда это произошло. Это ты ее напечатал? – Рейчел почувствовала, как комната завертелась и пол стал проваливаться у нее под ногами.
– Нет, – нахмурился Джейсон. – Снимки были на отдельной пленке – всего пара кадров – ты и Амели. – Он бросил фетровую шляпу на стол. – Знаю, это глупо, по-идиотски. И эгоистично с моей стороны. Я просто хотел иметь твою фотографию. И фотографию Амели. Я не думал, что кто-то когда-нибудь их увидит. Я даже не проявил пленку – не решился.
– Тогда как…
– Посмотри на имя автора… оно внизу снимка.
Рейчел прищурилась, чтобы получше разглядеть мелкий шрифт.
– М. Элдридж. Кто такой М. Элдридж?
– Мой заклятый враг, один парень из берлинской редакции, который превратил работу в кошмар. Погоня за каждой сенсацией, настоящие гонки «Индианаполис-500» за снимками. Скорее всего, он рылся в моем столе.
– Ты хранил мои фотографии в своем столе в Берлине? – Рейчел поверить не могла в такую глупость.
– Я оставил там цилиндр с пленкой, прикрепил его липкой лентой изнутри стола. Я был уверен, что его никто не найдет. И никто бы не нашел – не смог найти, – если бы специально не искал.
– А тебе не пришло в голову, что после того, как тебя допросили и избили в СС, твой стол в редакции могут обыскать?
– Я же сказал, что это была глупость с моей стороны. Изначально дурацкая идея вас сфотографировать. Прости. Прости, Рейчел.
– И этот журнал появился в газетных киосках в Берлине?
– Нет. Элдридж продал снимки в нью-йоркское издание. Маловероятно, что оно появится в Берлине.
– Маловероятно? Этот снимок убьет нас!
– Не думаю, что кто-то узнает на нем Амели. Она похожа на мальчика… одета, как мальчик.
Рейчел удивлялась: неужели он утратил разум?
– Как этот журнал попал к тебе?
– Я обыскал редакцию… стол Элдриджа. По всей видимости, он настолько гордился этой публикацией, что хранил ее в собственном столе – глупость номер два. – Джейсон подался вперед. – Дело в том, что если это увидит кто-то из нацистов…
– Герхард.
Он кивнул.
– Если Шлик это увидит, он подумает, что это Лия.
– Неужели женщина на этом снимке похожа на Лию? – удивилась Рейчел.
– Нет, не похожа, – признался журналист. – Но она одета, как Лия, и уловка может сработать. Лучше предупредить Лию, чтобы она успела придумать историю о ребенке, которого обнимает.
Рейчел хотелось рвать на себе волосы. А ведь они с бабушкой и Лией были так осторожны…
– Немецкие цензоры отслеживают иностранные газеты и другие периодические издания. Они обязательно это увидят, и в конце концов кто-то обязательно поймет, что это снимок исчезнувшей мисс Крамер. – Джейсон присел на край стола. – Может быть, нам повезет со Шликом. А может быть, нет.
– Если он поймет, что это я…
– Он вернется сюда. Возможно, не так скоро. – Джейсон уже улыбался. – Мне кажется, что случай, когда фюрер едва не взлетел на воздух – а все из-за того, что Шлик гонялся за женщиной-привидением в этой отдаленной альпийской деревушке, – убедил его хотя бы какое-то время строго следовать приказам Берлина.
– Откуда ты знаешь?
– Из достоверных источников. – Журналист посерьезнел. – Если бы был надежный способ вывезти тебя из Германии, я бы уже это сделал. Но граница на замке. Поезда, дороги, порты, контрольно-пропускные пункты – все закрыто. Проще всего было бы выехать через Швейцарию, но даже это…
– Из-за этой публикации жизнь стала опаснее.
Рейчел не могла бы сказать, какие ее охватывают чувства. Раньше она отчаянно хотела уехать, но теперь…
– Надо держать ухо востро! – Джейсон закрыл глаза. – Тиски сжимаются. Помнишь, я рассказывал тебе о своем друге Дитрихе?
– О Бонхёффере! – Рейчел вспомнила книгу, которую ей передал курат, книгу, которую она пролистала и отложила в сторону, пока работала над пьесой.
– Гестапо закрыло его школу в Зигурдшофе. Ему запретили учить тех, кто принимает духовный сан.
– Но почему? Он же не военный, не так ли?
– Потому что он учит верности Христу, потому что он призывает людей жить так, как жил Иисус, призывает их думать самостоятельно, а не слепо следовать тому, что диктует рейх.
– Ты именно так и живешь, помогая курату, евреям? Доставая поддельные документы?
Джейсон кивнул.
– Мы при малейшей возможности помогаем людям выскользнуть из Германии. Но чем дальше, тем это становится труднее.
– Это почти так же опасно, как участие в покушении на убийство Гитлера. По-моему, писать о том, что на самом деле происходит, – уже достаточно рискованно. Даже для вас, мистер Сенсация.
– Я что-то уже не очень хочу быть мистером Сенсацией.
Под пристальным взглядом Джейсона Рейчел заерзала.
– Я встретил одного человека…
Она откинулась на спинку стула с таким чувством, как будто ее ударили под дых.
– Я хочу сказать, что встретил человека, который показал мне то, чего я раньше не знал – о себе, о жизни, о мире в целом.
– Она блондинка? Голубоглазая? Арийка с длинными ногами? – Рейчел не смогла сдержать сарказм.
Его губы изогнулись в кривобокой улыбке.
– Такое впечатление, что ты ревнуешь. Все не так. – Джейсон наклонился к ней, взял ее за руки. – Что ты знаешь об Иисусе Христе?
Рейчел отпрянула.
– Теперь ты решил стать священником? Где настоящий Джейсон Янг? Что вы с ним сделали?
– Я изменился… Раньше я даже представить себе не мог ничего подобного.
– Ты и раньше был неплох, – пошутила девушка. – Не уверена, что хочу, чтобы ты менялся.
– Слишком поздно. – Джейсон впился в нее взглядом. – Ты прочла книгу, которую я тебе прислал?
– Nachfolge? Я начала, но…
– Ее написал Дитрих. Прочти ее – в свете того, что ты узнала о евгенике здесь и дома, того, что тебе известно об экспериментах над людьми и эвтаназии, в свете всего, что тебе известно о Гитлере, нацистах и этой войне.
Рейчел вздохнула.
– Эту книгу не назовешь увлекательным английским романом.
– Она гораздо лучше. Она изменит твое сознание.
– Отец перевернется в гробу. Я сижу в деревушке, где ставят «Страсти Христовы», и разучиваю церковные пьесы. – Она покачала головой, понимая, что книгу все же придется прочесть. – Он всегда уверял, что христианство – это удел…
– Слабых, – закончил за нее Джейсон. – Именно так уверяют и нацисты. Только теперь они пытаются поменять Иисуса на Гитлера в качестве спасителя мира. У Гитлера все зиждется на языческих обрядах, крови, грязи и национализме. Омерзительная смесь.
– Я слышу, что говорят родители детей из моего класса, когда забирают их после уроков. Они называют себя народом «Страстей Христовых», рассказывают, как «Страсти» правят их жизнью. А потом я узнаю́ от Лии, что неожиданно этот или тот человек превращается в осведомителя, стучит на своих соседей или, хуже того, – родственников… ради привилегий, денег, продуктовых карточек или просто в угоду нацистам. Вижу детей, которые копируют поведение взрослых: кричат, что евреи убийцы Христа, что они заслуживают то, что имеют. Похоже, их Церковь никак не влияет на отношения детей между собой и на то, как они обращаются с евреями.
– Я тоже это вижу. Люди не осознают, насколько Гитлер изменил их культуру, их образ мыслей; что он делает именно то, что пообещал сделать в своей книге Mein Kampf. – Джейсон потер затылок. – Фюрер истребляет больных и бедных – людей, за которых умер Христос. Для того чтобы достигнуть мирового господства, он решительно настроен стереть с лица земли евреев, избранный Богом народ. Тот народ, которому Он доверил слово Божье. Нацисты обрубают руку Христу и даже не замечают этого.
– Да, не замечают, – согласилась Рейчел, не зная, что и думать.
– Многим неизвестно, а многим наплевать, что произойдет с теми, кого выселяют за пределы Германии.
– Эти проблемы их не касаются… Они даже не считают это проблемами.
– И это лишь начало, – предупредил Джейсон. – У меня такое чувство, что мы видели только цветочки.
50
Джейсон сидел в редакции, читал последние новости: о вторжении Германии в Норвегию и Данию, сопровождаемом заявлением о том, что долг Германии – защитить «свободу и независимость» этих стран от союзников. Гитлер сразу предостерег, что «всякое сопротивление будет сломлено вооруженными силами Германии всеми возможными способами, что в свою очередь лишь приведет к совершенно бессмысленному кровопролитию».
Янг натянул шляпу и окунулся в прохладное весеннее утро. Он сомневался, что изумленные норвежцы и датчане воспринимают вторжение Гитлера в таком радужном свете, не говоря уже о журналистах, которых на рассвете вытащили с постелей и заперли в гостинице «Кайзерхоф», пока их страны «защищали».
Шведы были слишком напуганы, чтобы прийти на помощь своим скандинавским собратьям, – Джейсон был уверен, что они не раз пожалели об этом решении. Но позже по Би-би-си он услышал выступление Уинстона Черчилля из палаты общин – о том, что Гитлер «совершил серьезную стратегическую ошибку», что британские военно-морские силы теперь высадятся на норвежский берег и потопят все корабли в проливах Скагеррак и Каттегат. Джейсон молился, чтобы Британия выполнила свою угрозу. В противном случае кто или что сможет остановить Гитлера от планомерного захвата всего мира?
Но прямо перед еврейской Пасхой британские и норвежские войска были выбиты из городка Лиллехаммер и Гитлер в очередной раз праздновал победу.
* * *
С Пасхи прошел почти месяц. Рейчел знала, что курат Бауэр побирался и выменивал все, что мог, чтобы устроить праздник для евреев, которые прячутся, – для тех, кто признает Иисуса своим Мессией, и для тех, кто не признает.
Как только задернули светомаскировочные занавески, Рейчел, бабушка и Ривка принесли на чердак салфетки, тарелки, чашки и свечи, еду и вино, необходимое для ритуального иудейского ужина. Лия помогла хромающему Фридриху подняться по ступенькам на чердак. Девочки расстелили на полу по кругу тюфяки и подушки. Амели с широко открытыми глазами радовалась импровизированному пикнику и с удовольствием бросалась помогать. В центре Ривка поставила две свечи.
– Нет ни ягненка, ни яиц, но у нас есть хрен и маца. А еще благодаря курату Бауэру у нас есть вино. – Бабушка подняла графин.
– Этого достаточно? – спросила Рейчел у Ривки, видя печальное лицо девушки.
– Все чудесно. – Ривку душили слезы. – Просто…
– Первая Пасха без родителей? – спросила Хильда.
Ривка кивнула, не в силах больше сдерживать слезы. У бабушки были заняты руки, а Ривка отчаянно нуждалась в плече, на котором можно было бы поплакать. Рейчел неловко заключила девочку в объятия, позволяя ей выплакаться. Амели гладила Ривку по ноге, а Рейчел в ответ гладила малышку по голове.
Рейчел не понимала, как люди, особенно те, что называют себя христианами, учениками Иисуса, о котором писал Бонхёффер, могли стоять в стороне и наблюдать, как среди ночи увозят их соседей.
Курат Бауэр покачал головой, когда Рейчел попросила у него объяснений.
– Разве существует объяснение слепоте, ненависти? Грехам? Я не знаю ответа. Мне известно лишь одно средство, это – великая любовь Христа, как показано в «Страстях».
Рейчел размышляла об этом, обнимая Ривку – Ривку, которая потеряла семью и думала, что весь мир сошел с ума.
Ривка отстранилась, вытерла слезы. Рейчел прижала к себе Амели, когда импровизированная семья устроилась на подушках и тюфяках, собравшись вокруг небольшой тарелки с иудейским ужином, которую Ривка поставила на пол. Девочка положила три кусочка мацы, накрыла их большой белой льняной салфеткой, которую принесла бабушка. Потом посмотрела на собравшихся. В ее глазах до сих пор блестели слезы.
– Перед бегством в Египет у евреев не было времени ждать, чтобы тесто поднялось, поэтому мы испекли мацу.
Ривка разложила хрен с бабушкиного огорода и пучок травы жерухи, которую нашел Фридрих у горного источника.
– Наше рабство было горьким – таким же горьким, как эта трава. У нас нет ноги ягненка, символизирующей кровь, которой мы метили свои дома – окна и притолоки.
– Иисус – наш жертвенный агнец, – прошептал Фридрих. – Он знает наши сердца и омыл нас Своей кровью.
Ривка побледнела от воспоминаний, но продолжала.
– Раньше моя мама разрешала мне смешивать орехи, корицу и нарезанные кусочками яблоки с вином. – Она сглотнула. – Всего этого у нас тоже нет. Это блюдо символизирует известь, которую использовал мой народ, когда тяжело трудился, делая кирпичи в Египте.
Ривка взяла небольшую миску с соленой водой.
– А это наши слезы, потому что мы были рабами.
Она коснулась четырех маленьких кубков, которые Фридрих наполнил вином.
– А это обещания, данные нам Адонаем[45], все, что Он сделает и кем будет для нас.
Ривка откинулась назад, глубоко вздохнула, потом зажгла две свечи, поставила их ближе к себе. Рейчел решила, что она, вероятно, молится или вспоминает минувшие праздники, но девочка подняла голову и благоговейно начала:
– Barukh atah Adonai Eloheynu Melekh ha’olam asher kidshanu bidevaro uvishmo anakhnu madlikim haneyrot shel yom tov… Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам совершать «бдикат хамец»!
Еда застряла в горле у Рейчел, когда она, как завороженная, слушала Ривкину молитву. «Я прожила целую жизнь и не знала о существовании подобных вещей». Рейчел оглядела членов своей семьи, севших в кружок: бабушку, Лию, Фридриха и маленькую Амели, чьи глазки доверчиво поблескивали в свете свечей. Они не были евреями, но в этой домашней службе для них было нечто священное – Рейчел видела это по их лицам, по сдерживаемым слезам. «А что имел в виду Фридрих, когда говорил, что Иисус наш жертвенный агнец? И Ривка – она еврейка. Как она может праздновать Песах с христианами, после того, как такие же солдаты, как Фридрих, арестовали и, может, даже убили ее семью? Как ей удалось наладить связь с моей семьей, почему у меня это не получается?»
Когда ужин закончился и свечи догорели, Рейчел услышала, как Ривка прошептала себе под нос:
– В следующем году…
– В следующем году? – спросила Рейчел и потянулась к ее руке.
Ривка, заливаясь слезами, в ответ схватила ее за руку.
– В следующем году в Иерусалиме!
* * *
Поздно вечером, когда остальные готовились ко сну, Рейчел подоткнула одеяльце Амели. Малышка быстро уснула, засунув в рот большой палец. И только тогда Рейчел повернулась к Ривке.
– Я не очень-то поняла этот Песах. Каким образом он связан с Иисусом?
– Между Песахом и христианским Иисусом связи действительно нет: здесь речь идет о нашем бегстве из Египта и защите нашего Бога. В тот вечер, когда первенец…
– Это я поняла, правда. Но что имел в виду Фридрих, когда сказал, что Иисус наш жертвенный агнец? О том, что нас омыла Его кровь?
Ривка вздохнула.
– Мой брат тоже в это верил.
– Твой брат? Ты хочешь сказать…
– Мой брат верил, что Иисус – Мессия, и не только в это, но и в то, что Он – Сын Божий, что Он – искупление за наши грехи… за грехи во всем мире.
– Еврей-христианин?
Ривка кивнула.
– Да наплевать нацистам на это! «Рожденный евреем навсегда евреем останется», – говорили они.
Девочка фыркнула.
– «Избранный народ»! Избранный для гонений! Пусть изберут кого-то другого!
– Но твои родители…
– Традиционного вероисповедания…
– А они знали, что твой брат?..
– В тот вечер, когда он в этом признался… был шабат, через два месяца после моей бар-мицвы – совершеннолетия. Мы зажгли свечи – в серебряных канделябрах, которые, как обещала моя мама, однажды станут моими. Их тоже украли те свиньи. – Ривка запнулась.
Рейчел отвернулась, пока девочка вытирала слезы. Текли минуты.
– Мой брат произнес молитвы. Мы поели. – Ривка смотрела куда-то вдаль, вспоминая прошлое. – Брат признался, что помогал нашим людям покинуть Германию, что он может сделать всем нам паспорта. Он научился их подделывать – брат показал мне, как это делается. Он убеждал родителей уехать, но они даже слушать об этом не хотели. Они думали, что все не может быть настолько плохо, что травля скоро прекратится.
Когда мой брат увидел, что у него не получается их убедить, он сообщил нам еще более ошеломляющие новости. Сперва мы даже не поняли. Он говорил о своих друзьях-неевреях, об их Kirche[46] – как он один раз ходил туда с ними, на спор. Отец был чернее тучи, а мама все пыталась сменить тему разговора.
– Но Яков сказал, что узнал о таких вещах, о которых даже не предполагал раньше. Он увидел, что этот Иисус, этот Иешуа, – настоящий Мессия. Яков пытался убедить родителей сходить с ним в церковь, послушать слова пастора. И прежде чем брат успел договорить, отец взвыл и порвал его рубашку. Он выгнал Якова из дома, из семьи, потом повернулся спиной, пока за братом не закрылась дверь. Мама рыдала, как на похоронах. На следующий день пришел раввин, и мы целую неделю скорбели о Якове. После этого мои родители запретили даже имя его упоминать.
– Навсегда?
Ривка побледнела в свете свечи и покачала головой. Прошло мгновение, и она хрипло прошептала:
– Я ослушалась их. Единственный раз на моей памяти я восстала против желания родителей.
Рейчел ждала продолжения.
– Однажды вечером я рано легла спать, притворилась, что сплю. Когда в доме все затихло, когда я услышала храп mein Vater, я выскользнула из окна спальни и спустилась по дереву вниз. Я побежала к своей подружке Анне. Там меня ждал Яков. – По лицу Ривки катились слезы.
– Значит, с твоим братом все в порядке? Ты знаешь, где он сейчас? – Рейчел поверить не могла, что Ривка так долго молчала об этом.
Но девочка покачала головой, шмыгнула носом.
– Nein, nein. Анна жила на одной улице с нашей семьей. Она нееврейка, но хороший друг. Уже не в первый раз она устраивала встречи нам с Яковом. Мы разговаривали – драгоценные минуты пролетали, как мгновения, – когда услышали визг тормозов: в начале улицы остановился грузовик. В это время, посреди ночи, на улицу выходить запрещено – комендантский час. Мы услышали лай собак и сразу все поняли. Нацисты бегали от дома к дому, колотили в двери, отдавали приказы, искали евреев, вытаскивали их прямо из постелей.
Рейчел сглотнула.
– Анна спрятала бы нас обоих, укрыла бы под лестницей. Но Яков толкнул меня под лестницу и настоял на том, чтобы я сидела там до самого утра, а сам поспешил домой – предупредить родителей. – Ривка залилась слезами.
– Его тоже забрали?
Девочка кивнула и повторила:
– Всем плевать на то, что он обратился в христианство.
– Верно, плевать, – прошептала Рейчел, вспоминая исполненные ненависти, напыщенные тирады Гитлера, отцовские догмы, порочащие любые расы, если только в документах нельзя «на законных основаниях» поставить штамп: «истинный ариец».
– Но мне кажется, – произнесла Ривка, – что это имело большое значение для Якова. Он обратился в другую веру не потому, что хотел спастись. Он действительно верил – всей душой. Я думаю, в конце концов он даже обрадовался, что его забрали вместе с родителями. Той ночью он признался, что подозревает: его скоро арестуют, и очень хотел последний раз увидеть маму и папу, рассказать им то, что узнал о Мессии Иешуа. Убедить их тоже поверить.
– Очень храбрый поступок – предупредить родителей. Он мог бы спрятаться.
– Я долго злилась на Якова за то, что он ушел и оставил меня, зная наверняка, что его арестуют. Но теперь я тоже считаю, что он поступил храбро. – Ривка помолчала. – А еще я думаю, что его подвигла на этот поступок любовь к Иешуа и к нашим родителям. Я только надеюсь… Надеюсь, что наш отец простил Якова… и полюбил его снова.
– Не отчаивайся! Возможно, когда все это закончится…
Но Рейчел не смогла договорить. Она сама не верила своим словам.
Ривка промолчала. Она легла на тюфяк и отвернулась. Амели заворочалась во сне. Свеча догорела.
Рейчел тоже легла, погладила Амели по головке и стала смотреть в темный потолок, пока не исчезли последние тени от пламени гаснущей свечи. Девушка не знала, что это означает и как все сложить в цельную картинку – только чувствовала, что какая-то связь существует. То, что рассказывала Ривка о своем брате, походило на любовь, любовь к Иисусу, которая заставляла бабушку, Фридриха, Лию, разумеется, курата Бауэра и, вероятно, Джейсона помогать стольким людям… помогать и самой Рейчел. Внутри них было что-то, что заполняло их до пределов, пыталось найти выход, заставляя делиться своими знаниями, настойчиво подталкивая спасать других, даже ценой собственной жизни. Именно об этом писал Бонхёффер как о «высшей милости».
Рейчел вздохнула и закрыла глаза. Это было выше ее сил. Она не понимала, почему не чувствует того, что испытывают они, не видит того, что они видят. Она не хотела попасть впросак. Это было бы так же бесполезно, как отцовская псевдонаука. Но чем больше Рейчел над этим размышляла, чем больше читала, находилась рядом с этими людьми, видела, как они живут, во что веруют, тем больше понимала, что есть в этой вере что-то настоящее и дающее опору. Что бы это ни было – Рейчел сбережет это чувство.
51
Наступил май. Джейсон продолжал тревожиться из-за снимка Рейчел и Амели. Каждый день он боялся, что Шлик или кто-то из его приспешников случайно наткнется на эту обложку, и гадал, вернется ли штурмбаннфюрер в Обераммергау.
Долго мучиться и гадать не пришлось: Джейсона откомандировали назад в Берлин, где слухи уже невозможно было скрывать. Напряжение на Вильгельмштрассе стало почти осязаемым: журналисты сидели как на иголках, готовые выехать из страны по первому требованию. Куда Гитлер нанесет следующий удар: на Голландию, Бельгию, Швейцарию, на линию Мажино?[47]
После долгого дня разочарований и топтания на тротуаре в надежде получить комментарии от гестапо по поводу одной истории, которую никто не хотел признавать, Джейсон швырнул рабочий блокнот и ручку на стол и устало опустился в кресло. Но ему тут же было велено через час освещать официальный ужин в посольстве. Джейсон застонал.
Питерсон, редакционный фотограф, сочувственно пожал плечами:
– Прости, приятель. Приказ главного редактора.
– А почему я? У нас же Элдридж освещает светские мероприятия.
– А ты не знаешь? Элдридж удрал – свалил в Штаты.
– Когда?
Джейсон не мог поверить. Элдридж ни за что не уехал бы из Германии, пока здесь столько горячих новостей.
– На прошлой неделе. Его пригласили в «Чикаго трибьюн».
Джейсон присвистнул.
– Повезло! Будет работать неподалеку от родного города.
Питерсон кивнул.
– Он даже не раздумывал над предложением – сразу согласился.
– А почему его пригласили?
Джейсон знал, что Элдридж хороший журналист, но никогда не думал, что он настолько «ценный кадр».
– Как я понимаю, во многом благодаря какой-то удачной фотографии.
– Которую, без сомнения, проявлял ты. – Джейсон намеренно иронизировал.
– Нет. Он сам ее проявлял, хотя, должен признаться, снимок сделан скорее в твоем стиле, чем его: «Баварская Мадонна с ребенком» – так они его назвали. Очень сентиментальный снимок. Несомненно, он привлек внимание.
Джейсон выпрямился. Он впервые слышал эту историю о фотографии, но сразу понял, что такое вполне могло быть. Янг молился, чтобы снимок вызвал интерес только у американцев и Элдридж так и остался за океаном, подальше от Обераммергау, Рейчел, самого Джейсона. У Янга не было ни малейшего желания сидеть с ним в одной камере или болтаться на одинаковых веревках и быть свидетелем того, как этот подлец вопит и извивается. А Джейсон не сомневался, что Элдридж будет вопить как резаный, если его начнут допрашивать. Пусть лучше уж так. Если бы его поймали, Рейчел, Амели, курат Бауэр, да и вся налаженная сеть повалилась бы, как костяшки домино.
Джейсон без лишних слов описал официальный ужин.
Через два дня его послали в командировку в Британию, где пост премьер-министра покинул Невилл Чемберлен, а на его место пришел Уинстон Черчилль. Гитлер начал наступление на Нидерланды, Бельгию и Люксембург.
Нечесаный, немытый, с трехдневной щетиной, Джейсон кричал основные положения своей статьи по телефону в Нью-Йорк. Связь была отвратительной.
– Германия вторглась в Нидерланды, Бельгию и Люксембург, где Гитлер заявил, что «является гарантом нейтралитета бельгийцев и датчан».
В коммюнике Германии, которое принесли в редакцию, было написано: «С настоящего момента на каждую бомбежку мирных жителей Германии немецкие самолеты дадут пятикратный ответ по городам Великобритании и Франции».
* * *
Лия слышала новости, но проблемы с рейхом ожидали ее дома. Уже давно День матери в Германии стал для нее сложным испытанием, но еще никогда не был таким унизительным, как сейчас. Почетный крест публично вручался женщинам, которые родили четырех и больше здоровых детей для рейха. Стыд, если немка не родила ни одного, позор, от которого так просто не отмахнуться, который не пройдет мимо Женской нацистской партии. Лия изо всех сил старалась улыбаться, стоять с высоко поднятой головой, когда женщины Обераммергау шествовали из церкви, гордо демонстрируя свои почетные медали.
Во дворе церкви Лия подняла голову и наткнулась на взгляд Максимилиана Гризера, исполненный сострадания. От неожиданного проявления сочувствия женщина оступилась. Фридрих подхватил ее за руку. Когда они выпрямились и продолжили путь, Лия заметила, как презрительно смотрит Максимилиан на ее мужа – этот взгляд еще больше встревожил ее.
Рука Фридриха продолжала лежать у Лии на талии. Но у бабушки дома, оставшись в комнате одна, Лия дала волю слезам.
Лия видела, что бабушка пытается удержать остальных обитателей дома на кухне, чтобы отвлечь их внимание от внучкиной комнаты. И была несказанно ей благодарна.
Но чуть позже, когда в дверь негромко постучали и в комнату осторожно протиснулась Амели, Лия испытала еще бóльшую благодарность. Ничьи объятия не наполняли ее сердце любовью так, как обвившиеся вокруг ее шеи ручки Амели. Эти двое были нужны друг другу, и потому объятия малышки были еще приятнее. У Лии не было слов, а Амели слова были не нужны. Те несколько жестов, которыми они обменялись, показались бы кому-то странными. Через какое-то время к их радостному дуэту примкнул Фридрих. И Лия молилась, чтобы так было всегда.
52
Когда в средине мая Первая горная дивизия вторглась на территорию Франции, Фридрих поблагодарил Господа за то, что из-за проблем со здоровьем он признан негодным к военной службе. Он мог только представлять жестокость, с которой его бывшее подразделение по приказу командования давало себе волю по отношению к французским евреям. Слава Богу, что он вернулся к своему ремеслу, слава Богу, что потерял только один глаз, но у него осталось две руки.
Лия время от времени заглядывала к мужу в магазин, но не она стала там самым частым посетителем.
Несмотря на то что Генрих Гельфман так и не вернул фигурку младенца Иисуса, мальчик каждый день околачивался у Фридриха в мастерской – приходил туда регулярно, как по часам, что стояли у герра Гартмана на верстаке.
Генрих наклонялся над столом и смотрел, как Фридрих орудует ножом.
– Фрау Гартман передала вам мой рождественский подарок?
– Ja, ja, передала. Очень любезно с твоей стороны, Генрих. Я это ценю. Хотя должен признаться, что еще больше бы обрадовался, если бы ты вернул мне фигурку, которую я вы́резал.
Мальчишка сделал вид, что не понял намека.
– А вы вырежете из того куска дерева нового младенца Иисуса, герр Гартман? Знаю, что вырежете! Вы лучший мастер во всем Обераммергау.
Фридрих засмеялся.
– По-моему, ты преувеличиваешь. Есть более опытные резчики.
– Но вы вырезаете самые красивые лица, самые красивые улыбки.
– Правда? – Фридрих, довольный похвалой, улыбнулся.
– Ja, это улыбки ангелов. По-моему, даже герр Гитлер не нашел бы в них изъяна – ни его врачи, ни медсестры.
Фридрих взглянул на мальчишку, чуть повернул голову, чтобы лучше видеть, и нахмурился от этих странных умозаключений. Генрих покраснел и отошел от верстака, как будто сболтнул лишнее.
– Генрих! Что это означает?
Мальчишка покачал головой. В его глаза закралась тревога.
– Мне пора, герр Гартман. До завтра! – Генрих схватил свои учебники и рванул прочь из мастерской.
Фридрих бросился за мальчиком к двери, но остановился, глядя в спину убегающему парнишке, пока тот не исчез из виду.
– Генрих! – окликнул он.
Но тот даже не обернулся.
Фридрих почесал подбородок. Его подмывало побежать следом за мальчиком, узнать, что же кроется за его странным поведением. Но резчик и так уже опаздывал с заказами на Рождество, а с больным коленом ему не угнаться за юным быстроногим Генрихом. Фридрих закрыл дверь мастерской – над головой зазвенели колокольчики – и, хромая, направился к верстаку.
53
К тому времени, как альпийские луга покрылись маргаритками и аконитами, засинели крупными колокольчиками, запестрели ночными фиалками и таволгой с длинными белыми кисточками, страхи Рейчел о том, что Герхард может увидеть ее фотографию на обложке журнала, стали постепенно исчезать. «Наверное, этот журнал так и не появился в Берлине. А может быть, Герхард теперь одержим другой идеей. Может быть, нам уже ничего не угрожает». Но в это трудно было поверить.
Тогда в мае эти страхи окончательно затмили сообщения Би-би-си о том, что пожилые бельгийки тащились по дорогам с плачущими младенцами на руках, а за ними шли молодые матери, навьючив на себя весь семейный скарб, – их преследовали безжалостные немецкие танки.
Когда последовали сообщения о том, что немецкие войска на полпути от французской границы до Реймса – гóрода на северо-востоке Франции – и уже готовятся к взятию Парижа, Рейчел вышла из комнаты. Она больше не могла слушать о разграблении маленьких французских деревушек, о вытоптанных пашнях, о забитом скоте, об оставленных вдоль дорог недоеных, ревущих коровах, об изнасилованных женщинах и девушках. «И все это во имя создания высшей расы, тысячелетнего рейха ужаса!» Рейчел стошнило прямо в раковину на кухне. Успокоившись, она умылась.
Во имя ускорения процесса очистки расы немецкая армия переселила пожилых тирольцев в Обераммергау и близлежащие деревеньки. От Рейчел не укрылась ирония судьбы: собрать тех, кого считаешь ниже себя, и поселить среди «немецкой элиты».
В первую же неделю, как тирольцы появились на деревенских улочках, Рейчел по пути на занятия драмкружка увидела толпу детей, которые что-то кричали, прыгали и над кем-то глумились. Подобные сцены в Обераммергау были редкостью, поэтому у Рейчел защемило сердце.
Она подошла к собравшимся, не поднимая головы. Группка из пяти подростков в форме гитлерюгенда окружила старика. Они дразнили его, обзывали словами, смысл которых Рейчел не совсем понимала – наверное, это был какой-то молодежный жаргон, – и сбили у старика с головы шляпу. Бедняга, изо всех сил пытаясь сохранять достоинство, наклонился, чтобы поднять свой головной убор, но подростки стали пинать шляпу вдоль по улице, задевая распухшие костяшки пальцев покрученной артритом руки своими сапогами.
Женщины, поравнявшись с группой юнцов, отвернулись, и Рейчел расслышала, как одна из них громко прошептала приятельнице:
– А чего вы ждали? Они нам здесь не нужны. Места и так не хватает. У нас и без них есть нечего, а они нас еще и объедают. Почему фюрер не вышлет их в другое место?
Двое детей помладше, из класса Рейчел, протиснулись сквозь толпу и, следуя за старшими, хлопали и улюлюкали с обочины. Рейчел не решилась прекратить издевательство, боясь привлечь к себе ненужное внимание, но все равно приблизилась к ученикам и схватила их за руки:
– Вы опоздаете на занятия. Вам ведь известно, что я не терплю опозданий. Пойдемте-ка со мной.
– Но мы хотим…
– Пошли… сейчас же! – И она повела детей в класс.
Рейчел не могла взять в толк, почему взрослые люди терпели подобную жестокость. Члены гитлерюгенда были крепкими, здоровыми ребятами, и за издевательства их только что не хвалили. Подростки потеряли голову.
Ей было больно наблюдать за тем, как унижают этого бедного старика и любого пожилого человека только потому, что у его народности странные обычаи, малопонятный язык и иные ценности. Рейчел видела теорию отца в действии – теорию отца и действительность Гитлера, – и это пугало ее больше всего.
«Джейсон был прав с самого начала. Мы как будто не верили, что Гитлер в точности выполнит свои обещания. Или мир просто ждет, что кто-то возьмет на себя ответственность и остановит его?» Рейчел мысленно застонала. Когда-то она считала риторику своего отца такой же безобидной, как утренняя газета. «Неужели мой страх, моя апатия – безразличие – чем-то лучше, чем совершенное им зло?»
* * *
Как ни умоляла Рейчел, курат Бауэр отказывался от ее помощи, не желая толкать девушку на еще более скользкую и опасную дорожку, чем та, на которую она уже ступила.
– Ваша первостепенная обязанность – обеспечивать безопасность Ривки и Амели, свою и своей семьи. Никто не способен спасти весь мир, однако каждый из нас может внести свою лепту.
– Но все остальные помогают мне. А кому помогаю я?
– Своей бабушке… она очень в вас нуждается. И малышке Амели. Подготовьте ее к жизни в мире слышащих, используя язык жестов, научите ее самостоятельности. А еще вы помогаете Ривке, у которой нет ни дома, ни семьи, ни родины.
Не такого ответа ждала Рейчел.
– Суть в том, чтобы жить… честно проживать каждый день. – Курат Бауэр смотрел на нее так, как будто разговаривал с ребенком. – Мы должны быть готовыми продолжать жить. Бóльшая часть жизни – это не опасность и не высокая драма. И наша ответственность заключается в том, чтобы помочь тем, кто рядом с нами.
– Быть ангелом-хранителем для ближнего своего – так говорит Фридрих.
– Или ближней. – Священник улыбнулся. – Иногда нести свой крест означает делать повседневную работу здесь, а не совершать эффектные, рискованные поступки где-то там.
Рейчел почувствовала, как зарделась. Ей не нравилось, когда ее мысли читали, как открытую книгу. Действительно, ей хотелось совершить что-нибудь потрясающее, что-нибудь опасное, что-нибудь по-настоящему достойное самоотречения. Ей хотелось… и она понимала, что в этом и заключается суть проблемы: она до сих пор руководствовалась собственными желаниями.
Наконец девушка кивнула.
– Именно так, как уверяют, и поступал Иисус, да?
Курат Бауэр удивленно поднял брови.
– Значит, вы понимаете.
– Наверное, Он не задумывался над тем, что отдать Себя на избиение, позор, распятие – эффектный поступок.
– Иисуса распяли за наши грехи. Он сделал это ради нас, потому что всем нам нужно было искупление.
– Всем нам, – повторила Рейчел.
Раньше она думала, что ей никто не нужен. Но теперь… теперь девушка уже не была уверена в этом.
* * *
В июне, когда немцы двинулись на Париж, последний корабль с британскими и французскими вооруженными силами на борту отправился из Дюнкерка к берегам Великобритании.
Премьер-министр Великобритании заявил, что, даже если Германия решится на вторжение в Англию, Британская империя «будет продолжать сражение, до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Свет, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение Старого».
Рейчел все не могла взять в толк, почему Соединенные Штаты – часть Нового Света – не вступают в сражение, почему не «отправляются на спасение».
Рейчел с Ривкой лежали ночью на чердаке и слушали запрещенное, тщательно спрятанное радио. Би-би-си передавало сообщение о массированных бомбардировках – Британия бомбила далекий Франкфурт. Рейчел искренне надеялась, что Институт сровняли с землей. Девушки гадали, как много понадобится времени, прежде чем британские бомбардировщики долетят до Баварии. Близость Обераммергау к Мюнхену заставляла их чувствовать свою беззащитность.
Фридрих возражал: маловероятно, чтобы стали бомбить Альпы, ведь в горах очень сложно обнаружить и поразить цели.
– Именно поэтому немцы и строят фабрики среди гор и пещер. Думают, что так безопаснее.
Но опасность чувствовалась везде, и моральный дух немцев ослабевал, особенно когда не приходили письма с фронта от отцов и сыновей и не публиковались списки убитых, раненых и пропавших без вести.
– Гитлер запретил печатать списки погибших и раненых, невзирая на победы на фронтах, – объяснил Фридрих. – Он не хочет, чтобы мы в тылу сравнивали наши потери с Первой мировой войной.
Бабушка согласилась с ним:
– Протесты против войны могут приблизить его конец.
Но Рейчел понимала, что неуверенность и страх за своих близких – мужей, сыновей и братьев – были невыносимы для тех, кто ждал дома. Ей было очень жаль этих людей.
* * *
К середине июня Рейчел дочитала книгу Бонхёффера и цитаты из бабушкиной Библии. Главные герои и их истории, их сила и множество неудач, то, в чем они отчаянно нуждались, были очень близки людям, которых она знала, – были очень близки самой Рейчел.
Больше всего Рейчел поразил Иисус – и не только тем, кем Он был, но и тем, как Он жил до своей смерти, тем, что при жизни не отвергал иудейского права, при котором был рожден, – закона, изначально казавшегося жестоким и суровым, – а исполнял его. Он призван был жить под защитой этого закона, пользоваться его привилегиями и в соответствии с его требованиями искупить грехи человечества, принеся Себя в жертву. Все это шло вразрез с воспитанием Рейчел… сама идея о том, что Библия может быть чем-то иным, нежели орудием усмирения человеческого честолюбия. Иногда во время чтения девушка бывала заинтригована, иногда чувствовала себя так, как будто занимается чем-то предосудительным. Ей было тяжело отмахнуться от голосов из прошлого.
Рейчел и Ривка подолгу перешептывались по ночам, обсуждали вопросы права, говорили о «Страстях Христовых», о попавшем в затруднительное положение решительном Иисусе, описанном Бонхёффером, анализировали утверждение священника о том, что Церковь обязана спасать евреев, которых преследует Гитлер.
Ривка заявляла, что не видит никакого смысла в том, что взгляды Бонхёффера расходятся с тем, как арийский вопрос трактуется немецкой евангелической церковью.
– Даже некоторые нацисты называют себя христианами, но они отлучили от Церкви всех евреев, даже тех, кто верит в Иисуса, – тех, кто называет его Мессией и Спасителем. И неважно, что эти люди приняли христианство. Немцы все равно их арестовывают – совсем как моего брата. Ты не поверишь, что говорят те, кто носит кресты.
Для Рейчел это тоже не имело смысла, но она понимала извращенную евгеническую логику нацистов. Если кто-то еврей, то все дело в крови – в крови, что течет в венах, – а не в религии. Ее с детства закармливали этими «фактами», и Рейчел уже тошнило.
Иногда девушки засыпали за разговорами, так и не сойдясь во мнениях, уставшие от споров. Что имел в виду апостол Павел, говоря о евреях, которые будут привиты, как дикие ветки к садовому оливковому дереву? И почему Иисус сказал, что он – живая виноградная лоза? Означает ли это, что лоза объединила всех – евреев и неевреев? Это вписывалось в общий контекст, но Ривка не была в этом уверена. И Рейчел тоже сомневалась.
Пока Ривка с Амели спали, Рейчел оплакивала своих родителей и их узкий мирок – мирок такой же удручающий и ограниченный, как и сама философия Третьего рейха. «Из-за собственной ограниченности отец даже представить себе не мог, что есть вещи, которых он не знает, возможности, которых он не видит». Рейчел было жаль отца, и она удивилась, что в сердце у нее живет прощение.
Но иногда, особенно в безрадостные моменты усталости и тревоги, просачивалась прежняя горечь. Воспоминания о его манипуляциях и предательстве рвали на части душу Рейчел, ее сердце. И приходилось повторять весь процесс прощения снова.
Рейчел задавалась вопросом, существует ли Бог на самом деле, как Он это переносит, день за днем, год за годом, век за веком? Почему Он никогда не сдается? Почему Его заботит судьба человечества?
Как-то в июне, возвращаясь вечером домой, она как раз размышляла над этими вопросами. Мимо нее прошел Максимилиан Гризер со своей бригадой гитлерюгенда – подростки направлялись в пивную. С тех пор как Джейсон пресек его непристойное поведение, Максимилиан больше не дежурил в коридорах школы.
Подросток, идущий рядом с Максимилианом, ткнул приятеля в бок – юнцы дерзко шарили глазами по Рейчел. Максимилиан отвернулся, но его шея, которая стала на несколько оттенков ярче, выдала его смущение. Рейчел стало жаль парня. Наверное, он проговорился о том, что «запал» на учительницу, и его друзья не позволяют ему об этом забыть. Джейсон был с ним резок, впрочем, парень, несомненно, это заслужил. И Рейчел, и Лии неприятны оскорбления.
Девушка даже не осознала, что смотрит им вслед. Что Максимилиан обернулся, чтобы взглянуть на нее. Рейчел не могла прочесть по его лицу, что у него на уме, но улыбнулась парню, смутившись от того, что ее взгляд перехватили. Лицо Максимилиана засияло, он помахал Рейчел. Она помахала в ответ и снова улыбнулась, радуясь, что сгладила враждебность или стыд, который он мог испытывать. Девушка отвернулась, легкомысленно надеясь, что Максимилиан не истолковал ее приветствие превратно. Это был ничего не значащий жест.
* * *
Для Максимилиана день выдался на славу. Он по приказу гестапо впервые принял участие в разгроме местного магазина, владельца которого обвинили в том, что он выдает провиант без продовольственных талонов, должным образом заверенных печатями.
Арестованный, избитый владелец магазина, просил пощады вместе с дочерью. Но жалость гестапо неведома, поэтому и Максимилиан никого не должен жалеть – так учил его наставник в гитлерюгенде. Он советовал мальчишкам заглушать колебания и сомнения с помощью спиртного.
Первая кружка пива помогла Максимилиану запомнить, что преступники сами несут ответственность за последствия, от которых страдают, и никакого отношения к нему, Максимилиану, они не имеют. Вторая кружка позволила забыть разбитую губу дочери торговца, ее синяки, слезы и мольбы. Третья напомнила о том, почему ему так нравилось смотреть на красавицу фрау Гартман, – и это чрезвычайно подняло юноше настроение и польстило его самолюбию.
Максимилиан недоумевал: почему он перестал ее преследовать? Почему вообще обратил внимание на этого властного американского журналиста? В конце концов, кто он такой? Фрау Гартман явно была хорошего мнения о Максимилиане, как и он о ней. А этот писака никто, к тому же уже уехал.
Юноша считал, что разница в возрасте между ним и фрау Гартман была не такой уж значительной. Ее муж, пусть и ветеран войны, остался калекой. Пожалуй, решил Максимилиан, он лишь потерял драгоценное время.
54
Париж был объявлен открытым городом, и через несколько дней нацисты вошли в него, не встретив сопротивления. Менее чем через час гитлеровский паук-свастика уже трепетал на Эйфелевой башне. Едва премьер-министр Франции Рейно, отказавшийся заключать перемирие с Германий, успел уйти в отставку, как освободившееся место занял маршал Петэн. Последний отчаянно стремился избежать разделения Франции между странами гитлеровской коалиции, поэтому смиренно подписал перемирие. Появилось марионеточное гитлеровское правительство – режим Виши.
Прибыв среди победоносной свиты в Париж, штурмбаннфюрер Герхард Шлик поднимал трофейные бокалы с шампанским, распевая гимн Германии Deutschland über Alles[48] и Horst Wessel Song (гимн Национал-социалистической немецкой рабочей партии), пока немцы ликовали и славили фюрера. Герхард рукоплескал приказу Гитлера подписать договор о перемирии в том же самом вагоне, в том же самом лесу, где Германию заставили капитулировать в 1918 году.
Шлик, радуясь тому, что лично принимает участие в доставке этого исторического вагона из французского музея, наблюдал за тем, как его еще раз привезли в Компьенский лес. Возвращение на место поражения Германии только подсластило Гитлеру месть и окончательно унизило Францию – такую жизненную философию штурмбаннфюрер Герхард Шлик принимал в расчете на будущее.
* * *
Несмотря на то что шла война, Лия была счастлива. Фридрих был дома и с каждым днем становился все сильнее. Он все чаще занимался резьбой по дереву, насколько позволяло здоровье, а она расписывала вырезанные им фигурки. Занятия с детским хором доставляли ей большое удовольствие, а Амели еще больше усиливала эту радость. Только бы закончилась война! Только бы о них забыли СС и стало бы безопасно выводить малышку на свет божий.
Лия понимала, что все это мечты, но продолжала лелеять их в сердце. Фридрих предостерегал ее, чтобы она не мечтала о недостижимом, но жена только улыбалась в ответ, радуясь удивительным превратностям войны.
Даже любопытные соседки Хильды уже не представляли угрозы. Несмотря на решимость нацистов создать чистую расу, многочисленных военнопленных из оккупированной Европы расселили среди местных домов и лагерей, чтобы они трудились на общественных работах. Фрау Хелльман больше занимал неожиданный приток в Обераммергау французов – их мелодичный, ритмичный язык. Ее уже не заботили подробности жизни соседки, хотя она и частенько высказывалась по поводу кипучей энергии Лии.
– Ты руководишь и детским хором, и драмкружком, помогаешь бабушке, расписываешь поделки мужа, падаешь от усталости на огороде – такое впечатление, что в тебе энергия трех женщин! А иногда кажется, что у тебя все валится из рук. Почему так?
Потому что существовало две женщины, а значит, две пары рук. Но Лия лишь улыбалась, когда Герда Хелльман таращилась на нее через забор. Рейчел или Лия – кто бы в тот день ни работал на огороде – частенько предлагали назойливой соседке пучок зелени либо срывали сладкую сливу или инжир из бабушкиного сада, чтобы ее успокоить.
Бабушку успокоить так легко не удавалось – она продолжала волноваться из-за любопытства соседки. Хильда боялась, что штурмбаннфюрер Шлик увидит фотографию Рейчел и Амели, поэтому много времени проводила на коленях, в молитвах.
Лия же пела чаще, чем обычно. И, окутанная любовью Фридриха и обожанием Амели, расцвела. Этого невозможно было не заметить.
55
Наконец стало по-летнему тепло.
За последний год Максимилиан значительно вырос. Волосы у него выгорели, а тело под альпийским солнцем приобрело бронзовый загар. Мышцы стали рельефными, а талия тонкой – от лазанья по горам, от гребли на лодках по горному озеру, от рубки деревьев в отряде гитлерюгенда.
Юноша решил, что не может больше ждать и наконец добьется своей мечты. Он причесался, застегнул на широкой груди форменную рубашку. Надел кепку, лихо сдвинув ее набекрень. На сей раз Максимилиан не стал брать цветы для фрау Гартман, решив преподнести в подарок себя самого. Он дождется, когда она останется одна, потом удивит ее и тут же заявит о своих намерениях.
Возможно, они начнут с прогулки по лесу и пикника. Вероятно, сядут на одеяло…
Максимилиан не знал, что ждет его впереди. Разумеется, у фрау Гартман был муж, с которым следовало считаться, но он не очень-то волновал юнца. Резчик ему не соперник, он не смог подарить своей жене ребенка. Фрау Гартман отлично ладит с деревенскими ребятишками – души в них не чает. Она заслуживает того, чтобы иметь собственных детей.
Юноша даже обсудил этот вопрос с парочкой приятелей, однажды поздним вечером, за пивом у костра. Все согласились, что калека-резчик – досадная помеха, о которой Германия даже не вспомнит. В конце концов, выживает сильнейший. Можно организовать несчастный случай – пара пустяков. Возможно, друзья даже помогут Максимилиану. Теперь, когда юнцы имели опыт поведения в подобных «ситуациях» под руководством гестапо, они стали творчески подходить к решению собственных проблем.
Максимилиан дождался, когда последний ученик покинет класс, удостоверился, что дежурный член гитлерюгенда ушел с поста. Улыбнулся от предвкушения, поправил галстук и шагнул в тонущую во мраке школу.
* * *
Лия собрала потертые нотные листы и выключила верхний свет. Маленькие пальчики, несмотря на самые лучшие намерения, имели привычку загибать краешки листов и пачкать текст. На диезе и скрипичном ключе грязь? Лия улыбнулась. Какая ерунда. Дети – главная ценность. Она сложила потертые листы в аккуратную пачку. Последние лучи заходящего солнца, проникающие через маленькое окно, давали достаточно света, чтобы женщина могла найти шкаф.
Лия услышала легкое шарканье у двери, но даже не обернулась.
– Вернулся, значит! Твоя коробка для обеда на пианино, Генрих. Завтра она тебе понадобится.
Женщина как раз закончила складывать на полке ноты, когда почувствовала за спиной чье-то присутствие. Этот человек был намного крупнее Генриха. Прежде чем Лия успела обернуться, он закрыл ей сзади глаза и прижался к ней всем телом. Он ничего не говорил, только тыкался носом ей в шею, прямо в изгиб между затылком и плечом – любимое место Фридриха для поцелуев, то, к которому он так и не прикоснулся, с тех пор как вернулся с войны.
Лия захихикала, удивленная дерзостью мужа. Ее податливость вдохновила Максимилиана, и он зарылся глубже в ее волосы. Его руки стали шарить по щекам, шее, обвились вокруг талии.
– Не здесь! – задыхаясь, засмеялась Лия, попыталась повернуться, но Максимилиан лишь сильнее прижал ее к себе и стал покрывать поцелуями, жадными поцелуями, которые дарил ей Фридрих перед ее последним визитом в Институт, в котором ее когда-то искалечили. А потом его искалечила война. Лия изогнулась и немного повернулась, стараясь не обескураживать мужа, но желая, чтобы он увел ее домой и там закончил начатое.
Она перехватила его руки. Но это были не руки Фридриха – до сих пор слишком худые. Даже в тусклом свете Лия видела и чувствовала, что это не рукава его фланелевой рубашки. Ее сердце учащенно забилось; разум сковало страхом. Женщина вырвалась, обернулась и увидела голодные глаза Максимилиана Гризера.
Он притянул ее к себе, но Лия стала колотить его в грудь кулачками и кричать:
– Убирайся! Убери свои руки!
Юноша засмеялся.
– Что ты делаешь? Сначала приглашаешь, потом отталкиваешь? Я знаю, что ты хочешь меня, Лия… так же сильно, как я хочу тебя.
– Нет!
– Перестань притворяться! Не нужно. Мы тут одни. – И он притянул ее к своим губам с такой силой, что она не смогла его оттолкнуть.
Лия извивалась и била Максимилиана кулаками, но юноша смеялся и целовал ее все сильнее, возбуждаемый ее сопротивлением. Его руки скользнули выше талии. Лия укусила юнца, а когда он схватился за губу, оттолкнула и сильно ударила по лицу.
В классе вспыхнул свет. В дверях стоял курат Бауэр. От резкого, слепящего света и последовавшей мертвой тишины у Лии перехватило дыхание. Она решила, что вот-вот лишится чувств.
– Он напал на меня. Он напал на меня!
Ужас, скорбь, страдание от понимания происходящего отразились на лице курата Бауэра.
– Убирайся, – сказал он Максимилиану. – Убирайся и больше не возвращайся.
Юноша посмотрел на кровь на своих руках – кровь от Лииного укуса, – смахнул ее. Перевел взгляд со священника на испуганную женщину.
– Мы любим друг друга.
– Нет!
– Но ты завлекала меня… все это видели. Ты завлекала меня, а потом добилась того, чего просила, но делаешь вид, будто это не так? Что это?
– Ты сумасшедший, Максимилиан! У меня есть муж – я люблю его! Я все расскажу твоей матери! – Это самое страшное, чем могла пригрозить ему Лия, единственное, что, по ее мнению, могло унизить Максимилиана, испугать его.
– Расскажешь моей матери? – Максимилиан скептически смотрел на Лию, как будто у него с глаз сорвали очки, как будто он видел эту женщину впервые. – Ты считаешь меня школьником, раз решила пожаловаться моей маме?
– Ты и есть школьник!
Но Максимилиан смотрел на нее совсем не по-детски. Он ругался и шарил глазами по телу Лии, как будто она была его собственностью, как будто решил закончить то, о чем мечтал, несмотря на ее слова. Он шагнул вперед, его глаза угрожающе блестели.
– Ты такая же, как твоя мать. До меня дошли эти слухи.
– Я сказал: «Убирайся!» – повторил курат, протискиваясь между ними и толкая Максимилиана на небольшую парту.
Парень упал на спину.
– Убирайся! – потребовал священник. – Или я вышвырну тебя вон!
Максимилиан с трудом поднялся с пола, но не смог удержать равновесие и опять упал.
В глазах юноши вспыхнули злость и унижение. Он откинул упавшую ему на лоб засаленную прядь волос и стал похож на недовольного, обиженного ребенка-переростка, у которого отобрали любимую игрушку. Максимилиан рывком встал с пола.
– Вы за это заплатите. – Он выплюнул кровь, гневно посмотрел на священника и Лию. – Слышите меня? Оба заплатите! – И выбежал из класса.
Курат Бауэр с шумом выдохнул и взглянул на Лию, которая опиралась на стол, прижав руку к сердцу.
– С вами все в порядке?
Она кивнула. Лию трясло, ей было тяжело дышать.
– Он не причинил мне вреда. Просто… – Она расплакалась, несмотря на отчаянное желание сдержать слезы. – Я никогда его не завлекала. Никогда не делала того, в чем он меня обвинял!
– Я видел, что он намеревался сделать. Мне очень жаль, фрау Гартман. Очень-очень жаль. Слава Богу, что я оказался рядом.
– Да, – дрожащим голосом произнесла она. – Спасибо вам!
Курат помог ей встать.
– Вы должны быть очень осторожны, фрау Гартман. Мы нажили себе врага. Вам следует обо всем рассказать Фридриху и предупредить сестру.
* * *
Лию била дрожь, когда она тихо-тихо, чтобы не слышала Ривка, шептала Рейчел на ухо мерзкую историю о Максимилиане.
– Успокойся, я тебе верю. Но тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Подумай, что он может сделать? Максимилиан ничего не знает. Он всего лишь подросток, у которого играют гормоны. У него нет над нами власти.
Но испуганная Лия возразила:
– Ты не видела его лица. Он поклялся, что мы заплатим.
– Я просто улыбнулась ему и помахала рукой, – пожала плечами Рейчел. – Это было всего лишь приветствие… честно, ничего больше.
– А для него это что-то значило. Рейчел, я боюсь! А если…
Но Рейчел самоуверенно покачала головой, как будто подобные заигрывания с учителем – обычное дело. Она практически убедила Лию в том, что та мыслит как провинциалка, что, невзирая на безобразный приступ гнева, Максимилиана на самом деле нечего бояться.
56
К тому времени, когда Герхард возвратился на службу в Берлин, настроение у него было отличным. Несколько недель, проведенных в Париже, заметно прибавили ему бодрости. Там он не испытывал недостатка в женской компании и пришел к выводу, что жизнь продолжается, несмотря на крушение юношеских мечтаний. Ведь вполне может быть, что Рейчел Крамер и вправду погибла на борту того корабля, где потом нашли ее паспорт. Пора, наверное, подвести черту под этой неприятной и бесславной главой его жизни.
Шлик закрыл за собой дверь кабинета, снял шинель и фуражку, отстегнул от пояса кобуру с пистолетом, ослабил галстук и сел за стол в свое кресло. Кабинет показался ему меньше, чем помнилось, и не очень светлым.
Герхард откинулся на спинку, прикурил сигарету, глубоко затянулся.
Возможно, есть смысл попросить начальство перевести его куда-нибудь в другое место. В мрачноватом Берлине его теперь ничто не держит, а жизнь в Париже сулит удовольствия. Совсем неплохо переждать войну там.
Чем больше Герхард об этом думал, тем сильнее нравилась ему эта мысль, а время было вполне подходящим для осуществления задуманного. Ведь после недавних громких побед начальство должно быть в прекрасном расположении духа – значит, и его просьбу могут удовлетворить. Шлик бросил взгляд на часы. До конца дня оставалось еще достаточно времени, чтобы разобрать бумаги, накопившиеся, пока он отсутствовал.
Час спустя Герхард снял телефонную трубку, чтобы вызвать курьера. Лучше направить прошение через него, чем ждать, пока рапорт по команде пройдет все положенные инстанции, да еще где-нибудь застрянет.
Когда Шлик набирал номер, в его кабинет вошел один из офицеров с пачкой газет и писем под мышкой. Он вытянулся в струнку, ожидая, когда начальник обратит на него внимание.
– Через двадцать минут? Очень хорошо, – удовлетворенно сказал Герхард в трубку.
Он кивнул подчиненному – пусть положит почту на стол, – небрежно взмахнул рукой в нацистском приветствии и поглядел вслед офицеру, который четко развернулся на каблуках и закрыл за собой дверь кабинета.
– Буду ждать. Хайль Гитлер!
Герхард положил трубку на рычаг с ощущением, что сам распоряжается своей судьбой.
Он закурил еще одну сигарету и просмотрел почту, сразу отправляя в корзину то, что представлялось ему несущественным, – а в эту категорию попадала значительная часть сегодняшней корреспонденции. Было среди прочего письмо из Обераммергау – от одного из членов гитлерюгенда, который утверждал, будто отыскал женщину, которой интересуется штурмбаннфюрер, и может помочь ему, а также готов вывести на чистую воду тех, кто заодно с ней. Не так уж редко Шлик получал письма от подростков из гитлерюгенда, которые боготворили каждого офицера СС и стремились отличиться, утверждая, что им якобы по силам то, с чем не справились эсэсовцы-профессионалы. Да и какой нормальный немецкий подросток не мечтает попасть в ряды сверхлюдей фюрера? Шлик отложил письмо. Позднее он распорядится, чтобы один из помощников отправил по этому адресу стандартный ответ и фотокарточку фюрера с автографом.
В самом низу лежали газеты министерства пропаганды – «Сказки Геббельса, которые стоит почитать», как про себя называл их Шлик. Их он возьмет с собой. Правда там написана или нет, эти газеты обеспечивали ему приятный вечер у камина, когда не было гостей.
Между двумя газетами обнаружился конверт, достаточно большой, чтобы в нем мог поместиться официальный документ. Отправителем был доктор Фершуэр, который перешел на работу в Берлинский институт. Заинтересовавшись, Герхард сломал печать и вытянул из конверта обложку журнала, к которой была прикреплена написанная от руки записка.
«Господин штурмбаннфюрер!
Мне трудно поверить, что эта прекрасная Мадонна – робкая и застенчивая Лия Гартман, хотя она и одета в баварский костюм. Твердо ли Вы уверены в том, что наша общая знакомая покинула Германию? Дайте мне знать, пожалуйста.
Д-р Отмар фон Фершуэр».
Герхард развернул журнальную обложку, и кровь бросилась ему в лицо.
Улыбающаяся с фотографии женщина, соблазнительная, манящая, могла быть только Рейчел и никем больше. Лия Гартман, даже в самых смелых своих мечтах, не смогла бы держаться так уверенно и выглядеть одновременно такой невинной и притягательной.
Ребенок рядом с ней, повернутый к зрителю в профиль, тоже показался ему смутно знакомым. В памяти Герхарда стали всплывать какие-то тревожные образы. Ребенок, несомненно, был очень похож на его покойную дочь, но малыш на фото выглядел постарше, гораздо веселее, крепче. К тому же он явно был мальчиком, пусть даже чем-то напоминавшим девочку. Герхард сразу же прогнал эту мысль. У него начинаются болезненные фантазии! Какой настоящий арийский ребенок не светловолос и не пышет здоровьем?
В дверь кабинета постучали.
– Войдите, – ответил Герхард, невольно вздрогнув от неожиданности.
Перед ним навытяжку встал курьер, подняв руку в приветствии. Герхард вскинул руку в ответ.
– Что вам нужно?
– Ваш рапорт, господин штурмбаннфюрер.
– Что? – Герхард на время потерял способность соображать, а ему необходимо было мыслить ясно, чтобы выработать план действий.
– Вы вызывали курьера, господин штурмбаннфюрер? – На лице солдата отразилась некоторая неуверенность.
– А! Да, конечно.
Герхард встал из-за стола, взял в руки заготовленный конверт со своим рапортом и задумался. Потом принял решение и спрятал конверт обратно.
– Не нужно. – Он снова сел на место. – Пока я ничего отправлять не буду. Передумал. – Он махнул рукой солдату и отвернулся к окну, собираясь с мыслями. – Можете идти.
Когда за курьером закрылась дверь, Герхард вытащил из пачки не представляющих интереса бумаг письмо юного нациста из Обераммергау, а из ящика стола достал увеличительное стекло и принялся изучать надпись, сделанную мелкими буковками в нижнем углу журнальной обложки. Штурмбаннфюреру едва удалось разобрать фамилию фотографа – М. Элдридж. Герхард довольно улыбнулся, побарабанил пальцами по фото и припомнил телефонный разговор с газетчиком, который вывел его на этого напыщенного Джейсона Янга – того самого, который либо не знает об этом деле совсем ничего, либо слишком уж хитер.
Шлик откинулся на спинку стула, погрузившись в размышления. Он оказался слишком доверчивым. Искал не там и не то, либо этот сладкоречивый американец умышленно навел его на ложный след. Ну, во второй раз он на эту удочку не попадется!
Часть III Июль 1940 года
57
Теплым июльским днем после уроков курат Бауэр остановил Рейчел в вестибюле школы. Она как раз собиралась уходить. Из рукава сутаны курат вынул маленький пакетик и положил его в корзинку, с которой Рейчел ходила на рынок.
– Шоколадка, подарок от друга.
– Здесь был Джейсон?
– Nein, – покачал головой курат, – но я видел его в Мюнхене. – Он улыбнулся. – Хороший парень этот ваш молодой человек.
– У него все благополучно? – Рейчел чувствовала, как внутри у нее поднимается теплая волна.
Курат утвердительно кивнул.
– Правда, он уверяет, будто совсем разбит из-за того, что каждую ночь ему приходится сидеть с берлинцами в бомбоубежищах, ожидая, когда английские самолеты закончат бомбардировку. К тому же его раздражает цензура. Говорит, что в новостях нет ни слова правды, да и нет ни одной доброй новости, которая заслуживала бы упоминания.
Рейчел улыбнулась. Все это очень похоже на Джейсона.
– У его друга Бонхёффера большие неприятности с гестапо, – сообщил курат, посерьезнев. – Насколько я понял, Исповедальная церковь предоставила пастору официальный отпуск «для написания богословского труда». Герр Янг дал понять, что Бонхёффер будет находиться в районе Мюнхена и Этталя.
– Этталя? Там же бенедиктинский монастырь, совсем рядом с поселком.
– Ja. Думаю, что его друг Йозеф Мюллер организовал приглашение от монастырского руководства. Там хорошо работается, пишется. Я молюсь о том, чтобы пастор Бонхёффер обрел там мир и покой, хотя, боюсь, мира в наши дни нет нигде. А вот опасностей хватает. Все больше иностранных корреспондентов перебираются в Англию и Америку.
– А Джейсон? Он тоже?..
– Он сейчас является как бы курьером для тех, кто в этом нуждается. Даже не знаю, сколько времени он будет… Времена трудные, фрейлейн, ни в чем нельзя быть уверенным, особенно последователям Иисуса. Вы должны быть внутренне готовы ко всему. Понимаете, о чем я говорю?
У Рейчел тревожно екнуло сердце, но она, собрав всю свою храбрость, кивнула в ответ на вопрос курата.
– Еще одно. – Он увлек девушку в тень. – Если меня заберут…
– Не нужно так говорить!
– Если меня заберут, – повторил Бауэр с печальной улыбкой, – вы непременно должны передать герру Янгу, чтобы он не привозил газет. Иначе они смогут выследить всю нашу подпольную сеть. Это будет грозить смертью для Янга и разоблачением для тех, кого мы пытаемся спасти.
– Но как же мы без вас? А продукты, паспорта? Как же?..
– Бог обеспечит вас всем необходимым. Он укажет вам истинный путь. Незаменимых среди нас нет.
Рейчел трудно было в это поверить. Она хотела еще о многом расспросить Бауэра, но в дальнем конце вестибюля послышался стук кованых сапог – это патруль гитлерюгенда обходил территорию. Курат пожал ей руку и удалился.
* * *
Как только Рейчел добралась до дома, она загнала в укромный уголок Ривку и Амели, а Лию увлекла на чердак и рассказала ей все, что узнала от курата Бауэра.
– Этого я и боялась. Вчера вечером я поняла, что затевается что-то плохое. Мы с Фридрихом как раз выходили из церкви, когда рядом с нами остановился большой черный автомобиль. Я ясно видела на заднем сиденье Максимилиана. А ведь я его уже столько времени не встречала! Он бегал от меня, как от чумы – с того самого дня, когда…
– Но что ему может быть известно?
– Да он же почти год патрулировал в школе, вокруг церкви. Что-то увидел, что-то подслушал.
– Курат Бауэр умный человек, – покачала головой Рейчел. – Не сомневаюсь, что он всегда осторожен.
– Конечно, так и есть. Но он ведь очень многим помогает. Так легко об этом догадаться. Достаточно, чтобы кто-то сболтнул неосторожное слово, мельком увидел документ, паспорт. Где-то могли не закрыть дверь вовремя. – Лия в отчаянии потерла виски.
– Перестань! Нельзя так думать. Надо выработать план. Что мы станем делать, если?..
Кто-то громко постучал в дверь черного хода. Лия схватила Рейчел за руку.
– Пойду я. Притворюсь тобой, – твердо сказала Рейчел. – А ты сиди здесь и постарайся взять себя в руки.
– Не надо! – оттолкнула сестру Лия. – Спрячься подальше. Бабушка пришлет к тебе Ривку и Амели. А я открою дверь.
Времени на пререкания не было, и Рейчел сделала, что ей велела сестра. Она ползком добралась до потайной двери на лестницу и тут услышала, как Лия открывает дверь черного хода. Ривка тут же пробралась через раздвижную стенку шкафа. Но где же Амели?
* * *
Лия отворила дверь, ведущую на бабушкину кухню, и увидела мальчика, который отчаянно колотил кулачками.
– Генрих! В чем дело? Что случилось?
– Я вернулся в церковь… Я забыл там пакет с завтраком!
– Очень хорошо. Уверена, что он и сейчас там лежит. Ты смотрел на пианино?
Мальчик отстранился и схватил Лию за руки.
– Послушайте же! Они его забрали! Пришли и забрали курата Бауэра! Его увели в наручниках! Я все видел сам!
Лия почувствовала, как у нее окаменело лицо, а в коленках появилась предательская слабость.
– Кто забрал?
– Гестаповцы. Наверное, это люди из гестапо, у них же черный автомобиль!
Рядом с Лией оказалась бабушка. Она присела на корточки, чтобы легче было говорить с мальчиком.
– Ты узнал кого-нибудь из них?
Перепуганный Генрих только кивнул головой. Глаза его заблестели, он готов был расплакаться.
– Там был Максимилиан, Максимилиан Гризер. Он грубо обращался с куратом. Я-то думал, он ему поможет. Я упрашивал Максимилиана помочь, объяснить всем, что курат Бауэр – добрый человек, что произошла какая-то ошибка, а он молча стоял и смотрел на то, что происходит. Потом засмеялся и оттолкнул меня. – По лицу Генриха покатились крупные слезы. – Я не мог им помешать. Пытался, но ничего не смог сделать!
Лия обняла мальчика.
– Конечно, не мог. Как ты мог справиться с ними один? Однако ты правильно поступил, что пришел и рассказал об этом мне. Мы должны молиться о курате Бауэре. Ты прав: он добрый, очень добрый человек. Он многим помогает…
Но Генрих уже не слушал ее. Он застыл, как статуя, не сводя глаз с кого-то за спиной Лии.
– Кто это?
Лия и бабушка одновременно обернулись.
Там стояла Амели, одной рукой обнимая свою тряпичную куклу, а большой палец другой засунув в рот.
Бабушка потеряла дар речи.
– Это ваша дочка? – У Генриха от восторга засияли глаза. – Такая красивая!
– Нет-нет, – забормотала Лия. – Это мальчик… он пришел в гости… это сынишка моей подруги. – Она повернула Генриха лицом к двери. – Тебе пора идти домой. Уже поздно.
– Но это же не мальчик, фрау Гартман. – Генрих так посмотрел на Лию, как будто считал, что она не в себе, потом перевел взгляд на Амели. – Я тебя никогда раньше не видел, зато видел твою куклу. Как тебя зовут?
Он помахал Амели рукой. Девочка ничего не сказала, но засмеялась своим резковатым смехом и помахала ему в ответ.
Бабушка бросилась к Амели, вытолкала малышку с кухни и закрыла за ней дверь.
– Вы ее прячете? – У Генриха округлились глаза. – От гестаповцев?
– Нет-нет, ничего подобного. – Говоря это, Лия ясно видела, что он ей не верит. – Просто… у ребенка высокая температура, ему надо лежать в постели. Он пришел к нам в гости. А я не хочу, чтобы ты заразился. Ну, тебе действительно пора идти. – Она мягко, но решительно подтолкнула мальчика к двери. – Наверное, будет лучше, если ты никому не станешь рассказывать о том, что… приходил к нам.
Генрих остановился и посмотрел Лии в глаза.
– Я ничего никому не скажу – ни о том, что приходил к вам, ни о том, что видел девочку. Я же знаю, что тайны нельзя выдавать. Можете на меня положиться, фрау Гартман.
Лия с удивлением смотрела на мальчишку, главного хулигана в ее классе. У него вдруг оказались такие взрослые глаза. Он был умницей, он предлагал ей… Что именно? Что он ей предлагал? Можно ли доверить ему тайну Амели? Лия не была в этом уверена и не могла действовать наугад, а воображение уже рисовало ей всякие ужасы. Она крепко обняла Генриха за плечи. Это был знак доверия. Он ответил ей тем же, погладил ее по щеке, а потом выбежал из дома и пустился прочь по дорожке.
Лия заперла дверь и заплакала.
58
Рейчел и Ривка выбрались из своего укрытия и пришли на кухню к бабушке и Лии.
– Простите меня, пожалуйста! – Ривка вся дрожала. – Я думала, что Амели на чердаке, иначе не пошла бы без нее. Я…
– Понимаю, милая, понимаю, – успокоила ее бабушка. – Что случилось, того уж не вернешь. Ничего не поделаешь.
– Мне думается, Генриху можно доверять, – сказала Рейчел. Она вывела из коридорчика встревоженную Амели, посадила ее к себе на колени и обняла. – Я ему верю.
– Но он ведь еще ребенок! – воскликнула бабушка. – Он всем расскажет об этом, лишь бы поделиться секретом с друзьями.
– Нет, – возразила Лия. – Мы идем на большой риск, но я думаю, Рейчел права. Генрих что-то от всех скрывает, и уже давно. Это как-то связано с тем, что он украл деревянную скульптуру младенца Иисуса. Значит, секреты он хранить умеет.
– Сейчас важнее другое – как помочь курату Бауэру, – проговорила Рейчел, кусая губы.
– А что мы можем для него сделать? – бессильно развела руками бабушка.
– Он предвидел, что это может случиться, – упрямо покачала головой Рейчел. – Курат Бауэр мне сказал: если его заберут, нужно передать Джейсону, чтобы он не привозил больше газет. Объяснил, что в противном случае Джейсону грозит верная смерть, а всей подпольной сети – неминуемый провал.
– И как мы ему это передадим? Нельзя же просто снять трубку и позвонить! – не сдавалась бабушка, волнуясь все сильнее. – Все это очень опасно.
– Через Дитриха. Его друг Дитрих сейчас в Эттале. Я могу найти его, поговорить. А уже он свяжется с Джейсоном.
– Ой, нет! – испуганно воскликнула бабушка.
– А что будет с людьми, которые прячутся у тебя в подвале? – спросила Ривка у Лии. – Курат ведь приносил им еду.
– Сам? Или это делал кто-то другой по его просьбе? А что, если попробовать через лесничего Шраде? Он что-то знает. Он и нам помогал. – Лия откинула волосы со лба. – Надо сказать Фридриху. Нам нужно будет походить возле дома, посмотреть, что можно сделать.
– Ну да! По улицам шастают гестаповцы! – Голос бабушки едва не сорвался на крик.
– Ну, конечно, не прямо сейчас. Мы это сделаем, когда Фридрих будет возвращаться домой с работы. Я пойду вместе с ним. Никто не удивится, что мы остановились у своего дома. Мало ли зачем? Быть может, нам придется даже переночевать там. – Лия усадила расстроенную Хильду в кресло-качалку. – Не нужно тревожиться, бабушка. Мы легко это сделаем. – Из-за бабушкиной спины она подала Рейчел знак. – Ну, пора выпить по чашечке чаю. Ривка, подай, пожалуйста, чайник.
Рейчел понимала: опасность стала так велика, что бабушке не под силу справиться с тревогой. У нее может не выдержать сердце, так что нет нужды посвящать ее во все детали того, что они задумали. Рейчел пересадила Амели на другое колено и пощекотала ее под подбородком. Девочка улыбнулась.
– Я переоденусь и загримируюсь, – прошептала Рейчел Лии, пока та разливала чай. – На этот случай у меня есть документы. Даже если меня остановят, это не страшно.
– А я, – предложила Ривка, – посижу с Амели в шкафу. Мы не шевельнемся, пока ты не вернешься.
– Тебя-то я расслышала, – упрямо сказала бабушка и поманила рукой Амели.
– Это совершенно безопасно, бабушка, – уверенно сказала Рейчел, передавая девочку Хильде. – Кого заинтересует пожилая женщина, бредущая к монастырю?
* * *
Рейчел вышла в путь, когда летнее солнышко еще не взошло над вершинами гор. Она надеялась дойти до цели раньше, чем начнется дневная жара, пока гестаповцы еще не начали облаву, пока никто еще не глазеет на прохожих. На третьем километре пути девушка мысленно перебрала в уме все возможные варианты развития событий. «Что, если пастора Бонхёффера не окажется на месте? Что, если у него нет возможности связаться с Джейсоном? А что, если он как-то связан с нелегальной работой курата Бауэра и его тоже арестовало гестапо? Джейсон говорил, что за пастором пристально следят».
Когда Рейчел добралась до монастыря, тамошний петух как раз прокукарекал. На лужайке стояла тележка, на которой развозят молоко. Рейчел обошла тележку, низко опустив голову, и направилась к центральному входу. Дверь была крепко заперта, как отчаянно ни дергала Рейчел за ручку.
Должен быть другой вход. Девушка осмотрелась вокруг, собираясь с мыслями, и увидела домик монастырского священника.
Рейчел так разволновалась, что позабыла о том, что должна изображать почтенную даму, и чуть ли не бегом припустила к маленькой двери черного хода. «Стоп!» Рейчел мысленно обругала себя, восстановила дыхание, разгладила складки на юбке и лишь тогда осторожно постучала в дверь.
Никто ей не ответил. Вокруг не было ни души. Рейчел постучала еще дважды, но после этого впала в отчаяние. Целых пять минут ей пришлось колотить в дверь почти без передышки, и в конце концов та отворилась. На пороге возник высокий полный мужчина, который представился приором[49] монастыря.
– Помогите мне, отче, пожалуйста. Я ищу Дитриха… то есть пастора Бон… Бонхёффера. – Слова с трудом слетали с уст Рейчел. Она остро чувствовала, как впустую уходит драгоценное время. – Он сейчас здесь?
Монах чуть отступил, впуская ее внутрь без дальнейших расспросов, и закрыл за ней дверь.
– Вы родственница брата Дитриха, meine Frau? Входите, добро пожаловать.
Рейчел не ожидала, что ей понадобится легенда.
– Я дружу с его семьей. Будьте добры, мне необходимо поговорить с ним. Это срочно.
– Он сейчас руководит братьями – они поют псалмы. Скоро брат Дитрих освободится, и я сразу скажу ему, что вы ждете. – Он помедлил у двери. – Вы добрались к нам издалека?
– Не слишком. Просто запыхалась. – Рейчел постаралась «состарить» голос. – Солнце припекает сильнее, чем я ожидала.
– Вы не местная.
– Да, я приехала в гости к знакомым. Но мне очень нужно повидаться с Дитрихом. – Рейчел знала, что пожилая женщина, друг семьи, может называть священника по имени.
– Хотите холодной воды? Вам станет легче.
Рейчел уже собиралась отрицательно покачать головой, лишь бы поскорее избавиться от общества приора, но тут вспомнила, что ей еще придется возвращаться в Обераммергау.
– Это было бы замечательно, danke schön.
Монах кивнул, наморщил лоб и вышел из комнаты, однако тут же возвратился. Рейчел одним духом опустошила стакан и поблагодарила монаха за то, что он оставил ей целый кувшин воды.
Пришлось ждать еще полчаса, пока дверь снова отворилась и вошел человек, гораздо более молодой, чем она себе представляла по рассказам Джейсона. Незнакомец был крепкого телосложения, мускулистый, со светлыми волосами, в очках с простенькой оправой. Он наклонился, взял Рейчел за руку.
– Вы пришли ко мне, meine Frau? Брат Петер сказал, что вы знакомы с моими родными.
– Вы пастор Бонхёффер?
Он кивнул.
– А здесь… – Теперь, когда долгожданная минута настала, Рейчел от волнения почти лишилась голоса. – Здесь никого больше нет?
Мужчина развел руками, огляделся и улыбнулся.
– Совершенно никого, как я понимаю.
Рейчел собралась с духом и прошептала:
– Курата Бауэра забрали в гестапо.
Улыбка сошла с лица Бонхёффера. Он придвинул стул ближе к Рейчел.
– Когда?
– Вчера вечером. За ним приехали рано вечером.
– Знаете, куда его увезли?
Рейчел отрицательно помотала головой, и по ее щеке скатилась слеза.
– Он знал, что так и случится. По всему чувствовалось, что знал. Курат Бауэр сказал мне, что если его заберут, то я должна буду передать…
– Мне? – Пастор смотрел на нее озадаченно.
Рейчел прикусила губу, сознавая, что ставит под угрозу слишком многих. «Боже милостивый, сделай так, чтобы интуиция меня не подвела! Пусть он окажется другом – этот человек, которого считает своим другом Джейсон!»
– Нет, моему другу… журналисту.
– А вам известно его имя? – Теперь уже в глазах Бонхёффера мелькнул огонек недоверия.
– Джейсон, – прошептала Рейчел. – Джейсон Янг.
Бонхёффер внимательно всмотрелся в ее лицо, даже прищурился, стараясь разглядеть истину.
– Вы – Рейчел.
– Так и есть, – созналась она с облегчением.
Об этом он мог узнать только от самого Джейсона.
Губы пастора тронула легкая усмешка.
– Вы не совсем такая, как он мне рассказывал.
– Прошу прощения, но думаю, я точно такая, как он вам рассказывал.
– Да, в каком-то смысле, наверное, это правда, – рассмеялся Бонхёффер, но тут же снова стал серьезным. – Курат ожидал, что наш друг в очередной раз кое-что привезет?
Рейчел кивнула и почувствовала, что с ее души свалился большой-пребольшой камень.
– Он сказал, что Джейсону нельзя приезжать сюда. За ним будут следить и выжидать, а затем раскроют всю подпольную сеть. Если Джейсона схватят…
– Да-да, я понимаю. Нельзя допустить, чтобы это случилось. – Бонхёффер откинулся на спинку стула. – Когда его ожидали?
– На этой неделе. Он сейчас работает в Мюнхене. Пожалуйста, вы сможете с ним связаться?
– Я поеду в Мюнхен и перехвачу его там. Мне все равно нужно там побывать. В Мюнхене у меня назначена непростая встреча.
Рейчел встревожила интонация, с которой это было сказано.
– Не стоит беспокоиться. Все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. – Бонхёффер внимательно всмотрелся в ее лицо. – Я не имею права рассказывать обо всем, что делаю, но вы должны поверить мне на слово: далеко не все и не всегда бывает таким, каким кажется.
Рейчел и сама знала, что это так. Она разгладила складки юбки.
– Очевидно, вы правы. – И улыбнулась.
– Так и есть, – улыбнулся Бонхёффер в ответ. Улыбка у него была искренняя, солнечная. – Очевидно. Вы можете называть меня Дитрихом, только не на людях, если нам приведется встретиться снова, фрау… как вас теперь зовут?
– Фрау Эльза Брайшнер, – ответила Рейчел, гордо вскинув голову. – Мне пятьдесят семь лет, я живу в Штелле.
– Вот и хорошо, фрау Брайшнер, можете на меня положиться.
– Спасибо. Спасибо, Дитрих.
– Джейсон много рассказывал мне о вас, о вашей Амели, о том, как вы помогаете Ривке. Вы смелая девушка, фрейлейн Крамер. Неудивительно, что наш общий друг так сильно вами увлечен.
Сердце Рейчел забилось быстрее. Джейсон признался Дитриху в своем чувстве к ней.
– Как и я увлечена им. – Она все же боялась поверить в то, что их дружба может перерасти в нечто большее. – Джейсон дал мне почитать вашу книгу.
– А! Он мне об этом говорил. Что же, вы прочли?
– Да. Не уверена, что все поняла, но я стараюсь учиться.
– Честный ответ. Все мы учимся всю жизнь.
– Джейсон рассказывал мне, как вас донимает гестапо. Надеюсь, из-за моей просьбы у вас не будет новых неприятностей и за вами не станут следить еще пристальнее.
– Nein. Джейсон – мой брат. Я искренне его люблю и ради него сделаю все, что в моих силах.
Рейчел нахмурилась, не сумев понять сидящего перед ней человека.
– Но ведь вы его едва знаете.
– На нем благодать Господня. – Пастор пожал плечами и улыбнулся.
– В своей книге вы об этом говорите, – прошептала Рейчел, силясь постичь смысл незнакомого понятия.
Дитрих склонил голову набок, словно изучал собеседницу. Потом процитировал:
– «За многая любовь мне многое простится, ибо чудо благодати на мне»[50].
Рейчел узнала эти слова – они встречались ей в бабушкиной книге церковных гимнов.
– Драгоценной благодати, – подсказала она, чувствуя, как в груди разливается теплая волна понимания священного таинства.
У Дитриха засияли глаза.
– Каждый из нас – чудо драгоценной благодати Господней.
59
В тот день Лия не пошла в церковь репетировать с хором. Утром, сразу же после того как ушла Рейчел, позвонил отец Оберлангер и сказал, что на сегодня занятие отменено. О том, что курата Бауэра арестовало гестапо, он ни словом не обмолвился.
Чтобы создать впечатление, будто бы все идет, как обычно, Лия после второго завтрака проводила Фридриха в его мастерскую – она могла раскрасить и покрыть позолотой уже готовые фигуры. У Фридриха было почти закончено Святое семейство и другие рождественские фигуры. Ривке и Амели нечего бояться, ведь они остались вместе с бабушкой, а Лии было крайне необходимо чем-нибудь себя занять.
Ею целиком завладели тревога о Рейчел и страх за курата Бауэра. Если в гестапо его станут бить, пытать, кто знает, что он может рассказать? А если его бросят за решетку, отправят в один из многих в Германии концлагерей, что же станется с теми людьми, которых он скрывал от властей по всей округе? Только на нем держались все связи с черным рынком продуктов питания, и через него же Джейсон передавал фальшивые документы и комплекты продовольственных карточек. Курат играл главную роль в переправке еврейских детишек за пределы этой альпийской долины. Даже Лия и бабушка зависели от помощи курата, благодаря которому получали – в обмен на молоко от своей коровы – лишние продукты для Рейчел, Ривки и Амели.
– Ты красишь овечку в красный цвет, – не повышая голоса, заметил Фридрих. – Будь внимательнее.
– Ой, прости! Прости, пожалуйста!
Лия даже уронила кисточку. Подобных ошибок она не делала еще никогда и теперь закрыла лицо руками. Фридрих отошел от верстака и ласково обнял жену.
– Ничего страшного. Протру песочком, приглажу шерстью, и она опять станет как новенькая. – Он помог жене встать и крепко прижал ее к себе. – Ты за последнее время столько всего вытерпела, meine liebe Frau[51]. Немудрено, что у тебя так тяжко на душе.
– Да нет, – покачала головой Лия. – Моя ноша не тяжелее, чем у остальных. Просто я очень сильно напугана. Боюсь за курата, за Рейчел, за Амели, за всех нас.
– Я тоже очень боюсь, – сказал Фридрих и поцеловал ее в темя.
Фридрих все еще обнимал жену, когда дверь мастерской распахнулась и к ним вошел Герхард Шлик.
* * *
Амели поспала после обеда и теперь проснулась. На чердаке было очень темно. Ей не нравилось спать днем, не нравилась и темнота, которую создавали шторы светомаскировки, плотно занавешивавшие маленькое чердачное оконце. Темнота напоминала девочке долгие часы угрюмого сидения в шкафу вместе с Ривкой и тетей Рейчел. А так хотелось просунуть голову под шторы и посмотреть, что делается на дворе!
Но ей нужно было на горшок, ждать дольше она уже не могла. Тетя Рейчел, как всегда, рассердится, если Амели будет ждать слишком долго и намочит матрасик. А когда она сердится – это хуже, чем вставать в темноте и пробираться по расшатанным доскам чердака к лесенке.
Амели не понимала, почему нельзя поставить горшок на чердаке, однако взрослые на этот счет были очень строгими. Как и насчет того, что каждое утро матрас нужно туго-туго сворачивать, а одежду, туфельки, даже книжку с картинками и куклу постоянно прятать в шкафу. Нигде не должно быть и следа пребывания в доме Амели, а также тети Рейчел и Ривки. В любое время, хоть днем, хоть среди ночи, они были готовы к тому, чтобы забиться в шкаф и плотно закрыть дверцу. Девочке казалось, что это такая игра, но игра эта ей не нравилась, а шкаф она просто терпеть не могла.
Правда, когда дверцу шкафа наконец разрешали открыть, старая бабушка неизменно крепко обнимала и целовала Амели. Потом давала ей немного каши с молоком и сидела с ней рядом за столом. Амели очень нравилось разглаживать пальчиком морщинки на бабушкином лице, а особенно приятно было, когда старушка улыбалась. Морщинки у нее тогда светились, словно свечи на рождественской елке.
Молодые женщины иногда тоже улыбались, но чаще выглядели обеспокоенными, и от этого беспокойства постоянно хмурились. Амели никогда не могла понять, почему так происходит. Может, она что-нибудь натворила? Отец обычно сердито хмурился, глядя на нее, и девочку это пугало. Но красивые тети были совсем не похожи на ее отца. Они часто обнимали и ласкали ее, как делала, бывало, мама. А мужчина… Амели всегда становилось весело, когда она думала о нем. Дядя Фридрих непременно улыбался во весь рот, увидев девочку, как будто от ее появления становилось светлее вокруг. Тогда и Амели радовалась тому, что живет на белом свете.
Но обе красивые тети, так сильно похожие друг на друга, уходили из дому надолго, как и дядя Фридрих. Тетя Рейчел, которая жила с Амели на чердаке, много читала, а темноволосая девушка, Ривка, постоянно выглядела печальной.
Когда Амели становилось совсем одиноко, она нередко дотрагивалась пальцем до висевшего на шее медальона. Там внутри была мамина фотография, вот только вспоминать ее лицо было чем дальше, тем труднее.
Амели встала с горшка и засунула его обратно в маленький шкафчик, который стоял в бабушкиной комнате. Потом подбежала к окну и приподняла штору – самую чуточку. Ей стали видны улица, ворота сада и шедшая от них к черному ходу дорожка. Именно по этой дорожке ходили красивые тети, когда возвращались домой.
Солнечный свет заливал дорожку, которая вела к парадной двери с улицы. Ни той, ни другой тети Амели нигде не увидела. Она уже хотела опустить штору, когда заметила, что на улице, как раз перед воротами их дома, резко затормозил большой грузовик.
Амели хорошо знала, что раздвигать занавески ей нельзя, поэтому держала окна зашторенными, заглядывая одним глазом в крошечную щелку. Почему, интересно, с грузовика выпрыгивают солдаты с большими собаками? Таких больших собак девочка еще никогда не видела! Она невольно отодвинулась от окна.
Люди в черных мундирах не нравились Амели. Такие мундиры напоминали ей об отце, а ведь он хмурился и мрачнел, стоило ей приблизиться к нему!
Солдаты, приехавшие на грузовике, были очень похожи на ее отца – высокие, широкоплечие, с суровыми лицами. Девочка присмотрелась, но ветви вяза, густо покрытые листвой, не позволили ей разглядеть лица как следует.
Солдаты россыпью бросились к дому – к парадной двери, торцам, черному ходу. В руках у них были автоматы.
Амели отпустила штору. Страшновато было признаться, что она выглядывала на улицу, но люди в мундирах и с автоматами были для нее гораздо страшнее. Девочка побежала на кухню к бабушке. Однако не успела малышка переступить порог, как от стола к ней бросилась Ривка и потянула Амели за собой в темный шкаф под лестницей.
В ту же минуту девочка увидела и бабушку. Побледнев, та поковыляла к кухонной двери. Рукой она сделала Ривке и Амели знак («сидите тихо!»), и дверца шкафа закрылась. Босыми ногами Амели ощущала, как все вокруг сотрясается от сильных ударов в дверь. Она вспомнила солдат с большими собаками и подумала о бабушке, которая осталась совсем одна. Амели не выдержала и заплакала.
Ривка зажала девочке рот, но Амели укусила ее за руку и заплакала еще сильнее. Тогда Ривка встряхнула малышку, но и это не помогло.
Амели чувствовала, как дрожит дом под градом ударов, и вот это заставило ее затаить дыхание от страха. Сапоги солдат громыхали по всему дому одновременно. Девочка ощущала, как рядом с ней дрожит Ривка. В темноте Амели потянулась к ней, и Ривка рывком втащила ее к себе на колени. Чувствовалось, как отчаянно колотится Ривкино сердце, а по тому, как она обхватила Амели, нетрудно было понять, что девушка напугана происходящим.
Сапоги грохотали по дому довольно долго, несколько раз приближаясь и к шкафу. Амели прикасалась ладонью к стене или дверце и ощущала, как они дрожат.
Через тонкие стенки шкафа просочился запах мочи, хотя Амели знала, что она в этом не виновата. Ривка рукой зажимала ей рот, а Амели была так сильно напугана, что на этот раз даже не пыталась освободиться.
Прошло много времени, прежде чем Ривка убрала руку и отпустила девочку. Но не оттолкнула ее, а прижалась головой к ее спине. Амели ощутила на рубашке Ривкины слезы, почувствовала, как тело девушки содрогается от рыданий. В шкафу было слишком тесно, и Амели не могла повернуться к Ривке, чтобы успокоить ее. Оставалось лишь сидеть тихо-тихо.
Когда Ривка перестала рыдать, Амели положила голову ей на плечо. К двери шкафа никто не подходил, и они обе очень долго сидели без движения. Амели наконец уснула. Ей снилась мама, снилось, как часто она клала голову маме на грудь. Во сне вспоминалось, какая нежная у мамы кожа, как чудесно она пахнет, а еще вспоминалось, как мама плакала, а потом позволяла Амели целовать ее, осушая соленые слезы.
Проснулась Амели все еще у Ривки на коленях. Но сердце у той теперь уже билось медленнее, ровнее. Амели подумала, что девушка, наверное, уснула. Она тяжело вздохнула и дотронулась пальчиком до своего медальона, сделанного в форме сердца. Ей снова хотелось на горшок, и она слабо пошевелилась, попыталась открыть дверцу шкафа.
Ривка мигом проснулась и убрала руку Амели от дверцы. Они сидели и ждали, ждали, ждали.
* * *
Дитрих сразу же собрался и уехал в Мюнхен, но Рейчел он попросил задержаться на несколько часов, чтобы никто не смог увидеть связь между уходом из монастыря каждого из них. Он договорился с монастырским шофером, чтобы тот отвез Рейчел в Обераммергау.
От бакалейной лавки на площади она могла идти, куда захочет. Путь ее лежал мимо мастерской Фридриха, но заходить туда Рейчел, разумеется, не стала. Нельзя обнаруживать какую бы то ни было связь между ними, разве что обстоятельства будут совсем уж безвыходными.
Рейчел размышляла об этом и прикидывала, нужно ли идти к бабушкиному дому окружным путем, как вдруг водитель резко затормозил.
– Что случилось?
– Впереди грузовики.
– Что за грузовики? – Рейчел прилагала усилия к тому, чтобы ее голос звучал естественно.
– Насколько я понимаю, это гестапо. А впрочем, как знать?
Но Рейчел уже увидела на грузовиках номера СС, и сердце у нее болезненно сжалось. Курат Бауэр кого-то выдал под пытками? Бабушку и… Амели? А что ждет Ривку, Лию и Фридриха? Рейчел показалось, что она сейчас упадет в обморок.
Водитель свернул в переулок, не желая проезжать через площадь.
– Не стану я сегодня ничего закупать для аббатства.
– Конечно, конечно, – поддержала его Рейчел. – Можете высадить меня здесь. Я доберусь.
– Точно? Здесь недалеко магазины, если вам туда нужно.
– Совсем недалеко. – Она попыталась улыбнуться. – Danke schön. Вы были очень любезны.
Водитель прикоснулся пальцами к фуражке, избегая смотреть Рейчел в глаза. Она не была на него в обиде – всякий на его месте был бы испуган. Не нужно быть в чем-то виноватым, чтобы побаиваться внимания со стороны СС.
Рейчел поправила платок, чтобы скрыть лицо насколько возможно, и выпрыгнула из кабины грузовичка. Стараясь идти помедленнее, проследовала по поселку и вынырнула позади мастерской Фридриха. Прикинула, сможет ли проскользнуть внутрь незамеченной и там дождаться темноты. Нельзя было рисковать и привлекать внимание к бабушкиному дому, возвращаясь туда открыто средь бела дня. Но едва Рейчел дошла до дорожки, ведущей в мастерскую, как из дверей черного хода вышли два эсэсовца, а из-за угла здания показался отец Оберлангер.
У Рейчел задрожали коленки. Она споткнулась, с трудом удержавшись на ногах.
– Осторожнее, meine Frau! – крикнул ей один из часовых.
– Ja, ja, danke.
Рейчел задыхалась, покачиваясь. Священник метнул на нее взгляд, но девушка посмотрела на свои ноги, словно приказывая им держаться твердо.
– Документы, – потребовал второй часовой.
Рейчел остановилась и послушно открыла сумочку. Всякий день кого-нибудь из женщин останавливали и обыскивали. Надо держаться спокойно, не давая повода для обыска. Пусть ограничатся беглым осмотром документов.
– Эльза Брайшнер? Из Штелле? – Часовые переглянулись между собой. – Разве не так зовут женщину, к которой штурмбаннфюрер уже послал людей для обыска?
Рейчел с трудом удерживала ускользающее сознание.
– Нет, то Хильда Брайшнер. Она живет дальше по улице. Фамилия довольно распространенная.
– Штелле. Я из Штелле. – Рейчел говорила, подражая голосу немолодой женщины.
– Фрау Брайшнер! – вмешался отец Оберлангер. – А я вас ждал. Думал, вы уже не придете, а мы ведь договорились побеседовать. Вы что, опоздали на поезд?
Рейчел вгляделась в лицо священника, не веря в удачу. Она прижала руку к сердцу.
– Так вы пришли побеседовать со священником? – спросил у нее солдат. – Только что приехали в эту деревню?
– Ja, ja, – кивнула она и склонилась вперед. – Ах, сердце!
Священник раздвинул часовых, взял ее за руку.
– Позвольте мне. Вы ведь уже проверили документы этой фрау, а теперь разрешите мне усадить ее где-нибудь. Вы же видите, ей плохо.
Часовые отошли в сторону, а священник покровительственно обнял Рейчел, и они вдвоем побрели в сторону церкви.
– Ничего не говорите, – шепнул ей Оберлангер. – Я вас помню по рождественской ярмарке. Вы были там вместе с фрау Брайшнер. Не знаю, в какую игру вы играете, фрейлейн, но актриса из вас лучше, чем учительница.
Рейчел была согласна с ним всей душой. Они снова вышли на площадь и направились прямо к церкви. Краем глаза Рейчел видела, как взбешенный штурмбаннфюрер Шлик распахнул дверь, выходя из мастерской, а затем плюхнулся на сиденье черной служебной машины, на крыле которой развевался флажок со свастикой. Машина заняла свое место в колонне и помчалась вверх по холму, миновав Рейчел и священника, – она проехала так близко, что вылетевшие из-под колес мелкие камешки попали девушке в лицо.
60
– Бабушка! – Лия, еще не придя в себя после допроса, учиненного Герхардом в мастерской, первой подбежала к старушке.
Следом за ней хромал Фридрих, мрачный как туча.
Хильда застонала, открыла глаза. Веки ее затрепетали, потом снова сомкнулись.
– Я ей помогу. Приподними ее ногу, – распорядился Фридрих. – Eins, zwei, drei…[52]
Вместе они подняли свою ненаглядную бабушку с холодных плит пола.
– У нее сломана нога! Сломана! – От волнения и страха у Лии задрожала челюсть.
Она никогда еще не видела, чтобы с ее бабушкой так грубо обращались: лицо старушки было покрыто синяками, губа разбита, на виске – глубокий порез, а нога неестественно вывернута. Наверняка она сломана. И еще от Хильды попахивало мочой. Лией овладело отчаяние: от последнего обстоятельства гордая бабушка испытает большее унижение, нежели от всего остального вместе взятого.
Лия откинула теплое одеяло, и Фридрих положил старушку на кровать так бережно, словно она была путеводной звездой в сцене Рождества. Поудобнее устроил ее голову на подушке, а другую подушку они с Лией подложили под поврежденную ногу.
– Каким нужно быть чудовищем, чтобы вот так обращаться со старой женщиной? С такой милой, замечательной женщиной! – прорыдала Лия.
– Я схожу за доктором. – Голос Фридриха стал хриплым от возмущения.
Лия видела, что им владеют отчаяние и гнев – гнев достаточно сильный, чтобы задушить того, кто осмелился поднять руку на их любимую бабушку.
– Амели… Ривка… – простонала Хильда.
– Их забрали? – У Фридриха от изумления округлились глаза.
– Чулан… – пролепетала старушка.
У Лии екнуло сердце.
– Не нужно тебе больше разговаривать, бабушка, – требовательно сказала она. – А ты, Фридрих, загляни в шкаф. Посмотри, там ли они.
Она, не оборачиваясь, слышала, как Фридрих открыл дверцу шкафа, как вскрикнула от радости Амели, увидев его. Лия закрыла глаза и вознесла хвалу Богу за то, что малышка осталась невредимой. Слышала она и тихий шепот Ривки, когда та выбиралась из своего убежища, потом увидела Амели – девочка опрометью пробежала в угол комнаты, к горшку.
За Амели вполне может присмотреть Ривка, но где же Рейчел? Разве она до сих пор не вернулась из Этталя?
Лия никому из них не желала зла, но, видя перед собой избитую бабушку, от души мечтала о том, чтобы и Ривка, и Рейчел покинули их дом и перебрались куда-нибудь в более безопасное место.
Она еще не успела додумать эту мысль до конца, как в дверях появилась Рейчел. По ее лицу стекали грязные ручейки грима, в глазах была ярость.
– Что они сделали с бабушкой? Скажи, что?
– Кажется, у нее сломана нога. Фридрих пошел за доктором. – Лия снова повернулась к бабушке и принялась стягивать с нее грязную одежду. – Присмотри за Амели и Ривкой. До прихода доктора вам нужно успеть спрятаться. Эсэсовцы еще могут вернуться.
– Давай я помогу тебе переодеть бабушку. – Рейчел вытащила из гардероба чистую ночную сорочку.
– Не нужно, я сама справлюсь.
– Это нужно мне! – возразила Рейчел. – Мне необходимо ей помочь.
– Дело ведь не в том, что нужно тебе, Рейчел. Дело в том, что нужно бабушке. А ей необходимо, чтобы ты была в безопасности, чтобы тебя никто не смог найти.
Лия осторожно стянула платье со старушкиного плеча, хотя гнев и обида так сильно душили ее, что женщине стоило больших усилий не дергать ткань. Ах, если бы сестра всегда делала то, что ей говорят!
– Я все слышала, – возникла в дверях Ривка. – Слышала, как они орут и избивают бабушку! Слышала, как она стукнулась о дверцу шкафа. Это она пыталась закрыть нас собой, чтобы меня и Амели не нашли.
– Давай я помогу, пожалуйста! – воскликнула Рейчел, обращаясь к сестре.
«Это из-за тебя избили бабушку! – хотелось крикнуть Лии. – Ей не поверили, когда она сказала, будто не укрывает тебя, будто знать не знает, где ты! Мне это известно, потому что я знаю бабушку, знаю, как сильно она тебя любит! А почему сюда пришли солдаты – это нам всем известно!» Но ничего этого Лия не выкрикнула и даже тихо не сказала. Вместо этого она сглотнула подступивший к горлу ком и напомнила:
– Доктор может появиться с минуты на минуту. Прошу тебя, Рейчел, ради бабушки сделай, как я сказала. Бабушка и так знает, что ты ее любишь. Докажи это еще раз, поступая так, как нужно. Позаботься об Амели и о Ривке, и о себе тоже. Давай, лезь в шкаф.
На лице Рейчел отразилась напряженная борьба между ее собственными желаниями и тем, что от нее требовалось. Потом она поцеловала бабушке руку, попятилась и исчезла в спальне.
Лия услышала, как в кухне звякает посуда, как наполняют и ставят на огонь чайник. Через минуту-другую Рейчел снова появилась на пороге.
– Все готово. Мы спрячемся в шкафу вместе с Амели и будем ждать там, пока ты не позовешь.
– Надеюсь, долго ждать не придется, – кивнула Лия, не поворачивая головы. – Лишь бы врач наложил на ногу гипс. Не знаю, сколько времени это может занять.
– Пожалуйста, – шепотом попросила Рейчел, – когда бабушка очнется… скажи ей, что я прошу прощения. Пожалуйста, скажи ей, что я очень прошу простить меня.
Лия изо всех сил сжала зубы, чувствуя, как напряжены у нее руки, плечи, шея, мышцы лица. Она заставила себя дышать, повернуться и проговорить:
– Вечером ты сама сможешь ей это сказать. А теперь лезь в шкаф, и прошу – придержи Амели, чтобы ее совсем не было слышно.
* * *
Фальшивые паспорта Джейсон передал человеку, которого прислал Дитрих. Несмотря на все старания, никому из них так ничего и не удалось разузнать о курате Бауэре: куда его увезли, в чем обвиняют.
Только через неделю Джейсон краем уха услышал о том, что Шлика перевели в Обераммергау. Но звонок шефу, сделанный из телефонной будки, позволил ему выяснить, почему эсэсовец попросил перевести его в баварскую деревушку.
– Что тебе известно о той фотографии, которую сделал Элдридж, – кажется, она называется «Баварская Мадонна»?
Джейсону было слышно в трубку, как шеф жует кончик сигары – рядом не стучали телетайпы. Значит, он говорил не из отдела новостей. Что же произошло?
– Не уверен, что смогу толком объяснить, – ответил Джейсон. – Сам я впервые увидел фото в том бульварном издании, изданном дома, в Штатах.
Это была правда. Лучше всего всегда говорить правду.
– Я так и сказал этому штурмбаннфюреру Шлику, который уже сидит у меня в печенках. Видно, он широко размахнулся – говорит, она американка, эта Рейчел Крамер. У меня сложилось впечатление, будто он начал собственный крестовый поход. – Шеф громко зевнул. – Я только рад, что Элдридж вернулся в Штаты. Есть у меня такое предчувствие, что от Шлика можно ждать любых гадостей.
– Гадости – это фирменная эмблема СС, – согласился Джейсон.
– Тише, дружище. Не забывай о цензуре, – одернул его шеф.
– Ладно, отбой. Пока…
– Минутку! У меня есть для тебя наводка. Ходят слухи, что начались так называемые убийства из милосердия. Научное название – эвтаназия.
– Как понимать «начались»? – Джейсон даже задохнулся от волнения.
– Гестапо «избавляет общество от умственно неполноценных жителей рейха». Понятия не имею, о каком количестве людей может идти речь. Думаю, точные цифры известны только Гиммлеру и кучке его ближайших подручных. В Бетеле есть приют для душевнобольных. Так нацисты давят на пастора, чтобы тот выдал им детишек. Поговаривают, что ни он, ни власти не уступят, а в итоге будет что-то страшное. С тех пор как Гитлер овладел Францией, дела идут все паршивее и нацисты действуют все наглее, совершенно открыто. Посмотри, что тебе удастся накопать, только действуй как можно осторожнее.
– До связи. – Джейсон повесил трубку, чувствуя, как у него холодеет внутри.
Ему хотелось, чтобы Амели и Рейчел оказались в Штатах, но он понимал, что теперь, когда в Обераммергау появился Шлик, им уже не удастся ускользнуть. Он снова снял трубку и набрал номер. Три гудка, и женский голос ответил ему:
– Ja?
– Я ищу стенографистку. Можете порекомендовать кого-то толкового? – Этими условными фразами он пользовался регулярно.
– Одну, двух? – Ответ тоже был стандартным.
– Трех. – Конечно: Рейчел, Амели, Ривка.
– Трех не получится. Я свяжусь с вами позднее. – И телефон замолчал.
Джейсон повесил трубку. «Трех не получится. Чью же жизнь мне удастся спасти? И чью придется потерять?»
61
В Мюнхен Фридрих поехал поездом один. За ним, единственным из всей семьи, слежки, похоже, не велось, да и присмотреть за маленькой лавчонкой в городе он мог вполне открыто. Заодно он воспользовался возможностью поговорить с Джейсоном, пусть и не с глазу на глаз. Скорее уж спиной к спине – на скамье у вокзала. Его это устроило.
– Поездом не получится. И в машине их не вывезти, даже в багажнике. Все въезды и выезды из поселка Шлик перекрыл постами. Весь поселок под колпаком, а к Лии относятся как к отверженной – только и ждут, когда объявится ее сестра-близнец. Шлик всем жителям показал фото Рейчел, назначил награду тому, кто ее отыщет.
– Рейчел тихо сидит, не высовывается?
– Она больше не ведет занятий в театральном кружке – слишком уж это рискованно, а Лия этим заниматься не спешит. Говорит, что бабушке необходим уход, особенно после визита «гостей» из СС. Лия вообще не годится для того, чтобы учить искусству игры на сцене, она напугана до полусмерти. Шлик посещает репетиции, которые она проводит с хором, – в любое время приходит и наблюдает. Впрочем, Лии скоро все равно придется начать занятия в театральном кружке, только мы не сомневаемся, что он и там будет все время торчать.
– Запугивает. Это любимый прием Шлика, – вздохнул Джейсон. – Ладно, значит, ни поезд, ни машина, ни автобус не подходят. Ничего, что движется по дорогам. Чтобы освободить Рейчел, понадобится какой-нибудь хитрый маневр.
– Чтобы отвлечь внимание всех постов? – Фридрих едва не фыркнул. – Это невозможно. – Минуту он сидел молча, не желая говорить еще об одном важном вопросе. – Нам не хватает еды. Бабушкин огород всех не прокормит. К тому же есть люди, которым приходится еще хуже. Мы не можем прогонять всех, кто просит хоть что-нибудь поесть.
– Дымовая завеса, – задумчиво проговорил Джейсон, словно не слыша Фридриха.
– Что?
– Дымовая завеса и кривые зеркала. То есть нужно придать вещам видимость того, чем они не являются.
– Понятия не имею, о чем вы говорите.
– Рейчел поймет. Попросите ее, пусть подумает. Чтобы все прочие отвлеклись надолго, пока она не сможет улизнуть из поселка. – Джейсон поднялся со скамьи, сверил свои наручные часы с вокзальными. – Буду ждать вестей.
* * *
Рейчел уложила Амели спать на чердаке. Пятеро взрослых собрались на кухне, плотно задвинув и заколов булавками шторы светомаскировки.
– Дымовая завеса и кривые зеркала? – переспросила Лия.
– Так он сказал, – пожал Фридрих плечами, – и добавил, что Рейчел поймет, о чем идет речь.
Все с интересом посмотрели на Рейчел.
– Я понимаю, что он имеет в виду. Не знаю лишь, как это осуществить.
Бабушка беспомощно пожала плечами, потом осторожно заглянула в щелку между занавесками – сидя в кресле-качалке, она несла караул.
– Это примерно то же самое, – продолжила Рейчел, – чем мы занимаемся – вернее, занимались – с Лией. Я притворялась, будто я – Лия, и всех, кто меня видел, удавалось обмануть.
– Как и тех, кто тебя не видел, – задумчиво проговорила Ривка, постукивая пальцами по столу.
– То есть? – не поняла Лия.
– Ты была сразу в двух местах, – повернулась к ней Ривка. – Ты была и в церкви, и в то же время здесь. Могла сделать вдвое больше, чем обычно, потому что вас и было двое, но изображали вы одного человека. То же самое выйдет, если вы обе станете изображать Рейчел.
– Я все-таки не улавливаю… – начала было Лия.
– Зато я улавливаю! – воскликнула Рейчел, схватив сестру за руку. – Что будет, если Герхард подумает, будто я – это ты, а ты – это я? Если он будет думать, что ты – это я, это ведь отвлечет его внимание. Он будет разбираться достаточно долго, а мы с Ривкой и Амели тем временем улизнем отсюда! Ну а потом до него в конце концов дойдет, что ты – вовсе не я, что он просто ошибся.
– Нет, – сказал Фридрих, вставая со своего места. – Было рискованно даже тогда, когда ты изображала из себя Лию. Я не допущу, чтобы Лия изображала тебя и оказалась в еще большой опасности. Если этот тип хоть на минуту заподозрит, что моя Лия – это ты, он может сделать с ней все, что ему вздумается… Нет, об этом и речи быть не может. И больше мы говорить об этом не будем.
Рейчел бросила на Лию умоляющий взгляд, но та покачала головой и отстранилась от сестры.
– Я согласна с Фридрихом. – По телу Лии пробежала дрожь. – Максимилиан как тень повсюду следует за штурмбаннфюрером. Уж не знаю, что он ему там наговорил, что наврал, где сказал полуправду, что исказил до неузнаваемости. Я жду, что в любую минуту они растерзают меня, как сделали с куратом! Мне страшно… Да и как нам вывезти тебя за пределы поселка? Ничего не получится! Не выйдет, вот и все! – Женщина почти кричала.
Все за столом ощутили страх, который она испытывала.
– Ты права. – Рейчел снова взяла сестру за руку. – Ты права. Извини меня. Извини, пожалуйста.
Шел день за днем, а они все никак не могли найти выход.
Без помощи курата Бауэра им пришлось очень жестко экономить еду. Фридрих, кроме того, тревожился о еврейской семье, спрятанной в подвале их с Лией дома. Кормить этих людей помогали и другие жители, но налаженные связи оборвались, а пронести достаточно продуктов с черного рынка в поселок под носом у патрульных не удавалось. По ночам Амели плакала от голода на руках у Рейчел и засыпала, вконец обессиленная, хотя девушка и отрывала крохи от своего скудного пайка, чтобы накормить малышку перед сном. Потом Рейчел с Ривкой делились своими пайками с остальными, настаивая, чтобы поели те, кому приходится работать. Бабушка понемногу поправлялась после избиения, но очень медленно, и нервы у всех в доме были напряжены до предела.
62
В самом начале августа в магазинчик Фридриха заглянул главный лесничий Шраде. Он оставил предварительный заказ на Рождество и украдкой передал хозяину несколько ломтиков сыра и кусок говядины.
– Извините, что не удалось раздобыть больше.
– Спасибо, господин главный лесничий. Нам вас сам Бог послал. – Фридрих сказал это от всего сердца.
Шраде оглянулся, подождал, пока мимо витрины пройдет патрульный, быстро вытащил из кармана куртки и сунул Фридриху маленький, застегнутый на молнию кошелечек.
– Это вам прислал герр Янг. Он просил извинить его за то, что не удалось прислать три штуки – нуждающихся слишком много. Герр Янг интересуется, каким образом вы сумеете вывезти их отсюда.
Фридрих мельком взглянул на документы. Как вывезти под носом у Шлика двух видных, к тому же усиленно разыскиваемых девушек – этого он себе по-прежнему не представлял. Он даже зажмурился на минутку – вопрос представлялся ему невероятно сложным, точнее абсолютно неразрешимым.
– Я тут вот что подумал, – прошептал герр Шраде. – Все дороги перекрыты, повсюду рыщут ищейки наци, так что выход только один.
Фридрих жадно слушал его. Он был готов уже на что угодно.
* * *
Поскольку штурмбаннфюрера Шлика прислали в Обераммергау на постоянное место службы, явно на долгий срок, для Рейчел стало слишком опасно выходить из дому.
Но Лия никогда не преподавала драматическое искусство, ничего не знала об играх, развивающих умение импровизировать, о том, как детский коллектив может представить на сцене высокую драму. Не было у нее и понятия об американском юморе, который Рейчел так естественно использовала на занятиях, когда выдавала себя за Лию. Первое занятие, которое провела Лия, провалилось, дети расходились растерянные и разочарованные. Лия объяснила, что плохо себя чувствует, что у нее болит живот. Мамы, пришедшие за своими чадами, посочувствовали ей, однако не меньше детей были озадачены внезапной переменой в методике преподавания фрау Гартман.
В тот вечер Лия устроила сестре допрос с пристрастием, умоляя как можно лучше подготовить ее к занятиям, помочь придумать скетчи и научить так распределять роли, чтобы все внимание сосредоточилось не на учительнице, а на самих детях. Но в тот вечер они не продвинулись далеко, а назавтра у Лии было занятие с хором.
На второе занятие драмкружка, которое вела Лия, явился штурмбаннфюрер Шлик. Высокомерный, властный, он решительно прошагал в класс, а за ним как приклеенный шел Максимилиан Гризер. Юноша то злорадно ухмылялся, то заискивающе заглядывал в глаза начальству. Увидев зловещую парочку, Лия мигом позабыла все то, чему так старательно учила ее Рейчел.
– Здравствуйте, штурмбаннфюрер, – промямлила Лия.
Горло ее вмиг стало суше, чем картонные часы, которые она держала в руке. Ее бесило то, что при каждой встрече этот человек неизменно пугает ее до умопомрачения, бесила собственная реакция: сердце готово было выпрыгнуть из груди, пальцы отчаянно дрожали. В голове не осталось ни единой мысли, кроме воспоминания о налете, который Шлик совершил на бабушкин дом, о том, как он был жесток с ними обеими, как грубо их унижал. Что может помешать ему снова поступить как заблагорассудится? Быть может, присутствие детей?
– Здравствуйте, фрау Гартман. – Герхард обошел Лию вокруг. – Вот мы и встретились снова. – Холодным цепким взглядом он ощупал ее лицо, волосы, фигуру. Потом вдруг успокоился. – Вы не будете возражать, если я сегодня поприсутствую у вас на занятии.
Горло Лии судорожно дернулось. Она знала, что ее страх можно буквально потрогать руками – таким очевидным он был. Женщина обратила внимание и на то, что Шлик не задал вопрос, он просто констатировал факт. Когда-то Джейсон предупреждал ее: чем заметнее твой страх, тем с большей жестокостью ведет себя противник. Лия покрутила в руках игрушечные часы, зажмурилась, пытаясь сделать хотя бы один вдох. Что сказала бы Рейчел на ее месте? Как бы она отреагировала на присутствие Шлика? И что рассказал Шлику Максимилиан?
– Мы рады видеть вас здесь, штурмбаннфюрер. Сегодня мы учимся владеть мышцами лица и модулировать голос. Генрих, принеси стулья для штурмбаннфюрера и его спутника.
Генрих, однако, не сдвинулся с места, сердито глядя на Максимилиана, и Шлик переключил внимание на мальчика, заметив его необычную угрюмость. Максимилиан же, как человек без стыда и совести, ничуть не смутился явным вызовом, который бросал ему ребенок.
– Пожалуйста, Генрих, сделай то, о чем я тебя попросила, – ласково проговорила Лия.
Меньше всего ей хотелось, чтобы мальчик привлекал к себе внимание Шлика.
Изо всех сил женщина пыталась вернуть себе уверенность, с которой она вела уроки пения, но ей не были присущи те движения и мимика, которым обучала ее Рейчел. И тогда Лия вернулась к знакомым темам, которые проходила с хористами: как давать дыхание от диафрагмы, как подавать голос, словно хочешь, чтобы он долетел до горных вершин, как поднять подбородок, распрямиться и петь всем своим существом, а не одним только горлом. Конечно же, все это верно и для драматического актера. Тем не менее Генрих выглядел обеспокоенным, остальные дети казались растерянными, а Максимилиан беспрерывно шептал что-то на ухо Шлику. Герхард прищурился, вперил взгляд в Лию, словно хотел прочитать ее мысли. Он чем-то напомнил ей доктора Менгеле из Института. Внутри у нее все сжалось, и она с трудом заставила себя не опустить голову.
Часы на стене класса еще никогда не тикали так медленно. И никогда еще Лия столько раз не спотыкалась во время урока.
Как только дети разошлись, Герхард Шлик проводил Лию до городской площади. Она изо всех сил старалась не упасть в обморок.
– Сегодняшний день оказался очень поучительным, фрау Гартман. Правда, зная ваши уроки хорового пения и слыша восторженные отзывы и от детей, и от их родителей, я ожидал несколько иного.
– Это потому, что… – встрял было Максимилиан, но Шлик тут же заткнул ему рот.
– Как я сказал, это было очень поучительно, – повторил на прощание штурмбаннфюрер.
Лия не решилась на это ответить, только кивнула головой и размеренным шагом направилась к дому. Колени у нее так дрожали, что она споткнулась на пороге бабушкиной кухни, уронив на пол сумку с наглядными пособиями.
– В чем дело? – встревожилась Хильда, вытирая руки о передник. – Что-нибудь случилось?
– Штурмбаннфюрер Шлик! Он все время ходит за мной и что-то вынюхивает. То бродит вокруг магазина Фридриха, а теперь вот повадился на занятия драмкружка. А ведь даже дети видят, как ужасно у меня это получается! Я же не Рейчел, не умею ни играть, ни вести урок так, как она. Максимилиан знает, что я всего лишь притворяюсь. Сегодня они оба сидели в классе и не спускали с меня глаз. Шлик смотрел на меня так, что казалось, будто он хочет проглотить меня живьем, а потом так, словно вот-вот втопчет меня сапогами в грязь.
Бабушка поставила свою палку у стола, осторожно опустилась на стул напротив внучки.
– В воскресенье они сидели в церкви прямо за нами. В этом мало хорошего. Неужто так и будет продолжаться?
– Будет – пока Шлик не отыщет меня. – Это сказала Рейчел, стоя на пороге. – Долго мы так не выдержим. Единственный выход – сдать меня ему.
– Чтобы он убедился в том, что все это время мы тебя скрывали? – покачала головой Лия. – Тогда арестуют нас всех.
Бабушка сцепила пальцы.
– А вы представляете себе, что сделает со своей дочерью это чудовище, если отыщет ее?
Лия закрыла лицо руками.
– И что же делать? – умоляющим голосом спросила Рейчел. – Я не в силах больше подвергать вас таким испытаниям.
За спиной Рейчел на пороге возникла Ривка.
– Амели уснула, она не заметит, что меня нет рядом с ней. А я хочу вам что-то сказать. Я все время думала о том, что Джейсон сказал Фридриху – о дымовой завесе и кривых зеркалах…
– Ну и что? – Лия подняла на нее глаза, наполненные отчаянием и страхом. – Фридрих говорит, что это слишком опасно.
– Знаю. Но все равно не могу об этом не думать. Вот представьте, если бы Рейчел с Лией устроили музыкальное представление или спектакль, пригласили бы туда всех офицеров и как можно больше солдат. А если бы вечером, на представлении, Рейчел на самом деле руководила детьми и там ее увидел Шлик? И так или иначе узнал бы, что это именно она, а не ты? А потом, где-нибудь в середине спектакля, вы поменялись бы местами: та, которую он увидел и узнал – Рейчел – исчезла, а на сцене играла бы Лия!
– Что ты такое рассказываешь? – строго спросила бабушка.
– Это и есть «дымовая завеса и кривые зеркала», – ответила ей Рейчел, и в ее глазах светилось понимание. Она выдвинула стул и села рядом с Лией. – Это можно сделать во время переодевания между сценами – обменяться одеждой. Если свет будет приглушенный, Шлик не сможет отличить нас друг от друга.
– А тем временем вы с Ривкой и Амели сможете ускользнуть из поселка. – Лия начала понимать замысел.
– Ускользнуть? Притом что на каждом посту стоит охрана? – Бабушка смотрела на них так, словно обе внучки разом сошли с ума.
– Их придется чем-то отвлечь, – объяснила Ривка. – Они должны быть уверены в том, что Рейчел прямо перед ними, что никуда она не денется. И после тоже нужно все продумать, чтобы не ставить в опасное положение Лию. Надо, чтобы эсэсовцы поверили, будто на сцене все время была Лия, и только Лия.
– И что, можно так сделать? – усомнилась Лия.
– Это все сказки! – твердо стояла на своем бабушка. – Придется убедить в этом весь поселок, а ведь на представление соберутся все до одного! Это чудовище назначило награду за твою голову! Ничего тут…
– Иллюминация в честь короля Людвига[53] – празднование дня его рождения! – Лия резко выпрямилась на стуле.
– Nein, nein, эсэсовцы ни за что этого не позволят – сейчас же действуют светомаскировка и комендантский час, – сразу возразила бабушка. – Нацисты ведь теперь у власти, а они не желают никаких воспоминаний о прежней монархии.
– Что-что короля Людвига? – заинтересовалась Рейчел.
– Есть такая традиция, чтобы почтить его память. Задолго до очередной годовщины наши мастера фейерверков носят древесину и хворост по тайным тропам на вершину горы Кофель. Там они сооружают гигантскую корону – восьми метров в высоту, а под ней – крест! На соседних вершинах готовят еще шесть костров – одни в форме креста, другие в виде буквы «L» – королевского инициала. Иной раз складывают и огромный праздничный костер. А ночью, в канун самого дня рождения, на гору Кофель тайно восходят факельщики и духовой оркестр. Как только стемнеет, начинается праздник. Все запевают хорал. Потом вступает оркестр, и в это время зажигают костры.
– Кажется, что сами горы пылают, – закивала головой бабушка.
– Костры горят несколько часов, а потом, когда уже тлеют только угли, мастера и музыканты спускаются с горы при свете факелов и проходят по улицам поселка. Это настоящий парад света и музыки.
– А жители идут в трактиры, поют и веселятся всю ночь, пока не забрезжит заря нового дня – дня рождения нашего короля.
– Костры на горе в честь давным-давно умершего короля? – Брови Рейчел взметнулись от удивления. – Не думаю, чтобы нам…
– Зато если они нам это разрешат, появится прекрасная возможность улизнуть – выйти из поселка во время шествия и пойти куда-нибудь туда, где нас смогут встретить и посадить в машину. А если даже и не разрешат, можно придумать какое-то другое развлечение, такое, чтобы не нарушать правил светомаскировки и в то же время дать возможность солдатам культурно отдохнуть. Им этого всегда хочется, – не успокаивалась Лия.
– Может быть, подготовить рассказ о кострах в исполнении детей? – предложила Ривка. – Пригласить всех-всех: священников, жителей, часовых, Шлика, – всех до единого!
– Праздник нужно посвятить рейху, Гитлеру или Герхарду, чтобы он уж обязательно явился. Станет он приходить на сельский праздник в честь покойного монарха! – заметила Рейчел.
– Если надо будет, мы так и поступим. Жители все равно знают, что это в честь короля Людвига, так что они придут. И наци придут, если будут считать, что праздник устроен в их честь – как раз в тот день, когда раньше отмечали день рождения короля Людвига, – не сдавалась Лия.
– Такое может получиться, но риск неимоверный, – сказала сестре Рейчел. – Ты пойдешь на это ради меня? Станешь ради меня рисковать жизнью?
– Ради тебя, Ривки и Амели… – Лия почувствовала, как у нее перехватило дыхание. – Да. Да, я пойду на это.
– Подмену можно произвести, пока все будут еще в зале, но вот как нам ускользнуть? Как выбраться из деревни? – рассуждала вслух Ривка.
Лия повернулась к Рейчел.
– У твоего друга пастора Бонхёффера есть машина, хоть какая-нибудь?
– Нет, но он, возможно, знаком с кем-то, у кого она есть, – с человеком, которому можно довериться.
– Да если мы даже и найдем машину, эти наци ни за что не оставят свои посты совсем без охраны. – Бабушка поставила чашку в раковину. – Даже если вы пригласите на представление их всех, даже если они поверят, что там находится и Рейчел. А Фридриху это уж точно очень не понравится.
Лия поднесла палец к губам, призывая всех к молчанию, – она услышала, как скрипят сапоги по дорожке у кухонной двери, – но было уже поздно. Дверь распахнулась, и вошел Фридрих – как раз тогда, когда бабушка заканчивала фразу.
– И что такое не понравится вашему Фридриху, бабушка? – Он прислонил свою палку к дверному косяку и поцеловал старушку в щеку. Снял шляпу и куртку, но улыбка, игравшая на губах от радости новой встречи с домашними, угасла, когда Фридрих увидел, как напряженно, затаив дыхание, наблюдают за ним женщины. – Да в чем дело-то?
– Мы пытались придумать что-нибудь такое, что могло бы отвлечь наци с постов. Ну, хотя бы часть из них. Тогда Рейчел с Амели и Ривкой могли бы выбраться отсюда. У нас только нет транспорта.
– И документов, – сказал Фридрих.
– Да, и документов. Пока нет, – согласилась Лия.
– Но ведь Джейсон раздобудет документы, – в голосе Рейчел слышалась скорее надежда, чем уверенность.
Фридрих глубоко вздохнул и печально посмотрел на Ривку.
– Что, Фридрих? – Лия взяла мужа за руку.
– Джейсон прислал новые документы, но ему удалось получить только два комплекта. Извини, Ривка. Может быть, в другой раз.
Ривка потупила глаза, но потом выпрямилась и попыталась улыбнуться.
– Что толку от документов, если из поселка никак не выбраться? – тревожно спросила бабушка.
– Герр Шраде сказал, что есть один путь – единственный, который нам остался. – Фридрих повесил куртку на вешалку у двери. – Лесами и потом через Альпы пешком, через Швейцарию и неоккупированную часть Франции, до самого Лиссабона. Оттуда все еще можно выехать за океан.
– Через Альпы пешком?! – воскликнула Лия. – Да если они даже выйдут завтра, на полпути может оказаться, что перевалы уже засыпаны снегом! А если они задержатся в дороге…
Фридрих пожал плечами и взглянул на Рейчел.
– Ты на лыжах ходить умеешь? Герр Шраде проводит тебя через горные перевалы и поможет связаться с другими людьми…
– Да, да, лыжница я хорошая. Но вот Амели никогда не ходила на лыжах, это я знаю точно. Не уверена, что смогу нести ее на руках.
– Я ему так и сказал.
– А герр Шраде не сможет?..
Фридрих отрицательно покачал головой.
– Nein, для ребенка это слишком опасно – там, в горах, погода быстро меняется и очень холодно. Да и проводить тебя он сможет только до определенного места, потом станут помогать другие – а кто знает, смогут ли они нести Амели? Где-то по дороге ее придется оставить.
– Я ни за что ее не брошу! – воскликнула Рейчел, потом уточнила: – Во всяком случае, сейчас.
– Это я ему тоже сказал.
На несколько минут воцарилось всеобщее молчание.
– Значит, легче нам не стало, – подвела итог бабушка.
– А можно мне взглянуть на паспорта? – попросила Ривка.
Фридрих вынул из кошелечка документы.
– Отлично сделаны. Представить себе не могу, как им это удается.
Ривка поднесла документы к свету и внимательно всмотрелась в них.
– Да, сделано отлично. Но их все-таки можно чуть-чуть подправить. Брат говорил мне, что такое вполне возможно.
– Это ты к чему? – Рейчел заглянула ей через плечо.
Ривка повернулась к ней лицом.
– К тому, что я тоже лыжница. И хорошая лыжница.
63
В ту ночь Рейчел спала, крепко прижимая к себе Амели. Она полюбила девочку как родную дочь, по крайней мере, почти как родную. И даже если действительно можно было переделать паспорт Амели так, чтобы он подошел Ривке, стоит ли оставлять девочку на попечении Лии, Фридриха и бабушки? Имеет ли она право оставить Амели здесь ради того, чтобы спасти Ривку? Сможет ли она вообще расстаться с малышкой?
Поначалу Рейчел взяла на воспитание дочь Кристины без особого желания. Но за последние месяцы уже привыкла представлять себе, как они со временем станут жить одной семьей втроем – с Джейсоном, с дядей Джейсоном. Рейчел понимала, что это всего лишь мечты, но с Джейсоном или без него, она вырастит дочь Кристины как свою собственную. Из чувства долга, из понятия чести? Да, и поэтому тоже.
То, что Амели глуха, уже не имело для Рейчел большого значения. Девочка могла общаться жестами – во всяком случае, вполне удовлетворительно, и ее глухота перестала быть серьезным препятствием. Рейчел уже давно поняла, что препятствия вообще воздвигала не Амели, а она сама. Когда они доберутся до Соединенных Штатов, Рейчел позаботится о том, чтобы девочка получила образование, самое лучшее из возможного. «У Амели будет все, что я способна ей дать. Так я хочу – наконец-то. Я люблю ее. Но хорошо ли это для самой Амели?
Скорее всего, пешком ей такую дорогу не осилить, ведь в горах вот-вот сильно похолодает. Но если я не смогу оставить ее здесь сейчас, когда я вообще смогу отсюда вырваться? Когда мы сможем улизнуть отсюда вместе с ней? Ведь Герхард по всем Альпам расклеил фотографию “Баварской Мадонны с ребенком”, а за меня даже предложил награду! Амели опаснее находиться со мной, чем без меня. Нет, если я не уйду отсюда в ближайшее время, мы все можем попасть в большую беду.
И как быть с Ривкой? Что может ожидать в Германии сироту-еврейку? Вероятно, то же самое, что ждет золотоволосую глухую дочь офицера СС».
Рейчел закрыла глаза, к которым подступили непрошеные слезы. Ну почему мир так глупо устроен, отчего он так жесток? Ни Ривка, ни Амели ни в чем не повинны. Это сокровища, бесценные рубины и бриллианты. Но Адольф Гитлер, Герхард Шлик и им подобные стремятся уничтожить эти сокровища. Девушка закусила губу. До недавнего времени она и сама слепо верила в свое превосходство. Что происходит с другими, ее мало волновало.
Амели зашевелилась в ее объятиях. Рейчел отпустила девочку, сообразив, что прижимает ее слишком крепко. Пригладила кудряшки Амели, поцеловала ее в темя и повернулась на другой бок, смахивая слезы. Ривку совсем не было слышно, даже ее ровного дыхания, которое свидетельствует о спокойном, здоровом сне. Рейчел не сомневалась, что ее подруга не может уснуть, размышляя о том, что ждет ее дальше.
* * *
Спустя еще две ночи Лия внимательно слушала, что рассказывает ей, приподнявшись на подушке, Фридрих:
– Так удачно получилось – бригадефюрер СС Шелленберг отозвал Шлика в Берлин. Герр Шраде узнал об этом сегодня на почте. Бригадефюреру якобы стало известно, что Шлик чересчур запугивает местных жителей. Кажется, он хочет лично сделать внушение этому типу.
– За то, что ему это «стало известно», нужно сказать спасибо герру Янгу?
– Думаю, да. В трудном положении хорошо иметь такого друга, как Джейсон. – Фридрих потянулся к жене, но Лия удержала его.
– Ты хорошо подумал над планом, который придумали мы с Ривкой и Рейчел?
– Подумал. – Голос Фридриха звучал недовольно. Он отстранился от жены и откинулся на спину, подложив руку под голову. – Ты сама знаешь, как опасно тебе выдавать себя за Рейчел. Шлик далеко не дурак. Он…
– Но и ты ведь знаешь, как мы рискуем, если Рейчел и дальше будет оставаться здесь.
– А как быть с Амели? – мягко задал вопрос Фридрих. – Если представится такая возможность, ты готова отпустить ее?
– Я готова отдать жизнь, чтобы спасти ее, – голос Лии дрогнул, – и готова на все, лишь бы она оставалась с нами. Ах, если бы только это можно было совместить! – Ее дыхание стало прерывистым. – Я сама себя не в силах понять. Я полюбила Рейчел – она моя сестра, и я знаю, что она не виновата во всем этом безумии. И в то же время… Мне всегда казалось, что все только для нее: благополучная жизнь, похвалы со всех сторон, общественное признание, хорошее образование, успех… И теперь вот Амели! Рейчел даже не пришлось рожать ребенка – а у меня эту возможность вообще отняли, – и вдруг моей сестре достается дитя, о котором можно только мечтать!
Тут Фридрих снова потянулся к жене и, не обращая внимания на слабые протесты, привлек ее к себе.
– Я не всегда способен понять пути Господни, meine liebe Frau. – Он ласково поцеловал Лию в шею. – Порой мне куда легче понять мотивы злых людей. Одно я знаю: на вас обеих поставили эксперимент. Вы стали для нацистов подопытными кроликами. Биологически вы во всех отношениях одинаковы, но одной из близняшек дали все мыслимые преимущества, а другую этих преимуществ лишили. Извращенный ум подсказал им посмотреть, как повлияет на каждую из вас среда: заботливое – по их понятиям – воспитание в ее случае и отсутствие такового в твоем. А теперь наци хотят получить обеих подопытных в свое распоряжение, старательно расчленить их и разглядеть под микроскопом, что получилось. К счастью, без сестры ты не представляешь для них интереса: не с кем сравнивать. К тому же Рейчел необходима им для реализации заветных планов по выведению нового поколения арийцев.
– Как это несправедливо!
– Они исходили из предположения, что ты потерпишь неудачу в жизни. Продиктованные ими условия, помехи, запугивание должны были тебя сломить и уничтожить. Но в своих расчетах нацисты никогда не принимали во внимание любовь – ни бабушкину, ни мою, ни Амели, ни даже любовь со стороны местных детишек. Наци ничего не знают ни о Божьей любви, ни о том, какими Господь сотворил вас обеих. – Фридрих вытер слезы со щек жены. Все же она по-прежнему дрожала и громко всхлипывала, не в силах сдержать душевную боль. – Лия, Лия… знаешь ли ты, как глубоко запала мне в душу, какое место заняла в моем сердце?
Она дрожала, прижимаясь к мужу. Фридрих прижал ее еще крепче, не переставая целовать ее глаза, лоб, щеки, нос, губы. Погладил жену по спине и обнял, как ребенка, нежно шепча ее имя, повторяя снова и снова, как сильно ее любит.
Медленно, но верно из сердца Лии уходила жгучая зависть к Рейчел, к тому, что имела сестра. Еще медленнее ее отпускал страх потерять Амели. Напряжение сперва ушло из тела, потом спокойнее потекли мысли. Мало-помалу, теперь уже с искренним желанием, она уступила ласкам мужа. Прошло немного времени, и их голоса умолкли.
* * *
Минуло еще два дня, и вот кукушка на кухонных часах прокуковала десять раз. Бабушка, Амели и Ривка уже легли спать, а Рейчел тихонько постучала в дверь спальни Лии и ее мужа.
– Входи, – послышался голос Фридриха.
Рейчел запахнула халат и на цыпочках вошла, плотно закрыв за собой дверь. То, что она пришла сказать сестре и зятю, прощальный подарок, который она сделает им в этот вечер, стоили Рейчел дороже, чем она предполагала. Но увидев слезы на глазах Лии и услышав, как Фридрих вздохнул с облегчением, она убедилась, что поступила правильно. Так будет лучше для всех – и для Лии с Фридрихом, и для Амели.
Фридрих пообещал, что утром он первым делом повидается с главным лесничим Шраде. Тот уже подтвердил предположение Ривки, что в паспорт можно внести кое-какие изменения. Знал он и порядочного человека, который жил в округе и мог выполнить нужную работу.
Закрывая за собой дверь, Рейчел уже понимала, что им предстоит бессонная ночь. Радость невозможно долго удерживать в себе. Рейчел тихонько посидела в пустой кухне, успокаивая сердцебиение и стараясь взять себя в руки. Она не стала затем подниматься по лестнице, а осторожно пролезла в шкаф и взобралась на чердак, где Амели мирно спала, а Ривка читала при тусклом свете свечи.
– Я сейчас поговорила с Лией и Фридрихом, – прошептала Рейчел.
– Они нашли способ переправить тебя с Амели, – кивнула Ривка, и ее глаза подозрительно заблестели. – Я рада. Рада за вас обеих. Я буду скучать по тебе, но стану молиться, чтобы вы благополучно прошли каждый шаг на своем долгом пути.
– Молись за нас, Ривка, – за меня и за себя.
– Как?
– Ты пойдешь со мной? Станешь мне сестрой?
– А Амели?.. – Ривка, сидевшая на полу, резко выпрямилась.
– Амели еще слишком мала для того, чтобы идти через Альпы. Ей безопаснее будет здесь, где о ней позаботятся Лия и Фридрих. А Герхард перестанет надоедать бабушке и Лии, как только удостоверится в том, что меня здесь нет. Я же позабочусь о том, чтобы он узнал, что я в Америке – сразу, едва мы туда доберемся.
– Ты серьезно это говоришь? – В глазах Ривки отражались надежда, страх, удивление.
Рейчел засмеялась, хотя едва могла различить подругу сквозь застилавшие глаза слезы радости.
– Да… – И она начертила в воздухе пальцем буквы: «Р-и-в-к-а». – Мы теперь в одной упряжке, имя которой – надежда.
– «Упряжка» – это то, что означает мое имя!
– Да, сестренка, теперь мы крепко связаны вместе.
Ривка встала на колени, сложив руки вместе. Она хрипло зашептала, повторяя клятву Руфи: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом»[54].
– А у меня никого больше нет, кроме тех, кто здесь, – шепотом ответила Рейчел, не в силах справиться с потоком слез. – И нам приходится их оставить – ради нас самих и ради них тоже. Мы с тобой отправимся в Америку. Как-нибудь уж доберемся.
– Тогда я стану твоим народом, – перефразировала Святое Писание Ривка, – а ты станешь моим.
– И мой Бог будет твоим Богом, – ответила на это Рейчел, вспомнив бабушкину Библию.
Тут она от волнения затаила дыхание, веря и не веря в то, что такое может произойти на самом деле.
– Да, – прошептала ей Ривка, – да и еще раз да!
64
Бабушка просила оставить ей фотографии, и Рейчел согласилась – при условии, что пленка будет надежно спрятана под половицами и ее не станут проявлять, пока нельзя будет безопасно смотреть на эти фото открыто, как бы долго ни пришлось ждать. На этих фотографиях были запечатлены близняшки по отдельности и вместе с бабушкой, бабушка с Лией, ее мужем и новой дочкой, Рейчел, Ривка.
Когда Рейчел перекрасила волосы Ривки в цвет спелой пшеницы, та сфотографировалась для паспорта.
Внести исправления в паспорт Амели, чтобы он подошел Ривке, оказалось гораздо проще и вышло гораздо лучше, чем представляла себе Рейчел. Для местного типографа, который набил руку на подделках, не составило труда так подправить цифры, чтобы вышел год рождения Ривки, и вклеить без помарок ее фото.
Куда труднее оказалось объяснить Амели грядущие перемены в ее жизни. Еще труднее было приучить ее тихонечко сидеть в одиночестве на чердаке или в шкафу – порой по нескольку часов подряд, если происходил обыск. Рейчел могла лишь отдаленно представить себе, какой страх будет охватывать девочку всякий раз без нее и Ривки.
Но потом Рейчел увидела, как легко и радостно чувствует себя с новой дочкой Лия, и поняла, что поступила правильно. Так будет лучше – лучше для всех.
Ривкины карие глаза лучились от радости теплым янтарным светом, а улыбка так сияла, что домашние только дивились происшедшей с ней перемене. Рейчел подумала: как хорошо, что Ривка оказалась в бабушкином доме. Женщинам трудно было удержаться от того, чтобы выражением лица не выдать: они сообща владеют некой тайной. Только бабушка выглядела огорченной.
Как и предполагала Рейчел, власти не разрешили разводить костры в горах, ссылаясь на строгие правила светомаскировки. Но жители были так возмущены отменой своего любимого празднества, что в поселке явно накалилась атмосфера и штурмбаннфюреру Шлику пришлось снизойти к их настойчивым просьбам. Решено было провести праздник в закрытом помещении, посвятив его фюреру и соблюдая правила светомаскировки.
Фридрих рассказал домашним, что лесничий Шраде, отец Оберлангер и даже бургомистр внесли каждый свою лепту в то, чтобы предоставить помещение для театрального представления и пригласить на праздник солдат и офицеров воинских подразделений, размещенных в самом поселке и поблизости от Обераммергау.
Среди жителей ходили слухи о том, что министерство пропаганды узнало о готовящемся празднике от иностранных журналистов, аккредитованных в Берлине. Рейхсминистр доктор Геббельс организовал командировку в Обераммергау бригадефюрера СС Шелленберга. Такой шаг давал надежду на улучшение отношений между властями и поселком, известным своими представлениями «Страстей Христовых», а теперь решившим почтить самого фюрера германской нации и штурмбаннфюрера СС. Поговаривали, что Геббельс в восторге от перспективы увидеть фотографии этого события на страницах мировой прессы, и уж конечно с нетерпением ждет, когда они появятся в центральной газете нацистской партии «Фёлькишер беобахтер».
Рейчел позволяла себе надеяться, что задуманная уловка удастся и явится тем выходом, который они так долго искали. Пока Герхард находился в Берлине, она сама вела занятия драмкружка, распределяла роли и разучивала с детьми тексты. Ну и что, если удалось провести всего два занятия? Зато Лия теперь смогла готовить представление, а Рейчел сумела лучше разобраться, где их может подстерегать коварная ловушка.
Но как бы ни увлекала ее мысль о побеге, он все же означал неизбежную и долгую разлуку с бабушкой, Лией, Фридрихом и Амели. Рейчел убеждала себя в том, что так будет лучше, что этого она ведь и хотела… да только сердце ее не поддавалось ни на какие уговоры.
* * *
Герхарда ничуть не удалось ввести в заблуждение. Он был не в восторге от запланированного мероприятия. Ни на минуту штурмбаннфюрер не верил, что поселок «Страстей Христовых» решил сделать ему подарок из глубочайшего уважения. Жители затравленно кланялись ему при встрече… а потом плевали вслед.
И все же Шлик не смог прийти к конкретным выводам о том, как и почему возник этот план, кто за ним стоит, какую цель преследует. Не похоже, чтобы он исходил от отца Оберлангера. Тот слишком боится, как бы наци не помешали проводить столь дорогие для него торжественные службы и обряды католической церкви. Он не осмелится дразнить офицера СС, который в любой момент может отправить его в концлагерь. Лия Гартман – серая мышка, которая дрожит, едва его завидев. Да и что сможет община Обераммергау показать такого, чего он уже не видел на репетициях, которые под руководством Лии выглядели довольно убого? Тем не менее ему не стоит вызывать неудовольствие такого обходительного на вид бригадефюрера Шелленберга или напрашиваться на то, чтобы жалобы на его, Герхарда Шлика, нежелание участвовать в мероприятии, одобренном наверху, дошли до самого Геббельса.
Герхард только что вернулся из Берлина, где получил нагоняй. Ему настойчиво «порекомендовали» продемонстрировать горячую благодарность в ответ на искренний подарок от немецкого народа. Представлялась отличная возможность положить конец бродившим среди жителей поселка слухам, да и подозрениям, высказываемым в рядах СС, о том, что он безумно влюблен в мертвую женщину – так безумно, что на глазах выживает из ума.
Во время нагоняя, который устроил ему бригадефюрер по указанию еще более высокого начальства, Герхард старательно изображал раскаяние и готовность выполнить любое задание. Но при этом всеми фибрами души чувствовал, что Рейчел Крамер жива и здорова, просто где-то скрывается. Может быть, и не в Обераммергау, но где-то поблизости, там же в Баварии. Об этом свидетельствовали не только фотография, но и хорошо известный ему факт: в юности – во всяком случае, до окончания университета, когда она приучилась к большей самостоятельности, – Рейчел Крамер неизменно искала прибежища от неприятностей в лоне семьи, хотя бы семья состояла только из одного отца, поглощенного научными экспериментами.
Мысль о семье вызвала у Герхарда следующую ассоциацию. Девочка на фотоснимке была очень уж похожа на Амели. Чем больше он вглядывался в фото, тем яснее видел это поразительное сходство, хотя и не понимал, откуда здесь взяться Амели.
Будучи в Берлине, Герхард посетил развалины клиники, в которой произошел взрыв, погубивший девочку. Он сумел отыскать уцелевшую сестру-хозяйку и подверг ее допросу. Та невнятно что-то бормотала – мол, все произошло так быстро, буквально через минуту после того, как клинику покинула его жена. Огонь бушевал неимоверно, а пожарные машины почему-то поехали не по тому адресу. Персоналу просто не хватило времени, чтобы вывести из здания всех пациентов. Медсестра выразила штурмбаннфюреру искренние соболезнования.
Шлик не счел эти сведения достаточно убедительными.
Будь на то его воля, Герхард арестовал бы старуху, фрау Брайшнер, и допросил бы ее сам. Как показали налеты на дом, убеждение не очень-то помогало, но если пытать на ее глазах внучку, это могло бы принести успех. Или же пытка старухи могла развязать язык молодой фрау Гартман. Да и упрямый резчик по дереву мог бы заговорить, увидев свою жену подвешенной на крюк. Шлику приятно было размышлять о таких перспективах, хотя он и не видел реальной возможности осуществить эти мечты под бдительным оком бригадефюрера.
Проезжая через поселок, Герхард приказал шоферу затормозить у мастерской резчика по дереву, а сам прогулялся по площади. Просто так – пусть местные своими глазами увидят, что он вернулся. Приятно было наблюдать за тем, в какой трепет он повергает каждого встречного. Кое-кто норовил побыстрее проскользнуть мимо, отводя глаза, но были и такие, кто выражал своим видом полную покорность, разве что хвостом не вилял.
Шлик приказал шоферу купить в магазине фунт сыра – одного из немногих продуктов, какие он покупал здесь, а не получал из Берлина. Когда Герхард возвратился к машине, шофер уже стоял по стойке смирно, держа в руке конверт.
– Это я нашел в машине, когда вернулся из магазина, штурмбаннфюрер, – доложил солдат, отдав честь.
Герхард посмотрел на конверт – полотняный, высшего качества, – на котором была написана только его фамилия. Почерк Рейчел он узнал сразу.
Шлик вскрыл конверт, и на него тут же пахнуло ее духами. Кровь быстрее заструилась по его жилам.
«Искренне сожалею, что прошедшие несколько месяцев оказались губительными для нас обоих – для всех нас. Но грядет новое начало, такое, которое позволит каждому из нас простить другого и – горячо надеюсь – получить прощение.
Наберитесь еще немного терпения. Считайте этот спектакль моим подарком для Вас, и он станет началом новых дней, дней счастья. Это лучшее, что могут предложить чудесные местные жители. С нетерпением жду той минуты, когда смогу увидеть Вас на спектакле.
После представления, когда все разойдутся, приходите за кулисы. Разочарованы Вы не будете».
Герхард дважды перечитал записку и улыбнулся. Записку он снова положил в конверт, а конверт спрятал в нагрудном кармане кителя. «Да, Рейчел, по такому случаю я доставлю тебе удовольствие – пусть все вокруг, в том числе и мое начальство, убедятся в том, что я был прав с самого начала. Повышение по службе привлекает меня куда больше, чем отправка на фронт. И, право, стоит несколько дней подождать, лишь бы Шелленберг увидел, как смиренно, по собственной воле, ты идешь ко мне. Я проявлю терпение ради такого случая, только не испытывай его слишком долго».
* * *
Герхард вошел в свой кабинет и увидел Максимилиана Гризера, который ожидал шефа. Юноша заметно нервничал.
В первое время от этого парня была польза: он всюду собирал сплетни и слухи, служил Герхарду глазами и ушами среди жителей поселка. Но теперь стал надоедать, а его увлечение Лией Гартман, замужней женщиной, бросало тень на Герхарда, который искал Рейчел. Уж неизвестно, каким образом, но и в Берлине узнали, что они ведут эти поиски вместе, каждый в собственных интересах.
Теперь, когда Рейчел сама с ним связалась, Герхард больше не нуждался в услугах Гризера. Более того, юноша со своей навязчивой идеей завоевать Лию стал явной помехой для штурмбаннфюрера Шлика. Нужно позаботиться, чтобы парня скорее, сразу после празднества, отправили на фронт. Он ведь уже почти достиг призывного возраста.
– Что тебе нужно? – Герхард небрежно швырнул на стол перчатки.
– У меня есть новости, штурмбаннфюрер. Сведения о фрау Гартман.
Шлик всмотрелся в юношу. На мгновение в голове у офицера промелькнуло: быть может, Гризер точно так же не может терпеть его, как он сам едва выносит бригадефюрера? От этой мысли челюсти Герхарда непроизвольно сжались. Гризер шагнул к столу.
– Пока вы отсутствовали, занятия в драмкружке вела женщина, которая выдавала себя за фрау Гартман. Решительная, уверенная в себе – совсем не такая, какой мы ее видели на прошлой неделе. Нет сомнения, это разные женщины, просто похожи как две капли воды. Близнецы, вы же говорили.
– Так ты принес потрясающую новость? Мои подозрения, ты считаешь, подтвердились?
– Так точно. – Голос Гризера, однако, теперь звучал уже менее уверенно. – Они обе пытались одурачить меня точно так же, как и вас.
Шлик сел за стол, сложил ладони лодочкой. Гризер нервно облизнул губы, у него на лбу обозначилась тревожная складка.
– То есть… ввести вас в заблуждение, герр штурмбаннфюрер. – И заговорил торопливо, спеша выложить все: – На годовщину короля Людвига что-то затевается. Ну, на этом представлении, которое сейчас готовят. Там что-то странное. Я подслушал, как фрау Гартман говорила отцу Оберлангеру, что они готовят вам большой сюрприз. Пока что я не выяснил, какой именно, но я ей не доверяю. Вам нужно принять меры предосторожности.
Это была наглость, и Шлику хотелось влепить парню хорошую оплеуху, но вместо этого он откинулся на спинку стула и сказал:
– Закончим на этом.
Гризер, не ожидавший такой отповеди, нахмурился.
– Вас вызывали в Берлин из-за этих обысков и допросов? Я думаю, им не следовало вас ни в чем упрекать. Вы же только выполняли свой долг.
Подобная вольность стала последней каплей. Герхард почувствовал, что воротник мундира душит его.
– Убирайся!
Гризер понурился, в его глазах появилось смущение, но он лихо вскинул руку.
– Хайль Гитлер!
Герхард небрежно взмахнул рукой, изображая приветствие наци. Юноша развернулся на каблуках и вышел из кабинета.
65
Когда дядя Фридрих проскользнул в дом через черный ход и развязал шпагат, который перетягивал что-то упакованное в плотную оберточную бумагу, все женщины обступили его с открытыми ртами. Амели сумела как раз вовремя протиснуться между взрослыми, и ее накрыли гладкие прохладные волны синего шелка. Как будто в дом попал маленький кусочек ясного неба. Она даже догадаться не могла, где дядя раздобыл такое чудо, зато с самого начала понимала, что это большой секрет. А уж наблюдать за тем, как бабушка и тетя Лия за три дня превращают этот кусочек неба в платье сказочной красоты, было все равно что видеть самих фей за работой, когда они творят чудеса.
Когда наступил вечер представления, тетя Рейчел старательно загримировалась, расплела косы и завила кудряшками свои длинные золотистые волосы, надела длинное платье из синего шелка и затянула пояс.
Амели тетя Рейчел казалась принцессой, которая нарядилась на бал – Золушкой из ее книжки сказок. Это пробудило воспоминания о маме. Девочка часто заглядывала в серебряный медальон, который висел на груди под мальчишеской рубашечкой.
Увидев, что тетя Лия одета, как бабушкина подруга, Амели засмеялась. Та старушка в прошлом году ходила вместе с ними на рождественский базар, где Амели познакомилась с дядей Джейсоном. Девочка завороженно смотрела, как тетя Рейчел загримировала тетю Лию, чтобы та выглядела почти такой же старенькой, как бабушка. Амели даже подумалось, а не чувствует ли тетя Лия себя и вправду старушкой, раз у нее такое лицо.
Малышка смотрела, как бабушка одевается в свое лучшее выходное платье, как Ривка пакует две небольшие заплечные сумки. Когда все были одеты и готовы идти, тетя Рейчел сделала знак Амели взобраться к ней на колени. Девочка хорошо знала, что нельзя помять такое замечательное платье, однако тетя Рейчел, кажется, не обращала на это внимания.
Уже довольно давно тетя Рейчел объяснила Амели, что вынуждена уйти далеко без нее, но, должно быть, позабыла об этом, потому что стала объяснять все заново, пользуясь простыми жестами, понятными девочке.
Знаками она сказала, что отныне Амели станет любимой дочкой тети Лии и дяди Фридриха, и это уже навсегда. Они будут ей мамой и папой. Это понравилось Амели. Она уже давно хотела, чтобы у нее появилась мама, ведь фотокарточки в серебряном медальоне недостаточно. Амели все труднее было вспомнить, как мамины руки обнимают ее, как вибрирует в грудной клетке мамин голос. Тетя Лия – нет, теперь ее нужно называть мамой – часто пела, особенно если Амели забиралась к ней на колени. Девочке очень нравилось прижимать ухо к маминой груди и ощущать идущие изнутри вибрации. А мама при этом улыбалась, и Амели заметила, что ее присутствие приносит маме радость, она чаще поет. Папа Фридрих жестами показал, что Господь Бог на небесах радуется, когда мы здесь поем, и тогда тоже поет с нами.
Тетя Рейчел еще раз пообещала, что будет всегда-всегда любить Амели. Потом указала на фотографию в медальоне и сказала, что всегда будет любить первую маму Амели. Еще она дала слово, что когда-нибудь обязательно вернется в Обераммергау и снова обнимет Амели. Когда – она точно не знала. Когда-нибудь, когда отсюда уйдут все плохие дяди.
Эти условия Амели поняла и приняла. Ей не было страшно. В жизни и без того много такого, что вызывает страх. А вот того, что многие ее любят, бояться не приходится, даже если они не всегда могут быть с ней рядом. Девочка не сомневалась, что тетя Рейчел вернется к ней, как только будет можно. Может быть, она привезет с собой дядю Джейсона, от которого Амели была в восторге. Раньше девочка мечтала, чтобы он стал ее папой, но дядю Фридриха она тоже любила. Амели вздохнула. Ей было радостно, что ее любят, что она нужна стольким людям.
Тетя Рейчел и мама Лия объяснили, что Амели придется сегодня лечь спать пораньше и не выходить из шкафа, пока кто-то из них не придет за ней. Утром здесь будет бабушка и накормит ее завтраком.
Амели видела, как две женщины, такие внешне похожие, с тревогой переглянулись. Вот то единственное, что заставляло Амели бояться, – когда взрослые сами не знали толком, нужно что-то делать или нет.
Спать малышке пока не хотелось, но она не сопротивлялась, когда тетя Рейчел уложила ее на тюфячок в шкафу, заботливо укрыла одеялом и поцеловала, желая доброй ночи. Амели смотрела, как тетя-фея смахивает с глаз слезы, подправляет грим, а потом закрывает за собой дверцу.
66
За час до начала представления Джейсон с Питерсоном вошли в театр. Джейсон старался не пропустить ни минуты обоих спектаклей: и того, что давали на сцене, и того, который должен был разыграться за кулисами. Ему необходимо своими глазами видеть все то, что позволит написать статью, даже сделать ее своего рода образцом для геббельсовской пропаганды. Питерсон же своими яркими фотографиями должен сделать эту пропаганду зримой и живой.
Войти в зал разрешили всего за десять минут до их прихода. Режиссеры и исполнители уже собрались за кулисами, дети готовились к скорому выходу на сцену.
За полчаса до того, как подняли занавес, в зал повалили солдаты – веселые, довольные тем, что их освободили на время от службы, все равно по какому поводу. Начали подтягиваться и местные жители. Еще двадцать минут они мало-помалу заполняли зрительный зал. Джейсон узнал фрау Брайшнер и ее родственницу из Штелле – ту самую, с которой случайно познакомился на рождественском базаре. Но все же кто она: Рейчел или Лия? Он не решился смотреть на нее слишком долго и выказывать свой интерес, лишь молился про себя, чтобы все сегодня прошло благополучно.
Жалко, что ему не удастся попрощаться с Амели. Слишком мало надежды на то, что он вообще сможет повидать ее снова. Трудно придумать подходящий предлог, чтобы еще раз приехать в деревню «Страстей Христовых», ведь эти знаменитые представления теперь не проводятся. Но Джейсон считал, что Амели должна растить женщина, не менее любящая и заботливая, чем Лия, да и другого такого отца, как Фридрих, еще поискать! Уж в этом Джейсон был твердо уверен. Что ж, придется с этим примириться.
Буквально перед тем как свет в зале погас, вошли бригадефюрер СС Шелленберг со Шликом, свитой офицеров рангом пониже и охраной. Можно было подумать, что публика собралась посмотреть именно на них. Джейсон почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он никак не мог преодолеть это страшное напряжение, хотя уже много лет освещал жизнь в рейхе.
Питерсон подскочил к самой сцене, повернулся и быстро запечатлел на пленке нацистов со всей их свитой. Бригадефюрер гордо явил ему свой профиль. Джейсон тихо хмыкнул, когда Шелленберг кивнул Шлику – что-то вроде традиционной команды «улыбнитесь в объектив!» Пока все шло строго по плану.
Огни погасли, заиграл оркестр. Постепенно сцену осветили пятнышки слабого света, похожие на светлячков. Чуть ярче было в самом центре, и туда вышла Рейчел Крамер, на плечи которой стекали золотистые струи роскошно завитых кудрей. Она была необычайно привлекательна в длинном, до полу, платье из синего шелка с низким вырезом, открывавшим безукоризненные плечи цвета слоновой кости. Платье было почти точной копией того наряда, в котором она когда-то явилась на празднество в Берлине. Глядя на нее, зрители захлебывались от восторга. Рейчел зарделась от смущения и удовольствия, улыбкой поблагодарила публику.
Краем глаза Джейсон заметил, как Шлик привстал и тут же шлепнулся обратно на сиденье, словно сидевший рядом с ним генерал дернул его за руку.
Рейчел обвела рукой зрительный зал.
– Мы приветствуем вас, бригадефюрер Шелленберг и штурмбаннфюрер Шлик! Добро пожаловать, господа офицеры СС и солдаты нашего победоносного фатерланда! Добрый вечер, дамы и господа, жители Обераммергау – наши старые добрые друзья, а равно те, кто приехал к нам совсем недавно! – Она задержала взгляд на Шлике, который сидел в напряженной позе. – Своим приходом вы все доставили нам большую радость. Мы надеемся, что от сегодняшнего представления – обновленного варианта нашей старинной традиции праздновать годовщину со дня рождения короля Людвига, – представления, подготовленного детьми Обераммергау ради того, чтобы доставить вам удовольствие, у вас посветлеет на душе и вы радостно улыбнетесь. Мы хотим помнить и чтить старые традиции, пусть даже и не запылают сегодня костры ни в горах, ни в этом зале.
Одобрительные реплики и смешки в зале поддержали ведущую, и она засмеялась вместе со зрителями – весело, заразительно. Джейсон с трудом перевел дух.
– Пусть же нынешний праздничный вечер положит начало укреплению нашей дружбы ради процветания деревни «Страстей Христовых» и всей немецкой нации!
– Хайль Гитлер! – выкрикнул Шелленберг, встав с места и выбросив руку вперед.
– Зиг хайль! – взметнулись в ответ руки по всему залу[55].
Рейчел еще раз задержала взгляд на Шлике, приветливо ему улыбнулась и села в первом ряду, у самого выхода на сцену.
Джейсону никак не удавалось справиться с сердцебиением. Если Шлик, сидевший в другом конце зала, выйдет из себя, что вполне вероятно, он может выскочить на сцену и наброситься на Рейчел, невзирая на представление. И чтобы удержать его, понадобятся усилия не одного бригадефюрера, но и всех присутствующих офицеров. Джейсон знал, что Рейчел заранее планировала подразнить Шлика, но ему эта идея не нравилась. Девушка играла с огнем.
– Эй, Янг, очнись, – прошептал Питерсон и помахал рукой перед лицом Джейсона. – Ты приехал сюда, дружище, чтобы написать статью в газету, не забыл еще? Не то чтобы я тебя осуждал… Она потрясающе выглядит. Целый год просидела в укрытии, а по ней этого и не скажешь.
– О ком ты? – Джейсон старался, чтобы его голос звучал нейтрально.
– О мисс Крамер. Она гениальна – неуловимая женщина, представшая сейчас перед нашими глазами.
В темноте зала Джейсон быстро набрасывал заметки для статьи – заметки, которые потом все равно не сможет разобрать.
– Программку внимательнее почитай. Это Лия Гартман. Впрочем, они действительно очень похожи. – Сам Джейсон не отрывал глаз от Рейчел, которая сидела впереди, спиной к нему.
В слабом свете, исходившем со сцены, он видел, что Шлик тоже впился в женщину взглядом, только у штурмбаннфюрера глаза горели, словно у голодного волка.
На середине представления был объявлен короткий антракт. Занавес опустился, в зале зажегся свет. Шлик поднялся, попросил у бригадефюрера разрешения отлучиться. Рейчел проворно вскочила со своего места и исчезла за кулисами, прежде чем Шлик успел до нее добраться. Насколько мог судить Джейсон, ее проделка только еще больше рассердила штурмбаннфюрера. Шлик попытался пройти за кулисы, но в просвете занавеса возник Фридрих, который явно урезонивал офицера и просил его вернуться на место в зрительном зале.
Джейсон видел, как побагровела у Шлика шея, слышал, как громко и раздраженно звучит его голос, хотя разобрать слов так и не сумел. Шелленберг наклонился к адъютанту, что-то прошептал тому на ухо, и адъютант сразу устремился к Шлику. Два офицера обменялись сердитыми репликами, после чего оба вернулись на свои места. Шлик выглядел мрачным.
– Дорого бы я дал за то, чтобы подслушать их беседу, – шепнул Питерсон.
Джейсон кивнул. Он был рад, что его коллега и добрый приятель оказался рядом.
Лампы в зале замигали, и публика поспешила занять свои места. Едва свет в зале окончательно погас, Рейчел снова сошла по ступенькам со сцены и устроилась на прежнем месте. «Рейчел или уже Лия? Походка уверенная, как у Рейчел, вид совершенно тот же. – Джейсон взглянул на свои часы. – Когда же они поменяются местами? Удобнее всего было сделать это в антракте».
Представление между тем продолжалось. Оно стало чуть более вялым, потом набрало силу и дошло до кульминации. Финал прошел с большим успехом, на сцену высыпали все участники, завершая свое повествование. Родители наградили юных артистов громом аплодисментов. Стуча каблуками, вскочили от восторга солдаты, остальные последовали их примеру, вызывая артистов снова на сцену. Дети не успели толком уйти за кулисы, как вышли снова, кланяясь зрителям.
Родители с гордостью указывали соседям на своих отпрысков. Питерсон щелкал фотоаппаратом, а Джейсон продвинулся вперед, делая вид, будто записывает в блокнот имена исполнителей, на самом же деле сходя с ума от тревоги за Рейчел. «Отчего она не ушла раньше? И как сможет выбраться отсюда теперь?»
А она снова поднялась на сцену, вскинула руки, призывая зал утихнуть. Поблагодарила всех за то, что пришли, радостно напомнила, что за представлением последует общее празднество и что благодарить за это следует штурмбаннфюрера СС Шлика, который отменил на эту ночь действие комендантского часа.
– Всегда помните о нашем фюрере, о наших доблестных воинах, о том духе дружбы и единения, который царил между нами сегодня. И давайте помолимся Господу Богу о том, чтобы на Земле наступил мир.
«Она что, с ума сошла?» Джейсон хорошо видел, как нахмурился бригадефюрер СС Шелленберг. Власти не призывали немцев молиться о мире. Напротив, им было велено молиться о победах фюрера, если уж они вообще считают нужным молиться. А Рейчел уже улыбалась Шлику своей неповторимой улыбкой – такой невинной и такой соблазнительной одновременно. У Шлика загорелись глаза. Джейсон скрипнул зубами. Рейчел же покинула сцену, но сразу за занавесом замерла, так что внимательному взгляду нетрудно было обнаружить ее, хотя вроде бы никто к ней специально не присматривался. Девушка вскинула руки с раскрытыми ладонями, показала десять пальцев и еще раз улыбнулась Шлику.
Штурмбаннфюрер гордо поднял голову. Он получил обещанный знак.
Тем временем зрители выходили из театра, ясно увидев при свете ламп в зале большое число военных и чиновников нацистской партии.
– И что дальше? – спросил Питерсон, заряжая аппарат новой катушкой пленки.
– Нужно угодить Шелленбергу. Поснимай его свиту, заодно и Шлика снимешь вместе с бургомистром, как было обещано. Думаю, они хотят на время уединиться за кулисами в тесном кругу, а потом праздник переместится в пивные и закусочные, вот тогда все упьются до посинения. Может, и мы к ним присоединимся.
– А нам это нужно? – иронически хмыкнул Питерсон.
– А как же! Во всяком случае, за кулисами – точно. – Джейсон протолкался между зрителями, обходившими сторонкой Шелленберга и Шлика. – Ты сфотографируй декоративные элементы праздника, а я посмотрю, удастся ли что-нибудь разузнать.
Джейсон толкнул боковую дверь, ведущую на сцену, но там путь ему преградил Фридрих.
– Где же она? Почему не ушла раньше? – шепотом спросил американец.
Взглядом Фридрих ясно велел ему немедленно замолчать, но тревога Джейсона была сильнее здравого смысла.
– Вы тот самый журналист! – с упреком произнес кто-то за его спиной.
Джейсон резко повернулся. Со времени их предыдущей встречи юноша вырос на полголовы, и мышц у него прибавилось килограммов на двенадцать-тринадцать.
– А ты – тот самый парень из гитлерюгенда.
Юноша пробрался через складки занавеса.
– Максимилиан Гризер, – представился он и гордо расправил плечи. – Кого вы здесь ищете, герр Янг?
Джейсон смотрел мимо Гризера – он встретился глазами со стоявшей позади него Хильдой Брайшнер.
– Фрау Брайшнер, – произнес американец, отодвигая Гризера в сторону, – я уж боялся, что вы ушли. У меня машина, и я хотел подвезти вас домой. Как я понимаю, супругам Гартман придется задержаться – им нужно убрать декорации.
– Как любезно с вашей стороны, герр Янг, что вы побеспокоились обо мне. Мне действительно все еще трудно ходить. – Хильда постучала палкой по гипсу. – Если вы согласитесь подождать минутку-другую, я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением. – И добавила громким сценическим шепотом, чтобы мог слышать Гризер: – Мы приготовили сюрприз для штурмбаннфюрера Шлика – надеюсь, ему понравится. Хотите увидеть своими глазами? – Потом покосилась на Гризера. – И ты, молодой человек, тоже. Тебе не помешает посмотреть, как добрые люди ведут себя друг с другом.
У Максимилиана побагровела шея, но Джейсон не дал ему возможности что-либо сказать.
– Твоему начальнику делают подарок, как я понял, ради укрепления добрых отношений. Поразмысли над этим и заруби себе на носу.
Фридрих шикнул на них:
– Входите, только тихо! Вы же испортите сюрприз!
Джейсон предложил руку фрау Брайшнер и проскользнул на затемненную сцену, задернув занавес за спиной Фридриха. Гризер не отставал ни на шаг.
На противоположной стороне сцены занавес слегка раздвинулся и блеснул лучик света.
– Рейчел? – неуверенно позвал оттуда мужской голос.
Внезапно прогремела команда и сцену залил яркий свет. Актеры, певцы, музыканты оркестра вместе с видными гражданами Обераммергау дружно грянули Deutschland über Alles.
Джейсон никогда прежде не видел, чтобы Герхард Шлик выглядел пораженным, смущенным или растерянным. Но в этот момент в его глазах промелькнули, сменяя друг друга, все названные чувства. За спиной Шлика вдруг вырос бригадефюрер Шелленберг, сияющий, словно гордый отец: две самые красивые девушки из тех, кем гордился весь поселок, подкатили к ним столик на колесиках. На столике красовался предназначенный для высоких гостей затейливый многослойный торт.
Питерсон отбежал вбок, щелкая аппаратом. Яркие вспышки магния следовали одна за другой, фотограф едва успевал менять накалившиеся лампы, швыряя ненужные Гризеру, онемевшему от удивления. Шлик в растерянности уставился на сверкающий вспышкой фотоаппарат и остановил взгляд на активисте гитлерюгенда. Тот, похоже, стал ассистентом Питерсона – наглядный образчик предателя, пойманного с поличным.
Джейсон быстро обежал глазами сцену в поисках Рейчел, не нашел ее и позволил себе облегченно вздохнуть.
Но вот гимн отзвучал и она вошла, раздвинув занавес, – та же сказочная фея, облаченная в синий воздушный шелк, уверенная, улыбающаяся, со знакомыми огоньками в глазах, – протянула в знак приветствия обе руки.
– Как вам понравился наш сюрприз, штурмбаннфюрер Шлик?
– Рейчел! – Кажется, Шлик снова обрел дар речи, его глаза снова заблестели от предвкушения торжества.
Он сделал шаг вперед, чтобы вернуть себе ту, которая должна по праву принадлежать ему. У бригадефюрера округлились глаза. Джейсону показалось, что земля поплыла у него из-под ног. Но женщина остановилась и замерла перед приближавшимся Шликом.
– Рейчел? – В ее голосе прозвучало неподдельное изумление. Она отступила. – Ах, нет же, штурмбаннфюрер! Вы снова меня с ней спутали. Я вовсе не Рейчел, которую вы так стремитесь отыскать. Я фрау Гартман. Вы меня разве не узнаете? – Она бросила взгляд на Фридриха – сперва растерянный, потом погрустневший. Прекрасные голубые глаза снова обратились к Шлику, которого вот-вот мог хватить удар, затем к стоявшему позади него бригадефюреру.
– Мы все так надеялись, что вы, вернувшись из Берлина, чувствуете себя лучше. Мы хотели начать нашу дружбу с чистого листа, предав забвению огорчения прошлого.
– Только не пытайся меня дурачить, – предостерег Шлик с кривой ухмылкой. – Деревенская дамочка из Баварии не умеет так покачивать бедрами, у нее не бывает таких огоньков в глазах. – Он шагнул вперед и решительно взялся за вырез ее платья. – Этот наряд я помню по Берлину, с той ночи год назад, когда мы с тобой танцевали.
Герхард наклонился к уху женщины. Она отшатнулась.
Фридрих, до сих пор стоявший в заднем ряду, протолкался между растерянными свидетелями этой сцены, заметно хромая, и резко потянул женщину к себе.
– Я буду весьма признателен, если вы уберете руки от моей жены.
– Эта женщина ничуть не больше ваша жена, чем… – начал было Шлик, выпрямившись во весь рост.
– Штурмбаннфюрер Шлик! Подойдите ко мне, – скомандовал Шелленберг. – Мы еще раз сфотографируемся.
Фея в синем платье доверчиво приникла к Фридриху, огражденная крепкими руками супруга. Шлик не двинулся с места, его лицо исказилось от ярости.
– Врешь, стерва!
– Мы пригласили вас, чтобы поприветствовать от имени всего поселка, а вы отвечаете нам оскорблениями? – возмутился Фридрих.
– Штурмбаннфюрер, – вмешался бургомистр Шульц, – неужели вы хотите всех нас оскорбить? Мы воспользовались счастливым случаем…
– Случай действительно счастливый, – согласился Шелленберг. Он подошел к очагу конфликта и решительно положил руку на плечо Герхарда. – А штурмбаннфюрер Шлик допустил ошибку.
Герхард вывернулся из-под руки генерала.
– Ошибку? – Из нагрудного кармана он вытащил сложенную вчетверо обложку журнала и разгладил ее шлепком ладони. – Разве это не та же самая женщина? Неужели вы не понимаете, что нас просто пытаются одурачить?
Шелленберг грозно нахмурился. Взглянул на фото и внимательно всмотрелся в стоявшую перед ним женщину.
– Действительно, сходство поразительное, – признал он.
– Позвольте и мне взглянуть, – потребовал Фридрих.
Шлик хотел было оттолкнуть наглеца, но Фридрих твердо стоял на своем, не опуская протянутой руки.
– Речь ведь идет о моей жене.
– Покажите ему, – приказал Шелленберг.
Фридрих взял обложку с фотографией в руки – таким жестом, что стало ясно: он видит это фото не первый раз.
– Ja, это моя Лия. – Он поднял фото так, чтобы могли видеть все присутствующие. – Все знают, что это моя Лия. – Он возвратил фотографию Шлику. – Американская пресса подняла шум вокруг этой фотографии. Даже дала ей название: «Баварская Мадонна». Мы здесь шума не поднимали. Вы преследуете нас потому, что ищете женщину, похожую на мою жену?
Присутствующие стали перешептываться и обмениваться косыми взглядами. Шелленберг уловил, что общественное мнение оборачивается против его коллеги-эсэсовца.
– Что скажете, бригадефюрер, – как лучше осветить в мировой прессе этот вечер, который был задуман как демонстрация единства граждан рейха? – подлил масла в огонь Джейсон.
– Это вы! – Шлик перенес свой гнев на журналиста. – Это вы все организовали! Вы и в Берлине встревали между мной и Рейчел, а теперь…
Джейсон примирительно поднял руки.
– Я всего лишь сообщаю новости всему миру.
Адъютант что-то шепнул бригадефюреру на ухо. Шелленберг выпрямился, глаза у него сузились, ощупывая лицо и фигуру женщины, которая стояла рядом с Фридрихом.
– Если это вы, фрау Гартман, то где же ваш ребенок?
Женщина печально опустила глаза. Фридрих снова обнял ее, но как только она немного пришла в себя, отстранилась от мужа и заговорила. Ее голос звучал глухо, но достаточно уверенно.
– Тем, кто имеет власть, нетрудно выяснить, что у меня нет детей, а после вынужденного посещения Института во Франкфурте уже никогда и не будет. Можно узнать и причину, по которой это произошло. Ребенок на снимке, разумеется, не мой.
Шлик снова шагнул к ней ближе, и в глазах его мелькнула догадка.
– Да, это не ваш ребенок. Девочка – моя, ведь так? Это моя дочь, только переодетая мальчиком, чтобы я не смог ее отыскать. – Он покачал головой, не в силах до конца поверить в свое открытие. – Ах, Кристина, Кристина, ты оказалась умнее, чем я считал, – прошептал он в раздумье, потом взглянул на Лию. – А вы, мисс Крамер, были неподражаемы, и это не принесет вам добра.
Среди столпившихся на сцене людей нарастало волнение.
– Так чей это ребенок, фрау Гартман? – задал вопрос бригадефюрер Шелленберг.
Этим вопросом ему удалось поколебать ее уверенность. Глаза Лии обежали присутствующих, словно ища поддержки и не находя ее.
– Это просто ребенок… Здешний, деревенский. Зачем бы я стала прятать вашу дочь, штурмбаннфюрер Шлик? И как я могла бы это сделать?
– Так чей же это ребенок? – требовательно спросил Шелленберг.
– Одной беженки, которая проходила через нашу деревню, насколько я помню, – раздался голос отца Оберлангера, стоявшего в заднем ряду. – Ни мать, ни ребенок здесь не задержались.
– Поп! Ты осмеливаешься лгать? – Шлик прожигал священника взглядом. – Ты окажешься вместе со своим куратом…
– Штурмбаннфюрер, – перебил его Джейсон, – как я понимаю, ваша дочь погибла при взрыве в клинике – после того как вы или ваша жена отвели ее на обследование. Вроде бы с девочкой что-то было не в порядке, так ведь? Что-то не соответствовало стандартам, существующим в СС?
Шлик покраснел, а Шелленберг готов был взорваться.
– Может, у нее губы были не такие, как надо? – подсказал Генрих Гельфман, выглядывая из-за юбок и штанин взрослых. Мальчик пробрался вперед, на середину сцены и поднял глаза на штурмбаннфюрера Шлика. – Какие-то люди пришли и забрали мою сестричку, которая родилась с заячьей губой. Они сказали, что она уродка, и убили ее, а с моей мамой что-то сделали, я даже не знаю, что именно. Они забрали с собой тело сестры, мы и похоронить ее не смогли. Вашу дочку тоже убили злые люди?
У женщин, с тревогой смотревших на людей в эсэсовской форме, округлились глаза. Жители поселка испуганно попятились.
– Ведь если так и было, – упорно продолжал Генрих, – то вы можете попросить герра Гартмана, и он вырежет для вас фигурку младенца Иисуса с прекрасными губами. Вы сможете держать ее у себя в доме, пока ваша жена не родит другого ребенка. Это поможет, я точно знаю. – Тут он повернулся к Фридриху. – Поэтому-то я и украл эту фигурку из вашего Святого семейства. Но я обязательно верну ее, как только мама родит нового ребенка.
Толпа издала единый тяжелый вздох, кто-то даже зарыдал.
– Уничтожение младенцев? Этим теперь занимается новая Германия? – Ручка Джейсона повисла над блокнотом, он готовился записать ответ на свой вопрос.
Еще одна вспышка магния в фотоаппарате Питерсона, и Шелленберг словно очнулся.
– Nein, nein! Рейх к подобным делам не имеет отношения. Ясно же, что речь здесь идет о каком-то прискорбном недоразумении. – Бригадефюрер повернулся к супругам Гартман. – Прошу вас простить штурмбаннфюрера Шлика. Он…
– Простить меня? – рявкнул Шлик. – Да эти Dummkopfe…[56]
Шелленберг, сверкнув глазами, заставил его умолкнуть и повысил голос:
– В лице этих деревенских жителей народ преподнес нам подарки, свидетельствующие о его признательности и преданности фюреру, и мы, представители властей рейха, горячо благодарны им за сегодняшний чудесный вечер.
– Но ведь…
– Хватит! – Шелленберг кивнул двум своим телохранителям, и те силой увели со сцены упирающегося Шлика, у которого от негодования раздувались ноздри.
Бригадефюрер поклонился присутствующим.
– До Берлина путь неблизкий, поэтому я должен извиниться и покинуть вас. Прошу также простить меня за то, что увезу с собой вашего почетного гостя, но в данное время штурмбаннфюреру Шлику крайне необходимо быть в Берлине. Продолжайте праздник и примите наш подарок – отмену комендантского часа на нынешнюю ночь.
Вопросы, оставшиеся без ответа, утонули в робких, недружных аплодисментах. Джейсон затруднялся сказать, чему больше радовались жители: временной отмене комендантского часа, которая позволит им пить и веселиться всю ночь, или же тому, что из деревни силой увозили Шлика.
Как бы там ни было, Джейсон прикусил губу, чтобы не расхохотаться. «Кто, интересно, догадался вовремя выпустить мальчика? Он блестяще справился с делом».
Шелленберг, покидавший сцену, на минуту остановился.
– Я с нетерпением буду ждать вашей статьи о сегодняшнем событии, герр Янг.
– Если поторопиться, – кивнул Джейсон, – то, возможно, репортаж появится уже в завтрашнем номере.
– Позвольте выразиться точнее. Я мечтаю ознакомиться именно с вашим репортажем, прежде чем он попадет в газету.
– Разумеется, – ответил Джейсон, глядя в глаза бригадефюреру.
– Schön gut[57]. Можете писать у меня в гостинице. Я оставлю машину с шофером – можете распоряжаться ею, когда закончите статью.
Джейсон не рассчитывал на то, что придется торчать здесь, дабы его статья подверглась цензуре. Основную линию он уже набросал, и только она привлечет внимание читателей. Ему совсем не улыбалось задерживаться в поселке: нынче ночью он непременно должен успеть в другое место.
67
Минут за сорок до того, как телохранители Шелленберга вывели из театра Шлика, отец Оберлангер вышел из густой тени церкви, в которой уже погасли огни. Повернув голову, внимательно осмотрел улицу. Он никого не заметил и поманил Ривку, которая пряталась в темноте, потом помог ей взобраться на повозку главного лесничего Шраде. Вместе со Шраде священник затолкал девушку в грубый мешок и обложил деревянными ящиками, в каждом из которых было по восемь бутылок шнапса. Еще один мешок набросили сверху, прикрыв его охапкой сена. Священник, лесничий и Ривка поехали в театр. Там отец Оберлангер спрыгнул с повозки так ловко, как позволили ему старые кости, и молча подал руку женщине средних лет, которая только что вышла из театра через черный ход.
* * *
Рейчел пробрала дрожь, когда она поняла, что их пособником в эту ночь вызвался быть не кто иной, как отец Оберлангер. Стоит ему узнать ее, стоит позвать людей или донести в гестапо позднее – и все пропало. Она взобралась на повозку, села рядом со Шраде и тут услышала шепот священника:
– Храни вас Бог, фрейлейн Рейчел. Храни вас Бог!
Она вгляделась в лицо старого священнослужителя – человека, который уже второй раз помогал ей спастись, – и увидела безграничное милосердие и горячую надежду в его глазах, в которые прежде не слишком внимательно вглядывалась, в морщинах на лбу, казавшихся ей прежде знаком осуждения. Сердце ее преисполнилось такой благодарности, какую трудно выразить словами, да и говорить вслух было страшновато, поэтому Рейчел лишь сжала плечо старика и дотронулась до его щеки. В жизни много загадок, и отец Оберлангер оказался еще одной из них.
Шраде щелкнул бичом, и повозка с пассажирами тихо покатила по знакомым широким улицам поселка. За околицей улица переходила в дорогу, испещренную бликами лунного света.
Рейчел просунула руку под сено, под грубую мешковину и коснулась протянутой в ответ руки Ривки.
– Сейчас будет первая застава, – предупредил главный лесничий. – Приготовьте бутылку, а лучше две.
Не успел он договорить, как поперек дороги легла полоска яркого света и навстречу им вышли несколько солдат с винтовками наизготовку.
– Halt![58]
Шраде натянул поводья, останавливая экипаж.
– Хайль Гитлер! Мы везем подарки от жителей деревни и добрые пожелания от штурмбаннфюрера Шлика! Просто стыд, что вас оставили дежурить здесь в темноте и вам пришлось пропустить такое представление. Вот мы и решили, что вы тоже заслужили праздник, и кое-что вам привезли. То, что поможет согреться! Пирогов нет, зато есть кое-что получше, а? Хельга, дай-ка мне бутылочку, которую мы припасли для доблестных воинов!
– Шнапс? Вас послал штурмбаннфюрер? – Обер-ефрейтор, старший на посту, не мог в это поверить.
– Ja! Ja! В честь праздника. Там ведь еще и бригадефюрер Шелленберг! И комендантский час на сегодня отменили!
Рейчел протянула по одной бутылке солдатам, стоявшим с обоих боков повозки.
– Не жадничай! – со смехом крикнул ей Шраде. – Штурмбаннфюрер приказал: по бутылке на каждого! Пейте! Может, на трезвую голову он еще и пожалеет о своей щедрости!
Солдаты не могли одновременно держать и бутылки, и нацеленные на пассажиров винтовки. Победили бутылки.
– Куда вы направляетесь?
– Чуть дальше Этталя. Надо охватить всех солдат – каждому по бутылке. Все самое лучшее – тем, кто служит фатерланду!
– Мы служим фюреру!
– Ja! Ja! Хайль Гитлер!
– Зиг хайль! – Солдаты расступились, радостно помахивая бутылками.
Шраде весело помахал им рукой в ответ и тронул лошадей.
Миновав еще две заставы, они оказались у подошвы горного хребта. Шраде повернул лошадей с дороги и пустил их прямо по полю.
– Мы съехали с дороги? – В голосе Рейчел прозвучала нарастающая тревога.
– Ja, так лучше – проедем за лесом и выедем на дорогу подальше. Мы же хотим, чтобы наци думали, будто мы поехали за Этталь. Мне совсем не хочется, чтобы они поняли, что мы направились в горы.
– А наши следы?
– Принюхайтесь к воздуху. Вот-вот хлынет дождь. Когда они сообразят, что мы исчезли, – если вообще догадаются, что с нами были вы, – все следы давно уже смоет.
Рейчел оставалось только молиться о том, чтобы так и произошло.
В разрыв между облаков проглянула луна. Повозка наконец выехала на горную дорогу. Все выше, выше по горному серпантину; лошадь шла тем медленнее, чем выше они взбирались.
– А сможет она дотащить нас на самый верх? – высунулась из своего мешка Ривка.
– Nein, – ответил ей главный лесничий. – Для нее подъем слишком крут… а вот вам придется туда дойти.
– Что? – Ривка не могла себе представить, что по горам придется идти пешком, да еще и ночью.
Лесничий кивнул головой.
– Сидите отдыхайте. Пользуйтесь возможностью, потому что пешком мы сегодня еще находимся.
Через двадцать минут верный своему слову Шраде повернул повозку с дороги и направил ее через рощицу. Сквозь тьму мелькнул слабый огонек. Еще раньше, чем они подъехали поближе, Рейчел догадалась, что там стоит хижина. Отворилась дверь. Лампа, неярко горевшая в доме, осветила на пороге силуэт женщины, которая помахала им рукой, приглашая войти.
Но Шраде не принял приглашения, крикнув мужу стоявшей на пороге женщины:
– Danke, но нам нужно ехать дальше! Я вернусь завтра, а сейчас оставлю у вас свою лошадь и повозку.
– Я присмотрю за ними как следует, – отозвался крестьянин, выйдя на крыльцо. – Лошадь будет ждать вас.
Рейчел надеялась, что они смогут здесь передохнуть и выпить что-нибудь, хотя бы похожее на кофе – да все равно что, лишь бы немного успокоиться. Однако Шраде помог ей сойти на землю, вытащил из-под сена Ривку и велел обеим быстро идти за ним в темный лес. Каждой он дал по веревке, чтобы они не потеряли друг друга. Обе девушки порядком отвыкли от лазания по горам и теперь спотыкались на каждом шагу.
– Можно не так быстро? – окликнула лесника Рейчел.
– Надо спешить, – шепотом отозвался Шраде. – Вы должны поднапрячься, иначе вас застрелят!
Рейчел задыхалась от быстрой ходьбы в темноте, поэтому не стала тратить силы на бесплодный спор, а лишь наклонила голову, вглядываясь в бесконечный подъем.
Вверх, вверх, все выше и выше – они без передышки поднимались по тропе, пока Ривка не замедлила шаг, а Рейчел не почувствовала, что ее ноги вот-вот отвалятся.
Тропа, однако, стала наконец немного более пологой и вывела их на петлявшую между валунами стежку, которая спускалась в маленькую узкую долину. Рейчел молилась о том, чтобы не пришлось взбираться снова.
Здесь деревья росли гуще, и в темноте сквозь переплетение ветвей было почти не видно друг друга. Только что Рейчел держалась за веревку, ступая вслед за Ривкой, – и вдруг оказалась в одиночестве, с пустыми руками.
– Ривка! Ривка! – позвала она.
– Тихо! – раздался сердитый шепот герра Шраде. – Мы уже совсем близко к цели. Держитесь теснее.
Рейчел молча ковыляла в темноте, пока Ривка не ухватила ее за руку. Рейчел сделала глубокий вдох, немного расслабила мышцы и, хотя ничуть и не успокоилась, пошла за подругой дальше.
Они вышли на небольшую полянку. Впереди можно было различить нечто высокое и очень темное. Поначалу Рейчел показалось, что это очередная купа деревьев. Но главный лесничий подошел к темному объекту раньше, и она услышала, как он отворяет дверь пинком ноги.
– Спасибо вам! – прошептала девушка.
– Входите, входите, – поторопил лесничий. – Здесь часик передохнем, потом пойдем дальше. Мы должны встретить вашего провожатого еще до полуночи.
Он чиркнул спичкой, и вспышка неяркой лампы ослепила глаза Рейчел, уже привыкшие к темноте. Но ей было приятно снова видеть свет. Пляшущий огонек лампы отбрасывал причудливые тени на стены, стол и стулья.
– Где это мы? – поинтересовалась Ривка.
– Этой хижиной пользуются охотники, когда промышляют в здешних местах. С начала войны наци используют ее как казарму для горных егерей, которые проходят тут специальное обучение.
– А вы не думаете?..
– Nein, nein. Сегодня никто сюда не придет, все будут пить и веселиться до рассвета. А штурмбаннфюрер даже не знает об этом убежище.
– А Максимилиан? – У Рейчел даже холодок пробежал по спине.
– Ja, он знает, как знает и то, кому следует об этом рассказать. Будем надеяться, что он не настолько умен, чтобы сообразить, куда мы пошли. – Шраде протянул женщинам лампу. – Не тревожьтесь. Пока они сообразят, что к чему, вы обе уже будете в Лиссабоне, в полной безопасности.
– Я молюсь о том, чтобы вышло по-вашему.
И Рейчел снова вознесла молитвы. В ту ночь она молилась и верила в свои молитвы больше, чем когда бы то ни было прежде.
– Мы все об этом молимся, фрейлейн Крамер, – кивнул ей лесничий.
Звук собственного имени показался ей сейчас странным. Даже не верилось, что скоро она сможет слышать его каждый день. Если бы только оно снова, хоть разок, прозвучало из уст Джейсона! На нелегком пути вверх Рейчел жалела о том, что ей не удалось с ним поговорить, попрощаться. Видеть его в зале и не иметь возможности улыбнуться ему или хотя бы кивнуть, видеть, как он страдает, когда она откровенно заигрывает со Шликом, – Рейчел это казалось слишком жестоким. Джейсон, который так ей помог, никоим образом не заслуживал такого отношения. Конечно, Лия объяснит ему, что было безопаснее, чтобы он не знал заранее деталей их плана. Благодаря этому он вел себя более естественно, был удивлен происходящим не меньше, чем все остальные.
К тому времени, когда они прилегли отдохнуть, глаза Рейчел сами собой закрывались. Девушки устроились вдвоем на диване, а лесничий караулил у окна. Рейчел уже погружалась в сон, когда Ривка прошептала:
– Теперь бабушке, Амели, Лии и Фридриху нечего будет бояться, правда? И у нас с тобой все будет хорошо?
Рейчел крепко сжала руку подруги и заставила себя произнести бодрым голосом:
– Даже лучше, чем просто хорошо. Все будет чудесно, замечательно – у нас всех. Вот увидишь!
Ривка с благодарностью пожала ей руку.
Рейчел закрыла глаза. Пусть сбудутся ее слова!
68
Главный лесничий потряс ее за плечо, но Рейчел никак не могла проснуться. Ей хотелось досмотреть свой сон. К тому же все ее тело немилосердно болело после лазанья по горам.
Но герр Шраде все тряс и тряс ее, напоминая о том, что нужно вставать. Взялся он и за Ривку.
– Нам пора в дорогу. Я припас вам булочки, только побыстрее! Надо еще сделать так, чтобы никто не догадался, что мы здесь были.
– А кофе? – протяжно зевнула Рейчел.
– Огонь мы не станем разводить, тогда и дыма не будет, – решительно ответил главный лесничий. – Давайте поживее!
Рейчел встряхнулась, взяла себя в руки. Не было никакой возможности ни переодеться, ни толком умыться, разве что ополоснуть лицо, смывая жуткий кустарный грим. Ладно хоть лицо, которое глянуло на нее из треснувшего зеркала над умывальником, было ее собственным, привычным. Изможденное, немного постаревшее, осунувшееся лицо молодой женщины, которая год назад приехала в Германию. И все же это было именно ее лицо.
Уже скоро она сможет снова быть самой собой, ей не придется больше притворяться Лией Гартман или бабушкиной родственницей, которая живет в Штелле и иногда заезжает в Обераммергау в гости. На минуту Рейчел задумалась о том, каково это будет – чувствовать себя собой, после того как она вела совсем другую жизнь, после того как поняла, что все ее прежнее существование было сплошным обманом.
Рейчел с Ривкой взяли заботливо запасенные лесничим булочки и спрятали их в карманы, чтобы съесть по дороге. Поплотнее запахнули куртки от ледяного горного ветра и вышли вслед за Шраде в ночь.
Час, если не больше, они снова взбирались все выше и выше.
– Теперь уже недалеко, совсем недалеко, – хриплым шепотом подбодрил их Шраде.
Внезапно деревья расступились и гора как будто стала ниже. Лунная дорожка освещала тропу, которая поворачивала едва ли не назад по краешку расселины с острыми краями.
– Перевал! – выдохнула шедшая позади Ривка. – Перевал! Теперь идти станет легче.
– Спасибо! – произнесла Рейчел в темноту.
Мышцы ее бедер и голеней так сильно напряглись, что, казалось, ноги сейчас сломаются.
Внизу перевала в темноте скрывалось нечто напоминавшее домик. Шраде подал девушкам знак – остановиться и ждать. Рейчел поравнялась с Ривкой, и обе они замерли, прижавшись друг к дружке, под деревьями. Шраде спустился по тропе и исчез в домике, походившем на срубленную кое-как самодельную хижину. До Рейчел долетели голоса двух, а может быть, и трех мужчин, которые не то беседовали, не то о чем-то спорили.
Только минуты через три к ним по тонувшей во тьме дорожке стала подниматься мужская фигура. Однако эта фигура не напоминала лесничего Шраде. Мужчина упорно карабкался к перевалу, согнувшись, так что лица его они никак не могли рассмотреть. Рейчел уже готова была повернуться, отступить подальше за деревья, а потом бежать что есть духу назад – туда, откуда они пришли. Она даже потянула было за руку Ривку. Может быть, им удастся добежать до охотничьей избушки, избавиться от преследования, а потом добраться до Этталя или даже до бабушкиного чердака.
– Рейчел! Рейчел! – позвал ее мужской голос.
И страхи, обуревавшие Рейчел, сразу же отступили, рассеялись.
– Джейсон? – Она задохнулась от волнения, даже испугалась, что у нее от переутомления начались галлюцинации. – Откуда ты здесь? Как тебе удалось?..
– Не мог же я отпустить тебя… не повидавшись. – Он остановился, с трудом переводя дух. – Ривка… Рад тебя видеть.
– И я рада, шеф.
– Как тебе удалось попасть сюда раньше нас? – спросила Рейчел. – Мы добирались до перевала всю ночь, только часок передохнули.
– Шелленбергу так понравился мой репортаж, что он пригласил меня поехать вместе со всей его свитой. Ну а я остановился у первой же лыжной базы. Ему сказал, что у меня редакционное задание – написать о лыжных курортах Баварии и найти причины, по которым иностранцам по-прежнему стоит побывать в Германии нынешней осенью. Потом час добирался сюда пешком.
– А что там с Герхардом?
– Думаю, наш добрый бригадефюрер по горло завалит Шлика работой в концлагерях в Польше, и это будет надолго. – Джейсон подошел ближе. – Лия рассказала мне, где вас искать. В нашем распоряжении слишком мало времени.
Ривка пожала Рейчел руку, бросила: «Пока» – и пошла по тропе вниз, к хижине.
– Сколько у нас времени? – Рейчел не хотелось думать о Герхарде Шлике, не хотелось терять ни мгновения.
– Пять минут. Как раз хватит вам обеим на то, чтобы выпить чего-нибудь горячего и переодеться. Могу предложить тебе свое одеяние вместе с подтяжками. – Джейсон усмехнулся. – Ваш провожатый уже готов тронуться в путь. До рассвета он должен провести вас через перевал на ту сторону границы. – Янг обнял девушку. – Тебя ждет кофе с цикорием. Я хочу, чтобы ты как следует согрелась. Впереди у вас долгая дорога.
А Рейчел хотелось остановить время. Оно летело вперед с такой безумной скоростью, дышало опасностью, а теперь его совсем не осталось.
– Джейсон, когда я смогу увидеться с тобой снова? – Девушка понимала, что нужно поблагодарить его за все: за спасение Амели, за то, что он защитил ее, Рейчел, от отца, который собирался продать ее нацистам, за то, что помог ей отыскать настоящую семью, спас Ривку, познакомил Рейчел с пастором Бонхёффером. Самое важное – он познакомил ее с Иисусом, с его Иисусом, который однажды, возможно, станет и ее Иисусом. Ей необходимо узнать Его лучше. Рейчел нужно было столько всего сказать Джейсону. Но сейчас, в эту минуту, все отошло на второй план.
– Скажи же.
Он обхватил ее голову руками и повернул к звездам.
– Видишь этот полумесяц?
Рейчел всхлипнула, напрасно борясь с подступившими слезами.
– Я хочу, чтобы каждую ночь ты смотрела на луну и знала, что я тоже смотрю на нее и думаю о тебе, и буду считать каждый месяц, пока мы не встретимся снова. В Нью-Йорке.
– А что произойдет, когда ты окажешься в Нью-Йорке? – Ей не хватало дыхания.
– Я буду искать мисс Рейчел Крамер, – ответил Джейсон, снова поворачивая девушку лицом к себе. – Хочу пригласить ее посидеть со мной за чашечкой кофе, потом за ленчем, потом за ужином.
– За ужином? Ты это серьезно? – прошептала Рейчел.
Джейсон привлек ее к себе.
– Очень серьезно. На всю оставшуюся жизнь.
– Твою и мою, – добавила она.
– А это красиво звучит – миссис Джейсон Янг.
– Рейчел Янг, – поправила она.
– Рейчел Янг, – согласился Джейсон и поцеловал ее теплыми губами – решительно, крепко, по-настоящему.
Теплая волна поднялась от кончиков пальцев ее ног выше, к туловищу, наполняя сердце, а потом ударив в голову. Рейчел была уже не способна рассуждать, думать, да в общем, ей было все равно. Она гладила Джейсона по волосам, сбросив на землю его шляпу, и десятикратно отвечала на его поцелуй.
Эпилог
В 1950 году жители Обераммергау объединили усилия и устроили представление «Страстей Христовых» – первое за минувшие шестнадцать лет. Так они хотели показать всем, что в Германии жив дух христианства, что немцы могут проявлять терпимость к другим народам и религиям. Ожидали, что на празднике будет присутствовать генерал Эйзенхауэр со своей супругой Мейми. Вот Джейсон и решил, что это добрый знак, а значит, Рейчел пора вернуться домой, к семье.
Семейство Янгов сперва полетело в Израиль, где они провели пять дней в обществе сияющей Ривки (она получила диплом медицинской сестры) и ее новоиспеченного мужа доктора Давида Шехема, который осел в только что основанном кибуце. Супруги Шехем открыли там первую клинику и вместе с другими верующими иудеями стали укреплять общину. Они искренне надеялись, что со временем к ним присоединится еще много новых приезжих. Несколько лет с того дня, когда Джейсон, Рейчел и Ривка узнали о гибели родителей и брата Ривки, они жертвовали средства, которые должны были помочь построить государство Израиль, вырастить деревья и разбить виноградники. Вместе с Ривкой ее друзья горячо молились о том, чтобы их усилия позволили спасти оставшихся евреев, которым довелось пережить ужасы нацистского геноцида.
– И вот мы сюда приехали! – ликовала Ривка. – А ведь это еще только начало!
– Замечательное начало! – Рейчел обняла младшую сестру, которая теперь стала выше старшей и с восторгом предвкушала жизнь среди соплеменников, в созданной при ее участии общине.
Сесть снова в самолет и расстаться с названой сестрой, которую Рейчел полюбила ничуть не меньше, чем родную, оказалось куда труднее, чем ей казалось раньше. Ривка вместе с ней пряталась на чердаке в бабушкином доме и своими глазами видела, как резко менялась жизнь Рейчел. Они вместе перешли через Альпы и на лыжах добрались до Швейцарии. Вместе торговались и упрашивали взять их на два свободных места в дребезжащем переполненном автобусе, который раз в неделю ходил через Южную Францию, где не было оккупантов[59], в Барселону. Там они обе вскочили на ходу в поезд, шедший из Барселоны в Мадрид, и наконец-то добрались до Лиссабона. И вместе же им чудом удалось сесть в Лиссабоне на пароход, доставивший их в Нью-Йорк, где пришлось повоевать за право легально остаться в Америке.
В этой подлинной истории, более удивительной, чем то, о чем пишут в книгах, Ривка на протяжении пяти лет боролась и пробивалась к сердцу Иисуса – Иешуа, Мессии, Спасителя. В юности ни одна из них и помыслить не могла о таком пути, он сделал их совершенно иными, чем прежде.
В Мюнхене, ступив на немецкую землю, Рейчел не могла сдержать дрожь, но рядом с ней стоял Джейсон, обнимал ее за плечи, ласково гладил по спине.
В поезде, идущем до Обераммергау, на Рейчел нахлынули воспоминания, но и тревога о будущем ее не покидала. Каково будет снова увидеться с Амели? Сумеет ли она узнать ее? Ни бабушка, ни Лия, ни Фридрих не написали им ни слова, пока не прошло полгода после того, как в Европе отгремела война. Джейсон и Рейчел, которые теперь уже были вместе и смогли пожениться, сразу же отправили им посылки с гуманитарной помощью. В каждой посылке – а отправляли их ежемесячно – были баночка кофе, баночка чая и четыре шоколадки, завернутые в одежду или вложенные в пару обуви для того или иного члена семьи. Иногда посылки добирались до адресатов.
Совсем недавно бабушка написала, что Амели выросла и превратилась в красавицу, к тому же была очень талантлива: она стала одной из лучших портних во всем городе и подавала большие надежды. Она была теперь так не похожа на малыша с фотографии «Баварская Мадонна с ребенком», что бабушка уверена: Рейчел ее просто не узнает. Никто в городке не сомневается в происхождении Амели. Никто, кроме Генриха Гельфмана, того самого, что учился у Фридриха резьбе по дереву. Когда-то он увидел Амели, еще совсем маленькую, нуждавшуюся в защите и покровительстве, и с той самой минуты навсегда стал ее верным рыцарем.
За годы бомбежек многие стали плохо слышать, а то и вовсе оглохли – на войне без жертв не бывает. Бабушка объясняла всем любопытствующим, что девочка осиротела. Та немолодая женщина, которая жила в Штелле и привезла малышку сюда, приходилась бабушке дальней родственницей. Во время очередной бомбежки она куда-то пропала. Вот Фридрих и Лия Гартман и удочерили малышку – а как же иначе?
Ступая по немецкой земле, Рейчел хорошо понимала, что призраки прошлого стоят перед глазами не у нее одной. Она чувствовала, как напряженно шагает рядом Джейсон, как крепко он сжимает ее руку, видела его решительно сжатые губы. Джейсон уехал из Берлина в 1941 году и потом до конца войны работал в Лондоне. С тех пор он ни разу не видел Дитриха Бонхёффера и не получал от него вестей. От коллег Джейсон узнал, что его друг был арестован в 1943 году. Когда же произошло неудачное покушение на Гитлера и стала известна роль Дитриха в заговоре, его обвинили в государственной измене. После долгих месяцев следствия – и уже незадолго до окончания войны – Дитриха перевели из концлагеря Бухенвальд в Шенберг. В воскресенье, через неделю после Пасхи, едва он провел службу для своих сокамерников, гестаповцы перевезли его во Флоссенбург. Еще через два дня, на рассвете, Дитриха повесили. Перед смертью он успел сказать несколько слов, в том числе стала известна такая фраза: «Это конец, но для меня – лишь начало жизни».
Почти спустя год после войны Джейсон узнал через Красный Крест, что курата Бауэра приговорили к каторжным работам в Заксенхаузене – концлагере в предместье Ораниенбурга. На Рождество 1942 года одного юного еврея осудили на смерть: он украл пайку хлеба. Бауэр настоял на том, чтобы вместо осужденного расстреляли его самого. Курат встал перед расстрельной командой без повязки на глазах и громко молился за души солдат, уже вскинувших винтовки к плечу и взявших его на прицел. Впрочем, мальчишку-еврея все равно расстреляли.
Сколько утрат, сколько горя! Рейчел не была уверена в том, что сумеет жить в Германии с таким грузом на душе. Хорошо хоть, призрак отца перестал ее преследовать. И еще: она больше не испытывала страха перед Институтом и Герхардом Шликом.
Через полгода после окончания войны новый секретарь научно-исследовательского института в Колд-Спринг-Харборе по ошибке переслал письмо, адресованное доктору Крамеру, по старому адресу. Письмо это было от доктора Фершуэра из Берлина и предназначалось для Института, а попало к Рейчел. Фершуэр с прискорбием извещал Институт о том, что в последний месяц войны штурмбаннфюрер СС Герхард Шлик, находясь в Польше, неожиданно заболел и умер. Вследствие этого дальнейшее участие фрейлейн Крамер в их совместном эксперименте перестало представлять интерес.
Незадолго до конца войны исчезли досье с компрометирующими документами. Доктор Фершуэр не попал под суд как военный преступник и продолжил научную работу в области генетики, немного изменив тематику исследований. Его ассистент доктор Йозеф Менгеле, получивший за чудовищные эксперименты над людьми, проводившиеся в концлагере Освенцим, прозвище Ангел Смерти, с помощью своих родственников сумел бежать в 1949 году в Южную Америку.
Так можно ли примириться друг с другом, имея такое прошлое? Можно ли двигаться в будущее, создавать под кровом колоссального горя свой семейный очаг? Но тут Джейсон погладил руку женщины и коснулся пальцами обручального кольца, и Рейчел нашла ответ на свои вопросы. «Я не одна, – сказала она себе. – Мы не одни».
Поезд подходил к станции, и Рейчел тяжело дышала. Что подумает Лия, увидев ее? Как она теперь выглядит? Сильно ли изменилась? Рейчел вздохнула, погладила живот, который рос, казалось, не по дням, а по часам. Она понимала, что они с сестрой теперь совсем не похожи, и это может оказаться для Лии нелегким испытанием.
– Может, надо было предупредить их заранее? – прошептала Рейчел, повернувшись к Джейсону. – Может быть, не стоило делать сюрприз?
Джейсон нахлобучил на голову свою модную фетровую шляпу и прошептал на ухо Рейчел:
– Я тебе не говорил, что ты сейчас вовсе не похожа на ту старуху, которую я целовал много лет назад, когда она бежала из Германии?
– К тому времени, когда ты поцеловал меня, я уже смыла весь тот жуткий грим, так что старуху ты никогда не целовал! – возмутилась Рейчел.
Муж усмехнулся и сел на свое место.
– А теперь эта женщина стала гораздо толще, – пробормотала Рейчел, бросая на него взгляд, который был (как она надеялась) игривым.
– Эта женщина – эта сказочная женщина – носит наше замечательное дитя, совершенное во всех отношениях.
– Ты забыл, кому это рассказываешь. Дети никогда не бывают совершенными.
– А вот Лия, – улыбнулся муж, – скажет тебе, что все дети – совершенства, какими бы ни казались на первый взгляд.
– Да уж, она так и скажет! А Фридрих добавит, что появление каждого ребенка приветствуют радостными песнями, – вспомнила Рейчел любимые слова зятя.
– А бабушка промолвит: «Выпестован в материнской утробе Господом Богом».
Рейчел удобно откинулась на сиденье, с радостью прислушиваясь к тому, как бьет ножкой малыш, готовясь совсем скоро появиться на свет. «Да, – повторила она про себя, – бабушка именно так и скажет. Лишь бы они и вправду обрадовались, увидев нас!» Впрочем, не было смысла думать об этом и волноваться понапрасну, пока поезд не остановится у перрона.
– Ты только посмотри! – крикнул Джейсон, высовываясь из окна вагона и указывая пальцем. – Вон там, на холме!
Красивая девушка быстро бежала к железной дороге. Одной рукой она прижимала к груди букетик альпийских луговых цветов, а другой отчаянно махала тем, кто ехал в поезде. Вечерний ветерок развевал густые пряди ее льняных волос.
– Кристина! Вылитая Кристина! – со слезами в голосе воскликнула Рейчел и так же отчаянно замахала в ответ.
Рядом с девушкой бежал юноша, скорее даже мужчина, – который мог оказаться только подросшим Генрихом Гельфманом. Вдруг он потянул Амели за собой к вокзалу. Поезд стал замедлять ход и наконец замер, дав заключительный долгий гудок. Рейчел заметила Лию и Фридриха, которые заглядывали в окна, ища знакомые лица. Они крепко держали друг друга за руки. Супруги Гартман выглядели старше, чем прежде, и талии у них, возможно, чуть раздались вширь, но это по-прежнему были две половинки замечательного целого. Позади них в кресле на колесиках сидела бабушка. Она подалась вперед, положив подбородок на сцепленные руки. На ее лице светилась радость, вызванная горячей надеждой.
Лия отыскала Рейчел глазами и, вскрикнув от восторга, потянула за собой, ближе к вагону, до сих пор прихрамывавшего Фридриха.
Рейчел крепко, обеими руками, стиснула ладонь Джейсона и прижала ее к сердцу. «Мы – дома, – стучало у нее в мозгу. – Мы на самом деле вернулись домой!»
К читателям
Вечером 10 мая 1933 года, когда Адольф Гитлер еще и четырех месяцев не занимал кресло рейхсканцлера, эсэсовцы и «коричневорубашечники» (штурмовики отрядов СА), студенты-нацисты и подростки из гитлерюгенда большой толпой заполнили Бебельплац близ Берлинского университета им. Гумбольдта. На разожженных ими тогда кострах сгорело примерно двадцать тысяч книг.
В 2009 году мы с дочерью побывали на том самом месте, где взволнованные люди отмечали годовщину этого печального события. Мы стояли рядом с памятной доской, на которой выгравирована строка из трагедии «Альманзор» Генриха Гейне: «Вступленье это. Там, где книги жгут, там и людей потом в огонь бросают»[60].
Навряд ли в 1933 году кто-нибудь из тех студентов, которые так фанатично сжигали книги и орали здравицы своему новоявленному фюреру, мог себе представить, что всего через несколько лет им прикажут выгонять из домов евреев: мужчин, женщин, детей, – грузить их в вагоны для перевозки скота и отправлять в концлагеря, а в конечном итоге загружать мертвые тела в печи крематориев.
Я никогда не могла до конца понять, как удалось втянуть в это одну из самых просвещенных наций в мире и низвести ее до того, чтобы лишить часть населения элементарных гражданских прав и человеческого достоинства, а другую заставить фактически соучаствовать в уничтожении целых народов. Отчего это нацисты возомнили, будто их желания и потребности важнее всего, будто они принадлежат к высшей расе, а всех, кого их вожди считают «неполноценными», следует непременно уничтожить? Почему народ – и в первую очередь Церковь – ничем не выразил свой протест? И коль скоро такой крутой поворот в культуре и социальном поведении однажды произошел, может ли подобное повториться? И может ли произойти такое в Америке?
В поисках ответов на эти вопросы я проследила развитие псевдонауки, именуемой евгеникой, в Соединенных Штатах и Германии. Ее адепты ставили своей целью покончить с тяжелыми болезнями, а равно отсечь определенные ветви на древе рода человеческого, всячески развивая вместо них другие. Гитлер, который в книге Mein Kampf откровенно высказал свои намерения, был в восхищении от евгеники. Я, кроме того, внимательно изучила историю прихода Гитлера к власти, историю развития Третьего рейха и события Второй мировой войны. Мне необходимо было понять, как это все начиналось, почему людям, жившим в ту пору, все это безумие казалось чуть ли не нормой.
Ответы, возникшие из тщательно просеянных фактов, складываются в очень пеструю, очень сложную картину, но что самое печальное: далеко не все из них относятся к временам, навсегда отошедшим в прошлое. На самом элементарном уровне, как мне кажется, сделали свое дело страх, зависть, высокомерие, желание подняться над ближним – чувства, порождающие непрерывную борьбу и раздоры в нашем мире. Эти низменные чувства целиком овладели душами немцев, которые готовы были хвататься за соломинку, лишь бы дождаться пришествия своего спасителя, ибо Германия стремилась так или иначе выкарабкаться из той бездны, в которую ее низвергли бедствия Первой мировой войны и долговременные последствия Версальского договора. Думаю, что много правды содержит известное выражение: «Для торжества злых сил требуется одно-единственное непременное условие – полное бездействие людей доброй воли»[61].
Пастор Дитрих Бонхёффер был одним из немногих инакомыслящих, которые очень скоро осознали опасность, проистекающую из абсолютной власти Гитлера и установки на личную преданность фюреру, которая считалась важнее всего прочего, в том числе и веры в Иисуса Христа. Бонхёффер писал: «В церкви существует лишь один алтарь – алтарь Господа Вседержителя… И тот, кто стремится к чему бы то ни было иному, пусть не приближается к алтарю: не место ему среди нас в доме Божием… В церкви имеется лишь один амвон, и с него неизменно проповедуется вера в Бога и никакая иная, возглашается только воля Божия и ничья больше, хотя бы иная воля и направлялась добрыми намерениями».
Прочитав Mein Kampf, Бонхёффер также понял, что Гитлер твердо намерен сделать все то, что пообещал в своей книге. Пастор ясно видел, к каким последствиям приведут Нюрнбергские законы и Арийский параграф, которые лишили евреев Германии гражданства и всех связанных с ним прав, а также отстранили евреев, принявших христианство, от активного участия в общественных и церковных делах. А ведь исторически сложилось так, что в Германии евреи-христиане исчислялись десятками тысяч. В период правления гитлеровцев почти все они были уничтожены в лагерях смерти вместе с их братьями, сохранившими верность иудаизму, а также вместе с представителями других групп населения, обреченных Третьим рейхом на гибель.
Бонхёффер считал поджоги синагог преступлением на почве расовой и религиозной нетерпимости (каковыми они и являлись на деле), а стерилизацию и «милосердную ликвидацию» инвалидов и душевнобольных – откровенным убийством. Он полагал, что Церковь, отказываясь от защиты евреев и остальных людей, не вписывавшихся в «арийский идеал» Гитлера, тем самым отказывается от исполнения заповедей Христовых. И ему становилось все яснее: с каждым новым законом гитлеровского режима у немецкого народа остается все меньше возможности протестовать против происходящего безумия.
Но история – это лишь часть проблемы, а на нашу долю остались актуальные и сегодня вопросы. Какие уроки мы извлекли из прошлого? Много ли мы сделали для того, чтобы нас снова не захватили врасплох, не уговорили пожертвовать своими правами и отнять права у других? Где найти нам смелость, чтобы выйти из состояния апатии, преодолеть равнодушие, пренебречь политкорректностью и опасениями нанести кому-то обиду – ради того, чтобы твердо выступить в защиту христианских истин? Как удостовериться в том, что Христос царит в наших сердцах и умах, что мы не уступили Его место харизматичным политическим и общественным лидерам? Как удостовериться в том, что мы сами не стали считать себя более важными, более достойными, нежели другие люди, ради спасения которых принес в жертву свою жизнь Иисус? Многие ответы на подобные вопросы я отыскала в книге «Шипы и тернии апостольского служения», написанной пастором Бонхёффером. Прочитать ее и понять не так-то просто. Но я, например, жалею, что не прочла эту книгу, когда была моложе, ибо она заставляет вдумываться в суть, она убеждает, она ведет читателя к более тесным отношениям с самим Христом. Она напоминает мне о том, что я не призвана витать в эмпиреях монашества, а должна жить в миру, укрепленная верой Христовой, жить так, как положено Его последователям.
В 2010 году родственники моего нового зятя сообщили, что собираются отправиться в турпоездку в Обераммергау – посмотреть представление «Страсти Христовы». Они предложили нам с мужем поехать вместе с ними, поскольку в туристическом маршруте недавно появились новые места, заслуживающие внимания. В то время я еще не думала, что действие моего романа будет разворачиваться в Обераммергау. Но вот после той поездки я увидела разницу между людьми, поклявшимися представлять «Страсти Христовы» каждые десять лет (и по мере сил своих жить подобающим образом), и правящим режимом, который упорно стремился первенствовать в умах и сердцах граждан. Эта идея целиком захватила меня – так похожа она на преодоление христианином разнообразных искушений во время паломничества.
Некоторые события, описанные в романе «Спасая Амели», происходили на самом деле, и они соответствуют реальной исторической хронологии. Например, в США, Германии и ряде других стран, где проводили стерилизацию, было довольно сильное движение в пользу евгеники. Обычным был обмен результатами исследований между заинтересованными странами, часто проводились международные конференции, в том числе и описанная в романе – та, в Шотландии, где присутствовали доктор Крамер и другие персонажи. В те времена, когда начинались события в романе, задолго до того как доктор Йозеф Менгеле стал проводить в Освенциме свои изуверские эксперименты над людьми, он ассистировал доктору Фершуэру в Институте наследственной биологии и расовой гигиены во Франкфурте. Они вели там активные исследования, направленные на борьбу с туберкулезом, а также изучали особенности близнецов. То, что сказано об обоих докторах в эпилоге романа, полностью соответствует действительности. Исследования по евгенике велись также в институте на Лонг-Айленде, хотя доктор Крамер – персонаж вымышленный.
Многие события, связанные с деятельностью Джейсона Янга, взяты мной из книги Уильяма Л. Ширера «Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента». Совершенно разные вещи: читать дневник, написанный, когда события только разворачиваются, и исторический труд, описывающий уже свершившиеся и всем известные факты.
Существовал в действительности и Дитрих Бонхёффер, и написанные им книги, в том числе Nachfolge, впоследствии переведенная на английский язык под названием «Шипы и тернии апостольского служения» (The Cost of Discipleship). Я честно пыталась проследить жизнь Бонхёффера в те годы шаг за шагом. В бенедиктинский монастырь в Эттале он прибыл только осенью 1940 года; сцена в монастыре с участием Рейчел целиком вымышлена.
Сюжетом продиктован и рассказ о том, как жители Обераммергау якобы заменили традиционный ежегодный Костер короля Людвига, который бывает двадцать четвертого августа, представлением, которое организовали Рейчел и Лия. Мюнхенская государственная библиотека не смогла достоверно установить тот факт, что в 1940 году запрещалось разводить огонь на вершинах гор, однако такое предположение выглядит логичным, поскольку в то время по всей Германии было введено обязательное затемнение.
На представлении «Страстей Христовых» в 1934 году действительно присутствовал Адольф Гитлер. В 1950-м среди зрителей находились генерал Дуайт Эйзенхауэр со своей супругой Мейми.
Ряд персонажей и их действия списаны – с известными поправками – с реальных людей, которые в то время жили в Берлине или Обераммергау. Таковы, например, фрау Бергстром, отец Оберлангер, курат Бауэр, главный лесничий Шраде, администратор Рааб, бургомистр, хозяин магазина, которого арестовали за то, что он отпускал беженцам продукты питания сверх жестких норм. Их прототипы не были связаны с движением Сопротивления, описанным в романе, и все же каждый из этих персонажей служит напоминанием о том, что в годину самых страшных испытаний всегда находятся люди, которые без громких слов сопротивляются угнетению и помогают своим ближним по мере сил и возможностей. Я молю Господа о том, чтобы Он и мне даровал подобную силу духа.
Благослови вас Бог!
Кэти ГолькеОб авторе
Кэти Гольке, дважды лауреат литературной премии «Кристи», является автором высоко оцененных критикой романов «Сестры», «Пообещай мне» (включенного изданием «Лайбрери джорнэл» – Library Journal – в список лучших книг 2012 года), «Уильям Генри – красивое имя», «Я видела его у костра» (одна из лучших книг 2008 года по версии того же журнала). Последний из названных романов был удостоен премии «Книга года», которую присуждает Американская ассоциация христианских писателей.
В свое время Кэти работала школьным библиотекарем, театральным режиссером, возглавляла детские и просветительские учреждения. В свободное от напряженных исторических изысканий время она вместе с мужем и песиком Рейли наслаждается заслуженным отдыхом в северной части штата Виргиния и в собственном доме на берегу реки Лорел-Ран, в поселке Элктон, штат Мэриленд. Посетите сайт автора .
Вопросы для обсуждения
1. Несмотря на то что доктор Крамер, вероятно, начинал свою работу с чистыми побуждениями, создается впечатление, что где-то он перешел границу в своем стремлении излечить болезнь. Как, по-вашему, он осознал, что ступил на скользкую в этическом плане дорожку? Легко ли перейти эту границу и не осознать, что перешел ее? Или же этот поступок – осознанный выбор? Вы могли бы привести примеры из современности?
2. Ученые-евгенисты разделяли людей по родословным. В наши дни общество обычно разделяет всех людей по физической красоте, умениям, умственным способностям. Как, по-вашему, разделяет нас Господь? Прочтите Исход 4: 10–12 и Первую книгу Царств 16: 7. Что в этих строках сказано о критериях Господа?
3. Когда Кристина узнает о планах нацистов избавиться от детей-инвалидов, она умоляет Рейчел спасти ее дочь Амели. Чем, по-вашему, был продиктован выбор Кристины? Как бы вы поступили на ее месте? Как бы вы поступили на месте Рейчел?
4. Рейчел борется с ощущением собственного превосходства и избранности, с внушенной с детства верой в то, что ее жизнь намного важнее и ценнее жизни других людей. Прежде чем она сможет измениться, ей необходимо признать, что это неправда. Назовите ключевые моменты в перерождении Рейчел.
5. Людям присуще сравнивать свою значимость со значимостью других людей. Рейчел воспитали с верой в то, что она значимее и выше остальных, в то время как Лию раздирают страх перед надвигающейся опасностью и комплекс неполноценности. А вам знакомы чувства этих женщин? Как можно изменить мышление и поведение, чтобы яснее понять собственную значимость и ценность жизни других?
6. В 29-й главе, когда Амели впервые оказывается в Обераммергау, бабушка настаивает, чтобы именно Рейчел, а не Лия, заботилась об Амели, даже несмотря на то, что она видит, как Лии хочется помочь малышке. Вам когда-либо приходилось поступать жестоко по отношению к другим, поскольку вы понимали, что в дальнейшем это пойдет им же во благо? Или, возможно, вы оказывались в положении Лии? Как вы нашли выход из положения в обеих ситуациях?
7. Фридрих намеренно подставился под пули, потому что больше не мог проливать кровь невинных. А вам когда-либо приходилось идти на компромисс со своими убеждениями, потому что вы не видели иного пути, кроме как уйти, не подвергая различного рода преследованиям ни себя, ни близких? Как вы поступали?
8. В 19-й главе Лия говорит бабушке: «Я даже боюсь быть счастливой, особенно во время такого безумия и неопределенности – как будто это неправильно. Как будто со мной что-то не так». Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что счастливы во времена великих страданий? Как вы справились с этим чувством вины?
9. У Рейчел талант к игре на сцене. У Лии талант к музыке. Каждая использует свои таланты и умения для высших целей. Вы осознаете природные внутренние и внешние таланты, дарованные вам Богом? И каким образом Господь призывает вас ими воспользоваться? Если да, пожалуйста, опишите подробнее. Если нет, как можно раскрыть в человеке эти таланты?
10. Во время богослужения, которое посещает Джейсон, Дитрих Бонхёффер говорит: «Нам была дарована высшая милость – наш Господь, Иисус Христос, наш Спаситель умер за нас. От каждого из нас требуется такое же самопожертвование. Но мы привыкли к дешевому милосердию – милосердию, которое кажется Божьей милостью, но ничего нам не стоит – и это мерзко!» Совпадает ли его высказывание с вашими представлениями о милосердии? Какое влияние понятие «высшая милость» оказало на Джейсона?
11. Какие препятствия пришлось преодолеть Рейчел, прежде чем она смогла принять правду об Иисусе Христе? А что мешало Ривке? Почему, на ваш взгляд, им понадобились годы, чтобы прийти к такому решению?
12. С каким героем книги вы себя ассоциируете? В чем вы похожи? В чем различия?
13. Несмотря на строгие нацистские законы, ограничивающие свободу Церкви, курат Бауэр помогает евреям и немцам, католикам и протестантам, рискуя собственной жизнью. Он не делает различий между нуждающимися – непопулярная позиция среди немцев, включая и жителей «страстной» деревни. Вам когда-либо приходилось оставить в стороне разногласия для достижения общей цели?
14. В 53-й главе курат Бауэр говорит Рейчел: «Иногда нести свой крест означает делать повседневную работу здесь, а не совершать эффектные, рискованные поступки где-то там». Как это высказывание можно применить к вашей жизни?
15. Как спасение Амели послужило катализатором изменений в Кристине? В Рейчел? В Джейсоне? В Лии?
1
Обераммергау (нем. Oberammergau) – деревня в Германии, в земле Бавария. С 1633 г. в ней каждые десять лет происходит известное на весь мир ежегодное театрализованное представление «Страсти Христовы». Обераммергау славится также своими резчиками по дереву. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Нет (нем.).
(обратно)3
Два расистских (в первую очередь антиеврейских) законодательных акта («основные законы») – «Закон о гражданине Рейха» (нем. Reichsbürgergesetz) и «Закон об охране германской крови и германской чести» (нем. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), провозглашенные по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге.
(обратно)4
Прошу прощения (нем.).
(обратно)5
Джозеф Пулитцер (1847–1911) – американский издатель, журналист, родоначальник желтой прессы.
(обратно)6
Прошу прощения (нем.).
(обратно)7
Болван, олух (нем.).
(обратно)8
Курат (лат. curatus, нем. Kurat) – первоначально – католический священник, которому дано полномочие исповеди; позднее – приходский священник.
(обратно)9
Пожалуйста (нем.).
(обратно)10
Тиргартен (от нем. Tiergarten – «зоосад») – район Берлина в составе административного округа Митте.
(обратно)11
«Моя борьба» – книга, написанная Адольфом Гитлером.
(обратно)12
Аншлюс (нем.) – насильственное включение Австрии в состав фашистской Германии.
(обратно)13
Спасибо (нем.).
(обратно)14
Евреям вход воспрещен (нем.).
(обратно)15
Здесь аллюзия на сказку Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». (Примеч. ред.)
(обратно)16
Запрещено (нем.).
(обратно)17
Моя мать (нем.).
(обратно)18
Бензин (нем.).
(обратно)19
«В период с 1 сентября по 26 октября 1939 года, пока территория Польши находилась под управлением немецкого военного командования, военнослужащие вермахта совершили 311 массовых казней польских военнослужащих и гражданских лиц». (Юбершер Г. Военная элита Третьего рейха / Герд Юбершер. – Варшава: Беллона, 2004. – С. 41.) (Примеч. ред.)
(обратно)20
Имеется в виду Институт биологии Общества кайзера Вильгельма – организация, с 1911 по 1948 г. объединявшая научно-исследовательские институты Германии.
(обратно)21
Исповедальная церковь во главе с пастором М. Нимёллером в мае 1934 года на Барменском синоде выступила против распространения национал-социалистического мировоззрения и вмешательства фюрера в церковные дела.
(обратно)22
Джулиус Генри «Граучо» Маркс (1890–1977) – американский актер, участник комик-труппы, известной как «Братья Маркс».
(обратно)23
Да (нем.).
(обратно)24
Хрустальная ночь – погром в ночь на 9 ноября 1938 года, послуживший началом массового уничтожения евреев в фашистской Германии.
(обратно)25
Моя фрау (нем.).
(обратно)26
Нет, спасибо (нем.).
(обратно)27
Мой господин, сударь (нем.).
(обратно)28
Еврей (нем.).
(обратно)29
Моя мать (нем.).
(обратно)30
Ледерхозен – национальная одежда баварцев и тирольцев – короткие кожаные штаны.
(обратно)31
«Правопреемство» (нем.).
(обратно)32
Домохозяйка (нем.).
(обратно)33
Доброе утро (нем.).
(обратно)34
Мой отец (нем.).
(обратно)35
Ханука – еврейский праздник.
(обратно)36
Числа [6: 24–26].
(обратно)37
Большое спасибо (нем.).
(обратно)38
Пожалуйста (нем.).
(обратно)39
«Пивной путч» (известен также как «путч Гитлера и Людендорфа») – неудачная попытка захвата государственной власти, предпринятая Национал-социалистической рабочей партией во главе с Гитлером и генералом Людендорфом 9 ноября 1923 года в Мюнхене.
(обратно)40
Роттенфюрер – звание рядового состава в СС и СА, существовавшее с 1932 по 1945 г.
(обратно)41
В 1939 году Шелленбергу было 29 лет, то есть они со Шликом были практически ровесниками. Но автор изобразил его зрелым, видавшим виды офицером. К тому же в 1939 году, согласно историческим справкам, Шелленберг носил звание штурмбаннфюрера, то есть они со Шликом были в одном звании, хотя и на разных должностях.
(обратно)42
Stille Nacht – часовня, получившая название от рождественского христианского гимна «Тихая ночь, святая ночь».
(обратно)43
Перевод Ю. Ю. Поляковой.
(обратно)44
Гауптштурмфюрер – капитан войск СС в фашистской Германии.
(обратно)45
Адонай (буквально «Наш Господь») – имя Бога, упоминаемое в Торе.
(обратно)46
Церковь (нем.).
(обратно)47
Линия Мажино – система французских укреплений на границе с Германией, от Бельфора до Лонгюйона. Была построена в 1929–1934 гг. и совершенствовалась вплоть до 1940 года.
(обратно)48
«Германия превыше всего» – официальный гимн гитлеровской Германии.
(обратно)49
Приор – настоятель небольшого католического монастыря.
(обратно)50
Строка из гимна кальвинистского проповедника Джона Уингрова (1720–1793).
(обратно)51
Моя любимая (нем).
(обратно)52
Раз, два, три… (нем.)
(обратно)53
Людвиг II (1845–1886) – король Баварии с 1864 года.
(обратно)54
Руфь [1: 16].
(обратно)55
Традиционное приветствие нацистов: «Слава Гитлеру!» – «Победе слава!».
(обратно)56
Дураки (нем.).
(обратно)57
Вот и славно (нем.).
(обратно)58
Стой! (нем.)
(обратно)59
После поражения Франции в июне 1940 года северная часть страны и ее Атлантическое побережье были сразу оккупированы немецкими войсками. В южной части управление перешло к режиму Виши. Эта часть подверглась оккупации в конце осени 1942 года.
(обратно)60
Пер. В. Зоргенфрея.
(обратно)61
Выражение принадлежит английскому публицисту Эдмунду Берку. (Примеч. ред.)
(обратно)

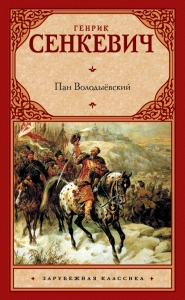




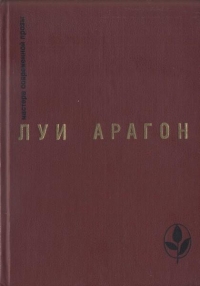
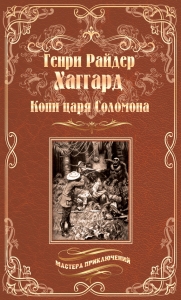
Комментарии к книге «Спасая Амели», Кэти Гольке
Всего 0 комментариев