Сердце Бонивура Исторический роман о событиях гражданской войны на Дальнем Востоке
Вот за эту землю, на которой я стою сейчас, мы умрем, но не отдадим ее никому!
Сергей ЛазоЖене и другу моему Г. И. Черной
Оглавление
Пролог. Крейсер «Ивами»
Часть первая. Орлиное гнездо
Глава 1. Русский Остров
Глава 2. Случай в Портовом переулке
Глава 3. Напали на след
Глава 4. Незнакомые товарищи
Глава 5. Рабочая улица
Глава 6. Мышеловка
Глава 7. Перед схваткой
Глава 8. Накануне
Глава 9. Крещение
Глава 10. Пусть сильнее грянет буря!
Часть вторая. Накануне
Глава 11. Август
Глава 12. Рождение диктатора
Глава 13. Земская рать
Глава 14. Таежные хозяева
Глава 15. Старые и новые друзья
Глава 16. Отовсюду новости
Глава 17. Затишье перед бурей
Глава 18. Девушка с Первой Речки
Глава 19. Великое дело
Глава 20. Начало конца
Часть третья. Идущие вперед
Глава 21. Село
Глава 22. Иуда
Глава 23. Партизан
Глава 24. Налет
Глава 25. Настенька
Глава 26. Испытание
Глава 27. Крестьяне
Глава 28. Сердце Бонивура
Глава 29. Идущие вперед
Глава 30. Дорога на океан
Глава 31. Осенний ветер
Эпилог. Бухта Золотой Рог
Пролог Крейсер «Ивами»
1
Занятия кончились в два часа.
Виталий Бонивур собрал тетради и книги, связав их ремешком. Возле гардеробной шумела толпа гимназистов. Он подождал, пока уменьшилась теснота, надел форменную шинель и вышел на улицу.
В это время дня на Китайской улице было, как всегда, людно. Хлопали двери магазинов. Обгоняя извозчичьи пролетки, мчались грузовые и легковые автомобили, резкими сигналами предупреждая переходивших улицу людей. Сотрясая мостовую, под виадуком прошел, расстелив над ним дымное облако, дачный поезд. Холодный январский ветер доносил серебристый перезвон склянок с кораблей, стоявших в порту и на рейде.
Виталий шел на Светланскую привычным путем, поглядывая по сторонам. Оживленная улица пестрела вывесками, то взнесенными под самые крыши, то облепившими двери мастерских, контор, магазинов, лавочек. Каждый, кто имел «дело», заявлял о себе аршинными буквами на фасаде дома или солидной медной резной доской, блестевшей на зимнем солнце возле дверей.
«Петров и К°. Шляпы», «Иванов и сын. Конфекцион». «Иоганн Штамм. Морской агент». «Том Смайлс. Уголь, кокс, брикеты». А дальше — «Контора Кобаяси», «Фото-Ниппон», «Татекава и Асадо», «Торговый дом. Ничиро» японские имена заполняли улицу. Парикмахеры, часовщики, комиссионеры, торговцы всем, чем можно было торговать, банкиры, судовладельцы, промышленники, владельцы рыбалок, лесосек, продавцы! Очень много японцев было во Владивостоке… Вот направо почти весь квартал заняли две огромные вывески: «Иокогама Спеши-банк» и «Чосен-банк». У японских «негоциантов» как они любили себя называть — и информация была лучше, и деньги оказывались у них именно тогда, когда русский купец ощущал в них затруднение. Японские предприятия росли одно за другим, как грибы после дождя; особенно в последний год их расплодилось великое множество…
Виталий пошевелил в кармане рукой и нащупал квитанцию на отданные в починку часы. Мать просила зайти к часовщику.
Опять потянулись вывески: «Карасава, Сарадэ — прачки», «Суэцугу. Дамские прически. Завивка», «Исидо. Починка часов всех систем и фирм»…
Виталий толкнул небольшую дверь. Звякнул колокольчик, укрепленный над входом. В мастерской сверкали металлические детали часов под стеклянными колпаками на столах, тикали вразнобой всевозможные часы, висевшие на стенах и стоявшие на полках. Китаец-слуга сказал Виталию:
— Чего надо? Исидо нету.
— Я зашел за часами, сегодня — срок.
— Приходи другой раза! — сказал китаец. — Сегодня работай нету! Японски люди на бухты ходи. Тама японса парохода приходи, большой! Пушка, солдата много… Такой пушка десять раза стреляй — Владивостока сразу фангули, сразу пропадай… Ну, тебе домой ходи! Моя буду закрывай!
Выйдя из мастерской, Виталий заметил на дверях записку. Печатными буквами на бумажке было выведено:
«ГГ. КЛИЕНТОВ ПРОСЯТ СЕГОДНЯ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ. С ПОЧТЕНИЕМ ИОСИМОТО ИСИДО».
На углу Виталий столкнулся с одноклассником — Ромкой Плетневым.
Лицо Ромки раскраснелось, волосы выбились из-под форменной, набекрень, фуражки, черные глаза искрились. Увидев Виталия, он возбужденно закричал:
— На Золотой Рог пошли, Виталька!
— Чего?
Ромка посмотрел на Бонивура с видом превосходства.
— Так ты ничего не знаешь? Весь город уже на ногах. Видишь, валом валят на пристань! А ты ничего не знаешь! Прямо смешно даже…
— Да что случилось-то? — оборвал его Виталий.
— Пришел японский крейсер.
— Ну?!
— Вот тебе и «ну»! Стоит на рейде. На пристани народу видимо-невидимо! Идем, посмотришь! Я уже два раза был.
2
Мальчики спустились по переулку, ведшему к Торговому порту. Маленький переулок был забит людьми. На пирсах в порту толпился народ. Глухой гул говора носился в воздухе. Тысячи людей расположились на причалах. Даже на обшивке пирса примостились люди.
Виталий взглянул туда, куда были устремлены взоры всех собравшихся.
На рейде стоял крейсер.
Сизая дымка морозного январского дня затянула очертания Чуркина мыса; поэтому так четко виден был чужой военный корабль, пришедший неведомо зачем. Его стройные обводы были стремительны и свидетельствовали о быстроте хода. Покрытый серо-голубой краской, корабль казался вылитым из одного куска металла. Орудийные башни выставили длинные клыки морских орудий, точно оскалясь на Владивосток. Исхлестанные ветрами и волнами борта казались обрызганными кровью: краска местами облупилась, обнажив суриковый грунт. Легкий парок курился откуда-то снизу, словно стальное чудище дышало. Ветер шевелил на гафеле флаг, развернул его, показав на минуту красный круг солнца с хвостами расходящихся лучей.
— Видал? — спросил Виталия восхищенный Ромка. — Пушки какие, а?! Разок даст — и ваших нет.
Что-то недоброе было в этом флаге и в молчании корабля, направившего орудия на город. Зачем?..
Плетнев не унимался:
— Вот так пушечки, Виталя!
Какой-то пожилой усатый человек в кепке, стоявший рядом с подростками, неприязненно обернулся к Ромке и сердито проговорил:
— Цыц ты, щенок! Чего растявкался?! Пушки, пушки… Видали мы всякие… Чему радуешься-то?..
Бедно одетая женщина, в своем демисезонном потрепаном пальто, озябшая до синевы, сказала вполголоса:
— А чего им не радоваться, богатым-то? Поди, им от японцев худа не будет. Вишь, разоделся, будто на праздник!
Ромка был в новой шинели, ладно сидевшей на нем Лаковый козырек новенькой фуражки блестел. Светлые металлические пуговицы были начищены до сияния. Отец Ромки был одним из воротил Хлебной биржи и денег на сына не жалел. Новенькие штиблеты Ромки, крахмальный воротничок, подшитый к воротнику гимнастерки, — все напоминало Виталию о том, что сам он одет очень плохо: потертая шинель, бумажные, стиранные не раз брюки, изношенные ботинки.
Ромка, вспыхнув от слов, сказанных женщиной, ответил:
— Ну и что ж, что вырядился? Вы разбогатейте и одевайтесь, как хотите!
Немолодой грузчик отозвался:
— С вами, гадами, разбогатеешь! Век работай, а на гроб денег не накопишь.
Ромка не остался бы в долгу, но в этот момент позади них раздался возглас:
— Дяденька, дайте пройти… Там наши ребята стоят… Дяденька!
Кто-то пробирался через толпу, отчаянно работая локтями и плечами. Виталий с Романом увидели взлохмаченные волосы, выбившиеся из-под сбитой на затылок шапки, и потное лицо одноклассника Бонивура — Семы Ильченко. Очутившись подле ребят, Сема воскликнул:
— Вы уже тут?! Вот здорово!.. А я бежал, бежал… Только за Нинкой заскочил — и сюда… А народу-у! Ишь он какой! — уставился Семен на крейсер. — Вот здоровущий!
— А Нинка где? — спросил Виталий.
Семен обернулся и закричал:
— Нина-а-а! Проталкивайся сюда! Тут все видно-о!
Откуда-то сверху, из-за толпы, донесся тонкий голосок:
— А я ту-ут! Здесь хорошо, идите сюда.
На огромном штабеле мешков, затянутых брезентом, стояла девочка. Ветер распахнул ее пальто, пепельные волосы развевались.
— Вот отчаянная! — сказал Ромка, который ни за что не полез бы на штабель.
— Нинка-то? — сказал Семен. — Нинка — она отчаянная, что мальчишка.
Неподалеку стояли японцы. Среди них Виталий увидел Исидо. Японцы оживленно разговаривали между собой, тыча пальцами в сторону крейсера, смеялись, обнажая крупные зубы. Их веселое оживление подчеркивало угрюмую настороженность собравшихся в порту.
Сквозь толпу протискивался худощавый японец.
Его окликнула полная женщина в каракулевом саке:
— Жан, Жан! Подите сюда!
Японец остановился, поклонившись женщине:
— Конници-ва, Иванова-сан! Здравствуйте!
— Я ждала вас, мне сегодня надо завивку сделать, Жан! — сказала женщина.
Парикмахер учтиво улыбнулся и с сожалением покачал головой.
— Сегодня нет, Иванова-сан. Во Владивосток прибыл императорский крейсер… Оцень радости много. Сегодня не можно работать! — Японец торжественно указал глазами на рейд.
— Зачем крейсер-то пришел? — спросил парикмахера пожилой усатый человек в кепке.
Японец напыжился, выпрямился и важно проговорил:
— Защищать имущество и жизнь японских граждан.
— Смешной вы, Жан! — улыбнулась женщина. — От кого же вас надо защищать?
Парикмахер отвел глаза в сторону. Какая-то напряженность проглядывала во всех его движениях. Он снисходительно усмехнулся:
— Во время таких беспорядков, которые есть в России, мадам, — важно сказал парикмахер, — японский император думает о своих детях, которые живут в этой стране! — Словно спохватившись, он вдруг переменил тон и произнес будничным голосом: — Мы маленькие люди, Иванова-сан, нам ничего не известно!
Дама опять обратилась к нему:
— Скажите, Жан, что там написано?
Крючковатые иероглифы чернели по борту крейсера.
— «И-ва-ми»! — прочел парикмахер вслух. — «Ивами» называется этот крейсер. — Какой-то огонек зажегся опять в глазах парикмахера. Он не мог равнодушно смотреть на этот корабль, стоявший на рейде, на флаг с красным кругом. Он добавил: — У нашего императора очень большой флот!..
— Жан! — сказала дама, усмехнувшись. — Да вам-то какое дело до этого? Вы же куафер, а не моряк!
— Да, мадам, — ответил парикмахер и, раскланявшись, присоединился к своим соотечественникам, направлявшимся дальше вдоль пристани.
— Ишь, занесся! — промолвил рабочий, прислушивавшийся к этому разговору, провожая японцев взглядом. — Флота у ихнего императора много, а!..
3
Японцы сгрудились у центрального причала. Они шумели, приветственно махали шляпами, носовыми платками, а кое-кто маленькими национальными флажками. Потом японцы задвигались, пропуская кого-то, и закричали враз:
— Банзай!
— Чего это они заколготились? — спросил рабочий, стоявший возле ребят, с любопытством вглядываясь в происходящее.
На причал вышла группа японцев. Один из них был в циллиндре, просторном черном пальто с пелериной и лаковых штиблетах.
— Японский консул! — сказал рабочий.
Консул заложил руки в белых перчатках за спину и, блеснув выпуклыми стеклами роговых очков, сказал что-то одному из пришедших с ним; тот быстро развернул какой-то свиток, что держал в руках, — это оказался японский флаг, — и принялся размахивать им, привлекая внимание крейсера.
— Сигналит! — сказали в толпе.
— Кого-то еще ждут, ишь, место расчищают!
И верно, приехавшие с консулом японцы принялись поспешно оттеснять толпу в сторону, так что теперь консул со своими подчиненными был на виду у всех.
Засигналили и на «Ивами».
Консул глядел на крейсер не мигая — весь воплощение важности, — не шевелясь, не поворачивая головы, подняв вверх свое изжелта-смуглое лицо с редкими седоватыми усами.
От борта «Ивами» отвалил маленький белый посыльный катер. На палубе его тесной кучкой стояли офицеры.
Со Светланской послышались автомобильные гудки. Несколько машин с разноцветными флажками на радиаторах спускались к порту. Люди шарахнулись в сторону, расступившись коридором. Машины остановились у каменных плит причала, где находился японский консул. Ветер с залива трепал флажки, разворачивая их и словно нарочно показывая: американский, английский, французский, бельгийский…
— Иностранцы! — пронеслось в толпе.
Приехавшие вышли из машин, и на причале тотчас же запестрели цветные нашивки, заблестели галуны и пуговицы военных, засверкали белоснежные крахмальные воротнички штатских.
— Весь консульский корпус! — проговорил какой-то чиновник, жадными глазами разглядывавший все происходящее.
— А чего они приехали? — спросила женщина в демисезонном пальто. Поди, попрут сейчас японцев-то!
— Держи карман шире! — отозвался рабочий. — Все они одна печка-лавочка!.. Гляди, мало что не целуются!
Блестящей толпою иностранные консулы подошли к японскому. Улыбаясь, они здоровались, жали руки, раскланивались. Оживилось и каменное лицо японского консула, он тоже заулыбался и приподнял цилиндр, обнажив седоватую стриженную ежиком голову, которая делала его похожим более на старого военного, чем на дипломата.
Между тем белый катер с «Ивами» подошел к причалу. Японские моряки гуськом прошли с катера по шаткому трапу на землю. Консул важно и церемонно приветствовал моряков. Толпа в этот момент затихла, и гортанные звуки его речи были слышны далеко. Хотя никто из русских не понимал, о чем говорит консул, но рабочий, стоявший возле ребят, вслух сказал:
— Здравствуйте, значит! Долго ждали вас!
Консул обнял моряка, видимо командира корабля, и поцеловал его. Тотчас же подошли иностранцы и стали здороваться с командиром. Японцы, собравшиеся на причале, закричали «банзай», и опять вокруг заплескались платки и флажки… Шум продолжался все время, пока приехавшие моряки рассаживались по автомашинам. Одна за другой машины, ревя гудками, помчались в город. Вслед за автомобилями радостной толпой повалили из порта японцы, оживленно разговаривая. Впрочем, Виталий заметил в толпе и другую группу японцев, по одежде, видимо, рабочих порта, устало и невесело наблюдавших общее оживление. Бонивур перехватил взор одного пожилого в хантэ — рабочей одежде. Этот взор был серьезен, тревожен. Господа в цилиндрах и господа в мундирах, очевидно, одинаково были чужды этому японцу, он не ждал от них добра, его взгляд исподлобья говорил об этом красноречиво…
Глядя на цепочку машин, выезжавших на Светланскую, русский рабочий сплюнул и сказал сердито:
— Снюхались, гады! Ворон ворону глаз не выклюет!
Женщина в демисезонном тихо добавила:
— Смотри-ка, ведут себя будто дома!
4
Глухой, нарастающий гул донесся до порта с улицы. Густой поток людей тек от мастерских военного порта по Светланской к вокзалу. Красные транспаранты с надписями и плакаты колыхались над головами.
— Демонстрация-то уже началась, — сказал рабочий. — А ну, товарищи, дайте пройти! Может, догоню своих… На митинг бы не опоздать.
Но не один он устремился на Светланскую. Набережная стала пустеть.
Вслед за взрослыми кинулись вверх по переулку и Виталий со своими товарищами.
Со времен 1905 года город не видел такой многолюдной демонстрации. Люди шли и шли, а конца колонны не было видно. Поднялся весь рабочий Владивосток. Те, кто были в порту, окликали своих и втискивались в ряды идущих, чтобы занять свое место… И Китайская была полным-полна — это пришли первореченцы.
Виталий услышал голос:
— Витюнька! Иди сюда!
Мимо проходили телеграфисты, почтовики. Вот в третьем ряду среди незнакомых лиц мелькнул пуховый платок его сестры. Тотчас же крайний в ряду мужчина сделал Виталию знак рукой: давай, мол, сюда!
Виталий перебежал с тротуара на мостовую, Ромка Плетнев растерянно крикнул ему:
— Куда же ты?
Виталий махнул рукой:
— А я с Лидой!
Кто-то обнял его. Справа оказалась Лида, слева — незнакомый товарищ. Он-то и обнял Виталия, и Виталий зашагал вместе со всеми, еще не зная куда.
— В ногу, в ногу! — сказали ему слева. — Уж если с народом идти, так обязательно в ногу.
Лида рассмеялась:
— Пусть привыкает!
Виталий немного осмотрелся и спросил Лиду, что это за демонстрация.
— А ты в порту был? — спросила Лида.
— Был, — ответил Виталий.
— Японский крейсер тебе понравился?
— Не совсем! — сказал Виталий. — Лида, а зачем он пришел сюда?
— Вот и нам он не понравился! — без улыбки ответила Лида. — И мы хотим спросить, зачем он пришел сюда.
Над самой головой Виталия колыхался огромный транспарант:
«Да здравствует Советская Россия от Балтики до Тихого океана!»
Октябрьская революция положила конец капитализму в России.
Через два месяца после победы Октября в Петрограде и Москве власть Советов утвердилась и на Дальнем Востоке.
Но молодой республике угрожала беда.
Бывшие союзники России в войне с Германией — империалисты Антанты — с беспокойством взирали на события, развивавшиеся в России.
Война на Западе еще продолжалась. Но народы уже устали от кровопролитной бойни. Империалисты опасались, что заключение Брестского мира может облегчить положение Германии, затруднив продвижение войск Антанты и усилив стремление к миру на всех фронтах. Укрепление советской власти в России могло послужить заразительным примером для рабочих и солдат Запада: охваченные глубоким недовольством в связи с затянувшейся войной, они могли повернуть штыки против своих господ и угнетателей. Империалисты испытывали величайшую тревогу.
Вошедший 12 января 1918 года в порт Владивосток японский крейсер «Ивами» показал молодой Советской республике, что буржуазия за границей враждебно следит за развивающимися в России событиями и исподволь к чему-то готовится…
5
Дни шли за днями, то похожие, то не похожие друг на друга.
Интерес приморцев к «Ивами», казалось, остыл: только мальчишки по-прежнему бегали в порт смотреть на чужой крейсер.
На «Ивами» же шла своя жизнь. Каждый час отбивали склянки. Утром проводили церемонию поднятия флага, и резкие звуки японского горна пугали галок, сидевших на коньках портовых пакгаузов. Вечером флаг опускался, происходила поверка, — ровной полоской выстраивались матросы на палубе, и по рядам их прокатывался суховатый и резкий счет:
— Ици!
— Ни!
— Сан!
— Си!
— Го!
Кроме матросов, на крейсере были и пехотинцы, то и дело появлявшиеся на палубе.
Вскоре рядом с крейсером стало транспортное судно. Стрелы его лебедок лежали недвижно в гнездах, хотя вся палуба судна была заполнена грузом, плотно обтянутым брезентом. На транспорте развевался военный флаг. В солнечные дни открывались люки его трюмов. Можно было различить, что внизу, в трюмах, копошатся солдаты. И крейсер и транспортное судно были набиты японскими солдатами.
Однажды на траверзе мыса Поворотного, минуя сигналы заградителей, показался еще один военный корабль с приданными посыльными судами. Это был английский крейсер «Суффольк». Англичане не захотели стоять на рейде. По международному коду они вызвали капитана порта и потребовали освободить для них два причала. Пришвартовались они двумя концами, устраиваясь надолго. К бокам «Суффолька» прижались, точно щенята к суке, посыльные суда. Заполоскались по ветру красно-бело-синие флаги, пересеченные двумя крестами: косым — андреевским и прямым — георгиевским.
Рядом с английским крейсером стал американский — «Нью-Орлеан». Зарябили в глазах звезды и полосы американского флага. Американские матросы быстро освоились с незнакомым портом: то в одном, то в другом ресторане они заводили драки и хулиганили на улицах. Их мог арестовать только свой патруль. И американские патрули стали расхаживать по улицам Владивостока, удивляя людей длинноствольными кольтами, болтавшимися у колена. Что бы ни натворили американцы, все покрывал их флаг.
Увидели приморцы и других иностранных моряков. Красно-бело-зеленый флаг с гербом Савойской династии затрепыхался на крейсере «Витторе Эммануил». Певучая речь итальянцев зазвучала рядом с картавой скороговоркой французов с крейсера «Жанна д'Арк» под сине-бело-красным флагом… Притащился румынский миноносец, за ним — греческий.
Не случайность свела все эти корабли под разными флагами в советский порт на Тихом океане. Разноплеменные матросы и солдаты, появившиеся во Владивостоке, были явным свидетельством заговора капиталистов против Советов.
Стальные утюги тяжело легли на сумрачную гладь Золотого Рога. Они не двигались. Но тяжесть их, казалось, ложилась и на порт, и на заводы, и на фабрики, и на депо Приморья. Казалось, что тени от их мачт и броневых башен, постепенно удлиняясь, покрывают весь Дальний Восток, простираясь и на Сибирь.
…В хлебных лавках появились очереди. Люди роптали, стоя в очередях, и названия кораблей произносили здесь с ненавистью и проклятиями.
Однажды сестра Виталия Лида вернулась домой без хлеба.
— Взбесились все булочники, — сказала она устало: — вчера хлеб стоил двадцать пять копеек фунт, а сегодня — уже пятьдесят. А у меня, как на грех, получка задержалась…
— Ну чего же волноваться? — сказала мать, посмотрев на нее. — Сегодня не купили — завтра купим…
— Завтра может стать еще дороже… Мерзавцы купцы обнаглели. Послушала бы ты, как они с простым народом разговаривать стали… Если цены поднимутся, не знаю, как мы проживем…
Виталий выглянул из своей комнаты. Увидел слезы на глазах сестры.
— Надо и мне идти работать! — сказал он.
— Вот еще чего не хватало! — отозвалась Лида. — Твое дело — гимназию окончить, Виталька. Нечего срываться. Кончишь учиться, тогда и будешь работать… А мне товарищи помогут, если что…
— Какие товарищи?
— Много знать будешь, скоро состаришься! — усмехнулась Лида, обняв его худенькие плечи. — Проживем, братишка, как-нибудь.
Благоволивший к Лиде булочник, у которого она брала хлеб, сказал, таинственно подмигнув, что скоро не будет муки.
А через три дня газета «Красное знамя» сообщила, что по требованию Владивостокского консульского корпуса объявлена экономическая блокада Советского Приморья. Двести тысяч пудов пшеницы, закупленные Советами в Маньчжурии и приготовленные к отправке в Приморье, остались в Харбине, у Тифонтая. На пшеницу наложили эмбарго — запрет вывоза.
Жить стало трудно, и Виталий настоял на своем. Он брал переписку; у него был хороший почерк. Зарабатывал на этом рублей пятнадцать — двадцать в месяц. Клеил конверты и пакеты для соседней бакалейной лавчонки, получая по копейке за четыре штуки.
6
Апрель начался проливными дождями. Слякоть покрывала улицы города. Сырость проникала всюду. Виталий мерз в своей старенькой шинельке. От дома до гимназии он не ходил, а бегал, чтобы согреться.
Но в этот день на пути в гимназию, против обыкновения, он задержался. На Китайской улице Виталий заметил необычное скопление народа. Прохожие останавливались. Толпа росла. Внимание любопытных привлекали открытые двери мастерской Исидо.
— Что случилось? — спросил Виталий рабочего в куртке.
— Убили двух японцев.
— Как убили? — испугался Виталий. — Исидо?
— Да, Исидо, черт их возьми совсем! — сердито сказал рабочий.
— Что же вы ругаетесь? — удивился Виталий.
— Молод ты еще, гимназист, — ответил рабочий. — Дорого они нам обойдутся.
Виталий так и не понял, что хотел этим сказать собеседник. В этот момент толпа зашевелилась. У дверей мастерской произошло движение, и оттуда стали выходить милицейские и какие-то люди в штатском.
— Разойдитесь, — лениво сказал один из них, окинув равнодушным взглядом любопытных.
— Попрошу очистить тротуар! — крикнул другой.
Из мастерской вынесли накрытые простынями трупы. Голая нога одного из убитых высунулась из-под простыни. Кто-то из толпы с жалостливой гримасой откинул простыню с головы второго трупа. Виталий увидел мертвое лицо, искаженное предсмертным страданием, и седоватые волосы того китайца-слуги, с которым он разговаривал в памятный день прихода во Владивосток «Ивами».
Резко заквакав клаксоном, к толпе подъехал автомобиль. Убитых погрузили на машину. Шофер опять стал сигналить, и автомобиль укатил. Должностные лица опечатали двери мастерской.
Толпа долго не расходилась, разглядывая разбитое выстрелом окно, судача на все лады. Говорили, что под утро дворник обратил внимание на то, что парадная дверь мастерской неплотно прикрыта и ставня в одном окне расщеплена. Войдя в помещение, он обнаружил, что и владелец мастерской и его слуга убиты…
Один из тех штатских, что были внутри здания вместе с милицией, подошел к соседнему помещению. Это была парикмахерская с вывеской: «Суэцугу. Дамские прически. Завивка».
— Надо спросить, — сказал он второму, — может, слыхал что-нибудь…
Он постучал в закрытую дверь. На стук никто не отозвался. Зеркальные окна парикмахерской были закрыты изнутри ставнями. Стучавшие попытались было рассмотреть что-нибудь в щели ставни, но безуспешно. Толстые стекла отражали лишь их напряженные лица. Восковые парикмахерские манекены с мертвенным равнодушием смотрели в пространство.
— Спит, наверно! — сказал кто-то.
Дворник, обнаруживший убитых и перепугавшийся до полусмерти, полагая, что теперь его «затаскают», торопливо сказал:
— Нет, не должен бы спать. Он, Жан-то, рано поднимается.
— Ушел, видно.
— С черного хода надо постучать.
— Я сейчас, — сказал дворник и, ухватившись одной рукой за свой длинный белый фартук, как женщина за юбку, мелкими шажками засеменил к воротам.
Вскоре он вернулся и развел руками:
— Нету его, граждане… Замок висит. И не знаю, когда ушел. Ночью-то у него допоздна свет горел.
— Что ты за дворник! — сказал штатский. — Двоих у тебя убили, один жилец пропал, а ты ничего не видел и не слышал. Шляпа ты!
— Да господи, твоя воля, — развел руками дворник, — я-то один как есть, а у меня, почитай, десять квартер, да пять магазинов, да эти двое… Рази ж я могу всех усмотреть, кто куда пошел да кто к кому пришел. Ночью-то сторож должон глядеть, чтобы все было как след…
— А сторож что говорит? — обратился к дворнику кто-то из толпы.
Дворник смутился.
— Да я же и сторож.
В толпе послышался смешок.
— Ну вот что, отец! — обратился к дворнику штатский. — Как вернется Суэцугу, ты попроси его зайти к нам.
— Как же! Обязательно скажу, что, мол, требовали.
— Не требовали, а просили! — поправил его штатский и, сплюнув окурок, в сопровождении второго штатского медленно пошел прочь.
Парикмахерская Суэцугу не открылась в этот день, не вернулся Суэцугу и в последующие дни…
7
Вечером у Лиды собрались ее товарищи. Виталий, заглянув в комнату, услышал, что речь шла о событии, о котором говорил весь город, — об убийстве Исидо. Петр, высокий, беловолосый, сумрачного вида техник телеграфа, говорил хмуро:
— Не нравится мне это. Ох, как не нравится, товарищи!
— А я не пойму, чего ты волнуешься? Из-за каких-то японцев! — сказала Анна, красивая девушка с медленным взглядом мечтательных карих глаз и пышным облаком волос.
Петр посмотрел на нее.
— Да это ведь провокация, Анна, как ты не понимаешь?! Месяц назад Совнарком заключил Брест-Литовский мир… Америка, Англия, Франция и Япония все еще воюют. Может быть, два шага отделяют нас от того, что они станут теперь нашими врагами. Советы делают все для того, чтобы не дать кому бы то ни было повода для вмешательства в наши дела. А тут вдруг такой удобный случай!..
— Ну что они, из-за двух японцев войска введут? — Анна пожала плечами.
— Я не бог, — сказал Петр, — откуда мне знать. Но ожидать от капиталистов хорошего нам не приходится! Что ты скажешь? — спросил он, заметив Виталия.
Виталий рассказал о том, что он видел у дверей Исидо, упомянув и о разговоре с рабочим.
Петр прищурился.
— Этот дядька с головой… Вот, Виталий, какое дело: из-за этих убитых, как говорит и твоя разумная сестрица, японцы могут ввести во Владивосток свои войска. А мы, естественно, будем этому сопротивляться… Значит, война, — жестокая, неравная… Запомним мы этот день!
— Ну, Петр, ты уж панихиду запел! — недовольно сказала Анна. — Чем это мы воевать будем? Лишь два месяца назад создана Красная Армия… Народу есть нечего… А ведь если война, то нас тут в два счета прихлопнут: до Москвы десять тысяч верст.
Петр посмотрел на Анну.
— Помирать, конечно, рано… Москва далеко? Но ведь и тут люди есть, найдется кому драться. Армия наша молодая — это верно. Голодновато? Тоже верно. Но это все ничего. Нам есть за что драться. А когда есть за что воевать, один наш человек десятерых стоит!
8
Позавтракав, Виталий поспешил в гимназию. Перед зданием толпились гимназисты и преподаватели. У ворот стояли два низкорослых японских солдата в хаки с узенькими поперечными погончиками на плечах. Широко расставив толстые ноги в обмотках, они скрестили винтовки с привинченными ножевыми штыками, загораживая вход.
Старичок, директор гимназии, пришедший позже остальных, спросил о причине скопления толпы. Ему ответили:
— Да вот, Георгий Степанович, японцы не пускают!
— Какие японцы? Что за чепуху вы мелете, господа? — вскипел директор.
Однако, разглядев часовых, он поджал губы.
— Надо разъяснить им, что это учебное заведение. Ведь они культурные люди, они поймут.
— Толковали им уже. Ничего не понимают.
— Пустите меня. Вы просто не знаете, как за дело взяться.
Директор решительно направился к часовым. Поправив дрожащей рукой пенсне на переносице, он с достоинством обратился к солдату:
— Послушайте, как вас там… милейший! Здесь происходит какое-то недоразумение. Это учебное заведение. Гимназия! Понимаете?
Солдаты равнодушно смотрели мимо него.
— Нам надо пройти в классы, господа! Понимаете? Чтобы изучать гуманитарные, так сказать, науки, учить вот этих молодых людей! — директор широко развел руками, указывая на гимназистов. — Понимаете? Альфа, бета, гамма. А, бе, це, де, е, эф… — Он сделал вид, что перелистывает книгу.
Деревянное лицо одного часового оживилось. Он засмеялся. Директор обрадованно сказал:
— Ну вот, давно бы так! Я же знал, что мы договоримся. Прошу, господа преподаватели! — И он направился в ворота.
Лязгнули штыки. Солдат резко сказал:
— Вакаримасен! (Не понимаю).
— Но мы же договорились, — жалобно сказал директор, отступая назад.
Солдаты, точно по команде, взяли ружья наперевес. Один из солдат сделал выпад-укол и крикнул:
— Та-а-х! Борсевико!
Гимназисты и учителя бросились в стороны.
— Господи! Нелюди какие-то! И откуда они на нашу голову взялись? горестно вздохнула учительница французского языка. — С неба, что ли, свалились?
— Ну, положим, не с неба! — ответили ей.
Растерявшийся директор уронил пенсне.
— Ума не приложу, что это значит, — бормотал он, поднимая пенсне с мостовой.
В это время от Светланской послышался мерный топот. Затрещали барабаны, и раздались звуки горнов, исполнявших какую-то короткую воинственную мелодию. Потом барабаны и горны смолкли, и сильнее стал слышен мерный шаг идущих. В окнах домов появились взволнованные, любопытствующие лица горожан. Из лавок, магазинов и мастерских выскакивали люди.
По улице шел батальон японских пехотинцев. Все они были одеты тепло, по-зимнему, в высоких меховых шапках, в тулупчиках, крытых хаки. Четыре трубача и четыре барабанщика через каждые двести шагов повторяли ту же мелодию. Впереди шагал офицер. Важно, не глядя по сторонам, весь напружиненный, он вышагивал по мостовой. На лице его была написана значительность минуты, сознание своей силы и уверенности в себе. Когда колонна поравнялась с подъездом торгового дома «Ничиро», японцы, высыпавшие на улицу, троекратно прокричали «банзай». Офицер, выхватив саблю из блестящих ножен, отсалютовал.
— Что же это делается? Господи! — воскликнула учительница французского языка, всплеснув руками. Потом она всмотрелась в офицера, который показался ей знакомым, и пробормотала: — Ничего не понимаю! Что это за метаморфоза? Чудеса, да и только!
Батальон дошел до гимназии. Часовые раскрыли ворота. Солдаты повзводно прошли мимо ошалевших гимназистов и учителей, гремя подкованными ботинками и лязгая снаряжением.
Офицер остановился у ворот, пропуская солдат. Учительница со все возрастающим изумлением всматривалась в него. Наконец, не выдержав, она подошла к нему.
— Слушайте, Жан! Это вы?
Офицер приложил два пальца к козырьку и любезно осклабился.
— Да, это я! — сказал он. — Но я не Жан!
— Я не понимаю! — в замешательстве смотря на него, протянула учительница. — Что это значит?
Японец выпрямился, вытянулся. Лицо его приняло то же выражение, с каким он салютовал на крики «банзай». С холодностью посмотрев на собеседницу, он ответил:
— С вами говорит поручик японской императорской армии Такэтори Суэцугу, мадам! Мы займем это здание, пока нам не предоставят казармы.
— Но зачем это? Ничего не понимаю.
— Чтобы защищать достояние и жизнь наших соотечественников! — отчеканил Суэцугу, бывший парикмахер Жан. — Два несчастных моих собрата уже пали жертвой большевиков, — он кивнул головой на мастерскую часовщика Исидо. — Но отныне ни один волос не упадет с головы японца в этой стране!
Суэцугу прошел в ворота. Часовые опять скрестили штыки.
Растерявшийся директор сказал учителям:
— Я подчиняюсь силе, господа!.. Распустить учащихся по домам на три дня. Я надеюсь, что за это время все выяснится и уладится. В конце концов, ведь мы же тут хозяева…
9
Первый шаг был сделан. Японские солдаты ступили на русскую землю.
Но за спиной Японии стояла Америка — всемирный ростовщик, безмерно наживавшийся во время войны на продаже оружия и военного снаряжения не только своим союзникам, но и своим противникам.
Сначала Америка пыталась действовать через Временное правительство России, пообещав широкую поддержку военными материалами для ведения «войны до победного конца». Американские поставки должны были идти через Владивосток и транссибирскую магистраль. В этих целях США предложили «упорядочить» работу железных дорог Сибири и Дальнего Востока, пришедших за время войны в упадок.
Во Владивосток прибыла миссия мистера Стивенса в составе семисот человек, которых американские хозяева расставили так, что даже на Камчатке оказались их резиденты. «Специалисты» мистера Стивенса сразу же взялись за съемку и описание не только железных дорог…
Советы взяли власть в стране в свои руки. Американцы все еще надеялись удержаться на Дальнем Востоке и сохранить у власти буржуазно-меньшевистский предательский режим в Приморье, которое служило бы им базой для дальнейших действий. 23 ноября 1917 года на владивостокский рейд прибыл крейсер первого ранга «Бруклин» из состава Тихоокеанской эскадры США, под командованием адмирала Найда. Советское правительство заявило решительный протест против действий американцев. «Бруклин» покинул Золотой Рог. Миссии Стивенса пришлось убраться.
Через три недели после победы Октября посол Америки в Петрограде Френсис запросил государственного секретаря США: «Каково ваше мнение относительно того, чтобы с Россией обращаться так, как с Китаем?» Понятно было, что имел в виду Френсис: в 1900 году, в дни боксерского восстания в Китае, иностранные державы, под предлогом защиты своих резидентов, ввели свои войска в Китай, залили страну кровью, подавили восстание и навязали великой стране режим полуколонии, которой затем диктовали свою волю. Высказывание Френсиса опиралось на далеко идущие планы Соединенных Штатов Америки.
В декабре 1917 года 3-й краевой съезд Советов провозгласил советскую власть и на Дальнем Востоке. Тогда Америка дала понять странам Антанты и Японии, что она не будет стеснять их в выборе той или иной политической линии по отношению к русской революции. Это означало согласие на интервенцию и на участие в интервенции — без финансовой помощи Соединенных Штатов Америки Япония не могла бы отважиться на эту авантюру. Америка предоставила эту помощь.
Краеугольным камнем тихоокеанской политики Америки становилась «большая война» между Японией и Советами с целью ослабления обоих государств и последующего захвата экономики обеих стран под видом помощи…
10
Опять у Лиды собрались товарищи.
В эти дни все были встревожены и понимали, что на Советскую Россию надвигается какая-то небывалая опасность, всей величины которой не могли они и представлять.
— Опять будем демонстрировать? — спросила Анна.
— Не знаю! — ответила Лида. — На этот раз, кажется, дело очень серьезно!
Виталию через стенку было слышно все, когда в комнате Лиды говорили полным голосом. Он стал прислушиваться.
Ждали Петра. Петр опаздывал. Анна тревожилась: не случилось ли что-нибудь с ним?
— Ну что с ним может случиться? — спрашивала Анну какая-то девушка, голос которой был не знаком Виталию.
— Сама не знаю, что может случиться, а просто места себе не нахожу! отвечала Анна.
Ей отозвалась Лида, что-то негромко сказав. Анна проговорила:
— Завидую я тебе, Лида: ты умеешь себя в руках держать, а я вот не умею! Что прикажешь делать?
В комнате послышались радостные возгласы — Петр пришел. Он стал ходить по комнате широкими, тяжелыми шагами.
— Интервенция началась! — сказал он глухо. — Теперь не дипломатия, а оружие будет решать наши судьбы. Много крови прольется, многие матери своих детей не досчитаются… — Он немного помолчал. Потом сказал: — А наши судьбы, товарищи, определяются. Сегодня из Москвы доставили телеграмму…
— Ой! Из Москвы? Правда? — воскликнула Анна.
— Из Москвы, — повторил Петр значительно, — хотя до нее и десять тысяч верст.
— От кого телеграмма? — спросила Лида.
— От Владимира Ильича Ленина!
В комнате сразу стало тихо.
Замер и Виталий «Телеграмма от Ленина», — повторил он мысленно, всем своим существом ощутив, что вокруг него совершаются удивительные события. Имя это вдруг ясным светом осветило Виталию то, на что не ответила ему однажды Лида, кто такие ее товарищи?
— В Иркутск передана по прямому проводу, а дальше всевозможными способами, — продолжал Петр. — Областком постановил ознакомить с этой телеграммой всех большевиков… Вот как оценивает Владимир Ильич Ленин наше положение, товарищи: «Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил». — Петр сделал паузу. — Как готовиться, что делать надо — об этом тоже говорится в телеграмме товарища Ленина. Ни один большевик не останется в стороне от нашего общего дела. Главное состоит в том, чтобы понять всю глубину опасности, понять, что высадка японцев — только начало; они ни перед чем не остановятся. Кроме того, теперь из всех щелей полезут недобитые буржуи…
— Да, уж это несомненно, — сказала Лида. — Мне булочник мой говорил перед самой блокадой, что теперь все «устроится». Он-то не знает, кто я, думал, мы с ним одного поля ягода.
— Значит, война? — спросила Анна.
— Надо быть готовыми, — сказал Петр, — и к войне, и к разным случайностям, и к тому, что каждому из нас, может быть, придется заниматься тем, чего мы до сих пор не делали… Это будет необычная война. Фронты этой войны будут проходить всюду, даже там, где есть только один большевик, и везде, где есть трудящиеся. Русские рабочие не помирятся с интервентами и интервенцией.
Петр все шагал и шагал по комнате, пока Анна не взмолилась:
— Петро! Да сядь ты, ради бога! У меня голова закружилась, на тебя глядя!
То, о чем говорили товарищи Лиды, пробудило в душе Виталия какие-то особенные чувства и мысли. В этот вечер впервые по-настоящему Виталий узнал свою сестру Лиду. Он узнал, что она партийный человек, что большевики готовились к борьбе с интервентами. Большевики хотят защищать свою родину и свободу, вырванную народом у царя и капиталистов, большевики не склонят голову перед врагами. У Виталия пробудилась гордость за свою сестру и ее товарищей.
…Он хорошо помнил тот радостный и тревожный день, когда стало известно о свержении царя. Глубочайший смысл совершавшихся событий не мог полностью дойти до него, еще подростка. Но когда гимназисты-старшеклассники с криками выволокли на улицу огромный, в тяжелой раме, портрет Николая и сожгли его, а пепел развеяли по ветру, Виталию, как и товарищам его, стало ясно, что случилось что-то необыкновенное. До сих пор этот большой портрет висел в рекреационном зале. По утрам гимназисты молились в этом зале, прося у бога успехов в учении, молились о здоровье наставников своих, о здоровье этого человека с невыразительным лицом и рыжими усами, которого называли царем.
И вот вместо Николая Второго на стене только большой темный квадрат. В тот день занятия прекратились. Ученики хлынули на улицы и увидели — улицы полны людей, возбужденных, радостных, с красными бантиками в петлицах… С утра до вечера в этот день Виталий вместе со своими однокашниками ходил по городу. Он видел, как с фронтонов правительственных учреждений летели на мостовую вывески с золотыми орлами, видел, как под конвоем каких-то штатских провели начальника жандармского управления Владивостока. Он слышал в этот день много речей — митинги были на каждом углу. Он слышал впервые, как многотысячная толпа пела «Варшавянку» на Вокзальной площади, ту самую «Варшавянку», о которой недавно и говорить-то нельзя было вслух… Видел он и богатея хлеботорговца Игнатия Семеновича Плетнева, который вышел на улицу с красным бантом на груди. Виталий удивился этому, а ему сказал кто-то в радостном упоении: «Теперь свобода для всех!..» Он видел в этот день многое, и казалось, жизнь навсегда изменилась и теперь всем станет очень хорошо…
Потом наступили будни. Опять появились трехцветные флаги. Вместо одних полицейских появились другие. По-прежнему Ромка Плетнев ходил, задрав нос, а отец его ездил в огромном черном «Паккарде», правда, уже без красной розетки на груди. Опять трепались на ветру плакаты, призывавшие к войне до победного конца… И по-прежнему мать Лиды и Виталия рассчитывала каждую копейку, собираясь на базар, и сокрушенно качала головой, в который раз берясь за починку одежды Виталия… Лида сказала как-то матери, что революцию «недоделали»…
Трудно в тринадцать лет понимать сложные дела взрослых…
Несколько месяцев прошло с того памятного дня. У Лиды стали собираться незнакомые люди. О чем говорили они, трудно было понять. Только мать иногда с упреком говорила: «Ой, Лидка, Лидка, не сносить тебе головы!.. Ну, мужчины вяжутся в это дело, а тебе то что до них! Выходила бы замуж, что ли!..»
Однажды поздним вечером в окно постучали. Лида быстро собралась и ушла, ничего не сказав матери… Она не возвращалась три дня, и мать просто извелась, ожидая ее, то кидаясь к двери, то выглядывая в окна. Где было искать Лиду? В городе шла перестрелка. Пролетали машины, набитые вооруженными людьми. Виталий понял, что кто-то (а кто именно — он не знал) «доделывает» революцию. Вернулась Лида, уставшая до изнеможения, но веселая, как никогда. Она обняла мать и сказала: «Мамочка! Наша теперь власть! Наша!» Она прилегла на кровать и тотчас же уснула как убитая, едва успев вынуть из кармана форменной куртки револьвер и сунуть его под подушку. Она уже не слышала, как мать со страхом закричала: «Господи, твоя воля! Лидка! Унеси это куда-нибудь сейчас же! Ведь оно выстрелит!»
И опять полыхали над городом красные флаги…
Лида ходила, точно на крыльях летала. У нее оказалось много дел. Она говорила матери о том, что нынче хозяева в стране — простые люди, такие, как она, как те товарищи из Военного порта и с Эгершельда, которые теперь, уже не таясь, приходили к ней. «Ну уж ты, хозяйка!» — с усмешкой обращалась к Лиде мать, но уже не называла ее Лидкой…
И вот теперь опять мрачные тучи заволокли ясное небо простых людей. Опасность надвинулась на них…
Виталий лежал, прижавшись ухом к стене, ощущая, что все лицо его пылает, а сердце колотится в груди…
«Почему я не могу быть вместе с Лидой и ее товарищами?» — возникла вдруг у него мысль.
Разговор в соседней комнате замолк. Виталий услышал, как хлопнула входная дверь, выпуская гостей Лиды.
Лида заперла за товарищами наружную дверь и вернулась в комнату. Виталий зашел к сестре. Она была возбуждена, глаза ее блестели, и нервный румянец покрывал ее щеки.
— Ты что, Виталий? Что ты не спишь? — спросила она, глядя на брата еще не остывшими глазами.
Виталий замялся, но потом, овладев собою, взглянул сестре прямо в глаза.
— Я слышал все, что вы тут говорили, — сказал он.
Лида нахмурилась.
— Плохо получилось, Виталий. У меня не свои секреты!
— Я знаю, Лида. Я потому и пришел к тебе. — Он перевел дыхание. Возьмите и меня, Лида! Я буду делать все, что нужно, что вы велите. Я тоже хочу бороться… — он, запинаясь, выговорил такое еще незнакомое слово: — с ин-тер-вентами!..
Лида посадила его рядом с собой, обняв за плечи. Она слышала, как колотится его сердце, как прерывисто дышит он.
— Как же вы будете бороться, Лида? У них флот, армия, пушки, аэропланы, их много!
Лида посмотрела на брата, и его лицо показалось ей другим: что-то новое, глубокое появилось в глазах Виталия, вопросительно смотревшего на сестру.
— А у нас — партия, Виталя! — тихо сказала Лида. — А если есть партия, есть Ленин и весь народ за нас — значит, будет и армия, и флот, и пушки, и все, что надо для борьбы…
— Вот и возьмите меня! — так же тихо проговорил Виталий.
— Тебе четырнадцать, братка. Мальчиков в партию не принимают.
— И никуда не принимают? — опечаленно спросил Виталий. Он выжидательно смотрел на сестру заблестевшими глазами.
Лида задумалась.
— Знаешь что, братка, — ответила она наконец, — я тебе сейчас ничего определенного сказать не могу. Но если потребуется нам смышленый, сообразительный паренек, я скажу о тебе товарищам. Идет?
— Ты не забудешь?
— Нет, Витя.
— Смотри не обмани, Лида! Дай слово.
— Даю слово, братка! А сейчас иди спать. Живо!
Легким движением она подтолкнула Виталия к двери. Он отправился в свою комнату, лег, но долго не мог заснуть. Что-то неясное, но светлое и бесконечно радостное затеплилось в его душе. Это ничего, что ему четырнадцать, если понадобится смышленый, сообразительный паренек, о нем вспомнят.
Если понадобится…
О нем вспомнят!
Часть первая Орлиное гнездо
Глава 1 Русский остров
1
Серебристая дымка, предвестник жаркого дня, окутала город. Неясные очертания Орлиного Гнезда, словно плывшего по воздуху, чуть заметно проступали сквозь дымку.
Лето не балует Владивосток хорошей погодой. Она изменчива: то палящий жар плавит асфальт на улицах города, то неожиданно низвергнувшийся тропический ливень гонит по ним бурные потоки воды. Океан, простершийся на север, восток и юг, капризен. На великом его пространстве бушуют штормы. Массы воздуха, холодные — с Северного Ледовитого океана и теплые — с экватора, носятся над ним, сталкиваются, и прихотливость их движений диктует изменения погоды. Но если с рассвета серебристая дымка легким покрывалом оденет Русский Остров, что неусыпным стражем лег у самого входа в бухту Золотой Рог, сделав его неожиданно далеким и таинственным, — это верная примета: быть ясному, жаркому дню.
Ранним июньским утром 1922 года с катера на причал 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, когда-то стоявшего здесь и оставившего свой номер как название местности, сошел пассажир, судя по одежде — мастеровой: в потертой, с масляными пятнами куртке, в старенькой кепочке с заломленным козырьком, в вышитой украинской рубахе и черных брюках, заправленных в сапоги. На вид ему было лет восемнадцать. Черные волосы его чубом выбились из-под козырька, повиснув над живыми черными глазами со смелым, внимательным взглядом; смуглые щеки были покрыты легким румянцем, говорящим о здоровье; об этом же свидетельствовала вся его ладная невысокая, сухощавая, но крепкая фигура.
Сойдя с причала, паренек оглядел бухту, окаймленную холмистым кольцом Русского Острова. При этом он очень внимательно осмотрел и двух часовых, стоявших неподалеку от причала. Это были казаки. Какая-то тень прошла по лицу паренька, но он тотчас же принял беззаботный вид. Его не касалось, кто эти часовые и почему они сменили пехотинцев, несших обычно караул у дороги, которая вела к казармам Хабаровского кадетского корпуса, занимавшего место 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
Паренек побрел по берегу, легко ступая по камешкам, обкатанным тихим прибоем. Зеркальная гладь бухты, на которой уже утихли ребристые волны, поднятые катером, привлекла внимание паренька. Он нагнулся, выбрал камень. Примерился и, сильно размахнувшись, кинул так, что камень, едва касаясь воды плоской стороной, летел подпрыгивая, у самой поверхности оставляя волнистый следок. Пятнадцать раз коснулся он поверхности, прежде чем, на излете, скрылся в воде. Паренек был мастер «печь блины», как и доселе называют это занятие ребята.
Казаки окликнули его. Паренек обернулся.
— К кому приехал? — спросил старшой — высокий пожилой казак с благообразной седой бородой и четырьмя георгиевскими крестами на широкой груди.
— К брату!
Второй казак протянул руку.
— Покажь документы!
— Это можно! — сказал юноша и, порывшись в кармане куртки, извлек несколько бумажек и передал их казаку.
Казак внимательно поглядел на юношу. Тот твердо и спокойно встретил его взгляд. Казак вернул документы.
— Мастерских Военного порта клепальщик! — сказал он старшому. — В порядке. Увольнительная. Пачпорт…
— А ты чего не больно торопишься к брату-то? — спросил старшой. — Здесь сегодня не толкись!..
Приезжий сделал гримасу:
— Работаешь, работаешь от темна до темна. И в воскресенье отдыху нет. Одно слово что воскресенье: к брату приедешь, а он помогать заставит… Каптер он Хабаровского имени графа Муравьева-Амурского кадетского корпуса.
— А-а! — протянул старшой. — Ну иди, иди, не задерживайся. А то скоро смена.
Паренек не заставил себя упрашивать. Однако он метнул еще один камень, который, так и зажав в руке, держал во время опроса. Он бросил его неудачно: сильно отскочив от воды на первом же «блине», Камень перевернулся в воздухе и пошел в воду ребром с коротким бульканьем, почти не оставив следа.
— Ключ! — сказал молодой казак.
— Ну, раз на раз не приходится! — отозвался юноша и пошел по тропинке, углублявшейся в редколесье, за которым краснели казармы.
Молодой казак проводил взглядом удалявшуюся фигуру паренька и, когда тот скрылся из виду, сказал, продолжая начатый разговор:
— Караулим, ловим… А кого, паря, поймаем? Рази всех переловишь?
Старик сдвинул брови, но ничего не ответил. Часовые медленно, следя за тем, как алым пламенем разгорается заря, пошли на старое место, откуда им был виден весь берег…
— Рази всех переимаешь? — повторил со вздохом казак.
Старшой покосился на него из-под насупленных бровей, но опять смолчал и усиленно задымил махоркой. Молодой, не глядя на него, продолжал:
— Я, дядя Лозовой, думаю-думаю, а не могу придумать: отчего красные на нас прут? Я под Волочаевкой был в феврале. Говорили нам, что им ни за что ее взять невозможно. Приезжали японцы, хвалили, как все устроено… А как поднаперли большевики… и не знай, что куды полетело! Третий Приамурский партизанский через полотно ударил, а которые перед нами стояли, то прямо на рожон, через проволоку… шинеля побросали на нее да как по мосту и пошли! Морозяка — сорок пять, не меньше, а им, красным-то, видно, черт не брат! Мы было стали косить их, а тут с тыла конники Томина… Ну и зачесали мы оттуда… — Он помолчал и спросил: — У них как, командиры-то старые или свои?
— И старые, да и свои есть… — ответил в бороду старшой.
— А старые-то откуль же взялись?
— Ну, эт-то которые перешли на сторону красных.
— А генералы есть?
— Есть. Как не быть.
Молодой пристально посмотрел на Лозового. Его черные с желтоватым белком глаза, говорившие о бешеном нраве, уставились в переносицу старшому. Он сказал, понизив голос:
— Иван Никанорыч! А брешут, что красным немцы помогают? Я сколько пленных да убитых ни видал — все русаки… А?
Лозовой сердито сплюнул:
— Ну, что ты пристал, Цыган? Что я, поп, чтобы все знать? Немцы, немцы… От немца разве когда была русскому помощь? Кабы немец-то был, разве бы мы Расею потеряли? Это против своих силы нет, а ерманцу мы завсегда давали! — Он выстукал трубку о каблук подкованного сапога, сунул ее в кисет. — Ты меня не береди, казак! Думай, как хошь, — твое дело, а слов мне таких не говори. Я присягу давал на верность.
Цыган насупился. Легкие складки горько легли у носа. Глаза казака посуровели.
— Я к тебе с душой, дядя… А ты мне про присягу… — с сердцем сказал он. — Вот, говорят, скоро эвакуировать нас будут… в Японию. Уже сейчас в порту тесно: вывозят, что подороже… А нас куды? — Он взглянул на Лозового и решительно сказал: — Никуды я не поеду, Иван Никанорыч! Ей-богу! Никуды! Мне тятька свою землю завещал воевать, а смотри, сколько ее у меня осталось! — Он сунул руку за воротник гимнастерки и вытащил ладанку на сыромятном гайтане. — Мало!
Лозовой тихо спросил:
— Земля что ли?!
— С наших мест… забайкальская, с Онона. А его отсюда и не видать…
Потом, устыдившись своего порыва, Цыган сунул ладанку обратно, застегнул воротник и отвернулся от Лозового. Старшой, тоже глядя в сторону, произнес:
— И мне, видно, к родной земле не припасть, не обиходить ее больше.
Как ни спокойно старался сказать эти слова Лозовой, они прозвучали печально. Цыган настороженно посмотрел на старого казака и, уловив эту нотку, почуял отголосок своих чувств в его словах. Он вполголоса, но резко, как нечто раз навсегда решенное, сказал:
— Уйду я!
Лозовой строго оглядел его насупленное лицо и в замешательстве огладил бороду.
— Ты мне, Цыган, таких слов не говори… Не могу я их слушать. Не уходить надо, а в бою смерть принять надо. Я не доносчик, но и тебе не товарищ в этом деле!..
— Не услышишь больше, — глухо сказал Цыган.
Солнце взошло. Косые лучи его озарили стоянку 33-го полка, где высились казармы Омского кадетского корпуса, скользнули по далекому Каналу, обрисовав мачты военной радиостанции, и залили светом 36-й полк.
2
Миновав рощу, приезжий вышел к кадетскому корпусу. Оставив в стороне каменные здания казарм, он направился к маленькому деревянному домику, стоявшему неподалеку от котельной и столовой.
Его обогнал строй кадет; шла третья рота. Кадеты были в парадном обмундировании, которое выдавалось лишь в торжественных случаях. Блестели лаковые козырьки фуражек, начищенные сапоги и пуговицы сияли, галуны на мундирах светились тусклым блеском. Черные фигуры старательно чеканили шаг. Строй вел немолодой подполковник в золотом пенсне. Близоруко щурясь, он отсчитывал:
— Рас-с!.. Два!.. Три!.. Рас-с!.. Два!
Он был недоволен шагом:
— Чи-ще! Рас-с! Два!
Строй удалялся. Но еще долго до юноши долетали возгласы подполковника.
Он поднялся на крыльцо домика и без стука вошел в сени.
В дверях столкнулся с хозяином. Это был невысокий брюнет. Смуглое лицо его было встревожено.
— Ну как, Виталя, — спросил он. — Я уже думал, что ты не придешь.
— Обещал — значит, что бы ни было, приду! — сказал юноша.
Виталий сел на предложенный стул. Он пристально посмотрел на собеседника. А тот продолжал:
— Мало не всю ночь провозился, подгонял обмундирование. У нас нехватка мундиров… Сколько из Хабаровска взяли? Пустяки!.. Кое-как к утру одели всех, а кому не хватило, тех в отпуск с первым катером отправили.
— Рассказывай, товарищ Козлов!
Козлов машинально подкрутил черные усы.
— Что же рассказывать, товарищ Бонивур! Сам знаешь, кофейня провалилась!
Бонивур молча кивнул головой.
— Провалилась самым глупым образом. Сколько времени все шло хорошо! Никто из офицеров и из кадет ничего не подозревал. Ходили, кофе пили, иногда спиртное. Нину все считали женой Семена. Она себя держала здорово… Ухаживать за ней ухаживали, а чтобы больше — ни-ни! Так и шло. А тут вернулся в корпус один тертый калач — Григорьев. Пройдоха! Ну, бывал у Калмыкова, у Семенова, имеет значок за «Ледяной поход», Георгия. Пьяница, гулеван и, наконец, бабник!..
Виталию было видно в окно, что подполковник все еще гоняет кадет. Ребята выпячивали грудь, четко печатая шаг. Подполковник был в испарине. Фуражка его сбилась назад, открыв белый лысый лоб. Окуляры его сверкали на солнце.
— Это что же он их водит? — спросил Виталий Козлова.
— А опять в третьей роте Шкапский дежурит, сумасшедший самодур. После Волочаевки спятил: считает, что бой был проигран оттого, что солдаты маршировать не умели. Ну, его к нам и направили… Так вот, — продолжал Козлов, — этот Григорьев увидел Нину и зенки вылупил. Говорит: «Хороша. Моя будет». Стал приставать… Ну, на что Нина крепка — и то не выдержала, ляпнула ему по роже. А Григорьева заело. Говорит: «Это она для виду!» Поспорил с кадетами. И пошло-поехало. Проходу не дает. И у Семена дурацкое положение, и Нине деваться некуда.
— Через неделю хотели ее отозвать, — тихо сказал Бонивур.
— А у Григорьева дело дошло до отчаянности. Раз поспорил — убейся, а сделай!.. Стал он за Ниной следить. Решил через окно попасть к ней в комнату. А тут от тебя требование поступило на деньги. Вот Нина с Семеном стали готовить посылку. Семен тайничок открыл, а там оружие. А Григорьев с дерева в окно наблюдает. Смекнул, должно быть, что не кофием в доме пахнет, — и назад. Тут под ним сук подломился. Загремел он — и ходу в казармы. Семен сообразил, что дело плохо. Деньги ухватил — и ко мне. Нине велел оружие в колодец спустить, что возле дома… Сунул мне деньги, говорит: «Держи» А сам на выручку Нине побежал…
— Как держался? — быстро спросил Виталий.
— Ничего. Видно, не струсил… Ну, вернулся он, а в кофейне полное общество! Должно, Григорьев кадет приберегал как свидетелей успеха у Нины, а пригодились они для другого… Нина утопила почти все. Но кое-что осталось… браунинг, штук десять лимонок…
Виталий посидел, помолчал. Козлов подкрутил усы, вопросительно глядя на юношу. Виталий сосредоточенно щурил глаза.
— Значит, деньги у тебя?
— Да, тридцать тысяч.
— Ничего! — сказал Виталий. — Пусть у тебя будут. Решено тебе поручить продолжать «кофе молоть». Тоже вдвоем будете.
— Теперь слежка за всеми новыми людьми! — предостерегающе поднял брови Козлов.
Виталий усмехнулся:
— А тебе новых не дадут. Будешь с Любанским работать. Знаешь? Который в Поспелове.
— Любанский? Эта крыса канцелярская?! — изумленно воскликнул Козлов.
— Ну, уж и крыса! Ты не таращь глаза, товарищ Козлов. Любанский настоящий, хороший подпольщик, товарищ верный, комсомолец испытанный… Познакомишься по-настоящему — не нахвалишься.
— Да я не об этом!
— А не об этом, так помолчи… После провала кофейни трудно предположить, что мы продолжаем работать здесь… Нину и Семена куда дели? спросил Бонивур.
— Сутки держали в котельной.
— Не били?
— Нет как будто. Потом из Поспелова приехали из особой сотни офицеры.
— Семеновцы! — сказал Виталий и сморщил лоб. — Ну ничего, потягаемся и с ними!
Козлов вздрогнул, юноша вопросительно посмотрел на товарища. Тот, отвернувшись, жалостливо сказал:
— Поспеловским только дай красных. Закатуют… И не знай, сколько там похоронено наших, на пригорке… Виталя, я думаю, надо отбить Нину да Семена!
— Имеешь план? — спросил юноша.
— Какой план? Ночью напасть на поспеловских, покрошить — да и с концом.
— А офицерскую школу? А кавалерийское училище? А юнкерское училище? Тоже покрошить?
— А-а! Под одно бы всех, к чертовой матери!
— Будет и это! А только нахрапом сейчас Нину и Семена не выручишь.
— Жалко, Виталя!
— Не одному тебе жалко! Вызволим, выкупим…
— Красных-то?
— А кто доказал, что они красные? — хитро прищурился Виталий. — Чего только наши подпольщики не сумеют сделать!.. Надеюсь, на днях Нина и Семен будут на свободе и в безопасности.
Козлов облегченно вздохнул, и глаза его засветились любопытством. Он спросил, невольно понижая голос:
— Имеешь план?
Но Виталий, пропустив мимо ушей вопрос Козлова, кивнул головой на кадет, маршировавших вдоль казарм:
— Чего такой парад?
— Адмирала Старка сегодня ожидаем.
3
В 1922 году в руках белых, и то под охраной японских штыков, оставался небольшой клочок русской земли — Владивосток и часть области.
Побережье давно контролировалось партизанскими отрядами. Основной базой их было Анучино, где советская власть, с небольшими перерывами, существовала почти с 1917 года. Второй базой была бухта св. Ольги, где партизаны чувствовали себя настолько уверенно, что могли созывать съезды, проводить военное обучение партизанского молодняка и наносить существенные удары белым в таких бухтах, как Терней, Джигит, Кеми — вплоть до Самарги. Отряд Кожевниченко доходил и до самой Императорской гавани. Партизаны заставили убраться из Тетюхе американский гарнизон, прикрывавший грабеж серебро-свинцовых месторождений…
Рабочие районы Владивостока тоже, по существу, не подчинялись белым. Незримые нити тянулись из города в таежные районы, соединяя их неразрывными узами. И если вдруг из депо Первая Речка или из мастерских Военного порта исчезал кто-то из молодых или пожилых рабочих, кому угрожал призыв или к кому слишком внимательно присматривались шпики, лесными тропами уходил он и одним партизаном становилось в сопках больше… Партизаны бывали и во Владивостоке, и на Первой Речке, и на Второй Речке, зная, что каждый рабочий дом — их прибежище. Они получали подробную информацию о всех передвижениях белых, покупали оружие у солдат, похищали из складов…
В самом городе действовали руководимые Дальбюро ЦК РКП (б) подпольные группы большевиков; их ячейки находились на всех крупных предприятиях края. Партийные организации работали, и ни аресты, ни убийства отдельных большевистских вожаков не могли остановить неизбежного. Приморская партийная организация была боевой по духу и по традициям, — ее создавали и воспитывали такие большевики-ленинцы, как Костя Суханов — первый председатель Владивостокского совдепа, как Сергей Лазо — партизанский вождь. И давно уже между собой большевики называли Сухановской ту улицу, на которой жил он до дня своей гибели. И ходивший по путям приморской железной дороги паровоз «ЕЛ-629» — огненная могила Лазо — каждым свистком своим взывал к мести за мрачное злодеяние, которого не могли забыть русские люди. Помнили большевики дорогие имена, и каждый хотел походить на тех, чьи имена носил в сердце… Героической была история приморского подполья, как героической была великая партия, за которую многие большевики-дальневосточники отдали свою жизнь…
С севера наступала Народно-революционная армия Дальневосточной республики, очистившая от белых Забайкалье и Приамурье, готовая нанести интервенции последний, решительный удар.
…Приморское правительство Спиридона Меркулова, известного спекулянта, состояло из кучки дельцов и политических интриганов и было ширмой, прикрываясь которой, японские и американские интервенты беззастенчиво и жадно грабили Приморье.
…Офицерские школы, кадетские корпуса, юнкерские училища не случайно были расположены на Русском Острове, на котором помещались и части особого назначения. Островное положение этого гарнизона должно было, по мысли командования, уберечь будущие кадры офицерского состава от влияния большевиков, которое распространялось на все слои населения.
И вот лихой кадет Григорьев обнаружил в 36-м полку тайную квартиру, где хранилось оружие. Арестованные упорно молчали. Но контрразведка предполагала, что кофейня — явочная большевистская квартира.
Это показывало, насколько смелы большевистские конспираторы и насколько бесплодны усилия японской контрразведки и белых парализовать их действия.
Факта этого нельзя было скрыть от кадет. Он очень дурно повлиял на дисциплину в корпусах. Нужно было предпринять что-то такое, что поддержало бы веру в будущее у кадет и юнкеров.
Эту задачу возложили на адмирала Старка.
Офицер генерального штаба царской армии, участник русско-японской войны, в свое время часто бывавший в ставке, кавалер многих орденов, адмирал Старк был важной птицей. Его огромная, атлетического сложения фигура, затянутая в черный морской сюртук, осанка, дворцовая учтивость, умение держаться делали его заметным среди скороспелых генералов военного времени. Его можно было слушать, ему можно было верить.
Поэтому с таким нетерпением в 36-м полку ждали Старка. Охрану адмирала поручили сотне казаков ротмистра Караева.
4
Воскресный день был томительным. Кадеты второй и первой роты, облаченные в парадную форму с самого утра, не знали, чем заняться. Они расхаживали по жиденьким аллеям парка, разбитого вблизи казарм. Учебный год был закончен. Все уже предвкушали избавление от надоевшего за год распорядка, строили планы на лето. Воспитанники третьей роты томились в течение последних дней. Большинство кадет, принятых в корпус в 1920 и 1921 годах, были сыновья солдат, дети беженцев — ижевских, иркутских, николаевских, очень плохо мирившихся со своей новой участью. Все мечты их были прикованы к прежней вольной жизни. Стриженым их головам было тесно в форменных фуражках. Предоставленные в этот день самим себе, они играли в лапту, в свайку, в чижика. Их группы виднелись то здесь, то там на широком плацу перед казармами или в тени зданий.
Солнце поднималось все выше, время подходило к обеду. Кадеты ходили красные, потные, разгоряченные в своих тесных мундирах.
В час дня сыграли сбор на обед. После обеда репетировали встречу.
Адмирал прибыл в четыре часа пополудни.
Грянул оркестр, выстроенный на причале. Адмирал сошел с катера по трапу, крытому красным ковриком. Его встретил тучный седой старик, директор корпуса Корнеев. Выслушав рапорт, Старк поздоровался с ним, расцеловался и в сопровождении адъютантов и встречавших направился к зданию корпуса.
Звуки оркестра были сигналом, по которому кадеты стали в каре, поротно, по ранжиру. Строгий черный четырехугольник застыл на посыпанном свежим песком плацу. Затихли голоса. Над плацом нависло молчание. Тысяча подростков и юношей замерла в шеренгах, затаив дыхание. Виталий, наблюдавший парад из окна комнаты Козлова, сказал невольно:
— Здорово их вышколили!
— Дисциплина тут во! Всех под одну гребенку подровняют! — сказал Козлов.
— Не успеют! — усмехнулся Бонивур.
Звуки команды на плацу прервали их разговор.
— Корпус, смирр-р-на-а! Господа офицеры!
Старк, могучей громадой возвышавшийся в середине каре, в группе пехотных офицеров, бархатным басом пророкотал:
— Здравствуйте, господа кадеты!
Строй ответил дружным «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!», произнесенным отрывисто и легко. Старк покосился на Корнеева: «Хорошо отвечают». Корнеев не мог скрыть довольной улыбки — ответ на приветствие был его гордостью и утехой.
Внешней причиной торжества послужило окончание учебного года. По традиции полагалось отмечать это событие молебном. И хотя офицеры не знали, где начнется новый учебный год, традиция должна была соблюдаться.
Возле адмирала появился аналой. Священник в златотканной ризе и дьякон в серебряном стихаре, приняв поклоны от начальства, начали молебен. Хор кадет пел молитвенные песнопения. Дым из кадильницы, которой мерно размахивал дьякон, в воздухе, раскаленном лучами беспощадного солнца, вился струйками, медленно поднимаясь вверх. Хор пел согласно и чинно. Строй с фуражками на левой руке, следя глазами за генералом, крестился и клал поклоны вслед за ним.
Молебен кончался песнопением «Спаси, господи, люди твоя».
Написанная свыше сотни лет назад, молитва эта обладала формой, которая позволяла вставить имя любого царствующего лица. Когда не стало Николая, монархисты изменили стих этот в соответствии со своими надеждами на одного из претендентов на не существующий более престол российский — великого князя Кирилла. Колчаковцы же и каппелевцы пели: «Победы христолюбивому воинству нашему на супротивныя даруяй!» Так как во Владивостоке они содержали большинство военных учебных заведений, то и в Хабаровском кадетском корпусе молились о ниспослании победы «христолюбивому воинству».
Старк, убежденный «кирилловец», по привычке запел длиннейший стих с титулом Кирилла.
Его густой бас шел наперерез всем голосам, разбивая их. Вся торжественность минуты была непоправимо испорчена Третья рота перестала петь. Подростки пересмеивались. С побагровевшим от натуги и от сознания своего промаха лицом Старк, пытавшийся перекричать весь корпус, был смешон.
Виталий, наблюдавший за всей этой сценой из окна комнаты Козлова, покатывался со смеху. Козлов, весело поблескивая своими черными узкими глазами, подмигнул Виталию.
— Не сговорились, значит…
— И не сговорятся! — сказал Бонивур.
5
Раздраженный еще на молебне, Старк не глядел на Корнеева и тяжело дышал, с шумом выпуская воздух через раздувавшиеся ноздри. Генерал обратился к адмиралу с просьбой сказать несколько слов кадетам.
Старк оттянул от потной шеи ставший вдруг тесным белейший крахмальный воротничок, помолчал несколько секунд, пытаясь успокоиться, потом начал:
— Господа кадеты! Поздравляю вас с успешным окончанием учебного года… — Сердце адмирала давало перебои, уши горели от раздражения… — Вы должны верить в светлое будущее, ибо без этой веры нельзя жить, господа кадеты! Но вера без дел мертва, говорит евангелие, значит и вам надлежит свою веру подкрепить живым делом… Усваивайте преподанное вам наставниками и начальниками!
Он тяжело задышал и вдруг почувствовал, что у него нет таких слов, которые дошли бы до кадет, смеявшихся над ним до сих пор. Насилуя себя, он закричал:
— Господа кадеты! Ваша задача, ваш долг — стать офицерами во что бы то ни стало! Отвращайте свой слух от речей, противных нашей идее, от пропаганды большевиков! Отвращайте свои глаза от их книг. Острите свое сердце, ибо ваше сердце — это меч, занесенный над врагами России!.. Мы перенесли тяжелые испытания, и, может быть, нам предстоят еще более тяжкие, самые горчайшие из тех, что приуготовлены нам судьбой. Большевики всюду! Они наступают с севера, они проникают в нашу среду! Может быть, они прячутся и здесь! — он ткнул куда-то в залив своей большой белой рукой.
Корнеев тихонько сказал, находя, что адмирал переборщил:
— Ваше высокопревосходительство…
Но Старк, которому уже было почти дурно, продолжал:
— Они кругом! Они добиваются того, чтобы отнять у нас землю! Нашу землю, господа!
Вне себя он опустился на колени.
— Господа! Защищайте ее! Любите ее! Храните в сердце своем. Помните о ней, где бы вы ни были. Ибо вот она, ваша родина, господа!
Адмирал нагнулся, чтобы поцеловать землю, но вместо красивой земли черной, мягкой, покрытой зеленой травой, какую он видел перед собой мысленным взором, вместо луга, вместо поля — перед ним был ровный желтый песок плацпарада. Адмирал зачерпнул песок горстью, ткнулся в него губами. В этот момент красные круги поплыли у него перед глазами, он рассыпал песок на свой сюртук; желтые пятна покрыли черное сукно. Вслед за этим адмирал покачнулся и рухнул лицом вниз, потеряв сознание.
Со всех сторон к Старку бросились на помощь. С трудом подняв адмирала, прислонили его к аналою и стали приводить в себя.
Казаки конвоя находились за строем кадет. Однако они ясно видели все, что произошло. Стоявший рядом с Лозовым Цыган тронул старого казака рукой, кивнул на адмирала и сказал на ухо:
— Видал? Он — за землю, а она — промеж пальцев…
Лозовой сумрачно ответил:
— Не береди, дьявол… Конечно, видал… Не слепой.
6
Через час, после того как совершенно обессиленного Старка отправили на катере в город, пешком, через холмы, ушел из 36-го полка и Виталий.
Неся с собою деревянный ящичек, в каких рабочие обыкновенно хранят подручный инструмент, он своей легкой походкой отправился в Поспелово. И никому было невдомек распознать в этом беспечном подмастерье, что шел, сшибая прутиком подорожники, руководителя комсомольской подпольной организации.
Смеркалось, когда, перевалив холмы, Бонивур увидел перед собой беспорядочно раскиданные строения Поспелова, сбегавшие с вершины покатого берега к самой воде. На свежей волне плясали блики огней катеров, что проходили по проливу.
Юноша приблизился к большому серому зданию, что возвышалось среди одноэтажных офицерских флигелей, вошел в крайний подъезд, поднялся по лестнице в несколько ступенек, нашарил в кармане ключ и открыл дверь, обитую черной клеенкой.
В квартире жил холостяк. Это чувствовалось по тому, что пол не подметен, на диван брошен серый пыльник, — как видно, он лежал здесь несколько дней. На столе стояли грязные тарелки; стопка их возвышалась и на подоконнике. Виталий недовольно покачал головой, увидев все это запустение, и сел против окна. Пока не стемнело, было видно все, что происходило во дворе. Вот показалась женщина с тазом, наполненным мокрым бельем. Неторопливо она развесила его на веревке. Перекинулась с соседкой несколькими словами и направилась в тот подъезд, откуда вышла. Четыре офицера с папками в руках прошли один за другим мимо окна.
Виталий прилег на диван, прислушиваясь к звукам, доносившимся извне. В соседней квартире плакал ребенок. Наверху звучали раздраженные голоса: кто-то ссорился. Где-то послышался стук движка. Окна в соседних домах осветились — заработала легкая электростанция, обслуживающая Поспелово. «Девять часов», — заключил Виталий. За стеной пробили часы.
Почти вслед за этим в коридоре послышались шаги. Щелкнул замок. Открылась дверь. Виталий сел.
— Погоди зажигать свет. Завесь окно чем-нибудь, Борис! — сказал он вошедшему.
— Здравствуй, Виталий! — сказал хозяин и принялся шарить в ящике под койкой.
Повозился у окна, занавесил его. Потом зажег лампу. Свет озарил некрасивое, худое лицо с усталыми серыми глазами. Хозяин близоруко прищурился, крепко пожал руку Виталию и присел возле.
— Ну, как живешь, Борис? — спросил Виталий.
— Какая моя жизнь? Известно тебе… — махнул Борис рукой. — Что за жизнь у вольнопера, — он кивнул головой на свои солдатские погоны с черно-желтым шнуром вольноопределяющегося вместо канта, — да еще в таком вертепе? Извелся я! Читаешь протоколы допросов — мороз по коже дерет! Ведь все наши ребята! Все-таки очень многих они вылавливают! — горько вздохнул он.
— Где Нина и Семен? Не узнал?
— Пока на общих основаниях держат, — ответил Борис.
Виталий усмехнулся:
— А по-русски что это значит?
Борис невесело посмотрел на него.
— Вот видишь, до чего я дохожу. В этом сволочном заведении говорить разучился. На общих основаниях — это значит, что к ним «специального» режима еще не применяли. Держат в общей камере до поры. Наверно, рядом с ними посадили кого-нибудь для выведывания.
— Понятно. Кто ими занимается?
— Жандармский ротмистр Караев.
— Что за человек?
— Бабник, мот… палач! Но он в эти дни болел. Помяли его в каком-то притоне на Миллионке, куда он захаживает. Вот он и не показывается.
— Идейный?
— Куда там! Иной раз такое завернет, что боязно слушать. Молчишь значит сочувствуешь, говорить начнешь — морду разобьет! Ох, Виталя, не хватает у меня на эту работку нервов.
Виталий тихо сказал:
— Жалуешься? Трудно? А тем, к кому «специальный» режим применяют, не трудно?
Борис опустил голову.
— Мне ведь иногда приходится на допросах присутствовать, — проговорил он. — Лучше бы меня били, чем видеть, как над товарищами глумятся.
Виталий положил собеседнику руку на плечо.
— Ты понимаешь, Любанский, как ты полезен на этом месте?
— Да.
— Больше я ничего не могу сказать. Потерпи…
Наступила пауза. Борис подавил невольный вздох. Виталий опять нарушил молчание:
— Опустился ты, Борис. В комнате грязь, не убрано, неуютно. Ты боец, Борис! А боец должен быть твердым, как пружина. Вот на съезде комсомола Владимир Ильич говорил о том, как себя комсомольцы держать должны. Тысячи наших товарищей ведут борьбу с капитализмом, подтачивают силы белых и интервентов. Подумай, что ты один из тех, на кого надеется Ленин! — с силой закончил он. — Нину и Семена видел?
— Видел.
— Как держатся?
— Хорошо.
Глава 2 Случай в портовом переулке
1
Виталий возвращался в город с последним катером. Безлунная ночь опустилась над океаном, затянув своим покровом очертания берегов. Как только катер отвалил от пристани, Русский Остров потонул в густой мгле. Впереди мерцали городские огни, отражавшиеся в агатовой глубине моря. Отблески огней трепетали на мелкой волне. Светящийся следок тянулся за катером, тая в отдалении. Тишина нависла над океаном. Робко звякнули склянки на мысе Скрыплева. Маяк открыл свой яркий глаз; луч света пронизал темноту и погас, чтобы через минуту опять бросить свой сигнал в морской простор.
И, точно сигналы маяка, в сознании комсомольца вспыхивали отдельные детали плана освобождения Нины и Семена. В общем он представлял себе ясно, в каком направлении можно и нужно действовать. Но в этом деле многое могло зависеть от мелочей: успех или неудача, в конечном счете, решают вопрос о жизни Нины и Семена. Значит, надо было тщательно обдумать все, предусмотреть и взвесить все возможное и… невозможное.
Мысли теснились в голове Виталия, понимавшего, какое дело он берет в свои руки.
Ему довелось расти в такое время, когда каждый прожитый год стоил нескольких лет. Четыре года прошло с того дня, когда Лида, шагавшая в рядах демонстрации протеста против прихода крейсера «Ивами», против вмешательства иностранцев в дела русского народа, окликнула Виталия и поставила в одну шеренгу с собой. Он шагал тогда между Лидой и незнакомым телеграфистом, который обнял его, как родного. «В ногу, в ногу!» — сказали ему тогда. Слова эти с необычайной силой врезались в память Виталия, приобретя особо глубокое значение от того, что над головой Виталия шумел красный транспарант и тысячи рабочих Владивостока в этот день вышли на улицу и шагали в ногу, как солдаты в строю, и во взглядах их, обращенных к порту, где стоял «Ивами», не было страха…
Это были четыре года борьбы русского народа и большевиков за советскую власть, против интервентов всех мастей, годы кровавых контрреволюционных переворотов и народных освободительных восстаний, годы партизанской войны и подпольной работы большевиков.
Лида, поставившая Виталия в свою шеренгу на той демонстрации, поставила брата рядом с собой и в жизни. Когда понадобился «смышленый паренек», о Виталии вспомнили… Когда 4–5 апреля 1920 года во Владивостоке раздались выстрелы японских интервентов, вероломно нарушивших перемирие с большевистской Земской управой, Виталий распространял большевистские листовки, призывавшие рабочих к организованному сопротивлению. «Листовки испытанное оружие большевиков!» — сказали ему тогда в ответ на просьбу дать винтовку… В эти тревожные дни гимназист Бонивур стал комсомольцем. Это было его ответом на японскую провокацию.
Так для него настала новая жизнь. Это была нелегкая жизнь. Но эту нелегкую жизнь Виталий Бонивур не променял бы ни на какие блага в мире…
2
Катер мягко ударился о причал.
Поспешно поднявшись на Светланскую улицу, Виталий прошел мимо Морского штаба, к домику на улице Петра Великого, неподалеку от сквера, где высился бронзовый памятник адмиралу Завойко. На каланче Морского штаба пробило одиннадцать, на улицах уже появились патрули.
Найдя в темном коридоре дверь, Виталий нажал кнопку звонка. За дверью послышались шаги и женский голос:
— Вам кого надо?
— Ивана Ивановича, — ответил Виталий. — Я только что с вокзала.
Дверь открыла немолодая женщина, «тетя Надя», Перовская. Она улыбнулась, увидев Виталия.
— Откуда ты, воевода?
— С Русского Острова! — ответил Виталий.
Перовская покачала головой и строго сдвинула темные брови.
— Башку не жалко?
— Надо было, тетя Надя!
— Ну, это мы сейчас разберем, надо или нет! — ответила женщина. — Тебя ждем. Товарищ Михайлов тут.
Виталий невольно подтянулся: с Михайловым, председателем областного комитета РКП (б), ему еще не приходилось встречаться. Вместе с Перовской он вошел в комнату.
Большая лампа, затененная абажуром, едва освещала стол, за которым сидели трое мужчин и женщина. Приход Виталия прервал, очевидно, их беседу.
— Явился! — сказала тетя Надя. — Полюбуйтесь на молодца: ездил на Русский остров…
— Хорош! Ну, рассказывай. Садись, в ногах правды нет, — произнес хозяин комнаты, слесарь Военного порта Марченко.
Виталий всматривался в незнакомых ему людей. Который из двух Михайлов? Он чувствовал себя неловко: как видно, и тетя Надя, и Марченко осуждали поездку на Русский остров.
Виталий смущенно оглядывал сидящих.
Из-за стола поднялся высокий мужчина в черном костюме, широкоплечий, с открытым лицом и темными коротко остриженными волосами. Он подошел к Виталию, который еще не решался сесть, остановился перед ним, по-морскому расставив ноги, и, глядя на него в упор веселыми глазами, кивнул головой:
— Ну, что же ты?.. Выкладывай, видишь, ждут люди! — сказал он по-дружески, и его теплая большая ладонь легла на плечо юноши.
В этом человеке, несмотря на то, что одет он был, как и все горожане, чувствовалось что-то такое, что присуще бывалым морякам. «Михайлов!» подумал Виталий.
— Сейчас, товарищ Михайлов, расскажу! — произнес Бонивур, садясь. Дело, видите ли, вот в чем…
Михайлов слушал, склонив голову и внимательно глядя на Бонивура. Карие глаза его иногда вспыхивали, но в глубине их теплилось сочувствие, это ясно видел Виталий. Он вдруг обрел уверенность в себе и в том, что план спасения арестованных удастся.
3
Ему не мешали говорить.
Изложив подробно свой план, он вопросительно посмотрел на сидящих за столом. Марченко спросил:
— А зачем ты сам-то на Русский Остров поехал? Кто тебе разрешил? Ты поставил нас в известность?
Виталий почувствовал, что вся кровь отхлынула от его щек.
— Нет, не поставил, товарищ Марченко…
— Мы тебе поручили комсомольскую организацию. Есть много ребят, которые охотно выполнят любую работу. Ты мог влипнуть, как кур во щи… Ты знаешь, какое сейчас время? Вот-вот от нас потребуются все силы и работоспособная организация, знающая своих руководителей, верящая им, и руководители, знающие своих бойцов! Работы полон рот! Тут каждый человек на счету, каждый человек дорог!
Виталий посмотрел на Марченко.
— Дело идет о двух товарищах. Мне за них не жалко жизни. Мы с ними вместе в комсомол вступали.
Тетя Надя подняла взор на юношу.
— Руководить — это не значит все делать самому. Руководить — это значит направлять людей, учить их, двигать ими.
— Дело шло о жизни двух товарищей… — повторил Виталий. — Мне казалось, что…
Михайлов дотронулся до плеча юноши.
— Когда только кажется, надо с людьми советоваться… А вот когда уверен, тогда можно и действовать.
— Я был уверен! — сказал Виталий твердо. — И товарищ Борис, и Козлов, и другие знают теперь, что провалилась только «кофейня», а не организация.
— А теперь ты понимаешь, что поступил опрометчиво?
Виталий потупился. Когда утром он действовал, узнав об аресте Семена и Нины, все казалось ему простым и ясным: именно он лично должен был оказаться там, чтобы парализовать естественное замешательство и, может быть, страх полного разгрома среди тех, кто не был арестован. А теперь выходило, что он поступил, как мальчишка, необдуманно, поспешно, рискуя многим. И ему было очень тяжело вымолвить слова:
— Кажется, понимаю.
— Только кажется? — в голосе Михайлова послышались какие-то новые нотки, заставившие Виталия вскинуть взгляд на председателя комитета.
Михайлов подошел к Виталию вплотную. Его внимательные глаза уставились на юношу, точно он видел в нем что-то, чего никто не видел. Какие-то искорки промелькнули в сером спокойствии глаз Михайлова, но Виталий не мог определить: усмехается или сердится моряк?
— Мы ни отваги твоей отнять не хотим, ни долга твоего перед товарищами убавить, — сказал Михайлов, — а хотим, чтобы ты научился глядеть вперед, предвидеть, когда и что можно делать и когда чего делать нельзя! Наперед запомни, что в нашем деле анархизм — ни к черту не годная штука! — И другим тоном он добавил: — Теперь послушай, что мы хотим предложить для освобождения Семена и Нины; не думай, что они дороги одному тебе!.. А в общем твой план неплох! Очень неплох… Но к нему нужна страховка? Понимаешь?..
4
В двенадцать часов следующего дня рябой казак Иванцов, вестовой командира сотни особого назначения Караева, осторожно просунул голову в дверь спальни командира. В комнате были опущены шторы. Иванцов сказал вполголоса:
— Господин ротмистр! А господин ротмистр!
Заскрипела кровать. Ротмистр завозился в постели, подымаясь.
— Ну, чего еще? — хрипло спросил он. — Какого черта надо?
Рябой опасливо убрал голову. Но через секунду опять открыл дверь.
— Господин ротмистр! К вам добиваются.
Ротмистр сел, укутав ноги одеялом.
— Гони всех к черту!
— Говорят, по срочному делу.
— С-сукины дети! — проворчал ротмистр. — Умереть не дадут!
— Это точно! — сказал Иванцов, поднимая шторы и наскоро оправляя постель.
— Кого там дьявол принес? — одеваясь, спросил Караев.
— Китаёза, а с ним русский один. Говорят: «Не разбудишь — пожалеешь. Очень важное дело…»
— Вот я им сейчас покажу важное дело!
Караев решительно вышел из спальни.
Тучный китаец в черном шелковом халате и лаковых туфлях сидел в кресле и, положив на расставленные колени твердую соломенную шляпу, обмахивался веером из тонких костяных пластинок, расписанных позолотой. Его полное лицо, острый взгляд густокарих глаз, розовая кожа на щеках, белые зубы, полные руки с длинными прозрачными ногтями говорили о достатке, богатстве. Второй посетитель не заслуживал внимания: обыкновенное лицо, ничем не выдающееся, простая одежда, довольно поношенная, — видимо, счетовод или писарь китайца.
Увидев ротмистра, китаец улыбнулся, неторопливо поднялся и сделал легкий полупоклон. Караев ответил кивком головы.
— Чем могу служить?
Китаец указал ему на стул, сел сам и стал говорить по-русски, чисто, с приятным акцентом:
— Думаю, что нам надо познакомиться, так как дело, с которым я к вам пришел… Ли Чжан-сюй… коммерсант.
Караев буркнул:
— Ротмистр Караев.
— Вы начальник части особого назначения?
— Да! — насторожившись, ответил офицер.
В этот момент рябой казак вышел из спальни. Китаец кивнул на него:
— У меня дело к вам, господин ротмистр, которое не терпит свидетелей.
Караев выслал казака за дверь и в свою очередь посмотрел на спутника китайца, вопросительно подняв брови. Китаец равнодушно сказал:
— Это Ваня. Это со мной.
Всем телом он повернулся к ротмистру и спокойно произнес:
— Господин ротмистр, я хочу сделать у вас одну покупку.
— Не понимаю! — сказал Караев, откинувшись в кресле.
— Дело, видите ли, в том, что у вас находятся двое моих людей. Я предложил бы за них крупную сумму — десять тысяч рублей… выкуп.
— Я не понимаю! — хриплым голосом произнес ротмистр. — Какие люди? Какой выкуп? Вы меня с кем-то путаете, милостивый государь!
Он сделал движение, чтобы подняться, но китаец неожиданно быстро и легко пододвинулся к нему вместе со стулом и остановил его вежливо, но твердо:
— Не спешите, господин ротмистр! Сейчас вы поймете. В тридцать шестом полку были арестованы два человека — содержатели кофейни для кадет…
— Большевики! — сказал Караев.
Китаец коротко хихикнул, потом раскрыл рот, и все тело его затряслось от смеха. Караев с недоумением посмотрел на китайца. Тот неожиданно замолк и, наклонившись к ротмистру, вполголоса сказал:
— Наши люди не бывают большевики. Политика — не наше дело.
— Какие ваши люди? Кто это вы? — раздраженно спросил Караев.
Китаец осклабился, обнажив крупные белые зубы.
— Мы коммерсанты фирмы «Три Т».
Караев вскочил.
— Что за чертовщину вы городите, господин коммерсант?! Что это за торговля? В кофейне найдено оружие!
Китаец спокойно смотрел на него.
— Каждый коммерсант по-своему. В нашей коммерции оружие необходимо. Я думаю, вы слыхали о такой фирме — «Три туза»?
Караев прищурился. «Три туза» — это была бандитская шайка, филиал крупнейшей шанхайской организации преступников, главным источником дохода которой являлось вымогательство. Похищая кого-нибудь из членов состоятельной семьи, бандиты назначали выкупную цену. Если проходил срок и выкуп не поступал, глава семьи получал от бандитов напоминание с приложением отрезанного пальца или уха жертвы. Если пострадавший не хотел платить или родственники его пытались с помощью полиции вернуть пленника, последнего убивали, а если это была женщина — ее продавали в публичный дом в Китай, в Маньчжурию. Шайка действовала дерзко и безнаказанно.
Караев возмущенно сказал:
— Ком-мерсанты?! Бандиты!
Китаец вежливо улыбнулся.
— Да, иногда нас называют и так, господин ротмистр. Для нас это такое же дело, как всякое другое! Мы даем товар, нам платят, очень просто… Я предлагаю вам дело. Подумайте: десять тысяч — это много!
— Я арестую вас! — сказал Караев. — Отправлю в милицию.
— Глупо! — спокойно ответил Ли Чжан-сюй. — Через час я буду на свободе.
— В контрразведку!
— Мы не занимаемся политикой… Я буду освобожден через два дня…
— Вы, однако, хорошо владеете собой! — усмехнулся Караев.
Китаец невозмутимо ответил:
— В нашей работе волнение излишне. Волнуются только наши клиенты.
Наступило молчание. Китаец выжидал. Он раскрыл и с треском закрыл свой веер. Десять раз проделал он это. «Десять тысяч!» — пронеслось у ротмистра в мозгу. Он вздрогнул. Китаец уловил это движение. Он дважды раскрыл и сложил пальцы правой руки. Десять!..
— Я уже отправил арестованных по назначению!
— Во-первых, вы еще не отправили их… Во-вторых, это будет стоить нам дороже, но дела не меняет! Я обратился к вам, чтобы несколько сэкономить!..
— Идите вы к черту вместе с вашими деньгами! — вдруг крикнул Караев бешено.
Но китаец не изменил ни выражения лица, ни позы. Он вынул из-за пазухи ушные принадлежности и, взяв один инструмент, стал почесывать в ухе. Однако столь наглое поведение не возмутило ротмистра. Он размышлял:
«…Аргутинский — сволочь… Получит арестованных и немедленно уступит этому «коммерсанту». Ишь, ковыряется, как дома… Вот выставлю сейчас с треском! Или под замок! Впрочем, у них такая организация… Убьют, мерзавцы, и следов не найдешь. Вот на Миллионке попал в переплет. Кто бил? Чем бил? Попробуй узнай!.. Может статься, что и из этой шайки кто-нибудь… Десять тысяч! А Аргутинский, гад, поди и раздумывать не станет… Десять тысяч… Ишь, расселся! Наперед уверен, прохвост, что я буду согласен. М-морда! Идол китайский!.. Впрочем… Содрать с него?»
— Пятнадцать! — сказал ротмистр и закусил губы.
Ли Чжан-сюй тотчас же сложил принадлежности и сунул их на место. Вынул из кармана портсигар, сигареты.
— Курите? Пятнадцать — это много…
Незабинтованное ухо Караева было пунцовым. Китаец покосился на него и решительно сказал:
— Десять. Очень хорошо. Мы всех выкупаем за эту цену. Пять тысяч с головы. Очень хорошо.
Неуверенным голосом Караев проронил:
— Не могу же я освободить их из-под стражи за здорово живешь! Как же быть?
Китаец озабоченно посмотрел на своего спутника. Тот спокойно сказал:
— Надо отправить их во Владивосток с небольшой охраной. Остальное — мое дело!
Караев глубоко затянулся дымом сигареты, потом вынул из кармана брюк плоский флакон с серебряной крышкой и брызнул из него на ладонь несколько капель крепкого одеколона. Ухо его понемногу принимало нормальный цвет.
— Деньги с вами?
— Как только вы отдадите нужные приказания, деньги будут в ваших руках!
Караев нервно хрустнул пальцами. Позвонил в колокольчик, стоявший на столе. В дверях показался рябой.
— Писарю скажешь: арестованные этапируются в город, на Полтавскую, три. Сейчас же. Вызовешь двух конвойных.
Иванцов вышел.
Караев протянул руку. В соседней комнате послышались голоса. Рябой вошел и, нагнувшись к уху ротмистра, сказал:
— С Полтавской, господин ротмистр!
В ту же секунду в комнату вошел офицер в каппелевской форме. Щеголевато козырнув на французский манер двумя пальцами, он спросил:
— Ротмистр Караев?
— Точно так! — поднялся с кресла Караев.
— Поручик Степанов! — сказал каппелевец.
Караев посмотрел на китайца, который перед этим взял из рук помощника пакет, завернутый в плотную бумагу. Быстрым движением ротмистр вскрыл протянутый ему контрразведчиком конверт и, прочтя, вздрогнул. Это было предписание направить арестованных в контрразведку. Он опять взглянул на толстый синий пакет в руках Ли Чжан-сюя, и взгляд его изобразил почти отчаяние. Губы плохо повиновались ему, когда он с деланным оживлением сказал прибывшему:
— А я только что собирался отправить их к вам. Заготовлена сопроводительная и конвой.
Китаец вопросительно поднял брови, потом подмигнул, как бы говоря: «Это меня устраивает». Караев живо спросил:
— С вами, господин поручик, есть люди?
— Никак нет. Я полагал…
— Да-да, я дам своих двух!
Китаец за спиной Степанова отрицательно покачал головой, оттопырил губы и всем видом своим выразил несогласие. Он кивнул на офицера и показал два пальца. Караев принял озабоченное выражение и в раздумье сказал:
— Впрочем, двух дать я не могу. Только одного. Вдвоем, я думаю, управитесь?
Поручик небрежно сел в кресло, закурил и, пожав плечами, ответил:
— Надеюсь! Справлялись до сих пор.
Сбросив пепел на пол, он с некоторым недоумением оглядел присутствующих.
— Портной, — поспешно сказал ротмистр, кивая на китайца.
— Новое?
— Нет, перелицовка… Иванцов! — крикнул Караев. Когда казак вошел, Караев распорядился: — Будешь сопровождать арестованных!
— Есть сопровождать арестованных! — ответил рябой.
Несколько минут прошло в молчании. Его нарушил Караев:
— Что нового у вас?
— Цыганы сегодня в «Золотом Роге». Готовится что-то сногсшибательное. Поет Ляля Туманная… Не думаете быть?
— Куда мне с этой балаболкой? — показал на забинтованную голову ротмистр.
— Где это вас угораздило?
— Упал с крыльца, — не совсем охотно удовлетворил любопытство собеседника ротмистр. — А впрочем, может быть, в ложу пойти, чтобы не пугать людей?..
Вошел писарь-вольноопределяющийся с документами арестованных. Что-то дрогнуло в его лице, когда он встретился взглядом со спутником Ли. Однако тот был по-прежнему равнодушен ко всему, и Борис Любанский поспешно отвел свой взор. Поручик забрал документы, написал расписку в получении. Иванцов, возвратившись, доложил, что арестованные прибыли. Поручик встал, аккуратно загасил папироску, надел фуражку.
— Ну-с, будьте здоровы. Может быть, в «Золотом Роге» все-таки встретимся! На всякий случай закажу ложу «Б»… Не возражаете?
Глаза ротмистра заблестели. Он потер руки.
— Нет, конечно! Руси веселие есть пити.
Откозырнув, поручик Степанов вышел. Караев обернулся к Ли Чжан-сюю:
— Ну, мистер, рассчитаемся? Как видите, отправляю.
— Пожалуйста! — сказал тот, не ответив на улыбку Караева, и передал ему пачки денег.
Ротмистр подозрительно посмотрел на них. Но голубые банковские бандероли успокоили его.
— Только я попрошу вас, — тихонько заметил он Ли, — с конвоиром полегче. Не хочется мне грех на душу принимать… А?
— За целость упаковки наша фирма не отвечает! — сказал Ли сухо.
Попрощался с ротмистром и поспешно вышел.
Ротмистр поглядел на аккуратные толстые пачки денег, постучал ими по столу. Прислушался к глухому звуку.
— Зазвенят! — сказал он и, глядя в зеркало, стал поспешно развязывать голову. — Может быть, не так уж и страшно? Вагон бинта намотали, черти! Вот столько снять — и фуражка налезет.
Караев принялся тщательно одеваться.
Возясь с крагами, он вслух сказал:
— А ведь пришьют эти бандюги хунхузы моего рябого и этого беднягу поручика! Наверняка.
Телефонный звонок оторвал его от одевания.
— Я слушаю!
Из трубки донеслось:
— Господин ротмистр! Тут за арестованными с Полтавской конвой прибыл.
— Отправил уже! — сказал Караев.
— Никак нет! Они говорят, с Полтавской никого не посылали.
Караев медленно опустил трубку на стол. И сам сел в кресло. Взгляд его бессмысленно уставился на папиросу, не докуренную поручиком Степановым…
5
Ли Чжан-сюй торопился. Он потерял всю свою важность, с которой сидел, развалившись в кресле у начальника сотни особого назначения. Он взмок через сотню шагов. Плотная, с твердыми полями соломенная шляпа показалась ему тесной, халат — узким. Точно женщина, придерживая руками халат на бедрах, он шагал, широко расставляя ноги.
К отходу катера поспели вовремя.
Арестованные и конвоиры поместились в рубке рулевого. Там было тесно. Рулевой недовольно косился, ворчал, бросал сердитые взгляды на офицера. Но Степанов молчал, пренебрегая его недовольством, курил папиросы одну за другой, бросая окурки за борт в открытый иллюминатор.
Китаец со своим спутником первыми сошли с катера. Стали в сторону, внимательно наблюдая за немногими пассажирами. Когда пристань опустела, тогда — конвоир впереди, за ним арестованные, потом офицер — оставили катер и направились к выходу из порта. Степанов оглядывался время от времени по сторонам. Лицо рябого приняло свойственное ему выражение тупого безразличия ко всему. Он тяжело ступал по мостовой, держа винтовку наперевес.
Вслед за ними отправился и Ли Чжан-сюй со своим спутником.
Офицер свернул в тихий переулок. Ли нагнал группу. Степанов замедлил шаг. Спутник Ли, поравнявшись с арестованными, сказал тихо:
— Ну, здравствуйте, ребята!
Арестованные разом обернулись к нему. Нина не могла сдержать возгласа изумления и радости. Семен остановился и широко раскрыл глаза:
— Виталий!
Рябой встревоженно перекинул винтовку наперевес и угрожающе крикнул:
— Эй, там! С арестованными не разговаривать!
В ту же секунду поручик Степанов сильным ударом свалил его с ног. В глазах рябого мелькнуло лицо девушки, изумленно взглянувшей на офицера. Падая, он увидел, как девушка бросилась к чернявому пареньку, что сопровождал китайца. Вслед за тем Ли выхватил у него винтовку, ударил прикладом, и рябой потерял сознание. Степанов прицелился было в упавшего конвоира, но Виталий остановил:
— Не надо! И так не скоро очухается.
Китаец отстегнул от винтовки ремень, связал им руки и ноги конвоира, вытащил платок, запихнул в рот казаку. Переулок был пустынным в этот час дня. Оглушенного казака втащили в первый попавшийся подъезд. Все произошло так быстро, что Нина не могла прийти в себя. Она нервно сжимала пальцы. Она видела, что и офицер и китаец участвовали в их освобождении, поняла, что это свои, лихорадочно пожала руку Степанову и Ли.
— Спасибо, товарищи! Ах, спасибо!.. Мы столько натерпелись…
Виталий заметил:
— А ты что думала? Так вам и пропадать? — Потом он заторопился. — А теперь — ходу! Ходу, ребята!
Бегом они пролетели переулок, свернули в боковую улицу, вышли по ней на Светланскую и тотчас же затерялись в толпе прохожих.
Глава 3 Напали на след
1
Михайлов посмотрел на них:
— Неплохо! Неплохо, товарищи! Все, значит, сошло? Ну-ка, дайте я погляжу на вас… Э-э, да чего там глядеть!
Он привлек к себе по очереди каждого из молодых людей и крепко поцеловал.
— Ну, счастлив ваш бог, что все обошлось… без жертв. Казака я не считаю…
— Да он испугом отделался, — сказал Степанов. — Хотел я его… да вот товарищ не дал! — указал он на Виталия.
Юноша открыто смотрел на Михайлова.
— Лишняя смерть. Дела это не меняло.
— Интеллигентские мерехлюндии! — сердито сказал Михайлов. — Ты думаешь, им такое соображение в голову пришло бы? Пристукнули бы за милую душу.
— Выстрел мог привлечь внимание!
— То-то! Так бы и говорил, а то «лишняя смерть», — усмехнулся Михайлов. Однако улыбка его тотчас же исчезла. — Как бы нам этот казак боком не вышел. Он видел вас у Караева… присмотрелся! Запомнил… если Ли не совсем отшиб ему память.
Ли показал на Степанова:
— Вот он, наверно, отшиб… Я только мало-мало добавил.
Степанов рассмеялся.
— Ну, Ли, я думал, ты только на сцене умеешь играть да вышагивать с красной бородой, а ты так ловко управился с винтовкой, что я диву дался.
Ли с достоинством ответил:
— Каждый китайский артист умеет фехтовать. И потом тебе стыдно не знать, что я играю роли благородных стариков и «вышагиваю» только с белой бородой.
Михайлов дружески похлопал Ли по плечу.
— На этот раз, Ли, ты сыграл самую благородную роль в своей жизни, хотя и играл роль бандита из «Трех тузов»! Не так ли?
Михайлов обратился к Виталию:
— Ну, хозяин, куда ты думаешь девать своих крестников?
Виталий простодушно сказал:
— Да я еще не думал. Надо было их выцарапать. А место найти можно.
— А именно?
— Пока пусть в мастерских Военного порта побудут, есть там люди, что приютят их. А потом видно будет.
— Вот хорошо! — сказала Нина. — Я бывала в Военном порту часто. Там у меня много знакомых — работала, когда готовилось восстание против генерала Розанова.
— Плохо! — поморщился Михайлов. — Тебя, значит, в лицо там хорошо знают?
— Ну еще бы!
— Никуда не годится. Шпики мигом заметят. И не миновать тебе Полтавской… Никуда не годится!.. — Он подумал и, глядя на смущенных Нину и Виталия, сказал: — Надо их на время убрать подальше… Придется в деревню отослать.
Семен покачал головой:
— Как же это так? Тут дело горит, а нас в деревню? Товарищ Михайлов!
Михайлов нахмурился.
— А мы вас не на лечение в деревню пошлем, товарищ Семен. Что же ты думаешь, там не горит? Горит везде… Я думаю, уже и Меркулов и генеральские его прихвостни чемоданы пакуют… Не знаю, какой еще фортель они выкинут, а уже деньги и ценности в Японию отправляют. Значит, драпать готовятся. Двадцать шестое мая им как мертвому припарки! Народно-революционная армия готовится нажать на меркуловских. Надо, значит, тылы у них рвать, партизанить, не давать фуражу, продовольствия, подвод, пути разрушать.
— Ну, это другое дело! — успокоился Семен.
— Тот-то! — Михайлов обратился к Виталию: — Я думаю, неплохо бы отправить ребят в район Раздольного! А? Там сейчас молодежь шевелится. Нужны смелые люди! — Немного подумал. — Топоркову люди нужны. На Сучане тоже. Значит, решено? Семена — на Сучан, Нину — к Топоркову.
Бонивур оглядел товарищей. Вот стоят они, только что вырванные из рук смерти. Возбуждение горит на их молодых лицах, глаза блестят от радости встречи со своими, от радости жизни, что вновь дана им. Надолго ли?
Высокий, статный Семен, робея в присутствии Михайлова, то и дело приглаживал рукой свои белокурые пышные волосы, которые прядями падали на его широкий, упрямый лоб. Глаза его, голубые глаза спокойного и сильного человека, устремлены на Михайлова. Семен обеспокоен мыслью: так ли, как подобает комсомольцу, держал он себя в подполье и в лапах контрразведки? Он пытается найти ответ на свой вопрос во взгляде Михайлова. Широкая грудь его вздымается от шумного дыхания.
Виталий про себя усмехается. «Чудило Семка! — думает он. — Когда надо было — не боялся, а сейчас совсем, кажись, перетрусил!» Он переводит взгляд на Нину. Та спокойна. Она смотрит на Михайлова с нескрываемым любопытством. Она не думает о себе, а по-детски, не сводя глаз, чуть-чуть кося, рассматривает председателя областкома. Она походит на Семена. Родственное сходство между ними велико. Но все черты ее лица мягче, нежнее, чище; тонкая кожа, длинные ресницы, красивый изгиб темных бровей, несколько капризный рисунок рта, облако пепельных волос. «Хороша!» — думает неожиданно Виталий, и вдруг холодок запоздалого страха за Нину ползет по его спине. Он переводит стеснившееся дыхание, а волна радости, оттого, что все прошло удачно, хорошо, что товарищи спасены, бросает его в жар.
Михайлов начал расспрашивать Семена. Ли и Степанов тоже вступили в разговор.
Нина незаметно кивнула головой Виталию и отошла к окну.
— Господи, Виталя, как я рада, что мы опять на свободе! Так рада, так рада, что до сих пор не могу опомниться…
— И я рад, Нина!
— Правда?
— Ну, еще бы! Все боялся, а вдруг переведут на Полтавскую? Тогда очень трудно было бы. Всех спрашиваю, как держались. Козлов говорит — молодцом! В Поспелове — тоже.
Нина сжала ладонями лицо, отчего оно вдруг стало детским, таким, каким было когда-то давно, когда Нина считалась отчаянной девчонкой. Пышные ее волосы рассыпались по плечам. Только сейчас заметил Виталий, как осунулась Нина за дни, проведенные под арестом. Он всегда хорошо относился к девушке, чувствуя к ней смутное влечение, а тут, когда увидел следы страдания на лице Нины, всегда веселом и приветливом, сердце его сжалось томительной болью. Он вдруг почувствовал, как она дорога ему. Нина же, виновато глядя на Виталия, тихо сказала:
— Мне так хотелось увидеть тебя, Виталя… Думаю: неужели меня убьют, а мы так и не встретимся?
— Вот мы и увиделись, — произнес Виталий ненужные слова.
Взор его встретился со взглядом Нины, и юноша увидел, что Нина готова заплакать, — столько невысказанного чувства таилось в ней. Она отняла руки от щек, которые залил румянец.
— Вот мы и увиделись! — повторила она фразу Виталия. — А мне хотелось бы побродить с тобой по улице, как раньше…
— Только не придется, Ниночка… бродить, — ответил он. — Придется прятаться, пока не утихнет все.
Нина с горечью повторила:
— Да придется прятаться. — И добавила: — А мне не хочется прятаться, Витенька! Я пока сидела в подвале, все думала, что больше уже ничего не сделаю…
Юноша коснулся ее руки.
— Не надо, Нина, еще сделаешь! Мы еще увидимся, еще поработаем.
Семен до боли крепко сжал руку Виталия. Он не сказал ни слова. Но в пожатии этом Виталий почувствовал, что дружба их, скрепленная тем, что произошло, стала еще прочнее и ни расстояние, ни несчастья не охладят ее. С грустью он молвил:
— Ну вот и опять расстаемся, Сема. Где приведется увидеться?
Нина, точно эхо, повторила:
— Вот и опять расстаемся.
Они притихли, глядя друг на друга. Кто знает, скоро ли судьба сведет их вновь, подарит встречу?
Михайлов, заметив их состояние, сказал:
— Эй, эй! Комсомольцы! Чего носы повесили?
Он опять обнял обоих Ильченко, расцеловался с ними и напутствовал:
— Вот что, друзья! Пишите обо всем, где бы ни были, и о себе не забывайте сообщать. А наипаче не тоскуйте, будьте злее! Тогда и свидимся скорее… Так? Так.
2
Переодевшись, вырванные из рук охранки комсомольцы, а с ними Степанов, который, сняв с себя офицерскую форму, превратился в слесаря завода Воронкова, и Ли Чжан-сюй вышли из квартиры. Ли пошел на Пекинскую улицу, где помещался театр «Ста драконов», Степанов с комсомольцами поехал на Мальцевский базар, где приготовлена была ночевка.
Виталию Михайлов сказал:
— Ты пока останься, есть дело!
…Темный абажур скрадывал сильный свет электрической лампы, погружая в полумрак углы комнаты. Резкие тени легли на лицо Михайлова, отчего стали яснее видны шишковатый, упрямый лоб и сильно развитые надбровья, широкие скулы и крупный нос, глубокие глаза и плотно сжатый рот. В потоках света, изливавшихся прямо на характерную голову Михайлова, Виталий увидел, что она серебрится от седины, проступившей и на висках. «А ведь ему только тридцать пять!» — подумал Виталий.
В свою очередь и Михайлов рассматривал Виталия, словно видел впервые его продолговатое лицо, худые щеки, румянец на смуглых скулах, густые, красивые брови, сросшиеся на переносице и крыльями взлетавшие к вискам, прямой нос, точно вырезанные, полные, не утратившие еще округлости очертаний губы. Какая-то угловатая мягкость, столь свойственная подросткам, еще лежала на нем. Однако крепкий, сомкнутый рот и серьезный немигающий взгляд темных, внимательных глаз придавали всему лицу Бонивура выражение зрелости.
— Я ведь тебя только по анкете знаю, — сказал неожиданно Михайлов. — Ты одинокий?
— Да.
— У тебя сестра и мать были? Я помню, в девятнадцатом на подпольной конференции встречался с твоей сестрой. Она мне говорила о тебе. Потом мне пришлось уехать, и я потерял связь. Где она сейчас?
— Убили белые. В двадцатом, когда японцы провокацию устроили, — тихо сказал Виталий. — Тогда, когда и Лазо, и Сибирцев, и Луцкий, и другие погибли.
— Знаю… А мама где?
Михайлов так мягко сказал слово «мама», что у Виталия защемило сердце, и он живо представил себе мать вот так же она смотрела и на Лиду, и на него, как смотрит сейчас Михайлов. На глаза его навернулись слезы. Еще тише он проронил:
— Мы тогда очень плохо жили. Мама простудилась. Долго болела. Гимназию я бросил, поступил на завод Воронкова чернорабочим. Мама горевала долго… Все скучала по Лидочке… Потом… — у юноши перехватило голос, одними губами, беззвучно, он произнес слово, которое не услышал, а угадал Михайлов, — умерла.
Михайлов тихонько вздохнул, потом раздумчиво сказал:
— Та-ак!.. Ну, а с этими ребятами давно ли знаком?
— Вместе вступали в комсомол. Тогда же нам поручение дали: листовки распространять. О зверствах японцев в Мазановском районе, когда они там восстание подавляли. С Ниной мы ровесники. Она — сестренка Анны, которая у Лидочки часто бывала… Анна сейчас в Анучине, в партизанском отряде.
— Ты извини меня за расспросы. Не хотел, да больно задел! — после некоторого молчания сказал Михайлов. — Анкета — это полдела… Оттого и расспрашиваю… Ты Первую Речку знаешь? Ладно. Так вот… через нее военные грузы идут, там депо… белые бронепоезда ремонтируют! Надо этим ремонтом заняться. Понял? Дело несложное, но тонкое. Ты слесарем работал, напильник держать сумеешь, ну, а уж что касается ремонта и ребят — тоже надо суметь… Молодежи там много. Сговоришься с ними?
— Попробую! — ответил Виталий.
3
Несколько дней Виталий, по совету Михайлова, не выходил из дому. Охранка рыскала по городу. Ли зашел как-то вечером к Виталию и сказал, что Михайлов очень встревожен активностью контрразведки, Семена уже отправили на Сучан, Степанов скрывается, и ему, Ли, тоже пришлось отказаться, по настоянию Михайлова, от выступлений в театре.
Виталий поселился у матери Любанского, на Орлиной Горе, откуда весь порт был виден как на ладони. Маленький домик ее был построен чуть ли не в год основания Владивостока, из бревен, каких уже полвека не видели в городе. Он стоял над обрывом. Хлопотливая хозяйка, Устинья Петровна Любанская, умела следить за домом: все внутри блистало чистотой, комнаты были всегда выбелены, стекла протерты до полной прозрачности, полы выкрашены желтой краской, нехитрая мебель — столы, стулья, кровати, комод — все свидетельствовало о хозяйственности Любанской.
Комнаты странно напоминали каюты. Муж Любанской был моряком-механиком.
На самом видном месте в столовой висела фотография Устиньи Петровны с мужем. Сняты они были после венца. Устинья Петровна, в фате и подвенечном наряде, с букетом цветов, гордо сидела на фигурном станочке, изображавшем скалу. Механик стоял возле нее, положив одну руку на плечо жены, другую выгнув кренделем.
Японский веер, китайские болванчики, малайский крис, бамбуковые шкатулки, страусовые перья, морские камешки бог знает с каких побережий, рисунки на полотне, коробочки из ракушек, акулий зуб, ремень из кожи крокодила — сувениры на память о дальних плаваниях механика — виднелись всюду, развешанные по стенам, либо сложенные в определенном, годами не менявшемся порядке. Все напоминало о механике, которому Устинья Петровна хранила неизменную верность и считала его как бы в дальнем (очень дальнем!) плавании. Тикал на стене морской хронометр. Трепетала стрелка «буреметра». Каютный термометр с красной спиртовой палочкой уютно устроился в простенке, благожелательно и услужливо показывая и зимой и летом одну и ту же цифру 18 Цельсия.
Ставни, напоминавшие о тех временах, когда в городе было небезопасно жить, — сейчас уже не встретишь их во всем городе, — были покрашены веселенькой голубой краской; крошечную веранду оплетали вьющиеся растения горошек, вьюнок, плющ.
Цветы были страстью Любанской. Фикусы, рододендроны загромождали комнатки. Виталий то и дело наталкивался на них.
Виталий не умел скучать. Невольное заключение свое он использовал для того, чтобы подзаняться. Имущества у него было немного, но большую часть его составляли книги. Целые дни проводил он теперь в маленькой комнатке, которую отвела ему Устинья Петровна.
— Что это, батюшка, тебя не видно и не слышно? — спрашивала его Любанская, заглядывая в комнату. — Все читаешь? Смотри-ка зачитаешься… У нас один баталер так — все читал, читал, а потом в воду и кинулся.
— Ну я не кинусь! — смеялся Виталий.
— То-то, что не кинешься, сама знаю… А все равно — все не перечитаешь. Шел бы со мной, старухой, поговорил, что ли…
Зная, как уважает и слушается черноглазого паренька ее сын, старушка благоволила к Виталию. Догадывалась ли она о той роли, какую в жизни ее сына играл Бонивур, последнему было непонятно. Устинья Петровна не задавала ни сыну, ни постояльцу никаких вопросов. Было ли ее поведение простой осторожностью или за этим стояло раз навсегда принятое решение — не вмешиваться в жизнь молодых, никто не знал. Однако часть своей любви к сыну она перенесла и на Виталия. Старалась по-своему развлечь его, если замечала, что у постояльца было дурное настроение. Нелюбопытная, когда дело касалось Бонивура или сына, она, как все старушки, проявляла крайнее любопытство во всем остальном. Обычно приносила с базара ворох новостей, и Виталий подшучивал, что Устинья Петровна на базар ходила не за покупками, а за бесплатными новостями. Старушка степенно оправдывалась:
— Ну и что? Ну и послушаю… Уши не завянут. А иной раз так интересно рассказывают, что и не придумаешь.
— Так ведь вздор говорят-то.
— Ну уж, и вздор! Это как смотреть… А то и не вздор.
Виталий смеялся:
— Что холера в виде червяка ползает по улицам?
— И ползает, батюшка.
— Что по городу святая молитва ходит, в пещере найденная? И кто ее получит, должен семь раз переписать да дальше пустить — и тогда война кончится и все хорошо будет?
Устинья Петровна обидчиво поджимала губы.
— Ну, ты как хочешь, верь или нет! А молитва эта силу имеет. Как перепишешь ее семь раз, так мысли в такой порядок придут, что кажется…
Виталий хохотал.
— Так вы, Устинья Петровна, переписывали?
— Ну и переписывала… А тебе что?
— Пришли мысли в порядок?
— А то как же? Конечно, пришли! Ты вот смеешься надо мной, старухой, а у самого ума-то не хватает, чтобы меня уважить да помолчать…
— Да я молчу уж, мама! — говорил примирительно Виталий.
Стоило ему назвать Устинью Петровну мамой, ссора мгновенно утихала.
Однажды Устинья Петровна вернулась с базара поздно. С корзинкой в руках, не раздеваясь, она прошла в комнату Виталия. Присела на стул.
— Все сидишь?
— А что?
— Послушай меня, что скажу…
Она подсела поближе. Доверительно, вполголоса, сказала:
— Витенька! Говорят, на Русском Острове подпольщиков арестовали. А? Ты не слыхал?
Виталий встревоженно посмотрел на Устинью Петровну.
«Неужели новые аресты?» — пронеслось у него в голове. И тотчас же ему представились Борис Любанский и Козлов, которым опасность угрожала ежечасно… Устинья Петровна, заметив, как изменился в лице ее постоялец, поспешно добавила:
— Говорят, отбили этих арестованных в городе…
У Виталия отлегло от сердца, он сообразил, что речь идет об Ильченко.
— Говорят, в газете про это напечатано! — сказала Устинья Петровна.
— А вы не принесли газету, мама?
— Нет. Наших-то нету, все раскупили. Только «Владиво-Ниппо» осталась.
— Надо бы взять, Устинья Петровна!
— Стара я, батюшка мой, японскую газету читать. Ты ведь знаешь, мой-то служил старшим механиком на «Рюрике», смерть от японцев принял. Я с тех пор у японцев и покупать-то ничего не покупаю.
Что же все-таки было известно белым об этой истории? Если напечатали, значит, делу дан ход. Виталий принялся одеваться. Нахлобучил кепку, накинул на плечи пиджак. Устинья Петровна встала на пути.
— Куда ты, Витенька? Может, не выходить бы тебе, а?
В ее голосе слышалось беспокойство. Как видно, Устинья Петровна кое-что понимала в жизни. Виталий спокойно сказал:
— Надоело сидеть, пройдусь!
Бежали, перезваниваясь, трамваи. Стайки воробьев то прыгали по мостовой, то взметывались на провода. Разношерстная публика сплошным потоком текла по улице. Беспрестанно козыряя, шли многочисленные военные. Блестели погоны на плечах, слышался звон шпор, женский смех, обрывки разговоров. Виталию не хотелось далеко отходить от дома. Но, будто назло, вблизи не было ни одного газетчика. Их крики слышались возле сада Невельского. Виталий пошел туда. В сквере подле высокого обелиска, увенчанного глобусом, на котором распластался орел, гордо и хищно глядя на море, было людно. Дамы и няньки с детскими колясками прохаживались вдоль насыпных дорожек. Пожилые мужчины сидели на скамейках. Виталий услышал:
— А вот газета! Что ни пишет — все читают! «Ниппо-Владиво»! «Владиво-Ниппо!» Дерзкое ограбление миллионера Радомышельского… Все новости дня! Большевистская дерзость! Неслыханное преступление! Неслыханное!
— Поди сюда! — окликнул Виталий газетчика.
Вихрастый веснушчатый мальчуган в американских краснокрестовских башмаках и вельветовой японской куртке подскочил к нему.
Виталий поспешно просмотрел газету. На последней странице он увидел заголовок: «В России никогда не будет порядка!» И дальше: «Дерзкое, неслыханное нападение большевиков на конвой».
Японский журналист описывал, как на конвой, сопровождавший двух большевиков, арестованных на Русском Острове, напали сообщники и силой их освободили.
Статья была явно инспирирована контрразведкой… Виталий медленно сложил газету.
В этот момент кто-то сзади закрыл ему глаза.
Виталий инстинктивно нырнул вниз и в сторону. Однако знакомый смех заставил его выпрямиться и обернуться.
Перед ним, залитая солнечным светом, стояла Нина. Она была без платка. Пышные волосы, которые она тщательно пыталась обуздать шпильками, свели на нет все ее ухищрения и, развеваясь от легкого морского ветра, окружали ореолом ее лицо, сияющее радостью встречи.
— Ты с ума сошла, Нина! — сказал возмущенно Виталий. И тихо: — Днем по городу? В сквере гуляешь? Да ты что, маленькая?
Нина (взбалмошная девчонка прежних лет на минуту проснулась в ней) показала Виталию язык.
— Да… маленькая! А ты — старик. Или не рад?
Она так радовалась неожиданной встрече, что все, о чем Виталий хотел сказать ей, — что недопустимо рисковать собой, показываясь на улицах, пока еще не улеглось волнение, вызванное их дерзостью, что шпики наводняют город, — все вылетело у него из головы. И он не мог не признаться, что и он тоже рад.
— Я ехала на вокзал, вижу — ты торчишь посреди сквера, как столб! Тоже конспиратор! — ввернула Нина колкость, не желая, по своей привычке, у кого-нибудь, даже у Виталия, оставаться в долгу. — До поезда еще час… думаю, успею, — и с трамвая сюда…
— Как же ты меня узнала?
— А ты бы не узнал меня, Витенька? — прищурилась Нина.
Виталий должен был сознаться, что и он узнал бы Нину.
— Проводишь меня на вокзал, Витенька? — спросила девушка.
«Безумие!» — мысленно возмутился Виталий, но утвердительно кивнул головой, и они пошли по Светланской. Виталий взял Нину под руку и ощутил, нечаянно прижавшись к ней, как стучит сердце девушки. «Кажется, я обнял бы ее сейчас!» — подумал он, впервые в жизни ощутив такое желание.
Нине передалось настроение юноши, и она тоже притихла. Так шли они по городу. В этот момент для них перестали существовать все опасности.
Время от времени они взглядывали друг на друга, и беспричинная улыбка всплывала на их лицах.
4
Путь до вокзала показался им коротким.
Когда здание вокзала, похожее на боярский терем, с огромным двуглавым орлом из полосового железа на коньке, оказалось перед молодыми людьми, Нина недоуменно подняла брови.
— Как быстро мы пришли, Виталий! — и легонько вздохнула от переполнявших ее чувств. Виталий в ответ пожал ее руку.
До отхода поезда оставалось полчаса.
Зал первого класса был полон. Ждали прибытия маньчжурского поезда.
Виталий и Нина оставались на марше лестницы, ведущей к перрону. Нина облокотилась на перила. Мимолетная тень легла на ее лицо.
— Вот и уезжаю я…
— Это ненадолго, Нина.
— Как сказать!..
Увидятся ли они? Скоро ли увидятся? Оба задавали себе этот вопрос, но ответить на него не могли — слишком неясно было все впереди. Нина настороженно огляделась по сторонам. Виталий вопросительно взглянул на нее.
— Я пугливая стала, — сказала Нина. — В Поспелове в подвале сидела, думала, думала… И ты из головы не выходишь. И Семена жалко. Ведь он из-за меня попал…
— Ну, не из-за тебя, положим… Случай вышел такой.
— И тебя жалко было больше не увидеть… Забудусь — снова все мерещится, что этот Григорьев ко мне лезет, а в руках у него какая-то не то веревка, не то змея. Накинет ее на меня, а она, понимаешь, сама затягивается на шее петлей. Холодная, скользкая. — Нина вздрогнула. — Очнусь, себя руками пощупаю: живая еще, — а надолго ли? Не хотелось умирать… Я ведь, Витя, ничего в жизни еще не видела… Все одна да одна. Теперь вот Сему на Сучан отправила и даже проститься не успела… Может, и не увижу его больше…
— Увидишь…
— Увижу ли? — тоскливо сказала Нина.
Она полузакрыла глаза, и Виталий увидел, как пульсирует на виске девушки тоненькая голубая жилка, которой раньше не было заметно.
— Ты сильно похудела, Нина!
Девушка овладела собой. Уже задорно она посмотрела на спутника.
— Значит, я не нравлюсь тебе больше?
— Да нет, я не в этом смысле, Нина… Ты хорошая, честное слово!
Милая, простая, сероглазая… Сердце юноши сжалось. Он порывисто схватил руку девушки.
— Ты хорошая.
Виталия перестали смущать взгляды пассажиров. Он придвинулся к Нине и не мог отпустить ее руку. Нина тихо спросила:
— Скажи, Виталя… Ты… кого-нибудь любил?
Так же тихо юноша ответил:
— Нет, Нина… никого не любил.
И они опять замолчали. Слова казались лишними.
…Резкий звук колокола вывел их из забытья. Виталий встрепенулся:
— Ты опоздаешь, Нина… Нинуся!
Он еще не умел говорить ласковых слов и смутился. Нина посмотрела на него.
— Мне так много надо сказать тебе, Витенька!
— И мне, Нина!
— Поезд уйдет.
— Да, надо идти… — со вздохом произнес Виталий. Он невольно потянулся к Нине.
Но выражение ее лица внезапно изменилось. С тревогой она шепнула:
— Сейчас же вниз, быстро!.. И выбирайся с вокзала.
Из дверей зала первого класса на Нину смотрели двое — казак и офицер. В казаке Виталий узнал рябого. Казак что-то объяснял офицеру. Губы его быстро шевелились. Офицер нахмурился и поманил пальцем кого-то из сидевших в зале.
Виталий и Нина бросились вниз, на перрон.
Дверь зала распахнулась…
5
Они пролетели лестницу. В этот момент раздался свисток главного кондуктора. Виталий посмотрел вверх, в лестничный пролет. Оттуда несся топот ног и звяканье шпор. Значит, погоня… Плохо!
Контролер, позевывая, стоял у двери. Нина и Виталий промчались мимо него.
— Предъявите билеты! — крикнул контролер.
Виталий захлопнул тяжелую дверь и дважды повернул ключ, торчащий в замке.
Поезд тронулся.
— Быстро, Нина, садись! В Раздольном спрыгнешь перед семафором, а то линию предупредят! На станции схватят сразу…
Они не успели попрощаться. На ходу Нина вскочила на подножку вагона.
— В вагон! В вагон! — махнул ей рукой Виталий.
Нина захлопнула за собой дверь. Прижалась к стеклу бледным лицом, чтобы еще раз взглянуть на Виталия. Поезд качнулся на повороте. Виталий исчез из виду.
Со звоном разлетелось стекло вокзальной двери, разбитое прикладом Иванцова. Виталий заметался по перрону меж немногих провожающих. Контролер высунулся в разбитое окно и вынимал ключ, оставленный в пробое. Потом на его месте показался рябой. Он рысьими глазами вцепился в Виталия и поднял винтовку. Негромко хлопнул выстрел. Легкий дымок растаял тотчас же. Пассажиры шарахнулись под защиту стен.
Виталий бросился к виадуку. «Надо бежать в порт! Там не найдут».
Окованные железом мелкие неудобные ступени подъема на виадук грохотали на весь вокзал.
Пронзительный свисток резанул ему уши.
— Держите-е-е! Хватай его! — на разные голоса кричали с перрона.
Крик снизу привлек внимание работавших в багажном отделении. Оттуда высыпали люди. Какой-то военный побежал навстречу, на ходу вытаскивая из кобуры револьвер. Виталий выскочил на виадук. Что есть силы ударил военного. Тот покатился по дощатому настилу. Кто-то из рабочих багажного отделения крикнул:
— Эй, парень! Сыпь сюда! Живо!
Виталий на мгновение заколебался. Но бежать через багажное отделение, чтобы оказаться на площади перед вокзалом, было безумием. Он кинулся через виадук, к порту.
Снизу, из порта, где возле вагонов с углем возились грузчики, было видно, как убегал Виталий. На виадуке показались его преследователи. Грузчики поняли, какой беглец был перед ними. Побросав работу, они следили за происходившим. Один из них, наставив ладони рупором, изо всей силы крикнул:
— Эй, ты! Давай сюда! Через верх… На уголь! Сыпь!
Виталий, бросив взгляд на спуск с виадука, который выводил его в глухой переулок между двумя заборами, ограждавшими территорию вокзала и порта, мгновенно оценил обстановку. Добежав до конца виадука, он перемахнул через перила. По рельсовому переплету спустился до половины. Потом, сильно оттолкнувшись, перепрыгнул через забор, отделявший территорию порта от дороги, и упал на гору угля за забором.
— Под вагонами, под вагонами давай! — крикнул тот же рабочий.
Виталий съехал вниз и кинулся под вагоны, стоявшие на портовой ветке.
С виадука загремели выстрелы. Кто-то перелезал через перила. Остальные, грохоча сапогами, спускались по лестнице, чтобы поспеть к воротам порта и там перехватить Виталия.
Глава 4 Незнакомые товарищи
1
Виталий добрался до центральной части порта и направился к выходу. Однако наметанный глаз его сразу уловил что-то угрожающее в обычной портовой сумятице. У выхода сгрудилась толпа. Ворота были закрыты. Выйти в город можно было только через маленькую служебную калитку. Но у калитки стояли японские жандармы и несколько контрразведчиков. Китайская улица от порта до Светланской была оцеплена солдатами комендантского патруля. Уфимские стрелки, протянувшись неровной цепочкой от ворот до причалов, отрезали одну часть порта от другой.
Была ли это обычная проверка документов, какие часто устраивались в порту, когда приходили пароходы с побережья, или преследователи Виталия оказались расторопнее, чем можно было предположить, — не оставалось времени думать.
Виталий подошел к причалу пароходства Кайзерлинга, на котором заканчивал погрузку «Алеут». Из-за «Алеута» нельзя было рассмотреть, что за пароход стоял рядом с ним: косые форштевни, сильно наклоненные мачты, скошенные, низкие трубы, бушприт, вынесенный вперед, узкий корпус — все три китобойца Кайзерлинга были похожи друг на друга, как близнецы… Ах, если бы это был «Тунгус»! У кочегаров можно было скрыться, спрятаться на несколько часов!.. Миновав «Алеут», Виталий смог прочесть название второго судна: «Коряк»… Черт возьми, не везет ему сегодня!
В этот момент он увидел неподалеку от «Коряка» маленькую шампуньку. Молодой китаец, опираясь одной ногой на борт, быстро двигал своим длинным веслом «юли-юли» и ходко гнал лодку к причалу.
Виталий спустился на кранечную обшивку причала, чтобы не торчать на глазах у портовых, и негромко окликнул китайца. Тот оглянулся. Виталий махнул ему рукой: «Давай сюда!» Китаец перестал грести и крикнул:
— Тебе чего, шампунька надо?
Виталий молча кивнул головой.
Китаец опять крикнул:
— Тебе другой места ходи надо, тама ступеньки есть. Тут голова ломай могу!
Виталий молча требовательно показал рукой: «Здесь».
Китаец подвел свою валкую лодку к причалу, под самый приплеск. Кранцы оказались у него над головой. Было довольно высоко для посадки. Желание заработать боролось в нем с боязнью повредить свою утлую лодчонку. Он с сомнением глядел на Виталия — не хочет ли тот подшутить: кто же с такой высоты будет прыгать в лодку, — и придерживался вытянутыми руками за опалубку причала.
— Как тебе садись буду?
Вместо ответа Виталий скользнул вниз, повис на руках и легко спрыгнул в шампуньку. Как ни легок был его прыжок, лодчонка закачалась, черпнула бортом воды — во все стороны побежала черная волна — и пошла вперед, прямо к борту «Коряка», под струю пара, который сифонил из какой-то трубки. Китаец едва успел повернуть, избежав удара, и повел лодку вдоль борта. Явно испуганный, он был не рад неожиданному седоку и сердито сказал:
— Ты моя лодка ломай, я тогда чего делай буду?.. Тебе вода падай, низу ходи, помирай есть — моя чего делай буду? Милиса моя забирай.
Виталий поглядел на рассерженного лодочника.
— Моя помирай нету, лодка ломай нету, милиция ходи нету — тебе чего серчай?
— Тебе куда надо? — вместо ответа спросил китаец.
Куда же сейчас, в самом деле?.. Виталий снял кепку, сунул ее в карман, стащил с себя пиджак, выпустил рубаху из-под брюк и подпоясался ремешком. Китаец с любопытством глядел на него. Виталий лег на банку в позе человека, который едет на шампуньке давно и издалека.
— Мальцевский базар ходи, — сказал он наконец.
Искоса он поглядывал на то, что делается в порту. Цепи уфимских стрелков продвинулись от ворот к причалу Кайзерлинга. Значит, прочесывают весь порт. Вовремя же подвернулся ему этот лодочник!.. И Виталий усмехнулся: пока ему везет, напрасно он упрекал судьбу!
Китаец, минуя какой-то катер, подошел ближе к причалу. Он тоже заметил цепи солдат и с любопытством глядел, как они останавливают пассажиров, матросов и грузчиков. Виталий сказал негромко:
— Эй друг! Твоя лодка надо середина бухты ходи.
Китаец с хитрецой поглядел на Виталия.
— Тебе чего, боиса?
Виталий молча серьезно кивнул головой. Китаец одним рывком весла погнал шампуньку подальше от берега. Несколько минут он сосредоточенно молчал, что-то обдумывая. Потом, когда Виталий перестал следить за собой и, думая, что китаец уже забыл о его просьбе нахмурился, соображая, к кому на Мальцевском можно зайти, лодочник вдруг спросил:
— Тебе чего, мала-мала карабчи?
Смысл этого слова, которым на ломаном китайско-русском жаргоне обозначалась кража, сразу дошел до юноши. Краска бросилась ему в лицо — и не столько от сознания, что его могли заподозрить в краже, сколько оттого, что он плохо конспирировал, если случайный лодочник отлично понял, что просто так человек не садится в шампуньку, прыгая с четырехметровой высоты, не переодевается, изменяя свою внешность, и не избегает близости к берегу… «Сколько же я наделал глупостей! — сказал он сам себе. — Вроде все правильно сделал: незаметно сел в лодку, выиграл время и так далее… а вот на поди!» Китаец подмигнул ему.
— Моя думай, тебе карабчи нету…
— Почему же? — спросил Виталий невольно.
— Моя так думай: когда люди карабчи есть, тогда милиса лови! Когда лови солдатка, такой люди карабчи не могу…
Виталий отмолчался.
Замолк и китаец. Поняв, что пассажиру не до разговоров, он греб, не останавливаясь, и сильно гнал лодку равномерными движениями длинного весла. Казалось, он перестал интересоваться своим спутником… Длинными разбегами шли волны от кормы шампуньки, да, точно хвост рыбы, резало воду изогнутое весло. Только один раз остановился лодочник, когда весло заскрипело на кормовом шпеньке. Он быстро поднял весло, брызнул водой на углубление в накладке и опять принялся мерно работать.
Вечернее солнце бросило свои косые лучи на Чуркин мыс, на дома по Светланской улице. И весь пейзаж изменился на глазах, сразу, неуловимо. Зеленые склоны Чуркина мыса окрасились в оранжевый цвет, портовые откосы покраснели, покрылись черными продольными тенями. Белые дома на Светланской стали ярко-красными, окна их вспыхнули багровым пламенем заката. Теперь солнечные лучи шли поверх бухты, не затрагивая воды, и водная гладь потемнела, тени на волнах стали почти черными, сразу угасли яркие краски пароходов и гюйсовых флагов. На военных кораблях послышались звуки горнов, затопали матросы по гулким палубам, раздались гортанные звуки команды, понеслись над водой стеклянные певучие перезвоны рынд, отбивавших смену вахты. Тени на воде быстро густели, потянуло привычной морской сыростью из горла бухты… Слева обозначились видные через прибрежные строения торговые ряды. Виталий, не проронивший за это время ни одного слова и не шелохнувшийся, не в силах был отвести глаза от того, как чудным образом освещение меняло весь облик знакомой местности. Он был заворожен игрой света и теней. Но скоро спохватился и стал натягивать пиджак. Тогда лодочник негромко спросил:
— Тебе Мальцевский базар обязательно ходи надо?
— А что? — отозвался Виталий, удивленно глянув на лодочника.
— Моя думай, тебе надо сегодня другой место ходи спать. А?
— Какой другой место? — спросил Виталий, чувствуя, что китаец становится ему любопытен.
— Наша есть такой место… Китайски люди только. Тама японса не ходи, милиса сама боиса ходи, а белый капитана ходи нету. Тебе мала-мала сыпи, утром куда хочу ходи…
Виталий насторожился:
— А ты почему думаешь, что мне не стоит встречаться с японцами и с белыми? Чудной ты, я погляжу… — Он усмехнулся.
— Моя чудной! — сказал китаец. — Моя ничего не думай… Моя просто так говори. Тебе как хочу, так и делай.
Виталий задумался. Это не было ловушкой. Появление лодочника не могло быть подстроено никем. Это чистая случайность. Но осторожность подсказывала ему необходимость сейчас же избавиться от любопытного и не по летам проницательного китайца. Однако поведение его все же вызывало интерес у Виталия. Это мог быть и друг… А разве друг не находка, которой нельзя пренебрегать? Разве так часты такие встречи?.. Разве иногда не следует довериться тому странному, неощутимому и малообъяснимому движению души, которое угадывает и опасность и в малознакомом человеке почувствует единомышленника, хотя при этом и не будет сказано ничего?.. Китаец вел себя не как предатель, а как человек, который многое понимает, который сразу предложил помощь, угадав необходимость в ней. Стоило посмотреть на то место, куда не заглядывали ни японцы, ни контрразведчики, ни милиция, как это утверждал лодочник.
— Ну, давай «другое место»! — сказал Виталий.
Шампунька отвернула от привоза. Минут через двадцать она оказалась у скопления шампунек и джонок, в самой глубине ковша бухты. Трудно было сказать, сколько их находилось тут, привязанных друг к другу кормовыми и носовыми концами, образуя один сплошной настил, или сплоток, колеблющийся, живой, то и дело меняющий свои очертания, когда мимо проходил катер, поднимавший волну. Джонки с кривыми мачтами стояли вприслон друг к другу. Между ними были переброшены легкие мостики. Это были большие — грузовые и рыбачьи — джонки. Еще влажные сети были подтянуты к самым флагштокам мачт или развешаны на вешалах, протянутых вдоль бортов. Разноголосо скрипели флюгарки, поворачиваясь от свежего морского ветерка. То тут, то там виднелись маленькие мангалки, сделанные из керосиновых банок. Пламя этих примитивных очагов освещало отшлифованные ногами рыбаков палубы, играло на стеклянных балберах и глиняных грузилах сетей, подтянутых кверху… Отовсюду тянуло дымком и запахом острой, пряной пищи. Чесночный душок витал над всей этой лодочной эскадрой, ставшей местом жилища сотен бездомных китайцев, для которых джонка была и кормилицей и кровом. Это был если не город на воде, то большая деревня, которая возникала на ночь, а с рассветом исчезала бесследно, оставляя на память о себе лишь обрывки бумажек на воде, пучки соломы, клочья ваты — всяческий мусор, который неизменно сопровождает место ночлега человека.
— Наша тут живи! — сказал лодочник.
Он подчалил к большой джонке. Шампунька глухо стукнулась о борт. С палубы послышался негромкий оклик. Лодочник ответил вполголоса каким-то успокоительным замечанием и полез наверх, кивком головы пригласив Виталия следовать за собой. Они вскарабкались на палубу джонки, где было довольно много людей, сидевших, лежавших, куривших длинные трубки или просто дремавших. Виталий с любопытством огляделся вокруг. Лодочник сказал Виталию:
— Давай низу ходи! — и показал на люк, ведущий в кубрик. — Тама мой братка живи… Мала-мала чифан — кушай, потом спать ложись.
2
В кубрике было тесно и душно. На низких нарах расположилась на ужин целая артель. Только перед приходом Виталия со своим спутником артельщик поставил на нары котел с лапшой, и все потянулись к вареву со своими палочками и чашками. Высокий рябой китаец поднял голову, всматриваясь в вошедших. Лодочник сказал по-русски:
— Здравствуй! Наша сегодня гости есть!
Ему нестройно отозвалось несколько голосов. Круг раздвинулся. Хозяин, обернувшись в темноту, пошарил рукой, извлек откуда-то еще одну миску и просто сказал:
— Ну, садися, чифанить будем мала-мала. Только наша ложка нету… Тебе палочка кушай могу — не могу? — Он протянул Виталию куайцзы.
Китайцы так по-свойски приняли Виталия в свой круг, что отказ от еды выглядел бы неуместным и оскорбительным. Виталий поздоровался, на что ему ответили молчаливыми кивками, и уселся на освобожденное ему место. Он вырос на Дальнем Востоке, с китайцами ему не раз приходилось сталкиваться и прежде, многие из их обычаев были ему хорошо известны, умел он управляться и с палочками. Он принялся за лапшу, ловко подхватывая длинные горячие ее нити и отправляя в рот. Лодочник, привезший Виталия, одобрительно покосился на него.
— Хень-хао! Хорошо! — проговорил он.
Ужин продолжался в молчании. Люди сосредоточенно жевали пищу, наслаждаясь ею, и время от времени утирали со лба и щек обильный пот. Все они были изрядно голодны и ели так, как может есть только тот, кто весь день провел на воздухе и работал, не разгибая спины, с утра до позднего вечера. Виталий знал, что китайцы выходят на работу очень рано, еще затемно, едят перед этим очень сытно и плотно, но затем уже не отрываются от работы до того, как погаснет вечерняя заря, и прерывают ее тогда, когда перестают видеть свои руки… Только тогда наступает время второй трапезы, и тут уже не до разговоров.
Лодочник не оставлял своих забот о Виталии. Он подложил ему еще лапши, когда тот опорожнил свою миску, потом сполоснул ее и подал чаю. Виталий молча принимал все это, понимая, что если бы паренек не считал это нужным, то и не делал бы. Виталий был его гостем, этим объяснялось все…
После еды все медленно разбрелись по кубрику, устраиваясь на ночлег. Хозяин, не задавший Виталию больше ни одного вопроса, пошел за грязную занавеску, отделявшую часть нар от остального пространства. Лодочник сказал Виталию:
— Тебе где хочу спать — тута или верху?
— Пойдем наверх, — сказал Виталий, по всему телу которого струился пот — так душно и жарко было в кубрике.
Они вышли.
На палубе было сонное царство. Везде виднелись тела людей, разбросавшихся во сне как попало. Отовсюду доносился храп, сонное сопение, бормотание… Юноша сел на борт джонки, лодочник — рядом с ним.
— Тебе кури хочу? — спросил он Виталия.
— Нет, не хочу.
Виталия очень интересовал этот молодой китаец, так великодушно, по-дружески просто предложивший ему помощь. Кто же этот парень? Виталию было ясно, что симпатии китайца находятся на его, Виталия, стороне, что он человек решительный и, видимо, искушенный в жизненных передрягах. Виталий задавал китайцу незначительные вопросы, пытаясь вызнать о лодочнике все, а не выдавать себя. Моментами ему казалось, однако, что, может быть, от этого парня и не следовало таиться, может быть, нужно открыть ему многое. Как знать, может быть, полезно поинтересоваться поглубже вообще рыбацкой молодежью из китайцев, которая совсем выпала из поля зрения комсомольцев-подпольщиков?
Лодочник охотно рассказал, что его зовут Пэн Да-шу, что он живет с братом-рыбаком, который в компании с несколькими другими рыбаками имеет джонку. Они рыбачат, часто и маленький Пэн помогает им, но больше ему приходится работать на «юли-юли», которая тоже приносит кое-какой заработок. До поздней осени будут жить на воде, к зиме выстроят на ничьей земле — мало ли ненужной земли вокруг! — глинобитную фанзу, перезимуют, а потом — опять на море, которое было их настоящим кормильцем, на море, которое давало водоросли, крабов, камбалу, скумбрию, бычков, давало и пищу и заработок.
Жить было очень тяжело уже хотя бы потому, что и русские «капитаны» и японцы платили китайцам за работу и товар всегда меньше, чем другим. Виталий вспомнил не раз слышанные им фразы: «Китайцу ничего не надо, китайцы неприхотливы: наестся лобы — и все!» А теперь Пэн, не спеша, останавливаясь, подыскивая слова, говорил ему о том, какова природа этой китайской «нетребовательности». Он говорил о том, как годами ограничивают себя китайские рабочие во всем решительно, как годами носят одну и ту же курму и штаны, пока они не истлевают на теле; как экономят на пище, на свете; как работают дотемна; как едят зачастую в темноте, чтобы не жечь свечи или керосин; как сносят они насмешки и издевательства, а часто и оскорбления потому, что за них некому заступиться.
Пэн говорил, что многие из китайцев работают «игоян ишак» — как ишаки, довольствуясь тем, что заработано сегодня, и не имея ни копейки на черный день — на случай потери работы или нездоровья. Кое-кто копит деньги, но только на похороны, потому что очень важно, чтобы китаец попал на тот свет, имея видимость богатого человека: это поможет ему в новой жизни, за гробом, быть не хуже других и жить лучше, чем жил он на этой земле. «Его такой люди, работай, чтобы помирай!» — сказал Пэн, и в словах его Виталию послышалась горечь не по возрасту. «Его, когда помирай, как собака улица бросай… А тебе как думай — его баба нету, ребятишки нету, папа-мама нету? Фанза нету, ничего нету — как живи могу?.. Маньчжурия тоже такой дело. Хозяин все у наши люди забирай, какой огорода есь, какой чумиза посади — лето работай, а зима чифана мэю, есть нечего нету!»
Видно было, что очень многое накипело на сердце у Пэна, если так долго и откровенно рассказывал он Виталию. Но чем жил он, на что надеялся?.. «Наша тоже революса была, такой доктор Сун был. Тебе знай?»
— Знаю, как не знать, — сказал Виталий. — Ленин друг ему.
— Ага, русский знай, какой это люди Сун… А китайский люди еще мало знай… Его говори: надо земля мужика давай, рыбака, грузчика, всякий другой люди надо вместе живи, джангуйда — хозяин не надо, джангуйда контрюми, голова ломай надо!
— Ого! — сказал Виталий обрадованно. — Ты откуда все это знаешь, а? Правильно, наша вот так тоже делай: джангуйда голова ломай, сам живи хочу…
— Наша тут один люди есь, ходи, говори всяко! — уклончиво ответил лодочник.
— Ничего, Пэн, — положил Виталий руку на плечо китайцу. — Мало-мало маманди, подожди, потом Китай тоже как наша Россия делай.
— Моя так тоже думай!
Пэн вдруг насторожился, легонько поднял руку. Виталий замолк. По колеблющемуся помосту лодок уверенно шел, легко ориентируясь в этой сумятице весел, домашней утвари и распростертых на палубах тел, крупный плотный человек. Видимо, он был здесь своим, потому что на его вполголоса сказанное «лайла», которое он произносил как-то необычно бодро и весело, отовсюду слышалось торопливое: «Лайла, лайла, ходя!» Пэн встал.
— Это наша люди, я тебе говорил.
Лодочник подошел к борту джонки и помог пришедшему взобраться на палубу. Он что-то коротко и тихо сказал. Пришедший стал его расспрашивать. Пэн отвечал быстро, взволнованно, потом подошел к Виталию вместе с пришедшим, который, вглядываясь в лицо юноши, сказал приветливо, но осторожно, без всякого обращения:
— Здравствуйте!
Какие-то знакомые интонации послышались Виталию в этом возгласе. Он тоже стал пристально вглядываться в незнакомца и вдруг вскрикнул:
— Ли?.. Здравствуй, Ли!
Это и в самом деле оказался Ли Чжан-сюй. Он стал расспрашивать Виталия, как тот оказался на джонке. Виталий, усмехаясь, ответил:
— Да тебе Пэн только что докладывал.
— А ты почему так думаешь? — спросил Ли.
— Не маленький, догадываюсь.
Пэн, услышавший восклицание Виталия, облегченно вздохнул: все, значит, хорошо!
— Пэн знает только то, что было, как он тебя увидел, — сказал Ли, — а что было до этого?
Виталий рассказал. Ли нахмурился.
— Да… Не очень хорошо. Значит, разведка теперь знает, что ты находишься в городе. Да, кстати, надо наведаться в порт: не взяли ли кого-нибудь из наших?.. Ну, пойдем, Виталий. Я только одно дело с Пэном закончу.
Ли стал что-то говорить Пэну. Тот молча кивал головой. Потом Ли потрепал Пэна по плечу и по-русски сказал:
— Понял?
— Понял! — ответил Пэн и, торопливо попрощавшись, полез в свою лодочку.
Тихонько скрипнуло высохшее весло. Чуть слышно заплескалась вода. Черной тенью скользнула шампунька мимо. Пэн махнул рукой, и лодка его почти тотчас же пропала в чернильной темноте, покрывшей бухту сплошным непроницаемым покровом.
— Куда это он? — спросил Виталий Ли.
— Дело есть одно.
Расспрашивать не следовало — Виталий понял это.
— Помогает? — спросил он Ли о Пэне. — Значит, у дяди Коли и тут рука?
Ли усмехнулся.
— А ты думал, большевиков не интересует судьба этих товарищей? — Он кивнул на сплотки джонок, края которых терялись в темноте. — Здесь, Виталя, много взрывчатого материала, таких людей, которые хотят жить по-человечески. Знаешь, сколько тут людей, у которых китайские феодалы отняли все, что можно отнять у человека, сколько тут людей, которые не могут явиться на родину, так как сразу попадут под топор палача?.. Сколько тут драм, душевных страданий и… сколько ненависти к нашим врагам!
Виталий спросил:
— Это твой участок, Ли?
И замолк, поняв неуместность вопроса. Да, у дяди Коли много забот, но мимо его внимания не прошли даже эти бездомные, лишенные крова люди, среди которых семена, брошенные дядей Колей, давали такие всходы, как Пэн. На вопрос Виталия Ли не ответил.
— Хороший паренек этот Пэн! — сказал Виталий.
— Да, парень очень хороший. Я его очень люблю. Думаю, что он сумеет многое сделать.
Они сошли на берег. Немного пройдя, Ли попрощался с Виталием, остановившись на темном углу, и сам куда-то исчез только тогда, когда Виталий сделал несколько шагов по улице…
Глава 5 Рабочая улица
1
На фронтах положение было «стабильным», как писала белогвардейская газета «Голос Приморья».
Фронт застыл в апрельском положении, когда Народно-революционная армия ДВР, после разгрома белых под Волочаевкой, выбила их из Имана. Считанные километры отделяли НРА от Владивостока — последнего прибежища белогвардейских последышей и их интервентских покровителей. Не будь интервентов, уже в мае НРА достигла бы своей конечной цели. Но, декларируя невмешательство во внутренние дела русских, японцы с нарастающей тревогой следили за отступлением белых. Наконец они не выдержали. В районе деревень Бусьевка — Хвалынка японцы выставили свои заслоны, которые пропустили массу панически отступавших белых, сомкнулись за ними и оказались лицом к лицу с НРА. Не желая давать интервентам повода для открытого столкновения, Народно-революционная армия приостановила продвижение.
В годы первой мировой войны через Владивосток шло огромное количество боеприпасов, вооружения, снаряжения и продовольствия, закупавшихся царским, а затем Временным правительством за границей. Далеко не все это было отправлено на фронт. Это было достояние русского народа, представлявшее громадную ценность. Но еще большую ценность представляли огромные запасы угля, руды, леса, расхищаемые японскими, американскими, английскими синдикатами и отдельными «промышленниками» в Приморье за время их хозяйничанья. Интервентам нужно было время для вывоза награбленного русского добра… Поэтому спешно переформировывались разваливавшиеся воинские соединения белых, расстрелами восстанавливалась дисциплина, день и ночь работали страшные белогвардейские и японские застенки во Владивостоке, Никольске-Уссурийском и на Русском острове.
…Советская Россия переходила к мирному строительству, к восстановлению разрушенного войной хозяйства. Она навсегда покончила с Юденичем, Деникиным, Врангелем, Колчаком и другими. Она навсегда выбросила с русской земли английских, американских, польских, румынских, французских, итальянских и прочих интервентов, и лишь на Дальнем Востоке оставались американо-японские оккупанты.
Советская Россия начинала строить и делала это так же решительно и смело, как недавно еще она отвоевывала на полях сражений свою свободу.
День ото дня крепли Советы, и укрепление их порождало все новые и новые противоречия среди капиталистических держав. Советская Россия выиграла войну и выигрывала мир.
Только на Дальнем Востоке еще грохотали орудия и лилась кровь. Дольше всех задержались на русской земле японские интервенты, финансируемые американскими монополистами. Но им приходилось откладывать свои широкие планы об «Японии до Урала»: слишком силен был отпор русского народа, и интервенция дышала на ладан. Они еще могли грабить, еще могли убивать, еще бросали они в бой против Народно-революционной армии Дальневосточной республики все новые и новые полки и батальоны белых, которым не было иного выхода, как расплачиваться теперь за все… Японские интервенты стремились как можно дальше оттянуть момент эвакуации: каждый день пребывания их войск в Приморье приносил миллионные прибыли японским монополиям Мицуи, Мицубиси и прочим… Спешно комплектовались новые части, ремонтировались бронепоезда. Прижатые к морю, подпираемые штыками интервентов, белые готовились к последним отчаянным схваткам.
2
Станция Первая Речка расположена на широком естественном плато, расширенном насыпями. Десятки подъездных путей, тупиков, деповские сооружения большой вместимости позволяли сосредоточить здесь для отстоя и ремонта множество вагонов и паровозов. Парк Первой Речки был огромным. От магистральных путей шло дугообразное ответвление на платформу шестой версты. Вся территория, образованная этой дугой, в течение десятилетий застраивалась путями. Все они были забиты вагонами, десятки тысяч которых после многочисленных мытарств попали сюда со всех дорог России. Финские вагоны стояли рядом с кубанскими, донские — с оренбургскими, польские — с сибирскими. На стенках вагонов можно было прочитать трафареты всех станций великой железнодорожной магистрали, опоясывающей четверть окружности земного шара. Пульмановские салон-вагоны, теплушки, цистерны, двойные американские вагоны-самосбросы, угольные, изотермические, классные и госпитальные, арестантские — «столыпинские» и бронированные жались друг к другу на путях, являя собой унылую картину постепенного разрушения. Окраска их облупилась, стены были пробиты или исцарапаны пулями и снарядами. Выбитые окна, расшатанные двери, проломанные потолки, следы копоти, обугленные стены, а иногда обнажившийся железный переплет — все здесь говорило о том, каким тяжелым было путешествие этих вагонов по России. Белые ехали на них тысячи километров, спасаясь от ударов Красной Армии, отстреливаясь, огрызаясь, простаивая в поле или мчась через стрелки, пытаясь найти место, за которое можно было бы зацепиться.
Ехали — и доехали… Из парка Первая Речка ехать дальше было некуда. Стояли и ржавели вагоны. Стояли и ржавели паровозы, покрываясь рыжим налетом. Их не могли ремонтировать. Да никто, собственно, и не думал об этом. То, что можно было увезти, продать, — продавалось. И никому не приходило в голову разбираться в этом кладбище паровозов и вагонов. Их загоняли в тупики не для того, чтобы брать оттуда. Зачастую гнали целые составы так, что вагоны лезли друг на друга, ломаясь и круша соседние. Кого могло интересовать это? Здесь был конец.
Правда, и здесь жили люди. Переполненный город не вмещал в себя всех, кого на край России привело беспорядочное отступление. Жили в вагонах годами, обрастали вещами, хозяйством. Жили семьи офицеров, которым белое командование уже не могло ничего дать, так как на каждого офицера приходилось не более двух солдат. Жили здесь и семьи солдат. Жили и дезертиры, скрываясь от мобилизации.
Селились, присматриваясь друг к другу, чтобы не оказаться во враждебной среде: офицеры — к офицерам, солдаты — к солдатам, темные личности, неизвестно чем промышлявшие, — к таким же, как сами они. Вагон, который никуда не шел, который не подчинялся более свистку кондуктора, становился жилым домом. Рельсы определяли положение «улиц», образуемых заселенными составами. Так возник, отринутый городом, новый город на колесах. Сколько людей жило здесь, никто не мог определить: десятки тысяч. Тут умирали, женились, разводились, рожали детей, как в любом другом месте. Дети играли между рельсами, под вагонами, и слова «тамбур», «буфер», «подножка», «вагон» были первыми словами после слов «папа» и «мама», которые учились они произносить.
Чтобы дать возможность разыскать нужного человека, а главное, отделить одну социальную группировку от другой, ибо в этом городе была и своя «аристократия» и свои «низы», тупики получили названия. Почтальон, читая на конверте надпись — «Первая Речка, Железнодорожное кладбище, Офицерский тупик», — не удивлялся, а отправлялся искать адресата, шагая через Солдатскую слободу, Дезертиры, улицу Жулья, Полковничий пролет, Врангелевский тупик, Каппелевский проспект, Колчаковский затор, Ижевские варнаки, Семеновский огрызок… Здесь, на Рабочей улице, жили и рабочие, выселенные японцами из первореченских железнодорожных казарм.
Здесь жил секретарь подпольной комсомольской организации мастерских железнодорожного депо Алеша Пужняк. С его помощью Виталию предстояло выполнить поручение Михайлова в цехе, где ремонтировались и составлялись бронепоезда.
3
Смеркалось. Над городом стояло красноватое зарево. В депо светились огни. Свист паровозов то и дело прорезал вечерний сырой воздух. Лязгали на стыках вагонные скаты маневрировавших составов. Унылые звуки рожков стрелочников доносились со станции. Багровые отсветы от кузнечных цехов ложились кровавыми пятнами на рельсы.
Виталий шел, с любопытством озираясь вокруг. Освещенные окна позволяли заглянуть во многие вагоны. Внутри устраивались как могли и как хотели. Кое-где жилье представляло собой пустой вагон с тесаным столом или бочкой вместо него, грубыми табуретами или ящиками из-под макарон или жестяными банками вместо стульев и нарами вместо коек.
Были, однако, и такие вагоны, где люди устраивались надолго, стараясь не замечать неудобств своего четырех- или восьмиколесного обиталища. В иных вагонах виднелись занавески на окнах, блестящие шишки варшавских кроватей, столы, покрытые скатертями, книжные полки… Откуда-то доносились звуки рояля. Где-то пел женский голос под аккомпанемент гитары. Даже вьющиеся растения, призрак желанного уюта, в крошечных ящиках, укрепленных под окнами, произрастали здесь.
Железные «буржуйки» составляли непременную принадлежность каждого вагона. В этот час почти все они топились, испуская в сумрак вечера снопы искр. То тут, то там из темноты неожиданно появлялось раскрасневшееся от жары лицо женщины, когда она снимала с конфорки посуду с варевом.
Виталий остановился у одного такого вагона-дома и спросил:
— Скажите, где тут Рабочая улица? Ищу, ищу…
Заслоняя лицо ладонями, женщина, стоявшая у печурки, ответила:
— Ну, если идти по порядкам, то тут проплутаешь долго. Вы пройдите под вагонами. Это — Полковничий пролет. За ним — Ижевские варнаки, потом, кажется, Семеновский огрызок, за ним — горелый состав, а там и Рабочая улица.
Поблагодарив за совет, Виталий нырнул под вагоны; тотчас же больно ударился головой о ведро или ванну, подвешенные снизу. Его ругнули не очень обидно. Вышел на совсем неосвещенную улицу. Столкнулся с кем-то. Хриплый голос спросил:
— На водку не дашь?
— Нечего! — ответил Виталий, отстраняясь и невольно хватаясь за револьвер в кармане брюк.
Голос прохрипел:
— А ну, катись тогда к черту.
Невидный в темноте человек размахнулся, с силой ударил в направлении голоса. Инстинктивно Виталий присел. Человек, не ожидавший этого, не удержался на ногах и повалился наземь. Пока он копошился, вставая, Виталий под вагонами вышел к горелому составу. За ним замелькали опять огоньки железных печей, показались освещенные окна, послышались голоса людей. И снова Виталий услышал женский голос и перезвон гитары. Девушка пела:
Гляжу, как безумный, на черную шаль.
И хладную душу терзает печаль…
Звуки неслись из вагона, под которым Виталий только что пролез. Он постучал в стенку вагона.
— Скажите, это Рабочая улица?
— Самая что ни на есть она! — отозвался мужской голос. — Пролетарский бульвар, улица Жертв японских интервентов…
— Тише! — сказал другой голос. — Ведь не знаешь, кто там, а треплешься!
Заскрипела дверь, на пороге показалась женская фигура.
— Вам кого надо? — Наклонив голову, женщина всматривалась в Виталия.
— Мне надо слесаря Пужняка Алешу. Он в депо работает.
Рядом с женской фигурой появился мужчина.
— Вот он — я! Потомственный, почетный. Весь на виду!
— Да перестань ты паясничать, Алешка! — с сердцем сказала женщина, отступая в глубь вагона. — Проходите. Пужняк здесь живет.
Виталий поднялся по скрипучей лесенке и вошел в вагон.
4
Остановившись на пороге, Виталий осмотрелся.
Десятилинейная керосиновая лампочка освещала неярким светом внутренность вагона. Ничто не напоминало здесь теплушку. Перегородки внутри делили ее на две небольшие комнатки. Первая была кухней и столовой. Тут стояли: стол, покрытый полотняной скатертью, стулья-самоделки, крашенные белой краской, откидной диван, устроенный из полки вагона, жестяной умывальник, за чистой занавеской подобие шкафа — прилаженный на стене ящик, в котором аккуратно были сложены тарелки и другие предметы обеденного обихода. Полочки были покрыты бумагой, опущенные края которой выстрижены замысловатым узором. Веселенькая ситцевая занавеска в зеленый горошек отделяла первую комнату от второй. Так как в первой комнате не было ни зеркала, ни туалетного стола, а также кроватей, Виталий догадался, что вторая комната служила спальней.
— Проходи, проходи, товарищ! — сказал хозяин.
Хозяйка предупреждающе кашлянула, и хотя Виталий в этот момент не смотрел на нее, почувствовал, что она сделала какой-то знак.
— Что ты мне сигналы делаешь? — простодушно сказал хозяин. — Что я, не вижу, кому можно, кому нельзя говорить! Это тебе не Семеновский огрызок, где за «товарища» башку оторвут…
Виталий обернулся. Хозяйка, смущенная замечанием, сделала вид, что оно ее не касается. Виталий рассмотрел, что это совсем молодая девушка. Вряд ли ей исполнилось семнадцать. Русые волосы ее отливали золотом, полная грудь была обтянута дешевенькой шелковой кофточкой с простенькой брошкой. Серые, навыкате глаза, чуточку озорные, какие часто бывают у девчонок-подростков, больше похожих на мальчуганов, освещали простое, миловидное лицо. Длинные косы свешивались тяжелыми жгутами почти до пояса. Девушка держала руки за спиной, поспешно спрятав их после услышанного замечания. Виталий протянул ей руку:
— Будем знакомы! Антонов!
Не слишком ласково девушка протянула и свою руку:
— Таня Пужнякова.
Затем Виталий поздоровался с хозяином. Тот тоже оказался молодым пареньком, чуть старше Виталия. Светлые волосы, зачесанные назад, делали его похожим на девушку. Та же приятная их волнистость, тот же оттенок спелой пшеницы, что и у новой знакомой Виталия. Юноша невольно посмотрел еще раз на девушку. Если бы не косы, да пухлые губы, да женское платье, парня и девушку можно было бы спутать, так сильно походили они друг на друга. Парень сказал, перехватив взгляд Виталия:
— Сеструха моя! Вместе живем. Похожа? Вся в меня!
— Похожа!
— Ну, это еще посмотреть, кто на кого! — недовольно передернула плечами Таня. — Скорее ты на меня похож, шалопут!
Оставив без внимания ее замечания, Пужняк подставил стул гостю и сел сам, выжидательно глядя на него.
— Я от дяди Коли! — осторожно сказал Виталий, искоса поглядывая на девушку.
Алеша понимающе кивнул головой и тотчас же подмигнул сестре:
— Таньча! Поди погляди, каша бы не подгорела на «буржуйке»!..
— Хватился! — развела руками Таня. — Уж давно сняла. Ужинать можно.
Алеша виновато покосился на Виталия.
— M-м… — промычал он, ища предлог. — Ну, поди погуляй, что ли.
— Спасибочки вам! — взметнула девушка своими озорными глазами. — Сказал бы прямо: надо, мол, поговорить с человеком. А то выдумывает. Ах, Алешка, ты Алексей! — С этими словами Таня взяла гитару и вмиг исчезла за дверями.
— Комсомолка? — спросил Виталий.
— Нет, где ей, — снисходительно ответил Пужняк.
— Чего так?
— Несознательная еще. Все хиханьки строит да на гитаре играет…
— Ну вот что, товарищ Пужняк, надо нам поговорить по делу…
…Через час Таня просунула голову в дверь и взяла несколько ожесточенных аккордов на гитаре, чуть не оборвав струны.
— Эй, господа-товарищи, на сегодня хватит. Лето летом, а на этом кладбище вечером сыро, как в погребе. Я больше не могу. Зуб на зуб не попадает… Честное слово! Бр-р-р! — Она демонстративно застучала зубами и вскочила в вагон. — А потом… я есть хочу до чертиков. Алешка, кончай турусы разводить. Каша поди уже заледенела!
Повесив гитару на стену петлей пышного розового банта, украшавшего гриф, Таня засуетилась, собирая на стол. Загремели ложки и тарелки. Из-под толстого солдатского одеяла, сложенного на табурете, достала она чугунок, с настороженным вниманием поглядела под крышку и вся расцвела.
— Дошла каша, братка! Будто в русской печи сварена! А похвалить некому… Первый сорт! Вы, Антонов, будете с нами ужинать? Конечно, что за вопрос!.. Вы такой каши в жизни не ели!.. Ее, знаете, надо сначала прокалить на сковороде, потом варить, а воды должно быть только вполовину больше, чем крупы… А потом в тепло…
— Перестань, Таня! Неинтересно товарищу про кашу… — заметил с досадой Алеша.
Но Таня невозмутимо продолжала:
— …чтобы упрела! А потом сдобрить ее свиными шкварками. И получится такая, что пальчики оближешь!
От упревшей каши, и верно, шел такой аппетитный запах, что Виталий, почувствовав, как он голоден, невольно проглотил слюну. Таня, следившая за гостем, по-детски восторжествовала:
— Ага! Что? Это еще есть не начали! — и она причмокнула пухлыми губами.
Все трое принялись за еду. Таня каждому налила в эмалированную кружку чаю. На некоторое время все разговоры прекратились. Уплетая хваленую кашу, Таня подмигивала то брату, то гостю, ничуть не смущаясь тем, что видит его впервые.
Утолив голод, Алеша сказал сестре:
— Таньча, товарищ будет у нас жить.
Девушка состроила гримасу.
— Удивил, смотри! Да я слышала, как вы тут распределяли, что куда поставить!
Алеша поперхнулся.
— Ты что? Подслушивала?
— Немножко. Ничего, кроме этого, не слыхала. Только когда вы громко заговорили…
— Таньча! — сердито сказал Алеша, силясь придать своему простому, открытому лицу суровое выражение.
— Что «Таньча»? Гром не из тучи? — фыркнула девушка. — Другой брат давно бы меня в помощь взял. А я у тебя все в девчонках хожу.
Алеша покраснел, возмущенно глядя на Таню. А она, словно не замечая его взгляда, добавила:
— Не таращь зенки-то… чего доброго вылезут! Вот и товарищ тебе то же скажет. Правда?
— Правда! — невольно сказал Виталий.
— Ну вот и я говорю! Кушайте, Антонов, вы такой каши не едали!
5
На новом месте Виталий спал, как всегда, без сновидений, спокойно, крепко.
Разбудило его какое-то движение в комнате. Сквозь сон юноша расслышал легкие шаги. Кто-то протопал босыми ногами по плетеному коврику, застилавшему пол вагона. Негромко скрипнула дверь. Все смолкло. Затем дверь заскрипела опять, и те же шаги послышались вновь. Виталий открыл глаза.
Через маленькие окна в вагон лился утренний свет.
Босоногая, с растрепанными со сна волосами и заспанными глазами, в сорочке и в наспех надетой юбке, Таня хлопотала по хозяйству. Искала какую-то посуду, держала в одной руке нож и сковороду.
Заметив, что Виталий смотрит на нее, она сердито сказала:
— О! Уже! А ну, повернитесь к стенке. Еще рано. Я скажу, когда надо будет вставать. Еще десять минут можете лежать.
Виталий отвернулся к стене.
— Я ведь не знал, кто ходит. Я не нарочно.
— Знаю, что не нарочно. А то я бы начисто выцарапала глаза… Я ведь злая! — сказала Таня, стуча котелком, ножами и вилками.
Проснулся Алеша. Он выглянул из-под одеяла.
— Уже бузишь, Таньча? Ну, баба-яга! Не дай бог, кто на тебе женится несчастный человек будет! Товарищ Виталий! Ты не смотри на нее. Она уж такая сроду!
Таня и тут не осталась в долгу:
— Не учи ученого, Алешка… знаешь!
Она исчезла в своей комнате. Появилась через пять минут в кофточке и туфлях. Волосы ее уже не торчали в разные стороны, а были причесаны. Вышла из вагона, крикнув напоследок:
— Десять минут на вставание. Поды-ы-майсь!
Вернулась она в вагон со сковородкой, наполненной жареной картошкой.
Прерывистый гудок депо заставил их поторопиться с завтраком.
В депо Алеша подвел Виталия к седоватому рабочему в менее замасленной куртке, чем у всех остальных.
— Мастер Шишкин! — шепнул он Виталию.
— Антоний Иваныч, — сказал Пужняк мастеру, — вот я вам новичка привел!
Шишкин поднял седые клочковатые брови.
— А я просил тебя?
Алеша озорно подмигнул Виталию.
— Вы-то не просили, Антоний Иваныч, а дядя Коля просил.
Шишкин посмотрел на Пужняка в упор, потом опустил на глаза очки, которые были у него на лбу, и еще раз оглядел сначала Алешу, потом Виталия.
— Впрочем, рабочие нам нужны! — сказал он и спросил документы Виталия. Он долго перечитывал их, потом, прищурившись, поглядел на комсомольца. Значит, Антонов?
— Антонов! — подтвердил юноша.
— Ну, пускай будет Антонов! — произнес мастер. — Вот только куда поставить тебя?
Алеша вмешался опять:
— А на ремонт бронепоездов. У Антонова врожденная способность к ним.
Шишкин из-под очков огляделся. Потом негромко сказал:
— Дурень ты, Алешка, али прикидываешься?
— Прикидываюсь, Антоний Иваныч!
— То-то что прикидываешься. Чего разорался? Знаешь сам — кругом уши… Будто я без тебя не знаю, куда поставить…
6
Новые друзья, — а в том, что Алеша и Таня Пужняк должны стать его друзьями, Виталий не сомневался, — понравились ему сразу. Он не стал расспрашивать их о прошлой жизни, полагая, что понемногу узнает все, что было у них в душе. Однако один вечер раскрыл ему души его новых друзей с такой силой, с какой не могли бы их раскрыть долгие беседы и расспросы.
Спор, свидетелем которого стал Виталий в первый же вечер у Пужняков, имел серьезные основания и тянулся давно. Таня догадывалась о второй стороне жизни своего брата, связанной с подпольем. На этой почве не раз возникали между ними горячие споры.
Через несколько дней Виталию пришлось быть свидетелем такой перепалки. Он лежал на своей кровати за занавеской. Алеша сидел за столом и читал что-то. Таня пришла с улицы. Не видя Виталия, она налетела на брата:
— Алешка, я тебе еще раз говорю! Мне от девчат отбою нет. Я им твержу: сама ничего знать не знаю и ведать не ведаю! А они мне: «Брось притворяться, а то мы сами Алешку спросим». Вот как придут к тебе да спросят, что ты им ответишь? Тоже молчком отделаешься или нос выше ушей задерешь: не ваше, мол, дело?
Алеша заткнул уши.
Таня не унималась:
— О господи, Алешка! Да разве я стенке говорю! Ну, твое дело меня за человека не считать. Я как-нибудь и без тебя обойдусь. А что людям сказать? У них душа горит…
Алеша недовольно сказал:
— Отстань, Танька! Зудишь, как муха: люди… люди… Нашла людей!
— Ох, отлупила бы я тебя за такие ответы, Алешка! — с сердцем сказала Таня, не обнаруживая, впрочем, намерения отступиться от брата. — Тебе не совестно глядеть на меня? Жив был бы отец, разве он заткнул бы уши, когда к нему живой человек обращается?
Алеша прищурился на сестру.
— Тоже мне живой человек… девчонка!
Таня вспылила, в голосе ее послышались слезы.
— А я виновата, что на работу меня не берут? Сам-то давно ли на работу попал? Кабы не Антоний Иванович, до сих пор по пристаням бы слонов продавал!.. Хоть бы куда пошла бы! Так не берут — безработными пруд пруди!
Таня замолкла. Виталию слышно было, как она прошлась по комнате, постояла у дверей, потом вернулась к брату. Отодвинула табуретку. Села напротив Алеши.
— Я вам помогать хочу, Алексей! — проникновенно произнесла она.
Алеша опять уткнулся в книгу.
— Кому «вам»? Болтаешь, сама не знаешь что… По-мо-гать! Ходи на посиделки с девчатами, в горелки играй — вот тебе и занятие, коли заняться нечем, а ко мне не приставай!
Таня оттолкнула табуретку так, что та с грохотом полетела на пол.
— Сам на посиделки ходи, голова садовая! Ну, что тебе стоит сказать своим: мол, есть люди, которые хотят работать, просятся… — И Таня вдруг тихо, но решительно добавила: — А то я, знаешь, и сама дорогу-то к дяде Коле найду, смотри!
Алеша даже вскочил от неожиданности.
— Таньча! — У него от испуга перехватило голос. — Таньча! Ты это имя забудь… Даже и во сне не вспоминай! Не твоего ума это дело! Маленькая ты, чтобы это имя вспоминать, язык придержи…
Но не так-то просто было заставить Таню замолчать. Видимо, вытирая слезы, потому что она принялась сморкаться и голос ее то слышался ясно, то тускнел, она сказала так, что и Виталий поднялся невольно на кровати:
— Маленькая! Может, ростом не вышла да все понимаю, товарищ дорогой! Еще тогда поняла, когда батю со двора колчаки повели. До сих пор слышу: «Танюша, дочка, Алексею скажи, пусть ничего не боится, — проживете, свои помогут… Не плачь, доченька, коли не придется увидеться!» Сколько мы с тобой голодали, холодали — все пополам; сколько ни просили, ни ходили — так свидания и не дали, гады! Что для них сиротские слезы, что для них, что двое ребят на морозе, как щенята, трясутся!.. Эх, Алешка ты, Алексей! Не маленькая я!
Таня выскочила из вагона, хлопнув дверью. Алеша засопел…
7
Броневые поезда ремонтировали в трех тупиках, обнесенных забором. Длинные угольные вагоны-самосбросы шли под корпуса бронированных вагонов. Внутри возводили бетонные камеры со сводчатым потолком и амбразурами на положенных местах, пробивали борта для дверей: выходных наружу и для сообщения вагонов друг с другом. Амбразуры пробивались не только в бетонных камерах, возвышавшихся над уровнем борта на два аршина, но и в корпусе, для стрельбы с колена и лежа.
Готовые вагоны стояли на запасных путях. Выглядели они внушительно: узкое, длинное черное тело, серый верх с угрожающе разверстыми амбразурами. На них еще не было вооружения. Но и без него каждый из рабочих понимал назначение вагонов.
Виталий принялся за работу с охотой, весело. Его поставили на клепку. Дело это было знакомо ему еще со времени работы в мастерских Военного порта, и он сразу показал себя умелым клепальщиком.
Кроме старшего мастера Шишкина, кадрового первореченского деповского, за работами по ремонту бронепоезда следили еще пятеро мастеров — двое деповских и трое из управления коменданта гарнизона. Последние носили военную форму с погонами инженерного ведомства. Рабочие считали их шпионами. В их присутствии прекращались всякие разговоры. Один из деповских, Кашкин, также был у железнодорожников на подозрении. За ним, не сговариваясь, следили, избегали вступать с ним в беседу. Был он человек новый, пришел в депо недавно, но за ним уже потянулся слух: наушник, ябеда, стукач.
Обо всем этом Виталию сообщил Пужняк.
Что касается остальных мастеров, то они были недовольны своей работой, тормозили ее. Усилия их не были организованы, действовали они на свой страх и риск, осторожно и не всегда умело. Однако их поведение служило доказательством того, что в депо обстановка вполне подходила для выполнения намерения, с которым Бонивур явился на Первую Речку.
С первого же дня Виталий обогнал на клепке всех своих напарников. Те присматривались к нему, но молчали. Антоний Иванович вечером подошел к юноше.
— Ну, как работаете?
— Ничего, — весело ответил Виталий. — Только, вижу я, клепальщики не торопятся.
Старший мастер посмотрел на него.
— Да-а, наша работа такая: поспешишь — людей насмешишь! — ответил он. Дело серьезное делаем.
— Вот я и говорю, торопиться надо! — сказал Виталий.
Антоний Иванович не спеша закурил.
— Когда надо будет поторопиться, сам скажу! — заметил он с особым выражением. — А ты пока к ребятам присмотрись… Да горячку не пори!
На другое утро Виталий с прежним жаром принялся за работу. Он ловко обрабатывал торцы заклепок, обгоняя других клепальщиков. Напарник его, Федя Соколов, сидевший внутри вагона, высунулся из-за борта. Он непонимающе смотрел на Виталия.
— Слышь, голова! Куда ты, к черту, торопишься?
— А что? — невинно спросил Виталий.
По виду напарника заметно было, что тот взбешен, и не миновать бы Бонивуру забористой ругани, если бы в этот момент к ним не приблизился один из контролеров управления коменданта. Напарник метнул на Виталия сердитый взор, чертыхнулся и исчез в корпусе. Когда контролер прошел, рабочий опять высунулся.
— Что, что-о? — передразнил он Виталия. — Ты думаешь, тебя на этой чертовой телеге под венец, что ли, повезут? Я тебе хочу сказать вот что: нам умников да сволочей не надо… японских прихлебаев! Понял? А то живо загремишь отсюда…
Многое еще, видно, хотел сказать рабочий, но ему опять помешали незаметно подошел Кашкин. Он слышал последнюю фразу и многозначительно погрозил рабочему.
— Поменьше языком болтай! — строгим голосом сказал он, и глаза его зло сверкнули из-под белесых ресниц.
Соколов сплюнул и скрылся в корпусе. Кашкин, уже приметивший, что Виталий работает споро, не в пример другим, понизив голос, обратился к нему:
— Хорошо работаешь! Очень хорошо… Видно, не такой висельник, как эти! — кивнул он в сторону напарника. — Лается?
— Не без этого! — ответил Виталий.
— А пошто? — заговорщицки наклонился Кашкин к юноше.
— Да, говорит, зря гоню!
— Им бы, лентяям, семечки лузгать да с девками балясы точить! — сказал Кашкин с отвращением. — Работа срочная, военная! Господин Суэцугу торопит, а они тянут… как мертвого кота за хвост! — Неожиданно он спросил шепотом: А еще что говорил твой напарник?
— Да я не слушал! — простодушно ответил Виталий!
— А ты послушай, — еще тише произнес Кашкин, опасливо оглядевшись. Потом мне скажешь. А?
— Да… неловко как-то! — поежился Виталий.
— А я тебе в ведомости выработку подыму… А?
Виталий искоса посмотрел на Кашкина. Напускная его простоватость обманула мастера; лицо Кашкина изобразило жадное любопытство и ожидание. «Ну, подлюга!» — подумал Бонивур.
— Подумать надо, — сказал он медленно, словно расценивая, стоит ли овчинка выделки. — Выработку-то поднимать не след бы, заметно будет…
— Ну-ну, подумай! — скороговоркой выдохнул Кашкин, видимо, обрадованный тем, что новичок оказался податливым. — А что касаемо денег, можно и чистоганом… А?
«Так! Значит, ты мастер на все руки», — ответил про себя Виталий. Кашкин опять заглянул ему в глаза.
— Так ты слушай, что говорить будут… А я к тебе завтра опять подойду. А?
— Можно и завтра! — ответил Виталий.
Кашкин исчез так же незаметно, как и появился. Виталий нагнулся и под вагоном последил, как удалялся мастер. Потом тихонько стукнул по корпусу, давно приметив, что к пробою заклепки прижато ухо напарника.
— Эй, друг! — крикнул он негромко.
Насупленный напарник показался над бортом. Виталий спросил его:
— Слыхал?
— Ну?!
Виталий пожал плечами.
— Не понимаю, чего вы его терпите? Расскажи ребятам. Убрать этого гада нужно.
Парень вдруг расплылся в широчайшей улыбке, которая осветила его замызганное лицо. Черной рукой он взъерошил свои русые волосы, выбившиеся из-под кепки, и сказал:
— А я думал, ты…
Виталий усмехнулся:
— Индюк тоже думал.
Соколов заметил:
— Мы давно за этой шкурой следили. Улик не было. Что-то он с тобой больно быстро вкапался.
— Ну, видит молодого, «неиспорченного» рабочего! — расхохотался Виталий. — Знаешь, и на старуху бывает проруха!
Напарник натянул кепку на глаза.
— Ладно!
Незадолго до конца работы он попросил Виталия поработать одного, сам же ушел. Виталий заметил, как он разговаривал с мастерами.
Поздним вечером Виталий и Пужняк возвращались из депо домой.
Огромная, неправдоподобно оранжевая, будто нарисованная луна тяжело выкатывалась из-за силуэтов зданий, словно нехотя подымаясь вверх. Густые тени лежали между вагонами. Они скрадывали очертания составов, путей, делая их неузнаваемыми.
Молодые люди шли медленно. Вечерняя прохлада после деповской копоти и духоты была приятной.
Невдалеке запыхтел паровоз. Потом он сконтрпарил. Раздался лязг буферов, перестук колес на стыках рельсов. Вдруг пронзительный крик пронесся над путями. Затем все стихло.
— Никак кого-то зарезало! — встревоженно ахнул Алеша.
Он бросился по направлению крика. Длинные черные тени мгновенно поглотили его фигуру. Со всех ног Виталий полетел за Пужняком.
На третьем пути, у маневрового состава, озаренная багровыми вспышками факела, бросавшего кровавые блики на рельсы, сгрудилась небольшая толпа. Сдержанные возгласы, сумрачная неподвижность людей, глядевших на что-то под колесами товарного вагона, заставили Алешу и Виталия броситься туда.
— Что случилось? — спросил Пужняк тревожно.
— Кашкин под поезд угодил! Шел-шел, поскользнулся — и каюк! — ответил ему незнакомый голос.
8
На следующий день обнаружилось, что Кашкин был не совсем простым мастером. Обычно в несчастных случаях дело ограничивалось составлением протокола. Тут же наехала целая комиссия: железнодорожное начальство, прокурор, какие-то военные, наконец, японский офицер. Комиссия заседала в проходной будке броневого цеха. Рабочих, оказавшихся вблизи места происшествия, вызывали поодиночке, расспрашивая об обстоятельствах смерти Кашкина. Виталий забеспокоился: ему вовсе не хотелось лишний раз сталкиваться с каким-либо начальством. Он, нахмурясь, ожидал вызова:
Антоний Иванович подошел к Бонивуру.
— Чего зажурился? — спросил он Виталия.
— Юноша повел плечом.
— Не люблю по начальству таскаться, Антоний Иванович! — ответил он. Не с руки мне с ними толковать!
— Это можно устроить! — понимающе сказал мастер. — Мы с Алешей разговаривали уже. Никто тебя не называл.
Допрос не дал никаких результатов. По показаниям выходило, что Кашкин во время работы иногда прикладывался к чарочке, часто к вечеру доходя до «третьего взвода»; шел навеселе и на этот раз; видно, закружилась голова, и он попал под колеса маневрового состава.
Потом рабочих собрали на площадке у входа.
Военный прокурор сказал, что этот случай очень подозрителен, что не первый раз здесь погибают мастера, которые не уживаются с рабочими.
Толпа зашумела. Из задних рядов донеслись выкрики:
— Мастер мастеру рознь!
— Сыскных дел мастера!
— Когда рабочий пострадает, никого это не интересует, а тут, вишь, какое представление!
Прокурор обратил негодующее лицо к начальнику депо. Тот замахал руками на кричавших. Однако шум не прекратился. Передние угрюмо молчали. Задние продолжали:
— Довольно людей мурыжить!
— Скажите спасибо, что одной собакой меньше стало!
Начальник депо вскочил на инструментальный ящик.
— Тише! Тише, господа!
— Мы не господа, а рабочие! — крикнул кто-то.
— Тише! С вами хочет говорить господин Суэцугу, представитель японского командования!
Начальник депо слез с ящика, вытер потное лицо и исчез за спинами военных. Из группы выступил японец. Он надменно выпрямился, свысока, насколько позволял его маленький рост, оглядел собравшихся.
— Зачем кричать? — сказал он, старательно выговаривая слова. — Кто кричит, тот плохо работает!
— Уж чего бы лучше вам было: работай — молчи, помирай — молчи! — опять крикнул кто-то.
Японец снисходительно улыбнулся.
— Молчание — золото! — сказал он, видимо, щеголяя знанием русского языка.
— Вот ты и помолчи! — раздался тот же голос.
Толпа одобрительно загудела. Суэцугу, приняв прежнее выражение, продолжал наставительно:
— Это странно, что когда мы хотим выяснить, как погиб ваш товарищ…
— Анчутке черному он товарищ!
Незнакомое слово заставило японца прислушаться. Он сбился. Потом закончил, выражая крайнее недоумение:
— …вы не хотите этого!
Алеша Пужняк, стоявший впереди, глядя прямо в рот японцу, крикнул:
— А вы бы лучше выяснили, как погибли наши товарищи — Лазо, Сибирцев и другие. Не забыли? В двадцатом году?
Японец сморщился.
— Как это может быть, — продолжал он, словно не слыша замечания Алеши, — чтобы человек мог попасть под поезд?
Алеша опять вставил:
— А как может быть, чтобы человек попал в топку паровоза, а?
Стоявший рядом Антоний Иванович дернул Алешу за рукав.
У Суэцугу испортилось настроение. Он оставил попытку договориться с рабочими. Уже другим тоном выкрикнул:
— Вы не можете соблюдать порядок! За вами надо смотреть. Мы поручили вам военный работ. Теперь мы поставим военный охрана… Вы не есть хоросо рабочи!.. Вот!
Разгорячась, он стал прохаживаться перед толпой. Глядя в амбразуру вагона, Виталий увидел японца. Лицо его показалось Виталию знакомым. Он стал припоминать, где видел его. Память тотчас же воскресила апрельский день 1918 года, когда чудесно преобразившийся из парикмахера в японского офицера Жан указывал японскому отряду здание гимназии, занятое под казарму.
После заявления Суэцугу комиссия отправилась восвояси. Едва члены комиссии повернулись к выходу, Алеша засунул два пальца в рот и по-разбойничьи свистнул. Свист прокатился по цеху. Суэцугу нервно обернулся. Алеша сделал наивные глаза. Тотчас же засвистели в другом месте. Так, провожаемая свистом, комиссия дошла до ворот. Напоследок, когда члены комиссии переходили полотно, кто-то с недюжинной силой пустил по нему вагонный скат. Скат, легонько подскакивая, чуть слышно звеня, многопудовой катушкой, помчался к выходу из цеха. Члены комиссии бросились врассыпную, позабыв всю важность, с которой до сих пор держались.
Насмешливый хохот раскатился по цеху.
Алеша разыскал Виталия. Лицо Алеши разрумянилось, он довольно поблескивал глазами:
— Ну что? Каково?
— Ребята, вижу, боевые, — задумчиво сказал Виталий. К ним подошло еще несколько человек, прислушиваясь к разговору. — Только несерьезно все это. Надо дело делать, а не свистеть да скаты катать.
Соколов ухмыльнулся и подмигнул окружающим.
— А ты покажи настоящее дело!
Алеша многозначительно сказал:
— Антонов-то? Он покажет!
К вечеру в цех явилась полурота японских пехотинцев. Они расположились у входа и по тупикам, сменив солдат железнодорожного батальона, к которым рабочие привыкли и с которыми давно не считались.
Японцы стали мерно прохаживаться, держа ружья наперевес.
Алеша окрикнул одного из солдат:
— Эй ты, чучело!
Японец поглядел на Алешу, но так, словно перед ним было пустое место.
— Зачем вас пригнали-то, а? — спросил Алеша.
— Вакаримасен, — сказал японец.
— Вакаримасен, вакаримасен! — передразнил его Алеша.
Взгляд японца был слишком понятен. Даже какая-то усмешка почудилась Алеше во взоре низкорослого солдата. Алеше стало ясно, что охрану бронецеха поручили солдатам, знавшим сносно русский язык. Он сообщил о своем подозрении Виталию. Возможно, что охранка надеялась таким путем добыть какие-нибудь сведения. Расчет был прост: рабочие могли проговориться при солдатах, надеясь, что последние не понимают по-русски.
Фигуры в хаки испортили настроение всем. Рабочие угрюмо глядели на солдат в желто-песочных мундирах.
— Ну, чисто истуканы стоят… Русского хоть словом пришибешь, а этого ничем.
Виталий слышал эти слова. Он громко ответил, внимательно следя за японцем:
— Пришибали и этих! Не слыхали, как в марте на Первой Речке восстала рота японских солдат? Красный флаг подняли…
Солдат кинул быстрый взгляд на второго японца, стоявшего поблизости, и что-то сказал, отрывисто и четко, как бы отдавая приказание. Тот пошел вдоль состава. «Ага, клюнуло!» — подумал Виталий, и ему стало ясно многое. Три звездочки на погонах первого японца, знак солдата первого разряда, показали, что это старослужащий, которому, очевидно, было известно кое-что об успехах большевистской пропаганды в воинских частях японцев. Второй был новичок одна звездочка. Старослужащий отлично понял, что сказал Виталий, но не хотел, чтобы слышал второй солдат. Виталий добавил громче:
— А в этом месяце на Второй Речке в японских казармах жандармы обнаружили большевистские листовки. Хотели арестовать кое-кого из солдат. А остальные не дали, за оружие взялись! — Виталий заметил, что японец прислушался к его словам.
Соколов не мог успокоиться.
— Дожили! — ворчал он, косясь на охрану. — Будто арестанты, право слово! Ну, я под японской охраной работать не буду… Я не я, а не буду!
Бронецех готов был принять вызов. К такому выводу пришел Виталий.
Перед концом работы Антоний Иванович подошел к Виталию. Вытирая руки ветошью, он пристально посмотрел на юношу.
— Ну, как тебе наши ребята понравились? — спросил он.
— Ребята боевые! — ответил Виталий.
— Боевые-то боевые, да только им рука нужна. Алешка Пужняк — все сам бы да сам… Организации настоящей нету: боится довериться людям, комсомольцев у нас мало. А помощь их потребуется!
— Значит, надо поторопиться? — посмотрел Виталий на мастера.
— Да! — коротко ответил он. Помолчав, он вполголоса сказал: — Партийный комитет постановил начать забастовку. Надо от молодежи выделить людей в стачком. Понял?
— Как не понять! — отозвался Виталий.
— Связь будешь держать со мной.
Сутулясь, засовывая ветошь в карман замасленной кожанки, Антоний Иванович ушел.
Виталий поманил к себе Алешу.
— Поговори с ребятами, которые покрепче. Соберемся, кое-что обсудим. Дело есть.
9
Вечером в вагон Алеши собралось двенадцать человек.
Они приходили поодиночке, стараясь не шуметь. Втихомолку рассаживались. Закурили, вагон наполнился сизым дымом. И раньше у Алеши собирались, но никогда не было столько народу. Таня засуетилась. Предвидя что-то из ряда вон выходящее, что-то серьезное, она усаживала приходивших, блестящими глазами озирая их, и не могла дождаться, когда люди начнут говорить о деле.
Однако, когда все собрались, Алеша сказал ей многозначительно:
— Таньча! Ты того…
Таня вспыхнула. Потихоньку, но злым голосом, в котором послышались слезы, она огрызнулась на брата:
— Ага! Как дело начинается — Таню за дверь?
Виталий заметил это и поспешно сказал:
— Таня! Нам тут о своих делах говорить надо. Я попрошу вас: последите, чтобы кто-нибудь не подслушал… Кто будет близко подходить, вы потихоньку постучите в стенку.
Таня торжествующе посмотрела на Алешу.
— Товарищ Антонов! — сказала она. — Я с гитарой сяду. Ладно? — И, видя, что Алеша состроил гримасу, добавила: — буду играть, если кто подойдет. Хорошо?
Виталий согласился. Таня скрылась за дверью.
Собрание открыл Антоний Иванович. Он представил посланца «дяди Коли». Виталий коротко рассказал о том, какое значение имела работа, которую выполняли в цехе. С тревогой он заметил, что его слушают не очень внимательно. Федя Соколов сдержал зевок.
— Тебе скучно? Неинтересно? — прервал свою речь Виталий.
Федя смущенно кашлянул.
— Да нет, товарищ Антонов, я не потому… Вот ты агитируешь нас — а первореченских разве агитировать надо? Ты дорогу покажь, а мы-то настропаленные… Нас тут япошки да семеновские так за советскую власть сагитировали, что лучше и не надо! Руки чешутся…
— Тише, Федя! — остановил его мастер. — Дела просишь, а дисциплину не соблюдаешь.
Виталий объяснил, что сейчас требуется от рабочих бронецеха.
— Понятно! — отозвался один из сидящих. — Будем волынку тереть!.. По-итальянски.
— Да! — подтвердил мастер. — Пока саботаж. Итальянская забастовка. А как только подготовим все, соберем страховые, с запасами устроимся, тогда и настоящую объявим!
Антоний Иванович молодо блеснул глазами. Он подкрутил усы, молодцевато выпрямился и с довольным видом сказал:
— Тряхнем стариной! В девятнадцатом месяц бастовали. Вот это было дело! Туго было, правда… Под конец особенно, когда все финансы издержали. Бабы уже и твердости лишились. Детным совсем худо пришлось. Если бы не эгершельдские грузчики, не знаю, как дотянули бы! Провизией нас поддержали, деньгами. А потом КВЖД забастовала, Владивосток, и начали всеобщую. То-то забегали наши ироды! Все требования удовлетворили: жалованье повысили, стукачей да живодеров поперли, союз разрешили.
Бетонщик Квашнин с замешательством посмотрел на Виталия и на мастера.
— Ну, а с нами как? — поднял он недоуменно плечи. — Как же мы итальянить будем? Это слесарям легко: суетятся, стучат, подтачивают видимость есть. А у нас ведь форма, замес; сколько ни мешай бетон, класть все же надо? Как быть?
Виталий не мог ничего ответить Квашнину. Но его выручил мастер. Хитровато прищурившись, он подмигнул Квашнину.
— Как быть, говоришь! Да вы, бетонщики, настряпать можете еще лучше нас! Вы песочку в цемент, песочку… Вот и видимость будет, и дела не будет…
— Да-к ведь бетон-то хрупкий будет от песочку? — непонимающе сморщил лоб Квашнин.
Антоний Иванович ухмыльнулся.
— Голова!.. Ума палата, а понять не может. Ты так подсыпай, чтобы от пальца не рассыпалось, чтобы с территории выпустить… Понимаешь? А коли камера потом от тряски осядет али от снаряда вдрызг полетит так это — от бога!
Квашнин одобрительно хмыкнул.
— Да-а! Эт-то конечно… Замес-то в три пятых сделать, а то в пять седьмых!.. Ловко! По натуре он оказывать бетоном будет, а по сути — труха. Благо, что на крепость испытания не делают… Д-да! Это можно! — повторил он опять и восхищенно ткнул Антония Ивановича под ребро. — Ах ты, старый хрыч! Хитер!.. Хитер!
В забастовочный комитет выделили троих: Квашнина от бетонщиков, Алешу Пужняка и Виталия. Бонивур взялся подготовить выпуск листовок. Без поддержки всего депо один бронецех не мог бастовать: объявив локаут, заменив рабочих, белые не дали бы сорвать ремонт бронецеха.
10
Таня меланхолически перебирала струны.
Ей очень хотелось, чтобы произошло какое-нибудь необыкновенное событие, в котором она доказала бы, что способна на многое, что она не хуже брата. Однако никто не показывался в тупике. Неясный шум, доносившийся из других вагонов, понемногу стихал: было уже поздно. Луна, серебристо-бледным пятном видневшаяся в небе, источала призрачный свет. Тихо рокотали струны, и ничего необыкновенного не происходило. Во все глаза девушка смотрела вдоль вагонов. Воображение рисовало ей притаившихся врагов. То казалось, какие-то фигуры крадутся, скрываясь в тени вагонов, то чудилось Тане, кто-то ползет между рельсов.
Совещание затянулось. Лихорадочная дрожь проняла Таню. Нервы ее расходились.
Но вот и впрямь что-то мелькнуло под вагоном напротив, какая-то тень показалась там. Таня изо всей силы взяла аккорд. Струны жалобно взвизгнули. От этого звука вздрогнула и сама девушка. Глухие голоса в квартире Пужняка смолкли. В ту же секунду кошачье мяуканье понеслось из-под вагона, к которому со страхом присматривалась Таня.
— Бр-рысь ты, подлая! — с сердцем крикнула девушка.
В этот момент скрипнула дверь.
— Ну, как дела, Таньча? — спросил Алеша.
Он вышел на улицу, постоял, разминаясь. За ним вышел и Виталий.
— Ничего не произошло, часовой?
Таня покраснела до корней волос. Хорошо, что смущение ее никто в сумерках не мог заметить.
— Ничего, товарищ Виталий! — едва справившись с волнением, ответила она.
Алеша пошутил:
— А я думал, ты с каким-нибудь ухажером давно смылась.
— Смываются не эти, а вашего отца дети! — не осталась Таня в долгу.
— А что за сигнал был?
— Так… Проходил какой-то мимо, — ответила девушка и опять обрадовалась, что в темноте не видно было, как она покраснела.
Алеша постучал в стенку вагона.
Один за другим вышли мужчины на улицу и стали расходиться по домам.
Проветривая комнату, в которой от табачного дыма было сине, Таня тихонько обратилась к Бонивуру:
— Товарищ Антонов! А может, мне какая работа найдется? Я все сделаю. Честное слово!
Апрельский день 1918 года ожил в памяти Виталия.
Лицо Лиды, с тревогой и лаской глядевшей на Виталия, тепло ее руки, легшей на его плечо, тихий голос, говоривший, что о нем вспомнят, когда надо будет, вмиг промелькнули в голове Виталия, и радость первого поручения, когда маленькое дело казалось большим и самым важным на свете, обожгла сердце Виталия мучительным и сладким воспоминанием.
Он проговорил:
— Найдется, Таня!
Глава 6 Мышеловка
1
«Итальянская» началась.
В первый день контролеры управления военного коменданта не заметили ничего особенного. Рабочие, как всегда, занимали свои места, не было даже обычных опозданий. По-прежнему копошились с занятым видом клепальщики у железных стенок вагонов, по-прежнему оглушительный треск молотков несся отовсюду.
На второй день контролер, заменивший Кашкина, почуял что-то неладное. Он прохаживался, длинный, хмурый, истрепанный жизнью человек, которому несносны были его обязанности, мало чем отличавшиеся от обязанностей надзирателя в тюремной мастерской. Никто не нуждался в его помощи: раздача инструмента, заточка его, материалы находились в распоряжении старшего мастера Антония Ивановича. Контролер томился, меряя большими шагами площадку. «Хоть бы обругали мерзавцы! — думал он, глядя на работающих. — И то человеком бы себя почувствовал. А тут — будто пустое место!» Контролеру захотелось покурить. Он подошел к одному из рабочих:
— Эй, земляк! Курева нету?
— Вышло! — ответил тот.
Контролер попросил у другого. Рабочий, не глядя на него, сказал:
— Спичек нету.
— А у меня есть! — Контролер обрадованно вытащил из кармана спички.
Рабочий посмотрел на них.
— Разве это спички? — сказал он и швырнул коробок в сторону.
Контролер вытаращил глаза.
— Ты что это, с ума сошел?
— Ага! — коротко ответил рабочий.
Со всех сторон на контролера смотрели насмешливые глаза. Еще ничего не понимая, он машинально поднял спички, отряхнул их и сунул в карман.
Японский часовой вынул сигаретку. Контролер знаком попросил закурить. Оба задымили.
— Совет да любовь! — послышалось сбоку.
Тотчас же еще кто-то добавил:
— Снюхались.
— Одного поля ягода!
— Рыбак рыбака видит издалека!
«Ах, вот оно что! — сообразил контролер. — Бойкот!» И холодная злость поднялась в нем.
Он продолжал ходить по своему участку. Остановился возле Алеши Пужняка. И вдруг увидел, что Алеша мерно опускает молоток мимо заклепки.
— Ослеп? — спросил он резко.
Пужняк невозмутимо посмотрел на него.
— Немного есть! — ответил он, продолжая делать по-своему.
— Да ты разуй, глаза!
— А зачем? На тебя, подлипалу, смотреть! — отозвался Алеша.
— Ты видишь, куда колотишь?
— Куда надо, туда и колочу. Иди к чертовой бабушке! — беззлобно сказал Алеша. — Уйди, покуда по тебе колотить не начал!
Контролер отскочил от клепальщика.
— Итальянишь?
— Лучше итальянить, чем японить!
Контролер заметался по своему участку. Он увидал, что урок с утра почти не подвигался, несмотря на внешнее впечатление усиленной работы. Старший контролер побежал в управление.
…Прогудел гудок на обед. Все принялись за еду. Холостяки извлекали из кармана пакеты с колбасой или рыбой и хлебом и жевали всухомятку, запивая водой из бака. Возле семейных расположились жены или ребятишки, принесшие им горячий обед.
Таня принесла Алеше и Виталию судок с едой. Они принялись за первое. Ели, похваливали. Таня стояла, облокотившись на штабель шпал, с удовольствием наблюдая за тем, как брат и Виталий хлебают щи. Солнце озаряло ее плотную, статную фигуру, широконькое лицо с чуть вздернутым носом и лукавыми глазами.
— Такие щи ели? — спросила девушка, гордившаяся своим умением готовить.
— Никогда!
Алеша залюбовался сестрой и подтолкнул Виталия.
— Ладная у меня сеструха? А, Виталий? Женись, закормит насмерть!
— Алешка, не хулигань! — нахмурилась Таня.
— Ей-богу, женился бы! — серьезно сказал Виталий.
— Только курносых не любишь? — спросил Алеша.
Таня вздернула голову. Виталий продолжал:
— Зарок дал: пока белые в Приморье — не влюбляться…
Чья-то тень легла на шпалу, служившую обеденным столом. Мужчины оглянулись.
Японский часовой, незаметно приблизившись, стоял возле них.
— Что, чучело, щей захотел? — спросил Алеша, набив рот. — Не дам, не проси! Поезжай в Японию — мисо кушать!
Японец восхищенно глядел на Таню.
— Мусмэ… росскэ мусмэ, ероси! — сказал он.
Осклабился и, протянув руку, дотронулся до груди Тани. Та вскинула на него яростный взгляд, побледнела и, схватив бутылку с горячим молоком, изо всей силы, наотмашь, ударила солдата по голове. Он пошатнулся. Осколки бутылки брызнули в разные стороны. Молоко залило одежду и лицо солдата.
Тотчас же простоватое, деревенское его лицо изобразило ярость и испуг. Он хрипло крикнул что-то и вскинул винтовку. Но тут Алеша схватил лежавший подле железный штырь и хлестнул им по винтовке и по руке солдата. Тот выпустил оружие и схватился за разбитую руку…
Со всех сторон бежали рабочие…
Алеша в ярости взметнул штырем еще раз. Виталий схватил его за руки.
Их окружили.
Появились откуда-то, видимо, приведенные старшим контролером, начальник депо и Суэцугу. Контролеры навалились на Алешу. Таня бросилась на них крича:
— Да вы что это?! На нас нападают, да нас же и хватать?
Алеша свирепо выругался и вырвался из рук контролеров. Тяжело дыша, он сказал, глядя на солдата и никого не видя, кроме него:
— Ах-х ты! Я тебе покажу «росскэ мусмэ», что и японских навек забудешь!
Суэцугу кинулся к солдату. Тот, морщась от боли, принялся говорить что-то.
— Что тут произошло? — спросил начальник депо.
Ему рассказали.
Суэцугу, выслушав солдата, закричал на Алешу:
— Борсевико! Я вас арестовать!
К нему подлетели солдаты, сбежавшиеся на шум. Однако рабочие дружной толпой встали перед Суэцугу, закрыв Алешу от солдат.
— Пролита кровь японского гражданина! — продолжал кричать Суэцугу теперь уже на начальника депо, топая ногами и брызжа слюной. Лицо его потемнело, белки глаз порозовели.
Алеша сказал:
— А вы сколько русской крови пролили?
Виталий одернул его. Но Алеша, возбужденный, крикнул:
— Чего с ним говорить? Бросай работу, товарищи! Пока микадо не уберут, бросай работу!
Виталий поискал глазами Антония Ивановича и сделал ему знак. Тот быстро подошел.
— Что будем делать? — спросил Виталий мастера. — Случай вроде подходящий.
— Можно выдвинуть частное требование — удалить японцев из бронецеха. Они тут как бельмо на глазу! А дальше видно будет, — сказал мастер.
Предложение Алеши встретило поддержку. Некоторые рабочие закричали:
— Бросай работу!
Антоний Иванович подошел к начальнику депо и сказал твердо:
— Если японцев не уберут, работу бросим!
Начальник депо растерянно посмотрел на него.
— Я доложу коменданту о вашем требовании.
Толпа сгрудилась. Солдат затерли, не давая им протиснуться к Суэцугу. Пустить в ход оружие японцы не решались. Сжатые со всех сторон, они беспокойно оглядывались на русских, потели, судорожно сжимали винтовки, но присмирели. Суэцугу, видя со всех сторон насупленные лица и решительное настроение рабочих, неожиданно изменил политику. Метнув несколько тревожных взглядов вокруг, — а пределы видимости для него необычайно сузились, а так как толпа почти вплотную прижала всех, кто находился внутри круга, — он неожиданно закричал на солдата. Тот вытянулся. Суэцугу, раздражаясь, кричал все пронзительнее. Солдат боязливо мигал. Накричавшись вволю, Суэцугу вдруг по-русски сказал:
— Болван! Как ты смел трогать девушку? — и неловко из-за тесноты, размахнувшись своей маленькой ручкой, влепил солдату пощечину. Потом, с левой руки, ударил еще раз. — Пень глупый, а не солдат! — сказал Суэцугу презрительно и обернулся к железнодорожникам, ища сочувствия и одобрения своим действиям.
Однако Квашнин из-за плеч других басовито сказал:
Эка, наловчился! Тебя бы так-то!..
К удивлению всего цеха, японская охрана была снята в тот же день к концу работы.
Виталий встревоженно подумал: что это значит?
Ответ мог быть один: и японцы, и белые крайне заинтересованы в срочном выпуске бронепоездов. Значит, события были не за горами. Следовало сделать все, чтобы обеспечить забастовку всего узла.
— Ну, работа будет! — сказал он Алеше и Тане вечером.
— Все что угодно давай — сделаю! — ответила Таня весело, как-то невольно назвав Виталия на «ты».
2
Суэцугу ничего не предпринял для преследования Алеши. Но предосторожности ради Виталий и Алеша несколько дней не спали дома. Таня оставалась в вагоне одна, чтобы проверить, не следят ли за квартирой. Однако не заметила ничего подозрительного.
Вернувшись в вагон, Виталий приспособил зеркало Тани под стеклограф, чтобы печатать листовки.
Пужняка он предупредил:
— Алексей! Следи за собой. Не выкинь опять чего-нибудь. У нас поставлено на карту многое… Я понимаю, что ты был возмущен… Я и сам за Таню готов глотку перервать! Но зачем ты кричал «бросай работу»? Нам не один день бастовать, а месяц-полтора! Без подготовки можно провалить… Анархия в нашем деле ни к чему! Есть постановление — выполняй.
— Очень уж меня взорвало! — оправдывался Пужняк. — Ну да… обещаю держать себя аккуратно…
Виталию приходилось часто отлучаться из цеха: он должен был встречаться с путейцами, с тяговиками. «Дядя Коля», подпольный областком придавали большое значение этой забастовке, и теперь Виталий видел, с какой тщательностью она готовилась, какой размах приобретала. В забастовке должны были участвовать железнодорожники всего узла. Создавались страховые кассы, готовились запасы из добровольных взносов рабочих. Партийная организация города внесла свою долю. Путейцы и портовики Эгершельда, по примеру прошлых лет, тоже не остались в стороне. Когда разбился на Аскольде буксир с мукой и сахаром, шедший в Минную бухту, грузчики Эгершельда произвели ночную вылазку в море и сняли буксир. Они доставили его в город, сохранив в тайне работу экспедиции, и переправили первореченцам свои трофеи.
Это был бой, который большевики давали белым и который надо было выиграть!
Старший мастер «не замечал» частых отлучек Виталия. Работу же комсомольца охотно выполнял любой, кому Антоний Иванович, подмигивая, говорил:
— Подмени-ка, слышь, Антонова!
3
Через связного «дядя Коля» передал, что надо усилить обеспечение первореченцев продовольствием, чтобы к началу забастовки создать резервные запасы муки, крупы, сала. Большую помощь в этом могли оказать грузчики Эгершельда. Они должны были экспроприировать продукты из армейских складов. Каждый участник этой экспроприации знал только двух человек — того, от кого принимал грузы, и того, кому передавал их, да и то только в лицо, по кличке, по условному паролю. Предосторожности эти были необходимы: слишком многими жизнями рисковала тут партийная организация. Виталию поручили предупредить грузчика Стороженко, артель которого работала на перевалке грузов из пакгаузов в вагоны, о том, что надо быть осторожнее: последняя партия была так велика, что неосторожность могла привести к провалу всего предприятия. «Не зарывайтесь!» — предупреждал «дядя Коля».
Виталий слез с дачного поезда на первом переезде.
Он тихонько вышел на Алеутскую улицу. Миновал гостиницу «Золотой Рог», прошел мимо гостиницы «Националь», покосился на зеркальные окна магазина фирмы Ткаченко, заставленные чудовищной величины шоколадными изделиями. В витринах над шоколадными бомбами, дворцами, башнями и слонами отражались верхние окна «Националя», те самые окна, откуда в дни событий 4–5 апреля японские пулеметы открыли перекрестный огонь, устлавший мостовую на Светланской трупами ни в чем не повинных людей.
Вот Русско-Азиатский банк. Он неизменно финансирует все, что делается во вред Советам, он выпускает свои деньги; эти деньги, с изображением паровоза, имеют широкое хождение в крае. Далеко не все знают, что обозначают слова, напечатанные синей краской в самом низу кредитного билета Русско-Азиатского банка. Деньги эти отпечатаны в США, и надпись гласит: «Сделано в США». Американцы эвакуировались с Дальнего Востока, но эта многозначительная надпись под банковскими билетами красноречиво говорит о том, что все в Приморье делается с ведома и одобрения американцев.
Все, все решительно напоминало здесь о том, что не вся еще русская земля принадлежит своим настоящим хозяевам. Оружие и деньги из-за океана, американские доллары текут в руки контрреволюционных генералов всех мастей. Борьба еще не кончена!
Волнистое железо «Адванс-Румели» белеет на крышах портовых пакгаузов. Пакгаузы за две недели воздвигли американцы. Из этих пакгаузов получали снаряжение американские солдаты, идущие в Сучан, чтобы задушить там Советы. Из этих пакгаузов получали снаряжение и вооружение американские батальоны, едущие в Тетюхе, на серебро-свинцовые месторождения которого наложили лапу американские банкиры. Отсюда ехали на Керби, на Алдан, на Чумикан американские дельцы, протянувшие руки к русским золотым россыпям… Вот у того причала стоит крейсер «Нью-Орлеан». Вот площадка для игры в бейзбол; игру эту любят американские моряки. Американцы в один День снесли домишки портовых служащих, рыбаков и рабочих, чтобы разбить эту площадку… Улицы пестрят японскими вывесками, японский говор доносится отовсюду, везде мелькают низкорослые фигурки японцев; они здесь потому, что американские банкиры предоставляют им возможность осуществлять вооруженную интервенцию на Дальнем Востоке, тогда как за собой оставляют руководство интервенцией. Так удобнее: никто не обвиняет американцев, не льется кровь американских солдат, но все, что производит Дальний Восток, в конце концов попадает в руки Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов…
Вот налево мирный пейзаж. За невысокой металлической оградой — участок, заросший сеяной травкой; одноэтажный, с мансардой дом, крытый черепицей; две высоченные мачты, поднявшиеся выше всех домов в городе; на спортивной площадке, устроенной среди зелени, тенистый корт, на нем прыгают две белые фигуры, летают мячи и мелькают ракетки. Оттуда слышатся смех и веселые возгласы девушки, кончившей тайм: «Ай эм финиш! Ай эм финиш!» Это датская радиостанция, но служат на ней американцы.
Вот у ворот красивого дома, возвышающегося на каменных террасах, поднимающихся прямо с улицы, стоят индусы-сикхи. Их темно-красные загорелые лица непроницаемо спокойны, темные глаза погашены приспущенными веками, тонкие сильные руки праздно сложены на груди. Они стоят как изваяния. Они умеют это делать. Они также умеют бить бедняков, если те осмелятся подняться на ступени дома, у подъезда которого стоят сикхи. Бьют они как-то незаметно, короткими движениями. После такого удара человек падает и не может подняться. Дом принадлежит Бринеру, шведу, горнопромышленнику, заинтересованному в горных разработках на Сучане. Знают ли эти индусы, что торговый дом «Бринер и К°» связан с Русско-Азиатским банком и что заокеанские воротилы через него контролируют их грозного саиба — господина?
«Ох, как крепко все это сцеплено! — сказал Виталий сам себе. — В Нью-Йорке дельцы играют на бирже, Бринер продает сучанский уголек, председатель правления Русско-Азиатского банка Хорват поддерживает блокаду Приморья. А все это в конце концов приводит к тому, что нам не дают жить так, как мы хотим…»
4
Он не заметил, как дошел до цели.
Длинный серый барак с полуразрушенным крылом, откуда были вытащены дверные и оконные рамы, стоял в конце беспорядочно организованной улицы, дома на которой стояли вкось и вкривь. Это была одна из тех улиц, на возникновение которых «отцы города» не рассчитывали и которые возникали сами собой, оттого, что надо же было где-нибудь жить тем, кто на центральных улицах города строил высокие каменные дома с каменными кружевами на фасадах. Неизменная «винополька» красовалась на улице своими бутылками на окнах; черная вывеска ее выцвела, покосившиеся ступени невысокого крыльца были стерты тяжелыми сапогами покупателей… Виталий только вздохнул, глянув на этот пейзаж.
Между «винополькой» и бараком играли ребята.
Едва Виталий миновал их, как к нему подскочил черномазый мальчишка, лет десяти-одиннадцати. Он дернул Виталия за пиджак.
— Дяденька! — сказал он.
Виталий отмахнулся:
— Ничего, малец, нету!
Но мальчишка быстренько сказал:
— А у нас в доме солдаты, дяденька!
— А мне-то что? — сказал Виталий.
Мальчишка исподлобья посмотрел на юношу.
— У кого солдаты-то? — спросил Виталий тихо.
— А у Стороженковых солдаты, еще ночью пришли… Да и не выходят! — так же быстренько сказал мальчуган.
Виталий внутренне охнул: он шел к Стороженко.
— А твой батька дома? — спросил он чумазого.
— А дома… Мы-то рядом со Стороженковыми квартируем.
— Обожди меня тут! — сказал Виталий.
Он вернулся, зашел в «винопольку», бросил на прилавок три рубля.
— Одну сиротскую! — сказал он сидельцу.
Тот лениво снял с полки бутылку и, не глядя на Виталия, смахнул деньги в ящик, не видный из лавки.
Виталий, держа бутылку в левой руке, поддал по донышку ладонью правой руки, пробка вылетела из горлышка. Виталий глотнул водки. Сиделец глянул на него и подобрал пробку с прилавка.
Виталий вышел. Мальчуган ждал его. Виталий взял его за руку:
— Как звать-то тебя?
— Андрейка.
— Пошли, Андрейка, к вам… Отца-то как звать-величать?
— Иван Николаевич. Да его все Ваней-соколом зовут.
Виталий сунул бутылку в карман, так что всем видно было ее небрежно заткнутое горлышко, и, приняв вид человека, выпившего не то чтобы очень, но «веселого», поднялся на крыльцо барака.
В нос ему ударило спертым запахом жилья, в которое никогда не заглядывает солнце. Покосившийся потолок в коридоре, двери, плохо пригнанные и пропускавшие свет и запахи, неметеный пол представились взгляду Виталия. Третья дверь направо, обитая полосатой дерюжкой, вела в квартиру Стороженко. Виталий громко заговорил с мальчуганом:
— А ты, брат Андрейка, ничего не понимаешь! Вот завернул Антонов в «винопольку» — ты сейчас же: «Дядя Анто-о-онов, не надо, не на…» А чего не надо? Я сам, брат, знаю, чего надо, чего не надо… Ты думаешь, твой батька от смирновки откажется? Шутишь, брат! Он, Ваня-сокол-то, тоже не дурак насчет этого!..
Со стороны все это выглядело обычным: крепко выпивали в этом предместье. В голосе Виталия слышались нотки человека, премного довольного собой, как бывает тогда, когда водка еще оказывает на человека бодрящее действие. Топоча сапогами, он уверенно шел по коридору, будто бывал здесь каждый день. Андрейка что-то отвечал ему, но голос его пропадал в полукрике Виталия. Кое-где открылись двери и тотчас же захлопнулись. Поравнявшись с дверью Стороженко, Виталий, к явному испугу Андрейки, забарабанил в дверь.
— Эй, Ваня-сокол, открывай!
И с силой дернул дверь к себе. Остановился на пороге, мгновенно окинув взглядом внутренность квартиры. Сообразив что-то, Андрейка закричал, таща его от двери:
— Дяденька, да это не наша кватерка! Это Стороженковых!
Виталий пошатался на пороге. Стороженко — и грузчик и его жена — в принужденных позах сидели у стены. За столом расположился офицер. Двое солдат, распаренных, потных, с расстегнутыми воротниками промокших гимнастерок, занимали колченогие стулья. Точно не видя, куда он попал, Виталий сказал было:
— Иван Николаевич! Друг… — потом, будто бы сообразив, что ошибся, сказал, распялив рот в непослушную улыбку: — Извиняйте, не туда попал, видно. Что ж ты, Андрейка, сукин кот…
Мальчуган, испуганный, сбитый с толку, оттаскивал Виталия за руку, пятился в коридор.
Виталий повернулся, твердя «извиняйте», с силой захлопнул дверь Стороженко и открыл другую дверь, рядом. С порога ему бросились в глаза смятенные лица немолодого рабочего и его жены, отлично слышавших все, что разыгралось рядом: в каждой комнате этого ветхого жилья слышно было все, что происходило в бараке. Виталий многозначительным жестом показал на соседнюю комнату, изобразив пальцами решетку и безнадежно покачав головой: «Дело плохо!» Этого было достаточно, чтобы хозяева этой комнаты поняли, что Виталий вовсе не пьян. Виталий закричал:
— Ваня-сокол, принимай Антонова!.. Прилетела синичка, принесла тряпичку, а в тряпице — птица, всем птицам голова: шея длинная, головка красная, а брюхо толстое. Кто эту птицу приютит, тому пьяным быть… Хозяйка, давай закусон!
— А ты уже готов? — громко спросила хозяйка.
— Давно готов! — сказал Виталий, шумно подвигая табуретку, попавшуюся на глаза, к столу и со стуком ставя бутылку на стол.
— Тихо! — сказал хозяин. — Хозяйка, знаешь, не любит…
Виталий начал извиняться, очень шумно, очень бестолково, пересыпая речь прибаутками. Потом спросил потихоньку у хозяина:
— Кто-нибудь к Стороженковым заходил с утра?
— Да Андрейка двоих уже остановил. Как услыхали, что у Стороженко солдаты, так и повернули.
— Ну, спасибо!
— Не на чем… Свои люди.
Посидев некоторое время с Иваном Николаевичем, Виталий собрался восвояси. Хозяин взял его под руку и пошел с ним к выходу. Вслед им приоткрылась дверь Стороженко, чей-то внимательный глаз проводил их настороженным взглядом.
— Мышеловка! — сказал Виталий.
— Держи карман шире — поймаешь! — ответил Ваня-сокол поговоркой и усмехнулся.
— Спасибо, товарищ! — пожал ему руку Бонивур.
Иван Николаевич ответил на пожатие.
— Да что там! — сказал он, смутившись. — Вижу, свои люди… Не шантрапа какая-нибудь. Стороженко-то такой парень, что надо было лучше, да некуда. Смутное беспокойство шевельнулось в нем, он молвил тихо: — Меня бы только не прихлопнули… Им только палец покажи. А ведь я сторонний человек.
— Ты честный человек, — сказал Виталий.
— А ты отчаянная голова, я погляжу! — Ваня-сокол покачал головой. И трудно было разобрать, чего в этом движении было больше — осуждения ли безрассудства Виталия, или восхищения его находчивостью и смелостью.
5
О провале Стороженко надо было предупредить.
Виталий знал адрес члена областкома «тети Нади» — Перовской. Тетя Надя была хорошо законспирирована: она держала зубоврачебный кабинет. В дневные часы можно было являться к ней без особой опаски привести за собой ищеек…
Он подождал в приемной. Из кабинета доносилось до него жужжанье бормашины, подавленные стоны пациента, какие-то неразборчивые, со всхлипами возгласы. Потом Виталий услышал звуки полоскания, плеск воды, скрип кресла, шаги. Держась за щеку, скорее по привычке, чем по нужде, мимо Виталия прошел пациент, судя по костюму, коммерсант, тучный, страдающий одышкой. Тотчас же из кабинета раздался голос тети Нади:
— Попрошу следующего!
Виталий вошел, плотно прикрыв за собою дверь. Перовская, увидев его, высоко подняла брови. Она сказала громко:
— Ну, на что жалуетесь, молодой человек?
Виталий понял, что этот вопрос рассчитан на тех, кто может оказаться в приемной.
— Там нет никого, тетя Надя! — сказал он.
Перовская выглянула. Плотно прикрыла дверь.
— Ну, что случилось? Даром ты не приходишь…
Виталий рассказал о том, что видел на Эгершельде. Перовская слушала его, не прерывая. Когда он кончил, спросила:
— Ты хорошо знаешь этого рабочего, который сынишку выставил в «пикет»?
— Нет, тетя Надя, не знаю. Даже и фамилию не спросил, только и знаю, что прозвище его «Ваня-сокол»… А вы не знаете его?
Перовская не ответила. Она задумчиво посмотрела на Бонивура. Что-то ее озаботило. Она стояла так довольно долго. Виталий не мешал ей думать. Наконец, Перовская подняла на него свои ясные глаза.
— За предупреждение спасибо. Ты поступил правильно, Виталий. В тот дом ты больше не пойдешь. Если где-нибудь встретишь Ваню-сокола, не подавай виду, что его знаешь. Со Стороженко дела обстоят не так плохо, как можно было думать. Его можно выручить. А вот с тобой хуже… — Перовская села, опершись руками о бедра.
— Я не понимаю, тетя Надя…
— Сейчас поймешь. Меня очень встревожило то, что ты, не раздумывая, пошел к Ване-соколу и даже в какой-то степени уведомил его, что Стороженко связан с большевиками. Допустим, что Ваня-сокол честный рабочий, и, тем не менее, в бараке есть теперь человек, который доподлинно, знает, что Стороженко связан с подпольем. А именно такой вывод может и должен сделать этот Ваня-сокол… Ты скажешь, что он выставил на стражу своего Андрейку и уже это одно говорит, что он нам не чужой. Может быть, и так, а может быть, это произошло только потому, что Ваня-сокол считал, что надо соседу помочь, коли он попался, не задумываясь над тем, какие мотивы руководили соседом, когда он кое-что приносил из порта. Узнав же, что Стороженко втянут «в политику», он может, попросту испугавшись, передать охранке твой разговор. Кстати, солдаты и офицер, которых ты видел, не обязательно из контрразведки. Это портовая охрана, и нас это вполне устраивает.
Виталий сделал движение. Перовская остановила его: «Помолчи!»
— Ты опять скажешь, как сказал однажды, что «хотел увидеть обстановку своими глазами» или что-то в этом роде. Но в данном случае у тебя была ограниченная задача. Ты узнал об аресте Стороженко. И ты должен был сообщить нам об этом. Остальное — наша забота, товарищ Бонивур, как нашей заботой было организовать все это предприятие, подыскать людей для его выполнения, переправлять продовольствие и так далее, как и находить необходимые меры для предотвращения возможного провала. Ты впутал в это чужого человека.
— Не мог чужой человек послать Андрейку! — возразил Виталий горячо.
— Ну, а мог Маленький Пэн оказаться просто мошенником, участником какой-нибудь шайки, который завез бы тебя в укромное место, а потом нам пришлось бы платить за тебя выкуп?
— Ах, вы и про Пэна знаете? — пролепетал Виталий.
— И про Пэна знаем. И вот смотрю я на тебя, Виталий, и не пойму: то ли тебе баснословно, совершенно невероятно везет… какое-то чисто мальчишеское счастье, то ли у тебя есть чутье на людей? Ну, хорошо, повезло тебе при освобождении Нины и Семена, повезло с Пэном, да нельзя же на «счастье» в нашем деле надеяться и лезть всюду, куда потянуло? Рисковать мы иногда должны, рисковать с умом, ошеломляя наших противников сообразительностью, дерзостью, остроумием. Но этот риск — не система, а исключение. Система же наша — завоевание полного доверия самых широких масс рабочих и крестьян. Тогда и нам будет работать легче, тогда помощники и союзники у нас всюду будут. Вот и не могу я понять, что тебя выручает: счастье или чутье? Если счастье, кончится это очень плохо: сорвешься сам и других потянешь. А если чутье — далеко пойдешь, Виталий! Уменье распознавать людей — драгоценное качество большевика… Не все мы в равной степени наделены этим уменьем: кто наделен — может больше других сделать для партии…
— Тетя Надя, — сказал Виталий, — я как на Андрейку посмотрел да на его отца, мне точно в сердце стукнуло: свои! Не знаю, как и рассказать вам то, что иногда я чувствую. Вот нет никаких данных, ни слова человек не скажет, пальцем не шевельнет — как знать, можно ли ему довериться, а меня точно под руку кто толкнет: не бойся, мол… Вы ведь знаете Любанского, который на Поспелове работает? Как я с ним познакомился? На улице, тетя Надя… В толпе рядом стояли. У японцев какой-то парад был, чуть не весь корпус по Светланской прогнали… в каждой роте оркестр, фанфары, барабаны, шум, треск, громобой… По адресу японцев чего только народ не говорил. А Любанский молчал. Всякое молчание бывает, тетя Надя, за иным молчанием другой раз черт его знает какое пламя клокочет! Глядел я на Любанского, глядел — и вот втемяшилось мне, что такого парня к нам бы надо… Ведь душа стынет, как представишь себе, на каком он теперь деле — на допросах наших товарищей присутствует. Кто из наших его знает? Вы, да я, да еще трое пятеро… А те, кого допрашивают, в нем палача видят! Палача!.. Ему-то каково?!
Перовская не мешала Виталию говорить, молча глядя на его разгоревшееся лицо, отражавшее сильнейшее волнение.
— А ведь мог я мимо Любанского пройти, тетя Надя? Мог?
— Что же все-таки тебя в Любанском привлекло?
— Да я и сам разобраться не могу. Показалось мне, что он ненавидит японцев всеми силами души своей. Так ненавидит, что и слова на них тратить не хочет. Что с такой ненавистью человек может не смеяться над врагом, а только бить его, что ради этой задачи он все может сделать… В чем это выражалось? В глазах, в складке губ, в чем-то таком, что и не запомнишь, чего и не расскажешь…
Тетя Надя вдруг посмотрела на часы и охнула.
— Иди Бонивур! Сейчас я занята. Насчет Стороженко не беспокойся, кое-что предпримем. Да, в заключение разговора должна я тебе сказать, что мы обязаны и должны доверять людям. Но мы не можем позволить себе роскоши быть доверчивыми!
Виталий в замешательстве поглядел на Перовскую.
— Что-то я не совсем понимаю.
— Подумай — поймешь. Чему тебя в гимназии учили: неужели доверчивость и доверие одно и то же?
— А-а! — протянул Бонивур.
Тетя Надя тихонько подтолкнула его к выходу.
— До свидания! В прихожей скажешь, чтобы закрыли на сегодня.
Когда Виталий вышел, тетя Надя поспешно открыла дверь, ведущую из кабинета в столовую. Там сидел верхом на стуле, положив голову на скрещенные руки, Михайлов. Перовская сказала:
— Извини. Задержалась сильно. Приходил Бонивур, сообщил о провале Стороженко. Опять парень сунулся в пекло без раздумий, без сомнений.
— Горячий!
— Пришлось поговорить с ним.
— Я слышал все. Ты не напрасно подняла этот вопрос перед ним. От парня много можно требовать. Горячее сердце, чистая душа, пламенная вера в наше дело, забвение самого себя.
— В партию бы пора его принимать товарищ Михайлов! — сказала неожиданно Перовская.
Михайлов вопросительно посмотрел на нее, в глазах его заиграла усмешка.
— Позволь, позволь… Только что ты отчитала его как мальчишку.
— Ну, не как мальчишку. Если ты разговор слышал, то согласишься со мной…
— В комсомоле люди нужны настоящие, тетя Надя! — сказал Михайлов. — Я за ним давно слежу. Ему молодежь верит. Слушал я его, приходилось. Говорит просто, душевно, волнуется — и каждому видно, что он свое говорит, наболевшее, от чистого сердца. И, знаешь, зажигает людей этой своей чистой верой и волнением…
— Романтик он! — улыбнулась тетя Надя. — Мне недавно рассказали, он на парте своей еще в гимназии вырезал скрещенные мечи с надписью: «Революция» и «До последнего дыхания!» Клятву дал — не любить, пока не освобождена родина!..
В комнате воцарилось молчание. Михайлов вдруг как-то ушел в себя, о чем-то задумавшись. Перовская устало откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Михайлов спросил:
— А рекомендацию в партию ты дашь ему?
— Бонивуру? Дам.
— Ну, не забывай об этом обещании! — сказал Михайлов.
— Не забуду! — сказала Перовская. — А когда надо? Сейчас?
— Нет… Пусть поработает еще. Не хватает ему выдержки, силы свои переоценивает. Кидается очертя голову в любое пекло… Пусть поработает еще! — сказал Михайлов.
Он задумался, положив голову на руки, и устало прикрыл глаза. Тетя Надя с тревогой посмотрела на него и участливо коснулась его рукой.
— Николай Петрович! Что с тобой? Ты нездоров?
Михайлов выпрямился.
— Нет, все в порядке, Надежда. Получил письмо из дому. Сынишка Славка болеет скарлатиной. Галя с ног сбилась, не спит, все возле него… Бредит Славка, меня поминает. Галя пишет: «Приехал бы ты хоть на денек!» А как приехать, когда и письмо-то только с оказией можно послать! Да и не время для этого. Ты сама знаешь нынешнюю обстановку, ни на минуту не могу я отойти в сторону.
— А как переносит Славка? — спросила Перовская.
— В том-то и дело, что худо! Галя боится всевозможных осложнений. А врачебная помощь в глухом селе какая?.. Один старик фельдшер. — Михайлов встал, прошелся, глянул в окно. — Ох, Надежда, как я по ним стосковался! Веришь ли, во сне снятся… Бывает, задумаюсь — и вдруг: «Па-па!» — голос Славкин.
Михайлов улыбнулся, и глаза его засияли. Он тотчас же отвернулся, но Перовской было видно, что Михайлов продолжает улыбаться. Тетя Надя подошла к нему.
— Скоро увидишься с ними, Николай Петрович! — сказала она. — Помнишь, Сергей Георгиевич сколько не видел своих, дочка и то без него родилась, он так и не видал ее.
Михайлов, помолчав, сказал:
— Я так и думал, что ты сейчас мне о Лазо напомнишь… Я и сам, Надежда, как только тяжело становится, о нем вспоминаю. Вот ты из-за Славки о нем напомнила, а он у меня всегда перед глазами, часто думаю: а как Сергей Лазо на моем месте поступил бы?.. Да, — он обернулся к Перовской, — я к тебе вот зачем: к моей квартире принюхались, надо переходить на запасную!
Глава 7 Перед схваткой
1
Начальство, взбешенное затяжкой работ, грозило арестами, однако не решалось на крайние меры.
Несмотря на то, что японская охрана в бронецехе была снята, Суэцугу часто приходил в депо. Заложив руки за спину, он прохаживался вдоль составов, часто плевался по сторонам, вытирая после этого рот белоснежным платком с нарисованным изображением Фудзи-Ямы и каких-то красавиц. Один за другим брал в рот ароматические шарики дзин-тан. Обсасывал их, сопя от удовольствия. Тем временем присматривался к рабочим.
Он заводил разговоры по всякому поводу.
Присев однажды возле Алеши, Суэцугу сказал:
— Очень хорошая погода!
— Угу! — ответил Алеша.
— Очень хорошо в такую погоду гулять.
— Недурно.
— Вы хотите гулять?
Алеша посмотрел на японца.
— Не позывает! — сказал он.
Японец торопливо достал крошечный словарик.
Алеша посмотрел на Суэцугу.
— Все учите?
— Да, — ответил поручик. — Японский офицер должен знать росскэ язык! Как это говорят, при-го-дит-ца!
— Не пригодится! — угрюмо сказал Алеша. — Напрасно трудитесь.
Суэцугу пропустил мимо ушей замечание Алеши. Он аккуратно записал выражение «не позывает». Критически глядя на клепку, заявил:
— Росскэ рабочие не умеют хорошо работать… Совсем не умеют… С хозяин всегда спорить, ругать. Плохо!
— А у вас не так, что ли? — буркнул Алеша.
— О! — Суэцугу изобразил восхищение на лице. — Японски рабочие послушни как сын, котору слушает отец. Очень хорошо работать! Ниппон нет борсевико!
— Ну, это ты врешь! — выпалил Алеша. — Асадо Сато был коммунист. Сен-Катаяма коммунист… Будто не знаешь? А коли хорошо в Японии, катились бы туда.
— Мы скоро эваку-ировать! — любезно ответил Суэцугу.
— Слава богу, мы это который год слышим.
— Нет, правда… — Суэцугу опять вынул словарик. — Еще немного учите меня, — сказал он, перелистывая записную книжечку. — Есть ли в цехе новые рабочие?
Алеша побагровел.
— Э-э, вон какой ты ученый, ваше благородие! Ни черта я тебе не скажу! Понял? Так и запиши. Ни черта!
Суэцугу поднялся:
— Очень благодарю. Аригото. Можно мне приходить ваш дом заниматься росскэ язык?
— Нет…
— Может быть, ваша сестра может?
— Нет! — отрезал Алеша.
Суэцугу вежливо отошел. И очутился лицом к лицу с Виталием.
Комсомолец оторопел. Как ни остерегался он попадаться на глаза кому бы то ни было из военных, все же он столкнулся с Суэцугу. Японец вежливо сказал:
— Здрастуйте!
— Здравствуйте! — ответил Бонивур, сделав движение, чтобы пропустить поручика. Но тот с выражением любопытства на лице рассматривал Виталия.
— Нови-чок? — произнес он.
— Нет, который год здесь работаю! — сказал Виталий.
— Я до сих пор не видал вас! — живо возразил японец.
— Ну, разве всех запомнишь! — ответил ему Виталий.
Когда Суэцугу ушел, Алеша кивнул ему вслед:
— Принюхивается, Виталька!
— Кажется.
2
Таня зачастила к подругам. То вспоминала она о том, что на Кавказской улице живет ее однокашница, то нужно ей получить выкройку блузки, то следовало навестить какую-то родственницу. Но для этого она всегда направлялась в одно место: в депо. Там работали отцы, братья, мужья знакомых Тани. И она считала своим долгом предварительно справиться у них, когда может она зайти, чтобы застать девчат.
— Андрей Платоныч, — спрашивала она закопченного усача в кожаной замасленной куртке, — Машенька дома сегодня?
— Машенька-то? А где ей быть? — отвечал Андрей Платоныч, утирая лицо ладонью. — Да ты сходи сама!
— И то схожу! — говорила Таня и, поспешно простившись, исчезала.
Полчаса спустя, взявшись за рабочий ящик и обнаружив в нем какую-то бумагу, Андрей Платоныч читал:
«Товарищи! Близится час победы! НРА — у Имана. Настают последние дни развязки. Белые чувствуют свою гибель, но они еще сопротивляются. Они готовятся еще к кровавым схваткам, формируют войска, готовят броневики.
Эти войска белых по железной дороге будут перебрасываться на фронт! Эти бронированные поезда ремонтируются в нашем депо!
— Не бывать тому, чтобы мы своими руками помогали врагам!
Бастуйте! Срывайте воинские перевозки белых!
Комитет».
Андрей Платоныч посмотрел поверх очков, не заметил ли кто листовку, и сунул ее в карман. «Откуда бы это? — соображал он. — Никто будто не заходил… Только Пужнякова девчонка…»
А дня через два Андрей Платоныч обнаружил листовку в узелке с обедом, принесенном Машенькой.
— Вот сопливая команда! — ворчал он, пряча листовку. — И Машка туда же. Ну, шкуру дома спущу… Когда только поспевают, проклятущие?! Ну, молодцы девчата!
Виталий удивился, когда Таня сообщила, что все листовки, какие он поручал ей распространить, уже разошлись.
— Да ты их по улице, что ли, разбросала? — спросил он тревожно. Смотри, Таня!
Девушка смело, с каким-то вызовом, глядела на юношу.
— Не маленькая! — ответила она.
Аккуратно уложив в корзину новую партию листовок, Таня остановилась перед Виталием.
— Ну, что? — спросил тот.
— Давай еще!
— Не успеешь.
— Успеем! — самоуверенно возразила девушка. Множественное окончание сорвалось с ее языка невольно.
— Что это значит? — спросил Бонивур.
— Ничего, — передернула плечами Таня.
— Таня! — сказал Виталий серьезно. — Мы не в жмурки и не в лапту играем. С кем ты поделилась?
Подчиняясь его повелительному тону, девушка рассказала, что раздала листовки нескольким своим подругам, которые, как и она, хотели «что-нибудь делать». Их было четыре.
— Я за них головой ручаюсь! — добавила Таня горячо.
— Твоя голова не стоит головы Антония Ивановича, например! — сумрачно вымолвил Виталий.
Таня стояла, вытянувшись, как струнка. Кровь отхлынула от ее розовых щек. Она смотрела на Виталия не мигая, затаив дыхание. Слезы заблестели на ее глазах. Но гордость не дала ей заплакать. И Виталий понял, что Таня не слабее брата, не слабее, пожалуй, и его самого. И если она ручается за девчат, верить ей можно.
— Вот вы, парни, всегда так! — прерывисто сказала Таня. — Все думаете, что девчата лишь о танцульках мечтают, точно мы не люди. Я, поди, знаю, кому давать. У Катьки Соборской отец в тюрьме, Леночка Иевлева — круглая сирота, приемыш, у нее родители в Ивановке погибли от японцев, Машенька — Цебрикова дочка — сама работает. Соня Лескова за брата мстит! А вы…
— Вот ты с этого и начала бы! — Бонивур улыбнулся. — Ну, чисто Алешка все выпалит, а потом думать начнет!.. Уговорились, Таня. Ты будь начальником над своей командой. Но пока, кроме тебя, они не должны знать никого. Понятно? Вступайте в комсомол, а тогда уже настоящими бойцами будете. Идет?
— Еще как идет! — обрадованно отозвалась Таня. — Господи, какой вы хороший! Не то что Алешка, он ничего не понимает.
Виталий усмехнулся:
— Все Алешку коришь, Таньча, а если он в беду попадет, свою голову сложишь, а выручишь… Так?
Таня озадаченно посмотрела на Виталия.
— Да боже ты мой, а как же иначе, коли друг за друга не держаться! Алешка-то, вы знаете, Виталя, какой парень… Даже на Первой Речке поискать. А у нас парни что надо — и в огонь и в воду за революцию готовы!.. Только вы ему не говорите, Виталя, а то он нос задерет, знаю я его…
— Рабочая косточка, — сказал Виталий, — за своих, как ты говоришь, в огонь и в воду, а с врагами драться до последнего вздоха.
Помолчав, он добавил:
— С девчатами твоими надо поговорить. Устрой с ними встречу, побеседуем…
3
Таня с волнением готовилась к встрече. С той минуты, когда Виталий сказал, что она отвечает за своих девчат, что они уже становятся настоящими бойцами революции, распространяя листовки стачечного комитета, она вдруг почувствовала свою ответственность за тех, кто вместе с ней становится в ряды этой армии, и поняла, что до сих пор она смотрела на «своих девчат» только как на подруг детства.
Она знала их до сих пор как сверстниц, с которыми вместе лазили по фортам, ездили на Коврижку, стояли в очередях, иной раз, в отсутствие братьев, гоняли по крышам голубей, а то запускали раскрашенных змеев в небесную синь, задрав кверху голову, не глядя под ноги и попадая в ямы и лужи.
Она знала своих подруг главным образом по совместным играм… Еще и еще раз перебирала она в памяти все, что могла вспомнить о своих подругах, и не могла ничего плохого о них сказать. Правда, Катюшка Соборская любит иногда приврать, не оттого, что кого-нибудь хочет обмануть, а искренне веря в то, что приходит ей на ум. Немного угрюма Иевлева… А так девчата как девчата. «Рабочая косточка!» — повторила Таня выражение Виталия, не заметив, что повторила.
Не раз Таня говорила с каждой из своих подруг, выспрашивая о самом тайном, пока Леночка Иевлева не сказала как-то:
— Таньча, чего ты все к нам присматриваешься да выпытываешь? Верить, что ли, перестала? Все мы друг у друга на виду, право, и хотела бы скрыть что-нибудь, да разве утаишь… С чистой душой, Таньча, живем.
Таня смутилась. Хотела объяснить свое поведение, но Катюша Соборская сказала:
— Все за нас боишься, Танютка? Не бойся.
Машенька Цебрикова рассудительно ответила Кате за Таню:
— Я думаю так: идти надо, чтобы на душе было светло, чисто, как после причастия, после исповеди.
Девчата расхохотались.
— Ну, Машенька, заговорилась… Это тебе не в монастырь идти!
Машенька покраснела, однако выдержала паузу и, когда подруги смолкли, сказала решительно:
— Не в том дело. Я говорю, что такое дело, на какое мы хотим идти, надо делать с чистым сердцем А что до исповеди, то у меня бабка была такая благочестивая, такая благочестивая… Я маленькая была — верила во все. Это позже, как посмотрела у подружки на Океанской, как попы пьянствуют да ведут себя… У архиерея мальчишки сливы потаскали, как он их ругал ой-ой-ой! Веры в попов да в боженьку у меня нету, а слова про них остались. Нету других-то слов! Не научилась еще другими словами говорить, а охота.
— Ой, девочки! — вздохнула Катюша, полузакрыв свои черные, как маслины, глаза. — Даже боязно.
— Боязно, так отстань, пока не поздно! — сказала Леночка, хмурясь.
— Вот что, девчата! — сказала Таня. — Будет у нас беседа с одним человеком. Как его фамилия, я вам говорить не буду. Вы его сами увидите. Только заранее уговор: если где-нибудь его встретите, не подскакивать, не здороваться, глаза не пялить, как Машка пялит на парней, виду не подавать, что вы его знаете, что с ним говорили…
— Ой, как интересно! — всплеснула Машенька руками.
Таня с укором поглядела на нее, та сразу замолкла.
— А как в комсомоле-то, что делать, как держаться? — спросила Катя.
— Я сама еще не знаю, девочки, — простодушно сказала Таня, — будут нами руководить — и скажут и покажут. А потом мы уже начали работу-то, листовки распространяли. Это тоже важное дело. Похвалили нас!
Тут Таня замялась, вспомнив свой разговор по этому поводу с Виталием, вспомнив, как он отчитывал ее.
— Вот это да! — сказала Машенька.
В этот момент она забыла о том, что отец все-таки дал ей подзатыльник, вернувшись домой, после, того, как обнаружил в узелке с едой, принесенном дочкой, листовку: «Да что вас, девки, медом, что ли, кормят большевики-то, что вы все в политику ударились?.. Башка, что ли, тебе надоела? А то, смотри, укоротят!» Он, правда, не сказал больше ничего, но Машеньку очень тяготило то, что за листовку ей досталось так же, как доставалось прежде за всякие пустяки. И это в глазах Машеньки как-то невольно умалило ее радость, которую испытывала она, когда получила листовки для распространения. Она не сказала об этом никому из подруг, но чувство обиды держалось в ней все эти дни. И вот теперь осталась только радость от сознания, что она, Машенька, делает важное дело!
4
Точно сговорившись, девушки пришли в условленное место, принарядившись, надев на себя все лучшее, что у них было.
Приходили они разными дорогами, как учила их Таня.
Место было открытое. Галечная коса выходила далеко в залив — никто не мог подойти неожиданно и незаметно с этой стороны; сзади чуть не на версту тянулась постепенно возвышающаяся отмель, которая в глубине переходила в железнодорожное полотно; справа и слева был берег, усеянный черным от мазуты и копоти ракушечником. Вся местность хорошо просматривалась, и потому издалека видно было подходивших девчат — в цветастых полушалках, в кофточках, сиреневых, розовых, голубых, в юбках со сборками.
— Вырядились, как на праздник! — сказала Таня сама себе, но, однако, прикусила язык, вспомнив, что и сама к этому случаю из небогатого своего гардероба выбрала праздничное платье в красный горошек, ненадеванное еще…
«А разве не праздник?» — спросила она себя, и опять то же удивительное чувство, какое всплывало в ней все эти дни, овладело ею с необыкновенной силой. «Как хорошо все это!» — подумала она.
Бонивур спустился с железнодорожной насыпи и пошел к собравшимся девушкам. Быстро миновав расстояние, отделявшее насыпь от косы, мимолетным, но острым взглядом окинул всю их группу и каждую из пятерки. «Пронзительный!» — подумала Катя, сдержав вздох, теснивший ее грудь.
Поздоровавшись, Виталий сел прямо на землю.
И девчата вслед за ним умостились возле…
Кто знает, кого и что ожидали они увидеть! Выглядел Виталий обыкновенным рабочим пареньком, и не было в нем ничего таинственного и необыкновенного. И все оказалось лучше и проще, чем можно было себе представить. Молод — значит, молодость не препятствие к тому, чтобы делать большое дело. Свой — значит, тем ближе к сердцу будет. Крепок и смышлен, здоров и уверен в себе — значит, не боится ничего, и нам надо быть такими же. Нет в нем ничего необыкновенного — значит, великое дело делают простые люди, как и все мы. И значит, подполье где-то рядом, близко, оно везде и всюду, где есть смелые люди, не боящиеся встреч с врагами в любой момент. Исчезла неловкость и стеснительность девушек, когда оказался перед ними свой, простой парень.
Будто советуясь, Виталий сказал:
— О чем же мы с вами, девушки, говорить будем?
— Да нам-то охота многое знать, товарищ! — сказала Катя. — А что вперед спросить, прямо не знаем. Вы уж сами как-нибудь, а? Если что непонятно будет, спросим, я так думаю.
— Ты знаешь, за что твоего отца японцы арестовали, Катя?
— Мне не сказывали, а все допытывались, кто к нему ходит да об чем говорят. Кто ходил — им знать не надо, что говорили — отец мне не докладывал… Кто ходил? Хорошие люди, свои… Что говорили? Может, вы нам про то скажете…
— Твой отец, Катя, был членом партийного комитета мастерских Военного порта. Это немалое дело — быть членом комитета партии большевиков… В партию, девушки, не каждого принимают: присмотреться к человеку надо, узнать, каков он, чем дышит, что у него за душою, с каким сердцем он на борьбу идет, способен ли быть честным борцом за ленинское дело, выдержит ли все испытания. А большевикам приходится выдерживать такие испытания, какие никому и не снились. Иной всех близких своих потеряет, имя свое назвать не может, кличку носит, и каждый день и час держать себя в руках должен, и даже во сне воли себе дать не может, чтобы не выдать товарищей. Иной раз в логово врага идет, его обличье на себя надевает, чтобы быть и там полезным партии. Жандармы, контрразведка, полиция, шпионы, провокаторы, суд, — все против него, а он ни словом, ни взглядом, ни движением, ни мыслью выдать себя не может… Бывает и так, что все товарищи погибнут, один он, большевик, остался, — и тогда борьбу не прекратит. Мало того, не только сам ее не бросит, но и новых, других людей подымет взамен потерянных. Сколько раз испытывала партия невыносимые тяготы, а из каждого испытания выходила только крепче и сильнее, потому что силу свою она в народе черпает, народ ее поддерживает, лучших своих сынов отдает, подымает ее, верит в нее, идет за ней…
…Тихо шелестел прибой, накатывая волну за волной на галечник косы. Проплывали в недостижимой высоте едва заметные облака. Синей стеной на другой стороне залива стояли сопки близ Артема. Влево шли один за другим мысы, становясь все меньше и меньше, все воздушнее и, наконец, тая в голубовато-белесой, накаленной солнцем дали.
Слушали девушки Виталия, и в то же время каждая из них думала о себе.
Припоминала Катя, как, таясь, приходили к ее отцу люди. Но в осторожности их не чувствовала она страха, просто никто из них не хотел дать козыря в руки тем, кто шпионил за ними. Припоминала она, как после ареста отца заходили к ней люди, которых она не знала до сих пор и не видела. Приходили, приносили продукты, деньги, иной раз к каким-то женщинам отводили, по голове гладили, называли дочкой, и была в этом названии какая-то успокоительная сила, будто сам батька ее так называл. В те дни сама она поняла, что люди эти связаны с ее отцом и с нею такими узами, которые не всегда и кровное родство дает.
Щурила Леночка Иевлева глаза на море, щурила не столько от сияния, которое оно испускало, сколько от того, что давно уже у нее щекотало в носу и слезы наплывали на глаза. Вспомнила, как ревел в Ивановке скот, выгнанный из коровников, как сгрудились крестьяне испуганной, мятущейся толпой у околицы, как рыскали по деревне японские солдаты, как поднялись к небу дымные столбы из хат и забушевало пламя, ярясь над жилищем людей, где родились они и своим умершим закрывали глаза медными пятаками, где уединялись в минуты горя и где с друзьями пировали, и пели, и веселились, когда радость входила в крестьянские дома.
Смотрела Таня на Виталия и переставала чувствовать, что он ей почти ровесник. Пытливо глядела она на него, своего товарища, и какое-то странное ощущение овладевало ею — будто всю жизнь рядом с ним ходила, будто знала его с детства, и хотелось ей сделать для него что-то хорошее.
У Машеньки Цебриковой сквозь веснушки, щедро покрывавшие и нос и щеки, пробивался густой румянец; она уже ясно переживала все то, о чем говорил Виталий, и клялась в душе, что у нее-то хватит силы на все испытания, и кружилась голова от сознания необыкновенности труда революционера-большевика. Она кидала такие взгляды на Виталия, что Соня Лескова — смуглая, похожая на цыганку девушка с кораллами на тонкой шее и черными глазами, сквозь агатовую глубину которых нельзя было рассмотреть, какие чувства ее волнуют, — несколько раз уже трогала Машу за рукав: «Да не смотри ты так, Машка!»
— Почему народ поддерживает партию, — продолжал Виталий, — почему он идет за ней? Потому, что партия большевиков защищает рабочее дело, потому, что она борется за счастье трудового человека. И как борется! Никто ее в сторону не уведет, никто не подкупит, никто не запугает… Верно называют партию Передовым отрядом рабочего класса, его авангардом…
Виталий говорил, переводя взгляд с одной девушки на другую.
— А как быть с теми, кто еще не созрел для вступления в партию, но кто всей душой тянется к нашему делу? Молодежь вступает в комсомол Коммунистический союз молодежи, становится надежным помощником партии… Комсомольцы кровью своей доказали право на это звание. Враги наши не щадят комсомольцев, если те попадают в их руки, они хорошо знают, что комсомол резерв партии…
Не счесть, сколько комсомольцев погибло на Мациевской в семеновских застенках, сколько уничтожил их собака Калмыков!.. А приморские комсомольцы не в последнем ряду солдат революции… Был у Сергея Лазо адъютант Миша Попов. Попался белым в плен. Схватили его… Мучили, пытали — а это белые умеют делать! Да Миша им даже имени своего не сказал. Так молча и умер в пытках. Напоследок палачам в глаза плюнул… Митя Часовитин, комсомолец, когда умирал в японском застенке, «Интернационал» пел… Кровь из него течет, силы иссякли, голоса нет уже, а он шепчет: «Мы наш, мы новый мир построим!» Вот что такое комсомольцы, девушки! Да только ли Миша Попов и Митя Часовитин? С гордым сердцем и чистой душой жили! Придется вам тяжко вспомните о них! Не зря они кровью своей полили ту землю, на которой мы стоим.
…Проплывали мимо рыбацкие шампуньки. Тени от широких парусов ложились на воду и на приплеск. Едва шевелили кормовыми веслами рыбаки, наработавшиеся с самого рассвета и разомлевшие в полуденный зной на солнце. Маневровые паровозы свистели натруженными голосами. Задрожала земля под тяжестью поезда, протащившегося по насыпи. У рыбацкой фанзы, прилепившейся под самым берегом, у скалы, истошно залаяла собачонка. Все было обыденным таким, как было вчера и будет завтра. Но уже не вчерашними стали девушки, слушавшие Виталия.
Притихли они и слушали его серьезно. Уже погасли веселые чертики в глазах Машеньки, и стало лицо ее по-новому сильным и светлым. Точно клятву давая, сидела, выпрямившись и сжав руки на груди, Таня. Трудно было им найти слова, чтобы обозначить все, что возникло в них в эти тихие минуты… Да и нужны ли были слова? Делами надо было теперь говорить.
— Мы не боимся, товарищ Антонов! — сказала Таня.
Разошлись быстро, по двое.
Машенька Цебрикова пошла с Таней. На насыпи она прижалась к подруге, и Таня почувствовала, что Машенька вся дрожит.
— Ты чего, Маша, застыла, что ли?
— Да нет, так просто, ну сама не знаю чего… Ну, так и колотится все внутри. Танюшка, теперь мы товарищи, да?
— Да мы и раньше были товарищами, Машенька.
— А теперь по-особенному, — вздохнула со всхлипом. — Ой, как хорошо-то, Таня!
5
Администрация и управление военного коменданта перешли в наступление. Как-то вечером в бронецехе собрались военные контролеры, железнодорожное начальство, инженеры, техники, десятники, Суэцугу и несколько военных. Они долго ходили вдоль составов, разговаривали, осматривали вагоны, что-то подсчитывали. В конторе начальника депо до рассвета горело электричество.
Утром на воротах цеха появилось объявление:
«Господа рабочие!
Большевистская пропаганда не доведет вас до добра! Командование решило положить конец ей и саботажу, который свил себе гнездо в депо, что задерживает выполнение заказа военного министра.
С этого дня устанавливается урочное задание.
Невыработка, не носящая злостного, преднамеренного характера, будет наказуема штрафом, размер которого определяет администрация.
К злостным неисполнителям будут применяться строгие меры, вплоть до ареста и предания военному суду.
Для наблюдения за порядком в цех будут введены казаки, сотни особого назначения военного коменданта.
За работу, господа!»
В полдень пешим строем пришли казаки.
— Свято место не бывает пусто! — плюнул Квашнин, увидя, как рябой, рыжий казак устраивается на том же штабеле шпал, на котором еще недавно восседал японский часовой.
Казак был явно навеселе. Он вынул кисет, набил куцую трубочку, закурил. Его маленькие, кабаньи глазки с рыжими ресницами были красны, и казак, силясь преодолеть хмель, который разбирал его, то таращил глаза, то щурил их. Заметив, что Квашнин обернулся к нему, казак начальственно крикнул:
— Эй, ты! Работай! Чего зенки лупишь?
— На тебя смотрю, какой ты хороший! — ответил Квашнин.
— Хорош, не хорош, а над тобой поставлен! — самодовольно ухмыльнулся казак.
Квашнин процедил сквозь зубы:
— Ну, что поставлено, то и положить можно.
— Чего, чего? — зашевелился рябой, подымаясь со своего места и угрожающе нахмурясь.
— Ничего. На свою бабу покричи! — сказал Квашнин и отвернулся.
Рябой, в котором хмельная лень и вялость победили задор, опустился опять и вскоре задремал, облокотясь на ладонь.
К Квашнину подошел Виталий:
— Ну, как успехи?
Квашнин позвал его внутрь вагона. Отер руки о брезентовый передник, заляпанный раствором, взял ломик, стоявший у борта.
— Глянь, Антонов! — Размахнулся и ударил ломом в стену бетонной камеры.
Железо пробило стену и вышло насквозь. Когда Квашнин вытащил лом, аккуратная круглая дырка осталась в стене. Ясное голубое небо виднелось через нее.
— Засыплетесь! — сказал Виталий. — На первом же осмотре засыплетесь! Как кто-нибудь из контролеров попробует так же, все станет ясным.
— Ну, это как сказать! — усмехнулся один из бетонщиков, вслед за Квашниным вошедший в вагон. — Илья Абрамович силу в руках имеет. Лом возьмет, двинет — что твой снаряд! У него руки… — И бетонщик не закончил фразу, поднял с пола семидюймовый гвоздь и подал Квашнину: — Илья Абрамович, опробуй для примеру!
Квашнин, взяв гвоздь, без особого напряжения завязал его узлом и протянул восхищенному его силой Виталию.
— Ведь это смотря кто! — сказал он спокойно. — Контролер, конечно, эту стенку не возьмет, а снаряд, или, скажем, граната разнесет начисто всю коробку. Уж такую мы смесь делали…
В это время снаружи донеслось:
— Эй, работай, работай! Не стой!
— Проснулся, черт рябой, — сказал Квашнин. — Тюремщик паршивый! Долго мы их будем терпеть?
— Это от нас зависит, — ответил Виталий.
— Через недельку начнем?
— Возможно.
Голос казака показался Виталию знакомым. Через амбразуру он посмотрел на улицу. В рябом казаке он узнал Иванцова, вестового ротмистра Караева.
— Ч-черт возьми! — сказал он с досадой. — Мне при этой роже нельзя показываться!
Квашнин понимающе взглянул на Виталия.
— Тут есть люк. Можешь через него выйти.
Виталий дождался, когда рябой отвернулся, и, легко спрыгнув между рельсами, выскочил с другой стороны состава и пошел, предупредив Квашнина, что теперь все разговоры о деле придется перенести на квартиру.
— Что, знакомый? — спросил Квашнин.
— Весьма… Он будет мне мешать.
6
Антоний Иванович сказал Виталию:
— Ну, товарищ, можно было бы и начинать, кабы не одна заковыка.
Виталий вопросительно посмотрел на мастера.
— Все участки согласны начать, все подготовились. Плохо только с грузчиками.
— А что?
— Дело тут, видишь ли, такое: из трех сотен грузчиков у нас офицеров чуть не половина.
— Офицеров? — удивился Виталий.
— То-то и оно, что офицеров… Уж год работают в грузчиках. Вишь ты, они раньше в порту работали. А составились из тех, кому по чинам солдат не нашлось, командовать не над кем значит, со службы их уволили… Были и такие, что за дебоширство, а то за пьянство выгнаны, службы лишились, а жить надо! Вот они и организовались в бригады и стали работать на выгрузке… По обличью-то вроде наш брат — Савка, а фанаберия еще от белой кости. Боюсь, не станут бастовать.
— А вы говорили с ними?
— Не водимся мы с ними, да и они тоже на отшибе живут, — сказал мастер. — От своих отстали и к нашим не пристали. Живут будто на полустанке, все на лету, а лететь некуда.
— Попробуем поговорить с ними. Кто у них за главного?
— Артельщик-то? Бывший полковник, из дворян. Запойный. Но пока нет запоя, человек человеком.
«Белые вороны», как окрестили первореченские рабочие офицерскую артель грузчиков, жили за Семеновским огрызком, в нескольких вагонах, никак не сообщавшихся ни с одной из улиц. Рабочие относились к ним подозрительно, белые к рабочим — презрительно. Оказавшиеся в чужой шкуре офицеры беспробудно пили и дебоширили, и тупичок, в котором стояли их вагоны, пользовался плохой славой.
К этим вагонам Антоний Иванович и Виталий подошли в сумерки, когда грузчики возвращались с работы.
У самого тупика дорогу им преградил оборванный человек, в лохмотьях которого угадывался китель и диагоналевые брюки. Человек расставил ноги, сделал руки в боки и хриплым басом спросил:
— Кто вы, миряне? К чему вы посетили сию юдоль печали? Вы заблудились?
Виталий спокойно посмотрел на пьяного.
— Здесь помещается офицерская артель?
— Офицерская? Артель? Вы хотите сказать «Орден белых ворон»? — Человек покачнулся и, подражая крику вороны, крикнул раскатисто: — Кар-р!.. Кар-р!
К группе, стоявшей на дороге, подошел еще один человек. Он был облачен в заплатанные брюки, видавшие виды, в гимнастерку, тщательно починенную, в порыжевшие сапоги. Небольшого роста, сухощавый, с темными кругами под глазами, он еще сохранил военную выправку.
— Что вы ломаетесь, капитан? — спросил он тихо у пьяного. — Люди, видимо, по делу пришли, а вы кривляетесь!
— Я не ломаюсь! Я белый ворон, и это видно всякому, — заявил пьяный и сиплым голосом запел:
Какой я мельник? Я ворон…
Не обращая больше внимания на капитана, подошедший спросил мастера и Виталия, кого они ищут.
— А, так вам полковника надо! Он у себя. Вот в том вагоне.
Полковник оказался человеком богатырского сложения и, очевидно, немалой физической силы. Мощные плечи и лопатки со вздувающимися при каждом движении мышцами, львиное лицо с выпуклым лбом, тяжелая, хорошей формы голова, чистые линии правильного лица, свидетельствующие о породе, — таков был внешний облик этого необычайного артельщика. Вся внешность полковника могла бы быть названа благородной, если бы не черты упадка, беспутной, безалаберной жизни, одутловатость, мешки под глазами. Виталий с любопытством, умеряемым вежливостью, оглядывал полковника. А тот изысканным жестом, мало подходившим к его истрепанному одеянию, указал на табуретки возле непокрытого стола:
— Прошу садиться. Чем могу служить?
Нотка барственного гостеприимства, сановитой уверенности в себе проскользнула в тоне полковника, точно он принимал гостей в роскошном кабинете. Обстановка вагона состояла из двух табуретов, которые заняли мастер и Виталий (хозяин остался на ногах), стола, шкафика, неизвестно с каким содержимым, да вешалки с кителем, еще не утратившим своего вида. Это было все, что смог увидеть вокруг себя Виталий. Заметив, что хозяин стоит, Виталий тоже поднялся. Встал и Антоний Иванович.
— Мы к вам по делу.
— Чем могу служить?
— Мы представители рабочих депо, — сказал Виталий. — Мы имеем к администрации и управлению военного коменданта некоторые претензии и хотим…
Полковник слушал, полунаклонив голову, с вежливым вниманием.
— …хотим средствами, доступными нам, добиться, чтобы эти претензии были удовлетворены…
— Забастовкой! — напрямик сказал Антоний Иванович.
На лице полковника Виталий не прочел ничего, что сказало бы ему, как офицер отнесся к этому слову.
— Ваши требования?
— Экономические! — торопливо сказал Антоний Иванович. — Увеличение жалованья, удаление караулов, сокращение рабочего дня…
Полковник кивал головой.
— И политические! — добавил Виталий, несмотря на недовольство мастера. — Прекращение интервенции, то есть японцев и американцев долой!
Полковник оставался все в той же позе.
— Мы хотим просить вас не выходить на работу, как только начнется стачка, — закончил Виталий. — Вы разделяете с нами всю тяжесть труда рабочих, поэтому наши требования не могут не быть близки и вам.
Полковник знаком остановил Виталия, как бы говоря, что этой темы касаться не следует. После некоторого молчания он сказал:
— Ваши доводы не лишены логики… С вашими политическими идеями я согласиться не могу…
— А вы думали о них? — не удержался Виталий.
— Нет, — коротко ответил полковник. — И не буду. Слишком стар, чтобы переучиваться… — Он помолчал. — Но коль скоро мне и моим коллегам приходится работать физически, то, видимо… — полковник поискал слово.
— С волками жить — по-волчьи выть? — озорно спросил Виталий.
Полковник докончил:
— Видимо, и нам суждено познать некоторые несовершенства той социальной системы, которую мы защищали всю жизнь… M-м! Я лично не нахожу ваши требования чрезмерными. Что же касается пребывания здесь иностранных войск, то это очень сложный вопрос!
— Но вы русский человек? Разве вам не претит то, что вами командуют японцы?
— Извините, мы по-разному смотрим на это.
— Ну как же? — спросил Антоний Иванович. — Поддержите вы нас или нет?
— Лично я один этого вопроса не решаю. У нас демократический метод решения капитальных вопросов, касающихся всей артели. Кроме того, не все мои коллеги согласятся на потерю заработка… У них ведь нет никаких сбережений, а над философскими вопросами им, право, не хочется задумываться.
— Мы обеспечиваем всем бастующим половину заработка. Кроме того, в требованиях содержится пункт об оплате всего времени забастовки администрацией.
— Неплохо, неплохо, — сказал полковник. — А, простите, подрабатывать в другом месте можно?
Антоний Иванович и Виталий переглянулись. Виталий ответил:
— Только не в качестве штрейкбрехера!
— Ну, разумеется, — сказал полковник. Он прищурился. — Кстати, когда забастовка начинается?
Антоний Иванович поспешно сказал:
— Мы предупредим вас за час. Последний сигнал — гудок в неурочное время… Ну, так что же вы определенно ответите нам?
— Да! — коротко сказал полковник. — Моего слова вам достаточно?
— Вполне! — ответил Бонивур.
— Но прошу учесть, что мы остаемся на принципиально отличных политических позициях! — веско добавил полковник и наклонил голову, давая понять, что аудиенция закончена.
Делегаты откланялись и вышли.
Некоторое время они шли молча. Потом Виталий рассмеялся.
— Ну и зубр этот полковник! Каков, а?
— Дикий барин! — отозвался мастер. — Я читал, как один барин от мужиков отказался — вишь, плохо от них пахло, — шерстью оброс и чуть ли не в медведя обратился. С медведем чаи водил и всякое такое… Тоже, поди, вроде этого был… гордый!
Глава 8 Накануне
1
Вернулся Виталий домой поздно.
Алеша уже спал, сладко всхрапывая и что-то время от времени бормоча. Таня сидела за столом и читала.
— Ну, как дела, Таня? — по привычке спросил Виталий, раздеваясь и садясь за стол.
Девушка молча поставила ужин. И нехотя ответила:
— Так.
Односложный ответ этот удивил Виталия. Он внимательно посмотрел на Таню.
— Больна, что ли Танюша? — участливо спросил он.
За месяц, прожитый с Пужняками, Бонивур настолько привык к сестре и брату, что иногда ему казалось, будто судьба возвратила ему его семью. К Тане он испытывал нежное, тихое чувство и скучал, когда ее не бывало дома. Девушка умела быть необходимой, возилась ли она по хозяйству или просто сидела, играя на гитаре или читая книгу.
Ее унылый вид встревожил Виталия.
— Нет, здорова, — опять нехотя ответила Таня. — Письмо вам, от девушки! — и положила перед юношей конверт.
Виталий с недоумением повертел в руках конверт без надписи.
— Почему мне? Почему от девушки? — пожал он плечами, не решаясь распечатать.
— Приходил один партизан. Из отряда Топоркова. Его для связи послали. Там у них девушка есть, Нина от нее письмо.
— Что ж этот партизан не дождался меня?
— Говорит, некогда.
Виталий вскрыл конверт.
— Интересно, как там Нина устроилась? — промолвил он.
— Да, интересно! — сухо сказала Таня. Она смотрела в книгу, машинально перелистывая ее и исподлобья посматривая на Виталия.
Алеша завозился и открыл глаза, услыхав разговор.
Нина писала о том, что в отряде ей очень нравится. «Люди тут интересные. Живем в тайге. Готовим пищу на кострах. Я часто бываю в селе. Подружилась с девчатами. Раньше мне с деревенскими девушками не приходилось сталкиваться, а теперь я вижу, как много потеряла. Особенно нравится мне Настенька Наседкина. Такая хорошая! За мной ухаживают ребята. Смешно! Я ни к кому никакой симпатии не чувствую! А Панцырня, мой главный ухажер, прямо глаз с меня не сводит».
«Вот тебе и раз! — мысленно произнес Виталий. — Ой, Нина, Нина!» Он читал дальше. Где же строки, обращенные к нему, строки, на которые, как думалось ему, он имел право? Лишь в конце письма Нина сожалела, что нет в отряде Виталия.
Виталий озабоченно глядел на письмо. Он опечалился. Конечно, не любовных излияний он ждал от Нины Он и сам не смог за все это время ни разу написать ей. Но ему хотелось почувствовать в письме что-то, что напомнило бы прогулку по Светланской, когда шли они с Ниной рука об руку, точно маленькие, позабыв обо всем на свете, говоря и не говоря о том, что заставляло биться их сердца. «Мне много надо сказать тебе, Витенька!» произнесла тогда Нина на вокзале. Слова эти заставили сжаться сердце Виталия каким-то сладким предчувствием. А теперь сжалось оно от того, что, видно, Нине уже не хотелось сказать Виталию «много». Он опустил голову, задумавшись.
Таня искоса наблюдала за ним. Алеша, который невольно оказался свидетелем этой сцены, глазел на них обоих и, начиная что-то понимать, увидел, как улыбка пробежала по лицу Тани.
— Что, плохие новости, Виталя? — спросила Таня, и нежное сочувствие послышалось в ее голосе.
Не глядя на нее, Виталий ответил:
— Нет, Танюша, так просто.
— Она красивая, эта девушка? — спросила Таня.
— Кто? Ах, Нина-то?.. Красивая, кажется.
Ему захотелось побыть одному. Он встал и вышел из вагона. Долго стоял неподвижно, глядя на темные вагоны, на звезды, перемигивавшиеся в вышине… Расстегнул воротник, но ни малейшее дуновение ветра не тревожило душного ночного воздуха, и ему не стало прохладнее.
Таня не ложилась спать. Она сидела за столом перед раскрытой книгой, не пытаясь читать. Глаза ее были прикованы к двери. Шаги Виталия по гравию ясно слышались в вагоне. Вот он прошелся, остановился, опять шагает… Вперед, назад… опять остановился.
— Таньча! — позвал Алеша.
— Чего тебе?
Алеша сел.
— Ты что, сеструха, всерьез о Витале думаешь? — спросил он неожиданно.
Таня вздрогнула.
— Ну вот еще! — сказала она. — Приснилось тебе.
— Да мне-то не приснилось… Брось ты это дело, Таньча… Витале не до тебя. Ему, знаешь, какая цена?
— А мне какая, по-твоему? — выпрямилась девушка.
— Я не об этом! С вами свяжись — голову забудешь… По-товарищески тебя прошу: оставь о нем заботу, слышь!
— Да что ты ко мне пристал, дурак?!
— А то и пристал, что Антонову не до любви… Вишь, получил письмо и зашелся… Ох, девки, девки!
Таня закусила губу.
— Да отстань от меня, Алешка! Пошел бы лучше проведал, что там с ним делается-то… Поговорил бы!
Алеша принялся одеваться.
Таня ушла в свою комнату.
2
Казаки сотни особого назначения, несшие караулы в бронецехе, оказались еще хуже японцев. Они совались не в свое дело, покрикивали на рабочих, торопили их, задирались, явно вызывая на скандалы.
Рябой, привыкший к своему посту, непременно оказывался возле того места, где работал Квашнин. Он до омерзения надоел бетонщику. Иногда он часами молчал, сосредоточенно глазея на Квашнина. С каким-то злым любопытством следил он за ним. Иногда подходил почти вплотную. Тогда Квашнин слышал острый запах чеснока. Рябой любил чеснок до того, что, даже стоя на часах, вынимал дольку, глотая слюну, очищал от сухой белой кожицы, потом разворачивал посыпанную солью корку хлеба, прищурясь, натирал ее чесноком и ел. Иногда он ни с того ни с сего говорил несуразные глупости, вроде:
— Эй, ты! Двинуть бы тебя ломом по черепу-то!
Квашнин озадаченно смотрел на Иванцова.
— Да ты что это?
— Ага. А то гирькой… — мечтательно продолжал рябой и прикрывал глаза.
— Да чего ради-то, голова — шишка еловая? — спрашивал Квашнин.
— А так. Чтобы в глазах не торчал!
— Да я-то у тебя на глазах своей охотой торчу, что ли? — говорил Квашнин. — Не я у тебя, а ты на моих глазах, как бельмо, торчишь… Неохота, так уйди.
Иванцов глотал слюну.
— Да-а, как же, держи карман шире! Уйди, а вы сейчас работать перестанете.
— А тебе что?
— Пострелял бы я вас всех к чертовой матери, большевиков.
— Сумасшедший ты, казак! Да тебе-то что до большевиков? Что, они у тебя кашу съели?
— Ага, съели! Все один такой, вроде тебя, к женке ходил… Книжки читал, про политику объяснял, пока на службе я был. Вернулся на побывку… а жена: «Темный ты» — говорит…
— Ну?
— Не понукай, не запряг! Порешил я ее к черту, пущай светлых на том свете ищет.
— Убил? — с содроганием спросил Квашнин.
Рябой смотрел мимо.
— Нет. По голове погладил.
— Палач ты, казак! — сплюнул Квашнин. — И говорить-то с тобой противно. Кровь-то тебе, видно, что вода!
Рябой опять щурил глаза. И Квашнин не мог понять: наговаривает на себя Иванцов, чтобы попугать его, или действительно он выродок, преступник? А Иванцов все говорил и говорил. И все разговоры его были о том, что ему, Иванцову, наплевать на чужую жизнь, если он над ней хозяин.
— Да тебя кто хозяином-то сделал? — возмущенно сказал Квашнин.
Иванцов, хитренько улыбнувшись, отчего что-то хищное и темное обрисовалось в его лице, говорил:
— Палач, говоришь? А ротмистр величает: «слуга отечества и верный холоп». Он у нас человек карахтерный. Этих самых большевиков перевел и не счесть сколько. Для него большевика изнистожить первейшее дело. Да не просто… Убить-то большевика мало… Его надо казнить! По жилочке источить…
«Псих!» — подумал Квашнин. Ему невыносимой становилась близость Иванцова. А рябой, видя, какое отвращение испытывает к его рассказам бетонщик, пускался в новые и новые разговоры. Насколько бетонщик мог заключить, Иванцов нашел в ротмистре защитника и укрывателя после убийства жены. Не обо всем Иванцов рассказывал, но Квашнин получил представление о том, что сотня Караева использовалась для «особых» поручений меркуловского застенка.
Однако через несколько дней Квашнин познакомился и с другими казаками.
Иванцов куда-то исчез. В одно утро на его месте оказался другой казак, высокий, тонкий, похожий на цыгана.
— Здорово! — сказал он Квашнину, заметив взгляд бетонщика.
Квашнин нехотя ответил.
Казак — это было видно — томился молчанием. Он курил, но не мог накуриться легкими японскими сигаретами, которые были у него. Наконец, раздраженно бросив недокуренную сигарету, он обратился к Квашнину:
— Нет ли русской, мил человек?
Квашнин молча протянул ему махорку. Цыган с наслаждением затянулся, закашлялся до слез и с веселым недоумением сказал:
— От черт! Крепка-а! Самосад, что ли?
— Он самый.
— У нас в Забайкалье такой садят.
— Не бывал. Не знаю.
Казак вздохнул:
— Эх, у нас в Забайкалье хорошо сейчас! Сопки одна за другой будто волной идут… Березки, паря, как девчата в зеленых платках…
Квашнин неприязненно молчал. Замолк и казак, почувствовав отчуждение.
— Пошто сердитый? — спросил он Квашнина.
Квашнин сделал вид, что не слышит.
Казак подошел к нему. Долго смотрел, как управляется с инструментами рабочий, размешивая бетон. Потом поставил винтовку у вагона, огляделся вокруг и сказал Квашнину:
— Дай-кось! Руки разомну.
Взял лопату и споро принялся замешивать массу. Квашнин покосился на него. Казак охотно сказал:
— Душа по работе стосковалась… Мне бы сейчас литовку! Показал бы выходку… У нас на селе за мной угону не было. Только дедка со мной спорил, а другим не под силу!
— А это чем тебе не инструмент? — кивнул Квашнин на саблю, мешавшую казаку работать.
— А ну ее к ляду! — отпихнул казак шашку. — По мне хоть бы ее век не было.
— Что так? Тут до тебя один ваш был, караул стоял, так только и разговору было про нее, что способно ею людей, словно капусту, рубить.
— Кто это?
— Не знаю кто. Рябая рожа.
— А-а! Иванцов. Ну, тому шашка — и жена и венец. Ему бы на бойне быть, — сказал казак, и невольная брезгливость проступила в его чертах. — Палач, одно слово!
— Все вы такие! — не удержался Квашнин. — Только одни треплются, а другие молчком.
Казак выпрямился, положив руки на лопату. Пальцы его заметно дрожали.
— Пошто все? Ты рази знаешь? — с горьким укором сказал он. — Говорят люди: добра слава на печи лежит, а худа сама наперед бежит. О худом-то говорят, а о добром молчат. А только я тебе скажу: таких, как Иванцов да господин ротмистр, и у нас не много… Эти уж совсем отчаянные. Злобу свою тешат… А мне что? Я…
Казак осекся. Поработал еще несколько. Потом отошел на свое место. Больше он не сказал ни слова весь день. Лишь когда кончилась работа и за ним зашел бородатый пожилой казак, благообразный с виду, Цыган, указав на него пальцем, сказал Квашнину:
— А этот тоже, что ли, кровопивец? Ничего ты, паря, в людях не понимаешь!
Они ушли.
Рябой появился опять. Он дышал водочным перегаром. Жажда мучила его. То и дело подходя к жестяному баку, он с жадностью глотал воду, судорожно двигая кадыком. Глаза его были налиты кровью. Он не смотрел на Квашнина. Дремал, вскидывался от каждого шума, хватаясь за ружье. К вечеру он, однако, протрезвел. И потребность говорить опять, подобно привычному зуду, взыграла в нем.
— Слышь! — обратился он к Квашнину. — Не скучал по мне, а? — Он хрипло расхохотался, обнажив крупные желтые зубы с выступающими острыми клыками. Все месишь квашню свою, Квашнин? — острил он, довольный собою. Потом опять прежняя озлобленная мрачность нахлынула на него, и он принялся бормотать: Меси, меси! А потом тебя кто-нибудь замесит…
Что-то пережитое в дни отсутствия волновало его. Он поглаживал руки, подмигивал Квашнину, будто сообщнику.
— Слышь, я тебе что скажу! Вызывает меня ротмистр. «Иванцов, говорит, помнишь ты того китаезу, который тебя околпачил?» А как не помнить! Пошли!.. На Пекинской китайский театр есть. «Сто драконов» название. Посидели мы, посидели… Китаезы ломаются, орут, верещат, будто недорезанные. Умора! Потом ротмистр толк меня в бок: «Глянь на этого ходю». Гляжу, у двери стоит мой-то храпоидол. Хохочет, сволота! Ну, думаю, смейся… Расходиться стали. А мы с Караевым на углу ожидаем. Ротмистр шепотком: «С одного, говорит, удара кончишь?» А китаец толстый, пухлявый. Догнали мы его. «Давай», говорит ротмистр… Я за шашку…
Рябой перевел дух:
— …Ка-ак я ему дал! Так тулово дальше пошло, а голова с рукой — на землю. Вот — тебе Христос: несколько шагов он без головы-то шел… Эх, и пили мы после!..
Он вытаращил глаза, в которых промелькнул ужас.
— Это как же можно? А, слышь? Без головы-то идти? — хриплым шепотом спросил он у Квашнина.
Мастер сжал в руках лопату и повернулся к рябому. Терпение его лопнуло. Он с бешенством выдавил из себя:
— Если ты, шкура, еще ко мне подойдешь — кончу! Слышишь, гадина ты кровавая? Палач! Мотай отсюда к черту!
Рябой отшатнулся в сторону и вдруг, схватив винтовку, бросился наутек.
— Ну, беда, Квашнин! — сказал один бетонщик. — Убьет он тебя теперь.
— Ни черта не убьет! — остывая, ответил Квашнин. — Убийцы завсегда трусы…
3
В этот вечер у Алеши собрался стачком. Слух о том, что Квашнин прогнал казака с поста, уже гулял по всему цеху. Виталий спросил:
— Что ты там натворил, Квашнин?
— Посадили на мою голову психа какого-то. Истерзал он меня!
Мастер рассказал о сегодняшнем случае. Юноша нахмурился и беспокойно спросил:
— Не говорил он, что за китаец?
— Нет.
Тоскливое предчувствие охватило Виталия. Беспокоило его, что убийство произошло у театра «Сто драконов», где работал Ли.
На совещание приехал и Михайлов.
— Ну, как дела? — обратился он к Виталию.
— У нас все готово!
— «Кажется» или «готово»? — с усмешкой посмотрел на Виталия председатель.
Усмехнулся и Виталий, в этой шутке почуявший благожелательность Михайлова.
Собрание опять открыл Антоний Иванович. Он сказал:
— Товарищи! Хочет с вами поговорить дядя Коля.
Кличка Михайлова была известна всем, поэтому рабочие сразу осознали, что это собрание должно быть очень значительным. Михайлов оглядел всех и сказал:
— Что ж, товарищи! Вы начинаете забастовку. Это сильное, испытанное оружие в руках рабочего класса. Надо только твердо знать, за что его поднимаешь. На этот раз мы должны бастовать долго, чтобы сорвать подготовку белых к наступлению. Готовится в Чаньчуне международная конференция. Обсуждаться будут важные вопросы: о судьбе Дальневосточной республики, о Северном Сахалине, об интервенции… Японцы и белые хотят заставить наших делегатов быть покладистее, а потому открывают военные действия. Надо эту попытку сорвать и еще раз доказать, что рабочий класс идет вместе с коммунистами, за ДВР…
Федя Соколов буркнул:
— За сине-красный флаг будем бороться?
Михайлов заметил:
— Сине-красный нам хорошую службу сослужил. Так вот, товарищи, вы начинаете забастовку. Надо продержаться месяц! За этот месяц подготовим всеобщую. Вы выступаете как передовая часть. Ответственность большая.
Среди собравшихся произошло движение. Антоний Иванович огласил требования:
— «Снятие караулов. Прибавка заработной платы. Уменьшение рабочего дня. Оплата времени забастовки».
Дядя Коля сказал негромко:
— Слов нет, товарищи, требования справедливые, под ними каждый подпишется… Только мне кажется, что мягковато мы требуем; вроде сил у нас не хватает пожестче с ними разговаривать. Так ли это? Нет, товарищи, не так!.. Силы у нас есть. Это даже сами меркуловцы и японцы понимают.
— Да как тут не понимать! — ухмыльнулся Федя Соколов, смеющимися глазами окинув собравшихся.
Антоний Иванович одернул Соколова:
— Не лезь поперед батька в пекло!
Соколов смутился и согнал веселость со своего лица.
Михайлов продолжал:
— Надо нам вести дело начистоту, товарищи, не боясь выставлять политические требования, чтобы вся эта сволочь понимала, что нас полумеры не устроят… Вы знаете, что наряду с «красным буфером», который был создан по мысли Владимира Ильича, они создали свой «черный буфер». Давайте разберемся, что это такое. В результате «красного буфера» мы создали коалиционное правительство, в которое входили представители нескольких партий, в том числе и эсеры. А основным ядром в этом правительстве и в Народном собрании, избранном за конным путем, были большевики. Почему большевики? Почему не эсеры, не прочие трепачи? Да потому, что большевикам народ верит, за ними идет, большевики получили абсолютное большинство голосов на выборах в местное учредительное собрание. Большевики оказались ведущей силой в правительстве. Меньшевики, а вместе с ними и интервенты, надеялись изнутри взорвать «красный буфер», потянув его вправо, поставить на службу капиталистам. Это сорвалось! Тогда они силой захватили власть в Приморье. А чтобы была видимость какого-то «русского правительства», они состряпали съезд «несосов» — несоциалистических элементов, иными словами — купцов, спекулянтов, подрядчиков, фабрикантов, дельцов всяких мастей — «черный буфер». Это «правительство» состоит из наших злейших врагов. Нельзя об этом забывать! Надо везде говорить, что мы этих спекулянтов-«правителей», во-первых, насквозь видим, а во-вторых, никогда не признаем за ними права распоряжаться ни нами, ни достоянием нашего государства.
— Почему мы сразу не потребуем восстановления власти Советов, а говорим о Дальневосточной республике? — продолжал Михайлов. — Всему свое время, товарищи! Вот интервентов вышибем, землю свою очистим от белых, япошек и прочих, а тогда и будем просить избранное нами правительство о вхождении ДВР в состав Советской России. Кто и что может разделить нас с нашими братьями в Советской России? Ведь Ленин — наш вождь, всенародно признанный и любимый нами… Поэтому я и предлагаю дополнения к вашим требованиям: первое восстановить власть Народного собрания Дальневосточной республики; второе арестовать и судить преступников против народа, генералов-палачей и министров-спекулянтов, пособников интервенции. Вот тогда и будет ясно, что мы ведем борьбу, не изолированную от общей борьбы рабочего класса за власть Советов!
Антоний Иванович сказал:
— Ну что, товарищи, повторять надо ли? Все слышали, что дядя Коля сказывал? Тогда давайте голосовать. Кто «за»?
…Михайлов поднялся.
— Ну, всего доброго, товарищи!
К нему потянулись руки. Он крепко пожимал их. Руку Виталия он задержал в своей и тихо спросил:
— Ну, как на новом месте?
— Хорошо! — ответил Виталий. — Ребята боевые! Да что говорить первореченцы!
Михайлов похлопал юношу по плечу.
— Смотри не загордись! На людей смотри, у них учись, не бойся советоваться, опыт копи. Впереди еще много работы, а я не намерен оставлять тебя без дела… Да и к себе присматривайся: есть у тебя стремление иной раз «фейерверки» запускать… По себе знаю, что это никому не нужно, сам был такой же горячий…
Таня, как всегда, дежурила на улице с гитарой в руках.
Увидев ее, Михайлов ласково сказал:
— До свидания, страж революции!.. Это ты, что ли, девчат организовала насчет листовок?
— Она, она! — ответил Виталий.
— Билеты еще не выдали?
— Нет еще.
— Что же это вы? — укоризненно сказал Михайлов Виталию. — Люди работают, партийное дело делают.
Таня не выдержала. С силой взяв аккорд на гитаре, она кивнула Виталию.
— Ага! — И затем Михайлову: — Мы уже давно готовы, а товарищ Антонов все: «поработайте» да «поработайте». А Алешка, брат мой, так тот вообще девчат ни во что не считает!
На улице уже было темно, но Виталий мог бы поручиться за то, что Таня, обрадованная словами Михайлова, при восклицании «ага» показала ему, Виталию, язык. «Ох, девчонка!» — подумал он и улыбнулся.
4
Не было еще и пяти часов утра, когда у вагона Пужняков раздался какой-то крик. Тонкий, начинающийся на низкой ноте и вдруг сразу переходящий на невыносимые для слуха верха, он способен был и мертвого поднять из могилы. Таня и Виталий проснулись от этого крика сразу. Крик повторился. Виталий не мог сообразить, что это такое; щуря слипающиеся глаза, он вслушивался в крик, что несся из-за стены.
— Кто это? — спросил Виталий, протирая глаза, готовясь встать.
— Да лежите вы… Огородник это.
Тут и Виталий разобрал, что человек за вагоном кричит: «Реди-и-и-сы-ка! Па-а-мидора-а-а!» Кричал огородник, предлагая свой товар, пока с овощей не сошла еще роса.
Таня выскочила за дверь.
Виталию слышно было, как она заговорила с китайцем-продавцом:
— Ну, ходя, чего ты так кричишь, бесстыжие твои глаза? Сколько раз говорила: коли принесешь чего, так постучи в стенку, выйду, возьму!
Китаец что-то ответил. Таня рассмеялась и опять заговорила с огородником.
— Да откуда ты знаешь, чучело огородное? — спрашивала она встревоженно.
— Моя знай! — твердил китаец.
Таня замолчала, что-то соображая. Потом неохотно сказала:
— Ну, иди, коли так!
Загремело что-то о ступеньки крыльца вагона. В дверь вагона просунулась длинная тонкая жердь, на которых китайцы-огородники таскают тяжелые, широкие корзины, доверху наполненные овощами. Затем две корзины были втиснуты в двери чьей-то сильной рукой. Потом в вагон влез, щурясь от света, молодой китаец в синей курме и таких же штанах, подвязанных у щиколотки матерчатыми лентами. За ним вошла и Таня. Огородник обернулся к девушке:
— Твоя боиса не надо… А моя на улице говори такой дело не могу. Тебе понимай?
— Понимаю, чего уж тут не понять! — недовольно сказала Таня. — Ну, говори: чего тебе надо?
Разбуженный разговором, Алеша вытаращил глаза на китайца и корзины.
— Таньча! Ты с ума сошла… Что ты, магазин открывать думаешь? Нет на то моего родительского благословения! Дай поспать людям!
Китаец негромко сказал Тане:
— Это тебе братка или знакомый?
— Да тебе-то что? — начиная раздражаться, сказала Таня. — Влез в чужую хату да еще расспрашиваешь. Ну, Алешка это, брат мой.
— А Виталя дома? — спросил китаец вполголоса.
Теперь и Таня с удивлением глянула на огородника. Тот быстро сказал:
— Моя дело есть. Быстро говори надо.
Таня обернулась к Виталию, который уже поднялся в постели.
— К тебе, что ли? — сказала Таня, уже успокоенная.
Виталий вышел.
— Ну, что надо? — спросил он встревоженно.
Несколько мгновений смотрел он на китайца. Тот улыбался.
Это было очень знакомое Виталию лицо. Та же милая улыбка, та же челка черных волос, подстриженная направо, те же внимательные, живые черные глаза, в которых прыгали искорки. Но как он очутился здесь?
— Маленький Пэн? — неуверенно сказал Виталий.
Китаец заулыбался еще шире.
— Ага, это моя. Моя тебе смотри, думай: как его старый знакомый узнавай, не узнавай?.. Здравствуй!
Однако с лица Пэна сошла улыбка, он стал серьезен и сказал тихо:
— Наша надо мало-мало говори… — Он оглянулся на Таню и Алешу, во все глаза глядевших на неожиданного гостя.
— Ничего. Это свои! — поняв немой вопрос Пэна, ответил Виталий.
Пэн сказал:
— Моя тебе искал. Вот какой дело: моя сюда ходи — так дядя Коля сказал. Надо тебе говори, очень большой беда случился! Тебе товарища Ли знай? Конечно, знай… Вот беда, его какой-то казака зарубил.
— Ли? Зарубил казак?
Пэн кивнул головой, Виталий увидел, что глаза у Пэна красные и усталые.
— Его из театра домой ходи. Тут один офицер и один казак подходи. Сабля давай рубить. Ли даже кричи не могу, сразу голова долой… Тут наши люди кричи, тогда казака и офицера убегай. Дядя Коля говори, это контрразведка люди Ли убивай… Еще дядя Коля говори, тебе надо осторожнее ходи, шибко кругом ходи не надо, дома надо сиди…
— Может быть, это не Ли? — со слабой надеждой сказал Виталий.
Пэн отрицательно качнул головой:
— Моя так тоже сначала думай. Потом ходи смотри: наша Ли.
— Ты видел его?
— Да.
Пэн решительно поднялся и стал прощаться.
— Моя надо еще один места ходи!
Он взялся за свою жердину. Виталий спросил:
— Ты давно огородником-то стал, Пэн? А как же твоя «юли-юли»?
— Это моя братка огородника. А сегодня «юли-юли» работай другой братка!
— Сколько же у тебя братьев, Пэн? — спросил Виталий.
Смуглое лицо Пэна залила светлая улыбка.
— Моя братка много! А тебе разве мало?
Забрав корзины с овощами, Пэн протиснулся в двери, оставив несколько пучков редиски и моркови на столе Тани. Скоро за стеной опять послышался его истошный крик.
Глава 9 Крещение
1
Наутро, в девять, в непоказанное время, заревел гудок электростанции; прерывистый, высокий, он взвился в воздух, в котором витала еще утренняя свежесть. Вслед за гудком электростанции, тонким, точно девичий голос, раздался густой, солидный гудок депо. А там вспыхнул целый хор паровозных гудков. Низкие — декаподов, фистула — «овечек», свистки — маневровых — все разом взревело, оповещая о начале забастовки.
Вспыхивали и долго ватными хлопьями висели в воздухе облачка пара. Перекликались службы и участки, сигналя друг другу, точно рядовые в шеренге, ведя счет стоящим в строю. Этот разноголосый крик заставил всех рабочих одновременно бросить работу. Тяжелый паровой молот с полпути рухнул вниз, сплющил болванку, не доведя до формы. Залили кузнецы свои горны, и едкий дым, смешанный с паром, повалил из кузнечного цеха. Паровозники покинули стальные машины, вытерли ветошью руки и вышли из депо. Вагонники, плотники, металлисты, кочегары, сторожа, машинисты, стрелочники, сцепщики, смазчики, угольщики, слесаря, токари, фрезеровщики — рабочие и мастера — бросили работу. Сложив инструменты в свои деревянные или жестяные ящики, шли они к выходу на улицу; один к одному, группа сливалась с группой. Точно весенняя река, вскипая и пучась от ручьев, все росли толпы рабочих, шедших из цехов и служб огромного железнодорожного узла, собираясь к виадуку. Там уже стояли представители стачечного комитета, взволнованные, празднично настроенные.
Отсюда, с пятисаженной высоты, вся территория узла была как на ладони.
Отсюда можно было рассмотреть, как стекались толпы рабочих.
Оглядывались вокруг члены стачкома и не могли удержаться от возгласов, в которых слышалось и волнение, и радость оттого, что дело началось. И хотя были уверены они, что никто не смалодушничает, никто не подведет, все же восклицали, точно все происходящее было неожиданным:
— Кузнечный выходит!
— Электростанция пошла!
— А вон, вон деповские повалили!
— Вагоноремонтный выступает. Эка вышагивают… за руки взялись!
— Служба пути идет!
Раскрасневшаяся и взволнованная Таня подбежала к Антонию Ивановичу.
— Ну, стрекоза-егоза, ты у грузчиков была? — спросил Антоний Иванович.
— Была, Антоний Иванович, ровно в восемь подошла к этому типу. Так и так, говорю, сегодня. А он: «Что сегодня?» — «Ну, говорю, начинается!» «А-а! Вы, говорит, из комитета или как?» — «Из комитета», — говорю. Он постоял, подумал, говорит: «Хорошо!»
— А что значит — хорошо? Бастуют они или нет?
— Я думаю, бастуют! — не слишком уверенно ответила Таня. — Хорошо — это значит: ладно, есть!
— Н-да! Это по-твоему или по-ихнему?
Антоний Иванович стал озабоченно вглядываться в очертания товарного двора и пакгаузов, крытых волнистым железом.
Ворота товарного двора распахнулись. Из них повалили грузчики. Они шли гурьбой, направляясь в поселок.
— Куда же они? — недоумевая, спросил кто-то.
Виталий тотчас отозвался:
— По домам — кому забастовка, кому отпуск… Они же стоят в политических вопросах на принципиально отличных позициях, чем мы.
Стачком дружно расхохотался.
Многотысячная толпа скопилась под виадуком.
Настроение у всех было боевое, задорное. Многие нацепили красные банты поверх рабочего платья. Толпа шумела, гул перекатывался волнами с края на край, то затихая, то разражаясь с новой силой. Тысячи лиц, обращенные к виадуку, мелькали внизу. Тысячи глаз отражали безоблачное небо, ясный день.
То в одном, то в другом месте вспыхивали песни, в центре послышались слова «Варшавянки»:
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут…
Их перебивали женские голоса:
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног…
Толпа искала песню, которая была бы подхвачена всеми, впитала бы в себя движение всех сердец, наполненных в этот день неизбывным сознанием своего единства и силы, сочетав воедино мысли и чувства всех забастовщиков. Но вот всплеснулось в одном месте:
Вставай, проклятьем заклейменный…
И нестройно в разных концах толпы подхватили:
Весь мир голодных и рабов!
Один за другим гасли напевы других революционных песен, и все новые и новые голоса подхватывали слова:
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!
Уже сотни пели великую песню. Члены стачкома пели, обнажив головы. «Интернационал» лучше всего передал настроение толпы и все сделал ясным. Здесь собрались те, кто хотел власти Советов на Дальнем Востоке… Забастовщики снимали шапки, кое-кто по военной привычке поднес руку к козырьку. Затихли понемногу разговоры, смех, шутки, и вторую строфу пела уже вся огромная толпа.
Алеша Пужняк и Квашнин протиснулись к перилам виадука, прикрепили один конец толстого красного свертка и стали развертывать его, идя вдоль перил. И по мере того как развертывался громадный красный транспарант, всем становилось видным, что на нем было написано:
Вся власть Народному собранию Дальневосточной Республики!
Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!
Долой интервенцию!
2
Затихла Первая Речка.
Молчали корпуса депо. Торчали, уткнув в небо коромысла, угольные «журавли» на складе. Стояли паровозы там, где из их нутра вырвался последний вздох. Не светились горны в кузнечном цехе. Не ухал паровой молот. Опрокинулись и застыли вагонетки на товарном дворе. Стояли вагоны: неразгруженные — запломбированные, непогруженные — порожние. Не будил рабочих по утрам гудок. Не носили жены обед в узелках своим мужьям в цехи.
Только дачная линия жила. Сколько полагалось по урезанному расписанию, столько пар дачных поездов обслуживали по очереди бастовавшие. Однако на станции дежурные члены контрольной комиссии осматривали составы: не едут ли солдаты, нет ли военных грузов?
Потянулись дни.
Ощущение праздника, что владело всеми в день митинга, прошло. Это была забастовка на срыв воинских перевозок. Экономические требования, которые были выдвинуты рабочими, администрация могла бы удовлетворить. Но стачком не шел на переговоры с нею. Дело было не в этих требованиях…
Однако рабочие тосковали по привычному труду.
Федя Соколов жаловался Виталию:
— Тоска, Антонов! Никогда не думал, что ничего не делать так трудно. Скажи, пожалуйста, отчего бы это?
— Оттого, что ты рабочий человек, созидатель. Радость жизни твоей — в созидании полезного для людей.
— Что-то больно мудрено ты говоришь, Виталя! — качал головой Соколов. Тоска! Танюшка-то дома?
— Дома.
— Пойти, что ли, к ней, хоть гитару послушать.
И Таня в последнее время была грустна. К Виталию она относилась с почтительной нежностью. Она не осмеливалась на прежнюю фамильярность, хотя иногда юноша замечал на себе ее пристальный взгляд. В таких случаях он задавал ей вопрос:
— Ты что, Танюша?
— Ничего, Виталя, просто так, — отвечала она самым беззаботным голосом, на какой была способна, но при этом отводила взгляд в сторону — задумалась.
— О чем, Танюша?
— Думаешь, не о чем?
Однако отнекивалась, когда Виталий просил ее поделиться с ним своей заботой.
О разговоре, происшедшем у Тани с Алешей, Виталий ничего не знал и не догадывался о чувстве девушки к нему. И никак не мог он подумать, что именно он, Виталий Бонивур, является причиной бледности Тани, сдержанности ее и того, что прежняя веселость ее исчезла вместе с почти мальчишеской угловатостью манер, которые сменились теперь женственностью и даже какой-то застенчивостью, делавшей Таню тоньше и одухотвореннее.
Алеша, весьма озабоченный состоянием сестры, только вздыхал, глядя на нее. Однако она уже не дарила его своей откровенностью. А Алеша не знал, как к ней подступиться.
На второй неделе забастовки к Виталию зашел Антоний Иванович. Он посидел, поговорил о пустяках, но Бонивур понял, что не простое желание проведать его привело мастера, Виталий спросил:
— Ты что, Антоний Иванович? Будто что-то сказать хочешь, да не решаешься.
— Да так, ничего. Газетки вот принес почитать. Особенно одна тут… любопытная…
Он вытащил сверток газет, выбрал из них одну.
Это была газета «Блоха». Виталий знал, что «Блоху» выпускает четверка: бывший контрразведчик — расстриженный священник, который христианскую паству покинул ради журналистики, два семеновца и один либерал из владивостокских остряков и доморощенных стратегов. Газета имела наверху справа строку «Блоха выходит, когда захочет», — и действительно, выходила как придется. Это был грязный бульварный листок, пользовавшийся скандальным успехом. Иногда довольно бесцеремонно он писал о плутнях Спиридона 1-го Всеприморского, как называли в народе премьер-министра правительства «черного буфера». «Блоха» пустила в обращение кличку Спиридона Меркулова — Кабыздох 1-й. Ее осведомленность в делах черной биржи и в спекулянтских махинациях была иногда опасной в глазах меркуловцев. Не раз ее закрывали. Но эти репрессии лишь питали ее популярность Ляганье Меркулова не мешало, впрочем, газете в разделе «Блоха кусает, кого захочет» помещать самую грязную клевету на ДВР и на Советскую Россию.
Что могло заинтересовать Антония Ивановича в этой газете? Виталий развернул листок. Мастер надел очки и указал ему:
— Вот тут читай!
Это был фельетон, озаглавленный «Кабыздох опростоволосился опять!»
Виталий начал читать без особого интереса, однако уже через несколько секунд он насторожился. Речь шла о том, как большевики освободили арестованных на Русском Острове подпольщиков. Хотя имена, фамилии и даты были сознательно искажены — Семен назывался «Немее», Нина — «Инна», — но обстоятельства дела были изложены с такой осведомленностью, что Виталий тотчас же подумал о контрразведке, которая, как видно, постаралась разузнать подробно, как было организовано дело. Фельетон издевался над Меркуловым, его полицией и контрразведкой. Фельетонист замечал:
«Кабыздоху не до порядка в доме, где он живет. Ему надо поскорее загнать то, что еще покупают японцы. И, конечно, каков поп, таков и приход: все воруют, все озабочены набиванием карманов, оттого и неспособны что-либо делать. А вот большевики молодцы! Кабыздох поймал двух подпольщиков, думает: «Вот я их к ногтю! Вот я их в контрразведку, на дыбу!» А большевики не дураки: переодели одного в соответствующую форму, дали липовые документы от имени учреждений на Полтавской да и увели арестованных с Русского Острова. Ждут их на Полтавской, а их и след простыл! Вот это работа! Это еще раз доказывает, что весь аппарат Кабыздоха 1-го Всеприморского давно сгнил и не ему, конечно, с большевиками бороться!
А организовал это дело член областкома комсомола Виталий Бонивур, коим мы безмерно восхищаемся и отдаем должное! — писала «Блоха». — А ведь он еще мальчик. Посмотрите на его портрет!» Виталий ахнул, увидев свою фотографию. Правда, он был снят в гимназической фуражке, но живые черные глаза, худощавые смуглые щеки, пухлые губы, прямой небольшой нос с нервными ноздрями заставляли запомнить это лицо. «Провокаторы, — подумал он, — и фото умудрились где-то раскопать. Понятия не имею, кому я давал эту фотографию!».
— Ты, конец-то, конец прочитай! — заметил Антоний Иванович, видя, что Виталий рассматривает фотографию.
Конец фельетона и верно заслуживал внимания.
«Говорят, — восклицал, как бы негодуя, фельетонист, — что японское командование не в силах стерпеть такое фиаско, которое понес его незаменимый и любимый Кабыздох 1-й и последний, объявило за голову Бонивура награду в 5000 иен.
Будем надеяться, что ни один честный человек не поддастся на эту подлость, внушенную азиатам их варварскими представлениями о русских и привычкой мерять все на свой аршин!».
— Ловко! — заключил Виталий.
Антоний Иванович пытливо посмотрел на него. Газету принялись читать Алеша и Таня. Алеша сказал:
— Вот гады! Надо же было додуматься до этого! Интересно, сколько японцы «Блохе» отвалили за эту гадость.
— Тридцать сребреников! — хмуро отозвался мастер.
Прочитав фельетон и увидя фотографию, Таня смертельно побледнела. Теперь все трое глядели на Бонивура. Антоний Иванович аккуратно сложил газету.
— Ну, как ты думаешь, товарищ Антонов, насчет этого?
Виталий овладел собой и спокойно ответил:
— А что мне думать? Ведь о Бонивуре написано. Конечно, подло поступила газета…
— Я не о том. Может, тебе лучше куда-нибудь скрыться пока, а?
— Не вижу необходимости! — сухо сказал Виталий. — Это меня не касается.
Антоний Иванович забарабанил в замешательстве пальцами по спинке стула, выбивая марш.
— Ну, как знаешь… Как знаешь. А только одному тебе теперь ходить никуда нельзя. Слышишь? Прямо скажу: больно ты на портрет похож!.. Как бы кто не соблазнился… Там ты не ты, а влететь можно…
3
Виталию невольно пришлось сократить свои частые посещения забастовщиков. Всюду теперь наталкивался он на внимательные взоры. Смотрели на него забастовщики; они угадывали, кто есть на самом деле их Антонов. Портрет запомнился многим. Даже мальчишки приглядывались к нему, и Виталий однажды испытал очень неприятное ощущение, когда двое подростков за его спиной заспорили:
— Это он, тот самый, что в газете.
— Нет, не он.
— А я тебе говорю — тот.
Виталий крепился изо всех сил, но чувствовал себя скверно. Подлая цифра «5000» была точно написана у него на лбу.
Через неделю после получения злополучного фельетона он должен был убедиться, что «Блоха» била в цель без промаха.
Он засиделся у Квашнина. Бетонщик уговаривал Виталия остаться ночевать. Виталию не хотелось стеснять Квашнина, который с детьми, женой и старухой матерью ютился в одной комнате. Он распрощался и отправился домой. Квашнин провожал его, как бы продолжая разговор. Однако Виталий поймал Квашнина на том, что он третий раз рассказывает об одном и том же, и сообразил, что бетонщик играет роль охраны. Этот добровольный конвой стал ему неприятен. Он напрямик заявил Квашнину, что в провожатых не нуждается и как-нибудь дойдет до дому сам. Квашнин возражал. Виталия это взбесило так, что он пригрозил мастеру никогда больше не заходить к нему, если он сейчас же, сию минуту, не отправится спать. Квашнин, больше всего боявшийся потерять дружбу с Виталием, уступил и побрел назад.
Бонивур проводил его взглядом и пошел домой.
Через несколько минут ему показалось, что за ним кто-то идет. Время от времени он заходил в тень и оглядывался. Какая-то фигура мелькнула однажды. Но больше Виталий не мог увидеть ничего. Однако ощущение чужого взгляда на затылке преследовало его всю дорогу. Это было очень неприятное чувство, и Виталий невольно перевел дух, когда вышел на Рабочую улицу.
Улица была пустынна. Луна стояла высоко, освещая одну сторону. От лунного света вагоны на этой стороне казались белыми. Вторая же сторона была погружена во мрак, точно залита тушью. До вагона Пужняка было уже недалеко.
Виталий услышал какой-то шорох, затем из-под вагона, мимо которого он проходил, высунулась какая-то не то палка, не то шкворень.
Бонивура с силой ударили по ногам. Он упал на землю, и тотчас же на него кто-то навалился. Один схватил его за руки, заламывая их за спину, второй пытался накинуть мешок на голову.
Что есть силы Бонивур ударил одного из нападавших ногой, но второй ударил его по голове. От резкой боли у Виталия помутилось сознание. Он обмяк. Ему стали натягивать мешок на голову.
«Каюк!» — подумал Виталий.
В ту же минуту он услышал отчаянный женский крик, два выстрела подряд и почувствовал, что его выпустили. Он сорвал мешок с головы.
— Помогите-е! — кричала женщина.
Виталий нанес жестокий удар тому из нападавших, кто был ближе. Тот охнул и отступил в сторону. Второй боролся с женщиной, пытаясь зажать ей рот. Виталий выхватил из кармана револьвер и, крикнув: «Руки вверх!», бросился на второго. Первый, поняв, видимо, что нападение не удалось, молча кинулся под вагон и побежал вдоль состава по другую его сторону. Второй сбил женщину с ног. В этот момент Виталий схватил его в охапку. Он увидел перед собой черное, вымазанное сажей лицо, на котором белели вытаращенные глаза. Однако противник разжал руки Виталия и тоже пустился наутек. Все это разыгралось в течение нескольких мгновений.
Женщина вскочила.
— Держи его! Стой, стрелять буду!
Убегавший обернулся и в ответ на угрозу разрядил пистолет в сторону Виталия. Женщина толкнула Виталия к вагону, спасая от выстрела. Виталий узнал Таню.
— Ты? Танюшка?! — изумленно воскликнул он.
Скрылся и второй бандит. Не имело никакого смысла преследовать его. В вагонах зажигался свет.
— Как ты здесь очутилась, Танюша?
— Пойдем, дома скажу! — торопливо ответила Таня.
Хлопнула дверь вагона, и на улицу выскочил Алеша. С ломиком в руках он помчался к месту происшествия.
— Что? Ну как? — запыхавшись, спросил он.
— Отбились, Лешка! — ответила Таня. — Пошли!
Войдя в вагон, Виталий ахнул: вся кофта Тани была залита кровью.
— Ты ранена, Танюша! — воскликнул он.
— Нет, это чужая! — сказала Таня и тихо шепнула Виталию: — А ты испугался? Тебе было бы жалко, если бы меня ранили?
— Конечно! — горячо ответил Бонивур. — Ведь ты мне как сестра!
Таня вздохнула.
Алеша возбужденно ходил по комнате.
— Вот иуды… Кто бы это мог быть, Таньча?
— Не знаю… Дядька здоровый, — сказала Таня, морщась и с трудом ворочая плечом. — Сдавил так — у меня полжизни вылетело. Но, видно, как из него кровь-то хлестнула, он и на попятный!
Когда возбуждение, вызванное схваткой, улеглось, Таня почувствовала себя очень плохо. Вся рука у нее была в синяках. Она стала умываться. Резкая боль в ключице чуть не заставила ее упасть в обморок.
— Сломали! — сказала она, как маленькая девочка, тоненьким, жалобным голосом и заплакала.
— Ну, девчата, никуда вы не годитесь! — сказал Алеша и стал гладить сестру по голове. — Ну, не плачь, Танечка… Не плачь, сестренка! Утром доктора притащим, забинтуем, вылечим…
Но Таня плакала все сильнее. Ее плечи вздрагивали от рыданий. Она уткнулась лицом в подушки.
— Ви-талю могли убить! — с отчаянием сказала она.
Алеша закусил губы.
Виталий положил на плечо Тани руку.
— Таня, родная… Ну, не убили же… И не убьют! Назло белякам буду жить до ста лет… Вот увидишь! Честное слово!
Но Таня залилась слезами еще сильнее. Нервное напряжение спало, она представила себе со всем свойственным ей пылом, как недалеко было от беды, и ревела, как девчонка. Виталий, встревоженный этой вспышкой, осторожно и ласково поглаживал ее по плечу и повторял:
— Ну, не плачь же, Таня! Не плачь. Успокойся. Все хорошо…
Понемногу плечи Тани перестали вздрагивать. Рыдания ее стихли. Она успокоилась и, наконец, заснула. Алеша прислушался.
— Спит. Ну, чисто ребенок… Только-только ревела, а тут уже спит.
Виталий отнял от плеча Тани руку и встал.
— Одного я не понимаю, Алеша. Как все-таки Таня оказалась там?
— А сегодня ее очередь, — сказал, зевая и ложась в постель, Алеша.
— Какая очередь, Алеша? Что ты мелешь?
Пужняк смущенно отвел глаза.
— Да мы дежурим. По очереди. Эти дни. Как ты уходишь куда, так один из нас за тобой… Чтобы, значит, чего не вышло…
Теперь покраснел Виталий.
— И… давно это?
— Да с «Блохи», — ответил Алеша. — Мы посоветовались, подумали. Все одно делать нечего! Время есть. Да и стыдно было бы, коли с тобой что-нибудь стряслось… Антоний Иванович одобрил. Вообще-то…
— Значит, девчонки меня охранять будут? Что за ерунда! — возмутясь, сказал Виталий. — Черт знает что!
— Ну, не девчонки, — протянул Алеша, — и ты не хорохорься. Это стачком установил. Поставили на это дело ребят. А Танька сама напросилась; раскричалась, вспылила, завела свое, что, мол, с девчатами не считаются, что они не люди… В общем, ты знаешь ее погудку, затвердила про одно… Ну, и всех заговорила…
Виталий сидел мрачный.
Прислушиваясь к ровному дыханию сестры, Пужняк улыбнулся:
— А молодчина у меня Танька! Правда, Виталя?
— Правда! — сердито сказал Виталий, думавший о том же.
— Вся в меня! — уже сонным голосом произнес Алеша, натягивая на голову одеяло.
Утром Таня не поднялась с постели. У нее открылся сильный жар. Она лежала тихая, покорная, молчаливая. Алеша суетился по комнате, готовил компрессы, подавал Тане воду. Не отставал от Пужняка и Виталий. Глядя на брата, Таня проговорила убежденно:
— Ну, если бы Виталия убили или утащили, я бы себе всю жизнь этого не простила.
Алеша побежал за врачом.
Виталий сел подле Тани. Взял ее руки в свои ладони. Девушка закрыла глаза и прошептала:
— Как хорошо!
В вагон приходили товарищи, комсомольцы. Хвалили Таню, удивлялись ей. А Таня страшно стеснялась всего этого и, словно оправдываясь, говорила:
— Ну что я? Сделала, что надо… Поручили партийного товарища беречь, ну и все!
У Алеши на языке вертелось ядовитое замечание насчет «партийного товарища», но он смолчал, щадя сестру, которую очень любил, а теперь даже завидовал ей, так же искренне, как искренне и восхищался. Каждому, кто приходил, Алеша немедленно рассказывал всю историю сначала.
Пришел и Антоний Иванович. Посидел, весело спросил Таню:
— Ну как, дочка?
— Все в порядке, Антоний Иванович! Врач сказал, ключица скоро срастется, а синяки — чепуха!
— Молодец, молодец! — сиял мастер. — Наша, рабочая косточка. Нигде не сдаст!
4
Как ни храбрилась Таня, ей пришлось все же лежать в постели. Деятельная, подвижная, привыкшая с детства о ком-нибудь заботиться и теперь принявшая в свое сердце Виталия, Таня тяготилась вынужденным бездельем, нервничала и все порывалась встать.
— Да лежи ты, непоседа! — говорил ей Алеша. — Теперь твое дело лежать, да не залеживаться, чтобы в два счета все заросло.
Таня ревнивыми глазами глядела на то, как Алеша и Виталий чистили картофель, и досадливо морщилась:
— С вами зарастет… Алешка! Что ты делаешь, злодей?
— А что? — недоуменно вопрошал Алеша, испуганно останавливаясь.
— Да то, что ты срезаешь картошку на палец… Не жалко тебе добро на мусор переводить?
Алеша извиняющимся тоном говорил:
— Да я и так стараюсь, Таньча… Только вот чего-то ножик толсто режет!
— Косорукий ты! Ничего-то вы, мужики, делать не умеете, вижу, а тоже: «Мы то, мы се!» Но-жик!..
Она отворачивалась к стене, но не выдерживала и опять принималась глядеть на брата и Виталия, словно впервые видя их… Ну, какие же они… смешные и дорогие! Щи пересолят, мясо пережарят — в рот не возьмешь, пуговицу пришить не умеют, и не то что не умеют, а и внимания не обратят на то, что ее нет. Все-то их мысли только о борьбе, о забастовке, о том, что делается на фронтах; заговорятся — о сне и еде забудут; коли щи пустые, и не посмотрят, будто все это — еда, сон, одежда, тепло, отдых — мало касается их, несущественное, не стоит того, чтобы об этом думать… «Ох, ребята, ребята!» — говорила себе Таня, глядя на молодых людей, и видела, что и впрямь их ребятами еще можно назвать, так молоды они. Да, молоды… И Виталий тоже.
Таня была поражена этим открытием, так как привыкла считать Виталия старшим товарищем, привыкла к тому, что к словам Виталия прислушивается не только молодежь, но нередко и Антоний Иванович. Видела она до сих пор в Виталии подпольщика, видела только постоянное напряжение в глазах, чувствовала всегдашнюю готовность его к неожиданностям, способность не теряться в трудных обстоятельствах, рассудительность и силу, которым трудно было не поддаться, которые как-то невольно воздействовали на собеседника, заставляя внимать Виталию. А вот видит она теперь, что, нарезая хлеб, чистя картошку, занимаясь всякими домашними, неизбежными и необходимыми мелочами, он по-детски высовывает и прикусывает язык. «Дурная привычка!» — говорит себе Таня, и вдруг волна нежности охватывает ее оттого, что эта неизжитая детская привычка совсем преображает его лицо, заставляя его принимать то выражение, которого до сих пор Таня не замечала. От всего этого Виталий стал таким родным, каким его еще не чувствовала Таня до сих пор. Она закрывала глаза, и горькое сожаление, что нельзя сказать Виталию то, что волнует ее, что заставляет ее украдкой взглядывать на него, когда он не может этого заметить, овладевало ею… Не до нее Виталию: суровая жизнь, в которой нет места для нежных чувств, поглощает его целиком. Так, видно, и надо! Не время еще для них… Да и что она Виталию!..
Много передумала за эти дни Таня. И чувство ее к Виталию, не находя выхода, томило ее; только взглядом могла она сказать о нем, а сознание ненужности этого признания заставляло ее отводить от Виталия взор, если он вдруг его замечал.
— Ты что, Танюша? — спрашивал он девушку.
— Так, ничего! — отвечала Таня и придавала своему лицу будничное выражение.
Все трое они еще более сдружились за время, пока болела Таня.
5
Иногда, уже погасив свет и лежа в постели, они долго не спали, тихо разговаривали обо всем, что приходило в голову. Мертвая тишина, заполнявшая Рабочую улицу, нарушалась только паровозными свистками с линии, да время от времени глухим шумом проходящих поездов.
Даже и после подлого нападения на Виталия он ничего не сказал о своей настоящей фамилии. В беседе между собой и Таня и Алеша иногда называли его Бонивуром, гордясь своей близостью с ним и любя его. То, что для них он продолжал оставаться Антоновым, даже во время этих дружеских бесед по ночам, и Алеша и Таня понимали как выражение той душевной твердости, которой надо обладать подпольщику, революционеру. Только однажды Таня не без лукавства спросила Виталия, вглядываясь в сторону его кровати (свет уже был погашен, и неясный отблеск деповских огней в малое окошко чуть заметно озарял внутренность вагона):
— А есть Бонивур-то на свете?
После некоторого молчания Виталий ответил:
— Есть, коли о нем «Блоха» написала.
— А ты встречался с ним?
— Приходилось.
Тане послышалась в его голосе легонькая усмешка.
— Да тебе-то что, Таньча? — сказал Алеша недовольно. — Поменьше говори о нем!
Помолчав, Таня сказала Виталию:
— Виталий, расскажи что-нибудь.
— Да что рассказать-то, Таня?
Она хотела многое знать. И Виталий был рад рассказать о том, что сам знал, о чем слышал. Гимназические программы по истории обретали вдруг выпуклость и выразительность. Спартанский подросток, спрятавший лисенка за пазуху и не выдававший своей боли, когда лисенок кусал его, вдруг странным образом приобретал сходство с первореченскими ребятами, у которых правилом было не выдавать свою боль, как бы сильна она ни была. Спартак, поднявший рабов Рима против патрициата и погибший, как воин, как герой, казался понятным и родным… Много ярких картин проносилось в такие ночи в темноте тесного вагона Пужняков. Рассказывал Виталий о войнах за свободу народов и восстаниях народов. И герои, которые восставали против господ, против деспотов за право на человеческое существование, за жизнь, за счастье, за простую человеческую долю, были близкими, как близкими были Квашнин, Антоний Иванович, Михайлов.
Вот Пугачев поднимает казацкий Яик на императрицу Екатерину, и всевластная самодержица в своих петербургских хоромах мечется в ярости, видя, как пожаром загорается Волга, Урал, как восстают, примыкая к вольнице Емельяна, «инородцы» — башкиры, казахи, мечтающие об избавлении от царских чиновников; уже думает о выезде из России Екатерина II, у которой недостает сил противостоять яицкому бунтарю. Вот страшная железная клетка — последнее обиталище Пугачева… Звучат слова Пугачева, преданного своими старшинами: «Нет, я не ворон, я только вороненок! Ворон за мною летит!» Слова эти зловещим эхом отзываются во дворце на берегу державной Невы, предвещая новые бури крестьянских восстаний, новые всполохи народного пожара, который должен испепелить всех угнетателей, всех самодержцев и дать простому народу волю.
Бывало, замолчит Виталий, а Таня и Алеша все еще как бы слушают — так живы в их воображении картины, нарисованные им. Потом Алеша вздохнет, подберет с полу застывшие ноги с холодными, как ледышки, пятками (он давно уже сидит на постели, разве можно тут лежать!), зябко передергивая плечами, и говорит:
— А это верно, что казнили Пугачева-то?
— Верно, — говорит Виталий.
— Убежал бы, — отзывается тихо Таня из-за занавески.
Виталий молчит долго, потом отвечает:
— Иная смерть подымает других на борьбу… Из-за этого и умирают такие, как Пугачев. Бежать не штука. Оказаться выше врага, так, чтобы память не умерла и других будила, у кого горит сердце, — это трудно… Бежал бы Пугачев, разве народ помнил бы о нем?
Алеша ложится в постель. Новая мысль заставляет его привстать:
— Виталя, значит, народ-то давно уже непокорный?
— Давно. С тех пор как появились богатые и бедные, Алеша.
— Выходит, мы-то вроде и за Спартака и за Пугачева делаем, чего они не успели! Здорово! — вздыхает Алеша шумно и опять ложится. — Давайте-ка спать! — спохватывается он, видя в окно, что ночная темь стала бархатно-густой, как всегда бывает, когда ночь переваливает за вторую половину, точно собирая все силы, чтобы не уступить место дню, который уже близок.
Но сон не берет взбудораженного разговорами Алешу. Поворочавшись в постели с боку на бок, он опять спрашивает:
— А в Москве-то про нас знают, Виталя?
— Что?
— Ну вот, что мы тут с беляками-то да с японцами воюем, накладываем им всяко-разно…
— Чудак ты, Алексей! — усмехается Виталий. — Ты вслух при ребятах так не скажи — засмеют… Да кто же нашей борьбой руководит, как не Москва? А кто такой дядя Коля, как не посланец ее? А мы, Дальневосточная республика, вроде как передовой отряд Москвы на Дальнем Востоке, аванпост ее. Ты думаешь, зачем в Чите существует Дальбюро Центрального Комитета партии большевиков? Это штаб нашего аванпоста. А штаб обо всем в Москву сообщает. Забастовка наша — это бой, который мы тут белякам дали, такой же бой, как бой на фронте! Понятно?
— Ага! — говорит Алеша и тоном рапорта добавляет: — Товарищ Ленин, на фронте в районе Имана наши войска одержали победу над войсками белых; первореченские рабочие успешно проводят забастовку на срыв воинских перевозок белых, деповской молодежью руководит секретарь комсомольской подпольной организации товарищ Алексей Пужняк…
Ему, однако, не дают насладиться эффектом этой фразы. Таня из-за занавески говорит:
— Наруководил бы ты без Виталия!
— Да я бы и сам об этом сказал, — смущенно говорит Алеша, — а ты лезешь не в свое дело!..
Но Таня, не слушая брата, спрашивает, не замечая того, что обращается к Виталию на «вы»:
— Виталя, а вы в Москве были?
Не сразу отвечает Виталий на этот вопрос.
— Был, — тихо говорит он.
— И Ленина видели?
— Видел, Таня.
Таня не просит, как обычно, рассказать об этом. Она затаила дыхание. Молчит и Алеша, приподнявшись на постели. Но и без просьб Виталию понятно, как хочется услышать об этом Пужнякам.
— Был я на Третьем съезде комсомола в Москве! — говорит Виталий. Через линию фронта пришлось пробираться. Ну, да об этом рассказывать долго. Надо было пройти — и прошли. Я дальше Спасска никогда в жизни не бывал. Ну, знал, что тысячи верст до Москвы. А какие они, эти тысячи? Знал, что там, за Приморьем, — Приамурье, Забайкалье, Сибирь, Урал, Россия. А как все это выглядит? А тут как пошли эти версты одна за другой!.. Да какие! Что ни день, то местность на вчерашнюю не похожа… Тайга, степь, озера, леса, горы, реки… Простор невообразимый! Красота такая, что тут стихами говорить надо, простых слов не хватает, — и все это наше! Две недели мы до Москвы ехали, а за окнами — все Советская Россия, и люди мирным трудом заняты. Пока я дома был, казалось мне, что самое главное — это то, что мы делаем, а во время этой поездки понял я, что наше дело — только маленький кусочек общего дела… У окна торчу — не могу насмотреться, не могу налюбоваться. Все это мое, все родное, такое близкое, что сам не пойму, то ли плакать, то ли петь хочется от радости! Я от ребят глаза прячу, думаю, скажут: «Ну, кисейная барышня, размяк, раскис, а еще подпольщик!..» На ребят посмотрел, вижу тоже потрясены до глубины души. Ну, значит, ни при чем тут кисейная барышня, а есть такие чувства, что сдержать их нельзя, да и сдерживать не надо…
…Виталий приехал в Москву ночью. Пока ехал на трамвае от вокзала до общежития, все смотрел по сторонам, какая она, Москва, и сам себе не верил, что находится в Москве. А она открывалась перед ним в ночном сумраке, разворачивая свои улицы, переулки, площади, бульвары, — бессонная, сторожкая, даже ночью не оставлявшая своих бесчисленных дел: во многих зданиях горел свет, то и дело по улицам проходили машины, мелькали фигуры прохожих… Виталий ахнул, когда вдруг увидел зубчатые стены. «Кремль!» выдохнул он в радостном удивлении. Но ему сказали: «Это еще не Кремль, а Китай-город!.. Вот тут Первопечатнику памятник стоит. Слыхали о таком?» Под стеной стоял монумент, которому было тесно в узенькой улице: бородатый человек в длинном кафтане и с волосами, собранными тесьмой, с умным и напряженным лицом, внимательно разглядывал типографскую доску.
…Волнение не покидало Виталия и весь остаток первой ночи в Москве; он почти не спал, забывался на несколько минут и тотчас же вскакивал. На рассвете он вышел из общежития и побрел по улицам куда глаза глядят, не спрашивая ни у кого дороги, жадным взором окидывая встречные здания и прохожих. Остановился у Никольских ворот, постоял перед старинным домом синодальной типографии с огромными солнечными часами на фронтоне… Он засмотрелся на них и не заметил, как неожиданно кончилась улица, расступившись на обе стороны, словно для того, чтобы сильнее поразить его. Справа краснокаменной громадой вырос Исторический музей, а налево распростерлась огромная площадь, дальний край которой за увалом терялся в сиреневой дымке начинавшегося утра. Дымка эта нежным покрывалом окутывала храм Василия Блаженного, который стоял, как чудное призрачное видение со своими пестрыми главами и кружевной кладкой древних стен, вознесшийся ввысь вечным напоминанием о простых русских людях, создавших этот храм. «Красная площадь!» — сказал сам себе Виталий вслух, не в силах сдержать восторг при виде картины, открывшейся ему.
За музеем улицы поднимались вверх, и казалось, здания громоздятся одно на другое, словно с любопытством выглядывая из-за плеч своих товарищей. А за Василием Блаженным постройки шли круто книзу, к Москве-реке; за ней утопало в бесчисленных дымках, поднимавшихся к небу, что начинало уже розоветь, Замоскворечье, дома которого в отдалении сливались в одну сплошную массу, цветистую и живописную, своей красочностью и вольной беспорядочностью ласкавшую глаз… А впереди высились стены Кремля — сердца России. Зеленая трава морской волною взбегала на холм, к подножию кремлевских стен. А они, словно утесы, шли направо и налево, эти вековые стены, столько видевшие за свою долгую жизнь. В голубое небо вонзались шпили высоких шатров кремлевских башен, и солнце, которое вставало где-то за спиною Виталия, уже бросило первые лучи свои на золотые их флюгарки, озарило здания за высокими стенами, и в этих лучах запылал багрянцем флаг над Большим Кремлевским дворцом…
Точно завороженный, перешел Виталий площадь, ненасытными глазами оглядывая Кремль, от мощных стен которого и высоких башен исходила какая-то непомерная спокойная сила. Он старался запомнить все, все, что в это утро открылось ему нежданно: и старину России, о которой говорил здесь каждый камень, уложенный руками простых людей в незапамятные времена, и советскую новь, символически выраженную этим красным флагом в вышине, и фигурами красноармейцев, стоявших у ворот Никольской и Спасской башен.
Вдруг в проезде башни прозвенел звонок. Часовой вытянулся у ворот стрелкой, бросив искоса на юношу взгляд. В воротах показалась открытая машина, в которой сидел человек в гражданском платье — черном пальто, черной кепке, слегка заломленной назад. В эту минуту из-за здания пассажа на другой стороне площади показалось солнце. Яркий свет его широким потоком залил всю площадь и осветил машину, выехавшую из Кремля, и человека, сидевшего в машине; он улыбнулся солнцу и, ослепленный этим потоком света, прищурил свои умные и веселые глаза… Виталий застыл на месте. Кому же в Советской России и во всем мире не был знаком этот взгляд с прищуркой, этот мощный лоб, это лицо!.. «Товарищ Ленин!» — сказал Виталий вслух и поднес руку к козырьку, отдавая Ленину честь, как солдат. Машина промчалась мимо. Что это была за минута! Автомобиль уже скрылся из виду, а Виталий все стоял на том же месте, не в силах тронуться, исполненный радостью встречи с Ильичем…
Чувство радости не покидало Виталия все дни, пока продолжался съезд.
Делегаты приехали отовсюду, изо всех уголков Советской республики. И впервые Виталий по-настоящему понял, что такое комсомол. Представители всех национальностей и всех областей страны, они хорошо понимали друг друга, хотя говорили на разных языках. Они были молоды, но они уже знали тяжесть военных походов и радость побед, они умели воевать и теперь учились строить.
Здесь были те, кто в лавах Первой Конной дошел до стен Варшавы; те, кто гнал из Одессы французских и итальянских интервентов; те, кто на севере сражался с англо-американскими оккупантами, кто сражался с немецкими оккупантами на Украине, — беззаветные помощники партии большевиков, готовые к любой работе и любым тяготам.
Здесь были ребята с горных разработок Дагестана, привезшие первую ртуть, добытую их руками, ребята со строительства Каширской электростанции, пастухи из Башкирии, хлеборобы из Тамбовщины, шахтеры из Донбасса, пимокаты из Сибири, уральские горняки, ивановские ткачи, петроградские металлисты, николаевские судостроители… Они не боялись битв и трудностей, но им надо было учиться. Стране нужны были инженеры и техники, учителя и агрономы, ученые и писатели, чтобы создавать новую, социалистическую культуру, чтобы поднять ее на новый, высший уровень. Из среды молодежи, еще не знающей, куда поведут ее жизненные пути, должны были выйти новые Боткины и Пироговы, новые Докучаевы и Ушинские, новые Менделеевы и Баженовы, новые Пушкины и Репины… Вот почему именно об учебе, необходимой молодежи, как воздух, говорил на этом съезде комсомола Владимир Ильич Ленин. И среди делегатов, которым выпало на долю видеть и слышать Ильича, был Виталий…
— Ох, и счастливый ты, Виталя! — с хорошей завистью сказал Алеша.
— Виталя, а какой он, Ленин? — чуть слышно спросила Таня.
— Слов у меня таких нету, Таня! — сказал Виталий. — Чтобы рассказать о Ленине, какие-то особые слова нужны… Простой он очень, такой, что с первого раза кажется, будто ты всю жизнь был возле него. Смотришь на него и в душе радость какая-то поднимается, оттого что есть на свете Ленин. Послушаешь его — и словно сам больше и лучше становишься. И вот что удивительно: когда говорит он, кажется, что он твои мысли высказывает, что он в твою душу глядит и видит все, что волнует ее, что неясно, что смущает, что мешает… Народу много, а каждому кажется, что Ленин ему лично говорит, спрашивает, верит, и доверия этого нельзя не оправдать. И так просто и ясно говорит, что даже странным кажется, что ты сам этого не сказал. Я думаю, так бывает только тогда, когда человек слышит истину. Ведь истину нельзя не понять, нельзя не почувствовать, а Ленин — это совесть и честь, гордость и истина наша…
Глава 10 Пусть сильнее грянет буря!
1
Многое в эти дни пережила «команда» Тани, ее пятерка.
Гордость за Таню и страх волновали девчат.
— Ну, Таньча! Вот молодец из молодцов! — говорила Катюша Соборская. — Я бы тут со страху обмерла. А она схватилась с этими бандитами… Ой, геройская девка! Ох, молодец!
— Да перестань ты охать, Катя! Надо бы посмотреть, не надо ли чего Тане, — останавливала Машенька Цебрикова подругу.
И они шли к Тане. Не проходило дня, чтобы они, одна за другой, не стучались в маленькую дверь вагона Пужняков.
Они были готовы на все ради Тани. Теперь Таня, так храбро бросившаяся на выручку Виталию, поднялась в их глазах на огромную высоту! Именно такой должна быть комсомолка! Давно ли они только представляли себе возможность опасностей, а вот одна из них уже доказала, что она достойна имени комсомолки, не убоявшись реальной опасности.
— Ты ужасно храбрая, Таня! — вздыхала Катюша Соборская, оправляя одеяло на ногах Тани. — Я бы с места не встала, если бы на меня напали… И не пикнула бы!
— А я бы закричала, я всегда кричу, когда испугаюсь… Сама понимаю, что, может, и смешно, а не могу, ну, просто рот сам раскрывается, уж такая я уродилась! — сказала Машенька Цебрикова, сжав свой маленький рот и округлив глаза, словно сама удивлялась тому, какой ее создала природа.
Соня Лескова по привычке хрустнула пальцами и выпрямилась:
— А я, как Таня, — бросилась бы на помощь Виталию.
Катя не удержалась опять:
— Виталию?
Соня, посмотрев серьезно на Катю, ответила негромко:
— Почему же только Виталию? Напали бы на тебя, я бы не задумалась, что делать! Ты вечно всех подзуживаешь, Катя… Я знаю, что ты про меня можешь что угодно наговорить, а я бы не задумалась тебя выручить.
— Да у меня язык такой, не могу не зацепиться. Как увижу человека, так и зацеплюсь за него! — с неловким смехом сказала Катя, которая не понимала всегдашней молчаливой сосредоточенности Сони и терялась в ее присутствии, невольно сдерживая свой нрав и язык. Сказанное выглядело извинением, а Катя не любила оказываться виноватой.
— Девочки! — сказала Таня взволнованно. — Каждый из нас поступил бы точно так. Точно так!
— Ну, уж… — протянула Машенька.
Таня оборвала ее:
— Да! Так… Я вот слушала вас и задумалась: не о том вы спорили. Я ведь Виталия выручала! Соня говорит, что любого из нас выручила бы. Все дело в том, чтобы товарищу помочь, правда?.. А если бы на меня напали, ей-богу, девочки, не знаю, что бы со мной было, перепугалась бы, честное слово, и пустилась бы наутек…
Но тут все девушки сказали разом:
— Ну, Таня! Наутек! — не допуская мысли о бегстве Тани от кого бы то ни было.
Соня добавила:
— Когда за другого боишься, о себе не думаешь!
Машенька Цебрикова ахнула:
— Ну, верно, Соня, вот уж верно, так верно! Я ночью боюсь ходить, а за бабкой бегу в полночь, коли она задержится в церкви, аж себя не помню… Машенька сложила губы в трубочку. — Она у меня такая богобоязненная… Она же ничего не видит, девочки. Однажды в какую-то яму угодила, когда от вечерни шла, и вылезть не может. Мы с батей ее целый час искали. Раза два мимо прошли. А потом слышим: «О господи, слепые тетери! Да вот она я!» Я потом спрашиваю бабку: «Ты что же молчала?» А она мне: «А чего кричать? Бог не даст живой душе пропасть». — «Однако же, говорю, все-таки закричала?» А она: «Это я, говорит, к господу богу воззвала». Тут я не утерпела — и ей: «А кто же слепая тетеря? Бог, что ли? Ведь ты кричала: «О господи, слепые тетери!»
Девчата расхохотались.
— Ну, а она?
— Что она, — сказала Машенька, — ткнула меня в загривок и говорит: «Бог сам разберется, кто там слепая тетеря, а ты нечестивая, говорит, вот увидишь, тебя бог-то в соляной столб обратит!» А что мне делать, если я нечестивая?.. — закончила она со вздохом, скорчив уморительную гримасу.
Они шутили, болтали, смеялись, но за всеми шутками твердо стояло сознание их нераздельности, единства, удивительной близости их друг к другу, какой не дает обыкновенная жизнь. А их жизнь была необыкновенной, и кто знает, что могло случиться с ними завтра, вечером, через час. Они не прекращали своей работы, эти девушки из рабочего предместья; об этом говорили листовки забастовочного комитета, требовавшие от рабочих Владивостока солидарности. Листовки разлетались с Первой Речки по всем уголкам Владивостока, и не было в Приморье человека, который не знал бы, за что борются первореченцы. Пятерку Тани не останавливали караулы и расстояние; девушки оказывались ежедневно в самых разных местах. И следами их пребывания на Мальцевском базаре, на Второй Речке, на Эгершельде, на Чуркином мысе, на рыбалках, на фанерном и кожевенном заводах, в районе расположения флотских экипажей, на базаре и в садиках частных домов оставались эти маленькие листки бумаги, на которых крупными буквами стояли слова: «Почему мы бастуем?»
2
Они смелели, девушки с Первой Речки…
Однажды Соня Лескова забежала к Тане. Таня уже вставала с постели и в этот момент сидела у раскрытых дверей вагона, греясь на солнце, которое заливало светом землю. Соня молча прижалась к щеке Тани, и та услышала, как у Лесковой бьется сердце.
— Ты что? — спросила Таня, встревоженно вглядываясь в темные глаза подруги.
Соня отделалась ничего не значащими словами. Однако Таня инстинктивно почувствовала в подруге что-то такое, что ей никогда не было свойственно: какую-то лихорадочность в движениях, торопливость и совершенно неожиданную ласковость.
— Ты куда? — спросила Таня, когда Лескова так же быстро и неожиданно, как пришла, стала собираться.
— На Вторую Речку, — ответила та и опять, обняв Таню, всем телом прижалась к ней и поцеловала. — До свидания, Танюша! Увидишь девочек привет передай.
— Да ты сама их скорее меня увидишь! — сказала Таня.
Соня на секунду задумалась, точно не услышав слов подруги. Потом торопливо сказала:
— Да, конечно… Но ты передай все-таки, если я немного задержусь.
Таня поймала подругу за полу жакета.
— Соньча! Ты что-то задумала? Смотри у меня, не лезь куда не надо!.. Как бы чего не случилось!
Лескова рассмеялась коротким смешком.
— Ну, что со мной может случиться, Танюша!
Она спустилась со ступенек вагона, обернулась к Тане, махнула ей рукой и быстро скрылась за вагонами. Таня, высунувшись из дверей, сколько могла, смотрела на сильную фигуру Сони. Тревога невольно закралась в ее сердце, когда она, оставшись одна, вспомнила необычную ласковость Сони. Она все прислушивалась к каждому шороху и стуку, ко всем шагам за дверями, ко всем звукам, доносившимся извне, то и дело оглядываясь на двери.
Алеша и Виталий не могли не заметить нервозности Тани. Она рассказала, что ее тревожит. Виталий нахмурился и заметил, что за девчат своей пятерки Таня отвечает полностью. Алеша пытался было обратить все в шутку, сказав веселым тоном:
— С кавалером, поди, свидание у Сони на Второй Речке. Знаем мы вас!
Таня только глазами на него повела, не удостоив ответом. Да и сам Алеша знал, что изо всех подруг Тани меньше всего это можно было сказать про Соню, — так серьезна была Соня, так неприступно строга она была с первореченскими ребятами, из которых многие вздыхали по ее темным, удивительной красоты глазам, смуглому лицу с чуть заметным пушком над уголками губ, по тонким бровям, что соединились на переносице темной линией и характерно изгибались каким-то изломом, точно крылья птицы… Нет, не свидание с кавалером волновало Соню. Если бы пришелся ей по сердцу какой-нибудь человек, Соня не стала бы таиться и прятать свою любовь. Она сказала бы о ней своим подругам… Да и не полюбила бы она такого, которого нужно было бы прятать от них. Нет, Соня не из тех, кто крадет любовь.
И все-таки у Сони было свидание.
3
…Она сошла с поезда на Второй Речке. Через минуту дачный состав исчез за косогором. В чистом небе рассосался бесследно дымный султан, тянувшийся за паровозом, ушел в помещение дежурный по станции, стало слышно стрекотание телеграфного аппарата из раскрытого окна вокзала, понемногу разошлись пассажиры, высадившиеся из поезда. На перроне было еще довольно людно: второреченцы ждали поезда в город, который должен был прийти через полчаса. Вдоль путей прогуливались молодые люди с девушками. Молочницы, расставив около себя бидоны с молоком, восседали на них, закрывая их широкими юбками и придерживая руками. Несколько скамеек было занято пассажирами. На небольшом виадуке, который соединял перрон с вокзалом, тоже толпились ожидающие.
Среди гуляющих по платформе было много японских солдат и офицеров. День был воскресный, и солдаты в начищенных ботинках и новых мундирах, топорщившихся под мышками, расхаживали вдоль путей, курили, то и дело обращаясь к проходившим мимо русским женщинам или глазели на залив, волны которого с немолчным шумом накатывали на каменистый берег.
Соня огляделась. На одной из скамеек сидели два японских солдата. Встретив их откровенно восхищенные взгляды, Соня подошла к скамейке. Солдаты тотчас же потеснились, уступая место девушке. Соня села, мимолетным взглядом окинув их. Рядом с ней оказался солдат, как видно, давней службы, уже не молодой, лет тридцати пяти. У него было сухощавое нервное, интеллигентное лицо; плотно сжатые крепкие губы небольшого рта обличали в нем человека молчаливого, а пристальный взгляд карих глаз говорил, что солдат этот был человеком пытливым, вдумчивым и не привык по-пустому тратить слова и время. Заметив, что Соня оглядывает их, этот солдат сказал негромко:
— Садитесь, мы скоро уйдем! — русские слова он произносил медленно, старательно выговаривая их.
Второй солдат, первогодок, быстро заговорил, наклонился, через товарища заглядывая на Соню:
— Пожалуста, мадам, ероси, очень хорошо… Сибирка.
Что это должно было обозначать, Соня не поняла, но очень довольный собой, довольный тем, что он «говорит по-русски», солдат заулыбался и загоготал, не будучи уже в состоянии что-либо выразить словами.
— Да сидите! — отозвалась Соня, в намерения которой вовсе не входило отпугивать японцев от себя. — Места не просидите! — добавила она.
— Спасибо! — сказал старший солдат.
— Не на чем! — опять сказала Соня.
Видя, что русская девушка не отказывается от беседы, старший солдат повернулся к ней.
— Хорошая погода! — сказал он. В такой день хорошо гулять, да?
— Неплохо, — ответила Соня.
— Учите меня росскэ язык! — сказал солдат.
Соня усмехнулась. «Нового-то ничего выдумать не могут!» — презрительно подумала она. С этой фразы все японцы начинали знакомство с русскими. Вслух она сказала:
— А чего вас учить-то, когда вы и так по-русски говорите!
Японец живо сказал, что он знает русский язык недостаточно хорошо, что он любит Россию, ее природу, ее песни и так далее, что он хочет знать и понимать русский народ. Соня не удержалась и заметила вполголоса:
— А чего вам понимать? Все равно скоро в Японию поедете.
Солдат отвел глаза от Сони и замолчал. Второй стал торопливо расспрашивать, о чем идет речь. Первый ответил сухо и коротко, резким тоном, словно что-то приказав. Второй солдат озадаченно посмотрел на своего старшего товарища, поднялся с выражением глуповатого недоумения на толстогубом, розовокрасном лице с раскрытым ртом, с шумом втянул слюни и, козырнув, отошел к другим солдатам, вдруг утратив интерес к Соне.
— Почему вы его прогнали? — спросила Соня.
— Так просто. Это дурак, который ничего не понимает! — пренебрежительно ответил ее собеседник. Отвечая на вопрос Сони, он сказал: — Домой еще не скоро… Когда домой — неизвестно.
До сих пор он держался молодцевато, но тут в его голосе проскользнула простая человеческая тоска. Угадав это, Соня спросила:
— Соскучились по дому?
Солдат оживился и быстро заговорил. По его словам выходило, что по дому он очень стосковался, находясь в разлуке с семьей уже три года. Подыскивая слова, он сказал, что хотя в Приморье очень красивая природа, но в Японии куда красивее, особенно когда цветут вишни и яблони. Он сказал, что возле его дома разбит небольшой сад, что он и во сне видит этот сад, весь усыпанный цветами, что люди в России грубы и непонятны, поступки их не вмещаются в сознание японца, что японцу трудно разобраться в том, что происходит в этой стране.
Соня не знала, чем объяснить неожиданную словоохотливость солдата. Девушка насторожилась. «Куда это он гнет?» — подумала она с тревогой. Однако, видимо, что-то уж накипело в душе солдата, что он задел эту тему. Он и сам через несколько минут спохватился, неожиданно замолк и осторожно огляделся вокруг: не слышит ли кто-нибудь? В этой оглядке было столько искреннего испуга, что у Сони дрогнуло сердце. Она порадовалась своей удаче. Случай свел ее с человеком, в душе которого семена, брошенные ею, могли дать всходы, как зерно на вспаханной почве. Сколько возмущений в войсках интервентов имело почвой тоску по родине!..
— Что же вы домой не уедете? — спросила Соня.
— Я солдат… — с грустью ответил ее собеседник.
Они прошлись немного. Соня сказала, что она приехала к подруге, которая обещала ее встретить, но что та задержалась и Соне придется уехать, так как у нее нет больше времени. Японец, выговорившись, принялся ее благодарить за беседу, просить о следующей встрече. Все существо Сони было напряжено; эту поездку она считала только разведкой, а теперь ее так и подмывало сделать что-то дерзкое.
Послышался ослабленный расстоянием свисток паровоза.
— Мне пора! — заторопилась Соня.
Солдат встрепенулся. Он протянул ей руку, назвал свою фамилию: Коноэ. Чтобы она не смешала его с простыми крестьянами, с мужиками, которые ничего не понимают, как он сказал, он пояснил, что сам он человек с образованием, учитель.
— Соня-сан! Вы мне очень нравились. Хотел бы встретиться с вами еще! поспешно выговорил Коноэ. — Я хочу говорить с вами. Вы можете объяснить мне кое-что, что мне хотелось бы знать. Это можно?
— Отчего же нельзя? — ответила Соня.
Коноэ расцвел. Он вытащил свою записную книжку:
— Пожалуста, писать мне что-то на память!
«Была не была!» — сказала себе Соня, почувствовав вместе с тем, что у нее похолодело под коленками. Быстрым движением вынула она из своей сумочки несколько листков. Поезд, тарахтя, подошел к перрону, остановился. Дачники хлынули к вагонам. Соня сказала:
— Вот у меня есть русская песня! Могу вам дать на память.
Коноэ согласно закивал головой, улыбаясь.
— Японские солдаты очень любят росскэ песни! Росскэ песни хорошо.
Соня сунула ему листки. Поверх всех был листок со словами «Колодников». Коноэ взял листки, как залог будущих встреч с Соней. Механически взглянул на нижние листки. Слова, напечатанные по русски и иероглифами: «К японским солдатам. Почему вы находитесь в России?» — сразу бросились ему в глаза. Он побледнел и шепнул:
— Я знаю эту росскэ песня… Что вы делаете?
Кинуться от него в вагон? Затеряться в толпе? Как назло, поезд задерживался, ожидая встречного.
— Вас поймают! — хрипло вымолвил Коноэ.
Соня выпрямилась. На одну только секунду страх тихонько взял ее за сердце, и она перестала чувствовать его биение. А в следующее мгновение Соня ощутила обычное свое спокойствие. «Чему быть, того не миновать!»
— Ну, зовите своих солдат, ловите! — сказала она.
Страх плескался в глазах Коноэ. Руки его заметно дрожали. Какие-то чувства раздирали его. Он то глядел на Соню, то кидал, часто мигая, взоры на солдат, нестройной толпой сгрудившихся на платформе. Десятки глаз устремились на Соню и Коноэ из этой толпы.
— У меня дома дочь таких же лет! Я ее очень люблю.
— Дочь? — переспросила Соня, чтобы не молчать.
— Только она не пишет и не распространяет листовки.
— Вы так думаете? — почти не соображая, спросила Соня.
Она вздрогнула от раскатистой трели свистка главного кондуктора, выбежавшего из помещения станции. Паровоз тяжело вздохнул и тронул состав. Коноэ, не находя пуговиц, расстегнул мундир и трясущейся рукой стал засовывать во внутренний карман листовки, оставив в левой руке бумажку с текстом «Колодников».
— Я еще увижу вас? — спросил он, и Соня поняла, что на этот раз все сошло как нельзя лучше.
— Завтра в этом же месте! — быстро ответила она, отступая к вагонной лесенке и все еще не веря, что Коноэ не поднимет шуму.
Наткнулась на поручни. Почувствовала, что вагон уже движется. Схватилась за поручни, поднялась вверх и, сколько могла, беззаботно и любезно, улыбаясь изо всех сил, раскланялась с Коноэ, к которому уже подходили другие солдаты. Поезд убыстрял ход. И только тогда, когда мимо промелькнул выходной семафор и семафор этот не опустился, Соня села на скамью и перевела дух. Только тут краска бросилась ей в лицо, и она представила себе, каким мог быть исход этого ее «дела»…
4
Лескова коротко и спокойно рассказала Тане о том, что произошло на Второй Речке.
— Ты с ума сошла! Ну просто с ума сошла! — сказала Таня, задохнувшись от запоздалого страха. — Да кто тебе позволил, Соньча? Почему ты мне не сказала ничего? Что я тебе, чужой человек, что ли? А ну как арестовали бы они тебя?
— Ты не пустила бы меня. Сказала бы, что я не справлюсь, что работа среди японцев — не наше дело.
И Таня должна была сознаться, что не пустила бы Соню без указания Виталия.
Не менее Тани встревоженный похождением Сони, выслушал ее рассказ и Виталий. Он долго молчал и после того, как Соня, подробно рассказав обо всем, тоже замолкла. Тягостное молчание длилось так долго, что Соня невольно почувствовала, как ею овладевает страх: чем все это кончится? Неужели она поступила неверно?
— Почему вы это сделали? — спросил Виталий.
— Хотелось отомстить им за то, что на вас и на Таню тут напали! просто сказала Соня. И после минутного раздумья добавила: — Испытать хотелось, могу ли я опасное поручение выполнить.
Ей непереносимо было слышать, как Виталий называл ее на «вы», точно чужую. Пусть бы он ее отругал, накричал бы на нее, рассердился бы, прогнал бы со своих глаз. Только бы не слышать этого ровного тона и спокойных слов, которые воздвигают какую-то незримую стену и указывают Соне на ее опрометчивость и самовольство, а вовсе не на смелость и отвагу, как расценивала она свою второреченскую поездку.
— Скажите мне, товарищ Лескова, что было бы, если бы в комсомоле каждый делал, что хотел, по своему усмотрению, по своему желанию и капризу, не советуясь ни с кем из товарищей, не ставя в известность старших?
Что было бы тогда? — Соня мгновенно представила себе, но у нее не хватило ни голоса, ни смелости сказать об этом вслух.
— Враги раздергали бы нас поодиночке! — сказал за нее Виталий. — Вот почему нас учат дисциплине.
— Я понимаю, — сказала Соня.
— Хорошо, коли понимаешь! — посмотрел на нее Виталий.
У него не стало сил дольше томить Соню: он до сих пор не забыл своих разговоров с тетей Надей и Михайловым, разговоров, после которых он точно становился старше, он вполне представлял состояние, в котором находилась Соня сейчас. Она же встрепенулась, услыхав, что Виталий опять назвал ее на «ты», и поняла, что выдержала испытание.
5
В обещанное время она поехала, как велел ей Виталий, на свидание с Коноэ.
Во все глаза глядела она на перрон, когда подъезжала ко Второй Речке, высматривая Коноэ. Его, однако, не было на условленном месте. Зато Соня сразу увидела спутника Коноэ, стоявшего у перил платформы, возле знакомой скамеечки. Вместе с ним было еще трое солдат с винтовками. Они внимательно смотрели на подходивший поезд. Запомнившийся Соне солдат так и впился своими черными, как угли, глазами с набрякшими веками в толпу пассажиров. Это поразило Соню. На лице солдата сегодня не было той глупости, что была написана на нем вчера, — видом своим он напоминал собаку на стойке, столько напряженного внимания было на этой толстогубой физиономии. Соня поспешно отодвинулась от окна в глубину вагона. Поезд тронулся, мимо проплыл вокзал, толпа дачников, дома на косогоре, и замелькали откосы выемки.
…Вернулась Соня через три часа, усталая и поникшая.
Пятерка была в сборе.
— Где же он? Что делает теперь? — спросили девушки.
— Поет, поди, «Колодников»! — легкомысленно предположила Катя.
— Может быть! — неопределенно ответила Соня.
От этих слов повеяло на девушек холодком. Никто не сказал больше ничего о Коноэ, только Леночка Иевлева заметила со вздохом:
— Жалко все-таки, когда хороший человек пропадает!
— Может, не пропал еще? — сказала жалостливо Машенька.
Девушки долго молчали. Потом Машенька, деятельная натура которой не выдерживала долгих пауз, оглянулась на подруг.
— Давай споем, девушки! — и завела своим тоненьким задушевным голосом:
Спускается солнце за степи…
Низкий голос Сони Лесковой присоединился к несильному голосу Машеньки, остальные девушки подхватили слова песни, и пошла литься по Рабочей улице чистая, ясная песня, тихой грустью обволакивая все вокруг:
Вдали золотится ковыль…
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.
6
Однажды приехал Михайлов. Он присел подле Тани.
— Спасибо тебе! Большое спасибо! — несколько раз повторил он, ласково глядя на девушку. Ничего, кроме этого, он не сказал, но его похвала очень обрадовала Таню.
Виталия Михайлов отвел в сторону.
— Есть к тебе дело… Просит Топорков человека смелого, знающего, подкованного. Комсомольца. Будет работать в штабе и для связи с нами. Будет ведать и переотправкой оружия. Дело большое и серьезное!
— Надо поискать! — задумчиво сказал Виталий.
— Будто надо! — усмехнулся Михайлов и положил руку на плечо. — А ты?.. Не хочешь поехать туда?
— А как же забастовка?
— Доведем и без тебя! — ответил Михайлов.
Таня следила за разговором, глядя на мужчин из-под полузакрытых век. Она затаила дыхание, ожидая ответа Виталия. Но уже до того, как юноша открыл рот, она поняла, как Виталий отнесся к предложению Михайлова.
— Я согласен! — услышала она.
— Тебе тут климат вредный, кроме всего прочего! — сказал Михайлов. Вот видишь, ночью тебе няньки нужны, а скоро, глядишь, они тебе и днем понадобятся. Нет, надо ехать к Топоркову. — Он шутливо обернулся к Тане. Ну, а ты, ангел-хранитель, что по этому поводу скажешь?
— Конечно, надо! — сказала девушка тихо.
Она закрыла глаза и отвернулась к стене.
Михайлов предупредил Антония Ивановича и всех членов комитета, чтобы они соблюдали крайнюю осторожность. Японцы попытаются обезглавить забастовку. Охрана членов стачечного комитета, по мнению Михайлова, была необходима. Но, кроме этого, он рекомендовал им не ночевать дома. Можно было ожидать, что жандармерия японцев или казаки Караева попробуют потихоньку арестовать или тайком убить членов комитета.
Михайлов хорошо знал повадки белых. И члены комитета последовали его совету. Более одной ночи они не ночевали в одном месте, на каждую следующую перебирались к кому-нибудь из бастующих.
Таня оказалась в вагоне одна. Алеша и Виталий приходили лишь днем.
Тоска охватила девушку. Чувство к Виталию, которое пыталась она подавить, все же владело ею настолько, что, не видя более юноши, она часто плакала ночами. Заметив, что она выглядит очень утомленной и болезненной, Алеша пригласил к ней старушку — мать одной из Таниных подруг. Без всякого приглашения и Машенька Цебрикова стала ночевать в вагоне Пужняков.
Прошло трое суток.
На четвертую ночь девушки проснулись от крепкого стука в дверь. За дверью слышались голоса нескольких человек. Девушки вскочили. Подбежали к двери. Будить старушку они не стали.
— Откройте дверь! С обыском! — крикнули снаружи.
— Кто вас знает, с обыском или с грабежом! — ответила Таня. — Не пущу! Испугалась!..
— Выломаем дверь — вам же хуже будет! — грозились снаружи.
Девушки, не зажигая огня, стояли у двери, прислушиваясь к звукам извне. Таня осторожно посмотрела в окно. Машенька со страхом уцепилась за сорочку Тани.
— Что ты делаешь?! Стрелять будут!
— Не будут, — отозвалась Таня.
Брезжил рассвет. В его сумрачной полумгле Тане удалось рассмотреть, что у вагона люди с винтовками.
— Они, — сказала Таня. — Ничего не поделаешь!
Вошли двое казаков, за ними Караев и Суэцугу.
— Почему не открывали? — крикнул Караев.
— А к нам по ночам никто не ходит!
— Так-таки уж и никто? — насмешливо спросил Караев, нагло рассматривая девушек.
Они обе вспыхнули.
— Коли с обыском пришли, так обыскивайте, — сказала Таня, — а язык придержите, господин офицер, не нахальничайте!
— Ого! Какая ты храбрая! Ну, дай-ка я на тебя поближе посмотрю! Караев взял было Таню за подбородок двумя пальцами руки, затянутой в лайковую перчатку. Но девушка с силой ударила его по руке.
— Полегче, господин офицер, а то я и по морде надаю! — озлилась она, и губы ее задрожали от обиды.
Караев хотел что-то сказать, но сдержался и кивнул казакам. Те приступили к обыску. Но уже через две минуты они остановились, вопросительно поглядывая на ротмистра. Кроме перепуганной насмерть старухи, проснувшейся, когда казак стал шарить под кроватью, да двух девушек, настроенных решительно, но тоже готовых расплакаться, в вагоне никого не было.
— Почему раньше не открыли? Где хозяин? — допытывался Суэцугу.
— Три дня уже нету дома! — живо сказала Таня. — Не знаю, что и думать. Не случилось ли чего? — жалобно свела она брови.
Машенька глянула не нее и тоже сморщилась, насколько могла.
— А ты что скажешь, мать? — спросил Караев.
— Так, так, батюшка! Так! — поспешно прошамкала старушка, по глухоте своей не услышавшая разговора.
Обескураженные неудачей, Суэцугу и Караев тихо поговорили о чем-то.
— Ну-с, извините! — притронулся к фуражке ротмистр.
— Чем богаты, тем и рады! — отозвалась Таня.
Караев пристально посмотрел на нее и вышел. Вслед за ним вышли казаки. Суэцугу обратился к Тане:
— Когда ваш брат приходит, сообщайте нам. А?
— Обязательно, — сказала Таня.
— Вот хорошо! — довольно улыбнулся Суэцугу, всерьез принявший ответ девушки.
7
Днем Виталий пришел за вещами. Он уложил свой маленький чемоданчик.
— Ну, Танюша! Давай прощаться!
— Давайте.
Они стояли друг против друга. Глаза их встретились. Таня глядела на Виталия так, что он вдруг утратил то ощущение братского к ней отношения, которое сопутствовало ему все это время и мешало разглядеть истинное чувство Тани. В этот миг почудилось ему в Тане что-то такое, что совсем не укладывалось в голове Виталия. На секунду показалось юноше, что не только уважение к нему гнездится в ее сердце… И хотя подумалось ему, что лучше всего было бы сейчас поцеловать Таню, он протянул ей руку и сказал:
— До свидания, сестренка!
— До свидания, Виталя! — ответила Таня. Она опустила глаза. — Куда же вы теперь?
— В отряд Топоркова! — ответил он.
— Это откуда партизан приезжал? — спросила девушка.
Виталий услышал в этом вопросе другой: «Это тот отряд, в котором Нина?» Он и сам только сейчас сообразил это и насупился.
— Тот! — сказал он хмуро.
В этот момент вошли Алеша, Квашнин, за ними Антоний Иванович и Федя Соколов.
— Не на век прощаемся, — зашумел Пужняк. — Думаю, к осени вернется Виталий во Владивосток. Так, что ли?
— Надо, чтобы было так!
Бонивур вышел один. Немного погодя за ним последовал Алеша — проводить его до семафора, там должен был остановиться поезд. На станции показываться Виталий не рисковал. Напоследок он оглянулся и помахал рукой.
Долго не выходили из памяти Виталия серые ясные глаза Тани, устремленные на него с какой-то мучительной надеждой, глаза, на которые вдруг, словно мимолетный дождь, набежали слезы.
8
Тихо было в этот вечер в вагоне Пужняков.
Не сговариваясь, пришли все подружки Тани. К Алеше завернул «на огонек» Федя Соколов. Не было на этот раз шуток и веселых перепалок, которые обычно возникали то между Таней и Алешей, то между Катей и Машенькой… Точно вынули у каждого из души какой-то очень нужный и горячий кусочек, так пришелся по сердцу всем Виталий. Его отсутствие ощущалось ежеминутно. По невеселым лицам подруг Таня поняла, что они, не скрываясь, грустят о Виталии.
Беседа не клеилась. Говорили неохотно. Алеше особенно невмоготу было это принужденное молчание.
— Попоила бы гостей чаем, Таньча! — сказал он.
— Давайте, девочки, самовар ставить! — обернулась Таня к Кате и Машеньке.
Те засуетились, стали щепать лучину, потащили самовар на улицу.
Самовар скоро зашумел, из-под крышки повалил пар и стала выплескиваться кипящая вода.
Таня стала копаться в шкафчике. Нашла сахар, варенье, сухари.
— Не трудись, Таня, — сказала Соня. — Что-то неохота пить.
Отказалась от чаю и Леночка Иевлева. Катя пододвинула к себе чашку, да так и не прикоснулась к ней. Алеша выпил две чашки, обжигаясь и давясь, но, заметив, что и у Феди чаепитие подвигается плохо, отодвинул свою чашку.
— Таньча! Сыграла бы что-нибудь!..
— Не хочется! — отозвалась Таня.
Алеша, пригорюнившись, посмотрел на сестру.
— Вот так и будем сидеть и слезы точить, сеструха?
— А что тебе надо?
— Да ничего! — поспешно ответил Алеша, решив, что Таню сегодня лучше не задевать. — Федя, пройдемся, что ли… Сил никаких нету на эту панихиду смотреть. К Антонию Ивановичу зайдем.
Они поднялись и вышли.
Девушки молча сидели в вагоне. Медная луна вылилась из-за горы, озарив оранжевым светом дымку пыли и пара над депо. Тускло светились стекла вагона. Уменьшаясь в размере, луна полезла в высоту, теряя красноватую окраску и принимая серебристый цвет. Оконные переплеты светлыми пятнами легли на пол. Ровный четырехугольник дверей, освещенный снаружи, разделил вагон пополам. На небе не было ни одного облачка. На западе ярко светилась Венера.
— Любимая звезда моя! — сказала Соня, подняв к Венере глаза. — Вот иной раз так уж плохо на душе, что и сказать нельзя, а поглядишь на нее — и кажется, что все устроится, что не стоит горевать, все будет как следует.
— Давайте, девочки, стихи читать, — вздохнув, предложила Катя.
Простые слова, которыми пользуешься повседневно, не шли в этот вечер на ум. Хотелось каких-то слов необыкновенных, звучных, особенного смысла исполненных, таких слов, которые вместили бы в себя все душевное беспокойство, что владело в этот вечер всеми первореченскими друзьями Виталия, в первый раз за многие дни не чувствовавшими теперь его возле себя…
«Увидимся ли?» — промелькнула у Тани тягостная мысль, но чтобы не накликать на Виталия несчастье, она отогнала от себя эту мысль и повторила несколько раз сама себе: «Увидимся! Увидимся! Увидимся!»
— Ну, начинайте, девушки Катя, давай! — сказала Таня.
— Да я не знаю, девочки, ничего, — смутилась Катя. — Разве только то, что в альбомах видела. Я и о стихах-то узнала, как мы дружить начали. А про любовь можно? — спросила она.
— Читай, что хочешь!
— Ну, я про любовь.
Она потеряла вдруг всю свою бойкость и совсем тихим голосом прочитала:
Осень! Осыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин…
Весело и горестно сердцу моему
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слезы лью.
Не умею высказать, как тебя люблю!
— Да это же не про любовь, а про русский язык! — недоуменно сказала Машенька, всплеснув руками.
Девушки расхохотались.
— Ты всегда что-нибудь выдумаешь такое, Машенька, что… — не закончив свою мысль, заметила недовольно Катя. — При чем тут русский язык? Ясно сказано «Не умею высказать, как тебя люблю!» Значит, про любовь.
Машенька тихонько сказала:
— Да, я читала это стихотворение. У Васьки нашего была такая книга, на ней написано: «Русский язык». Ну, я и думала, что там про русский язык написано. — Она испугалась, что рассердила Катю, и выпалила в один вздох: Девочки, я больше не буду перебивать, честное слово.
— Не мешай, Маша!
Таня привлекла Машеньку к себе и ласково закрыла ей рот руками. Но Машенька подсела возле Кати и шепотком спросила:
— Катюша, а ты любишь кого-нибудь?
— Люблю! — быстро ответила Катя, глядя через плечо на Машеньку.
Та так и замерла вся, ожидая признания.
— Кого, Катя? — чуть слышно спросила Машенька.
— Нашего рыжего кота Фильку!
Девушки рассмеялись, глядя на совершенно озадаченное лицо Машеньки. «Ну и Катька! — подумала Машенька. — Ох, как-нибудь я ее отбрею!» Впрочем, это было неосуществимое желание, потому что более кроткое существо, чем Машенька, трудно было отыскать. Она хотела было сказать что-нибудь, но в этот момент Соня Лескова глубоким своим голосом начала читать стихи, отчего у Машеньки сразу заныло сердце и она вся обратилась в слух:
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался водою холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков…
Соня читала выпрямившись, без жестов, по обыкновению стиснув пальцы так, что они побелели. Только губы на ее побледневшем от внутреннего волнения лице шевелились, выговаривая удивительной красоты слова, да сияли (именно сияли!) ее очи… Грустное было это стихотворение. Настроение его соответствовало настроению девушек, то, о чем рассказывало оно, так больно задело их, сегодня расставшихся с другом, что девушки едва сдерживали слезы. Машенька, представив себе, как гордо росли эти пальмы, жаждавшие принести усладу уставшим, и как погибли они от равнодушной и безжалостной руки человека, возмущенно сказала:
— Ну, зачем порубили-то? Оно хоть и дерево, а тоже жить хочет… Неожиданная догадка осенила ее; она широко открытыми глазами окинула подруг: — Девочки, а может, это и не про деревья вовсе… Ой, какой ужас!..
— Теперь твоя очередь, Маша, — строго сказала Катя.
Машенька охнула. «Ну, Катька, Катька, враг ты мой по гроб жизни!» Она надеялась, что ей придется только слушать.
— Ну, я никаких стихов не помню. Они сами собой улетучиваются. Кажется, вот помнила, даже про себя шептать могу, а как сказать надо — ну, ничего не помню. Я во всех альбомах только одно и пишу, — сказала она жалостливо:
Кто любит более меня,
Пусть пишет далее меня!
Катя всплеснула руками.
— Машка!! Так это ты, оказывается, все альбомы перепортила! А я все доискивалась, кто мне золотой обрез чернилами измарал? Ну, чудо ты из чудес!
— Так я же любя, девочки! — сказала Маша обиженно.
Видя, как задрожали у Машеньки губы, Таня обняла ее и усадила между собой и Соней…
Девушки вспоминали стихи, ища таких, которые бы выразили их настоящие чувства. И Таня захотела прочитать то, что ее самое глубоко потрясло силою чувства.
— Девочки! Давайте теперь я почитаю. — Она встала.
— Да ты сиди, так задушевнее получается, — остановила ее Катя.
— Нет, эти стихи стоя надо читать! — отозвалась Таня.
И словно ветром пахнуло от слов, которые произнесла Таня:
— «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный».
Девушки насторожились. Таня, словно вдруг сбросившая с себя грусть и печальные мысли, читала голосом свободным, звонким, как туго натянутая струна, и стихи вызвали сильнейшее волнение в сердцах ее подруг.
— Ох ты! — пораженная вызовом, сквозившим в каждом слове необыкновенного стихотворения, пролепетала Катя.
А Таня читала, будто дышала соленым морским воздухом, и буря грохотала вокруг нее, и видела она все то, что облеклось в эти слова. Она испытывала тот подъем, когда все казалось возможным, и жаждой борьбы наполнялся каждый мускул, каждая клеточка ее тела. Голос ее звенел… У Машеньки по телу поползли мурашки.
— «Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает!»
Да, это были те стихи, которых они искали. Затаив дыхание, слушали они. И биение сердец их отмечало торжествующий ритм великолепного стиха.
— «Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем: то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..»
Таня замолкла, вся дрожа от возбуждения. Щеки ее пылали, волосы разметались от энергичных взмахов, ноздри раздувались. Она прерывисто дышала.
— Ох, как хорошо! Танюша, кто это написал-то? — спросила Катя.
— Это Максим Горький написал, — сказала Соня.
— Особенный он, наверно, — заметила Машенька. — Большой большевик, этак ведь простой-то человек не напишет…
Расходились девушки поздно. Таня вышла провожать подруг.
— Да ты не ходи, Танечка… опасно ведь, — сказала Соня заботливо.
Стали прощаться. Расставаться не хотелось. Может быть, никогда с такою силой не ощущали девушки всей своей близости, как в этот вечер.
Машенька на прощание крепко поцеловала Таню.
— Танюшка! Где ты взяла это, что читала-то? Дай, будь добренькая, мне, коли не жалко!
— Дам, Машенька, дам! — сказала Таня.
— Где взяла-то? — еще раз спросила Машенька и сама почти ответила себе: — Виталий дал?
Таня молча кивнула головой.
— Я так и думала! — шепнула Машенька. — Ой, Танюша, жизнь-то какая на свете удивительная, а! Ну, прощай, Таня!
Девушки долго шли вчетвером молча. Говорить не хотелось.
Распрощалась с подругами Соня Лескова. Через квартал отстала Леночка Иевлева.
Машенька с Катей жили дальше всех.
Катя хранила сосредоточенное молчание.
Машенька что-то шептала, то и дело спотыкаясь, — до такой степени все ее внимание было еще захвачено стихами. Наконец она сказала вполголоса, разведя по сторонам руками:
— Нет, Катя, ты только подумай, какие слова на свете-то есть… Бабка мне все твердит: бог, поп да молитва, а тут такое… — Она остановилась.
— Ну, что «такое»?
Машенька взмахнула с силой руками, разведя их в стороны, и что есть силы прокричала:
— «Буря! Пусть сильнее грянет буря!»
Затявкали собаки за заборами, разбуженные среди ночи тоненьким голосом Машеньки. Мирно светила с высоты луна. Один за другим гасли огни в депо. Тишина вокруг стояла необыкновенная. Густые тени резко чернели на земле. Крыши домов, залитые лунным светом, казались белыми и сливались с белесым небом. Все вокруг мирно спало. А в душе Машеньки бушевала буря. И Катя на этот раз ничего не сказала подружке, над которой всегда подтрунивала. Вместо ответа на выкрик Машеньки, огласивший окрестность, Катя обняла Машеньку, укрыв ее своим пуховым платком.
Часть вторая Накануне
Глава 11 Август
1
Забастовку, начатую первореченцами, поддержало все рабочее Приморье. Забастовку солидарности провели рабочие мастерских Военного порта. Бастовали шахтеры Бринера, прекратили работы служащие фирмы «Петр-Мари», продавцы магазина «И.Я.Чурин и К». Однодневную забастовку объявили грузчики пакгаузов Кунста и Альберса. Сучанцы отказались грузить выданный на-гора уголь в вагоны.
Рабочие Торгового порта в течение двадцати дней не погрузили ни одной тонны на суда, идущие в Японию; лишь стачколомы из офицерских артелей, не отваживавшиеся показываться в порту поодиночке, медленно грузили то, что в первую очередь считал необходимым переправить за границу Меркулов, уже переведший в Токио и Иокогаму через «Чосен-банк» миллионные суммы. Рабочие мельниц Тифонтая предприняли крупную экспроприацию готовой продукции в целях снабжения стачечников.
Повсеместно лозунгом бастующих было: «Долой интервенцию! Да здравствует ДВР! Да здравствует РСФСР!»
Генералы — члены кабинета Меркулова — Вержбицкий, Смолин и Молчанов не появлялись на заседаниях «правительства». В думе почти ежедневно вскрывались все новые и новые плутни Меркулова.
Всеобщее волнение отражалось и на экспедиционных войсках японцев. Генерал Тачибана, прибывший во Владивосток на пост командующего экспедиционным корпусом Японии на Дальнем Востоке, не мог остановить движение недовольства среди своих солдат и младшего офицерства. Запрещенная большевистская литература имела широкое хождение в японских казармах. Генерал заявил, что всех солдат, которые побывали в России, по возвращении на родину следует брать на специальный учет, ибо «красная зараза, подобно губительной сыпи», покрывала тело оккупационной армии.
Отклики событий в Приморье, точно круги от брошенного в воду камня, расходились далеко по побережью Тихого океана. Шанхайские моряки отказывались наниматься на суда, идущие в Россию. Корабли, зафрахтованные японскими коммерсантами, не могли набрать команды; в Иокогаме, Хакодате, Симоносеки вспыхивали забастовки сочувствия рабочим России; в Токио демонстрировали рабочие промышленных предприятий, требуя прекращения оккупации Дальнего Востока; в ряде префектур жены мобилизованных японцев, находившихся в России, с детьми на руках требовали возвращения отцов и мужей. В Корее усилилось движение автономистов, знамена с изображением красно-белого яблока появились на улицах Сеула.
Но японские политики еще думали удержать за собой Северный Сахалин плацдарм в девяти милях от тихоокеанского побережья России. Там была нефть. Запах ее щекотал ноздри японских промышленников. Экономисты фирмы «Мицубиси» высчитали, что в течение десяти лет годовую добычу нефти на Северном Сахалине можно поднять до двухсот тысяч тонн. А это составило бы шестьдесят процентов всей добычи нефти островной империи.
Конференция в Чаньчуне должна была решить вопрос о судьбе Северного Сахалина. Однако японские политики понимали, что необходим какой-то козырь, который можно будет пустить в ход на конференции. Старые карты в этой игре не годились.
19 июня 1922 года правительство Японии объявило об эвакуации экспедиционного корпуса из Приморья. На следующий день из Владивостока на острова торжественно были отправлены кадеты — практиканты японских морских и военных школ. Но интервенционистские войска оставались в своих казармах. Задолго до объявления об эвакуации японцы дали понять Меркулову, что он должен начать военные действия против Народно-революционной армии. Прожженный делец, Меркулов отлично понимал положение японцев, и когда они стали настаивать, категорически заявил, что на военную авантюру он не пойдет.
Даже в богатой коллекции генералов, прозябавших в Приморье, где можно было встретить представителей всех политических толков белых, от «мужицкого генерала» Пепеляева и графа де Тулуз-Лотрек — корнета Савина, опереточного «претендента» на болгарский престол, до отъявленного бандита «всероссийского атамана» Семенова, трудно было найти безумца, который попытался бы выступить против Народно-революционной армии.
Между тем такого безумца нужно было найти во что бы то ни стало. Нужно было инсценировать мощное наступление против НРА, показать размах движения «за освобождение России». С помощью этого японцы надеялись на предстоящей конференции в Чаньчуне добиться выгодных условий прекращения интервенции…
Пока же меркуловский кабинет министров и меркуловский «парламент» придавали марионеточному режиму белых видимость демократического строя. Заседало Народное собрание, которое было народным только по названию, но не по существу: представлено в нем было лишь «несоциалистическое население» заводчики, фабриканты, крупные спекулянты, судовладельцы, фрахтовики, домовладельцы, хозяева торговых фирм. Рабочие окрестили это сборище хлестким словечком «несосы», которое прилипало к членам меркуловского парламента сильнее, чем слово «депутат». Заседал кабинет министров, в котором те же лица, только побогаче или понахальнее, адвокаты-хапуги, журналисты желтой масти. Все они умели принюхиваться к ветру, дующему из особняка командующего японским экспедиционным корпусом, всем им была знакома дорога в отделение Гонконг-Шанхайского банка, через который Америка вела расчеты с беляками всех мастей… И кабинет министров и парламент проводили волю своих истинных хозяев — интервентов, верно служа им за иудину плату — доллары и иены… Они были единодушны в клевете на Советскую Россию, на ДВР. Они были единодушны, когда своими подписями скрепляли «законы», родившиеся в тиши кабинетов японской военной миссии и подсказанные золотым мешком из-за океана. Эти «законы» несли горе и несчастье. Через эти сборища предателей действовали интервенты всех мастей.
2
Работа подпольщика полна неожиданностей. Соня Лескова оказалась вдруг свидетелем таких сцен и разговоров, о которых она и подумать не могла…
Однажды Антоний Иванович зашел к Пужняку. Покряхтев, он влез по лесенке в вагон, умостился на табуретке, молча вынул кисет, свернул козью ножку и закурил. Алеша выжидательно глядел на старого мастера. Выпустив облако дыма сквозь усы, Антоний Иванович доверительно склонился к Алеше.
— Дядя Коля, — сказал он, по обыкновению вполголоса, когда речь касалась Михайлова, — просит дать ему человека…
— Куда? — встрепенулся Алеша.
— Куда надо, — коротко ответил мастер и покачал головой. — Эх, Алексей, Алексей, учить тебя надо еще да и учить! Мне дядя Коля не докладывает, куда кого ставит.
Алеша взволнованно кашлянул; у него стеснило дыхание от представившейся возможности. Сдержав волнение, он спокойно сказал:
— Да и я бы мог пойти… Как ты думаешь, Антоний Иванович?
Антоний Иванович усмехнулся:
— Не подходишь ты по некоторым данным.
Кровь бросилась в лицо Алеше.
— Это почему же я не подхожу, Антоний Иванович? Плох, что ли?.. До сих пор не ругали меня…
— Ох ты, Порох Порохович! — сказал мастер. — То и плохо у тебя, что ты, не спросясь броду, суешься в воду. Да сейчас не об этом речь… Из девчат надо кого-нибудь, чтобы не балаболка была, язык за зубами держать умела… Так и велено!
— Из девчат? — озадаченно повторил Алеша.
— Из девчат… Вишь, такая слава про первореченских девчат идет, что и у дяди Коли в них нужда появилась! — усмехнулся Антоний Иванович, косясь на Таню, которая, заслышав, о чем зашел разговор, так и уставилась своими серыми глазами на него. — Иди сюда, дочка! Совет держать будем.
— Про девчат у Таньчи спрашивайте! — остыв, сказал Алеша.
Таня заметила:
— А не мешало бы и тебе их знать, секретарь… У Виталия находилось время беседовать с ними, а ты такой барин, что и взглядом не удостоишь! Алеша хотел что-то сказать, но Таня обратилась к Антонию Ивановичу: — Может быть, я подойду?
— Экие вы жадные! — сказал мастер. — Кабы о вас шел разговор, так я и спрашивать бы не стал, а тут советуюсь. Ты, Танюшка, тут пока нужна: организуй и дальше девчат, а сейчас думай — кого послать?
— Долго и думать не надо! — ответила Таня быстро. — Вы же говорите, что нужна такая, чтобы умела язык за зубами держать, — так это Соня Лескова. Когда с листовками на Вторую Речку ездила, даже мне ни полсловечка не сказала.
— Ручаетесь за нее?
— Правую руку на отсечение дам! — пылко сказала Таня.
— Ну, как не ручаться, — подтвердил Алеша, — вместе росли…
— Так, значит, Соня Лескова? Ну, так и запишем! — Антоний Иванович поднялся с табуретки. — Пусть ко мне зайдет, адресок дам.
3
Не чуя под собой ног, Соня прибежала к старому мастеру. Все в ней трепетало от радостного ожидания. Ведь не зря дядя Коля потребовал прислать ему человека и этим нужным человеком оказалась Соня.
Дав ей прочитать бумажку с адресом, Антоний Иванович тотчас же отобрал ее и спросил:
— Запомнила?
— Запомнила! — ответила Соня.
— А ну, повтори!
Соня повторила.
— Бумажка — дело ненадежное! — сказал Антоний Иванович. — Потеряешь или при обыске найдут, а там пойдут по этой дорожке, беды наделают. Ты, смотри, нашей первореченской чести не роняй, — добавил Антоний Иванович. — Не сама идешь, организация посылает. По тебе дядя Коля судить будет, как у нас с дисциплиной, чему вас Виталий научил!
Сердце Сони колотилось, но она взяла себя в руки, сказав мысленно, что именно сейчас-то она и должна сохранять хладнокровие. Лицо ее стало спокойным, она только опустила глаза да чуть покрепче сжала губы.
Антоний Иванович всмотрелся в ее лицо и тихо спросил:
— Да ты недовольна, что ли, Соня?
Лескова вскинула на мастера взгляд, и тогда он увидел, как сияют ее глаза.
— Ну что вы, Антоний Иванович, как можно! — молвила она.
Мастер положил ей руку на плечо и сказал, извиняясь:
— Не понял я тебя немного, ты на меня не сердись. Наше-то дело от чистого сердца делать надо, с охотой, оттого и спросил… Ну, до свидания! О чем говорил тебе, не забывай!
…Соня постучалась.
— Кто там? — спросили из-за двери.
— Просили вам посылочку передать! — ответила Соня. — Я с Первой Речки.
Дверь открылась, и Соня вошла.
Перед ней оказалась невысокая женщина с седеющими волосами, в темном платье и оренбургской шали, накинутой на плечи. Она внимательно посмотрела на Соню.
— Меня зовут тетей Надей! — сказала она Соне негромко.
— Кланялся вам брат, спрашивал, пригодится ли посылка, — отозвалась девушка условной фразой.
Тетя Надя уже не условно сказала Соне, чуть усмехнувшись:
— Не знаю, посмотреть надо! — И добавила: — Проходи садись. Как звать-то тебя? Антоний Иванович давно ли тебя знает?
Она прошла в комнату и указала Соне на кресло возле стола. Соня огляделась. Напрасно взгляд ее блуждал по обстановке, ища следов чего-то необыкновенного, примечательного, что говорило бы ей о том, что она находится в конспиративной квартире. Комната была обставлена, как комната любой квартиры семьи среднего достатка. Из-за стеклянных дверок буфета выглядывала столовая посуда и чайный сервиз. Круглый стол, стоявший посреди комнаты, был покрыт камчатной скатертью; два кресла и диван с широкими, покойными подушками указывали на то, что комната была и гостиной и столовой. На стенах висели кружевные вышивки; небольшая картина, изображавшая морской берег, занимала простенок. Тюлевые занавески на окнах придавали солнечному свету ту мягкость, которая сообщает комнатам уют и обжитость, милую сердцу.
Ничто не наводило здесь на мысль о подполье и о том, что тетя Надя имеет отношение к нему. На секунду промелькнула у Сони мысль, что она по ошибке попала не туда, куда следовало, что ответы на вопросы, только что прозвучавшие в коридоре, — случайное совпадение.
Тетя Надя очень ловко, хозяйственно и красиво на крыла на стол, поставила чайный прибор на двоих и сказала, усмехнувшись:
— Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Ну, соль мы не станем есть, а чайку выпьем, познакомимся как следует, узнаем друг друга. Не стесняйся, Соня, будь как дома!.. Или я тебе не понравилась? улыбнулась она мимолетной улыбкой, сразу сделавшей моложе ее усталое лицо…
Она дружески потчевала Соню, участливо расспрашивала о ее жизни и обо всех тех, с кем до сих пор встречалась Соня. Но девушка так привыкла к своей молчаливой сосредоточенности после смерти брата, единственного ее друга, что и сейчас была немногословна.
О будущем деле, ради которого Соня была вызвана сюда, тетя Надя не обмолвилась ни словом, и Соня сообразила, что тетя Надя, расспрашивая, сейчас оценивает ее: что за человек?
Вдруг Перовская прислушалась и тотчас вышла в соседнюю комнату. Оттуда донесся мужской голос: «Задержался я малость, извини!» Потом тетя Надя и пришедший заговорили вполголоса.
— Проходи, проходи! Тебя ждут! — сказала хозяйка громко и приподняла портьеру.
В комнату вошел среднего роста, плотный, может быть, даже несколько грузный человек лет тридцати пяти-шести. Соне бросился в глаза его быстрый, живой, мгновенно охватывающий человека взгляд. Одет мужчина был в ватную кацавейку, туго перетянутую ремнем, как это делают рабочие, в черные брюки и простые юфтевые сапоги; однако чувствовалось, что любой костюм был бы ему к лицу, так свободно и просто он держался.
— Лескова? — спросил он девушку и обдал ее своим внимательным взглядом.
— Лескова.
— Ну, здравствуй! Я Михайлов. Садись, садись… Нам поговорить надо. О тебе товарищи хорошо отзываются. Говорят, ты смелая, самостоятельная девушка. Говорят, что ты ничего не боишься… Правда это? — он улыбнулся.
— Не мне о себе говорить! — смущенно ответила Соня, чувствуя, что от неожиданной похвалы у нее начинают рдеть уши.
Хотя прошло и достаточно времени со дня ее поездки на Вторую Речку, она отлично помнила, каким опрометчивым был тогда ее поступок.
— Смелые люди нам дороги! — сказал Михайлов. — Но еще лучше, когда смелость сочетается с трезвым расчетом. Нужно нам в одно место человека поставить, человека верного, честного, не робкого десятка. Думаем тебя послать, Соня.
Девушка порывисто поднялась.
— Товарищ Михайлов, я все готова сделать… Ничего не побоюсь!
— Сядь, Соня! — мягко сказал Михайлов, который, взглянув в лицо взволнованной девушки, понял, какие чувства бушуют сейчас в ее душе. — Сядь, сядь! — Михайлов положил руку на плечо девушки и задушевно заговорил: — На большое ты готова, Соня, это я вижу… А на малое ты готова? На то, чтобы быть среди белых целыми днями, слушать, как они поносят нас и клевещут на нас, быть послушной им, приказания их выполнять?.. Это — черная работа, Соня!
4
И Соня очутилась в губернском особняке, где заседало несосовское «народное собрание». Она надела форму посыльной и получила возможность целыми днями находиться в зале заседаний. Это она делала с охотой, немало удивившей прочих посыльных, которые рады были любому поводу, чтобы скрыться от глаз старшины. Находясь же в зале, они едва справлялись с надоедливой дремотой, которую нагоняла на них меркуловская «говорильня».
— Охота тебе слушать этих трепачей! — как-то сказал ей один из посыльных. — Кабы дело говорили, а то так… Что им японцы подсунут, то они проголосуют! — добавил он с пренебрежением и сплюнул. — Ох, погнал бы я их отсюда поганой метлой!
Соня внимательно поглядела на него. Парень, у которого были насмешливые глаза, а форменная фуражка едва держалась на затылке, ответил ей дерзким взглядом.
— Чего смотришь? Своих не узнала, что ли?.. Мне эта работа, знаешь, одно — тьфу! Нынче устроиться некуда, вон на улице сколько безработных шатается, а то бы я давно уже ушел да напоследок им бы напакостил!
Соня решила, что парень стоит того, чтобы о нем сообщить тете Наде…
А в зале говорили. Послушать эти речи — это значило узнать то, чего не было в газетных отчетах и о чем иногда проговаривались депутаты, делавшие вид, что они заняты государственными заботами, что у каждого из них есть собственное мнение по каждому из вопросов, возникавших в собрании. Стоило послушать, как жаркие прения, делившие иной раз зал заседаний на два лагеря, кончались дружным голосованием за решения, позорные для всех депутатов этого кукольного парламента. Омерзение овладевало Соней, но она была молчалива, вежлива и исполнительна.
Скоро старшина собрания стал охотнее давать поручения Соне, чем другим посыльным. Если бы знал он, что все документы, посылаемые с Соней, доходили по назначению, лишь побывав в одном маленьком домике на улице Петра Великого! Если бы знал он, что, кроме тех бумаг, которые он вручал Соне, девушка уносила с собой и копии всех восковок и копировальную бумагу, использованную машинистками. Ежедневно, уходя из особняка, Соня брала в кубовой у уборщицы все, что та приносила из машинописного бюро; одна из машинисток (Соня не знала ее в лицо) печатала наиболее важные бумаги, используя лист копирки только один раз. Глядя на просвет, по такой копирке можно было прочесть содержание документа.
5
Как-то Соню поманили в «ложу прессы», как громко именовался небольшой закуток на хорах зала заседаний, где гнездились репортеры газет. Журналист из вечерней газеты Марков, высокий, весь заросший волосами, которые гривой висели над воротником и прядями спускались на глаза, отчего он, точно застоявшийся конь, то и дело встряхивал головой, — этот Марков часто посылал с Соней кое-какие заметки в свою редакцию прямо из зала. И на этот раз он, чуть не вывалившись из ложи, долго искал глазами Соню, пока не нашел. Соня подошла к ложе. Газетчики толпились в коридоре, курили, сплетничали… Марков сказал:
— Слышь, дочка, ты мне бумаги не раздобудешь ли, а то я с собой не захватил. Живенько, а то скоро начнется!
— Вы что, намерены опять целый день здесь просидеть? — спросил унылый, с бледным, желтоватым, точно измятым лицом репортер из «Голоса Приморья». Все равно ничего не высидите, Марков!
— Это вы, Торчинский, ничего не высидите, а у меня, будьте покойны, что-нибудь навернется. Вам надо великие дела этого почтенного собрания расписывать — положение поистине затруднительное, потому что великих дел и сегодня не предвидится, как не было их вчера и не будет завтра! А у меня живые зарисовки нравов, сцены парламентской жизни — так сказать, бальзаковское выворачивание человеческой сути. Тут нужно живое перо и острый взгляд, нужен факт как фундамент зарисовки.
Торчинский тотчас же расшифровал витиеватую фразу Маркова. Он переложил изжеванную папиросу из одного уголка рта в другой и желчно заметил:
— Скандалы вам нужны, господин Марков… фундаментальный мордобой…
В беседу вмешался еще один, востроносый газетчик; явно пародируя чей-то слог, он произнес:
— Депутат Оленин, один из владивостокских Демосфенов, чья живость нрава равна только его же страстности, в пылу дебатов перестает владеть собой. С пылающим лицом он от слов переходит к делу. Его холеные руки вздымаются над головой депутата Иванова… Немая сцена. Вдали слышен прерывистый свисток полицейского надзирателя…
— А что? Недурно! — сказал Марков, щурясь на репортеров. — Вы знаете, как раскупают газету после очередной потасовки, если хлестко ее подать.
Прозвенел звонок, возвещая начало заседания. Марков спохватился и глянул на Соню:
— Живо, красавица, за бумагой! Айн, цвай, драй!.. Не опоздай, уже начинают!
Торчинский, идя в ложу, демонстративно зевнул.
— Не хнычьте, Торчинский, сегодня здесь будет весело, — пробубнил многообещающе Марков.
— А вы-то откуда знаете?.. Сегодня даже Паркера здесь нет, а у него нюх на новости…
Марков тряхнул своей гривой и хитро подмигнул.
— Сон вещий видел… Очень может быть, что Спиридон сегодня полетит вверх тормашками!
Газетчики насторожились и кинулись вслед за Марковым, заинтригованные его словами, но Марков театрально захлопнул свой губастый рот, заткнул уши и закрыл глаза.
— Ничего не вижу! Ничего не слышу! Ничего не знаю!
6
Депутаты заняли свои места. Они обмахивались сложенными газетами, блокнотами, шушукались, шептались. Какие-то новости ходили по залу. То в одном, то в другом ряду депутаты поворачивались друг к другу, скрипя сиденьями, передавали какие-то записки. В этот день председатель совета министров открыл заседание докладом о внешней политике. Однако зал не слушал доклада. Мимо ушей депутатов скользили надоевшие, привычные, примелькавшиеся, знакомые слова: «Одним из краеугольных камней, составляющих незыблемый оплот нашей внешней политики, является неуклонное стремление приморского правительства поддерживать неизменную, традиционную дружбу и согласие с той державой, которая великодушно и бескорыстно предоставляет нам широкую помощь в нашей великой борьбе против Совдепии…»
Соня, принеся бумагу, осталась в ложе репортеров. Марков оглянулся на нее:
— Что ты, красная девица, забрела сюда? Хочешь послушать? Уши завянут.
Председатель перешел к характеристике внутренней политики. С трибуны послышалось:
— В борьбе с коммунистами мы не остановимся ни перед чем!
— Дай бог нашему теляти волка поймати! — вполголоса прокомментировал Марков.
Между тем председатель заговорил о перспективах финансово-экономических. Внимание Маркова привлекла заключительная фраза, которую он тоже снабдил примечанием вполголоса.
— Жизнь сама подскажет, что делать, господа депутаты, — сказал председатель.
— Авось кривая вывезет! — заметил Марков.
Торчинский беспокойно пошевелился и буркнул Маркову:
— Господин Марков, скандалы гораздо приятнее видеть, чем быть в них замешанным! Помолчали бы вы!
Марков ядовито посмотрел на него и ответил:
— Волков бояться — в лес не ходить! Само присутствие наше тут — уже скандал!
На него зашикали. Снизу стали посматривать на ложу печати.
Председатель уже говорил о готовящейся конференции в Чаньчуне, он упомянул о ДВР, о Советской России. Депутат Оленин, маленький, щуплый человечек с пухом в волосах, «карманный Пуришкевич», «Демосфен из меблирашек», как называли его депутаты, дремавший в своем кресле, стряхнул с себя сонную одурь и тонким, голосом закричал, сделав жест:
— Мы не признаем державой ни ДВР, ни Совдепию!.. Наши границы — до Балтийского моря!
Марков опять не удержался, добавив:
— Лягушка на лугу, увидевши вола… Эх, трепачи, трепачи!
Газетчик, похожий на лису, оглянулся на Маркова и сказал ему:
— Иногда я думаю, Сильвестр Тимофеич, что вы большевик! Ей-богу!
Марков только фыркнул на лисью мордочку:
— Рылом не вышел, а потому независимый представитель печати, единственный в этом зале человек, имеющий собственное мнение… А впрочем, такой же христопродавец, как и вы! Меня кутузкой не испугаешь — сиживал неоднократно, государь мой, по неукротимости нрава моего и из-за нелицеприятности суждений…
Только сейчас Соня заметила, что Марков, видимо, крепко хватил в буфете.
Лисья мордочка сказал торопливо:
— Господин Марков, я пошутил… А вы совершенно нетерпимы к мнениям товарищей!
Марков повел на него красным глазом и отвернулся, явственно пробурчав:
— Гусь свинье не товарищ! — Потом неожиданно повернулся к лисьей мордочке и, протянув свою большую грязноватую руку, почти приказал: Дайте-ка мне трешку!
Лисья мордочка послушно вынул из кармана три рубля, а когда Марков отвернулся в сторону, сделал брезгливую мину и возмущенно пожал плечами по адресу «независимого представителя печати», о котором ходили слухи, что он дает материалы в «Блоху», а попасть туда — значило стать предметом какой-нибудь грязной сплетни…
«Господи, ну что за люди!» — подумала Соня, глядя на эту ложу печати и на весь зал.
Между офицерскими и грузчицкими артелями чуть не ежедневно в порту происходили столкновения. Замалчивать это не удавалось, и не раз в Народном собрании делались запросы по поводу таких столкновений, превращавших пристани в поле сражений.
И в этот день депутат Кроль сделал запрос: почему на днях допущено такое столкновение, почему правительство разрешает безработным офицерам носить оружие, к которому они прибегают без стеснения при столкновениях с рабочими?
В зале на минуту воцарилась тишина. Ответа на запрос Кроля не последовало. Кто-то из зала крикнул:
— Правительство само спровоцировало это столкновение.
Соня обернулась на голос и подумала: «Ага! Есть и в этом зале люди, которым все ясно!» Но она не могла рассмотреть, кто крикнул. Председатель резко позвонил в колокольчик, требуя тишины. От имени правительства какой-то невидный, белесый господин объявил, что разъяснения по запросу Кроля правительство даст в следующий раз. Кроль сел.
На трибуну взошел депутат Синкевич, нервно ероша волосы маленькой белой рукой.
Марков так и воззрился на Синкевича; потряхивая гривой, он демонстративно сделал жест, как бы засучивая рукава. По его неожиданно оживившемуся лицу Соня поняла, что «психологический сюрприз», который так любил Марков, готов разразиться.
Синкевичу было поручено выяснить вопрос: как получилось, что собственность государства — шестьдесят тысяч пудов ангорской шерсти, хранившейся в портовых складах, были проданы и вывезены за границу? Министр торговли и промышленности Зайцев продал шерсть по восьми рублей золотом за пуд (на рынке же шерсть продавалась по пятьдесят — шестьдесят рублей). Зайцев продал шерсть какому-то «торговцу», который перепродал ее японским коммерсантам по двадцати рублей за пуд и исчез. Это был крупный скандал: спекуляция, в которой был замешан член правительства, была такой наглой, что замолчать ее было невозможно. Давно уже шли разговоры о ней. И вот теперь правительство должно было дать ответ на запрос. Зал загудел. Из буфета вприпрыжку бежали в зал депутаты, чтобы не пропустить зрелища. Они лезли по ногам вдоль кресел, пробираясь на свои места.
Синкевич, глядя на депутатов, хлопнул по бумагам, которые держал в руке, выкрикнул:
— Могу сказать, что эта спекуляция принесла дельцам, по самому скромному подсчету, полмиллиона рублей золотом чистого барыша.
В зале раздался гул, скорее завистливый, чем негодующий.
— Вот это чистая работа! — в восхищении гаркнул Марков, лицо которого сияло.
Синкевич опять выкрикнул, стараясь перекричать собрание:
— Правительство приняло меры, господа депутаты!
— Не может быть! — перекрывая шум, опять, в радостном ажиотаже стуча кулаками, воскликнул Марков.
Председатель покосился на него и во время случайной паузы громко сказал приставу, который подскочил к нему в ответ на знак рукой:
— Скажите тому господину в ложе, чтобы он не лез не в свое дело!
Пристав поклонился и пошел к выходу. Но все проходы в зале были забиты депутатами, которые повскакали с мест. Синкевич возгласил:
— Правительство вынесло решение об аресте министра Зайцева и ставит вопрос о лишении его неприкосновенности, господа депутаты.
Новость эта вызвала самые противоречивые отклики в зале. Далеко не всех находившихся здесь обрадовала необыкновенная решимость правительства. Возгласы одобрения и возражения опять смешались в неразборчивый гул. И опять этот гул перекрыл Марков:
— Вы скажите им: где теперь Зайцев?
Председатель посмотрел гневно по направлению ложи печати. Пристав стал расталкивать толпу в проходе. Но тотчас же Маркова поддержал целый хор голосов из зала:
— Где Зайцев?
— Да, да! Скажите, где Зайцев?
Синкевич поднял руку. Тотчас же в зале умолк шум. Депутаты раскрыли рты и затаили дыхание. Синкевич вяло сказал:
— Зайцев, господа, вчера вечерним поездом выехал в Харбин.
Зал онемел. В наступившей тишине было слышно, как Марков с ироническим вздохом сказал:
— Придется лишить министра Зайцева депутатской неприкосновенности.
Раздался громкий хохот. Члены кабинета сидели потные, красные, отвернувшись друг от друга и стараясь не встречаться взглядами с сидевшими в креслах депутатами. Спустить скандальное разоблачение «на тормозах» не удалось… Кроль, вскочив на кресло, крикнул:
— А где покупатель?
Тотчас же откуда-то из угла раздался выкрик:
— А вы далеко не ищите, наведайтесь в апартаменты Меркулова!
Синкевич, точно решившись на что-то, громко и явственно сказал:
— Должен сказать, господа, что следы действительно ведут в «Версаль».
Шум в зале достиг своего апогея. «Демосфен из меблирашек», Оленин, потянулся к Синкевичу, перелезая прямо через кресла и брызжа слюной.
— Как вы смеете порочить верховного правителя?
— Какой порок в том, чтобы назвать мошенника мошенником? — бросил Кроль. — Гнать надо в шею таких правителей!
Он соскочил как раз вовремя, чтобы встретить Оленина, который, растопырив пальцы, бросился к нему и вцепился в волосы…
Марков, вдохновенно взмахивая своей гривой и то и дело приникая к коленям, строчил лихорадочно, работая всем плечом. Он был в своей стихии.
— Блестящий скандал! — шептал он сам себе. — Ах, какая роскошь! Потрясающее зрелище! Феерический скандал!
Заседание кончилось потасовкой. Когда Соня выбежала в коридор, она услышала, как пристав, прижимая трубку телефона к уху и защищая микрофон другой рукой от шума из зала заседаний, кричал:
— Комендатура! Барышня, дайте коменданта города! Коменданта, да-да!.. Слушайте, это комендант? Театр?! На кой мне черт театр, когда у меня тут свой разыгрывается!.. Комендант! Комендант! Алло! Барышня, умоляю, дайте мне коменданта!
7
Марков сбежал вниз по широкой лестнице и поспешно вышел из здания. У самого подъезда Народного собрания его окликнул Паркер — высокий американец с худощавым румяным лицом спортсмена, корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн». Паркер дружески хлопнул Маркова по широкой спине и осклабился:
— Хелло, старина! Куда вы мчитесь?
Возбужденный потасовкой в меркуловском парламенте, Марков встряхнул своей лохматой головой и расхохотался.
— Надо дать заметки из зала заседаний. Если бы вы видели, что там сегодня творилось! Жаль, что вас не было…
Паркер закурил сигаретку и усмехнулся.
— Меня трудно удивить зрелищами, Марков! Не забывайте, что я был вашингтонским корреспондентом своей газеты, а вашему Народному собранию далеко до Белого дома во всех отношениях… Кроме того, я три года работал в штате Южная Каролина, а там народ горячий. — Он кивнул в сторону Народного собрания. — Ну, прав я оказался? Свалили?
— Под корень! — ответил Марков, поняв, что Паркер имел в виду правительство Меркулова. — Но откуда вы об этом узнали, Паркер?
Американец прищурился, выпустил клуб дыма и выплюнул сигарету.
— Хороший газетчик, дружище, — сказал он, — за полчаса до пожара может сообщить в газету все, что там будет происходить. Связи! Связи, Марков! С дипломатами и шпионами, с сыщиками и бандитами, с сенаторами и ассенизаторами, с проповедниками и шлюхами… Черт знает что иной раз приходится проделать для того, чтобы раскопать новость. Шерлок Холмс мальчишка, сопляк перед средней руки американским газетчиком, а я свое дело знаю!
— Кстати, насчет дипломатов, — сказал Марков. — Что думает об этом скандале Мак-Гаун?
Паркер всем телом повернулся к Маркову.
— Могу доставить вам удовольствие спросить об этом самого Мака, сказал он. — Но начинать надо, Марков, если вы хотите догнать меня в журналистике, не с консула, а с полицейского участка…
— Я не нанимался к вам в ученики, Паркер! — строптиво сказал Марков.
— Ну, не сердитесь, старина! — улыбнулся американец. — Пошли лучше к Маку. Предупреждаю, он не любит журналистов: если он вышвырнет вас из окна, на меня не обижайтесь. Консул Мак-Гаун — это скверные зубы и скверный характер, но у него светлая голова. Он умеет делать все: мыть золото и устраивать восстания, торговать мылом и говорить высокие речи, стрелять без промаха из пистолета любой системы и ломать забастовки, проповедовать слово божие и плевать на мещанскую мораль, когда дело идет о деньгах! — Паркер шагал рядом с Марковым, сбив свою шляпу на затылок. — Начал с торговли спичками на углу Пятой авеню и Гандредстрит, а сейчас, как видите, представляет интересы Соединенных Штатов в России, будьте спокойны, не останется в проигрыше…
Марков только хмыкнул в ответ на эту тираду. Он достаточно много знал о деловых комбинациях должностных лиц из американского консульства и американской военной администрации. Эти «внакладе» не останутся! Они весьма охотно плюют на «мещанскую мораль», как выразился Паркер, когда речь идет об их личных интересах. Они делают политику, но, как стрелка компаса направлена на север, политика эта направлена только на их беспрерывное обогащение; кажется, цель всей их деятельности — это обогащение, идет ли речь об отдельных типах, вроде Мак-Гауна, который охотно отзывается на кличку Босс (Хозяин), или обо всей их заокеанской республике. «А японцы или англичане лучше?» — спросил себя Марков и досадливо сморщился.
Мак-Гаун даже не привстал навстречу журналистам. Он только кивнул головой в ответ на приветствие и кивнул вторично в сторону кресел, что должно было означать приглашение садиться. Удушливый сигарный дым волнами стелился по кабинету консула. У Маркова, страдавшего одышкой, тотчас же захватило дыхание. Консул сидел в неудобной позе в широком кресле, как-то весь сжавшись, смяв пиджак и брюки, некрасиво задравшиеся к самым коленям. Темное лицо его с неправильными желтоватыми зубами было неприветливо и непривлекательно. Даже тщательно зачесанные назад светлые прямые волосы единственное, что было у Мак-Гауна красивым, — не украшали его черствого лица.
— Курите! — показал консул глазами на ящик с сигарами, стоявший на курительном столе.
Паркер взял сигару, сунул ее в машинку, обрезал конец; консул, не меняя позы, кинул ему спички. Паркер подхватил коробку на лету, закурил и вернул спички тем же способом консулу. Мак-Гаун опять застыл в неподвижности. Марков отказался от сигары, его и так мутило от сладковатого дыма. Он обратился к консулу:
— Господин Мак-Гаун! Сегодня в собрании обнаружилась крупная панама. В этой панаме замешаны премьер-министр и его брат. Падение правительства Меркуловых неизбежно. Как вы расцениваете обстановку, складывающуюся в результате этого?
Консул повел на Маркова глазами. Выпустил длинную струю дыма и долго молчал, наблюдая, как она медленно тает в мутном воздухе. Потом он не торопясь сказал:
— Американская политика в русском вопросе — полное невмешательство в русские дела. Мой друг, генерал Гревс, доказал это всей своей деятельностью в дни пребывания американского экспедиционного корпуса в Сибири. Мы всегда были готовы прийти на помощь России, заинтересованные в сохранении мира как факторе, способствующем развитию торговли, — вспомните миссию Стивенса! Мы всегда были объективны и благожелательны по отношению к русским. Это было доказано эвакуацией наших экспедиционных войск в момент, когда нашему правительству стало ясно, что разрушительные силы русской революции обузданы. Мы придерживаемся той точки зрения, что русские могут избирать любое правительство, устраивающее их. Этим наша политика отличается от политики японского правительства. Правительство братьев Меркуловых было, как я уже заявлял, демократическим. Оно представляло деловые круги, умеющие достигнуть взаимопонимания с международными деловыми кругами…
— Афера с ангорской шерстью принесла дельцам барыш в несколько миллионов рублей! — сказал Марков.
— Делец всегда делец! — живо отозвался Мак-Гаун. — Он не перестает быть дельцом, ставши государственным деятелем. Я лично не вижу в этом порока. Практика подсказывает мне, что разумный бизнес только укрепляет репутацию делового человека, ставшего министром. Кроме того, это обеспечивает его на случай отхода от государственной деятельности. Такой государственный человек легко находит общий язык с предпринимателями, промышленниками и финансистами, а они представляют собой незыблемую основу всякого культурного государства, его костяк, — я бы сказал, его мозг, — тогда как финансы являются кровью государственного организма…
Паркер, о чем-то задумавшийся, неожиданно громко сказал:
— Да, япсы подставили нам ножку!
Он употребил презрительную кличку японцев, которой пользовались американцы в разговорах между собой. Мак-Гаун пристально посмотрел на Паркера. Потом перевел взгляд на Маркова.
— Вам угодно, господин Марков, задать мне еще какие-нибудь вопросы?
— Благодарю вас за любезность! — ответил Марков. — Я не смею больше злоупотреблять вашим вниманием и временем.
— Пустяки! — улыбнулся Мак-Гаун. — Мы в Америке привыкли к самому широкому обмену мнениями. Без этого вообще немыслима никакая общественная и политическая жизнь… Рад, если оказался вам полезным, господин Марков! Всегда готов видеть вас.
Паркер, ошеломленный любезностью Мак-Гауна, смотрел на консула с замешательством. Марков откланялся и вышел. Консул повернулся всем телом к Паркеру, убрав улыбку.
— Вы серьезно думаете, что япсы подставили нам ножку? — спросил он и, не давая Паркеру ответить, продолжал: — Тот, кто думает так, допускает мысль, что нам можно, — он подчеркнул это слово, — подставить ножку! Это не американская мысль, Паркер. Это могут воображать японцы, но они не понимают, что с тех пор, как Америка стала тем, что она есть сейчас, весь мир, хочет он того или не хочет, но он пойдет в фарватере нашей политики. И он будет ей подчиняться! Вы меня поняли? И дело не в том, какую очередную марионетку сделают японцы правителем в Приморье, а в том, что сами они, повторяю, хотят или не хотят этого, отражают американскую политику во всех своих действиях. Вспомните, что если бы не расторопность Майера, нашего посла в Петербурге в 1905 году, японцы не видели бы русского Сахалина как своих ушей! А если Япония попытается стать нам поперек дороги, то вся их экономика рассыплется, как карточный домик. Они могут сколько угодно воображать, что они проводят свою политику в России и ведут свою войну против большевиков, но это наша политика и наша война, Паркер! Почему, спрашиваете вы? — Мак-Гаун смотрел на Паркера, не сводя глаз, и тот невольно кивнул головой, как бы говоря, что такой вопрос у него действительно возникает. — Потому что мы — страна конструктивного капитализма, потому что мы не больны болезнями Старого Света. И если Старый Свет, по своей старческой дряхлости, не в силах справиться с большевизмом, то никто как мы преградим ему дорогу, изолируем его в его колыбели и колыбель эту превратим в его могилу. Большевизм должен умереть там, где он родился!.. Мы это сделаем… Микадо лезет в драку, но без нас он нуль!
Мак-Гаун проговорил это с такой силой, что Паркер невольно привстал. Однако консул тотчас же сказал самым обыденным тоном:
— Чего вы вскочили? Садитесь, Паркер! — Он открыл ящик стола и спросил, вытаскивая бокалы: — Виски? Коньяк? Я предпочитаю виски.
Паркер молча выплеснул содержимое бокала в рот. Замолк и Мак-Гаун. Он курил, пил виски маленькими глоточками, наслаждаясь ощущением жжения во рту, и все глубже погружался в свое кресло. После долгой паузы он сказал:
— Не люблю видеть американцев в дураках, Паркер. А вы выставили в дураках перед этим писакой всю Америку!.. Да что вы молчите, как будто в рот воды набрали?
— Вы меня совершенно поразили, Мак, — сказал журналист, — своим терпением и любезностью с Марковым! Я не могу прийти в себя…
— Когда говоришь от имени дяди Сэма, это не одно и то же, что разговаривать с вами! — ответил Мак-Гаун из глубины кресел. — Мы будем любезны со Старым Светом столько, сколько нужно для этого, чтобы нас слушали и к нам привыкли. Потом вся эта ветошь — дипломатия, иносказания, тошнотворная любезность, ненужные экивоки, разговор о высоких материях — все будет отброшено. Мы будем диктовать — они будут делать то, что им прикажут. Нынешний мир очень сложен. Его нужно упростить… К чему, например, всевозможные границы, таможенные преференции или ограничения?
— Но это есть способы сохранения суверенитета государства, способы защиты национальных экономик от разгрома их более сильной в экономическом отношении страной, Мак! — сказал Паркер, заинтересованно глядя на консула.
— Как вы старомодны, Паркер! — сказал с гримасой Мак-Гаун. — Развитие капитализма уже давно поставило в порядок дня вопрос о том, что рамки национальных государств слишком узки… Капитализм перерос давно рамки государства вообще. Это — явление мирового порядка, и оно требует своего выражения в новых формах организации общества… На наших глазах происходит слияние интересов и капиталов различных стран, самым мощным из которых является капитал американский, естественно подчиняющий себе все остальные. Большевики правы, Паркер, в том, что прежний порядок в этом мире устарел. Но новый порядок установим мы, а не они! И это будет небывалый порядок, невиданный порядок — мировое государство, управляемое Советом Олигархов, без посредников в виде политиканов, которые давно уже подорвали идею демократии своим неумением связать концы с концами… Пора перестать обманывать народы разговорами о демократии — власть должна принадлежать миллиардерам, открыто и безоговорочно. К черту всех адвокатов и проповедников! Президентом должен быть миллиардер — фактический владыка всех на свете ценностей. К этому подводит нас логика вещей!
— Это чудовищно! — сказал Паркер. — А как же быть с идеалами демократии, как быть с американскими свободами, как быть с идеями Вашингтона и Линкольна?
— Вы рассуждаете, как приготовишка, Паркер! — проронил Мак-Гаун, вдруг со странной гримасой зажмурив глаза.
«Да он, кажется, пьян!» — мелькнула у Паркера мысль. Однако Мак тотчас же овладел собой и сказал:
— Вы не можете отрицать общественного характера производства при капитализме, а это таит в себе тенденцию к обобществлению его в мировом масштабе. При чем же тут идеи Вашингтона и Линкольна? Каждая эпоха руководится своими идеями. Наша эпоха должна руководиться идеями Моргана и Рокфеллера… — Он перевел дыхание. — Наши великие президенты боролись за разумный порядок в Штатах, а теперь настало время установить разумный порядок во всем мире. А кто может это сделать? Те люди, в руках которых находится производство, финансы, вся экономика. Разве люди, которые, начав с торговли спичками или газетами, как Рокфеллер, или с починки старых велосипедов, как мистер Форд, затем сосредоточили в своих руках миллиарды долларов, вдохнули жизнь в сотни тысяч предприятий и дают возможность заработка, а стало быть и жизнь, сотням миллионов людей, — разве они не являются спасением человечества от анархии, разрухи, гибели? Современное общество объединяется вокруг производства, оно организуется производством, все члены его прямо или косвенно зависят от производства. В самом деле, рабочий и художник, инженер и врач существуют, пока есть производство, друг для друга; уничтожьте производство — и между ними исчезнет разница. Все они превратятся в пещерных жителей, способных только на то, чтобы, ковыряя палкой землю, собрать скудный урожай, лишь бы прокормиться самим, — тут уже будет не до науки и искусств, а?.. Классовая борьба — выдумка большевиков. Если человек сыт, над головой у него крыша и у него есть где встретиться с приятелями, потанцевать и спеть хорошую песню, на что ему классовая борьба, а, Паркер? Классовый мир — вот наша программа. Посмотрите на предприятия мистера Форда — вот образец устройства мира: никаких стачек, никакой большевистской пропаганды. Каждый рабочий участвует в прибылях, если он заслуживает этого, может иметь и дом, и семью, и твердый заработок — если не вздумает дурить, — на всю жизнь… Систему мистера Форда надо распространить как пример организации производства, при которой нет классовых противоречий…
«При помощи полицейских клобов, пожарных брандспойтов, бомб со слезоточивым газом, тайных расправ на дорогах и в квартирах с коммунистами, потогонной системы, при которой человек в тридцать пять лет становится стариком, при помощи черных списков, куда попадает рабочий, если выскажет мысли, которых не одобряет мистер Форд», — невольно дополнил Паркер то, что высказал Мак-Гаун. Уж кто-кто, а он знал, каковы эти драконовские законы в «государстве Форда». Но Паркер ничего не сказал вслух, — есть вещи, которых не следует делать…
Паркер смотрел на консула с некоторым испугом. Впервые он слышал подобные рассуждения от Мака, который охотнее рассказывал журналисту случаи из своей уголовной практики, чем вдавался в высокую политику. За этим разговором стояло что-то такое, что ускользало от корреспондента. Паркер знал Мака другим. Журналиста поразила грубая сила рассуждений Мака… Бывший полицейский, ставший дипломатом и делавший свой первый миллион, кажется, собирался всерьез подмять под себя мир. Не сам он придумал это, — у него не хватило бы фантазии. Паркер был в этом убежден, — Мак был лишь отголоском того, что созревало в тишине банковских контор Уолл-стрита… черт возьми! Это было достаточно дико, чтобы найти сторонников, — Паркер хорошо знал своих соотечественников!.. Если Мак заговаривал об этом, значит, кто-то уже выдвинул эту идею…
Мак-Гаун уставился в одну точку не совсем осмысленным взором. Потом, сбросив пепел сигары на ковер, он проговорил:
— Но это не сразу… Пока же мы любезнее любезных, вежливее вежливых и тоньше самых утонченных… Можно поучиться этому, Паркер, у старика Гревса. Будьте спокойны, он умел делать все по-настоящему, не стесняясь, а уехал отсюда с лицом праведника, из-за которого господь не дал погибнуть миру, с чистыми руками и невинными, как у новорожденного младенца, глазами… Это надо уметь делать! Мы насолили русским не меньше, чем япсы, но если генерал Гревс напишет мемуары о своем пребывании в Сибири, — а он это сделает, боссы заставят его сделать это, — то наши ребята будут выглядеть в этих мемуарах, как ученики воскресной школы на прогулке, а японцы — как стадо хищных зверей. Это называется, Паркер, делать историю.
Мак-Гаун посмотрел на часы.
— Убирайтесь, Паркер! У меня дела.
После ухода журналиста консул вызвал секретаря:
— Скажите Молодчику, чтобы завтра утром был у меня.
— Сказать Клангу, чтобы он был завтра утром у вас! — повторил секретарь. — Простите, мистер Мак-Гаун, Молодчику.
— Клички даются агентам для того, чтобы ими пользоваться! — оборвал секретаря консул. — Грош цена тому агенту, которого все знают. Чему вас только учили, Джек!
— Да, мистер Мак-Гаун! — сказал секретарь, придавая своему голосу оттенок извинения за промах и даже слегка опуская голову: всем видом своим он выражал сознание вины.
Консул исподлобья посмотрел на секретаря.
— Будет вам изображать Марию Магдалину, Джек! Я еще сумею сам вымыть себе ноги… Когда придет рыжий…
— Рыжий? — поднял секретарь глаза.
— Рыжий! — сварливо сказал Мак-Гаун. — Вы должны понимать, о ком говорит ваш хозяин, как бы он ни называл нужное лицо. Я говорю о Молодчике. Так вот, когда он придет, дайте ему понять, что я доволен им. Не говорите, что я доволен, — нечего баловать его! — но дайте понять это.
Консул не обратил внимания на быстрое «Да, мистер Мак-Гаун!», произнесенное секретарем; какие-то мысли занимали его, заставляя хмурить брови и покусывать нижнюю губу.
— Дадите мне из досье папки, относящиеся к Камчатке и Чукотке, Джек. И еще одно: никаких поручений Молодчику! Я буду заниматься им сам. Кроме того, надо будет этого парня легализовать как зверопромышленника или… как они там называются, эти господа, что торгуют мехами — соболями, морскими котиками и так далее?
— Проспектора, мистер Мак-Гаун.
— Предпринимателя, Джек! На русском языке нет слова «проспектор»… Надо бы знать.
8
Вечером Соня отнесла на улицу Петра Великого подробный протокол заседания, с записью всех деталей, которые не могли увидеть света в газетах.
Наутро подпольная газета большевиков «Красное знамя» вышла, опубликовав все скандальные подробности последней плутни Спиридона Меркулова, последней потому, что ночью его кабинет сложил с себя полномочия…
«Интервенты нервничают, — писала газета, — они свалили правительство спекулянта Меркулова, чтобы расчистить дорогу генеральской диктатуре. Будьте бдительны, товарищи!»
Дальнейшие события показали, как права была большевистская газета в своей оценке этого происшествия и как своевременно раскрыла она хитроумный план японского командования.
Мимо скандала, вызванного аферой Меркулова, уже не могли пройти и белые газеты. А что провал правительства Меркулова был подготовлен японцами, это вскоре выдала «Владиво-Ниппо».
«Перед лицом великих событий должны стоять великие люди, — писала она несколько дней спустя, — но их нет в приморском правительстве. Заседание, на котором разразился этот прискорбный инцидент, показало, что правительство господина Меркулова, весьма уважаемого коммерсанта, не пользуется ни симпатиями, ни поддержкой не только населения, но и парламента. Деловые качества господина Меркулова несравненно выше его государственных достоинств».
«Спиридон 1-й» охотно выпустил из рук бразды правления. А «деловым его качествам» уже не было применения в Приморье.
Глава 12 Рождение диктатора
1
Генерал Дитерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют преклонным, в революцию потерял все: поместье в Лифляндии, надежды и состояние. Точно сушняк перекати-поле, несло его с отступающими белыми все дальше и дальше от Петербурга, с которым у Дитерихса было связано все прошлое, и донесло до Харбина — полурусского-полукитайского города, в котором находили себе приют все враги советской власти.
Он не доверял генералам, с которыми сталкивался, считая их маловерами, неспособными и глупцами. Лишь о Пепеляеве, еще в Харбине создавшем «теорию» «мужицкой республики без коммунистов», представлявшей черносотенно-мистическую помесь аракчеевских военных поселений и русского общинного строя, Дитерихс отзывался с похвалой. И так как в своих планах возвращения утраченного никому из генералов, по их непригодности, он не уделял сколько-нибудь видной роли или места, Дитерихс оставлял эту роль за собой.
Над ним смеялись. Ироническая кличка «спаситель» прочно укрепилась за ним. Однако, по странному образу мыслей, свойственному скорее душевнобольным, Дитерихс не только не обижался на эту кличку, но, наоборот, слыша ее, укреплялся в своем мнении о высокой миссии, уготованной ему. Еще до того, как Меркулов ушел в политическое небытие, Дитерихса называли сумасшедшим. Он обличал пороки офицерства — это было смешно. Он кричал о необходимости уничтожить тех, кто потерял веру в реставрацию монархии, — это было по крайней мере бестактно. Он преклонялся перед Японией — об этом следовало помалкивать. Он жил демонстративно «по-спартански» — это было глупо.
И вот политическая фортуна, по мановению волшебного жезла из дома № 33 по Пушкинской улице (резиденции японского командования), всерьез повернулась лицом к выжившему из ума старому Дитерихсу.
Газета «Владиво-Ниппо» поместила статью о «спасителе». Лестно аттестующая генерала, статья выражала недоумение: почему Дитерихс стоит в стороне от политической жизни?
Вслед за тем «Русское слово» и «Голос Приморья» обнаружили в замшелом генерале многие достоинства. В последующие дни и недели Дитерихс предстал перед читателями этих газет, как некий феникс, рожденный из пепла газетной шумихи, предстал бравым, боевым полководцем, способным на великие дела, мудрым прозорливым политиком, полным сил и воли.
Печать недоумевала: как могло случиться, что такой человек оказался вне правительства? Газеты вкладывали в его сморщенные руки меч архистратига, облик его преображался, превозносилась скромность генерала, которая до сих пор якобы мешала ему занять ведущее место в правительстве.
Вокруг Дитерихса «запахло жареным», как выразилась газета «Блоха». Всем было понятно, что подобное чудесное превращение полусумасшедшего старика в героя не случайно, что на старого коня поставлена крупная ставка.
И Дитерихс закружился в политической карусели. К нему приходили советоваться. Его интервьюировали. На страницах газет все чаще стали мелькать портреты генерала. Скоро его согбенная фигура в потертой николаевской шинели (солдатская суровость!), худое лицо, изрезанное глубокими морщинами (умудренность жизненным опытом), полуугасший взгляд из-под насупленных седых бровей и белая эспаньолка стали известны всем.
Когда Меркулов и его кабинет ушли в отставку, генерал Дитерихс уже был готов исполнить свою «великую миссию».
Генерал занял губернаторский особняк на Светланской. Народному собранию пришлось потесниться. Новый премьер-министр взял себе портфели — министра иностранных дел, военного и морского министра, финансов и внутренних дел. «Владиво-Ниппо» восхитилась его энергией. «Русское слово» заговорило о правительстве сильной руки. «Голос Приморья» глухо намекнул на необходимость диктатуры. «Блоха» изобразила генерала, изнемогающего под бременем портфелей, невдалеке от приближающегося к нему народоармейца, а вдали улепетывал с чемоданом золота Меркулов, который, радостно осклабившись, восклицал: «Свой груз не тянет! А старичка за чужое пришибут!»
Первым государственным актом Дитерихса было запрещение «Блохи». Правда, через неделю в продаже появилась новая газетка — «Клоп» — с эпиграфом: «Выползает в тихую погоду». Но это насекомое отличалось большой умеренностью политических взглядов и не проявляло резвости, свойственной характеру его предшественницы.
Дитерихс оказался окруженным бесчисленными военными — инструкторами, консультантами, поставщиками, офицерами генерального штаба царской армии, кадровыми и новоиспеченными генералами, жаждавшими от него политических откровений и благ земных.
Однако в течение некоторого времени Дитерихс хранил молчание. Необычность этого заставила даже продувных газетчиков ломать голову, что предпримет новый глава правительства?
Генерал ежедневно устраивал смотры войск.
Семенящей походкой он обходил шеренги солдат.
— Здорово, орлы! — кричал он фальцетом, вытягивая морщинистую шею и заложив руки за спину…
2
Однажды порученец доложил генералу о прибытии японского офицера.
— Просите! — сказал Дитерихс и нервно кашлянул.
Японец вошел, козырнул.
— Чем могу? — склонился к нему диктатор.
— Я имею честь прибыть от командующего императорским экспедиционным корпусом генерала Тачибана.
Дитерихс привстал.
— По этикету главу нового правительства надлежит приветствовать генералу! — продолжал японец. — Но генерал по состоянию здоровья лишен возможности сделать это. Он просит вас, господин президент, посетить его в ближайшее время.
— Я готов! — ответил генерал и оживленно потер руки. — Как чувствует себя его превосходительство?
— Очень, очень плохо! — с сокрушенным видом сказал офицер, вытянув трубочкой губы, закрыв глаза и подняв брови. — Совсем не ходит.
— Прошу передать его превосходительству мои глубочайшие соболезнования! — поклонился Дитерихс.
Генерал Тачибана принял Дитерихса в своем огромном кабинете в доме на Пушкинской улице. Когда вошел Дитерихс, он стоял спиной к дверям и глядел в угловое окно, из которого открывался великолепный вид на порт и залив.
Дитерихс, помня о болезни командующего, решил, что стоящий у окна офицер дожидается, чтобы отвести его в покои больного генерала. Он нервно кашлянул и с неожиданной солидностью проговорил:
— Э-э! Послушайте…
Тачибана обернулся. Несмотря на то, что он стоял против света, Дитерихс вмиг узнал его. Он смущенно посмотрел на японца, не понимая, отчего тот на ногах, если он не может ходить, как говорил посланец.
Командующий экспедиционным корпусом легкими шагами приблизился к генералу.
— Очень, очень рад видеть вас, генерал!
— И я тоже, господин генерал!
Оба щуплые, сухощавые, генералы походили друг на друга и в этом огромном кабинете, уставленном тяжелой, массивной резной мебелью, странно напоминали ребят, играющих во взрослых.
Генералы сели. Тачибана неприкрыто рассматривал Дитерихса. Тот сказал, пытаясь не выказать смущения от этого разглядывания:
— Мне передали, что вы больны, ваше превосходительство.
— Да, да, — сказал Тачибана. — Очень, очень болен.
Он распорядился принести кофе, давая понять генералу Дитерихсу, что встреча носит совершенно неофициальный характер и будет, очевидно, достаточно откровенной. Именно поэтому Тачибана сказался больным.
Дитерихс не ошибся.
Вначале Тачибана вел светский разговор, не обязывающий ни к чему, — о климате Приморья, о том, как хорош Владивосток в августе. Замечания его о климате были не лишены приятности и известной тонкости вкуса. Он говорил о морских купаниях, напоминающих ему родину. Сообщив, что осенний багрянец винограда напоминает ему в соединении с желтизной листвы клена цветы Японии, он что-то проскандировал по-японски. Дитерихс насторожился. Тачибана вежливо перевел:
Красой цветов я любоваться не устал,
И так печально потерять их сразу.
Всегда жалею их,
Но так, как нынче жаль,
Как этой ночью, — не было ни разу!
— Ваше превосходительство занимается поэзией? — спросил Дитерихс, которого уже стала утомлять бессодержательность беседы. Ведь не для разговора о стихах пригласил его к себе командующий оккупационной армией.
Тачибана вежливо сказал:
— Нет, разве немного в молодости… Это великолепные стихи поэта Наривари. Он жил в тринадцатом веке… Приморский август напомнил мне эти стихи.
— Да, сейчас Приморье красиво.
— У нас есть поговорка: кто родится в августе — долго живет.
— Да? — сказал Дитерихс.
— Ваше правительство рождается в августе! — любезно сказал Тачибана.
— Благодарю вас, генерал!
— Конечно, долговечность любого правительства зависит от его платформы и государственной твердости в ее проведении. Опытность вашего превосходительства, военный талант — это порука!
— Благодарю вас, генерал! — порозовел Дитерихс. — Насколько хватит сил моих, я буду работать в соответствии с принципами справедливости.
— О! Я уважаю ваши чувства, господин генерал.
Дитерихс замялся. Японец выручил его:
— Вы можете поделиться со мной вашими планами, генерал! Это не составляет военной тайны правительства вашего превосходительства?
— Нет, конечно… для вашего превосходительства.
Тачибана устроился удобнее в кресле, отставив в сторону кофе.
Дитерихс осторожно начал, следя за выражением лица собеседника:
— Я, видите ли, взял бразды правления в очень трудный для моей родины момент…
— Да.
— То обстоятельство, что большевики контролируют большую часть территории России, меня не смущает…
— Очень хорошо.
— Я не ставлю перед собой узкие задачи сохранения нашего оплота в Приморье. Мои планы шире. Значительно шире!
Японец прикрыл глаза, кивнув головой с видом, обозначающим, что мысли, высказанные генералом, надо обдумать. Дитерихс набрал воздуху. Привычные видения овладели им. Огонек зажегся в его глазах.
— Еще не поздно уничтожить большевизм! — со сдержанной силой сказал Дитерихс.
Командующий приоткрыл глаза:
— Да! Многие разуверились в этом в результате тяжелых поражений, продолжал Дитерихс. — Но я верю в это! Сами подумайте, генерал: отчего большевики смогли укрепиться? Что поддерживало, питало их силу, наливало их соками? Массы. Народ! А знаете, есть у нас пословица: «Сила солому ломит»…
— «Сила солому ломит»… — повторил Тачибана. — Да, хорошая пословица… — Он неприметно вздохнул.
— Сила большевиков — в их социальной опоре. Но вечна ли, крепка ли эта опора? Я думаю — нет! В самом деле, русский жил сотни лет, блюдя принципы православие, народность, самодержавие. Конечно, есть многие смутившиеся душой, прельщенные посулами большевиков… Но я ставлю вопрос так: можно ли лишить большевиков социальной опоры?
Тачибана заинтересованно открыл глаза Увлеченный своей идеей, Дитерихс уже не столько говорил собеседнику, сколько проповедовал свой символ веры. Фанатизм засверкал в его глазах.
— Я отвечаю: можно! И сделаю это! Испокон веков существовала в русском народе община — колыбель народного самосознания славян-россов. К земле прикованы были в течение тысячелетий мысли славян. Земля питала их, земля давала им жизнь. Пусть каждый крестьянин получит надел! Пусть он же и защищает его с оружием в руках. Не армия нужна нам, а земская рать, рать народных бойцов за землю. Защитники земли и работники ее во главе с помазанником божьим, прообразом божьего промысла на земле, — вот та держава, о которой я мыслю! Меня поймут… За мной пойдут! Я выбью из-под ног большевиков землю, и сгинут они в пропасти небытия… И не сидельцем приморским хочу я стать, беря власть, а освободителем России от большевизма, создателем священного русского государства. Приморье, — начало! Москва, священная столица, — моя цель! Земская рать — средство!
Дитерихс задохнулся. Голос его пресекся. Он остановился, непонимающе озираясь вокруг. Он забыл, где находится. Он чувствовал себя в эти мгновенья пророком, открывающим людям глаза для лицезрения великих истин. Но когда он увидел устремленный на него внимательный и настороженный взор японца, возбуждение его внезапно угасло. Он неловко сел в кресло. Генерал Тачибана поднялся.
— Я искренне восхищен, ваше превосходительство, вашей программой. Я понимаю то, что вы сказали. Правда, я не должен вмешиваться во внутренние дела русских. Мы здесь — для сохранения имущества и жизни подданных императора. — Дитерихс закусил губу. Заметив это, японец успокоительно продолжал: — Но я горячо сочувствую вашим мыслям. Они оригинальны…
Генерал помолчал.
— Когда вы думаете начать исполнение вашего великого плана? — спросил он Дитерихса.
Тот в волнении вспыхнул:
— Если я встречу внимание и сочувствие вашего превосходительства, я сейчас же начну подготовку к созданию земской рати.
— Это трудное предприятие, ваше превосходительство!
— Бог поможет мне! — воскликнул Дитерихс. — Кроме того, я хочу обратиться к вашему превосходительству с некоторыми просьбами. Во имя крови, пролитой вашими храбрыми солдатами на нашей земле, прошу выслушать и содействовать мне…
— Я вас слушаю, генерал!
— Экспедиционная армия располагает запасами продовольствия, амуниции, оружия… — сказал Дитерихс.
— Небольшими! — вставил Тачибана.
— Я прошу вас, ваше превосходительство, о помощи великому делу!
Тачибана опять полузакрыл глаза. Нажал кнопку звонка. Показавшемуся в дверях слуге сказал что-то. Тот исчез и, так же неслышно появившись, поставил на стол два бокала и вино во льду.
3
В апартаменты на Светланской Дитерихс вернулся, точно помолодев. Сгорбленная его фигура выпрямилась, он шагнул, твердо ставя каблук, отчего шпоры его захлебывались звоном. Глаза блестели. Щеки покрылись лихорадочным румянцем.
Порученец доложил генералу, что его дожидается какой-то офицер. Дитерихс нахмурился было, но настроение, в котором он пребывал после визита на Пушкинскую, еще будоражило его. Он не мог отказать сейчас никому, ибо ему казалось, что он накануне выполнения своего желания — заветного, тайного, взлелеянного за годы бедствий и унижений. Он величественным жестом протянул руку.
— Простите!
В кабинет вошел офицер. Мягкие кавказские сапоги чулком делали его шаги неслышными. Черная длинная рубаха была стянута щегольским пояском с серебряным набором. На боку висели кривая сабля в изукрашенных ножнах и пистолет, похожий более на игрушку, чем на оружие. Воротник рубахи был застегнут и охватывал плотно тугую шею ротмистра. Розовые, полные его щеки свежевыбриты; кожа еще хранила следы пудры у мочек ушей, под подбородком и возле усиков, подстриженных на английский манер. Сильный аромат одеколона несся от офицера. Он щелкнул шпорами, застыл, картинно вытянувшись перед генералом.
— Ротмистр Караев, ваше превосходительство. Командир сотни особого назначения.
Окинув одобрительным взором выправку ротмистра, его рост, выпученные серые шальные глаза, Дитерихс осведомился:
— Чем могу служить?
Караев, не сводя с него глаз, заговорил:
— Сабля просится из ножен, ваше превосходительство! Я казачьего войска офицер… Не в привычку нам сидеть без дела. Зная неукротимость вашу, надеюсь послужить вашему превосходительству!
— Чего вы хотите, господин ротмистр? — настороженно спросил Дитерихс.
— Служить вам, ваше превосходительство! — с пылкостью сказал Караев. Мне и моим казакам надоело нести полицейскую службу в депо, как несли мы ее на Русском Острове… Разве прежнее правительство могло понять казачью душу? Мы — семеновцы! Наша стихия — бой, натиск… Среди патриотов ваше имя — имя бойца.
Дитерихс заложил правую руку за борт кителя и поднял голову.
— В ваших словах я слышу призыв солдат к решительным действиям! сказал он. — Скоро начнется великое дело, господин ротмистр. Скоро в поход!
Караев выхватил саблю. Резко лязгнули ножны. Дитерихс невольно попятился. Лицо его посерело. Но ротмистр, театрально отсалютовав генералу, вытянул руку с саблей, коснувшись концом ее носка сапога.
— Куда прикажете, ваше превосходительство! Всюду.
Дитерихс принял прежнюю позу. Лицо его изображало напряженную работу мысли: неужели началось то, чего он добивался, долго ждал, на что надеялся?.. Во главе любящей армии, среди преданных офицеров безостановочное движение на запад, которое вливает в его армию все новые силы! Сердце его забилось, он вдруг обмяк, почувствовав усталость после длительного напряжения. Растроганно глядя на Караева, он подошел к ротмистру и тихо сказал:
— Я не обманулся в чувствах истинных воинов! Благодарю вас, господин ротмистр, за доставленные мне вами минуты высокой радости… Выражение преданности вашей взволновало меня искренне! Я назначаю вас командиром ударной сотни великой Земской рати… формируемой мною для похода на Москву!
Караев озадаченно посмотрел на Дитерихса. Он не ожидал, что генерал уже готов начать ту авантюру, о которой уже шли глухие слухи. Он вложил саблю в ножны и, придав своему лицу еще большее выражение преданности, обратился к Дитерихсу:
— Осмелюсь считать, что на мою сотню будут возложены особые задачи?
— Да… да! Конечно.
— Осмелюсь просить ваше превосходительство об увеличении пищевого рациона и денежного довольствия для личного состава моей сотни, удостоенной вашего доверия!
Такая поспешность не слишком понравилась генералу. Он сколько мог пытливо из-под всклокоченных бровей взглянул на офицера. Однако, кроме усердия и явной готовности на все, он ничего более не прочел на лице Караева.
Он пошевелил тонкими бледными губами, точно что-то жуя, и промолвил:
— Да. Конечно. Распорядитесь сами от моего имени. Я скажу.
Караев щелкнул шпорами и, щеголяя выправкой, вышел. Дитерихс перекрестил офицера вдогонку и шепнул:
— С богом!
Через полуоткрытую дверь он услыхал голос Караева, что-то говорившего порученцу. Порученец вопросительно заглянул в кабинет. Дитерихс торопливо махнул рукой:
— Делайте, как ротмистр скажет!
«Ну что ж, — думал генерал, — пусть эта сотня будет на особом счету. Этот ротмистр может быть добрым патриотом… Чем хуже швейцарских стрелков или шведских телохранителей! В каждом войске должны быть части привилегированные. Сначала он, потом и другие. Я смогу опереться на них… Никто, как бог»! — и он перекрестился.
4
День ото дня генерал Дитерихс укреплялся в своем мнении о высоком призвании, предназначенном ему свыше. Решительно все убеждало его в этой мысли. Люди толпились в приемной генерала, добиваясь аудиенции по самым разным поводам. Множество документов получало силу, едва появлялась на них угловатая готическая подпись генерала. Где-то там, за стенами особняка, росчерк его пера превращался в материальную силу, выраженную в готовности тысяч белых офицеров к действиям, в грозном поблескивании штыков винтовок в руках солдат. Где-то там, за стенами особняка, власть его росчерка облекалась в железные решетки, за которыми сидели те, кто не хотел кричать «ура» и «рады стараться, ваше превосходительство»; где-то там, — а где именно, генерал не хотел задумываться, — власть его приобретала силу пули, укладывавшей в могилу того, кто не хотел идти вместе с генералом, приобретала силу нагайки, опускавшейся на чьи-то плечи и лица, силу шомпола, который в руках клевретов полусумасшедшего диктатора превращался из предмета солдатского обихода в орудие пытки…
Он не читал документов, поступавших к нему на утверждение от военного трибунала, даже если это были смертные приговоры. Он размашисто писал слева наверху «утверждаю» и делал судорожную роспись. Чем больше было этих «утверждаю», тем больше утверждался генерал в своем божественном праве на власть, власть сладкую, полную, безраздельную, которой упивался он.
Судьба вознесла его так высоко, как только мог быть вознесен генерал: он вершит дела в огромном крае, а неуемная фантазия рисует ему уже всю Россию припавшей к его ногам, росчерк его пера повергает людей в отчаяние или венчает чьи-то горделивые мечтания, принося богатство. А что может быть выше богатства! Разве только власть? Но власть остается за Дитерихсом, если уж он дорвался до нее. Власть!.. Волнение восторга, сопровождаемого невыносимым сердцебиением, охватывает генерала. Никто еще не знает, на что способен Дитерихс! Но близятся сроки свершения великого дела…
В задумчивости чертит генерал на бумаге стрелу, направляя ее на запад; красное острие вонзается в сердце России… «На Москву!» — говорит он, и опять трепет пронизывает его всего с головы до ног, как тогда, когда другой генерал слушал его, сочувственно кивая головой. Дитерихс вдруг вспоминает холодно-внимательный взгляд первого человека, которому он открылся, и возбуждение тотчас же оставляет его… Ох, эти глаза! Они холодны, как глаза пресмыкающегося… Генерал отгоняет эту мысль. «Сто семьдесят тысяч штыков, неограниченные ассигнования, военный опыт, непререкаемый авторитет в правительстве императора», — вспоминает он характеристику Тачибана в какой-то газете. «Нельзя давать волю нервам!» — обрывает себя генерал…
И опять он принимает посетителей, и каждый из них прибавляет ему ощущение всесилия, всемогущества…
5
Генерал повертел в руках визитную карточку, принесенную порученцем. Кусочек шелковистого бристольского картона сиял белизной. На нем было напечатано кириллицей и латинскими буквами: «Канагава. Мицуи-Концерн. Токио». Мицуи… один из некоронованных властителей Японии.
— Просите! — сказал генерал.
В кабинет вошел японец, весь будто накачанный жиром: двойной подбородок его выпирал из воротничка с отогнутыми уголками; тугие щеки лоснились; припухлые веки тяжело нависали на щелочки глаз; мощная спина распирала просторную визитку, угрожающе ворочаясь под нею. Портной сделал все для того, чтобы придать этому куску жира человеческое подобие. Но бугристым плечам было тесно в одежде, и толстые руки подушками лежали в рукавах; слоноподобные ляжки не давали ногам сомкнуться и японец ступал растопырясь; необъятному животу было тесно в визитке; толстые пальцы не умещались на отведенном им самой природой месте, и японец не мог их сомкнуть.
Вид толстого японца мог бы возбудить смех, если бы не выражение лица этого человека, который мог действовать от имени великого Мицуи. Лицо его хранило выражение силы и жестокости. В чем это было запечатлено, трудно сказать, но когда на таком жирном лице так плотно сжаты губы, так холодно смотрят глаза, вряд ли кому-нибудь придет в голову просить о чем-нибудь такого человека: он живет не для того, чтобы давать, — он живет для того, чтобы брать. Он напоминает своим видом бога урожая, изображаемого на кредитных билетах достоинством в сто иен, только выражение плотоядного добродушия и глумливого благожелательства, веселой насмешки и плотской бурлящей жизнерадостности, свойственных изображению, было стерто с лица Канагавы, уступив место чертам властолюбия, черствого равнодушия и холодной жестокости…
— Здравствуйте, господин генерал! — сказал Канагава хриплым, отрывистым голосом.
Обращение не понравилось Дитерихсу: «Господин генерал» отзывается первыми днями революции, от него так и несет вольнодумством фрондирующих интеллигентов.
Дитерихс не протянул руки японцу и остался стоять, когда Канагава тяжело опустился в кожаное кресло, глубоко осевшее под грузом его туши. Канагава не обратил внимания на позу генерала, как бы ожидавшего ухода посетителя. Точно находясь в собственном кабинете, Канагава сказал:
— Садитесь, пожалуйста… Я счел своим долгом, господин генерал, засвидетельствовать вам свое почтение, едва прибыл во Владивосток. На моей родине внимательно следят за событиями здесь, господин генерал… Деловые круги Токио с большим одобрением встретили образование вашего правительства. Правительство сильной руки — это то, что крайне необходимо Приморью.
Генерал вдруг почувствовал неудобство своей позиции и осторожно присел. Канагава, сопя от натуги, достал портсигар и протянул Дитерихсу. Генерал отрицательно качнул сигарой. Канагава закурил и несколько минут дымил сигарой. Дитерихс суховато сказал:
— Я рад, что на вашей родине есть люди, правильно оценивающие положение в Приморье…
Не дав генералу закончить мысль, Канагава разжал губы.
— Концерн Мицуи, господин генерал, имеет деловую заинтересованность в устойчивости политического режима в Приморье. Нормальные экономические отношения возможны только при этом условии. Концерн Мицуи включает, помимо ряда отраслей тяжелой промышленности, предприятия деревообрабатывающей и рыбодобывающей промышленности. Я возглавляю рыбопромышленные тресты. Я полагаю, что, несмотря на смену правительства, интересы японских лесопромышленников и рыбопромышленников в Приморье должны охраняться уже существующими соглашениями, и хотел бы услышать подтверждение этого от вас, господин генерал! — не торопясь, закончил Канагава.
Дитерихс обрадовался возможности спровадить посетителя. Сигарный запах претил ему, а Канагава и не думал спросить разрешения курить. Кроме того, Канагава развалился в кресле, точно хозяин, опершись своим бычьим затылком о край невысокой спинки и совершенно вытянув ноги в ужасающе ярких штиблетах. Генерал сказал торопливо:
— Я думаю, что существующие соглашения с иностранными фирмами остаются в силе. Прошу вас подробно выяснить это в соответствующем управлении. Сейчас я спрошу, кто персонально занимается этими вопросами.
Канагава не шелохнулся. Он только скосил на генерала свои холодные глаза.
— Мой друг, генерал Тачибана, сказал мне, что вы, ваше превосходительство, лично должны быть в курсе всего. Мой друг, генерал Тачибана, очень сочувственно отнесся к моей мысли о некотором расширении деятельности нашей компании на приморском побережье и, в частности, к тому, чтобы мы начали вырубки леса и вылов рыбы еще в двадцати участках — я позже покажу их вам на карте. Генерал Тачибана сказал, что вы, вероятно, отнесетесь благосклонно к этому нашему проекту. Дружественный контакт между военными и деловыми кругами, господин генерал, всегда дает очень плодотворный эффект. Генерал Тачибана сказал мне, что между ним и вами уже достигнуто полное взаимопонимание…
Дитерихса обдало жаром от того, что сказал Канагава: сказанное мало походило на просьбу. Он перевел дыхание, неожиданно стеснившееся то ли от сигарного дыма, то ли от промелькнувшей мысли, которую он тотчас же выбросил из головы. Он спросил:
— Его превосходительство покровительствует деловым людям?
— Генерал Тачибана делает честь нам, состоя членом правления нескольких промышленных компаний. Интересы японской нации диктуют необходимость контакта военных и деловых людей…
Дитерихс помолчал некоторое время и тихо спросил:
— О каких участках побережья, господин Канагава, идет речь?
Толстяк раскрыл свой портфель и вынул карту.
— Мы хотели бы соединить все наши участки вдоль побережья, от амурского лимана, генерал, до бухты Самарга… Разумеется, вылов рыбы на этой линии должен составлять нашу привилегию. Рубить лес на этой линии тоже не должен никто, кроме нас. Местная администрация должна оказывать нам полное содействие. Все прочие порубщики и рыболовные объединения считаются браконьерами…
Как ни мало смыслил в экономических вопросах генерал, но тут ему стало ясно, что речь идет о монополии Мицуи на лес и рыбу на огромной территории, протяжением в пятьсот километров по морскому берегу. «Эк-к, хватают как!» подумал он, и невольная зависть к тем, кто умел так хватать, ущемила его сердце. Он помрачнел.
Канагава извлек из портфеля какой-то пакет и положил его перед Дитерихсом.
— Ценя благожелательное ваше отношение к операциям наших промышленников, господин генерал, компания Мицуи просит вас принять, как знак дружеского понимания, несколько акций нашего объединения.
Пестрые бумаги замельтешили перед глазами генерала. Заметив его замешательство, Канагава добавил:
— Здесь ценных бумаг на триста тысяч иен… Надеюсь, вас не затруднит подписать один маленький документ… простая формальность, господин генерал!..
6
Иностранцы шли и шли на прием к Дитерихсу…
Это не были бескорыстные посетители, — каждый из них, получая аудиенцию у генерала, уходил довольный, с жадным блеском в глазах. Новый правитель Приморья относился благожелательно к визитам иностранных дельцов. «Великое дело» требовало денег, чертовски много денег! И генералу не важно было, откуда они шли. Он старался делать вид, что не замечает, что вывозили дельцы из края. Лишь бы платили! Он не задумывался над тем, сколько из этих денег прилипало к рукам его приближенных в мундирах и без мундиров: богатства края были неисчерпаемы, хотя узнавал он о них лишь по тому, что к богатствам этим тянулись чужие руки, которые генерал не отталкивал. На дипломатическом языке это называлось «дружеским взаимопониманием»; газеты квалифицировали это как «оживление деловой активности»; циники, из тех, кто умел погреть руки при этом «оживлении», называли это «дешевой распродажей», а простые люди «грабежом среди белого дня». Последнее название было самым точным…
Генерал разглядывал мутными голубыми глазками очередного собеседника. Это был высокий, жилистый мужчина с длинными ногами, созданными, казалось, только для того, чтобы бегать. На широких его плечах свободно висел пиджак цвета хаки. Светлые волосы, коротко подстриженные и разделенные на прямой пробор, были зачесаны и приглажены; выцветшие клочковатые брови и щеточка маленьких усов пшеничного цвета на розовом худощавом лице с резкими чертами, крупным носом и тяжелым подбородком делали его старше своих лет, так как казались не белесыми, а седыми; у гостя были беспокойные цепкие руки, поросшие золотистой шерстью, громкий голос, ясные глаза, придававшие лицу такое невинное выражение, что сразу настораживали каждого, и военная выправка.
— Хелло, генерал! — сказал он, когда входил в кабинет.
Огромными шагами он пересек комнату, протянул Дитерихсу большую ладонь, как старому знакомому, и пожал руку так крепко, что генерал даже легонько охнул. Гость присел на минуту, потом вскочил и принялся расхаживать по комнате… Визитная карточка посетителя сообщала, что перед Дитерихсом Джозия Вашингтон Кланг. «Рекомендация от Мак-Гауна!» — еще раньше доложил о Кланге порученец.
— Я восхищен, генерал, размахом вашего дела! — загремел Кланг. Деловая жизнь в Приморье кипит. Это весьма показательно, что приход вашего правительства к власти токийская биржа отметила повышением акций Мицуи на два пункта! Вы прекрасный организатор и деловой человек, генерал… Это не комплимент, генерал, комплименты не приняты в Америке; это только трезвое признание трезвого человека. Ваши солдаты производят прекрасное впечатление. Их много. Это признак будущих военных успехов, генерал, и будущих рынков! Кланг поднял вверх указательный палец и рассмеялся раскатистым смехом, как бы говорившим, что хозяину этой глотки и этого смеха совсем не свойственны какие-либо иные побуждения, кроме тех, которые он так уверенно и громко высказывает. — И рынки, генерал! — продолжал Кланг. — Мы, трезвые люди, знаем, что войны ведутся ради дела и способствуют процветанию промышленности… Когда приезжаешь сюда, сразу попадаешь в атмосферу, которая не может не радовать своими возможностями. Настроение здесь превосходное. Все говорят о походе на Москву, генерал, пусть он еще не начат. Я наглядно представляю себе, какие силы у вас зажаты в кулак!
Кланг совершенно оглушил генерала. В глазах мелькала длинная фигура американца. Поток слов, которые обрушил Кланг, не давал Дитерихсу возможности узнать, какова цель его посещения. В голове генерала, любившего тишину, загудело; однако он порозовел от похвал американца, которые высказывались так громко, что совсем не походили на лесть.
— Присядьте, мистер Кланг! — сказал он со всей любезностью, на какую был способен.
— Благодарю! — отозвался американец. Склонив голову, он посмотрел на генерала. — Я не отниму у вас много времени, генерал. У нас говорят, что время — это деньги. Поэтому я бы хотел перейти к цели моего посещения, если вы позволите?
Дитерихс кивнул головой. Кланг в том же приподнятом тоне простодушного, полного жизни, хорошего парня сказал:
— Я деловой человек, генерал, но мне не чужда романтика, не чужда поэзия жизни. Мы в Америке умеем совмещать это! Мы умеем сочетать сухой рационализм индустрии с вдохновенным полетом фантазии. Нас не останавливают расстояния и противодействие нашим планам. Мы умеем проникать всюду и видеть богатства, вызывать их к жизни там, где азиатская сонливость или расхлябанность Старого Света не дают им прийти в движение.
Дитерихс потерял нить мысли мистера Кланга. Он с напряжением сморщил лоб, пытаясь разобраться в том, что говорил собеседник, и не мог. Кланг между тем продолжал:
— Только романтика, генерал, влечет американских дельцов в самые отдаленные уголки нашей планеты. Меня всегда интересовали полярные области, генерал. «Северное акционерное общество», которое я представляю здесь, специфически заинтересовано ими. Меня привлекает север, потому что там, в этой ледяной пустыне, с особенной силой видно всемогущество делового человека. Он приходит туда, простирает руки — и пустыня начинает приносить доллары! Доллары из воздуха, из тьмы, из полярной ночи!..
Как с трудом понял Дитерихс, Кланг намерен был заняться эксплуатацией пушных богатств Чукотки, а также организовать зверобойный промысел вдоль ее побережья. Ему нужно было официальное разрешение на это, чтобы иметь возможность «выставить» оттуда всех, кто такого разрешения не имел.
У генерала было очень туманное представление о Чукотке. Для него еще со школьных лет синонимом отдаленности являлась Камчатка, а теперь оказывалось, что есть еще более далекие места. Где это? Кто там живет, что делает?
— За Полярным кругом, генерал, нет ничего, что говорило бы о двадцатом веке. Чукотка — это Белое Безмолвие, царство тьмы, пещерный век. Льды, белые медведи и… дикари, имеющие в своем словаре восемь десятков слов! — выпалил мистер Кланг одним духом.
— Но тюлени, киты… соболи? — с натугой вспомнил генерал.
Мистер Кланг опять поднял палец.
— Правильно! Но их надо взять, чтобы их жир, шкуры, ус, меха превратились в доллары. Это опасно и трудно, но стоит того, чтобы потрудиться, а?
Дитерихс посмотрел на карту, висящую на стене. Чукотка взбиралась на этой карте на самый верх, под обрез, и холодные волны Северного Ледовитого океана лизали ее берега. Генерал не был уверен в том, что его власть распространяется так далеко. Он с достоинством сказал, что при настоящем напряженном положении, требующем сосредоточения всех сил в Приморье, он, кажется, не в состоянии обеспечить охрану интересов «Северного общества» на Чукотке.
Кланг понимающе закивал головой:
— Да, конечно, я понимаю все. Но мы, собственно, и не рассчитываем на помощь генерала в этом предприятии. Американцы умеют защищать свои интересы везде. Потом… хороший зверобойный бот или шхуна всегда вооружены; это совершенно необходимо в тех местах, где каждый белый должен иметь в кармане револьвер… Кроме того… — Кланг повернулся к окну, из которого был как на ладони виден порт. — Кроме того, генерал, звезды и полосы никогда не откажутся прийти на защиту американского проспектора!
Дитерихс вопросительно взглянул на посетителя.
— Звезды и полосы?
Американец рассмеялся.
— Звезды и полосы, генерал. Так мы называем наш флаг!
Проследив направление взгляда гостя, Дитерихс понял, что Кланг глядит на причалы: там пришвартованы «Сакраменто» и «Нью-Орлеан», цветистые флаги которых видны были и отсюда. Он поморщился; заявление Кланга о том, что американские суда могут всегда пересечь Берингов пролив, не очень обрадовало его, как и намек на то, что Кланг готов к применению оружия там, в ледяной пустыне… Кланг живо заметил:
— В исключительных случаях, конечно, генерал! Только в исключительных случаях!
— Я не уверен, что там есть наша администрация, — осторожно выразился генерал. «А вдруг там большевики?» — пришла ему в голову мысль. — Может быть, в настоящее время Чукотка находится в нашей юрисдикции лишь номинально, мистер Кланг. Я не уверен, что…
Кланг понял генерала с полуслова. Он сжал челюсти.
— О! У меня есть опыт обращения с «товарищами», господин генерал, проговорил он жестко.
— Откуда же, мистер Кланг?
— Я имел честь быть в американской экспедиционной группе в Архангельске… Мы высылали большевиков на остров Мудьюг. Больше трех месяцев никто из них не выдерживал. Проклятое место, генерал, хуже божьего ада!
— А вы бывали там? — заинтересовался Дитерихс.
Кланг коротко ответил:
— Был. Проклятое место!
— Простите, что же вы там делали?
— Был комендантом лагеря, в котором содержались большевики. Проклятое место!.. Я получил там два производства и уволился в чине капитана.
Словоохотливость изменила Клангу. Он замолчал. После большой паузы он сказал:
— Имею опыт, генерал… Имею опыт.
Кланг присел на подоконник и закурил сигарету. Когда он молчал, он не казался рубахой-парнем, каким делали его слова и смех, раскатистый и громкий. Дитерихс подумал почему-то, что Кланг, вероятно, умеет и молчать, долго и мрачно, молчать так, что от одного этого молчания становится не по себе. Блик света упал на лицо Кланга, и тогда стал заметен его перебитый нос, тугие желваки на челюстях, острый взгляд исподлобья… Да, этого не остановит Белое Безмолвие и противодействие. Вероятно, и сейчас парабеллум или браунинг оттягивает его задний карман…
— Хорошо, господин Кланг… Можете рассчитывать на мое содействие! сказал Дитерихс.
Глава 13 Земская рать
1
Вербовка в Земскую рать началась.
Трехцветные флаги взвились над всеми правительственными учреждениями. Транспаранты, украшенные трехцветными нашивками и зелеными угольниками, возглашали: «Ты еще не записался в Земскую рать? Запишись!» Яркие плакаты и листовки покрыли все улицы.
Дитерихс сам придумал все приличествующие лозунги, утвердил знак Рати зеленый угольник, утвердил форму офицеров Земской рати — зеленые нашивки на кителе и зеленый позумент на брюках, вспомнив, что подобное шитье было на парадной форме гусар. Ближайшее окружение генерала было вынуждено надеть новую форму. Запись в Земскую рать открыл сам генерал. Под номером один Дитерихс расписался лично. Вслед за ним нехотя записались и все военспецы, которые окружали Дитерихса.
Вербовочные пункты открылись на всех улицах. Огромные трехцветные стяги осеняли столы, за которыми под открытым небом восседали офицеры вербовочных комиссий. Организованы были также и летучие агитационно-вербовочные отряды из жен офицеров — из трех-пяти дам в костюмах сестер милосердия, с офицером во главе; их трехцветные перевязи через плечо виднелись издалека, что помогало горожанам вовремя перейти на другую сторону улицы, чтобы избежать не очень приятной беседы на тему о патриотизме. Подобные же группы были брошены на кружечный сбор в пользу Земской рати. Они наводнили город. Эти женщины настигали горожан всюду: в иллюзионах, театрах, магазинах, кафе, ресторанах, ночных кабаре и квартирах, призывая жертвовать на «великое дело».
Гремели оркестры в садах Завойко и Невельского, где расположились главные вербовочные пункты. Гулянья в пользу Земской рати следовали одно за другим. По вечерам разноцветные ракеты озаряли город призрачным светом, фантастические фейерверки с вензелями «ЗР» сжигались на водах залива.
Горожане охотно ходили на гулянья, глазели на фейерверки…
2
Таня жила в вагоне одна. Днем приходил Алеша, обедал, отдыхал, к вечеру же опять уходил спать к кому-нибудь из железнодорожников.
В задумчивости сидела Таня на лесенке, ведшей в вагон. Мысли ее были прикованы к письму Виталия, полученному утром через связного. Виталий писал, что в отряде ему приходится многому учиться — владеть саблей, привыкать к таежной жизни, время узнавать по звездам, ориентироваться в лесной чаще; чувствует он себя совсем мальчишкой, который ничего в жизни не видал. Таня улыбнулась при воспоминании об этом месте письма: Виталий искренне признавался, что в тайге он беспомощен. Таня подумала: кто же ему стирает, кто чинит его изодравшееся белье и одежду? Она сокрушенно качнула головой, и сердце ее сжалось. Она стосковалась по Бонивуру. Теплая, щемящая нежность к черноглазому юноше жила в ней. «Надо будет послать с обратным пару рубашек из Алешкиного белья, а то там, поди, не достанешь», — подумала Таня. В конце письма Виталий приписал несколько строчек ей: «Танюша! Очень скучаю по тебе! Как ты живешь? Все воюешь, поди, с Алешей? Ну, воюй! Мы тоже скоро перестанем небо коптить!.. Будь здорова, сестренка!»
Таня не умела долго раздумывать. Ее симпатия к Виталию была действенной. Переворошив белье Алеши, она отыскала рубахи, выстирала их, погладила и уселась на лесенке пришивать пуговицы. Работа приближалась к концу, когда внимание Тани привлекло какое-то движение в глубине тупика. Там шагала группа женщин в сестринских наколках, со щитками, на которых было нацеплено что-то пестрое; женщины шли в сопровождении офицеров.
Красные первореченцы продолжали бастовать. Хотя во Владивостоке и было известно, что агитация за Земскую рать на Первой Речке не может иметь успеха, все же дамы-патронессы поехали и сюда. Они поравнялись с Таней. Остановились. Одна из них обратилась к девушке:
— Гражданка! Жертвуйте на Земскую рать, на великое дело!
Таня машинально вынула рублевку. Одна из дам стала откалывать жетон. Таня прищурилась. Потом торопливо сказала:
— Одну минуту! Я сейчас. — Она помчалась в вагон, вернулась спустя несколько минут и, высыпая в протянутую руку дамы горсть мелочи японской чеканки, сказала. — Пожалуйста! Только русские-то деньги на это давать негоже. А японские сены — впору!
Дама вспыхнула. Прапорщик, сопровождавший патронесс, вырвал жетон из рук девушки.
— Люди кровь будут проливать за это, а вы издеваетесь! Как вам не стыдно! — срывающимся голосом сказал он.
Одна из дам взяла офицера за локоть.
— Жорж, идемте отсюда! — Она что-то шепотом добавила, оглядываясь на Таню.
В Семеновском огрызке дам-патронесс направили к полковнику-артельщику. Тот с вниманием выслушал возмущенный рассказ дам о столкновении на Рабочей улице и сожалительно пожал плечами:
— Да, знаете… На Первой Речке, боюсь, это предприятие не удастся. Здесь понятия иные.
— Надо же быть патриотом, черт возьми! — горячо сказал прапорщик.
Полковник посмотрел на него.
— К сожалению, на Первой Речке понятие патриотизма заключает в себе несколько иные элементы, чем в нашем представлении.
— Вы должны помочь нам, полковник! — обратилась к нему одна из дам.
— Рад служить.
— Как же нам быть? Неужели возвращаться в город с жетонами? Мы надеемся на вас.
Полковник задумчиво посмотрел на даму.
— M-м… Сколько у вас жетонов?
— На щите две сотни и в сумке три сотни.
— Сколько же они стоят?
— Это зависит от воли жертвователя… Всякое даяние благо! — вставила одна из дам.
Полковник, что-то прикинув, сказал:
— Те, что на щите, я, пожалуй, для моей артели возьму… А больше мне не удастся распространить. По полтиннику за жетон, я думаю, каждый заплатит.
— Офицеры-то? По полтиннику? — изумился прапорщик.
Полковник, не глядя на него, ответил:
— Да-с, офицеры… Они уже полтора года грузчиками работают, молодой человек!
В том, что он назвал прапорщика не по чину, а молодым человеком, было что-то очень оскорбительное, от чего прапорщик вспыхнул. Он уставился на артельщика.
— Я не понимаю вас, господин полковник!
Тот тяжело обернулся к нему:
— Могу объяснить, господин юный офицер. Этот проект генерала Дитерихса крайне непопулярен среди безработных офицеров… Здравого смысла в нем не много. С точки зрения военной этот поход — полный абсурд. Даже если Земской рати удастся добиться какого-то временного тактического успеха, все это игрушки! Прошу прощения, милостивые государыни, я не имею в виду ваши благородные чувства! Мои офицеры принесли в жертву родине все — честь, здоровье, семью. Теперь у многих нет и полтинника, чтобы субсидировать начинания свитского генерала, который о войне имеет весьма приблизительное представление.
— Вот как! — проронил униженный прапорщик.
Полковник, не обратив внимания на его возглас, поклонился даме, державшей щит.
— С вашего разрешения, мадам! Вот деньги!
3
Через две недели с начала записи волонтеров в Земскую рать Дитерихс запросил сведения о ходе вербовки и результатах кружечного сбора.
Генерал не мог поверить своим глазам, когда не без трепета ему сообщили об этих результатах: они были так ничтожны, что Дитерихс мог прийти в бешенство!
Однако, увлеченный разработкой «великих планов», правитель отнесся к неуспеху поднятой им кампании, как к досадному эпизоду. Эта неудача не образумила его и ничему не научила. Два дня он был мрачен, а затем обрушился на организаторов вербовки, виня их в недостатке усердия. Он не мог допустить мысли, что идея Земской рати никого не увлекла. В горячечных мечтах ему рисовалось совсем иное…
— Священного огня у вас нет, оттого и дело идет медленно! — сказал он укоризненно коменданту города. Тот, отворачивая взор от генерала, промямлил что-то невразумительное. Дитерихс отпустил его, наказав: — Немедленно предпримите меры к оживлению этого дела. И побольше веры! Веры, господа! В ком нет веры, тот не человек, и мне не жалко будет расстрелять его!.. Хотя я и не сторонник крайних мер.
Взбодренные этим напутствием, комендант города и штабисты Земской рати, посовещавшись, решили предпринять кое-что, кроме оркестров в парках и фейерверков в заливе.
…Алеша Пужняк возвращался от Михайлова, которому он доложил о ходе забастовки на Первой Речке. Командование белых и железнодорожная администрация обратились к забастовщикам с призывом возобновить работу, обещая оплату времени забастовки и двойное жалование. Стачечный комитет наотрез отказался от предложения. Теперь белые, произведя набор среди военнослужащих — солдат и офицеров, направили в мастерские бронецеха своих людей. Они приступили к работе. Вход в тупик был закрыт для всех посторонних. Сильная охрана препятствовала рабочим проникнуть в цех. Кое-какое путевое хозяйство белые также взяли в свои руки. Военные стрелочники, дежурные по станции, машинисты затеплили на узле жизнь. «Обсудим! — сказал Михайлов. — Что-нибудь придумаем и на это!»
На вокзале Алеша сидел в зале третьего класса. Поезд стоял уже на пути. Однако посадки не было. Двери на перрон не открывались.
С досадой посмотрев на часы, Алеша увидел, что сидит уже лишние полчаса. Пожалев, что не успел уехать с предыдущим поездом, Алеша принялся разглядывать расписание поездов. Под рубрикой «дальние» было написано «Владивосток — Иман». Юноша невольно усмехнулся: не велик же мир у белых! Он закурил папиросу, выпуская изо рта кольца дыма. В теплом помещении они долго держались в воздухе и, медленно расплываясь, подымались к потолку.
У дверей раздался шум. Все приподнялись со своих мест, думая, что началась посадка. В зале раздался голос:
— Спокойно, граждане! Приготовьте документы!
Двое солдат и двое милиционеров стали у дверей.
«Вот еще, не было печали — черти накачали!» — поморщившись, подумал Алеша.
Открылись двери на перрон. Началась проверка. Ожидавшие поезда недовольно ворчали, доставая документы. Они медленно проходили мимо часовых. Двое офицеров брали документы, небрежно просматривали их и возвращали владельцам. Однако некоторых они просили отойти в сторону. Те, кому документы возвращались, облегченно вздохнув, выходили на перрон, остальные стояли, недоумевающие, настороженные.
Подошел черед Алеши. Офицер взял его паспорт.
— Где работаешь?
— В депо Первая Речка.
— Отойди в сторону. Разберемся потом, — сказал офицер, возвращая паспорт.
Проверка продолжалась. Алеша угрюмо закурил. «Что еще за фокусы?..» Группа задержанных все росла. Их накопилось, на взгляд Пужняка, человек до ста. Наконец, кроме них, в зале не осталось никого. Офицер скомандовал людям, с недовольством и тревогой глядевшим на него:
— Построиться. По порядочку… Быстро!
Толпа не поняла офицера. Тот повторил:
— Построиться! Хотите, чтобы все быстрее разъяснилось, стройтесь! Вот так…
Вслед за этим солдаты распахнули дверь. Колонна задержанных стала выходить. Но за дверью также стояли солдаты.
— По лестнице наверх! — скомандовал офицер.
Из толпы послышались голоса:
— Господин офицер! Мне на Седанку надо…
— Меня на службе ждут.
— Куда нас?
— Что за самоуправство?
Офицер ответил всем разом:
— У вас документы не в порядке. В комендатуре выяснится все. А ну, веселей, веселей!
По мере того как колонна проходила мимо солдат, они окружали ее кольцом желто-зеленых гимнастерок.
— Ну, чисто арестанты! — сказал пожилой рабочий, оказавшийся рядом с Алешей.
Сосед его слева прошептал испуганным голосом:
— Никогда под охраной не ходил, а тут… Что же это будет?
Колонну повели по площади.
Прохожие оглядывались на сумрачных людей, идущих под охраной. На углу Алеутской Алеша увидел Михайлова. Тот остановился, рассматривая колонну, и узнал среди шедших Пужняка. Он с удивлением поднял брови. Алеша пожал в ответ плечами. Он не знал, что думать. Однако инстинктивно почуял что-то неладное. Вынул паспорт и засунул его в сапог. Рабочий поглядел на него:
— Пожалуй, верно, парень, — и свой паспорт засунул в штаны.
Сосед слева побледнел, видя это, и дрожащими губами вымолвил:
— Господи… что это будет?
— Увидим! — ответил ему сосед Алеши справа.
В управлении коменданта у всех задержанных отбирали документы. У многих их не оказалось. Таких отделили от остальных. Дежурный офицер, глядя на паспорта, стал составлять какие-то списки.
— А что делать с этими? — спросил офицер с вокзала.
Дежурный ответил:
— Запишем со слов!
Алеша назвал первую пришедшую ему в голову фамилию. Его сосед — рабочий сделал то же.
Когда списки были составлены, дежурный сказал громко:
— Вы мобилизуетесь в Земскую рать, граждане!
Толпа ахнула. Тотчас же раздались протестующие крики, ругань. Мобилизованные заволновались. Дежурный объявил:
— Спокойно! Все это лишнее. Сейчас вы отправитесь в казармы. Получите обмундирование. Старший команды — поручик Беляев. Сопровождающие — отделение егерей. Становись! Смирр-р-рн-а! Р-раз-гово-ры отставить! — закричал он, со вкусом перекатывая во рту какое-то очень звонкое и веселое «р».
Солдаты опять окружили задержанных и повели к Мальцевскому базару.
— Ловко! — сказал рабочий. — А? Оболванили, сволочи!
— Я уйду! — сказал ему Алеша. — Если хотите, давайте на пару!
— А то как же! — отозвался тот. — Чего захотели, гады!
Алеша негромко сказал идущим впереди:
— Кто хочет бежать — у магазина Иванова кидайся врассыпную, там сквозные двери и выход на Китайскую. Кто не бежит — ложись! Кто помешает пеняй на себя. Сигнал — свист.
Он, волнуясь, следил за тем, как одна за другой стали поворачиваться головы идущих; люди слушали его и передавали другим. В хвост колонны пошла та же фраза. Офицер заметил движение в колонне. Он крикнул, натужась:
— Не р-разговаривать! От-ставить р-разговоры!
— Я не побегу, убьют… У меня дети! — сказал сосед Алеши слева, глядя на него умоляющими глазами.
— Тогда ложитесь, как только мы бросимся бежать, — сказал рабочий.
Магазин Иванова был уже виден. Люди, до сих пор шедшие вразброд, беспорядочно топоча ногами, вдруг подтянулись, ступая в ногу. Поручик улыбнулся:
— Но-о-гу! Реже! Рас-с! Два! Три…
Ничего не подозревающие солдаты — было их двенадцать человек — привычно и лениво шагали по мостовой, держа винтовки на ремне.
Паркер, корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн», ценивший в Маркове его независимость и язвительность, иногда сводил его с разными людьми, которые, по мнению Паркера, могли показаться интересными Маркову. Это были самые разные люди — вплоть до какого-то гангстера из Сан-Франциско, приезжавшего во Владивосток с целью выяснить, нельзя ли тут организовать крупный «рэкет», и не поладившего с бандитской организацией «Три туза», монополизировавшей во Владивостоке вымогательство. На этот раз Паркер, идя по улице, заметил на другой стороне человека с ногами спринтера и боксерской шеей, в светлом костюме, с необыкновенно простодушным выражением лица.
— Хелло! Марков! — сказал Паркер. — Взгляните туда и скажите: что это за человек, по-вашему?
— По-моему, это американец! — заметил Марков.
— А еще что вы можете сказать?
Марков подумал.
— Мне кажется, сказал он, — что это какой-нибудь фермер, который приехал сюда с целью сбыть то, что залежалось в Америке. Думаю, однако, что он только поистратится!
Паркер усмехнулся:
— Ставлю вам, Марков, двойку за наблюдательность! Вы ничего не понимаете в людях! Вас обманет любой мошенник и тем более деловой человек, который всегда носит маску на лице. Этот парень многого стоит. На днях он провел такую комбинацию, которая не снилась никому до него. Ручаюсь, что за три месяца он сделает миллион! Правда, сейчас он работает на хозяина, но свой миллион он сделает через три месяца!
Марков повернулся к Паркеру.
— На Мак-Гауна? — спросил он с удивлением и интересом, вспомнив, что американцы называли консула хозяином, боссом.
— Почему на Мак-Гауна? — Паркер уклонился от ответа. — У каждого человека есть хозяин до тех пор, пока он сам не становится хозяином и у него не появляются свои люди, которые добывают для него каштаны из огня!
— Он производит впечатление простака, — сказал Марков.
— Вот я вас познакомлю. — Паркер усмехнулся. — Попробуйте из него вытянуть хоть одно слово!
Он окликнул замеченного человека, и тот стал переходить улицу, приветственно помахав Паркеру рукой. Лицо его показалось странно знакомым Маркову. Он сказал Паркеру, что где-то встречался с этим человеком, но совершенно не помнит, где именно. Паркер ответил по своей привычке сентенцией:
— Вы не запомнили его потому, что у него не было миллиона, даже не было имени! А теперь люди будут помнить его, встречать его улыбку, искать с ним встречи!
Тем временем тот, о ком шла речь, подошел к журналистам.
— Мистер Кланг — основатель «Акционерной северной компании». Мистер Марков — журналист! — представил их друг другу Паркер.
Была у Паркера при этом какая-то странная усмешка на губах, которая заставила Маркова насторожиться. Он почувствовал в Кланге поживу для своей газеты… Паркер распрощался и ушел. Марков заговорил с Клангом, и они пошли вместе по улице.
Мистер Джозия Вашингтон Кланг охотно и много говорил о своих впечатлениях о России, куда он прибыл, как он сказал, три дня назад. Однако Марков не мог отделаться от впечатления, что он встречал Кланга несколько раз на улицах Владивостока и не три дня назад, а много раньше. Кланг упомянул о Чукотке, но никакими клещами из него нельзя было вытянуть, чем он думает там заняться.
— Надо вдохнуть деловую жизнь, мистер Марков, в это Белое Безмолвие! высокопарно ответил он на вопрос о целях и задачах «Акционерной северной компании».
У Маркова возникла мысль написать очерк о «пирате XX века», как он уже окрестил Кланга, почуяв в нем хищника. Но в разговоре Кланг все уходил от этой темы, как ни допытывался Марков. Через некоторое время газетчик почувствовал, что Паркер прав, говоря о маске Кланга; Марков стал настойчивее.
Видя, что ему не отделаться от назойливого газетчика, американец завел Маркова в подвальный кабачок. По тому, как он принялся подливать водку Маркову, последний понял, что Кланг решил напоить его и оставить, когда он захмелеет… Но через сорок минут Кланг почувствовал, что его развозит, что слова уже не так охотно набегают ему на язык, что язык перестает ему повиноваться, а Марков пьет и не пьянеет. Кланг с удивлением глядел на газетчика, которого не берет хмель. Он ловил себя на пьяном желании рассказать, какая неожиданная удача подкатилась к его ногам и как удивительно изменилась в несколько дней его судьба, не обещавшая раньше ему ничего хорошего, кроме нудной, надоедливой и далеко не безопасной работы на босса. Его так и подмывало рассказать, как ловко вел он себя, как сумел он ухватиться за один шанс из тысячи, чтобы выбиться из неизвестности; слова восхищения боссом, который умеет делать политику и умеет делать при этом деньги, просились с его языка…
Подавив в себе это желание, Кланг поспешно вышел на спасительный воздух и вновь обрел способность произносить много ничего не говорящих слов. Щуря глаза, он стал вглядываться в перспективу улицы, на середине которой темнела какая-то толпа.
Марков был настойчив; чем больше он пьянел, тем сильнее проявлялось в нем качество журналиста-следопыта.
— Как велик основной капитал вашего акционерного общества? — спросил Марков.
— Да, капитал — это животворный сок каждого дела, это кровь бизнеса, это его воздух! — насмешливо декламировал Кланг, уже хмурясь.
— Прошу вас, назовите поименно акционеров общества! — не отставал Марков.
— Настоящий предприниматель, движимый духом коммерции, не знает преград, мистер Марков! Он — человек одной цели! Я имею в виду американца… Он хочет, чтобы весь мир вращался вокруг золотой оси, а золотая ось — это Нью-Йорк, в котором сосредоточена половина золотого запаса мира. Двадцатый век — век Америки!
— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему! — с досадой проговорил Марков, теряя терпение.
Американец, однако, не обратил внимания на его слова. Он кивнул головой на колонну, подходившую к магазину. Колонна была большая, цепочка конвойных жиденькая.
— Что это?
Марков, глянув на хмурые, унылые лица мобилизованных, сказал с непередаваемым выражением в голосе:
— Судя по их воодушевленным лицам, мистер Кланг это новобранцы.
— О, — сказал Кланг, — волонтеры! Как это по-русски? Добровольцы!..
Нервное напряжение охватило колонну. Голова ее поравнялась с магазином Иванова. Алеша заложил два пальца в рот и оглушительно свистнул. «Побегут, подумал он в последний момент, — еще как побегут! Ишь, ногу печатают!»
Колонна рассыпалась тотчас же. Кое-кто повалился на мостовую, закрывая голову руками. Однако большая часть задержанных бросилась врассыпную направо и налево. Конвоиры были сбиты с ног. Мобилизованные кинулись в ворота, подъезды домов, к пристанским спускам, к заливу Алеша с рабочим вскочили на высокий тротуар.
И вдруг, к удивлению Маркова, мистер Кланг, человек, который должен был через три месяца положить в карман миллион, точно полицейская ищейка, кинулся наперерез Алеше и рабочему, растопырив руки и крикнув Маркову «Держите!» Марков же инстинктивно отстранился, пропуская бежавших, — он не хотел быть втянутым в грязную историю. В ту же секунду Алеша наотмашь что было силы ударил Кланга по шее. Кланг растянулся на тротуаре, ударившись коленом.
…Алеша с рабочим ворвались в магазин, пролетели через салон, выскочили на черный ход и задами стали уходить в сторону Китайской.
— Не отставай, дядя! — оглядывался Алеша на спутника.
Тот, обращая к Алеше раскрасневшееся лицо с седоватыми усами и густыми бровями, тяжело дыша, отвечал:
— Не замай, парень, как-нибудь! Свои пятки побереги!..
Беспорядочные выстрелы конвоиров раздались через три-четыре минуты после свистка Алеши. К этому времени большинство беглецов было уже вне пределов досягаемости поручика и конвоиров…
…Марков помог Клангу подняться. Кланг потер колено, скривившись от боли.
— Черт возьми! Как он меня свалил! Боксерский удар!
— А чего вы, собственно, не в свое дело сунулись, мистер Кланг? спросил Марков.
Кланг смущенно ухмыльнулся.
— Привычка, Марков. Старая привычка! Я служил раньше в заводской полиции в Детройте, у мистера Форда… Впрочем, сейчас это не мое дело, вы правы!.. «Но между тем раздул ноздри, как боевой конь при звуке трубы…» Ведь так сказал поэт! — обретая свой по-прежнему балаганный тон, сказал Кланг.
Подозрение Маркова перешло в уверенность. «Интересно, кто же стоит за твоей спиной? — подумал он, глядя на Кланга. — Ты-то еще мелко плаваешь, молодчик!»
…Алеша и рабочий на ходу вскочили в трамвай. Только тут рабочий сказал, хлопнув Алешу по плечу:
— Ай да парень! Ну-ну!
— Что? — спросил Пужняк весело.
— Молодец! Молодец!.. Ты хоть скажи, как тебя звать-то, чтобы в молитвах поминать! Ведь пришлось бы «Соловей, соловей-пташечка» голосить на старости лет.
— Пужняк! — ответил Алеша.
— То-то, Пужняк. Всех испужал… Как воробьи разлетелись… восхитился рабочий. — Ну, а моя фамилия Дмитриев! Будем знакомы!
Алеша крепко пожал протянутую ему руку.
4
Михайлов заметил Алешу в толпе задержанных. «Попал в облаву!» сообразил он, провожая глазами колонну. Одновременно он подумал, что надо немедленно сообщить Антонию Ивановичу о случившемся с Алешей, так как сам Алеша вряд ли сумеет что-нибудь предпринять для своего освобождения.
Тут впереди послышались выстрелы, какой-то шум. Часть прохожих инстинктивно бросилась под защиту стен, но кое-кто из зевак, которые забывают об опасности, лишь бы увидеть происшествие, кинулся по направлению шума. Михайлову видно было, что колонна, в которой он видел Алешу, неожиданно распалась. В обе стороны от нее кинулись бежать люди, расталкивая, сбивая с ног прохожих. Михайлов перешел на другую сторону улицы и придержал шаг — ему ни к чему было оказываться вблизи… Конвоиры сгоняли прикладами поредевший строй, от которого едва ли половина осталась под их охраной. Осыпая оставшихся площадной бранью, егери погнали их дальше, взяв винтовки наперевес. «Удрали! — сказал себе, усмехаясь, Михайлов. — Как Алешка-то?» Навстречу ему попались двое рабочих:
— Что там случилось? — спросил Михайлов.
— Новобранцы удули! — с довольным блеском в глазах сказал один.
— Молодцы ребята! — сказал второй. — Там один белобрыска-парень как заложил два пальца в рот, да как свистнет! Все врассыпную! Конвоиры пах-пах! Куда там… Теперь не найдешь!..
Михайлов сел в трамвай, вскоре догнавший колонну. Из окна пристально рассматривал идущих кое-как «новобранцев», перепуганных донельзя. Алеши среди них не было. «Ушел!» Михайлов облегченно вздохнул. Он слез на очередной остановке и не торопясь пошел к порту, к бухте.
Солнце расплескалось на волнах бухты, разведенных свежим ветром. Ясные блики от них трепетали на бортах судов, стоявших на рейде, точно кто-то баловался на просторе бухты в этот ясный день, играя со множеством зеркал. Мелкая волна билась о покатый берег, взбегая на него, тотчас же отходя и оставляя на ракушечнике клочья пены, которая опадала, как встряхнутая опара. На волнах покачивались рыбачьи баркасы, пробегали, переваливаясь, шампуньки. Била волна в берег и выкидывала на него всякую дрянь, всякий мусор. Лежала на приплеске морская капуста, выброшенная прибоем, издавая терпкий запах йода, соли и сырости. Большая часть прибрежья бухты была мелководна. Каменные причалы расположились вправо к вокзалу, к Эгершельду. Корабли, ожидавшие своей очереди под погрузку, толпились на середине бухты. Влево берег казался свалкой от множества мелких гребных и парусных судов, покрывавших его словно грудой щепы, — так разнообразны были они, в такой сумятице толклись они, подбрасываемые волной. А прямо от бухты в вышину семи холмов, окаймлявших ее, карабкались каменные дома. Беспощадное солнце палило городские улицы, и даже здесь, у самой бухты, слышался запах асфальта, плавившегося под горячими лучами. Камень, камень…
«Эка вырубили все! — сказал сам себе Михайлов. — А когда поручик Комаров высаживался здесь, тайга подступала к самому берегу, ночью к палаткам медведи подходили, солдатам страшно было на полверсты в сторону отойти — как бы не заблудиться! Эх! Не по-хозяйски тут люди жили, не о жизни, а о наживе думали… Тут деньги делали, а отдыхать на юг, в благодатный Крым, ездили!» Он размечтался и задумался совсем не о том, что волновало его сейчас, и не о том, чем был он занят. Гранитные набережные бы устроить вдоль всей бухты — сколько тогда судов может принять порт! Солнце палит и камень кругом, надо и глазу и сердцу отдых дать. Зеленым бы поясом перепоясать Владивосток, чтобы тянулся от Эгершельда до Чуркина мыса непрерывной полосой, защитил бы город от дыма и копоти порта, дал бы приют детишкам, которым сейчас некуда выйти, разве только в чахлые скверы. Неправда, что здесь ничего не будет расти. Росла же тайга в первозданной своей прелести… Значит, и сейчас может расти, коли руки до этого дойдут!
Михайлов любил этот город, ставший его второй родиной, город, в котором вырос он как боец. Во всем, что делал он, жило стремление увидеть город в руках настоящего хозяина. И уже в мечтах своих видел город другим… «Странные, однако, мысли в голову приходят!» — усмехнулся Михайлов.
На каланче Морского штаба пробило пять.
В шесть Михайлова ждали в бухте Улисс, у минеров…
«А молодчина все-таки Пужняк!» — вспомнил он опять о бегстве мобилизованных, и неторопливой походкой обеспеченного и солидного человека, у которого есть время и прогуляться, и помечтать, и поглазеть, он направился к Светланской, где его в условленном месте должен был ждать уполномоченный от минеров.
5
Вход в бронетупик был запрещен. Часовые теперь находились не только на территории, где стояли бронепоезда, но и снаружи.
Едва кто-нибудь приближался теперь к цеху, как слышал окрики: «Кто идет? Отворачивай… Ходу здесь нет!»
Феде Соколову подпольная организация поручила выяснить, что делается в броневом тупике. Несколько дней бродил он безуспешно. Ворота закрывались наглухо. Возле стояли казаки, на вопросы они не отвечали и внутрь не пускали. Федя решил схитрить. С видом крайне занятого человека он направился в ворота. Его остановили:
— Куда-а?
— Инструменты у меня в цехе остались! — сказал он.
— Ну, коли остались, так уже не твои, а наших ребят, — заметил лениво рябой, стоявший в паре с Цыганом. — Не оставляй другой раз. Да и на кой они тебе, коли бастуешь?
— Дак ведь мои же инструменты! Не век забастовка будет… Чем буду работать?
— Пущай идет! — сказал Цыган.
Но рябой мотнул головой:
— Проваливай-ка, брат! А ты тоже добер больно стал, Цыган. Пусти его, а он чего-нибудь сунет в броневагон. Разбирайся потом.
— Да хоть обыщите меня! — взмолился Федя.
Рябой рассердился:
— Иди ты к черту, слышишь!
Цыган пристально посмотрел на Соколова. Со значением произнес:
— Иди-ка, паря. Наш Иванцов казак справный, службу знает… пока дежурит — не пустит, коли сказал.
Соколов, поняв прозрачный намек Цыгана, отошел с удрученным видом.
На другой день в карауле опять стоял Цыган, но в паре с бородатым казаком. Уже смелее Федя повторил свою выдумку. Лозовой сказал:
— Пропуск надо взять, паря.
Цыган вступился за рабочего:
— Тут одним духом слетать можно. Я знаю, где он, работал. — И, видя, что Лозовой чинить препоны не станет, добавил: — Слышь, шагай… Только одним духом. А то нас подведешь. Да на глаза офицерам не суйся.
Лозовой отвернулся. Федя Соколов юркнул за ворота.
— Эх, Цыган, Цыган… Смотри ты! — вполголоса заметил Лозовой. — И себе и мне хлопот наделаешь. Зря пустил.
Цыган мотнул курчавой головой. Чуб его закрыл глаза.
— Не пропадать же инструменту, дядя.
Лозовой искоса посмотрел на подчаска и сказал:
— Инструмент… разный бывает.
За воротами Федя пробыл не больше десяти минут. Он залез на старую цистерну, откуда ясно было видно все. Этих десяти минут Феде было достаточно, чтобы отчетливо представить себе картину того, что делается в цехе.
Три состава были приведены в боевую готовность. На платформах виднелись орудия. Возле одного бронепоезда на земле стояло несколько пулеметов. Их вталкивали в вагоны через маленькие двери и нижние люки. Вооруженные составы были выкрашены защитной краской, отчего приобрели весьма внушительный вид. Они не принадлежали более депо, а стали военными.
Федя увидел маляров на козлах у бортов вагонов. Вглядевшись, он рассмотрел трехцветные и зеленые угольники и размашистую надпись: «На Москву!»
— Ишь ты, далеко хватают! — пробормотал он.
Больше ему делать было нечего. «Не сегодня-завтра отправят», — подумал Федя и поспешно вышел из цеха, счастливо избежав нежелательных встреч.
Цыган с любопытством посмотрел на него. Лозовой спросил, нашлись ли инструменты.
— Нет. Видно, кто-то из ваших замыслил! — с показным огорчением сказал Федя. — Ума не приложу, как их искать теперь!
Цыган заметил ему:
— Ты, паря, сюда больше не ходи-ка. Нас-то в другое место отправят. Тут ингуши станут. По-русски ни бельмеса не знают, пристрелить могут за здорово живешь! — Вдруг с деланной свирепостью он закричал: — Давай, давай! Нечего шляться!
Федя невольно оглянулся. К цеху приближался Караев.
— Ну, ты не очень-то кричи… не на жену! — буркнул Федя для вида и поплелся по пустым путям.
6
Указания Михайлова были коротки и ясны: там, где невозможно предотвратить воинские перевозки бескровным путем, применять партизанские, диверсионные методы — подрывать пути, пускать поезда под откосы без предупреждения, когда ведут военные машинисты. В осуществлении этого забастовщикам предоставлялась самая широкая инициатива.
Члены стачкома молчаливо переглянулись. Антоний Иванович нарушил молчание:
— Понятно! Ну что ж, товарищи, я думаю, мы и тут кое-что можем сделать… Надо только обмозговать это дело. На путях стоят бензиновые цистерны, керосин, спирт… Опять же бронепоезда! Да и с солдатами составы пойдут через Первую Речку…
Невидимая армия стала против Дитерихса.
Горели буксы в теплушках с солдатами, приходилось задерживать составы, переформировывать их, сменять вагоны. Лопались по совершенно непонятным причинам оси вагонов. У паровозов плавились подшипники, сифонили паровые трубки. В топках рвались невесть как попавшие туда заряды. Вдребезги разлетались стекла сигналов, и масло сигнальных ламп оказывалось смешанным с водой, лампы гасли в пути.
Петарды рвались на маршрутах воинских составов, составы останавливались. Бригады осматривали полотно и, удостоверившись, что взрыв петарды не более как озорство, отправлялись дальше, а через двадцать минут хода оказывались разведенными рельсы и, ломаясь и круша все впереди, лезли друг на друга вагоны, валился под откос локомотив. Оглушительный грохот сотрясал окрестности. Вдребезги разлетались теплушки; вагонные скаты, точно снаряды, катились, врезываясь в мягкую почву; дымок показывался над обломками, и скоро пламя, подымая жадную голову, пожирало остатки состава, оставляя лишь исковерканные, почерневшие остовы того, что еще полчаса назад называлось вагонами.
Кто-то вгонял между шпалами оси; кто-то выбивал из шпал костыли; кто-то отвинчивал гайки и разводил рельсы. И на отрезке пути от Владивостока до Имана страшными памятниками войны, которая началась еще до того, как Земская рать выступила в свой поход, легли поезда, исковерканные, поверженные в прах. На платформах горело сено; пылали склады с обмундированием; мука для солдат поливалась керосином; по машинистам воинских составов стреляли из лесочков и в выемках. Усилилась охрана путей и составов, но пулеметы и пушки на платформах не были прочной защитой от солдат незримой армии.
Вся дорога стала фронтом.
7
Первореченцы выставили посты во всех важных местах. Стачком, партийная организация и Михайлов имели самые подробные известия о перемещениях подвижного состава, формировании поездов и назначении их.
По длинной цепочке связи от Владивостока до передовых позиций и до штаба Народно-революционной армии шли сообщения, за которые дорого бы дали белые. Подпольщики, партизаны и НРА действовали по единому плану и системе.
Тыла у Дитерихса, затеявшего поход на Москву, не было.
Особенно внимательно первореченцы следили за бронетупиком. Наблюдение за ним не прекращалось ни днем, ни ночью.
Внешне все было спокойно.
В проточной воде ручейка, давшего название станции, женщины стирали белье. Стуча вальками, они негромко переговаривались, судача между собой. Мальчишки носились по путям. На скамейках у домов, на пригорке, примыкавшем к территории узла, сидели угрюмо забастовщики, томившиеся по работе. Хозяйки ходили на базар, выгадывая копейки, чтобы соразмерить цены на продукты со скудным бюджетом забастовщика. Но сколько тут было внимательных глаз солдат невидимой армии!..
Ворота бронетупика были плотно закрыты. Поезда были готовы, и, однако, они до сих пор стояли в тупике. Посты наблюдателей сообщили, что в цехе побывала комиссия. Состоялась приемка.
Последующие несколько дней не принесли ничего нового, только стало известно, что ночью в цех подвезли уголь. Стало быть, боясь неожиданностей, командование остерегалось заправлять паровозы топливом открыто.
— Ночью выведут, скрытно! — уверенно сказал Алеша на заседании стачкома.
Через три дня после приемки бронированные составы начали выводиться на магистраль.
В эту ночь дежурили Квашнин и Алеша Пужняк.
Уже перевалило за полночь, когда в цехе началось какое-то движение. Замелькали огоньки факелов, послышались голоса, лязгание буферов, пыхтение паровозов.
Алеша сжал локоть Квашнина.
— Ну, дядя! Держись!
— Мне что держаться? Я на своих на двоих стою… — отшутился Квашнин. Что начинается, это не вопрос!.. Вот куда погонят, на какой путь — это и будет вопрос.
Ворота распахнулись. Темная громада состава показалась в них. Тусклый огонек светился на правой стороне.
— Под товарный маскируется! — сказал Алеша.
Земля легонько загудела. Стрелочник на выходной стрелке махнул фонарем, сигналя о прохождении головных платформ. Свет фонаря лег на борта вагонов, выхватив из темноты трехцветные угольники и белую размашистую надпись: «На Москву!»
Набирая скорость, состав вышел из цеха. Постукивая на стыках рельсов, миновал ветку и стал вытягиваться на магистральные пути. На стрелке, возле блокпоста, замигал зеленый огонек.
— Пятую открыли! — глухо молвил Алеша. — Пошли, Квашнин! — И принялся стаскивать с себя фланелевую рубашку. Бетонщик устремился за ним. — Пятая выводит на центральный путь. Через нее из тупика номер шестнадцать подают товарные вагоны. Тупик сейчас занят бензиновыми цистернами. Надо перевести стрелку.
— Да я не умею!
— Сумеешь накинуть мою рубаху на стрелочника, спеленать и глотку заткнуть?
Квашнину не было времени ответить. Медлительный и осторожный, когда решать приходилось ему самому, бетонщик действовал быстро и точно, когда должен был подчиняться.
Шум подходившего бронепоезда заглушил их шаги. Внимание солдата-стрелочника было поглощено приближающимся бронепоездом. Он не заметил Алешу и Квашнина.
Все произошло в течение нескольких минут.
Из глаз стрелочника вдруг исчезли и огонек паровоза, и блики света на рельсах, и освещенные окна служебных построек: Алеша накинул ему рубаху на голову. В следующее мгновение, схватив, точно клещами, Квашнин приподнял его от земли и поволок в сторону. Стрелочник судорожно взмахнул фонарем, но в ту же секунду Алеша вырвал фонарь из его скрюченных пальцев. Затем стрелочник оказался на земле со связанными руками и заткнутым ртом; перепуганный донельзя, он и не пытался кричать, не вполне понимая, что с ним происходит. Он ощутил, как задрожала под ним земля, сотрясаемая тяжестью бронепоезда. Через рубаху, закрывавшую ему голову, он увидел свет, мелькнувший дважды. «Господи владыко! А вдруг бросят под поезд!» — пронеслась у него мысль. Он лихорадочно забился, пытаясь высвободиться, но медвежьи объятия Квашнина не разжались. Солдат обмяк и лишь дрожал всем телом.
8
Алеша, выхватив у стрелочника фонарь, перевел стрелку и высоко поднял зеленый огонь. К этому времени бронепоезд уже развил хорошую скорость. Покачиваясь на кривизне, перестукиваясь буферами, один за другим замелькали мимо Алеши вагоны и платформы. Пропустив половину состава, Алеша бросил стрелку, погасил фонарь.
— Давай, дядя, ходу! — крикнул он Квашнину.
С бронепоезда его окликнули. Окрик потонул в шуме движения.
Квашнин и Алеша бросились прочь через пути, к железнодорожному кладбищу.
Бронепоезд влетел на занятый путь.
Когда люди на передней платформе увидели прямо перед собой бензоцистерны, было поздно что-нибудь предпринимать. В страхе солдаты на полном ходу прыгали с платформ в наполненный лязгом и грохотом мрак.
Машинист слишком поздно услыхал предостерегающий крик. Толчок — и вслед за ним треск, оглушительный и яростный! Начался настоящий ад. Точно взбесившиеся, вагоны полезли друг на друга, превращая в щепу дерево и корежа металл. Машинист сконтрпарил, но почувствовал, что локомотив громоздится куда-то вверх и в сторону всей своей массой, вышедшей из повиновения. Бригада — откуда прыть взялась — сиганула из кабины в черную пустоту…
Хлынул бензин из раздавленных цистерн. Паровоз разбросал вокруг, во все стороны, смердящую угольную гарь и жар. Пополз дымок по земле, и вмиг вспыхнул бензин, разлившийся по полотну.
Грохот ломающихся вагонов долетел до Алеши и Квашнина. На секунду они остановились.
— Никак гореть пошло! — непослушными губами молвил Алеша, вглядываясь в темноту, порозовевшую там, откуда они бежали.
— Ну и пусть горит! — сказал Квашнин. — Можно считать, один состав со счетов долой!
Пламя ширилось, мечась по земле, а затем кинулось на деревянные части вагонов и на содержимое цистерн. Огонь вспыхнул, спрятался, выглянул опять и вдруг взъярился над путями. Уже не прячась, он облизал цистерны, перекинулся с одной на другую и победно взвился кверху, кровавым светом озаряя окрестность. Цистерны начали фонтанировать, огненным душем обдавая соседние составы…
Послышался набат на пожарной каланче. Заревели паровозы на путях. Тревога пронизала станцию и поселок. Замелькали огни на станции, между путей. Издалека донесся сигнал пожарного выезда. Пугливые черные тени заплясали на земле.
— Хорошо! — сказал Алеша.
У Квашнина лязгнули зубы. Он был бледен.
— Ну как? — спросил Пужняк у товарища.
— Страшно! — ответил бетонщик. — Эка, смотри, чего вдвоем натворили!.. Я ведь и мухи-то не трону… а тут… — он качнул головой.
— То ли еще будет… Война! — возбужденно сказал Алеша.
Красные точки, отблески полыхавшего пожара, прыгали в его темных глазах, багровые блики ходили по смуглому лицу Алеши, изменив его выражение.
«Вкрутую варен парень-то!» — подумал Квашнин, увидев его лицо.
9
Парней, «варенных вкрутую», готовых на схватку с белыми в любую минуту, было много. Русские люди хотели жить на своей земле, не спросясь разноплеменных иностранцев.
Неподалеку от Луговой, конечной остановки трамвая, справа, раскинулся небольшой садик «Гайдамак». Кто знает, как удалось куску тайги, некогда покрывавшей берега бухты Золотой Рог и исчезнувшей под натиском каменных домов на этих берегах, уцелеть, прижавшись к самому обрыву горы?
Никем не тревожимые, росли тут высоченные липы, вязы, перепутываясь кронами, черемуха раскидывала по весне свой пахучий шатер. Потом огородили это место, и кусок приветливой зелени придал тепло и уют потоку домов, что, растекаясь по берегу, достигал уже конца бухты, огибал ее и выплескивался на взлобки Чуркина мыса.
Деревья росли тут во всем своем великолепии, шелковистая трава курчавилась до самой поздней осени, устраивать аллеи было некому, и рука садовника не приглаживала первозданную прелесть этого уголка.
Даже в самые жаркие дни тут царила прохлада. Простые деревянные скамейки были вкопаны под некоторыми деревьями, они словно прятались в их тени. Весной черемуха белой кипенью своих одуряюще пахнущих цветов преображала мрачноватую красоту сада, и запах ее волнами носился по прилегающей улице.
Хорошее это было местечко для влюбленных: деревья скрывали их, как сообщники, от любопытных взоров. Сколько признаний слышали эти черемухи! Сколько молодых, горячих чувств уберегали они от чужого взгляда!.. «Гайдамак» был излюбленным местом для гулянья и отдыха молодежи мастерских Военного порта…
…Машенька вошла в сад и окинула взглядом скамейки, расположенные поближе к выходу. На второй скамейке от выхода, слева, сидел молодой рабочий. Удобно откинувшись на спинку, он сложил вытянутые ноги крест-накрест. Газета «Владиво-Ниппо» лежала у него на коленях. Рабочий подремывал, но газету держал крепко. Газета многое сказала Машеньке: это был тот человек, который ждал ее. Она осторожно присела рядом. Рабочий тотчас же скосил на нее глаза, однако позу не переменил. Машенька окликнула его:
— Гражданин, у вас сегодняшняя газета?
— Сегодняшняя, — ответил рабочий. — Да никаких новостей нету, меня от нее в сон клонит. Не хочешь ли почитать?
— Времени нету! — сказала Машенька. — А что это за газета?
— Японский брехунец! — сказал неожиданно рабочий.
Машенька насторожилась: по смыслу ответ подходил к условному, но он должен был звучать по-другому. Машенька отодвинулась от рабочего, готовая подняться и уйти, но рабочий, чуть заметно усмехнувшись, добавил:
— Испугалась, дочка? Не бойсь, не ошиблась. Держи-ка газетку да давай скорее, что принесла!
— Я не знаю, о чем вы говорите! — пролепетала Машенька, поднимаясь.
Рабочий легонько удержал ее:
— Да сядь ты, пичуга! Насчет брехунца я сказал потому, что никого вокруг нету, а то бы и ответил тебе как положено!
— А как? — спросила Машенька, пристально глядя на рабочего.
— Ну, японская — и все! — сказал рабочий, подавая ей газету.
В сад вошли два патрульных американских матроса, с кольтами у колена, в круглых белых шапочках, надвинутых на глаза, с развевающимися шелковыми галстуками на шее, долговязые, белобрысые. Они шли, толкая друг друга и переговариваясь о чем-то, довольные хорошим днем и выпивкой, которая связывала им язык, но развязывала желания и руки. Они, ступив на зеленую травку, вспомнили, видно, детство и, гогоча, принялись гоняться друг за другом.
Машенька взяла газету, стала ее рассматривать. Сунула в середину письмо, которое пересылал Алеша комсомольцам Военного порта, и возвратила газету владельцу. Тот сложил ее, положил в карман, неприметно усмехнулся Машеньке на прощание, поднялся и медленно вышел.
Машеньке не хотелось уходить из сада. Сердце у нее трепетало. Она хорошо выполнила поручение, и сознание этого радовало. Самая младшая из всей пятерки Тани, к тому же маленького роста, она боялась, что к ней относятся несерьезно. Она приуныла после отъезда Виталия, который ко всем девушкам относился одинаково, и боялась оказаться не у дел, так как Алеша никогда не брал ее в расчет. А тут он сам вручил ей пакет и сказал: «Ну, маленькая рыбка, хочешь в большом море плавать?» Еще бы Машенька не хотела!.. Когда она разносила листовки, она разбрасывала их, как сеятель зерно, не зная, которое из них прорастет. А тут — совсем другое дело: она видела живых людей, которые были объединены с ней общим делом и были родными, хотя она не знала их раньше, как не знала и этого рабочего с газетой, с которым только что рассталась. А сколько их, таких, как он!..
Теперь Машенька уже не завидовала Тане и Соне. Новые силы чувствовала она теперь в себе…
Машенька поднялась и направилась к воротам. Когда она подходила к скамейке, на которую, угомонившись, сели американцы, один из матросов вытянул свои длинные ноги. Дорожка была загорожена. Машенька остановилась.
— Посторонитесь, пожалуйста. Мне надо пройти!
Матрос, коверкая русские слова, обратился к Машеньке:
— Мы не понимайт по-русски, а? Куда вы идет, литтль мисс? Не надо торопиться. Надо посидеть с нами, а? Немного разговаривать!
Машенька, покосившись на осоловелые глаза матросов, резко повернулась, чтобы обойти скамью. Тогда матрос схватил ее за талию и усадил рядом с собой. На Машеньку повеяло винным перегаром.
— Сит даун, плиз, май бэби! Сидите…
Парни были здоровенные. Точно клещами, вцепился в нее американец, прижимая к скамейке. Машенька сказала тихо:
— Уберите руки. Я буду сидеть!
Матрос загоготал. Огромной своей ручищей он погладил Машеньку по голове, точно ребенка.
— Молодец, девотшка! Ю ар гууд гёрл…
В ту же секунду Машенька рванулась со скамьи и побежала к выходу. Матросы кинулись вдогонку. Едва она сделала несколько шагов по улице, они настигли девушку. Сопя, один обнял ее. Второй хохотал, что-то вскрикивая.
Возмущенная и испуганная, Машенька вырывалась из рук американца, но это было не легко сделать. Тогда Машенька принялась колотить матроса как попало. Она была совсем маленького роста, и когда он, спасаясь от ударов, высоко поднял голову, Машенька могла дотянуться только до его плеча. Зрелище это казалось второму матросу таким смешным, что он, схватившись за живот, заливался идиотическим смехом.
В мастерских Военного порта прогудел гудок на обеденный перерыв. Черная толпа мастеровых появилась у ворот порта. Группа молодых парней шла мимо матросов и Машеньки. Машенька крикнула:
— Ребята! Помогите!
Но мастеровые шли мимо. До Машеньки донеслось:
— Не поделили чего-то!
В группе послышались смешки. Тогда совсем обессилевшая Машенька отчаянно закричала, обратив к проходившим свое покрасневшее, залитое слезами лицо. Растрепанные косы ее метнулись в воздухе.
— Това-а-рищи! Помогите же! Товари-и-щи!
Кое-кто остановился. Один из ребят громко сказал:
— А девка-то наша, ребята. Слышь, кричит что!
Второй торопливо сказал:
— Эй, хлопцы! Матросы-то патрульные.
Машенька, воспользовавшись тем, что матрос немного опустил голову, изо всей силы ударила его по носу. Кто-то из мастеровых одобрительно крякнул:
— Вот дает! Молодец!
Матрос так сдавил Машеньку, что она пронзительно крикнула и задохнулась.
— Ребята! — крикнул один мастеровой. — Ломает девку-то, глядите! А ну, давай!
Он кинулся на помощь Машеньке. И вся ватага бросилась вслед за ним. Один из мастеровых нес с собой обрезок сорокамиллиметрового резинового шланга. Он молча подскочил к матросу, державшему Машеньку, и с силой ударил его шлангом по голове. Руки матроса разжались. Машенька отскочила в сторону. Матрос рухнул на землю, пачкая в пыли свой белый костюм. Второй матрос сразу отрезвел. Он кинулся к забору и принялся расстегивать кобуру кольта.
— Гоу бак! — крикнул он парням. — Назад!
Он не задумывался — стрелять в массу безоружных рабочих или не стрелять. Для него все в этом городе, особенно те, кто был плохо одет или покрыт копотью, все были большевики. Он поднял кольт и повел им по русским парням. Он выбирал, кого уложить первым, и наслаждался тем, как подались назад ребята, ждавшие выстрела. Но в ту секунду, когда матрос готов был нажать гашетку пистолета, один из парней, самый маленький изо всех, стремительно ринулся к нему и повис на руке. Пуля впилась в асфальт. Второго выстрела не последовало. Мастеровые гурьбой кинулись на американца.
Машенька с ужасом глядела на это: «Господи! Ведь убьет кого-нибудь!»
Из кучи катавшихся по асфальту тел вырвался один портовый. На глаза ему попалась Машенька. Он крикнул ей, и странное веселье было в выражении его лица и в голосе:
— Эй, кнопка! Беги, дурная, беги… Вон трамвай идет!
Из-за поворота показался трамвай.
— Я тебе говорю, беги! — повторил мастеровой.
Он наклонился, и Машенька увидела, что он лихорадочно выбирает из патронной сумки потерявшего сознание матроса обоймы к кольту.
— Семь бед — один ответ! — сказал он.
Появился еще один рабочий, в руках у него были кольт и матросский пояс с кобурой.
Оба парня побежали вдоль улицы, пересекли ее и тотчас же скрылись из виду.
Машенька вцепилась в поручни трамвая, вскочила в вагон, набиравший скорость, и высунулась в окно. Она увидела, как бросились врассыпную портовые ребята. Американец, у которого без пояса сползли брюки, с бешенством грозил кулаком убегавшим мастеровым. Тяжело поднялся матрос, оглушенный ударом шланга.
Пассажиры трамвая высовывались из окна, разглядывая американских матросов.
Сердце Машеньки колотилось, но теперь уже от того, что все кончилось хорошо и американцы не успели воспользоваться оружием. Ей все еще чудились налитые кровью глаза матроса, который поводил по толпе рабочих своим пистолетом, выбирая жертву. Машенька не сомневалась, что матрос уложил бы кого-нибудь наповал, он не мог промахнуться… Если бы не этот маленький, что кошкой бросился на матроса! Хоть бы имя его узнать! Машенька даже лица его не видела…
— Что там такое? Что за драка? — спросили Машеньку в вагоне.
— Понятия не имею! — ответила Машенька. — Наши ребята, кажись, американцев побили.
— За что? — спросили Машеньку.
Она не ответила, забиваясь в самый далекий угол. Из толпы пассажиров кто-то ответил за нее:
— За что надо, за то и побили!
Глава 14 Таежные хозяева
1
В условленном месте Виталия встретил верховой.
Это был парень чуть постарше Бонивура. Смолевой его чуб с начесом курчавился из-под козырька сбитой на затылок фуражки, вылинявшая солдатская рубаха обтягивала тугие плечи, латаные брюки были заправлены в сапоги. Парень, неторопливо оглядывая окрестность, постукивал вязовым прутиком по рыжим голенищам.
Виталий подошел к парню.
— Земляк! Закрутить нет ли? — спросил он.
Парень окинул его ленивым взглядом.
— А свой где?
— Есть, да легкий.
— У меня таежный самосад, топором крошенный.
— Вот таежного-то я и ищу!
— Ну, тогда другое дело! — сказал парень, потягиваясь. — Меня Панцырней зовут. А ты кто?
— Бонивур.
Панцырня протянул Виталию свою широкую ладонь и крепко пожал руку комсомольцу. Приземистый, широкий в плечах, он, видимо, был по-медвежьи силен. Об этом свидетельствовала вся его снисходительно-насмешливая манера держаться.
Поодаль, в кустах, была привязана недоуздком за тальник вторая лошадь для Виталия. Неловко взгромоздившись на нее, Виталий заметил, что Панцырня с веселым недоумением следит за его посадкой.
— Что, товарищок, в городу-то на конях не ездят? — спросил партизан.
— Нет! — коротко ответил Виталий, пожалев, что до сих пор не научился верховой езде.
В отряд приехали к вечеру.
Шалаши, крытые корьем, располагались полукругом. В подкове, образованной ими, стояли телеги с разным скарбом. Четыре повозки, между шалашами, были прикрыты холстом. На одной из них, под рядном, Виталий угадал очертания пулемета. Коновязи, сделанные из жердей, виднелись неподалеку. Возле шалашей находились очаги, сложенные из камня. Заметил Виталий и артельную печь из необожженного кирпича с большой плитой. Дымки от костров, на которых в этот час готовили пищу, вились над становищем, смешиваясь со смолистым запахом лесной заросли.
Всюду были люди. Кое-кто из партизан дремал, прикорнув возле шалаша, нимало не беспокоясь, что над ним вьется мошкара. Некоторые партизаны беседовали между собой. У многих были гранаты на поясе, кинжалы и револьвер. Впрочем, такой воинственный вид был лишь у молодежи. Пожилые люди ограничились только красными лентами на фуражках и шапках; они были здесь как дома и оттого не обременяли себя оружием.
Отовсюду на приехавших устремились любопытствующие взгляды. Плохо державшийся в седле Виталий, чтобы не быть посмешищем в глазах партизан, перед въездом в лагерь слез с коня и теперь шел, держа его в поводу.
В вершине «подковы» находился шалаш просторнее остальных. По тому, что над ним развевался флажок, а возле стоял часовой, Виталий понял: штаб. Панцырня сказал:
— Ну, приехали!
В дверях показался высокий, худощавый, немолодой блондин в потертой кожаной куртке и таких же штанах. Гимнастерка его была застегнута на все пуговицы, ичиги смазаны салом, русые волосы аккуратно расчесаны.
— Топорков! — вполголоса сказал Виталию провожатый и обратился к вышедшему: — Приехали, Афанас Иваныч!
— Ну, здравствуйте! — сказал командир отряда Виталию. — Пойдем потолкуем, товарищ Бонивур.
Вслед за Топорковым Виталий вошел в шалаш. Сели у стола, сделанного из жердей. Топорков пристально посмотрел на Виталия и, не распечатывая поданного ему юношей пакета, сказал:
— Ну, дай взглянуть, какой ты есть.
Виталий шутливо ответил:
— Весь тут, товарищ Топорков!
Командир серьезно сказал:
— Вместе жить и воевать будем! А может, и помирать придется вместе.
Лучистые глаза Топоркова, молодившие его, устремились на Виталия. И Виталий рассматривал нового товарища. Топорков ему понравился с первого взгляда.
На командира приятно было глядеть. Облачен он был, правда, в одежду, видавшую виды, — кожанка поистерлась на складках, кое-где порыжела, поистончилась, но все пуговицы были на местах, тщательно пришитые суровой ниткой, складки заправлены за ремень, который туго охватывал тело командира, одернуты назад. От подтянутости и выправки одежда Афанасия Ивановича казалась щегольской, несмотря на свою ветхость. Все сидело на нем ладно, пригнано так, что невозможно было и представить себе Топоркова расстегнутым, расхлестнутым. Он был невысок, но статен, ступал легко, но твердо, говорил скупо, но к месту, и не любил лишних слов, умел выслушать человека с душой, с сердцем, но умел и приказать! Иногда сквозь твердость в его лице проскальзывала такая хорошая усмешка, что сразу становилось ясным, что Топорков за острым словцом в карман не полезет, знает цену и слову и делу, и думалось, что любит он и спеть и сплясать, если выдастся для этого час… Такой человек в бою — опора, в работе — подмога, в горе — утеха. «Товарищ!» — подумал о Топоркове Виталий, разглядев командира. Все в Топоркове широкий, упрямый лоб, прямой нос с расширенными ноздрями, небольшой, твердо очерченный рот с крепкими, полными губами, крупный, тяжеловатый подбородок, ясный взгляд голубых внимательных глаз, скупость движений и точность их все показывало, что командир не привык попусту тратить ни слов, ни времени. Почтительное «Афанасий Иванович», как называли в отряде командира, показывало, что его любят и уважают, а когда боевые товарищи испытывают такие чувства к командиру, то, не задумываясь, готовы отдать за него свою жизнь и по первому слову его пойдут в огонь и в воду.
— Я думал, ты постарше будешь! — сказал Топорков Виталию напрямик.
— Состарюсь, успею, — ответил Виталий, не обидевшись.
— Ой ли? — сказал тот. — В нашем деле на это не надейся.
— А чего смерти бояться?
— Я-то ее не боюсь, — молвил Топорков, — и тебе не советую. Только у нас в отряде народ разный… В деревне до сих пор по старинке живут, молодежи не шибко верят, говорят: молодо-зелено! Вот тебе молодость и помеха… Если что не так сделаешь, смеяться будут… Может, трудно спервоначалу придется…
— Я не белоручка, Афанасий Иванович!
— А ты не дрейфь! — продолжал Топорков, будто не слыша замечания Виталия. — Сразу характер покажь, твердость и к старичкам уважительность, что тоже надо.
— Попробую! — сказал Виталий.
Отцовское наставление Топоркова показало юноше, что он понравился командиру отряда и тот готовится работать с ним.
Помолчав, Топорков добавил:
— Коли чего не знаешь, спроси. В деревне-то, поди, многое тебе в диковину покажется. Не дай бог, коли уличат, что только делаешь вид, будто знаешь. Сразу из доверия выйдешь. А ворочать его трудно. Иной раз и знаешь, да помолчи, дай другим сказать: не любят у нас всезнаек да попрыгунчиков. Не сердись, что с первого раза осекаю тебя! Лучше предупредить, чем потом на ходу стреноживать. Человек ты городской, к деревне не привычный. Городским не форси, деревенским не гнушайся… На вкус да на цвет товарищей нет!
Виталий, со вниманием слушавший Топоркова, негромко сказал:
— Я понимаю, Афанасий Иванович!
— Боле-то докучать тебе не буду, а то, о чем сегодня речь шла, на приметку возьми. Я сам рабочий, шахтер. Революция сюда поставила. Спервоначалу тоже все непривычно казалось, пока во вкус не вошел, пока не освоился со здешними порядками да обычаями.
— За науку спасибо!
Топорков пристально поглядел на комсомольца: не с сердца ли говорит, не обиделся ли? Увидев, что Виталий серьезен и искренен, закончил:
— И ты меня поучишь, коли придется.
2
Виталий приглядывался к отряду. Кое-что ему не понравилось. Посты выставлялись, но бойцы ходили в наряд неохотно, препирались из-за очередности. Вечерние поверки обнаруживали иной раз отсутствие многих партизан.
Дядя Коля предупредил Виталия, что в отряде Топоркова, который держали в резерве, люди привыкли друг к другу, мирились с недостатками окружающих и сами были не особенно исправными.
…Как-то, оставшись наедине с Топорковым, Виталий сказал потихоньку:
— Афанасий Иванович! У меня создалось впечатление, что мы тут живем, как на даче, вольготно.
— А что? — нахмурился Топорков.
— Смотри, сегодня сколько людей в расходе.
— На уборку ушли: хлеба осыпаются. Дома хозяйство рушится. Со спросу ушли, — ответил Топорков, недовольный не то замечанием Виталия, не то большим расходом людей.
Виталий помолчал и сказал:
— Представь себе, что сегодня отряд бросят в дело. Нас ведь врасплох застанут, Афанасий Иванович!.. Вот смотри, что я нашел сегодня. — С этими словами Бонивур вынул из кармана винтовочный затвор. — В траве валялся… Чей? Я прошу тебя помнить предупреждение Михайлова, что события развернутся со дня на день.
Топорков хлопнул Виталия по плечу. Морщины на его лбу разгладились. Он улыбнулся:
— Ты меня не агитируй! Насчет готовности — ты рано цыплят считаешь, у нас не казарма. А что до прочего, давай поговорим… Может, пригляделся я, кой-чего и не замечаю. Но за затвор со света сживу. Вот до чего же, черти, зажились, за оружием не смотрят! Это плохо!
Упрек Виталия встревожил Топоркова. Он никак не мог успокоиться.
— Врасплох нас не застанут. У меня во всех селах окрестных свои люди сидят. Чуть закопошатся где япошки да белые — мигом уведомят. Нина в Раздольном до сих пор…
На вечерней поверке Топорков приказал всем партизанам стать в строй с оружием. После переклички он скомандовал:
— А ну, винтовки на пле-чо!
Топорков с Виталием стали обходить строй. Они шли мимо партизан. Виталий смотрел на их лица. Здесь были люди всех возрастов, от семнадцати до шестидесяти лет. Многие носили усы, кое-кто красовался пушистой бородой, а рядом стояли и совсем юноши, подбородка которых еще не касалась бритва. Виталий отметил про себя, что в строю партизаны выглядели лихо, совсем не такими, какими казались они в будничной суете лагеря, готовя пищу, валяясь в шалашах или бесцельно сидя на пеньке. «Народ-то боевой! — невольно подумал он. — Но как это вяжется с утерянным затвором?»
Возле одного из партизан Топорков остановился и сказал, пронзительно глянув на парня:
— А затвор где, Тебеньков?
Партизан переступил с ноги на ногу. Топорков показал на винтовку:
— Это что такое?
— Ну, винтовка.
— Это с затвором — винтовка. А без затвора — палка! — резко сказал командир. — Ты знаешь, потерял затвор — потерял винтовку! А знаешь, сколько она стоит?
Партизан опустил глаза. На лице его было написано смущение.
— Я заплачу! — сказал он.
— Чем заплатишь? — презрительно произнес Топорков. — Мы оружие в бою добываем, кровью платим за него. Ты мне за винтовку кровью своей заплатишь?
Тебеньков густо покраснел. Отряд притих. Молодой партизан оглянулся. Но в укоризненных взглядах товарищей он прочел то же осуждение, которое выразил Топорков. Спустя мгновение он, однако, оправился, поднял голову.
— За куст не спрячусь… — сказал он. — На то и в партизаны шел.
Топорков прищурился, бросив искоса взгляд на Виталия. Тебеньков добавил:
— А затвор найду!
— Черта лысого ты найдешь! — с сердцем сказал Топорков, вынимая из кармана затвор, найденный Виталием, и вставляя его на место. — Раньше тебя нашли. Знаешь, что в старой армии за утерю затвора полагалось? Суд. Дисциплинарный батальон. Арестантские роты. Вот что! Я бы тебя к черту из отряда выпер за это! Да спасибо скажи Бонивуру, заступился. Ты бы у меня загудел отсюда!.. Партизан!.. — Помолчав, уже другим тоном командир сказал: — Бери да помни! — и вернул Тебенькову винтовку.
Тот благодарно посмотрел на Виталия. Но Бонивур, не заметив этого, сам с удивлением глядел на Топоркова: не оговорился ли тот? Командир незаметно подмигнул ему: мол, ничего, так надо!
После поверки Тебеньков смущенно подошел к Виталию.
— Спасибо вам за заступку! — сказал он.
— В другой раз не теряй, — ответил Виталий.
— Кабы выпер меня Топорков из отряда, мне жизни бы не стало — позор на всю округу, девки засмеют.
— А ты не девок бойся! — сказал Виталий. — Товарищей бойся, они тебе в бою защита, да и того же от тебя ждут.
Панцырня, стоявший подле Тебенькова, ухмыльнулся.
— В бою?! — протянул он. — Какой там бой! С зимы в отряде, а никаких боев не видал!
— Ну, это ты зря, Панцырня! — негромко сказал кто-то. — Товарищ подумает, что мы и пороху не нюхали! Чего ты врешь-то?
— Ну, было такое дело! — отозвался Панцырня. — В феврале ходили на дело. Японцев пощелкали малость. Думал я — пойдет теперь драка, а нас отвели, застопорили. Говорят, пока в этом месте, мол, не надо объявляться! Ну, сидим, молчим. Округ нас дерутся знатно… То и дело слышишь — там разъезд сожгли, там поезд под откос пустили… На Сучане как белякам пить дали? Слыхал?.. А мы в лагере живем, небо коптим. Будто малые ребята: японцев не тронь, беляков не замай… Я в отряд зачем шел, ты как думаешь, а? Что я, не видал, что ли, этого? — Панцырня кивнул по сторонам.
Горьковатый дымок от костров стелился по воздуху. Синий сумрак наступал с востока, понемногу скрадывая очертания окрестных предметов. Он поглотил уже мелколесье справа, застлал долинку за холмом. Кровавые блики от багрянца облаков, окрашенных снизу лучами уже невидного солнца, легли на гладь реки, превратив ее в расплавленный металл.
3
Вокруг Бонивура и Панцырни понемногу собрались люди, прислушиваясь к их разговору. Кто-то поддакнул Панцырне:
— Это верно, что небо коптим!
Обрадованный поддержкой, Панцырня заговорил о том, что волновало партизанскую молодежь. Вынужденное бездействие отряда было тягостным для партизан Топоркова. Они искренне завидовали тем отрядам, которые находились в беспрерывных стычках с японцами и белыми еще с весны, и считали себя несправедливо обойденными.
Панцырня сказал:
— Вот, ей богу, коли еще месяц просидим так-то, я к Утюгову на Сучан подамся!.. Слышал, поди, там к черту пути взорвали… Почитай, неделю поезда не ходили! У Кневичей каппелевцам жару дали, в плен двух офицеров взяли…
Успехи собратьев по оружию, которым посчастливилось быть в местах непосредственного соприкосновения с противником, видимо, были хорошо известны топорковцам, потому что вслед за словами Панцырни послышались голоса:
— На прошлой неделе японский поезд под Ипполитовкой спустили под откос… Вот это партизанское дело!
— А на шестьдесят первой версте!
— А под Кангаузом!
Панцырня убежденно сказал:
— Уйду, право слово, уйду… К Утюгову, а то к Сиротникову.
— Мели, Емеля, твоя неделя! — недовольным голосом оборвал Панцырню один из партизан. — «Уйду, уйду»! Ну и иди! Ты что думаешь, коли ты партизан, так на тебя и управы нету? Куды хошь, туды и пошел? Нет, паря, это не дело! В головке-то тоже люди сидят… У них план-то, поди, такой — на весь край, где когда драться, а когда где и схорониться!
Виталий присмотрелся к говорившему. Это был крепкий партизан, лет пятидесяти пяти. Слова Панцырни, видимо, всколыхнули старый спор о дисциплине, потому что Панцырня, махнув рукой, сказал:
— Ну, вы, дядько Колодяжный, сейчас заведете свою погудку… Да мы-то не солдаты, а партизаны! Надо все-таки понимать!
— Ты пойми! — с сердцем сказал Колодяжный. — А я-то ученый! По-моему, как ружье в руки взял, так уж и солдат! Вот что!
Никто не поддержал Панцырню в этом споре. Но один партизан со вздохом сказал:
— Поди-ка, до зимы так досидим?
— Может, ничего и не будет? По домам пойдем, другие за нас своими боками отвоюют! — выкрикнул из толпы совсем мальчишеский голос.
Виталий оглянулся, но не мог увидеть говорившего.
— Будет! И скорее, чем мы ждем!
— А ты откудова знаешь?
— У них в городу наперед все знают.
Виталий огляделся. Кряжистый Колодяжный, с седоватой курчавой бородой, окладкой легшей на воротник, из-под лохматых бровей вприщурку наблюдал за говорившими. Бонивур спросил его неожиданно:
— Слышь, отец! Какая погода, по-твоему, завтра будет?
Партизан повел на него бровями:
— Утром ясно будет, ветрено… А к вечеру, видно, насуропится… Кабы к ночи дождичка не было… Так, что ли, кум Лебеда? — обернулся он к партизану чуть помоложе, с лукавой искоркой в голубых глазах.
Тот не спеша отозвался:
— Эге ж, кум!
— А ты, отец, откуда знаешь? — спросил Бонивур Колодяжного.
Лебеда ответил за кума быстренько:
— В небо кровинкой брызнуло с вечера — быть с утра ветру. Дым-то стелется не по земле, а пеленой плывет выше росту, стало быть, воздух воложный — вода в ём стоит. На мокро ветер с восхода пойдет, с Татар, а оттоль завсегда дождя жди.
Виталий спросил партизан:
— Правду говорят дядьки?
— А то что!.. Они все приметы знают.
Виталий выдержал паузу:
— Вот и на войне свои приметы есть. По этим приметам выходит: скоро начнутся решительные действия.
— Это какие же приметы?
— Белые формируют части. Подтягивают войска. Усилились аресты подпольщиков. Боеприпасы перебрасывают к Иману. Укрепили свои части, которые стоят против НРА… Пулеметов подбросили, пушек. Японские советники в полки и даже батальоны приставлены.
Лебеда вставил:
— И то!.. Коли в солдаты молодежь берут, значит много людей надо.
Тебеньков, блестя живыми черными глазами, тронул Бонивура за рукав:
— А в городе-то что делают товарищи?
Из темноты донесся насмешливый возглас:
— Не слыхал, что ли: в подполье сидят… Пережидают!
Легкий хохоток обежал толпу. Рассмеялся и Виталий.
— Ну, наше подполье не совсем походит на то, в котором можно отсидеться. Я в нем два года находился. Если хотите, могу рассказать.
— А ты-ка дядю Колю знаешь? — спросил кто-то.
— А Нину и Семена, верно ли, обманом у белых взяли?
Вопросы эти показали Виталию, что за настороженной насмешливостью у спрашивающих стояло и любопытство, и уважение к неведомым собратьям там, в городе. Здесь, вдали от Владивостока, он совсем по-новому ощутил и опасности, и дружбу, и товарищей, и радости. И Алеша с Таней, и Антоний Иванович с Квашниным, и Ли, и Степанов, и начало забастовки, и освобождение Нины и Семена так ярко представились ему! Сердце его тягостно сжалось от тоски по людям, с которыми сжился он. Ему захотелось рассказать обо всем, что с такой ослепительной силой вдруг вспыхнуло в его мозгу.
Темнота поглотила его собеседников. Виталий уже не различал их фигур.
— Белые не могут нас победить, — тихо сказал он. — За рабочим классом сила… и правда. Правда подпольщикам твердость дает. Правда и вас в тайгу привела… Взять, к примеру, первореченский бронецех: белые на шее сидят, но рабочие свое дело делают… А ведь смерть за углом ходит…
…Тишина, прерываемая лишь короткими вздохами да треском разгоревшейся цигарки, показала Виталию, как близко к сердцу принимают партизаны все, о чем он рассказывал.
— Выходит, в городе-то каждый день война? — вздохнул один, разминая затекшую ногу.
Голос Топоркова прервал рассказ Бонивура:
— Эй, Виталий! Гляди-ка, ночь уже.
В шалаше командир хлопнул Бонивура по плечу.
— Слушал я тебя. Очень ясно ты говоришь. Нашим потрафил… Про город ладно рассказал, к месту. А то у нас многие, как бирюки, в лесу зажились, думают, что кроме них, и другой силы нигде нету…
4
Утром Топорков позвал Виталия:
— Слышь-ка, пошли со мной!
Они миновали посты. По ложбине спустились к речке. Пошли вдоль берега, поросшего кустарником, на желтых стеблях которого росли сиреневые цветочки. Топорков молчал, изредка поглядывая на Бонивура. Виталий ухватился за один стебелек, машинально дернул его. Стебель изогнулся в его руке, но нисколько не подался. Виталий дернул сильнее. Однако и на этот раз ему не удалось выдернуть стебель. Виталий остановился. В двух шагах остановился и Топорков.
— Что, каши мало ел? — усмехнулся он.
Виталий озадаченно посмотрел на командира. Ухватившись за стебель покрепче, он дернул изо всей силы, но с тем же результатом: корень плотно сидел в земле.
— А ты посильнее! — подзадорил Топорков.
Виталий, уже ожесточась, принялся тянуть стебель. Однако, сколько ни напрягал он силы, растение не поддавалось ему, гибкие его прутья были необычайно крепки, корни цепки.
— Не трудись! — сказал Топорков. — Видно, в деревне не жил! Это держи-корень, леспедеца по-ученому… За землю держится, как мужик, до смерти!
— Хорошо сказано! — заметил Бонивур.
— У нас мало говорят, а как скажут, так на всю жизнь.
Топорков дошел до песчаной косы у переката.
— Давай искупаемся!
Он скинул с себя вооружение, одежду и бросился в воду. Виталий не заставил себя упрашивать. Они поплыли. Топорков плыл саженками, сильно ударяя руками и наполовину высовываясь из воды. Виталий быстро догнал и обогнал его. Топорков удивленно сказал:
— Эка штука! Да ты как плаваешь-то, не по-нашему… По-каковски это?
— У моряков выучился! — ответил Виталий, плывя кролем.
— Чудно! — сказал Топорков и прищурился. — Смотри-ка ты! А главное, тихо, ничего не слышно… Так плавать — только посты снимать. Ты, паря, ребят наших этому-то плаванью научи.
Искупавшись, они оделись. Топорков взял свой карабин.
— Ну, комиссар, во-он сорока сидит, на сучку… Дай-ка ей!
Не слишком уверенно Виталий взял карабин. Он приложился, тщательно, как ему казалось, прицелился, нажал спуск. Грохнул выстрел. Сорока лишь перелетела на другое место. Виталий недоумевающе смотрел на птицу Топорков усмехнулся в усы.
— Дергаешь, дорогой… Коли у нас все так будут стрелять, белым да япошкам спокойная жизнь настанет.
Виталий смутился. Топорков взял у него карабин.
— Дай-кось я ей помогу свалиться!
Он вскинул ружье. Почти одновременно с выстрелом сорока, распластав уродливо крылья, упала вниз.
— Наука нехитрая, — сказал Топорков. — Только сноровка нужна… Я тебя к Колодяжному припарю — он живо выучит! А то, знаешь, ты нас за советскую власть агитировать будешь, — это хорошо. Но коли сумеешь белого конника спешить, агитация куда крепче выйдет! Так? Али не так?
Виталий кивнул головой.
— Колодяжный — он мастер, — продолжал Топорков. — И Нину обучал. Девица-то как приехала к нам, давай речи сказывать… Ее слушают… Девка красивая, слова разные выговаривает — про мировую революцию, пролетариат… Складно говорит! Вся разгорится, глаза что звезды, щеки будто малина. Картинка, да и только… Да… А Панцырня наш, парень въедливый, настырный, говорит ей как-то: «А что, девка, ты с ружья так же стреляешь, как глазами, аль нет?»
— Ну? — не выдержал Виталий.
— Нинка — за винтовку! Пах! Пах! Уж не знай, куда палила: чисто все пули за молоком послала… Затюкали ее ребята за такую стрельбу вконец. Ну, характер у нее, я тебе скажу!.. Смолчала девка. Колодяжного упросила. Тот ее подучил малость. Так она Панцырню самого затюкала через две недели! Огонь, а не девка! — Топорков помолчал. — Тебе-то испытание делать, поди, не станут… А для себя — не мешает. У Лебеды рубку посмотри. У него кисть что железо. Двухвершковый ствол рубит. Силен да и сноровист…
5
Упрек Бонивура в слабой боевой подготовке отряда, сделанный им сгоряча Топоркову, больно задел и встревожил Топоркова. Командир круто взялся за партизан. Теперь он целыми днями проводил с ними занятия на местности, тренировал в выносливости и умении драться в условиях леса и на подступах к лесам. Сначала это вызвало недовольство партизан и насмешки: «Тоже академию затеял!» Прозвище «генерал», брошенное кем-то из записных остроумцев, пристало к Афанасию Ивановичу.
Однако спустя некоторое время плоды этой напряженной работы сказались. Прежняя развалочка, столь поразившая Виталия при его прибытии в отряд, исчезла, и лагерь партизан стал более, чем прежде, походить на военный лагерь.
Дядя Коля не забыл о Бонивуре. Несколько раз его посланцы, в большинстве молодежь, появлялась в лагере, привозя с собой из Владивостока пачки газеты «Красное знамя» и целый ворох новостей.
Новостей было много, и Виталий радовался, слыша о том, что творилось повсюду. Первореченцы продолжали бастовать. В Поспелове новобранцы, согнанные из самых разных мест для формирования и муштровки на Русский Остров, где белые считали их изолированными от большевистской пропаганды, однажды ночью перебили своих офицеров, сняли караулы в артиллерийском училище, которое так только называлось, а на самом деле было каппелевской контрразведкой, забрали с собой пятнадцать арестованных и на двух катерах ушли через пролив. Ни катеров, ни бежавших не удалось найти. Караулы помогал снимать какой-то писарь из поспеловских, который знал в лицо часовых и расположение всех казематов. Все было обделано так ловко, что раскрылось лишь утром, когда и погоню посылать было уже бесполезно.
— Что за писарь? — живо спросил Виталий.
Никто, однако, не знал его фамилии.
Владивостокские комсомольцы наклеили на автомобиль Дитерихса листовку с призывом к мобилизованным — бросать оружие и переходить к красным, если их погонят на фронт. Самое смешное было в том, что Дитерихс не сразу позволил сорвать листовку, когда какой-то услужливый фельдфебель вознамерился ее отодрать, — комсомольцы снабдили свою листовку изображением трехцветного добровольческого угольника, и Дитерихс принял ее за свое воззвание.
Да, новостей было много. В окрестностях Посьета, населенных преимущественно корейцами, организовался корейский партизанский отряд под командованием Николая Пака; отряд контролировал пограничную полосу в этом районе. Вблизи Никольска-Уссурийского начал успешные действия отряд, большинство бойцов которого состояло из китайцев. Руководил китайской группой какой-то совсем молодой китаец, по прозванию «Маленький». Отряд был летучим. Сделав налет на белые посты, — едва поднималась тревога и каратели садились на коней, — отряд тотчас же исчезал, растворяясь в степях Маньчжурии либо рассредоточиваясь среди местного китайского населения огородников, рогульщиков, чернорабочих. Отряд отличался дерзостью и смелостью. Бывало и так, что он встречал карателей то на подходах к месту назначения, то на обратном пути. Отряд обстрелял однажды даже машину Дитерихса под Никольском…
Борьба разгоралась. Это было видно и по тому, как неустанно пополнялось вооружение партизанских отрядов. Топорков сказал однажды Виталию:
— Виталя! Придется тебе на сто пятую версту съездить.
Бонивур вопросительно глянул на командира. Тот с сияющим лицом вертел в руках какую-то бумажку; он обрадованно хлопнул по столу рукой и добавил:
— Срочное дело, Виталя! Возьмешь там кое-что.
Виталий ждал разъяснения. Но Топорков ничего больше не сказал и посоветовал, не мешкая, отправляться.
Виталий быстро переоделся.
Никто бы не узнал его в замазанном, закопченном смолокуре, в неряшливой одежде, покрытой заплатами. Когда он облачился в это рубище и пошел к штабной землянке, чтобы показаться Топоркову, часовой с удивлением поглядел на него, заступил дорогу и сказал сурово:
— Куда? Куда? Откуль ты, такой хороший, взялся? А ну, давай отседа уматывай, золотая рота! — и засвистел, вызывая караульного начальника.
На шум вышел Афанасий Иванович. Он узнал Бонивура и захохотал.
— Ай да смолокур! Ай да мученик божий! Не подать ли тебе Христа ради?.. Ну, Виталя, учудил, ей-богу, не хуже, чем в театре!
Тут и часовой, рассмотрев, кого он гнал от землянки, присоединился к хохоту Топоркова… Услышав шум, партизаны гурьбой повалили к штабу. Топорков втолкнул Виталия в землянку, насилу отдышался, и долго еще смешинки вспыхивали у него на глазах, пока он давал юноше пропуск, пароль и отзыв на сто пятую версту.
Спустя некоторое время на одной из самых сильных лошадей, запряженной в телегу с двойным дном. — хитроумное сооружение партизанских конспираторов, Виталий выехал из отряда. Немало выдумки потратили партизаны на то, чтобы и лошадь обрядить под стать вознице: шерсть ее была взъерошена самым причудливым образом, брюхо и круп вымазаны навозом и сажей, грива спутана. Когда маскировка лошади была закончена, партизан Тебеньков, хозяин лошади, поглядев на нее, сплюнул огорченно и с сердцем сказал:
— От пропастина какая! Серко! Да неужто это ты? Теперь тебя, брат, только волкам выдать, все одно партизанский вид ты потерял!
Лошадь и возница являли вид унылой и застарелой нужды, примирившейся со всякими бедами. Любой хозяин, глянув на эту пару, сказал бы, махнув рукой: «Эка, до чего человек и себя и коня довел, байбак треклятый, поди, печь насквозь пролежал!..»
6
Стояла сухая жара. Нагретый воздух слоился над землей в отдалении. Бежали мимо пригорки, серая дорога с толстым слоем пыли змеилась впереди, медленно передвигались дальние рощи и деревенские домишки. Мягко постукивали колеса, чуть подпрыгивала телега, попадая то на камни, то на выбоины, слышался мерный, глухой топот коня. Взбитая копытами и колесами дорожная пыль вилась за телегой и медленно оседала.
Конь то и дело тянулся к начинающей буреть траве или к неубранным овсам, что свешивали свои усатые метелки к дороге. Нещадно стрекотали кузнечики, летали над телегой стрекозы, крылья которых светились радужным цветом. Проносились воздушные путешественники-паучки с распущенной золотящейся нитью паутины, державшей их в воздухе.
Солнце, жар и тишина царили здесь невозбранно. И в мирном поле, напоенном светом, в потоках которого дозревали хлеба, среди бесконечных просторов, сливающихся на горизонте с выгоревшим небом, казалось странным, что там, за синеватой полоской гор, готовы вспыхнуть орудийные раскаты, которые расстреляют эту великую светлую тишину, что царила вокруг, — нет деревни и леска, нет оврага и пригорка, где не чернел бы окоп, нет дома, в котором не зрела бы готовность к новым схваткам.
Мысли обуревали Виталия. За последние месяцы он почти ни минуты не принадлежал себе; так редко выдавалась возможность побыть одному, все на людях и на людях. А тут, оставшись один и разомлев в этой удивительной тишине, он задумался и размечтался, толком сам не умея разобраться в своих думах и мечтах.
Бескрайняя даль, поля и леса, уходящие в эту далекую синь, гряды сопок на горизонте, точно волны, катящиеся на запад, где, отстоя от Приморья на четверть окружности земного шара, лежала родная Москва, рождали в Бонивуре удивительное ощущение свободы и силы.
И Виталий читал вслух, во всю силу голоса, стихи Никитина:
Широко ты, Русь,
По лицу земли,
В красе царственной,
Развернулася!
У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?
У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей стола,
Меча недругу?
Серко, заслышав голос, прянул ушами и прибавил шагу.
— Но-но! Куда ты? — осадил его Виталий и тотчас же забыл о лошади, опустив вожжи.
Смешон и странен был чумазый смолокур, читающий стихи во весь голос на телеге, за которой сеется черная угольная пыль. Да разве сразу обо всем можно думать, когда жизнь, полная и яркая, радует все твое существо, когда все тело поет, словно туго натянутая струна. С чем, как не с песней, можно сравнить это необыкновенное состояние, овладевающее иногда человеком, когда все кажется возможным, когда обостряются память и ум, когда сквозь дымку будущего взор проникает далеко-далеко, делая предстоящее явственно видимым…
7
«На сто пятой путевым обходчиком Сапожков, — сказал Виталию Афанасий Иванович, — у него передаточный пункт. Парень там недавно. Так ты поаккуратнее, не приведи за собой кого!» Топорков и сам не знал толком, что предстоит получить, но надеялся, что дядя Коля не забудет его просьб об автоматическом оружии, которое Топоркову необходимо было «позарез».
Будка путевого обходчика на сто пятой версте находилась возле полотна железной дороги. Была она типовая, квадратная, с высокой крышей и номером версты на верхнем венце. Рядом находился сарай, за которым стояло узенькое помещение с высокой вентиляционной деревянной трубой. Все постройки были крыты тесом и окрашены в казенный ярко-желтый цвет, видный издалека. Маленький огородик был разбит поодаль, красуясь подсолнухами и кукурузой. Почти вплотную к огороду примыкал небольшой лесок — березы вперемежку с кленами. Справа и слева от будки, пропадая вдали, тянулись сверкающие рельсы. Виталий подъехал к будке со стороны леска. Он оставил коня с телегою в подлеске, а сам, крутя в руках сломанную веточку, пошел в будке.
Какой-то мужчина, стоя у самодельной летней печи на дворе, ломал хворост и подбрасывал топливо в топку. Жаркое пламя металось в печи, выбиваясь из конфорок и в трещины кладки. Котел, стоящий на плите, испускал облака пара, варево переливалось через край. Хозяин, занятый своим делом, не слышал, как подошел к нему Виталий, и обернулся, словно ужаленный, когда Виталий громко сказал:
— Эй, друг! Мне бы Сапожкова надо было повидать.
Изумление выразилось на лице хозяина.
— Ну, я Сапожков! Что надо? — сказал он.
— Здорово, Борис! — сказал Виталий и протянул ему руку. — А я тебя только недавно вспоминал: где ты да что ты? Ох, и рад же я тебя видеть!
Это был Борис Любанский, располневший немного и утративший тот серый цвет лица, который был у него в дни житья на Поспелове; исчезли и круги под глазами, да и самые глаза утратили выражение угрюмого беспокойства, старившие тогда Любанского лет на пять. Теперь он казался помолодевшим.
Они крепко обнялись.
Виталий сказал:
— Я к тебе не без дела, Борис. «Угольку, хозяин, не надо ли?»
Любанский ответил.
— Не откажусь, мне надо вилы наварить… — Любанский вдруг рассмеялся: — Ха-ха-ха! Брось, Виталий, уж кого-кого я бы испытывал, а не тебя. Знаю ведь, где ты сейчас. Тетя Надя мне сказывала… Ох, как ты ко времени! У меня похлебка готова, чаишко вскипел. Ну, не думал, что сегодня тебя увижу… Одно время и вообще не чаял кого-нибудь из наших увидеть…
Обрадованный встречей, с Виталием, Любанский стал хлопотать по хозяйству, накрывая на стол в будке, похлопывая Виталия по плечам, на что юноша отвечал не менее крепкими хлопками.
— Ну, будет! — сказал наконец Бонивур, у которого плечи заныли от этих выражений дружеского расположения Бориса — парня на голову выше Виталия, с тяжелой рукой. — Будет, Борис, будет… если ты хочешь, чтобы я послушал, как ты из Поспелова выпутался!
— Пей чаек, Виталий! — отвечал Борис весело. Он выглянул в окно на шлях, пустынный в это время дня. — Передачка еще не прибыла, видно, на волах едет. Время у нас есть… — И он начал свой рассказ.
…Когда сотня Караева готовилась к перевозке на Первую Речку, Любанский впрыснул себе в ногу керосин. Нога раздулась, посинела, побагровела, зашелушилась, вены на ней угрожающе набрякли. Походило это на газовую гангрену или на флегмону. Караев, поглядев на ногу писаря, сделал гримасу, что-то пробормотал. Любанского отправили в госпиталь, и Караев сразу же забыл о нем. Борис отделался от сотни особого назначения. Его, однако, не оставили в покое, так как знали за исполнительного и молчаливого писаря. Как только он поправился, его прикомандировали к артиллерийскому училищу. Избавиться от этого ему не удалось, и опять потянулись тоскливые дни, наполненные тревогой и душевными терзаниями…
В казармы артиллерийского училища пригнали новобранцев. Люба некий заметил, что в одной из рот что-то происходит: солдаты часто собирались группами, споря, и замолкали, едва показывался кто-нибудь из офицеров. Борису удалось завоевать доверие солдат, и он узнал, что рота еще раньше решила дезертировать. Бежать с Русского Острова было трудно, но солдаты не отказались от своего намерения. Борис обещал помочь им.
Непредвиденное обстоятельство ускорило события.
На Поспелово привезли пятнадцать партизан, захваченных возле бухты Ольги. Захвачены они были с оружием в руках, им грозил расстрел. Михайлов вызвал Бориса: надо было попытаться освободить ольгинских товарищей и, чего бы это ни стоило, избавить их от страшной участи. «Сделай все, что сможешь! — сказал Михайлов. — Может, используешь твоих дезертиров? Это было бы неплохо… Да и сам уходи с ними. Тех, кто побоевитее да посознательнее, отправим в сопки, остальные пусть бегут по домам».
Борис предложил дерзкий план: поднять роту, обезвредить офицеров, снять часовых под предлогом смены караулов, захватить арестованных, посадить роту и освобожденных на катер и уйти к Посьету без огней. Михайлов одобрил план.
Все удалось как нельзя лучше. Любанский, получивший чин зауряд-офицера, в эту ночь дежурил и сам развел караулы.
Рассказывая об этом Бонивуру, Борис рассмеялся:
— Без сучка, без задоринки. Все прошло так, что я сам себе не верил: во сне или наяву дело происходит?.. Вывели роту. Скорым шагом к пристани. Посадку сделали в один момент. Штурмана было заартачились. Один из них — на колени, плачет. «Свяжите меня, говорит, и положите на пристани! У меня семья — ведь белые всех погубят!» Запеленали мы старого штурмана, рот ему заткнули. Он уже и слова не может сказать, а все головой мотает: потуже, мол! Нахохотались, пока увязывали. Запрятали его между бочек на пристани, чтобы не видно было, — и давай бог ноги!.. В Посьете разбрелись кто куда: ольгинские, поди, уж дома, дезертиры по подпольям отсиживаются, кое-кто из них к Маленькому в отряд пошел.
— А как ты обходчиком стал?
— Да не без дяди Коли. Мне в Посьете новые документы дали, — и сюда. Начальник дистанции, правда, побывал тут, носом покрутил, говорит: «Путевой обходчик без семьи — не обходчик! Кто тебя заставит сидеть на участке?» Ну, удалось его кое-как успокоить, что семья, мол, пока из Анучино не выехала, недосуг было написать, что уже устроился и жду. «Ваше, говорю, благородие! У меня четверо, мне угол-то этот вот как нужен! Куда я от него пойду?.. Тут и сарай для коровушки, и сеновал над ней, тут и огородишко, глянь какой хороший!» Он и говорит мне: «Семью вези скорее, а то на твое место другого, детного пришлю».
— Ну, и как тебе новая работа глянется? — спросил Виталий, рассмеявшись над тем, как прибеднился Борис, изображая испуганного крестьянина.
— Ничего, работа хорошая! — усмехнулся Борис. — Твой отряд далеко ли от Наседкина?
— Не очень.
— Я тут с обходом ходил, — задумчиво сказал Борис, — хорошее местечко нашел… На кривуне мосток и выемка. Тут, если с двух концов этого участка мину заложить, можно такую пробку сделать, что не скоро расковыряешь!
8
…Скрип колес, окрики возницы, мычание послышались со шляха. Борис выглянул из окна.
— Не шибко хорошо, — сказал он, — что вы тут встретитесь, ну, да раз так вышло, ничего не поделаешь. Ты посиди в будке, пока я приму груз.
— Иди, иди! — сказал Виталий.
Любанский пошел к выходу. Но в этот момент дверь распахнулась, и звонкий голос спросил:
— Э, капитана! Сапожкова здесь живи-нет?!
И в будку вошел молодой китаец.
Нет, положительно в этот день судьба благоволила к Виталию, сводя его со старыми друзьями. В вошедшем Бонивур сразу узнал Маленького Пэна, который на этот раз выглядел совсем как крестьянин — в курме, широкополой шляпе, с длинным бичом в руках, с трубкой за поясом из бязевой косынки. Виталий не выдержал, хотя в первую минуту он и хотел отвернуться, чтобы дать возможность Любанскому выйти и вывести за дверь вновь прибывшего гостя.
— Здорово, Пэн! Что, теперь твой брат — возчик?
Маленький Пэн, казалось, даже не удивился тому, что встретился с Виталием. Он улыбнулся своей красивой улыбкой и ответил шуткой на шутку, припомнив разговор с Виталием в вагоне Пужняков:
— А твой брат в лесу живи, уголь делай, что ли?
Не было смысла таиться друг от друга, и Борис облегченно вздохнул.
— Тем лучше, товарищи! Быстрее управимся.
Все трое вышли из будки. Круторогие, поджарые серые волы отмахивались от оводов, гремя цепочкой, продетой через нос. Они были запряжены в долгую мажару, груженную жердями, концы которых свисали к земле. На жердях соблазнительно желтели десятка два дынь, распространяя тонкий, сладковатый запах. Пэн подошел к мажаре, взял одну дыню, переломил ее о колено и кивнул товарищам:
— Угощай! Моя тоже сильно пить хочу, шибко жарко сегодня!
Трудно было отказаться от ароматной дыни.
Волов отвели в лесок, к коню, который стоял с торбой на морде. Стали сгружать жерди и умаялись: жерди были длинные, сырые, гнулись и схлестывались. Борис покачал головой:
— Ты бы хоть поменьше нагружал, Пэн!
Пэн улыбнулся.
— Нет, меньше не могу! Твоя знай, чего искай, и то жарко… А если солдатка искай, его мало-мало жерди бросай, потом думай: «Какой черта моя такой работа делай? Ничего тама нету!» Моя солдатка дынька давай, его кушай, моя пускай… Так, не так?
Когда мажара освободилась, на дне ее Виталий и Борис увидели какие-то свертки. Стали сгружать их, Виталий развернул один и радостно охнул: в свертке, тускло блистая металлом, лежал пулеметный ствол. «А тут что?» И во втором свертке оказался пулемет. Американский «морлинроквель» и русский «максим». Это были солидные подарки отряду Топоркова, о которых Афанасий Иванович мог только мечтать. Пэн не забыл и о патронах к пулеметам: в мажаре уместилось пять тысяч патронов, в лентах и россыпью.
Пэн торопился.
— Это не мои волы. Один наша люди. Его волы скоро надо назад! — сказал он, поглядывая на солнце.
Не было причин задерживаться здесь и Виталию. Когда пулеметы были упрятаны в тайное отделение в телеге, Бонивур уселся на свое место, попрощавшись с Борисом. Уже с телеги он крикнул Пэну, забыв, что даже не поговорил с ним толком (а скоро ли вновь придется свидеться?):
— Пэн, ты где сейчас живешь? Что делаешь?
Маленький Пэн с хитрым видом сказал, хлопая бичом:
— А тебе как думай? Ну, моя скажи: тебе все равно догадайся нету! Наша люди мало-мало воевай учись, мало-мало партизанка есь. Эта машинка наша люди сама доставай один места!
— Себе-то чего не оставили?
— Наша много забирай. И себе оставь и товарища давай…
Виталий не стал расспрашивать Пэна. Если бы тот мог, он сам бы сказал, где партизанит, но Пэн ответил уклончиво, значит, так надо. Но и без слов Пэна Виталию ясно было, где учатся воевать китайские товарищи. Слухи о летучем отряде под Никольском, как видно, имели веское основание.
— Ну, понравилось тебе воевать? — весело спросил он.
Пэн легонько нахмурился.
— Понравись не понравись, моя не думай… Моя думай — это дело пригодися, а?
— Пригодится, Пэн! — сказал Борис, наблюдавший за разъездом друзей. Везде пригодится — и тут, у нас, и там, у вас дома… Буржуев везде бить надо!
Волы тронулись. Под их шелковистой серой шерстью задвигались тугие мускулы. Пэн улыбнулся в последний раз, сидя на доске, перекинутой через борта мажары, и вдруг его лицо застыло: исчез Пэн-партизан, и явился на его месте Пэн-возчик. Круто взял и конь Виталия, отдохнувший и застоявшийся. Скоро за деревьями исчезла будка проходчика, и замолк скрип больших колес мажары, доносившийся со шляха…
Вторая поездка Виталия на сто пятую версту дала отряду сто «лимонок» ручных гранат, незаменимых в ближнем бою.
9
Совета Топоркова Виталий не забыл. Он тесно сошелся со старыми солдатами Колодяжным и Лебедой, перенимая у них солдатский и житейский опыт, которым оба «дядьки» охотно делились с юношей, видя в нем внимательного слушателя и способного ученика.
В отряде немного подтрунивали над тем, как Виталий, точно заговорщик, таясь ото всех, задолго до побудки расталкивал спящего Колодяжного и исчезал с ним в прибрежном тальнике.
Нашлись любопытные, которые постарались выследить, куда они ходят. Панцырня, как ни любил он спать, только из-за того, чтобы удовлетворить свое любопытство, не поленился вставать пораньше и, сдерживая зевки, раздиравшие ему рот, и щуря слипающиеся глаза, спотыкаясь спросонья о коряги на пути, шел следом за Колодяжным и Виталием. Притаясь в кустарнике, смотрел, что они делают.
— Паря, — рассказывал он потом другим партизанам, — наш-то комиссар в школу ходит!
— Ну-у! Уж и в школу? Ему что там надо? Да какая летом школа?
Панцырня рассмеялся.
— А вот есть и летом! А учитель у него — Колодяжный.
— От брешет! — говорили Панцырне в ответ.
— Истинная икона, сам видел! — крестился Панцырня. — Старик-то ему камешек какой ни на есть подымет с поля, с травки, пальцем тычет: «Примечай, с какой стороны ветер дул. Эта сторона сухая, а эта — воложная!» К валуну какому подойдут, дедка и тут: «Глянь, говорит, как камень тебе север кажет. Тут-то чисто-гладко, а здесь мох растет. Мох, он завсегда с северной стороны растет, у дерева ли, у камня ли. А дерево, говорит, с холодной стороны меньше веток имеет, примечай!» Ну, прямо как колдун ходит. А Виталий за ним, рот раскрывши!
Панцырня давился от хохота. Но кто-то сказал ему:
— Чего смеешься? В городу-то этого, поди, не знают. Вот Виталий и учится. Не ты же его научишь! Ты сам, колода, в трех соснах заблудишься, а спросить не спросишь!
И Панцырня замолчал.
Скоро весь отряд узнал тайну Виталия. Однако, по молчаливому уговору, никто не заговорил с ним об этом. Колодяжного стали в шутку величать учителем. А к Виталию почувствовали уважение, видя его упорство и настойчивость, с которыми он стремился в стрельбе и рубке догнать своих товарищей.
Виталий избегал быть на виду. Когда говорил, памятуя наставление Топоркова, старался быть кратким и точным; когда находил какой-нибудь непорядок, не кричал, а приводил в пример Лебеду и Колодяжного, у которых и сам учился. Горожанин, он стал ориентироваться в лесу по звездам и солнцу, по мху на камнях, по траве и множеству примет, чему исподволь обучал его Колодяжный. Солдатская наука не хитра, но к ней нужны сметка, настойчивость, терпение, здравый ум и умение сознательно ограничивать себя во многом.
«Толковый», — решили про него в отряде.
Подпольная работа научила Виталия быть внимательным к мелочам, приучила его быть немногословным, но убедительным, она же развила в нем способность к обобщениям и умению заглядывать вперед. В отряде он больше слушал, чем говорил, и, почти не расспрашивая партизан, знал о каждом больше, чем они о нем. По отдельным фразам, по обрывкам разговоров, по намекам Виталий составил себе довольно ясное представление о прошлом каждого бойца. Только Панцырня вызывал у него настороженное ощущение, будто бы был у того какой-то тайный уголок в душе.
В отряде были крестьяне — амурские, уссурийские, забайкальские. Среди них много людей, у которых были кровавые счеты с белыми и интервентами.
И всем было душно от соглядатайства японцев и их хозяйничанья, русские копили святую злобу против иноземцев и отечественных их пособников.
…Ежедневно в отряд приходили люди.
Командир отряда сказал Виталию:
— Товарищ Бонивур! (Когда Топорков обращался к кому-нибудь, называя товарищем, это значило, что разговор предстоит официальный). Я думаю, тебе следует заняться новичками. Кто приходит, ты поговори с ним, выясни, чем дышит… За комиссара. А дальше — мое дело…
Глава 15 Старые и новые друзья
1
Утром, выйдя из шалаша, Виталий наткнулся на незнакомого парня. Тот окликнул Виталия:
— Слышь-ка, друг, где тут комиссар?
— А что? — спросил Виталий. — На что он тебе?
— Да я из Раздольного. Пришел партизанить. Но, говорят, наперед надо к нему для беседы. А об чем беседовать? — недоуменно спросил парень сам себя. — Винтовку дал, патронов насыпал, сколь не жалко, да и партизань, коли охота есть. Я так думаю… Ты здешний?
— Здешний.
— Какой он?
— А что?
— Да, говорят, сопля зеленая, малый… Поди, будет ваньку ломать. Шибко начальство…
Виталий неприметно усмехнулся:
— Зачем же он ваньку-то ломать станет?
— А все они, патлатые, такие… Не люблю я их. Как зачнут за мировую революцию агитировать. А сами в хозяйстве ни уха, ни рыла, одно слово…
Виталий простодушно спросил:
— Чего же ты в отряд идешь, под комиссара?
Парень, понизив голос, тоном заговорщика сказал:
— Дело у меня одно есть! — Он расплылся в улыбке, сделал движение, словно подкручивая усы. Он принял вид ухарский и вместе с тем смущенный. Меня, вишь, одна ваша завербовала… Ниной звать. Знаешь? Вот, паря, зацепила-а, я тебе скажу… У-ух! Малина, а не девка!..
— Значит, ты сюда пришел малину рвать? — сказал Виталий. — Смотри, корешок, руки наколешь…
Виталия больно задело упоминание парня о Нине. Он был неприятно поражен и замечанием парня «малина, а не девка» и тем, что парень пришел в отряд из-за девушки. Он отвернулся от новичка и пошел дальше. Озадаченный парень крикнул:
— Слышь-ка, где комиссар-то помещается?
Виталий указал шалаш.
Панцырня, связной, спал около шалаша Колодяжного. Виталий растолкал его и вручил письмо для дяди Коли. Потом возвратился к себе. У шалаша он застал не только того парня, который остановил его давеча, но и еще троих пришедших в отряд: пожилого, заросшего волосами бородача со спокойным взглядом из-под нависших клочковатых бровей и двух юношей лет по восемнадцати — двадцати.
— Здравствуйте, товарищи! — сказал Виталий, подходя. — Вы ко мне?
Все трое поднялись, сняв шапки. Парень, завербованный Ниной, схоронился за остальными. На лице его изобразились досада и смущение.
— Что скажешь, отец? — обратился Виталий к старику. — С чем пришел?
— Здешние мы, — сказал бородач. — В отряд пришли. Хочем партизанить. Я и сынка мой! — Он неторопливым движением указал на младшего из юношей. Жилины мы!
Он кивнул сыну. Тот стал рядом. Крепкие, широкие в плечах, загорелые, словно литые, они походили друг на друга, несмотря на разницу в летах. Виталий невольно залюбовался ими. Молодой Жилин, застеснявшись, потупился. Старик продолжал:
— Опять беляки амбары почистили. Мобилизация, говорят! Ну, сколько можно? Раз взяли, два взяли… Не сеют, не жнут… Поналезли, как саранча. А хлебушко-то горбом дается. Опять же сына не сегодня-завтра заберут.
А что ему у беляков делать? Вот и пришли.
Бонивур испытующе посмотрел на Жилиных:
— Значит, сына от набора хоронишь, отец? А мы ведь тоже скоро в драку пойдем. Спокойной жизни и тут не найдешь.
Сын метнул на старика быстрый взгляд и ломающимся баском проговорил:
— А мы не против драки.
— Было бы за что драться! — закончил отец. Он помолчал и с достоинством добавил: — Мы — русские. Не с руки нам под чужими-то ходить! — Легкая улыбка пробилась у него через усы. Он неожиданно подмигнул: — Охота без Миколашки, без колчаков пожить. Может, и проживем краше, чем при них!
Он сказал это так, что Бонивуру стало ясно: в отряд шел человек, давно все решивший для себя и готовый, если нужно, за правду сложить свою голову. «Силен старик!» — подумал Виталий.
— Не коммунист?
— Нет, не партейный… А сердцем мы к этому расположенные!
Виталий пожал Жилиным руки и направил их к Топоркову. Затем он повернулся ко второму парню. Тот вытянулся.
— Хочу за советскую власть партизанить, — сказал он звонким голосом. Забрали меня в колчаки. Отправили на фронт… Только за что мне там воевать? Вот сюда и пришел. Фамилия моя Олесько.
Бонивур посмотрел в открытое, простое лицо Олесько с голубыми глазами навыкат, с веснушками, усыпавшими вздернутый нос.
— С японцами или с белыми счеты есть? — спросил он, не ожидая ответа: слишком молод был парень.
Мимолетная тень пробежала по лицу Олесько. Раскрытые губы его вдруг сжались.
— Да, надо, поди, с белыми-то кончать! — сказал он по-хозяйски, так, как сказал бы глядя на луга: «Сено-то пора косить, дошло уже!»
— Сам догадался насчет отряда?
Олесько замялся.
— Не-ет, я бы в лес ушел скрываться. А в Манзовке к эшелону одна ваша пристала. Ниной звать… Она и надоумила до отряда податься. Сам-то не дотумкал бы! — чистосердечно сказал Олесько. Он улыбнулся во весь рот и опять стал прежним немудрящим пареньком.
— Ладно! — сказал Виталий.
Виталий обратился к последнему:
— Фамилия?
— Чекерда, Николай.
— Ну, что же тебе сказать, Чекерда? — протянул Бонивур. — Зачем ты в отряд пришел, я уже слышал — малину рвать. Ну, отряд не малинник. Пожалуй, делать тебе тут и нечего. В партизаны идут, видел, кто? С чистым сердцем, за общее дело жизнь отдать готовые. А ты? За юбкой приволокся. Сам понимаешь, говорить нам не о чем.
Чекерда побагровел. Даже белки его глаз налились кровью. Если в отряд он и верно пришел из-за Нины, уступая желанию увидеть девушку, то в этот момент в нем заговорило совсем другое чувство. Он с трудом перевел стеснившееся дыхание, поднял взор на Бонивура и не узнал его. Виталий нахмурился; глубокая морщина над переносьем придала его лицу суровость, юношеская неопределенность очертании его лица исчезла, сменившись выражением сосредоточенной решимости, твердости и силы, свойственных зрелому человеку. И Чекерда понял, что думает о нем комиссар. Парень почувствовал, что не за себя обиделся Бонивур. Стыд проснулся в Чекерде, возбудив в нем желание оправдаться, как-то загладить свой промах… Что скажут парни-односельчане, которым, перед уходом из Роздольного, он, куражась, сообщил о своем намерении вступить в отряд? Что подумает о нем Нина?.. Но теперь дело было уже не в ней. Парень не мог еще понять, что изменилось в нем после слов Бонивура, но всем существом своим ощущал, что теперь идет речь о несравненно большем, чем то, что привело его сюда. Не умея еще осмыслить всего, он, с трудом подбирая слова, сказал:
— Мне назад идти неможно!
Виталий негромко отозвался:
— Думаешь, мы собрались сюда гулянки гулять? Ошибаешься. За свободу, за революцию драться! За убитых да замученных интервентами мстить! А у тебя что? Какая обида? Чья кровь?
Чекерда неуклюже развел руками, будто ловя что-то видимое ему одному. Тоном величайшей убежденности он повторил:
— Мне назад идти нельзя. Никак… понимаешь ты, нельзя!
— Боишься Нину не увидеть? — спросил Виталий, в котором новая волна раздражения всколыхнулась от упоминания знакомого имени.
Чекерда отрицательно замотал головой.
— Нет, ты постой… — с досадой сказал он. — Нина что? Она, конечно, это правда… Только ты ее оставь! Ни при чем она теперь, коли такое дело выходит… Что я, паря, отцу скажу? Ребятам на глаза как покажусь? Это ты подумал?.. Нет, этого никак нельзя! — Чекерда произнес последние слова таким тоном, чтобы и Виталий понял, что домой, в село, Чекерде уходить нельзя. Никак нельзя!
После некоторого молчания он добавил:
— А что до беды да крови, так это еще не вопрос… Мне, может, чужая беда своей горше!
Заметив, что при этих словах Бонивур заинтересованно поглядел на него, Чекерда сказал:
— Не веришь? Ну, не верь… А я хуже других не буду. У меня своя совесть тоже имеется.
Затаив дыхание, он ожидал ответа. Ему казалось, что он произнес самые нужные, самые важные слова, что ему не откажут теперь, однако сердце его сжалось.
Виталий спросил, делая ударение на каждом слове:
— Помнить будешь то, что сейчас говорил?
— Не беспамятный.
И Чекерда негромко вздохнул, поняв, что уходить из отряда не придется.
2
Что у Чекерды «своя совесть имеется», это он доказал самым неожиданным образом через несколько дней.
Приучая к партизанскому обиходу, новичков назначали в караулы в пару со старыми бойцами, чтобы они учились нести службу. Чекерда пошел на дальний пост с Панцырней. Панцырня ехал впереди, не удостаивая вниманием новичка, который отстал от него на полкорпуса. Панцырня был увешан оружием и выглядел ходячим арсеналом. Чекерде на первое время выдали обрез, от которого отказывались все, — с покарябанной ложей, с самодельными оковками. Винтовка эта выглядела так, что Чекерда только вздохнул, поглядывая на свое оружие. Но он и этому уродцу был рад, как знаку доверия, на которое не рассчитывал после разговора с Виталием у шалаша в день прихода в отряд. На лошади он сидел хорошо, свободно, крепко. Виталий проводил его взглядом. Топорков, знавший со слов Виталия, что произошло у шалаша, кивнул головой на Чекерду:
— Будет партизан на все пять! Уж коли стыд сумел перебороть, теперь о хиханьках да хаханьках и думать забудет… Да я и то думаю, что парень тогда о Нине сболтнул так просто, для форсу. Шел, поди, с хорошими думками, а как увидел себе ровню, так и давай выламываться: вот, мол, я какой ндравный, мне все нипочем — девка приглянулась, так я везде ее найду, хоть жизни решиться придется! Когда в деревне про парня говорят: «Отчаянный, ему все нипочем», так это ему маслом по сердцу!..
Через час, стелясь по земле, наметом, Чекерда скакал в отряд. Бросив поводья на холку коню, он вошел в шалаш Виталия.
— Что случилось? — поднял на него взгляд Бонивур.
Чекерда перевел дыхание.
— Мериканца мы с Панцырней поймали.
— Какого американца?
— Да вот уж так получилось… Мы-то коней спрятали, сами в траве схоронились, тама травы богатые. Ну, лежим, говорим о том, о сем. Панцырня поучает меня, как и что… С полчаса, однако, лежали, сон морить стал. Встали, промялись… Тут, слышим, тарахтит что-то. Не телега, не машина, а с газом…
— Мотоцикл!
— Не знаю, как звать… Едет кто-то. Сначала по дороге ехал, потом свернул. Остановился, в трубку округ посмотрел — и давай дальше фуговать. Красные камни знаешь, там у выгона? Возле них постоял, поковырялся. К глазам какую-то коробочку наставил. Потом дальше… Ну, мы смотрим: одет чудно, не по-нашему, на пинжаке кругом карманы, штаны с пузырями, на ногах кожа с ремнями. Панцырня говорит: «Белый». Я ему: погонов, мол, нету… А он говорит: «Много ты понимаешь! Я, говорит, его спешу сейчас!» А я не согласный с ним: «Наше дело — глядеть, а самим не показываться!». Пашка-то осерчал на меня, кричит: «Это кто тут голос поднимает?» Этот-то, что ехал, у карьера остановился, откуда бабы белую глину берут, опять поковырял, отколупнул кусочек, в карман сунул. Я Пашке говорю: «Не тронь, пущай мимо едет!» А с ним разве сговоришься, когда ему не по нраву?.. Поднялся он, винтовку наперевес взял — и туда. «Я, говорит, сейчас ему галифе испорчу!» Тот к Панцырне, чего-то говорит, руку тянет и винтовки не боится. Я сколько времени глядел, думаю, может, подмогнуть Пашке придется, мало ли что! Но, слышу, Пашка орет: «Колька, давай сюды! Мериканец это, поди закури!» Сели у камней, разговаривают…
— Что же и ты не вышел? — спросил Бонивур.
Чекерда сказал:
— Да я так думал, что нам не след показывать, что тут кто-то есть. Пущай мериканец-то думает, что Пашка один такой дурной, с винтом по дороге шляется… На отряд бы не навести.
Сообщение Чекерды взволновало Бонивура. Он кликнул коня и поскакал с Чекердой на пост.
У серых валунов, что устилали небольшой распадок за леском, Виталий и Чекерда увидели две фигуры. Мотоциклист стоял около валуна. Панцырня сидел на камне и, что-то говоря, разводил и размахивал руками.
— Ишь, растабаривает! — повел на него глазами Чекерда.
Незнакомец с сигаретой во рту нацелился на партизана объективом фотоаппарата. Панцырня приосанился, положив руку на кинжал. Мотоциклист щелкнул спуском, осклабился, подошел к парню и дружески хлопнул своей широкой ладонью по плечу. Потом он уселся на камень напротив Панцырни и стал внимательно слушать его, изредка поощряя кивками головы… Подхватив под уздцы коня Панцырни, Виталий и Чекерда выехали из леска и направились к валунам. До всадников донеслось:
— А что, паря, я тебе скажу, этих самых японцев я столько положил… Я, знаешь, разойдуся, так мне под руку не попадайся.
Незнакомец увидел приближающихся всадников. Он выпрямился, сделал рукой широкий приветственный жест и подался навстречу. Панцырня через плечо повел глазом: на кого это воззрился его собеседник? Увидел Чекерду и крикнул, поворачиваясь тяжело:
— Ты чо, паря, пропал тама ли, чо ли? Иди сюда, слазь с коня-то!
Тут Панцырня увидел Виталия, голос его прервался, он торопливо вскочил и, сообразив, что Бонивур, пожалуй, посмотрит на его поведение по-своему, браво вытянулся и, поднеся к голове руку с нагайкой, отрапортовал, будто только и дожидался своих:
— Так что задержали мы тута вот этого, — он протянул руку в сторону мотоциклиста.
— Вижу! — хмуро отозвался Виталий.
3
Поняв по замешательству Панцырни, что один из приехавших не простой партизан, американец быстрым оценивающим взглядом окинул Чекерду и Виталия и закивал Виталию головой, как старому знакомому.
— Хелло, командир!
— Я не командир! — сказал Виталий.
Американец усмехнулся:
— Озабоченное лицо, ясный взгляд, повелительные движения… Я был бы плохим журналистом, если бы не был физиономистом, если бы не сумел с первого взгляда определить профессию и общественное положение человека, — говорил незнакомец по-русски. — Рад вас видеть!.. Рад познакомиться с отважными партизанами! Замечательное впечатление! Один рассказ об этой встрече сделает мне состояние в Штатах…
Американец дружеским жестом предложил Виталию и партизанам сигареты. Виталий не сделал ни одного движения для того, чтобы воспользоваться любезностью американца. Чекерда демонстративно заложил руки за спину. Панцырня неловко дернулся, хотел взять сигаретку, но, поняв по выражению лица Виталия, что этого не следует делать, принялся почесывать нос. Американец прищурил глаза.
— Мистер Панцырня хороший рассказчик и доблестный солдат. Он очень живописно рассказывает. И если мои новеллы будут иметь успех, половина его будет принадлежать мистеру Панцырне… Нам, американцам, очень близки и понятны ваши действия — встать во весь рост, плюнуть в лицо врагу… Мы тоже вели в свое время гражданскую войну.
Виталий смолчал, давая американцу высказаться. Чекерда простодушно удивился, сказав вполголоса:
— Ишь ты, как по-нашему чешет! И где только навострился?
Виталий искоса поглядел на Панцырню: «Что он успел наболтать?» Панцырня, совершенно покоренный похвалой американца, таращил на журналиста глаза; не находя слов, он восхищенно причмокнул и только покручивал головой, словно говоря: «Экий складный!» Виталий был в затруднении. «Что за человек»? — думал он. — Шпион? Просто газетчик? А может, наш… товарищ?». Но нарядный полувоенный костюм незнакомца, его краги, а главное, что-то трудно уловимое в глазах шумного американца, какая-то внимательная, холодноватая цепкость не вязались с этой мыслью.
— Кто вы такой? — спросил Виталий.
— Друг! Бесспорно, друг, командир! — быстро ответил американец. Паркер! Эзра Паркер. «Нью-Йорк геральд трибюн» — миллион тиража, представительства во всем мире…
Предупреждая дальнейшие вопросы, Паркер так же быстро сказал:
— У вас нет оснований беспокоиться, командир! Я частное лицо. Я связан только с печатью. Честная информация, справедливое освещение всех событий в мире — вот наша задача и моя задача! Интерес к русским делам у нашего читателя велик. Я хотел бы встретиться с деятелями партизанского движения и большевистского подполья! Как видите, я не скрываю своих целей. Вы спросите — зачем мне нужны эти встречи? Я отвечу… Основываясь на источниках информации белой армии, нельзя составить себе более или менее точное представление о большевистских лидерах и о мыслях рядового партизана. А мой читатель хочет знать, что это такое. Близок день, когда вы установите единый порядок во всей стране, я уверен в этом, а тогда наши деловые люди захотят иметь с вами дела.
— С кем дела? — спросил Виталий.
Паркер добродушно рассмеялся.
— О, дела можно иметь хоть с самим чертом, как у нас говорят, если дьявол пожелает продать свои угли и сковородки… Деловой человек должен уметь видеть далеко вперед. Он должен быть чувствительнее сейсмографа, который отмечает мельчайшие колебания почвы на расстоянии тысяч миль. Я буду счастлив, если мне удастся содействовать своими новеллами деловому контакту между двумя побережьями Тихого океана. Буду счастлив!
— Ничем не могу помочь вам! — сухо сказал Виталий, в котором словоохотливый газетчик возбудил недоверие.
— Раз уж мне посчастливилось встретиться с вами, командир, — сказал Паркер, — то я прошу вас познакомить меня с деятелями вашего движения. Нам необходимы друзья здесь, как вам необходимы друзья за океаном!
Незаметно было, однако, что поток его фраз произвел на партизан впечатление. Озадаченный Паркер решил пустить в ход все свои козыри, остаться к которым равнодушными русские, конечно, не могли.
— Через два-три месяца, командир, — энергично сказал Паркер, — вы прогоните японцев и ваших белых. Это бесспорно, как то, что я Эзра Паркер! Вы станете хозяевами на огромном пространстве, я бы сказал — на пустынном пространстве! У вас нет никакого хозяйства, вы разучились хозяйствовать! Вы не умеете строить. Ваши дороги разбиты. Ваши крестьяне и рабочие привыкли митинговать и отвыкли работать. У вас нет машин. У вас нет металла. У вас нет инженеров. У вас нет ничего, ниче-го, командир. Так?
Виталия поразила дерзость Паркера. Если до сих пор он не мог разобраться в Паркере, то теперь все стало ясным. Он спросил:
— Об этом и пишет ваша газета?
— Да, — сказал Паркер, не поняв, почему Виталий задал этот вопрос. Тотчас же он спохватился и добавил, порозовев: — Мы пытаемся заинтересовать деловые круги Штатов возможностью вложения капиталов за океаном.
Чекерда и Панцырня во все глаза глядели на американца, пораженные его пулеметной речью.
— Ну, паря! — шепнул Панцырня.
Виталий замялся, видя, какое действие произвели на партизан слова Паркера. Паркер же, верный своему принципу — бить не переставая в одну точку со всех сторон, не давая опомниться собеседнику, продолжал:
— Под вашими ногами рассыпаны богатства. Вы стоите на железняке. Справа от вас — чудовищное количество цемента, слева — драгоценный каолин, не уступающий китайскому. Тут — руды и угли, там — хлеб и техническое сырье… Вы понимаете, какую жизнь может вдохнуть во все это американский капитал, американские машины и специалисты, выросшие под сенью статуи Свободы. И представьте, какое счастье — содействовать этому…
Виталий вспылил.
— Ну-ка, остановите ваше красноречие! — сказал он решительно. Как-нибудь обойдемся и без вас. Предлагаю немедленно покинуть это место! Да поостерегитесь в следующий раз прогуливаться здесь. Как бы вам не пришлось пожалеть об этом…
Паркер снисходительно покачал головой и любезно улыбнулся.
— У вас горячая голова, командир! Право же, я не сказал ничего, что могло бы обидеть вас. Проводите меня к вашему начальнику. В конце концов, не боитесь же вы журналиста, объективное слово которого вам просто нужно. Мне жаль, что вы не поняли меня.
— Я-то хорошо понял! — ответил Бонивур и сказал, обращаясь к партизанам: — А ну, проводите-ка его отсюда!
Панцырня подошел к стремени Виталия и вполголоса сказал:
— Да чо ты к нему пристал? Пущай идет, куды хочет. Парень-то хороший, мирный. Ишь, машины сулит… Может, к дяде Коле его наладить, а?
Виталий рассвирепел. Его вывело из себя то, что от Панцырни заметно несло винным запахом. Когда он успел хлебнуть? Не иначе как этот американец успел напоить парня, чтобы сделать его сговорчивее.
— Обыскать! — крикнул Виталий.
Чекерда спрыгнул с коня. Панцырня укоризненно качнул головой, но тоже взял винтовку на руку. Побагровевший Паркер возмущенно сказал:
— Во всех странах и армиях, командир, журналисты, как и медицинские работники, неприкосновенны. С ними могут не говорить, но их не подвергают насилию.
— Поднимите руки! — сказал Виталий.
Паркер замолк.
Чекерда извлек из карманов Паркера бумажник, записную книжку и передал Виталию, потом снял фотоаппарат, повернул американца спиной, из брючного кармана вынул плоскую флягу с виски, наполовину осушенную. Глянув на флягу, Панцырня позеленел. К крайнему удивлению своему, Чекерда извлек из-за пазухи Паркера длинноствольный пистолет, подвешенный через плечо на ремне так, чтобы им можно было воспользоваться мгновенно. Панцырня раскрыл рот.
— Смотри, смотри! Чего заморгал? — жестко сказал ему Виталий. — Видал твоего «мирного»?
Смущенный Паркер пробормотал:
— Это оружие самозащиты, командир. Только самозащиты. У вас идет гражданская война…
— Да, у нас идет гражданская война! — сказал Виталий. — Оружие я реквизирую у вас. Фотоаппарат передам куда надо — посмотрим, что вы тут наснимали. Потом перешлем вашему консулу. Нам ваши вещи не нужны. Записки оставляю у себя. Бумажник получите! — Он показал рукой направление: Езжайте, мистер, да не останавливайтесь!
Мотоцикл чихнул газом и взял скорость.
Партизаны вскочили на коней и поехали по дороге в сторону от расположения отряда. Панцырня недоуменно спросил:
— Это куда же? Чо мы сюда поехали?
— Когда дурак наводит на след отряда, то умные должны отвести. Понятно? — сказал Виталий. — Эх, Панцырня, Панцырня! Чем ты только думаешь!
4
Партизаны пропали в отдалении. Они даже не оглянулись ни разу, как люди, которым предстоит далекий путь и времени для остановок нет. Паркер разгадал хитрость Бонивура. Он был уверен, что партизаны отъехали лишь для того, чтобы обмануть его. Но это не меняло дела: бесполезно было повторить свою попытку свидеться с руководителями партизанского движения, особенно здесь, где первое свидание с партизанами оказалось столь неудачным и где еще одна такая попытка могла стоить Паркеру жизни, — юноша предупредил Паркера об этом недвусмысленно…
Партизаны приняли Паркера за шпиона! Он зябко передернул плечами. Хорошо еще, что они не поступили с ним по законам военного времени… Попробовал бы потом Мак-Гаун установить, на какой сосне кончил свою жизнь Эзра Паркер — «Нью-Йорк геральд трибюн», миллион тиража и представительства во всех странах света…
Паркер запустил мотор и помчался по шоссе.
Шпион! Черт возьми, какое гнусное слово! Черт бы побрал и фотоаппарат и кольт! Разве можно было объяснить партизанам, что без этих предметов Паркер не отправлялся на охоту ни за одной новостью, а тем более в этих краях, где все враждебно иностранцам, которых здесь почему-то называют интервентами? Черт бы побрал и Мак-Гауна, который подал Паркеру злосчастную мысль связаться с партизанами!.. «Вы, Паркер, журналист! Вы с вашим длинным языком можете влезть куда угодно. Вы не относитесь к интервенционистским войскам. Вы представитель объективной печати. Вам должно быть интересно познакомиться с партизанами. Как знать, может быть, это пригодится нам!» Он сказал «нам», а не «вам», то есть не только Паркеру, но и консулу. Тогда, при разговоре, Паркер не обратил на это внимания, теперь же смысл этого местоимения стал Паркеру совершенно ясным. И журналиста прошиб пот… Проклятый Мак! Он просто хотел воспользоваться именем журналиста в каких-то своих целях. В каких? Еще ни один человек из тех, кем интересовался консул, не получал от этого удовольствия ни здесь, в России, ни там, в Штатах! Консул Мак-Гаун! Давно ли он стал консулом… Паркер знал его как начальника отдела Федерального бюро расследований, «человека Моргана», способного сыщика, но совсем не дипломата. И вот Мак-Гаун — консул… Как видно, там, наверху, хотели иметь своего человека в Приморье, а потому конгрессмены послушно голосовали за вручение консульских полномочий Маку, как проголосовали бы они за любого другого «человека Моргана».
Насколько понял Паркер Мака, знакомство журналиста с партизанскими командирами и с подпольщиками нужно было для того, чтобы потом, по следам Паркера, с ними могли познакомиться и сблизиться другие люди… Вообще это походило на то, что Паркера втянули или попытались втянуть в какое-то грязное дело.
Когда Паркер несколько остыл от волнения, он рассмеялся. «А все-таки эти русские — молодцы! И этот мальчишка-командир хорош! Просто хорош! Как он смотрел на меня! Да, с этими людьми недостаточно только иметь мой язык. Мак ошибается!»
За два года пребывания в России Паркеру много пришлось видеть, многому он научился. Он понял, что к большевикам не подходили привычные мерки и понятия и Паркера и Мака. Что-то было у них не так, как у Мака и даже у русских белых. С белыми можно было найти общий язык. А большевики жили в каком-то особом мире, управляемом совсем другими законами. Их идеи и поступки заставляли людей круга Паркера и Мака утрачивать чувство почвы под ногами.
Паркер вспоминал крылатое выражение сенатора Бевериджа о том, что на восток от Иркутска «лежит естественный рынок Америки». Мнение Бевериджа разделяли многие сенаторы и конгрессмены. Таковы были мысли и деловых кругов Соединенных Штатов. Вот почему генералу Грэвсу с его парнями пришлось «за семь верст идти — киселя хлебать», как говорят русские. Экспедиция Гревса в Сибирь — это теперь все признают — оказалась дутым предприятием и не принесла Америке желанных рынков. Большевики выставили из Сибири белых да заодно и Гревса с его великолепными теннессийскими и миссурийскими парнями… Да, эти огромные восточные пространства могли бы поглощать астрономические количества американских товаров. На этой благодатной почве могло бы возрасти столько новых состояний, среди которых не последним было бы состояние этого прохвоста — дипломата Мака и его клевретов… Впрочем, ни черта Маку и его хозяевам не удастся сделать! Паркер плюнул в пролетающий верстовой столб.
«Хотел бы я видеть, как этот проклятый Беверидж пустит корни на этой проклятой земле! С большевиками ему не справиться — ни обманом, ни силой! Впрочем, кажется, это не американская мысль, как сказал бы Мак!» Паркер представил себе, каким взглядом окинет его Мак-Гаун, когда Паркер расскажет, чем кончилась его попытка увидеться с партизанскими вожаками, и поежился: у Мака были скверные зубы и скверный характер!.. С этим следовало считаться…
5
Топорков почесал заросший рыжеватой щетиной подбородок и задумался. Потом поглядел на Виталия:
— А я думаю, митинговать не будем, а надо просто пропесочить Панцырню, чтобы долго чесалось. В голове-то у него, и верно, не знай что делается.
И Панцырню «пропесочили»…
…Радуясь тому, что Бонивур ограничился резким замечанием, когда они скакали по дороге, Панцырня решил, что тем дело и кончится. Виноватым он себя не чувствовал. Многое из того, что говорил ему Паркер, как-то задержалось в его упрямой голове. Особенно поразила его картина, нарисованная Паркером: американские машины работают на Панцырню, а он, поплевывая, ездит на коне, сам себе хозяин…
Вечером вокруг него собрались партизаны.
— А ну, давай рассказывай, Пашка, что за мериканца ты поймал!
Слух об этом обошел весь лагерь и возбудил сильнейшее любопытство. Польщенный общим вниманием, Панцырня не заставил себя упрашивать. Подбрасывая в костер веточки, он рассказал, как американец сначала струсил, когда Пашка вышел неожиданно ему наперерез, а потом оказалось, что он, американец, совсем свой парень: «По-нашему сыплет, ну, чисто русский… Мы с ём по душам поговорили…»
Подошли Топорков и Виталий. Партизаны расступились, пропуская их к костру. Панцырня замолк. Топорков мирно сказал ему:
— Ну, давай дальше, послушаем и мы.
В голосе командира не было ничего подозрительного, что насторожило бы Панцырню. Бонивур, наклонясь к огню, принялся кидать в костер мелкие сучки, следя за тем, как пламя уничтожало их. И Панцырня продолжал рассказывать:
— Они, мериканцы-то, до чего свободные! Главный город у них Не-Ёрк, мимо него ни пройти, ни проехать! А чтобы все знали, какая вольная у них жизнь, перед городом статуй поставлен — Свобода. Такая громадная баба, на башке лучи, в одной руке закон держит, а другую подняла с фонарем. А фонарь такой, что за сто верст светит. А высотой эта баба сто саженей!..
Партизаны недоверчиво переглянулись.
— Ну, это ты загнул, паря! — послышалось сзади.
Олесько спросил Виталия:
— Товарищ Бонивур! А что, верно, есть такой статуй?
Все взоры обратились к Виталию. Он, продолжая глядеть в огонь, негромко сказал:
— Да, есть. Статуя Свободы — грандиозное сооружение. Высота ее достигает ста метров.
— Ишь ты! — восхитился Олесько. — Это да!
Панцырня только кивнул головой, очень довольный неожиданной поддержкой. Он сам, когда Паркер рассказал ему о статуе, не очень-то поверил и решил, что американец подвирает, ну, да без этого какая же беседа!
Виталий тем же тоном добавил:
— А на скалистом острове, на котором стоит статуя Свободы, помещается тюрьма для пожизненного заключения тех, кто боролся против господ капиталистов.
— Это как же? Под Свободой-то? — с любопытством спросил Чекерда, выдвигаясь из темноты.
Виталий молча кивнул головой. Топорков засмеялся:
— Под американскую-то свободу это подходящий фундамент.
Панцырня оторопел. Однако он справился со своим смущением и упрямо сказал:
— Ну, я не знаю там про фундаменты… У них, у мериканцев-то, даже на деньгах нарисован такой человек, который за свободу боролся… Вашиктон звать. Может, и под ём фундамент есть?
Толпа у костра все росла. Задние напирали. Из темноты подходили все новые партизаны. Кто-то сказал восхищенно:
— Пашке по холке дают!
— Пошто?
— А за мериканца!
— Ну, за это, паря, следовает! Язык-то чесать со всяким — это на плечах кочан иметь!
— Ково? Ково?
— Кочан, говорю!
Говорившие рассмеялись. Однако на них тотчас же зашикали, замахали руками, всем интересно было, что дальше произойдет у костра. Панцырня сидел багровый. Он начинал понимать, что, кажется, влип в историю.
— Может, скажешь, и Вашиктона не было? — с вызывом спросил он Виталия, теряя важность.
— Почему не было! Был Вашингтон, — ответил Виталий, прислушиваясь к перешептываниям за спиной. — И война за освобождение Америки от власти англичан была, война за независимость… Только давно это было. Вашингтон завоевал американцам свободу от английских купцов и чиновников. А теперь американские капиталисты под себя подмяли полмира и верхом сели на рабочего человека и крестьянина. Впрочем, вы, вероятно, лучше меня знаете, кто такие американцы. Они на Сучане и в Приморье память о себе оставили.
Виталий замолк. Наступила тишина. Топорков кивнул Панцырне:
— Ну, давай дальше!
— А ну вас! — сказал парень. — Рассказывай сам!
— Что ж, я расскажу, пожалуй! — поглядел на него Топорков. — Вот поднес тебе этот американец чарочку…
— А вы видели? — буркнул Панцырня.
— Я не видел, да ты сам скажешь сейчас. Поднес?
— Ну поднес… с бабий наперсток. Разговор только один.
— Вот поднес, значит, он тебе чарочку, а ты к нему со всеми потрохами в полон: на-ка, бери меня… За чарку продался! Так?
Дело было не в строю. Тут, сидя у костра, можно было и огрызнуться на Афанасия Ивановича, благо что держался он сейчас не начальником, а товарищем. Панцырня сказал сердито:
— Ну, вы это бросьте, Афанас Иваныч!..
— А чего мне бросать? — не глядя на него, твердо ответил Топорков. Это ты брось, Пашка, да наперед запомни: кто в малом товарищей продаст, тот и в большом не задумается! — Панцырня даже поднялся с места, а Топорков продолжал сурово: — А как же не продался? Там тебе этот рыжий наболтал семь верст до небес да все лесом, а ты тут за него распинаешься. Слыхали мы, что «мериканцы свободный народ». Вот я тебе про них расскажу. Слов нет, американский рабочий с нашим одним духом дышит, в интервенцию он не пойдет. Понял? Армия у них добровольная; стало быть, коли кто пошел, так уж не затем, чтобы для тебя стараться. Я с Сучана… Американскими солдатами там командовал полковник Педдер. Мы спервоначалу думали, что американцы — это культурный народ. Только я тебе скажу: кто к нам с ружьем пришел, хоть рыжий, хоть зеленый, хоть какой — немец, японец, американец, — добра не жди! Этот Педдер показал себя. Как фронты обозначились, почитай вся молодежь сучанская в партизаны пошла за Советы. А Педдер стариков отцов собрал, под штыками уволок… Пока вели, все чин чином шло, пальцем не тронули: «Не беспокойтесь, все разъяснится! Не волнуйтесь!» Бабы бросились к Педдеру. Тот вышел навстречу — сигара в зубах, улыбается, гад: «Женщины! У вас нет никаких оснований для волнения. Идите по домам!» Ну, ушли… Ждут-пождут стариков нема! Бабы опять к Педдеру. Усаживает, улыбается. «Не волноваться! — говорит. — Старики уехали на дознание во Владивосток». Ну, уехали уехали… Педдер в другом месте лагерем стал. Вдруг слышим-послышим: стариков, мол, нашли…
Вокруг костра воцарилась тишина. Слышно было потрескивание веток в огне. Топорков продолжал:
— Ну, верно, нашли… На месте того лагеря, где американцы стояли. Собаки почуяли. Выть стали. Тут наши смекнули, что дело неладно. Стали рыть. Вырыли… Ну, на которых, почитай, живого места не было. Кололи, видно, били, тиранили. Огнем пытали: кожа на пятках да в мягких местах черной корочкой взялась… А чего было пытать? Никто из стариков и не знал, где сыны, где тот партизанский отряд стоит, да и не стоял он, отряд-то, а бил интервентов — сегодня здесь, завтра там!.. Тут-то уж все поняли, какая у них, американцев, культура-то — сродни Семенову да Калмыкову. Сколько они народу извели! Разве сосчитаешь? Есть тут село такое, Анненково, слыхал? Топорков посмотрел на Панцырню. — Так там с американского бронепоезда открыли огонь, мертвыми да ранеными все улицы устлали. А чего было стрелять? Ни одного партизана в селе не было.
Топорков замолчал. Колодяжный тихо сказал:
— Да только ли на Сучане… В Чугуевке окружили да взяли в плен командира нашего Байбуру, секретаря Батюка, членов штаба Коваля да Шило, шомполами пороли — весь народ согнали на посмотренье. У Свиягино захватили партизана Мясникова. Уши, нос, руки и ноги отрубили и бросили, да хоронить запретили. Сказали: «Кто гроб сделает для него, тот и сам в гроб ляжет». Баба нашла его, в сундук поклала. Так в сундуке и похоронила.
— А бабу? — спросил кто-то из задних рядов.
— Бабу не тронули. Не до нее было! Тут их так поперли, что небо с овчинку показалось! Я после того и в партизаны-то пошел… А то все думал, что не мое дело.
— Сродственник, что ли, Мясников-то? — послышался голос.
— Сродственник! — ответил Колодяжный. — Русский человек.
Тяжелое молчание нарушил Панцырня. Словно защищаясь, он сказал:
— Так то солдаты да полковники. А этот мирный… Про машины рассказывал.
Виталий поднял от костра голову и вгляделся в толпу партизан.
— Американские машины кто-нибудь видел, ребята? — спросил он.
— Видали: «Мак-Кормик», «Клетрак» да и еще какие-то.
— Кто это говорит? Не вижу!
— А я, Тебеньков, товарищ Бонивур.
— Машины-то твои были? — спросил Бонивур.
Тебеньков рассмеялся.
— Ага, мои, держи карман шире! У Боталовых, Ковригиных, наших стодесятников, были. А я что, куда пошлют! Они кажный год в Благовещенске собирались на съезд, судили, кому каких машин надо купить, — ну, там жатки, лобогрейки, жнейки, молотилки, а то и паровики, — да в Америку посылали человека. А весной — из Владивостока по чугунке на Амур да на Зею…
Виталий огляделся. Кое-кто из партизан держал винтовки в руках скорее по привычке, чем по нужде.
— Ну-ка, дай! — сказал Виталий.
Он внимательно осматривал казенную часть винтовок и возвращал владельцам. Одну винтовку он задержал у себя и протянул Панцырне:
— Ну-ка, читай, что тут написано?
Панцырня недоверчиво посмотрел на него, с сомнением взял винтовку, натужась, стал рассматривать, шевелил губами, морщил лоб, потом с обидою сказал Виталию:
— Что ты мне даешь-то? Не при мне писано, не по-нашему!
— Ну, тогда давай я прочитаю сам! — с усмешкой сказал Виталий и взял винтовку из рук Панцырни. — Сделано в Америке. Ремингтон-Арми-Юнион. Металлик Картридж компани. Номер 811415…
— Чего? Чего? — послышались голоса.
— Винтовка эта сделана в Америке, — сказал Виталий, — сделана по заказу Керенского. Ну, Керенскому этими винтовками воспользоваться не пришлось для войны «до победного конца» за интересы английских да французских толстосумов… Американцы передали все оружие Колчаку. Так эта винтовка очутилась на Дальнем Востоке. Около миллиона винтовок американские фабриканты переправили Колчаку и другим белым генералам! Они хорошо знали, что эти винтовки пойдут не против немцев, для чего они были заказаны, а против русского рабочего и крестьянина, который восстал против буржуев да генералов…
Виталий помолчал.
— А винтовка — это тоже машина… Вот теперь вам ясно, для кого американские фабриканты свои машины делают? Машины «Мак-Кормики», «Клетраки» и «Катерпиллеры» по карману только богачам, стодесятинникам. А винтовки и пушки американские капиталисты посылают белым генералам против нас с вами, товарищи, когда беднота да рабочие в свои руки власть взяли… Так выходит?
Чекерда, блестящими глазами следивший за Виталием, хлопнул себя ладонью по бедру и сказал:
— А не так, что ли?..
Топорков поднялся с колоды, на которой сидел. Он посмотрел на Панцырню и выразительно постучал по колоде согнутым пальцем:
— Шевелить мозгой надо, партизан, а то задубеет!
Панцырня зло посмотрел на него.
— Ты не стучи, командир, не ты мне мозгу-то в голову ложил.
— То-то, что не я, — отозвался Топорков. — Кабы я ложил, так было бы у тебя в голове погуще!
Он встал и вышел из круга. Уже теряясь в темноте, из-за спин партизан, он сказал Панцырне:
— За разговор с задержанным да за чарочку получи один наряд в караул вне очереди, чтобы было время подумать!
— Это да! — сказал Олесько.
— Иди ты к черту! — цыкнул на него Панцырня.
Вслед за Топорковым ушел от костра и Виталий.
Круг распался. Партизаны стали расходиться. Кое-где задымились цигарки. Везде вполголоса шли разговоры.
Панцырня остался у потухающего костра. Он сидел на колоде и следил за тем, как медленно превращались в пепел угли. Голову он так и не поднял. Сидел долго, пока кто-то не крикнул ему:
— Эй, Пашка! Ложись, парень, спать, утро вечера мудренее! — И, не обидно усмехнувшись, добавил: — Мериканец!
Послышались смешки. Панцырня только глазами сверкнул, но сдержался и не ответил ничего.
Глава 16 Отовсюду новости
1
Вскочив с топчана до побудки, Виталий побежал на речку купаться.
Розовело небо на востоке. От озаренных невидимым солнцем облаков на землю падал розовый клубящийся, туман, делая привычную местность неузнаваемой. Ничто не нарушало тишины утра, только щебет птиц разносился вокруг. Пернатые ловцы кружились, ища добычи, улетали, вновь возвращались.
Искупавшись, Виталий посидел на берегу, следя за тем, как красный диск солнца выходил из-за горизонта.
…Пора идти!
Дорога пролегала через овсы.
Метелки на седоватых стеблях расступались перед Виталием и вновь смыкались, обдавая ноги росяными брызгами.
С тропинки, по которой шел Виталий, тяжело бросился в сторону тучный фазан. Золотистый стрельчатый хвост его волочился шлейфом. Виталий торопливо огляделся: нет ли где-нибудь палки? Однако поле было старое, чищеное. Фазан, тяжело переваливаясь, продирался сквозь овсы, выскочил на опушку, где кончались посевы, и бросился в кустарник. Пронзительно вскрикнула несколько раз фазанья курочка. Виталий погнался за петухом, чуть не наступая ему на волочащийся по земле хвост. В азарте он сорвал с головы фуражку и что есть силы кинул вслед фазану. С отчаянным криком напуганный фазан тяжело взлетел вверх, сделал несколько нелепых взмахов крыльями и свалился где-то за кустами.
А фуражка оказалась в руках девушки, вышедшей из-за кустов на повороте тропинки.
Перед Виталием стояла Нина.
Озаренная солнцем, коричневая от загара, она была совсем не похожа на ту городскую девушку, память о которой столь бережно хранил Виталий до сих пор. Девушка глянула на него и, не удивившись его появлению, весело сказала:
— Вот тебе и раз, Виталий! Ты чего же шапками кидаешься? Это что, новый способ здороваться?
Ошеломленный встречей, Виталий пробормотал:
— Это я в фазана кинул.
— А фазан где?
Виталий показал в сторону, где скрылся фазан. Нина рассмеялась:
— Эх, ты охотник! Не поймал, значит, жар-птицу!
Пепельные волосы Нины лежали на голове светящейся короной. Крутой лоб, смугло-розовые щеки, яркие губы, крепкая, статная фигура, высокая грудь все это было и знакомо и незнакомо Виталию. Нина изменилась к лучшему. Она повзрослела и расцвела за те два месяца, которые прошли со времени их последнего свидания.
— Что уставился, Витя? Не узнаешь? — Нина протянула руку. — Ну, здравствуй!
— Да, тебя трудно узнать, — произнес Бонивур.
— Значит, богатой буду. Ты в лагерь идешь? Пошли! — Девушка подхватила его под руку. — Я пешком шла. Устала. Есть хочу. Пошли, быстро!
Так состоялась встреча, которой ждал с душевным трепетом Виталий. Ни одного особенного слова не нашлось у Нины для него.
Да, Нина изменилась. Видно, новые люди, события, жизнь беспокойная, тревожная заслонили от нее и Виталия и город, потушив в ее сердце робкий росток чувства, взошедший нежданно и так же нежданно увядший.
— Ты будто не в духе? — спросила Нина, бросив на него взгляд. — Жалко, что петуха упустил? — Короткий смешок ее, ослепительная улыбка не таили в себе ничего большего, чем обычная шутка и смех.
Она даже не заметила состояния Виталия.
2
Нина пришла не с пустыми руками. Когда Топорков, встретивший ее как родную дочь, усадил в шалаше и принялся угощать, Нина ела, успевая и рассказывать.
Топорков останавливал ее:
— Да ты поешь толком, птаха! Язык, поди, не закостенеет! Потом расскажешь.
Нина с набитым ртом отвечала:
— Афанасий Иванович! Вы мне не мешайте! Как это я буду молчать, когда у меня ворох новостей? Просто невозможно.
Из рассказа Нины было ясно, что белые концентрировали свои силы на нескольких важнейших участках в районах, прилегающих к прифронтовым. Переформирование их частей заканчивалось. Нине не раз приходилось встречаться и разговаривать с солдатами, у которых на рукаве был нашит зеленый треугольник. Это были мобилизованные. Солдатам Земской рати была обещана земля навечно. И кое-кто попался на эту дитерихсовскую удочку, особенно среди зажиточных крестьян. Листовки с призывом «Бороться за землю, за право!» имели в деревнях хождение. Не довольствуясь, однако, этим, штабисты Дитерихса предпринимали и другие меры. За обычными воинскими формированиями из мобилизованных были расположены охранные офицерские отряды, вооруженные пулеметами. Расстреливать тех, кто попятится, — вот была задача этих отрядов из отборных «добровольцев», которым нечего было терять. В некоторых пунктах были организованы ударные части. Они должны были прорвать фронт любой ценой, рассечь части НРА, пробиться в районы амурского казачества и попытаться поднять там восстание.
Виталий внимательно смотрел на Нину. Он видел, как возмужала она, попав в обстановку, где успех дела решала она сама, где ее инициатива и сметка обеспечивали многое. Нина была теперь уже не той увлекающейся гимназисткой, которая когда-то с обожанием глядела на Виталия. Она многое умела и могла сделать.
Однако Виталий обратил внимание на то, что Нина делает слишком широкие обобщения и рассказывает о тех местах, в которых физически она не могла быть за время своего рейда в прифронтовую полосу. Это заставило его насторожиться. Как видно, Нина о многом передавала понаслышке, но, увлекаясь, представляла себе это так, как если бы все видела своими глазами. «Доверчива! — подумал Виталий. — Такого разведчика легко вокруг пальца обвести!».
Топорков же слушал Нину с восхищением. Он считал ее своей воспитанницей.
— Экого мне бог помощничка послал, Виталя, а! Сквозь огонь и воду пройдет!.. Ай да Нинка!
Пожилой человек, многое видевший на своем веку, он отлично понимал, что далеко не всему в рассказе Нины можно придавать серьезное значение. Но его радовали задор и живость Нины.
Нина как бы не обратила внимания на слова командира, но по раскрасневшемуся лицу ее было видно, что похвала Топоркова ей была приятна. Однако ей хотелось услышать одобрение и Бонивура. Она обратилась к Виталию:
— А ты что скажешь? Есть что сообщить дяде Коле?
— Что я скажу? — наморщил он лоб. — Если все, о чем ты говоришь, результат твоих личных наблюдений, то ты молодец, многое сумела увидеть, а если…
Нина замялась, но потом сказала:
— Многое я слышала от других, а то и от третьих лиц. Но ты же сам, Виталий, учил не пренебрегать ничем, запоминать все, сопоставлять и делать выводы…
Топорков взял Нину под свою защиту.
— Да будет тебе придираться-то! — сказал он Виталию. — Новички, которые в отряд идут, то же самое говорят… У Нины только складнее получается. Да, я думаю, она все-таки побольше видела, чем те, кто в своей норе ховался.
— Я не придираюсь. Только надо предупреждать, что разведчик сам видел и о чем люди сказали. Слухам-то, сам знаешь, вера короткая.
Нина простодушно сказала:
— Знаешь, Виталий, я так ясно все это представляю, что кажется, сама видела. Ей-богу!
— Э-э! Да ты совсем еще девчонка, оказывается! — протянул Топорков, рассмеявшись. Вслед за ним рассмеялись и Виталий с Ниной.
Топорков посидел, посидел, подумал.
— Видно, считанные дни остались! — сказала Нина. — Во всех отрядах, которые стоят вдоль железных дорог, только и разговоры о том, что скоро из Владивостока придут бронепоезда.
— Да. Судя по всему, недолго ждать, — сказал Виталий. — А какое настроение, Нина, у белых? Надеются они на успех?
— Вот уж чего нет, так нет! — усмехнулась Нина. — Видала я сама однажды такую сцену в буфете на вокзале. Встретились несколько офицеров из разных полков, видно, старые знакомые… Разговорились, подвыпили, зашумели — и все разговоры о будущем походе? За всех выпили, а потом за поход выпили… И вдруг один другому кукиши показали. «На Москву!» — и кукиш. Стали прощаться: «Дай бог на Миллионке встретиться, в кабачке». Судите сами об их настроениях!
Топорков расхохотался.
— Видно, не все господа офицеры голову-то потеряли! А остальным мы поможем как-нибудь образумиться.
— Да, — сказала Нина. — Как-то пристал ко мне на станции американец. Здоровенный такой, рыжеватый, во все суется, до всего ему дело есть. По-русски хорошо говорит. Подсел, еле от него отвязалась. Все допытывался, как ему к партизанам пробраться, говорит, дело у него к ним есть. «Вы, говорит, местная, вы все тут знаете…» Шпион какой-нибудь! Едва ушла от него.
— Да мы с ним познакомились! — сказал Виталий.
— Крестников-то моих много ли пришло? — спросила Нина, имея в виду завербованных ею в отряд.
Топорков ответил:
— А как же! Твоих десятка полтора, да самоходом человек тридцать!
Они вышли из шалаша.
Полдневный жар повис над лагерем. День стоял ясный и тихий. Деревья, окаймлявшие речку, что вилась неторопливо вдоль низких берегов, были недвижны. Тихое течение было совсем незаметным. В глади воды отражалось небо. И вода казалась куском неба, брошенным в тронутую первой желтизной зелень берегов. Ни единого облачка не было видно.
— Хорошо-то как! — полной грудью вздохнула Нина и положила руку на плечо Виталия.
Прежняя доверчивость, ясная, чистая, проскользнула в ее голосе. Виталий обернулся. Глаза Нины были так же ясны, как небо, и таким же безоблачным было ее лицо.
— Да, хороший денек! — сказал Топорков. — Только воевать жарковато. Без выкладки еще туда-сюда, а с амуницией тяжеленько.
3
Нину в отряде любили. Каждый хотел сказать ей что-нибудь приятное. Панцырня, державшийся возле шалаша, когда Нина беседовала с командиром отряда и Виталием, подскочил первым.
— Нина Яковлевна! С прибытием! — сказал он.
— Спасибо. Здравствуй, Панцырня! — ответила Нина приветливо.
В ту же минуту рядом оказался Колодяжный. Он бесцеремонно отпихнул связного.
— А ну, здравствуй, дочка! — сказал он и посмотрел на нее ласковым взглядом. — Эк тебя солнышко-то зажарило… ровно арапка! Домой, значит, прискакала?
— Домой, дедушка.
— Ну, вот и хорошо.
С появлением Нины молодые ребята стали форсистее. Старательно расчесывали вихры, заламывали фуражки на затылок.
Панцырня завел себе какую-то немыслимых цветов опояску. Теперь он появлялся не иначе, как вооруженный до зубов, с кинжалом, заткнутым за пояс. Олесько, видимо, тоже влюбившийся в Нину, то и дело вертелся возле отведенного ей шалаша. Даже застенчивый, словно девица, сын Жилина — и тот частенько, усевшись невдалеке, таращил глаза в надежде лишний раз увидеть Нину. Все старались услужить ей. Нина наотрез отказывалась от помощи, сама охотно помогая другим. Увидев однажды на Чекерде разорванную рубаху, она поманила его пальцем:
— Эй, Николай! Поди сюда.
Парень, насупясь, подошел.
— Ну, что?
— Снимай рубаху, зашью. Как не совестно расхлестаем ходить?
— Не сниму, — мрачно сказал Николай. — Сам зашью!
— Ну так зашей. Чтобы я тебя рваного больше не видела.
— Ладно уж! Не увидишь.
— Да ты чего сердитый такой? — удивилась Нина.
— Просто так.
Чекерде польстило предложение Нины. Но разговор с Бонивуром, происшедший в первый же день по прибытии в отряд, не выходил у него из головы. Парень избегал встреч с Ниной. И теперь чувствовал себя весьма неловко, пытаясь нарочитой грубостью скрыть свое чувство.
Остальные партизаны охотно обращались к Нине с различными просьбами. Нина кроила, шила, порола, накладывала заплатки. Работы оказалось по горло. Возле шалаша девушки всегда царило оживление.
Виталий, однако, не мог побороть ощущения неловкости перед Ниной, и, крайне стеснительный, когда дело шло о нем самом, он не мог решиться попросить Нину о каком-нибудь одолжении.
Заметив, что одежда и белье его загрязнились, Виталий отправился к своему излюбленному местечку на берегу реки. Разделся, снял с себя белье, натянул на голое тело брюки и принялся за стирку. Он стоял, наклонившись к воде всем корпусом. В глазах рябило от мелких, сверкавших на солнце волн.
Сзади послышались шаги. Виталий обернулся.
Позади стояла Нина с незнакомой Виталию девушкой. Нина с осуждением сказала:
— Не мог попросить? Эх, Виталя, Виталя… Ты, я вижу, гордец!
— Чего просить! Я и сам выстираю… Нехитрое дело! — отозвался Виталий.
Незнакомая девушка со спокойными серыми глазами подошла к Виталию.
— Без сноровки ничего не сделаешь. Да и не мужское это занятие, сказала она в ответ на движение Виталия, который инстинктивно схватился за мокрую рубаху. — Да вы не беспокойтесь… Я быстро постираю.
Нина, видя смущение Виталия, укоризненно покачала головой. Она сказала, что идет в лагерь, и оставила Виталия наедине с девушкой. Он стоял, не зная, что делать. Девушка взглянула на него.
— Да вы сядьте, — предложила она.
Она посмотрела на то, как усаживается он на прибрежную гальку, и спросила:
— Вы в отряде давно?
— С месяц!
— А-а! Потому-то я и не знаю вас. Когда Нина в отряде была, я часто ходила к ней. Мы с ней подружки. Афанасий Иванович до партизан у матери моей жил в постояльцах. И теперь я не оставляю его, постираю, то, се сделаю.
Руки ее, обнаженные до локтей, двигались быстро и ловко. Виталий невольно залюбовался девушкой в пестреньком платье, которое свежесть девушки и яркое солнце превратили в праздничный наряд. Выстирав белье, девушка расстелила его на накаленной солнцем гальке.
— Вот через полчаса и одеться можно будет! — сказала она.
— Спасибо.
— Ну, спасибо потом будете говорить! — улыбаясь, отозвалась девушка и принялась стирать гимнастерку Виталия.
Она держалась с ним очень просто, не ощущая той неловкости, которая часто возникает между мало знакомыми. Она могла помочь ему и сделала это очень охотно и естественно, подчиняясь движению души. Так, вероятно, она держалась со всеми. Только хороший человек может быть таким, что с первого слова кажется, будто знаешь его давно.
Она работала с видимым удовольствием. Виталий не мог отвести взора от ее маленьких сильных ладоней, которые, словно играючи, расправлялись с его гимнастеркой из грубого солдатского холста.
«Добрая и умная!» — невольно подумал о девушке Виталий, и стеснительность его исчезла.
Почувствовав, что Виталий разглядывает ее, девушка полуобернулась к нему и легонько качнула головой, как бы упрекая его за этот слишком пристальный взгляд.
— Меня Настенькой зовут! — сказала она с той же милой простотой, предупреждая его расспросы. — А вас?
— Моя фамилия — Бонивур, а имя — Виталий.
— О вас в деревне много говорят! — живо сообщила она. — Комиссаром называют! Я думала, вы старик, а вы совсем нет.
— Это плохо, что я молодой?
— Нет, совсем наоборот! — ответила Настенька и поднялась. — Все! Теперь только подсохнуть. В другой раз вы прямо мне отдавайте, что будет… Нина вернулась, я буду часто заходить. Хорошо?
— Если вас не затруднит.
— Какое затруднение! Мне с детства приходилось заниматься этим, маме помогать. Она хворая.
Виталий пожал ее руку.
— Ну, спасибо вам… Я бы еще долго возился.
— Не на чем. Приходите в деревню. У нашей хаты всегда ребята и девушки собираются. Гостем будете. Придете?
Виталий сказал, что он придет обязательно. Настенька легко поднялась по косогору, светлым видением обозначившись на фоне голубого неба, махнула на прощание рукой и исчезла.
Виталий глядел ей вслед: «Настенька! Какое хорошее имя! — подумал он. И сама она простая, хорошая».
Все понравилось Виталию в Настеньке. И светлые косы, короной уложенные на голове, и золотые колечки волос, выбившиеся из-под косы, и темные брови, чуть сросшиеся на переносице и так выгодно оттенявшие ее ясные глаза, и нежное лицо ее с милыми веснушками кое-где, и загорелые стройные ноги, удивительно легко ступавшие по земле, и вся фигура ее — сильная и легкая… Была ли она красивой — Виталий не мог бы ответить на этот вопрос. Она была милой — и это он знал; про таких, как она, говорят в народе: пройдет, словно солнцем осветит!
…В молодые годы сердце ищет любви, ищет того близкого, который стал бы милее всех. И в этот день, напоенный солнцем, у журчащей речки Виталий принял в свое сердце незнакомую доселе девушку по имени Настенька. Скажет он ей об этом или нет, узнает ли она, что обрела милого? Станет ли близкой, откроет ли она свое сердце для этого черноглазого юноши?..
Взгляд серых глаз, спокойный, ласковый, которым Настенька, прощаясь, одарила Бонивура, остался у него в душе.
4
Расположенная неподалеку деревня была в районе, который находился под властью белых. Это не мешало, однако, молодым парням из отряда наведываться туда довольно часто. Топорков понимал, что приказом ребят не удержишь, и отпускал скрепя сердце. Он и Виталию сказал как-то:
— Сходил бы на вечерку, комиссар. Не все в лесу сидеть. Да и посмотришь заодно: не лезет ли кто к ребятам?
…Поздним вечером на широкой площадке перед маленькой белой хаткой, стоявшей на отлете, перед самым выгоном, парни и девушки лузгали семечки, пересмеивались, пели песни. Еще издали Виталий услыхал:
Копав, копав криниченьку недиленьку — дви,
Кохав, кохав дивчиноньку — людям, не соби…
Выводил песню мягкий, грудной девичий голос, от которого Виталий сразу встрепенулся. Этот голос он мог узнать из тысячи, как ему казалось.
И в самом деле, то была Настенька.
В такие безлунные вечера, иссиня-голубые, все видно, хотя очертания предметов и размываются этими колдовскими сумерками. Тишина господствовала в окрестности. Каждый звук — и в поле и в деревне — был слышен отчетливо в этой настороженно-ласковой тишине, настраивающей на мечтательный лад.
Молодежь развела костер, не столько для света, сколько для забавы. Пламя от сушняка вздымалось ввысь, почти не отклоняясь в стороны, огненным столбом. Окруженная подружками и парнями, у костра сидела Настенька. Она заводила песни одну за другой, словно выхватывая их из пламени костра, на который безотрывно смотрела.
А вслед за ней подхватывали песню все, кто сидел у костра. Парни пели негромко, низкими, глуховатыми голосами, словно расстилали суровое полотно, девушки подхватывали слова тонкими голосами, точно вышивали разноцветные узоры.
Настенька пела, точно говорила сама с собой. Казалось, она забыла, что вокруг нее много людей. То жаловалась на какую-то невысказанную муку, то вдруг смеялась над собой. В ее зрачках играл костер. Чистое широконькое лицо ее светилось, озаренное огнем.
Виталий смотрел на эту картину, пока не замолкли голоса. Когда Виталий переступил, что-то хрустнуло у него под ногами. Тотчас же люди у костра зашевелились. Защищая ладонями глаза от света, они вглядывались в темноту.
— Кто там? — негромко спросил высокий парень, черный на фоне огня. Виталий узнал голос Панцырни.
— Свои! — отозвался Бонивур, подходя к кругу. — Хорошо поете, заслушался.
— Как умеем! — ответило ему несколько голосов.
Круг раздался. Огонь осветил лицо и фигуру Виталия. Панцырня, который, видно, был здесь первым заводилой, сказал:
— Не много ли вас, не надо ли нас?.. Виталий-комиссар пришел.
— Гостем будете! — крикнула Настенька.
Приход Виталия спугнул песню. Парни и девушки заговорили, задвигались. Пошли перешептывания, смешки. Нина, которую только сейчас увидел Виталий, дружески положила ему руку на плечо и шепнула:
— Вот хорошо, что пришел! Тебя ждали.
Кто-то рванул мехи гармоники, она шумно вздохнула, и дробные, мелкие, задорные звуки польки, завиваясь от собственного лукавства и веселости, понеслись по кругу. Лебедками поплыли девчата вокруг костра. Парни с притопом и подсвистыванием, ухарски подбоченясь, понеслись за ними, фигурно выставляя руки и ногами выделывая чечеточные коленца.
— Настеньку пригласи! — шепнула Нина на ухо Виталию.
Но уже кто-то пригласил Настеньку, и она скрылась среди танцующих.
Панцырня, хлопнув оземь фуражку, крепко топнул ногой и неестественным голосом запел:
Сказал своим родителям:
— Какой я вам работничек,
Какой я вам работничек,
Когда плясать охотничек?
И пошел бить подборами, отчего загудела утрамбованная земля.
Пройдясь с частушками два раза, он выкинул коленце, неожиданно остановившись напротив Бонивура.
— Вызов, вызов! Просим! — зашумели вокруг.
Нина тотчас же подтолкнула Виталия.
— Иди, коли просят! — сказала она.
Виталий ответил на вызов и вышел на круг.
— Ай да комиссар! — послышались голоса…
Потом прыгали парами через костер.
…Синела ночь. Шумное веселье утихало. Сами собой разбились молодые люди на парочки, беседуя о том, чего не надо было знать другим.
Виталий — хотел он этого или не хотел, он и сам понять не мог оказался вдвоем с Настенькой.
Угасал костер, бросая ввысь последние искры.
Виталий и Настенька сели перед тлеющими угольями на колоду. Виталий не сказал девушке ни слова. Слова были лишними в этой пугливой, нежданной близости. И Настенька молчала. Так сидели они долго, притихшие, безмолвные. Лишь когда ночная сырость подкралась откуда-то с низин, серым покрывалом застлав мелколесье, девушка сказала:
— Пройдемтесь немного. Домой уже пора.
Виталий послушно довел ее до калитки. Взял ее руки в свои ладони, но, почувствовав, что нужны какие-то слова, которые внесут определенность в то, что волнует его и что, как казалось ему, находит отклик в Настеньке, Виталий поспешно попрощался.
Уже отойдя довольно далеко, он сообразил, что нарушил все деревенские приличия — не дождался, пока девушка войдет в дом. Он остановился. В этот момент до него донесся звук закрываемой калитки. Значит, Настенька не сразу пошла домой, должно быть, смотрела ему вслед.
Горячая волна прокатилась по телу Виталия.
«Ай-яй-яй! — сказал Виталий сам себе в смятении. — Влюбился!.. Только этого и не хватало!»
Виталий ругал себя за то, что дал сердцу волю. Но он понимал, что теперь с ним происходит что-то другое, совсем другое. «Настоящее?» — спросил он себя чуть ли не вслух. И должен был признаться, что совсем иное чувство было у него тогда, когда шел он с Ниною по Светланской. То, пожалуй, было чувство радостной находки, лишь счастливый трепет от намека на настоящее чувство. Да и порыв Нины, как думал теперь Виталий, объяснялся не столько тем, какое место занимал в ее сердце юноша, сколько тем, что пережила Нина в подвале Караева, в тягостном ожидании пыток и трудной смерти…
То было только преддверием настоящей любви, которая всегда приходит к человеку нежданно-негаданно! Лишь теперь она завладевала его душой и сердцем.
Виталий попытался спокойно разобраться в неожиданном своем чувстве к Настеньке и… не смог. У него не стало сил противиться тому, что вихрем нахлынуло на него.
Он находил множество убедительных доказательств своей ошибки в отношениях с Ниной. И не мог найти ни одного, которое заставило бы его противостоять очарованию Настеньки, не помышлявшей о том, чтобы произвести на Виталия какое-нибудь впечатление. Это было настоящее чувство, как настоящей, по-особенному близкой и единственной была сама Настенька…
Глава 17 Затишье перед бурей
1
У одного из наседкинских стариков, Верхотурова, находился «почтовый ящик» для отряда. Много таких «почтовых ящиков» организовал дядя Коля повсюду для связи с деревенскими большевиками, с партизанскими отрядами, попеременно используя те или иные цепочки связи. По большой проселочной связь шла через Верхотурова, по железной дороге — через Любанского Сапожкова.
Была, однако, существенная разница между двумя этими линиями: через Любанского шло оружие и распоряжения первейшей важности, через Верхотурова газеты, брошюры. Люба некий был в курсе всего, что шло через него; Верхотуров же понятия не имел о том, что содержалось в пакетах, которые привозили ему из города разные люди.
Знал Верхотуров лишь, что где-то в лесу живет объездчик Павло Некрутюк — это было условное имя, — газеты и книжечки предназначались ему.
Этот «почтовый ящик» возник еще тогда, когда был жив старший сын Верхотурова — Кузьма. Парень стал большевиком в Забайкалье, где служил в войсках Лазо, воевал два года, приехал в Приморье, когда здесь были Советы, уже больной, служить не мог и стал у отца отлеживаться от походов. Когда же в мае 1921 года японцы произвели «несосовский» переворот и свергли власть ДВР в Приморье, а большевики ушли в подполье, старые друзья не забыли о Кузьме. Через него шла связь с партизанами в Никольск-Уссурийском районе. Кузьма протянул недолго. Верхотуров похоронил сына. А когда, не зная о смерти Кузьмы, приехал из города посыльный с пакетом, старик сказал: «Ну, кому передать-то, сказывай! Чай, Кузьма-то знал, что делал, а я ему не враг!» Так отец заменил Кузьму.
2
Виталий познакомился с Верхотуровыми.
Приходил он к старику обычно под вечер, когда уже смеркалось и в деревенских избах загорались желтые огоньки керосиновых ламп и дым из уличных печурок, на которых готовился ужин, стелился по деревне.
Большая, вместительная изба Верхотурова стояла очень удобно для той цели, с которой наведывался в нее Виталий, — немного на отшибе, дверью к лесу, так что мало кто видел посетителей. Избу лицом к лесу выстроил еще отец старика, дед Верхотуров — мужик неуживчивый, с самого поселения из-за чего-то поссорившийся с сельчанами (нынче все уже забыли и причину ссоры да и самого деда).
Верхотуров содержал дом «в строгости»: жена слушалась его беспрекословно, дочери Марья и Степанида, рослые крупные, сильные девки, которых побаивались по суровости их нрава даже деревенские ухажеры, тоже робели перед отцом, хотя он и пальцем их никогда не тронул. Дочери называли его уважительно и ласково «батенька», угождали ему, и стоило ему нахмуриться, как они наперебой кидались к нему: «Батенька, не надо ли чего?» Впрочем, может быть, и не страх перед ним держал в повиновении весь женский род Верхотуровых. Деревенские объясняли это «строгостью» старика и поговаривали — хотя ни разу из дома Верхотуровых никто не слышал ни женского плача, ни визга, столь обычных в деревенской жизни, если глава семьи «учил» жену или детей, — что рука у него «тяжелая». Младший же сын, «последыш», «мизинчик», «остатышек», как иногда полунасмешливо-полуласково называли Вовку сестры, утверждал перед своими сверстниками, что отец его совсем не сердитый и, уж конечно, не страшный, что он пальцем никого не тронул, не то чтобы… Сверстники же только недоверчиво головами крутили — заливай, мол, поболе, пока не сгорело! — и вспоминали при этом, как устрашающе умел шевелить усами старик и какие у него клочкастые брови, за которыми не видно и глаз… Вовка, сердясь, говорил: «Что брови! Вы ему в глазыньки гляньте, у него с глаз добротой пахнет!»
Обычно Виталий кого-нибудь встречал во дворе. То это была Верхотуриха, которая варила пищу на летней печке, или Марья, доившая корову; то Степанида с вилами или топором — на ней лежала вся тяжелая работа, она была первым помощником отцу. Вовка в эти часы еще носился, как оглашенный, с кучей ребят где-то по улицам, и до дома лишь иногда доносился его голос, выделявшийся в разноголосом хоре ребячьих криков.
— Дома хозяин-то? — спрашивал Виталий.
— Дома, дома! — отвечали ему. — Проходите, гостем будете!
Уже зная, зачем пришел юноша, старик несколько мгновений смотрел на него из-под своих густых бровей.
— Садись, в ногах правды нет, — говорил он не спеша. — Вечерять будем!
Не повышая голоса, он говорил в открытую дверь:
— Эй, хозяйки! Пора бы поесть, что ли, да и гость в доме!
Марья или Степанида, выйдя на улицу, кликали нараспев:
— Вовка-а-а!.. Во-о-овка! Домо-о-о-ой!
Спустя несколько минут доносился топот босых ног Вовки, торопливые его переклички с кем-то из ребят.
Виталий отказывался от ужина, но старик, не слушая, махал руками:
— Никакое дело без божьего дара не делается. Я тебе не подначальный, у меня в доме свой обычай — попал, так примечай: кто к столу садится, в работники годится, кто от щей бежит, у того к хозяину сердце не лежит! Ты не думай, я всякого угощаю, только кого чем: иного — щами, а иного и вожжами… Ты ко мне на порог, а я уж вижу, что у тебя за душой — корысть или нужда. Коли корысть — на порог подивись, а коли нужда — садись сюда!
Прибаутки сыпались из-под желтых усов Верхотурова, пока не подавалась на стол еда; вкуснейший картофельный или крупяной кандер, круто посоленный, щедро заправленный луком и свежей капустой, с куриным яичком и свиным салом.
Смачно откусывая ржаной хлеб и хлебая кандер, старик замолкал. Женщины изредка обменивались несколькими словами о самом нужном.
Повечеряв, старик бормотал скороговоркой, повернувшись к образу Спаса Нерукотворного в переднем углу:
— Благодарим те, Христе боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия! — Потом, поглядев на Виталия, говорил: — Пойдем-ка, друг, на воздух!
Кряхтя, он усаживался на завалинку и хлопал рукою подле себя:
— Садись-ка! Поговорим!
Виталий не отказывался от разговоров с Верхотуровым. Ему нравился и сам старик да и весь уклад в его доме, основанный на взаимном уважении и доверии друг к другу членов семьи.
— Вот ты скажи мне… — начинал Верхотуров. — Кузьма-то все знал, да мне совестно было у своего семени учиться. Почто я тебя пытаю? Почто у стариков не спрошу? Это они для тебя старики, а я их всех мальчишками помню. Бороды-то отрастили, а мне борода — не указ, я их без бороды вижу, какие они есть! На что у Чувалкова, у кулака нашего, борода библейская, кто ни посмотрит — думает: патриарх! А мне — тьфу! — все видится, как у него из носа течет. Мальчонкой-то он был сопливей всех в деревне да и умом не шибко…
Он долго тянул козью ножку. Потом черным, корявым пальцем гасил ее и говорил со вздохом:
— Как Миколашку-то сковырнули да генералам по шапкам надавали, вся старая жизнь разрушилась. Я округ смотрю и мало чего понимаю; раньше понимал, да, видно, тот умен, кто со своим растет! Мое на закат пошло, а твое — на восход! Стало быть, ты сейчас об новой-то жизни больше понимаешь, объяснить можешь. Вот, например, раньше было говорено всем: «Вера, царь и отечество». Ну, царя унистожили. А на его место кого же?
— Советская власть! — говорил Виталий.
— А как ее понимать? — спрашивал Верхотуров и лез в кисет заворачивать новую козью ножку.
— Ну раньше-то, при царизме, главным был царь, а приближенные его богач на богаче! А теперь власть рабоче-крестьянская. Лучшие люди государства решают все вопросы сообща, советуясь между собой. Помнишь: ум хорошо, а два — лучше!
— Ну, допустим, так. А как с отечеством быть? Раньше я знал: ружье в руки, коли кто на нас лезет, — защищай отечество! А теперь ваши все про этот Интернационал беспокоются. Послушаешь иной раз — вам и китаеза и я не знаю, кто ближе своего-то, русака! Это как?
— Мы не только для себя хорошего хотим. Мало чести и радости самому по-человечески жить, а рядом чтобы миллионы людей погибали в кабале у буржуев. Вот ты говоришь — китаеза… Смотря какой: лавочник или крестьянин? Крестьянину да рабочему мы друзья, а банкиру, фабриканту — враги… У каждого немецкого Ганса есть немецкий кулак, у каждого китайского Ли есть свой джангуйда, у каждого английского Джона есть свой хозяин. Не думай, что они давят на них меньше, чем ваш Чувалков. Как же нам не думать о них!
Верхотуров посмеивался:
— А как же с верой быть? Всех богов в печку, что ли? Это не выйдет. Корешок-то у нее длинный, не при нас с тобой зачался. Как за этот корень возьмешься, гляди, чтобы беды не было!
«Смеется надо мной старик!» — с огорчением думал Виталий и жалел, что мало читал. Вопросы были не пустячные. Виталию нужны были знания, убежденность и выдержка, чтобы ответить на них.
— Умные люди говорят, отец, — отвечал Виталий, — что вера в божественное произошла от неверия человека в свои силы да оттого, что у него было мало знаний. На себя надежды не было! Вот и придумал он себе высокого покровителя. Счастье привалило — значит, бог послал за труды праведные; худо случилось — опять же бог наслал, за грехи или в испытание. Человек-то за себя не ответчик стал. А большевики, отец, хотят, чтобы человек на себя взял все тяготы в жизни, не надеялся на вышние силы, а сам для себя жизнь строил, да не так, как там, на небесах, написано, а как ему надо. Господни-то пути неисповедимы, отец, нам ли их понять? Мы хотим идти своими, каждому человеку понятными путями к счастью не на небесах, а на земле…
— Ишь ты! — произносил вслух Верхотуров с таким неуловимым выражением, что Виталий не знал, соглашался ли с ним старик или выражал несогласие. Как это у тебя ловко получается, все по полочкам разложил… Это туда, это сюда! Простота-а! Али это только на словах просто-то? В жизни, поди, потруднее будет, а? Ну прости, что утрудил тебя! Разболтался, как баба… Ты обожди тут малость, я тебе сейчас принесу твою пакетку.
3
Однажды, придя к Верхотурову, Виталий не застал старика дома.
— Возле лавки он, на бревнах сидит, — сказала Степанида, встретившая Виталия во дворе. — Вы посидите тута, я схожу за ним сейчас… Собрались там старики да заговорились что-то…
— Я и сам его найду! — поспешно ответил Виталий, обрадовавшийся возможности пройтись по селу, и вышел со двора. «Может быть, Настеньку встречу!» — мелькнула у него мысль. Разыскивать девушку, искать с нею встреч он не стал бы, но если приведется повстречаться с нею случайно — как было бы хорошо!
…Старики сидели на раскате бревен подле чувалковской лавки — крепкой избы из полуметровых бревен, крытой волнистым железом, с вершковыми внутренними ставнями и высоким крылечком. Лавка выходила фасадом на улицу. Дом самого хозяина был пристроен к ней глаголем и прятался во дворе, огороженном тесовым забором с высокими резными дубовыми воротами, за которыми громыхал на цепи злой пес. По постройкам видно было, что главным для Чувалкова было уже не крестьянство, а торговля, — всем своим видом лавка говорила об этом. Она выпирала среди всех прочих деревенских домов своей крепостью, добротностью и, если можно так сказать о доме, своим нахальством. Так оборотистый торгаш, обладающий мертвой хваткой в делах, красной рожей, сальным блеском глаз, наглой уверенностью своей в том, что он «любого облапошит», выделяется среди прочих людей.
По обеим сторонам дверей, выходивших на высокое крыльцо, были укреплены жестяные вывески, на которых были намалеваны хомут, голова сахара, банка ландрина, сапоги-вытяжки, козловые башмаки, бутыль керосина. Никаких надписей, даже фамилии лавочника, на вывесках не было. Дело было не в фамилии: в Наседкине хорошо знали Чувалкова…
Уже темнело, и Виталий не сразу увидел Верхотурова в группе сидевших мужиков. Никто не оглянулся на подошедшего Виталия — с таким вниманием слушали мужики одного, который сидел на крыльце лавки. Это был тщедушного сложения человек лет пятидесяти пяти с пышной бородой, прикрывшей всю его грудь, и голосом, которому он напрасно тщился придать мягкость и проникновенность.
— Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомится душа и измучатся глаза, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их! — услышал Виталий.
В этот момент кто-то снизу потянул его за полу пиджака. Виталий присмотрелся — это был старик Верхотуров.
— Садись-ка!
Виталий присел подле Верхотурова.
— Кто это? — спросил он про говорившего.
— Чувалков! — тихо ответил старик.
Между тем Чувалков продолжал тем же тоном:
— И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо и землю вашу — как медь… И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть! Так сказано в библии, книга Левит!
Злоба господня неутолима, если пожелал он воздать излюбленному народу своему кару за беззакония, — говорил Чувалков. — Полной мерой мерится чаша его воздаяния. Нет муки такой, какая не постигла бы его заблудшие чада… Да и как не воздать, если народ заблудился в грехах! Чего сопишь? — спросил он кого-то обычным голосом. — Не нравится? А ты погляди вокруг. Хозяйства порушены, семья вразброд пошла. Взыскал господь! Хлебородные губернии были на Волге, житницей российской назывались. А нынче что там? Глад и мор! И пожирают детей своих отцы и матери, и люди не гнушаются прикончить ближнего, чтобы только мамон свой набить. Полной мерой мерится! Кое сбылось уже, а кое еще предстоит претерпеть… Сказано… «Города ваши сделаю пустыней, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней!» — Чувалков многозначительно поднял палец. — Вот оно как!
— Н-да! — сказал кто-то, не в силах вынести тягостного молчания, которое наступило после этих зловещих слов.
— Вот тебе и «н-да», — отозвался Чувалков. — Бог сказал, не я!
— А что делать-то? — вдруг громко спросил чей-то хриплый голос, и было слышно, как спросивший чесал густую щетину на подбородке.
— А то и делать, что надо. Сидеть на земле надо, коли бог посадил на землю, за чужим не гнаться, душу-то свою не поганить да в лес не бежать, подобно волку, пока господь сам не взыскал. Нынче всякий рот разевает, думает, сейчас в него манна небесная посыплется. А ты откажись от земной-то прелести, вот бог и найдет тебя. Нынче всяк за ружье хватается, а о том забыл, что нет оружия сильнее меча господня!
— А нам чего от земной-то прелести отказываться? Все, что есть у меня, в один карман складу да унесу. У меня лавки-то нету, — негромко проговорил кто-то с другого края бревен.
Чувалков помолчал, угадывая, чей это голос.
— Это кто там? Павло Басаргин? Ну, я тебе не ответчик. Молод ты, а другие знают, что я богу-то да людям сто десятин отдал! А почто? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», — сказано… Вот из твоей любови святой к ближнему и тщусь о вас. Как могу один спасенным жить, когда кругом во тьме народ ходит?..
Старик Жилин, сидевший возле Верхотурова, пошевелился.
— Спасен! Да мы-то тоже православные.
— Бога-то не на доске крашеной держать надо, а в сердце! — сказал Чувалков.
— А ты ко мне в сердце-то заглядывал? — сердито спросил Верхотуров. Может, у меня бога в сердце больше, чем у другого. Святого крещения и я сподобился. Чем ты кичишься? Меня русский поп крестил. А тебя кто? Мымра какая-то, что по-русски двух слов сказать не может. Что, я не помню, как ты насмешил народ — без стыда в реку полез, ни кожи, ни рожи, ну, чисто шкилет с бородой. Тьфу! Спасен!
— Во Иордане-реке господь наш Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, а не в тазу! — теряя выдержку, сердито сказал Чувалков, которого задело упоминание о его тщедушии. — Вот истинное крещение! Как Христос, так и мы должны.
— Христос-то в еврействе рос до тридцати лет… И в младенчестве обрезан был! — сказал старик Жилин. — Так и нас обрезать?
Басаргин сказал:
— Я на это не согласный.
Мужики захохотали. «Проповедь» Чувалкова превращалась в веселую перепалку, в которой симпатии были не на его стороне. Виталий наклонился к уху Верхотурова и прошептал ему что-то. Верхотуров, распаленный, спросил громко:
— Вот ты говорил тут, что в лес бежать не надо да за оружие браться не надо, богу-де это неугодное дело. Это как понимать? В партизаны, что ли, ходить не надо?
Чувалков поднялся.
— Не твои слова это, Степан! Божье слово говорит: «Имеющий уши да слышит!» — Он сошел с крылечка. — Ну, пора по домам идти, что ли, доброго-то слова, видно, некому сказать… Суета у вас в душах-то, суета. А надо бы держаться за руль господень — вместе, душа в душу, к грядущим временам готовиться.
Теперь Чувалков уже не придавал своему голосу несвойственных ему оттенков добродушия. Это говорилось зло, исступленно как ругательство, как проклятие, точно каждый из собравшихся здесь был личным, заклятым врагом Чувалкова и он, осененный божьей благодатью, не прочь был бы сейчас, немедленно, поплевав на руки, как при рубке дров, помочь богу в той страшной работе, которая, по словам Чувалкова, готова была начаться…
— Ну, зашаманил! — сказал вполголоса Верхотуров. — Теперь он дома женку мытарить начнет, за косы возить, фонарей наставит. Пошли! — усмехнувшись, сказал он Виталию.
Мужики понемногу молча стали расходиться.
— И до чего зол человек! — сказал Верхотуров с веселым удивлением. Как почнет стращать, так иной раз до самых поджилок проберет; ну, так и забился бы в колодец, что ли, чтобы от страсти-то этой спастись. И что бы ты ни сказал — так и чешет из Библии, так и чешет. Ох, паря, тяжелая эта божья-то благодать! — вздохнул старик.
Расстроенный своими мыслями, он высказывал их вслух, потому что, видно, невмоготу было дольше носить их в себе.
— Кузьма сказал мне как-то по-хорошему, без охальства: «Мужик-то, батя, свободным родится, никому не покорный. Религию-то придумали богатые, чтобы мужику на шею сесть. На страхе вся религия держится!» Я было взбеленился. «Молод ты, говорю, отца учить! Чего ты знаешь?» А он мне: «Читывал я, батя, Библию… Что ни страница, то ругачка. Все богу-то кажется, что мужик от него норовит уйти! А ты и скотину-то держишь не только уздой, а и пойлом, а и сольцы иной раз на ладони поднесешь, порадуешь! Я читывал! Только добра для бедного там не нашел!» Ну, накричал я на него малость, осердился тогда. А когда Кузьмы не стало, слова его с ума не идут.
Спохватившись, что разоткровенничался не в пору, старик замолк. После некоторого молчания сказал:
— Нынче вся жизнь в переворот пошла, вот и раздумаешься…
4
Они присели на завалинке верхотуровской избы.
Продолжая свою мысль, старик заговорил:
— И перепуталось же нынче все. Вот ты мне на ухо-то давеча шепнул насчет партизан. Видал, как взъелся Чувалков! А чего ему? Видно, и впрямь он боговы-то слова против партизан натачивал, только полегоньку, чтобы мужики сами до этого додумались. А уж мужик до чего додумался, у него топором не вытешешь из головы. Да и чего он сегодня-то вылез с поучениями? Не иначе как потому, что недавно у него из города один побывал.
Верхотуров с досадой сплюнул.
— Мы в лавке у Чувалкова были. Вдруг, слышим, затарахтело за дверями, кто-то подъезжает. Не успели обернуться, а в дверях уже красуется фигура — в галифе, френчике. Он — к Чувалкову: «Христос с вами, брат Николай!» Чувалков так и завился: «Христос с вами, брат Смит!» Тут Чувалков всех нас из лавки попер, замок навесил. «Простите, Христа ради, надо с проповедником поговорить. Прохожего и Христос привечал!» Ну, поглядел я на этого прохожего: такой, поди, с молитвой полсела уложит одной рукой, а потом под святое причастие — и опять чист, как голубь господень… Об чем говорили, кто их знает. К утру увез его Чувалков, только его и видели. До поздней ночи орали свои стихиры, тоску на все село навели… И что ты скажешь? Мужик-то, видать, не нашенский, все говорит «гуд» да «велл», а с Николаем одной веры, тоже субботник!
— Баптист? — переспросил Виталий.
— Вот, вот, он самый. Только их у нас еще субботниками зовут. Вишь, почитают они субботу, потому как бог сказал: «День же седьмой — суббота господу богу твоему».
— А есть еще у вас баптисты?
— Не, нету! Вишь, если бы другой кто у нас проповедовать начал, может, и пошли бы, а мы Чувалкова знаем, до того, как он спасенным заделался, помытарились на его ста десятинах, было время. Старая-то память не вывелась! Слушаешь его, слушаешь, а потом как вспомнишь, как он тебя грыз, да и заглянешь ему в пасть: зубы-то волчьи выпали али еще торчат?
— Ну и как? — улыбнулся Виталий.
— Торчат! Ой, паря, торчат! Он ведь, что стодесятинный, что лавочный, все одно на нашем горбу едет.
— А слушаете его?
— А слушаем, верно. Тянет послушать… Натрясешься, пока слушаешь, а ему такое богатство дадено — стращать народ, что потом домой придешь, все вдвое слаще кажется, а боле того, обрадуешься: все на месте, все хорошо, не попалил еще бог, не изнистожил!.. Да и то занятно: он наш мужик, деревенский, а послушаешь, ну, дивно, как он с богами управляется, будто первый друг-приятель…
Чувалков держал до революции в узде всю деревню, которая работала на него, как и «фазаны» — китайцы и «белые лебеди» — корейские сезонники. После провозглашения советской власти кулацкую землю поделили. Когда началась интервенция, крестьяне немало перетрусили, полагая, что Чувалков теперь вернет свою землю и взыщет с них с помощью белых. К их удивлению, Чувалков не настаивал на возврате земли, словно охладев к ней, зато выстроил новую избу под лавку. Сделал он это с помощью баптистов, которых появилось в Приморье множество с приходом американских интервентов. Потом, на потеху всей деревне, он был крещен по баптистскому обряду в реке среди белого дня рыжим проповедником, схожим с тем, что приезжал недавно к Чувалкову; только тот хуже по-русски говорил. Приезжали к нему из города «братья», проповедовали в деревне. А немного времени спустя и Чувалков начал «собеседования» с крестьянами. От проповедей «братьев» его беседы отличались лишь тем, что он нажимал на устрашение крестьян. Каково было направление чувалковских бесед, об этом Виталий получил сегодня представление.
О многом беседовали сегодня Верхотуров и Виталий. Разошлись они уже за полночь, когда пели вторые петухи и Наседкино спало мертвым сном. Под конец старик сказал Виталию:
— Чем-то ты с Кузею моим схож! Голова у тебя добрая. Ну, прощай, спать пора! Да, забыл тебе сказать: ты теперь к ночи приходи только, да поостерегись! Казаки на постой становятся в деревне. Как бы тебе на них не угадать!.. Ночью-то они ни черта не увидят. А может, нам с тобою в лесу встречаться? Боюсь я, как бы этот ангел-то с бородой на мою хату казаков не навел. Я то их не шибко испугался, а осторожность не мешает. Так?
— Так! — сказал Виталий. — А вы обо мне беспокоитесь?
— А как же не беспокоиться? Не чужой человек!
Виталий шел по лесной тропинке.
Под его ногами мягко подавалась не остывшая еще от дневного тепла земля. Над головой проплывали ветви деревьев, казавшиеся черными на синем фоне ночного неба. В стороне светились гнилушки поваленных стволов, источая мертвенный свет. Шоркала по голенищам сильная трава. Сквозь просветы деревьев засияли голубым, зеленым и желтым многочисленные звезды. Повеял свежий ветерок, и листва зашумела, зашевелилась. Виталий глубоко вздохнул. Хорошо!.. «Не чужой человек!» Хорошо жить, когда везде есть близкие друзья, черпающие силу в тебе, и сам ты крепнешь от их силы…
5
Последние дни Топорков ходил озабоченный.
Отовсюду шли вести об усилении деятельности белых. Поборы и реквизиции следовали одна за другой. Стали известны случаи облав на молодежь, которые устраивали специальные отряды. Схваченных насильно увозили в другие районы, выдавали парням оружие и обмундирование и пополняли ими фронтовые полки. Молодежь повалила в леса, в партизанские отряды. Многие попросту скрывались от мобилизации, надеясь отсидеться до того времени, когда с белыми будет кончено. С жалобами на произвол белых шли крестьяне к партизанским командирам, требуя защиты.
— У меня терпежу не хватает! — жаловался Бонивуру Топорков. — Думаю на Наседкино ударить. Там белых на постой ввели, человек пятьдесят. Чистый разор. Девкам проходу нет. Хлеб вывозят, какой успели обмолотить.
Он замолк, постукивая по ичигу сломанной талинкой. Виталий посмотрел на него.
— А не рано, Афанасий Иванович? Я думаю, дядя Коля не зря нас в секрете держит.
— Ну, чего там? — сказал Топорков. — Эко дело — один взвод двинуть!
— Людей потеряем, место расположения покажем, а мы нужны свежие, не растрепанные, — сказал Виталий.
Топорков стал чертить сучком на песке какие-то узоры. Нахмурился. Засопел.
— Значит, не советуешь?
— Не советую, Афанасий Иванович! А ты обещал, что ли, наседкинским выступить?
— Обещать не обещал, — протянул Топорков, — но и отказать совести не стало.
— У тебя, Афанасий Иванович, совесть перед Республикой главная, а не перед деревней!
Топорков только вздохнул…
Вечером того же дня возвратился из города Чекерда.
Виталий лежал на топчане. Лагерь уже засыпал. Только молодежь еще возле костров рассказывала побасенки, негромко пересмеиваясь. Послышался окрик часового, топот лошади, шаги.
Виталий вскочил, опустив на пол ноги. Заслышав это, Топорков привстал.
— Что ты? — спросил он.
— Приехал кто-то! — ответил Виталий, поспешно одеваясь.
Снаружи шалаша негромко постучали. Дверь открылась, и в ее сине-голубом просвете обрисовались силуэты людей.
— Можно? — послышалось от двери.
Топорков ворчливо ответил:
— Значит, можно, коли вошли! — и стал зажигать свечу.
— Пакет из городу. И товарищ… — сказал Чекерда, поднося к козырьку руку с плетью у кисти.
Он посторонился. Приезжий выступил вперед. К удивлению и радости своей, Виталий узнал Алешу Пужняка.
Алеша подмигнул Виталию, лихо козырнул и обратился к командиру:
— Пужняк Алексей! Железнодорожник. Мастер по ремонту бронепоездов у белых. Прибыл по распоряжению областкома, чтобы избежать благодарности белых.
По обыкновению Алеша балагурил. Виталий подскочил к нему, обнял. Они поцеловались. Пужняк познакомился с Топорковым. Уселись.
Чекерда отдал пакет.
Дядя Коля сообщал, что время настало. О подробностях поручений областкома должен был рассказать Пужняк. Тот не заставил себя ждать.
Областком приказывал занимать села, прилегающие к железным дорогам и шоссе, рвать пути, ведущие на фронт. Главная задача — не дать бронепоездам белых дойти до расположения фронтовых частей.
Загоревшимися глазами Виталий посмотрел на командира. Топорков многозначительно поднял брови.
Дело начиналось…
В отряде ждали новостей. Услыхав, что вернулся Чекерда, партизаны стали подходить к шалашу командира. Перешептывание, покашливание, отдельные слова ясно слышались в шалаше:
— С Чекердой-то кто?
— Не знаю, с городу какой-то. Бравый парень.
— Деревенский?
— Городской, говорю!
— Эка заколготились! — усмехнулся Топорков. — Не терпится! Ну ладно! Что касается дела — молчок! Как уговоримся, все узнают, а сейчас ни слова. Идите пока, расскажите новости. А то ишь табунятся ребята. Алеха! Поди познакомься с ребятами! — обратился он к Алеше запросто. — А мы тут потолкуем.
Когда Чекерда и Алеша вышли, Топорков сказал:
— Ну, как ты, Виталий, теперь думаешь?
— Я полагаю связных предупредить, чтобы не пропустили бронепоезда в Раздольном. Отряд разбить на несколько групп. Следить за полотном. Установить связь с отрядами Великанова и Говорухи…
Топорков поглядел на Бонивура.
— Да ты постой, не тараторь! — сказал он наконец. — Эка зачастил! Мне уж и говорить нечего. Ишь навострился! Я думаю, Наседкино надо брать всем отрядом, затем уже очистить все вокруг, а уж потом за дороги приниматься.
Они проговорили до рассвета. Алеша ввалился в шалаш, уставший до изнеможения от рассказов, в которых и «итальянка», и Земская рать, и «ремонт» первого бронепоезда, выпущенного белыми, и многое другое, уснащенное Алешиными шутками, — все нашло место. Партизаны слушали Алешу, одобрительными восклицаниями прибавляя жару, Алеша успевал рассказывать и отшучиваться.
— Ну, ушлый ты, корешок! — сказал ему Олесько, влюбившийся в остроязыкого мастерового.
Алеша отшутился:
— Первореченский: девять месяцев в топке лежал, через дымогарную трубу рожден, в сучанском угольке вместо водицы купан, шлаком пересыпан, мазутом вспоен, антрацитом вскормлен — на всех воин.
— Язык, брат, у тебя — чистая бритва!
— Десять лет о хозяина точил! — отозвался Алеша под взрыв хохота.
Поселился Алеша у Виталия. Разбираясь в своих вещах, он спохватился:
— Тебе от Таньчи посылка: рубаха, мыло, полотенчико и прочие хурды-мурды. Бери да помни, носи да не снашивай.
Виталий взял посылку.
— Спасибо сестренке. Помнит, значит?
— Помнит, — сказал со вздохом Алеша.
— Как она?
Алеша посмотрел на Виталия. Оживление его пропало.
— Худеет все, а так — ничего.
— Отчего же худеет?
— Не знаю! Дядя Коля велел ей в город перебраться. Живет теперь у Устиньи Петровны. Работает на военном телеграфе. А что делает — сам понимаешь.
— Опасное дело! — сказал Виталий, представив себе Таню, ежеминутно рискующую жизнью.
— Ты благословил! — сказал Алеша, укладываясь. — Поздно теперь думать об этом. Не такая она, чтобы назад пятиться! — Алеша помолчал и совсем невесело добавил: — Вся в меня!
Глава 18 Девушка с Первой речки
1
Алеша не все рассказал Виталию, не желая огорчать его.
Таня была арестована и немало натерпелась.
В тот вечер, когда Алеша с Квашниным ушли дежурить возле броневого тупика, Таня легла рано спать. Целый день у нее мучительно болела голова, она долго ходила по вагону с компрессом, потом прилегла в ожидании брата и незаметно уснула.
Подпольщики пустили бронепоезд, вышедший из тупика, на занятый путь. Грохот крушения разнесся по всей Первой Речке, подняв на ноги все население узла. Гудки паровозов, звон набата на каланче, шум огня, пожиравшего разбитые вагоны, шипение воды, вонзающейся в пламя, ржание лошадей пожарного выезда, многоголосый гул толпы, отовсюду сбежавшейся на пожар, — все это не доходило до сознания Тани, погруженной в глубокий сон. Она услышала какой-то стук, но не могла проснуться. От стука все вокруг дрожало. Потом кто-то схватил Таню за руки.
Таня застонала, и сон пропал. Она открыла глаза — и обомлела: около кровати стояли казаки и Караев. Ротмистр направлял ей в глаза луч электрического фонаря. Таня вскочила, но ее тотчас же схватили.
— Не торопитесь! — сказал ей Караев.
Таня испуганно смотрела на офицера, глянула на дверь и все поняла. Дверь была сорвана с крючка. Видимо, казаки стучали в дверь, потом высадили. Их стук и чудился Тане во сне. Она испугалась за брата: «Где Алешка? Что с ним? Арестовали?»
— Где ваш брат Алексей Пужняк? — спросил Караев.
У Тани отлегло от сердца. «Ушел Алешка?» — с облегчением вздохнула она и сказала:
— Не знаю! Как с утра ушел, так и не приходил еще!
Караев вынул из-за спины руку и сунул Тане под нос фланелевую рубаху, которую Алеша только утром надел на себя.
— А чье это, ты знаешь?
— Что «это»? — спросила Таня.
— Что, что? — грубо передразнил ее Караев. — Не видишь, рубаха! Твоего брата рубаха! Да?
— Не знаю! — сказала Таня, которая поняла, что какими бы путями ни попала рубаха к белым, Алексея им не удалось захватить. — Мало ли чья!
Казаки принялись выворачивать сундучки и постели. В три минуты все в вагоне было перевернуто вверх дном. Глаженое белье валялось на полу. Иванцов с торжеством поднял и передал Караеву вторую рубаху из фланели. Караев уставился на Таню злыми глазами.
— Одинаковые! — с ударением сказал он.
Но Таню не так-то легко было сбить.
— Эка штука! — сказала она. — Да мастеровые-то шьют из того, что в потребиловке есть. Таких рубах у каждого деповского по паре, наши ребята очень уважают их, они ноские.
— Ну ты! Разговорилась! — сказал Караев, озадаченный находчивостью Тани.
В самом деле, одна рубаха, сама по себе, еще ничего не доказывала. Надо было найти доказательства того, что именно на Алексее Пужняке была эта фланелевая рубаха. Никаких доказательств того, что крушение устроил Пужняк, не было. Когда суматоха первых минут, вызванная крушением бронепоезда, прошла, контрразведка кинулась по квартирам членов стачкома. Но у нее не было точных данных о составе его. Так, они не тронули Антония Ивановича, который в депо пользовался репутацией «лояльного» рабочего. Ничего не знала контрразведка об участии в стачкоме Квашнина. Об Алеше это было известно точно, и потому Караев, едва из города примчались господа с Полтавской, бросился на Рабочую улицу.
Твердость Тани смутила Караева. Обыск не дал ничего… Однако именно спокойствие Тани и то, что она даже не испугалась вторжения казаков в вагон Пужняков, заставило Караева призадуматься. Чутье сыщика подсказывало ему, что он идет по верному следу, а неудачи мало обескураживали его. «Надеется на то, что не тронем! — подумал он про девушку. — Надо будет припугнуть! Небось обмякнет!»
— А ну, собирайся! Пойдешь с нами! — приказал он Тане.
У Тани похолодело в груди.
— А на кого же я оставлю дом-то? — слабо надеясь на то, что ее не заберут, сказала она.
— Это мне безразлично! — ответил ротмистр.
Таню вывели. Она шла между двух казаков с винтовками. Мимо мелькали вагоны Рабочей улицы. Она оглянулась на свой вагон, и у нее сжалось сердце: придется ли увидеться теперь с Алешей, с подругами? Много в ее маленькой жизни было связано с этим домом на колесах! Слезы навернулись на глаза.
Вдруг она увидела на улице Машеньку.
Машенька остановилась, точно вкопанная, увидев Таню между казаков, но не окликнула Таню, боясь, что, чего доброго, и ее могут забрать. Она связала арест Тани и крушение бронепоезда в одно, смотрела на Таню молча, и только губы ее чуть-чуть кривились от желания разреветься. Таня долгим взглядом посмотрела на подругу, прощаясь с Машенькой, и легонько пальцем показала в сторону своего вагона. Машенька задумалась, потом кивнула головой.
— Чего остановилась! — крикнул ей Иванцов. — Проходи знай!..
Теперь Таня была спокойна. «Пятерка» узнает все. Головой и душой ее станет Соня; она не растеряется, не попятится и девчатам не даст унывать. Таня провожала глазами Машеньку, ее веснушчатое, круглое, милое лицо, всю крепенькую ее фигурку, пестренькое платьишко, светлые волосы, заплетенные в косы, нос пуговкой, голубенькие глаза. «Машенька, дорогая подружка! Как хорошо, что ты повстречалась мне в этот тревожный час!..»
Рыжее зарево металось над путями. Огонь уже несколько часов бушевал на станции, а людям все еще не удавалось сломить его. Таня широко раскрытыми глазами глядела на мечущееся пламя, на чудные тени, мелькавшие в дымном облаке, затягивавшем половину депо, на красные блики, танцевавшие повсюду на земле и домах, на кустах и вагонах. Грозный гул пожара царствовал над Первой Речкой. Это был большой пожар…
2
В эту неделю Таня прожила, как ей показалось, полжизни.
Что это была за неделя!
Девушка никогда потом не могла вспомнить, в какой последовательности и кто допрашивал ее, куда и в какие казематы ее отвозили и привозили. Как много было этих казематов у белых! Какими коварными оказывались некоторые домики в тихих уличках Владивостока! Глухие заборы отделяли эти домики от улиц. Прежде чем открыть калитку в таком заборе, кто-то невидимый отодвигал в калитке «глазок», рассматривал подошедших или подъехавших долго и подозрительно, потом громыхал засовом, открывая дверь.
Таня побывала и в комендантском управлении, куда доставили ее с Первой Речки, побывала и в разведывательном отделе ставки Дитерихса, а потом она перестала спрашивать, куда ее доставляют, да ей и не говорили уже этого: контрразведка не любила вопросов и не стремилась к тому, чтобы арестованные могли узнать, где именно они находятся. Неизвестность, томительное ожидание, грубость сторожей, подъемы среди ночи, когда арестованные забывались неспокойным сном, тычки, ругательства, голод, отсутствие воды, чтобы промочить иссохшее горло, — все это входило в жестокую систему воздействия контрразведки на попавшего в ее лапы человека, чтобы заставить его сдаться, выдать себя и своих товарищей. Все это было пыткой, заполнявшей время арестованного от одного допроса, где его терзали и мучили, до другого, где продолжалось то же, часами, сутками, неделями.
Крушение бронепоезда встревожило и взбесило белых. Что оно не было случайностью, явствовало из показаний стрелочника, которого нашли на пути спеленутым фланелевой рубахой и полузадохнувшимся. И теперь весь следовательский аппарат белых был поднят на ноги. Контрразведка нащупывала большевистское подполье, понимая, какую большую роль оно должно играть именно сейчас, когда Дитерихс со дня на день готов был начать новую авантюру.
Таню уже не спрашивали о том, чья фланелевая рубаха, не принадлежит ли она ее брату. Ее допрашивали теперь, кто ходил к Алеше, кто собирался у него, с кем был он связан.
С ней обращались то грубо, не скрывая своих целей, то подчеркнуто вежливо, пытаясь вызвать на откровенность. Менялись приемы, менялись люди.
Один говорил ей, сбрасывая пепел с папиросы, и демонстративно надевая темные перчатки:
— Я из тебя этот большевизм выбью, дура! Ты у меня заговоришь; не такие рот раскрывали!
Другой сочувственно рассматривал Таню:
— Бедная девочка! Что с вами сделали, ай-ай-ай! Расскажите все честно, вы должны помочь следствию, вы же знаете, что ваш брат замешан во многом.
Третьи били на то, чтобы Таня подумала о себе.
— Послушайте, арестованная! Брата вашего мы не поймали, ушел парень! Значит, вам нечего бояться за него. Так? С деповскими вас ничто не связывает — вы на Первой Речке недавно, — какого вы черта их выгораживаете? Расскажите, кто бывал у вас? Никто ничего не узнает об этом!
Представали перед Таней и безусые юнцы, срывавшиеся на щенячий визг, когда видели, что жертва уходит от них; эти всегда били по лицу. Иногда же допросы вели благообразные, в чинах, офицеры; они чередовали побои с «психологической обработкой», суля свободу и жизнь; эти били так, чтобы не было видно следов…
Таня и не подозревала, что у нее столько сил и выдержки.
Ни на секунду не дрогнуло у нее сердце, ни на секунду не изменила она себе и товарищам. Обострившимся от мучений слухом ловила она тончайшие интонации голоса следователей, обострившимися глазами окидывала их при первой встрече, пытаясь определить, как себя держать. Она боролась за себя, за Алешу, за жизнь, за счастье.
Она меняла тактику поведения при допросах. То она плакала, твердя, что брат не посвящал ее в свои дела, что она ни-че-го не знает, принимая вид девчонки-простушки, которая и не подозревала даже, что брат ее подпольщик. То упрямо и угрюмо молчала, не отвечая ни на какие вопросы, если видела, что следователя мелкими увертками не проведешь, и тогда из нее нельзя было выудить не одного слова, и становилось ясным, что вести допрос бесполезно. Иногда она на каждый вопрос следователя отвечала десятью, кричала, требовала выпустить ее, грозилась, что даром это палачам не пройдет, что она пожалуется самому Дитерихсу.
Одни считали ее убежденной большевичкой, другие — пустой девчонкой, третьи — что с нее уже хватит, что она уже «тронулась».
Никогда и нигде, ни перед кем из врагов не назвала Таня ни одного имени, даже имени своих подружек. К ней подсаживали шпионов — она молчала или вспоминала о пустяковых девичьих заботах. Ей сочувствовали — она плакала и твердила, что ничего не знает. Ее ругали, били — она тоже ругалась и кричала, что ее зря мытарят. Да, не напрасно тогда на берегу Амурского залива Виталий принял ее с подругами в комсомол.
Она устояла и тогда, когда однажды в ее камеру пришел какой-то господин из американского Красного Креста. Он вошел в камеру вместе с молоденьким офицером, которому повелительным жестом приказал удалиться.
Таня поглядела на американца. Высокий, рыжеватый, с гладко причесанными волосами, крупным загорелым лицом, голубыми глазами, с крепкой спиной и большими ногами, с улыбкой, обнажавшей рот, полный белых ровных зубов, весь чистенький и благоухающий крепким мужским одеколоном, он выглядел в заплеванной, грязной, душной, низкой камере человеком другого мира. Таня встрепенулась. Американец подсел к ней и дружески сказал:
— Я Смит, из Красного Креста. Мои шефы поручили мне освидетельствовать положение заключенных. Как вас содержат?
— А вот, как видите! — сказала Таня и опустила блузку с плеч, покрытых синяками, и показала на камеру. — Как видите!
Американец брезгливо сморщился.
— Бедная девочка! — Он доверительно склонился к ней. — Что они с вами сделали!.. Ни в одной цивилизованной стране невозможно такое обращение с заключенными. Мы этого не оставим. Я лично прослежу за тем, чтобы ваше положение было улучшено. Вы даже не знаете, сколько дней прошло со времени вашего ареста! Возмутительно…
Американец неожиданно склонился к уху Тани:
— По правде говоря, эти белые порядочные скоты, мисс, не так ли? И я думаю, что скоро их здесь… скоро их здесь не будет! Мне не следовало бы это говорить, но я думаю, что эта новость вас ободрит. А?
Таня порывисто вздохнула, и глаза ее засияли. Смит пытливо посмотрел на нее: «Обрадовалась, овечка! Боже мой, да она совсем не умеет скрывать свои мысли! Не понимаю, чего эти олухи столько возились с ней!» Вслух же он сказал быстро, настойчиво, почти приказал:
— Я могу передать вашим родным или знакомым то, что вы захотите им сообщить. Они похлопочут о вас. Думайте быстрее! Случай может не повториться. Вы меня понимаете?
У Тани зашлось от радости сердце. Ой, как хорошо было бы уведомить Антония Ивановича, что он может не бояться за нее, что у нее хватит сил до конца, каким бы он ни был! Подружкам послать бы хоть одно словечко. И все-таки что-то мешало Тане назвать дорогие имена. Американец встал и заслонил собой глазок в двери.
— Смелее, мисс! — сказал Смит. — Кто у вас есть? Папа? Мама? Дядя? — И с ударением повторил: — Дядя?!
Таня подняла голову. Американец шепотом сказал:
— Дядя Коля, да?
От этой фразы Таню бросило сразу и в жар и в холод. Это заветное имя друг не произнес бы здесь, в стенах, имеющих уши. Американец промахнулся. Таня встала и враждебно сказала:
— Какой еще вам дядя? Нет у меня никого. Есть брат Алешка, а где он, не знаю!
Лицо ее потемнело, она свела свои густые брови в одну черную линию, и от простушки девушки не осталось и следа. Мрачным взглядом смотрела она на американца, уже не видя его.
Американец что-то заговорил, явно раздосадованный. Но Таня не слушала его. Она смотрела на его руки, большие, загребистые, поросшие длинными рыжеватыми волосами, с длинными, крепкими пальцами, с твердыми большими ногтями. Она больше не верила ни в сочувствие, ни в доброжелательность посетителя.
…Много лиц видела Таня перед собой в эти дни, долгие дни, словно застланные кровавым туманом. Дни ее превращались в ночи в сырых, без окон, подвалах, ночи ее превращались в дни в ярко освещенных кабинетах следователей.
3
Однажды под вечер Таню вывели во двор.
Солнце скрылось за хребтами на другой стороне Амурского залива, и город был погружен в предвечернюю мягкую синь, сглаживающую резкие грани зданий и улиц. С севера надвигался дождь или тайфун. Небо с той стороны было густо-фиолетовым, почти черным. По вершине Орлиного Гнезда волочились хлопья тумана, притащенного ветром с моря. Только на закатной стороне высокие облака пламенели, точно подожженные снизу, и стремительно громоздились в чудовищные клубы, перекатывавшиеся друг через друга в титанической схватке, в которой беспрерывно менялись их очертания. Таня с наслаждением вдохнула пахнущий морем воздух и пошатнулась: у нее закружилась голова.
У ворот дожидался конвоир — человек средних лет, с лицом, заросшим бородкой, с всклокоченными бровями над маленькими светлыми глазками, которыми он все глядел куда-то в сторону, в мягкой фуражке, казавшейся случайной на голове этого захудалого мужичонки, каким выглядел солдат. Увидев Таню, он улыбнулся ей кривой улыбкой и тотчас же уставился в землю, прикрыв глаза бесцветными ресницами. Ему уже приходилось дважды сопровождать Таню, и он узнал ее.
Из помещения выскочил тот офицерик, что заходил к Тане с американцем. С боязливым выражением он поглядел на хмурившееся небо и по-собачьи понюхал воздух. «Нанесет дождя!» На Таню он и не взглянул. Передал солдату какой-то пакет и вприбежку поспешил назад. Солдат взял пакет, взглянул на надпись и, сморщившись, покосился на Таню и сплюнул. Загремел засов ворот. Таня с солдатом вышли на улицу.
Конвоир повел Таню верхними улицами, на которых даже и в этот час было мало прохожих. Тане впервые приходилось идти этой дорогой. Она не обращала внимания на нее, все оглядываясь и оглядываясь налево, на город, на залив, на Светланскую, черневшую от потока людей и машин. Время от времени солдат что-то бормотал и покачивал головой, отвечая на какие-то мысли, тревожившие его. А у Тани не было в этот момент никаких мыслей, так устала она от пережитого.
Солдат все порывался что-то сказать Тане. Наконец он решился и, убедившись, что вокруг никого нет, окликнул Таню:
— Слышь-ка!
Таня обернулась. В это время они пересекали Китайскую и были неподалеку от больницы. Солдат сделал ей знак зайти в ворота, и когда Таня исполнила его желание, он вошел следом.
Больничные здания были выстроены в глубине квартала, на улицу же выходил небольшой садик с редкими скамейками.
— Садися! — сказал тихо солдат. — Поговорить надо!
Он оглядывался, явно чего-то боясь. Он сел подле Тани, загородившись ею от проходивших по улице. Солдат нервничал. Стал свертывать цигарку. Бумага рвалась, табак рассыпался. Солдат вполголоса ругнулся. Потом сказал Тане:
— На-кась, сверни!
Удивленная Таня принялась свертывать и увидела, что у солдата сильно дрожат руки. Взяв цигарку, он зажег ее и жадно затянулся.
— Тебя как звать-то? — спросил он. Таня ответила. — У тебя тут, в этом районе, кто-нибудь есть знакомые поблизости, чтобы быстро обернуться?
Таня насторожилась.
— Нет! — резко ответила она.
Солдат поглядел на нее. Тон девушки сразу показал солдату, что Таня не скажет ему ничего. Он заволновался еще больше.
— Ты дуру-ка брось валять! Мне не до этого! — торопливо сказал он ей. Мне с тобой шутки шутить некогда. Ты-ка знаешь, куда тебя направили? Не знаешь! То-то и оно! А я знаю. Водил не раз. На третий пост! Понимаешь, на третий!
У солдата мелко задрожали губы.
— Не понимаешь, так я тебе скажу: кого на третий пост посылают, тому назад ходу нету. Эвон где третий пост! — он ткнул заскорузлой своей рукой по направлению к кладбищу, которое виднелось отсюда, раскинувшись на косогоре от перевала Китайской улицы к Первой Речке. — С этой стороны обойти, так на задах погоста! Тут тебе и приказ сполнят и возить никуда не надо, земли хватает! — Солдат весь посерел, говоря это. Он понизил голос до хриплого шепота. — Поняла теперь?
Таня поняла? Она сидела ни жива и ни мертва. Что это? Новая, изощренная пытка? Или провокация? Она задохнулась от неожиданности, растеряв всю твердость свою.
Солдат совал ей в руки пакет, принятый от офицера:
— Гляди, коли не веришь.
На пакете надпись: «Строго секретно!! Пост № 3. К исполнению!»
Таня уставилась на надпись. Буквы прыгали в ее глазах. Горячий шепот бил ей в уши. Не менее Тани перепуганный своей смелостью, солдат шептал:
— Надоело мне, понимаешь, ваших водить! Кого привозят, а кто своим ходом, как ты. Не солдат я. Забрали, забрили, сюды ткнули… А мне на что? Не на что!.. Сам-то я не здешний, анучинский. Силком взяли. Давно убег бы, да я здесь как в лесу, ни разу раньше я в городу не бывал, ни родных, ни знакомых, — куды, к бесу, пойду, коли убегу? А через тебя, может, и сам тягля задам и твою душу спасу… На том-то свете, поди, зачтется это дело, как ты думаешь? Да думай ты скореича! Ишь остолбенела… Одежишку бы мне какую ни на есть, чтобы эту шкуру сбросить! Да ты слышишь ли, нет ли? Некогда мне с тобой…
— Слышу! — сказала Таня.
Что делать? Может быть, это первый и последний шанс на свободу, на жизнь? Таня пронзительно всмотрелась в лицо солдата. Он был так перепуган, что уже и сам раскаивался в сказанном. Чем рискует Таня? Ничем! Чем будет рисковать та, к кому она приведет этого солдата? Несколькими днями ареста, обыском. Ведь только Таня была свидетельницей тайных собраний у Алеши, тогда как подруги ее ничего не знали и смогут доказать это. И Таня решилась.
— Есть у меня подруга. Живет с той, с первореченской, стороны кладбища, — сказала она.
Солдат вскочил.
— Ой, дак пошли скореича! Давай, давай! Перепугала ты меня.
— А если две души возьмешь на себя, солдат?
Солдат даже плюнул.
— Ой, дура! Ну, дура… Да на что мне ваши души? Мне бы свою головушку унести поскорее!
Обрадованный, он подталкивал Таню.
— Скорея! — закинул винтовку за плечо. Мало ли куда солдата послали? Заторопился, засуетился, даже как-то весь воспрянул. Теперь на Таню он смотрел, как на свою надежду. — Пошли!..
4
Когда-то городское кладбище было окраиной города. За ним расстилался огромный пустырь. Китайская улица переходила здесь в шоссе, ведшее к Первой Речке. На пустыре хорошо родилась картошка. И скоро то здесь, то там на нем стали появляться домишки. Так возникла «Нахаловка» — целый поселок, выстроенный из чего угодно. Потом город, разрастаясь, вышел на пустырь и стал сливаться с Первой Речкой.
Здесь жила Соня Лескова, снимавшая в одном из домиков комнату с отдельным ходом.
Таня постучалась, ободряюще кивнув солдату, который с беспокойством озирался вокруг: не видит ли их кто-нибудь?
Тоненько звякнул крючок, и дверь открылась.
— Войдите! — сказала Соня, отступив от двери.
Леночка Иевлева, сидевшая у стола, вопросительно посмотрела на вошедших, щуря глаза и заслоняя их рукой от лампы.
— Кто это? — спросила она.
— Что вам нужно? — сказала Соня.
Таня посмотрела на подруг долгим взглядом.
— Не узнаете, девочки?
— Таня?! — не веря себе, молвила Соня.
Леночка мимо подруги кинулась на шею Тане, со всхлипом поцеловала и так стиснула, что у Тани захватило дыхание.
— Леночка, милая, не жми меня так. Больно! — тихо сказала Таня.
Тут и Соня повисла у нее на шее и прижалась щекой к щеке. Не в силах стоять, Таня опустилась на стул и тихонько заплакала, — столько радости и размягчающего сочувствия, ласки и тепла было в каждом движении подруг, с которыми она не чаяла больше свидеться. А они гладили ее по щекам, по волосам, прижимались к ней и жали ей руки, ревели в голос. Они стащили с нее жакетик, расстегнули блузку и сморщились, увидя синяки и кровоподтеки на плечах и шее Тани. И опять заплакали в два ручья, на этот раз от ненависти к тем, кто терзал их милую Таню, их вожака и друга…
— Гады же, гады проклятые, палачи! Били, Танечка?
— Били! — отвечала Таня.
Да и чего было спрашивать, когда истерзанное тело Тани говорило об этом каждой жилкой, каждым мускулом, нывшим от побоев.
— Танечка, Танюша! Подруженька! Что же они с тобою сделали?! Да как же у них руки-то поворачивались?
Соня говорила Леночке:
— Дай Тане умыться, а я поесть приготовлю!
Леночка, начав готовить умывание, совала то туда, то сюда мыло и полотенце, все никак не могла дать их Тане. Да и сама Соня, едва начав резать хлеб или принимаясь расставлять на столе чашки, подскакивала к Тане и начинала гладить ее и приговаривать:
— Таня, Танюшка, Таня! — точно в одном этом слове можно было передать все, что металось сейчас в ее душе, тронутой видом Тани.
А Таня, натерпевшись за эту неделю, подчинялась подругам, словно потеряла свою волю и силу, и то улыбалась, то принималась плакать, то застывшими глазами всматривалась в подруг: не привиделись ли они ей в обманчивом сне?..
Солдат, как только вошел, тихонько присел возле двери, зажав винтовку меж коленями. Он видел, как обрадованно встретили Таню подруги, как сразу же забыли о нем, чужом человеке с ружьем, пришедшем с Таней. Светлые глаза его бегали от одного лица к другому. Он морщил лоб, что-то соображая. Потом глаза его покраснели, он засопел:
— Эх, девчата, девчата! Человеки вы!..
Он и сам бы заплакал вместе с девушками, кабы не был мужиком. Он вытер рот, деликатно, стараясь не шуметь, сморкнулся в угол и хотел было закурить, но мешала винтовка. Он с сердцем отставил ее к стене, потянулся в шаровары за кисетом и вспомнил, что если Таня почти дома, то его положение совсем еще неясно: на нем еще надоевшая солдатская форма, рядом стоит винтовка казенное имущество. Он… дезертировал сегодня, унес с собой оружие и дал бежать политическому, которого ночью должны были расстрелять! Солдат почувствовал, как мороз продирает его по спине.
— Слышь-ка! — позвал он Таню. — Вы-то еще наговоритеся, а мне бы, знаешь, надо бы поскорея. А?
Таня обернулась к нему и, бросив умывание, сказала подругам:
— Девочки! Мы с ним вместе бежали.
— Бежали? — в один голос спросили Соня и Лена и побледнели: значит, еще не все кончено для Тани.
Таня подошла к солдату и положила ему руку на плечо.
— Извините меня, товарищ! Забылась я совсем.
— Ну, чего там! — сказал солдат. — Мне бы одежишьку какую ни на есть.
Таня рассказала подругам о событиях этого вечера.
Соня порывисто обняла солдата и крепко поцеловала его.
— Вы нам теперь как отец родной, товарищ! Как звать-то вас, скажите? Чем благодарить вас?
— Иван Андреевичем дразнят, — сказал солдат, смущенный и растроганный горячей лаской Сони. Глаза его потеплели. «Отец! Сказала такое!.. А почему не отец?.. Тот, кто жизнь дал, тот и отец!» — пронеслось у него в голове. И он понял, как крепко связан теперь с этими девчатами, лишь сейчас ставшими на его жизненном пути…
Через полчаса Иван Андреевич был неузнаваем.
Он оглядывал себя в маленькое зеркало Сони, охлопывал и приминал полы черного пиджака, брюки, всунутые в еще крепкие, добротные сапоги, одергивал косоворотку, подпоясанную ремешком.
Видно было, как стосковался он по гражданской одежде, которая доставляла ему неприкрытую радость. Пиджак был длинен, широк ему в плечах, но Иван Андреевич все оглаживал его и бормотал:
— Как на меня сшитый, ишь. Ой, дак девочки молодцы! До чего же одежина добрая!
Соня и улыбалась и хмурилась, переставляя пуговицы на рубашке и пиджаке; весь наряд этот остался от брата. Еще ни разу, с тех пор как увели его под штыками, Соня не вынимала этих вещей из сундука, а теперь отдала с легкой душой Ивану Андреевичу. А он совсем преобразился и выглядел теперь добрым мастеровым — не то столяром, не то плотником, и бороденка его, такая неуместная под солдатской фуражкой, теперь выглядела не так уж плохо.
Винтовку и солдатскую одежду Ивана Андреевича закопали в подполье. Он сам залез туда и возился долго, придирчиво выбирая место, пока не докопался до самых нижних венцов сруба.
— Найди-ка теперя! — сказал он сам себе. — Ни в жизнь не достанешь!
Он принялся собираться.
— Однако я пойду, девчата!
— Куда же вы без документов пойдете? До первого патруля? — спросила Соня.
Иван Андреевич ухмыльнулся.
— Не бойсь, птаха! Пачпорт у меня есть. Еще как меня забирали, я по дороге пачпорт-то в подштанники засунул. А на пункте — хвать-похвать! говорю: «Потерял». Ну, тама офицер покричал на меня, покричал — мол, раззява, и то, и другое, — а потом плюнул и отступился: «Дурак, говорит, а впрочем, тебе пачпорт и не нужон теперь!» Ну, я думаю: кто в дураках будет еще поглядим! А пачпорт на гайтане хоронил. Вот он!
Иван Андреевич с торжеством хлопнул по истрепанному паспорту рукой и так обрадовался тому, что в дураках остался офицер, что и подруги рассмеялись.
— Ну, и куда же вы? — спросила Леночка. — К кому теперь?
— А на вокзале переночую. Мне бы теперя с мужиками какими встретиться. Разве ж не сговоримся?.. Мне бы до дому надо.
— На вокзале вы можете попасть в облаву! — сказала Соня.
Иван Андреевич озадаченно поглядел на Соню.
— Это да! За милую душу! — пробормотал он, в смущении зажав в кулак бороденку.
Соня решительно сказала:
— Вот что, отец! Садитесь… Сейчас мы чаю попьем. Переночуете у меня. А завтра придумаем, что делать!
Иван Андреевич потупился, вздохнул.
— Ох, дочка!.. Неохота мне к вам, большакам, вязаться… А ну как пападешься. Еще хуже будет!.. Так поймают — скажу: девка убегла, а я со страху подался в бега-то. Что с меня возьмешь! А как с вами застукают, вместе по чертовой дорожке пойдем. Так или не так? Вот что!
— Коли думать, что попадешься, не стоило бежать, отец! — сказала Соня. — А хуже того, что было, не будет. Надо сделать, чтобы лучше было…
И Иван Андреевич сдался. Напившись вволю чаю, лег и сразу уснул.
…Уложив его спать, Соня сказала Тане:
— Собирайся, Танюшка! Тебе тут оставаться опасно, на Первой Речке нечего и думать показываться. Машенька соберет все твое, потихоньку ко мне перетащит. Леночка и Катя с Антонием Ивановичем условятся обо всем. А мы с тобой — к тете Наде. Есть у меня адрес, — сказано, вспомнить только по крайней нужде. А разве сегодня не крайняя нужда? — она обернулась к Леночке: — Ну, прощайся с Таней! Поди, не скоро теперь увидишься. Иди до дому, да своим ни полслова, Леночка! Скажешь, завиделась, в лото играли.
— Умереть мне на этом месте, Соня! — воскликнула Леночка.
Она все никак не могла оторваться от Тани, пока Соня не сказала:
— Леночка! Все! Уходи сейчас же…
— Ну, еще минуточку, только посмотрю на нее!
Соня решительно вытолкнула Леночку за дверь.
— Ох, и беспощадная же ты, Сонька! — чуть не плача, пробормотала Леночка, скрываясь в темноте.
5
Таню с документами на имя гродековской крестьянки Марии Власьевны Тороповой поселили на Орлином Гнезде, у Устиньи Петровны. Косы, заплетенные сзади, прямой пробор посредине, косынка на голове, деревенское платье сильно изменили внешность Тани. Любанской было сказано, что девушка приехала в город лечиться. Тане нужно было отлежаться, а тихий приют Устиньи Петровны как нельзя более подходил для этой цели.
Однажды, когда Таня спала, Устинья Петровна, войдя к ней в комнату, увидела следы побоев на теле девушки. Устинья Петровна молча заплакала. «Сколько же крови выпили с тебя, любонька ты моя!» — жалостливо подумала она и поняла, в чем причина худобы ее постоялицы, отчего время от времени появляется в ее взгляде тоска и жгучий пламень… Она заботливо укрыла Таню и просидела около нее до рассвета.
Утром Устинья Петровна позвала Таню:
— Вот что, девонька, будем столоваться вместе. У тебя лечение скорее пойдет, да и мне, старухе, веселее будет. А то я одна как перст, и словом не с кем перекинуться. Бориска и слуху не подает о себе, не знаю, и где он и что с ним; пакажется, как молодой месяц, и опять поминай как звали!
За чаем она сказала:
— Будешь молоко с салом пить, живо тело наберешь. Мазь у меня есть хорошая, мне один старый доктор от ушибов рекомендовал, рецепт дал, так я сама сварю ее. Все сойдет, как и не бывало.
— О чем это вы, Устинья Петровна? — спросила Таня.
Старушка ворчливо сказала:
— Объяснять я тебе буду? Сама знаешь о чем. Полно-ка тебе от меня таиться. Я тебе в матери гожусь? Чего глядишь? Рассказывать не прошу, сама не маленькая. А с отметинами чего ходить? Я чай, спокойнее без них-то будет. Ты уж мне не перечь, а то я сердитая! — И Устинья Петровна рассмеялась по-хорошему.
Таню берегли. Ее почти никто не навещал. Зашла три раза тетя Надя, сказала, чтобы Таня ни о чем не беспокоилась, все будет хорошо.
— Кланялся тебе товарищ Михайлов! — шепотком добавила она. — Хотел сам зайти, да я не уверена, что сможет.
Таня посмотрела на нее умоляющими глазами:
— Подружек бы мне повидать!
— А с этим придется погодить, — сказала тетя Надя. — Пока что никто из первореченских тебя видеть не должен. Нечего судьбу искушать. Антоний Иванович знает, что ты в надежных руках. Девочки знают, что ты жива.
— Мне, тетя Надя, плохие сны снятся! Алексея-то моего не поймали?
— Пусть не снятся! — усмехнулась Перовская. — Он теперь в безопасном месте. — Она поднялась, чтобы идти.
Таня нахмурилась: опять оставаться одной, без дела, без товарищей.
Тетя Надя сочувственно погладила ее по руке, понимая состояние Тани.
— Ну, ну! Держи себя в руках, Таня!.. Да, я тебе еще не рассказала об Иване Андреевиче. Он тоже спрятан, только по-другому. Пока живет у одного нашего товарища на Эгершельде… Плотничает. Как возможность представится, переправим в Анучино. Смешной, все боится, как бы его большевики не опутали. Только, я думаю, скоро он и сам не захочет домой возвращаться, а коли вернется, так другим человеком. Тут, на Эгершельде, у него и мысли другие стали появляться, уже крестьянская душа его трещинку дала. Толчок-то, собственно, произошел раньше, когда он додумался бежать. А тут на тебя, на твоих подружек, на новых товарищей посмотрел, кое над чем призадумался, поразмыслил… А думать начал — теперь его не остановишь, сам к нам придет!
— Мне показалось, он от страха осмелел! — сказала Таня.
— Не только. И страх, конечно, сыграл роль, но не главную. Главное то, что у белых ему не за что было служить, не за что драться. А без цели-то разве можно жить? Нынче время такое настало, что все дороги ведут к одному к борьбе за счастье народа. А народ — единственный творец истории, единственный созидатель всех чудес на земле… Если, связанный по рукам и ногам старым строем, он сумел создать всю современную цивилизацию, — какие же дивные дела сотворит он, став свободным! Ты представляешь это себе, Таня?
— Ой, тетя Надя, я ведь совсем неученая! — смутилась Таня. — Иной раз задумаюсь: как оно будет все? Сердце забьется, уши горят, что-то грезится. Высказать не умею, представить не могу, а чувствую только, что будет как великий праздник. Хоть бы одним глазком увидеть! — вздохнула она.
— Увидишь! — сказала тетя Надя. — Не за горами коммунизм. Ты говоришь, будет как праздник? Не только праздник, Таня! Будет оч-чень много работы! Победит наш человек болезни, отдалит старость. Научится управлять погодой. Да и сам-то человек будет такой, какие не снились нам, — ученый, рабочий и художник в одном лице!.. — Перовская спохватилась: — Эх-х, Таня! Размечталась я с тобой.
— Как в сказке! — сказала Таня, глядя блестящими глазами на тетю Надю.
— Что ж сказка! В сказке человек свои мечты воплощал. А теперь он научится мечты воплощать в дела. Действительность может быть краше сказки… Ну, прощай! Не скучай, скоро тебе дело дадим.
Долго после этой беседы сидела Таня задумавшись… Вот, значит, истинные-то цели борьбы, участником которой является и Таня! Не просто побить белых да выгнать японцев. Ах, посмотреть бы этот новый, чудесный мир, какого прежде не бывало! А если не придется? Но она отогнала от себя воспоминание о пережитом, сказав себе: «Разве не счастье оказаться в числе тех, кто уже сейчас строит это необыкновенное будущее!»
Ослепительное солнце светило в окна маленького домика на Орлином Гнезде. Яркими желтыми пятнами ложились лучи на крашеный пол. Светлые блики отсвечивали на потолке, сделанном из узеньких длинных досок, как в каюте, и выкрашенном белой краской. В лучах солнца грелись цветы Устиньи Петровны, подставляя им свои широкие листья. В домике было тихо; только время от времени совсем слабо долетали гудки пароходов и свистки паровозов да из соседних дворов голоса ребятишек.
Таня отдыхала и грезила, понемному отходя от тяжелых воспоминаний, духовно и телесно крепла в целительной тишине этого домика, взбежавшего на гору; в окна его лился морской воздух, чистый от дыма и копоти. Мазь Устиньи Петровны, а может быть, материнский неусыпный глаз ее и заботы были чудесны. Скоро у Тани исчезли темные тени под глазами, сошли на нет кровоподтеки на теле, и вот опять прежней становилась Таня. Но нет, что-то в ней изменилось. Может быть, кончилась ее юность?.. Таня сама чувствовала, насколько старше стала она за это время.
Таня старалась помогать Устинье Петровне по дому, стосковавшись по работе, по движению. Как приятно было чувствовать, что вновь мышцы наливаются молодой силой, что опять послушным и гибким становится тело! А однажды утром, став перед раскрытым окном, из которого как на ладони виднелся весь родной город, опоясанный синею лентой бухты, Таня невольно запела.
Устинья Петровна, бросив на колени вязанье, прислушалась к голосу Тани. Уверившись, что поет Таня, а не кто-нибудь другой, она мелко перекрестилась несколько раз.
— Дай бог! Дай бог! — шепнула она.
К обеду она выставила на стол бутылку кагора.
— Ого, — сказала Таня весело. — У нас сегодня праздник, Устинья Петровна? А ну, рассказывайте, что случилось?
— Случилось, случилось, как не случиться! — ответила Устинья Петровна, сияя всем лицом. — Ну-ка, наливай и себе и мне, выпьем!
— За что, Устинья Петровна? — допытывалась Таня.
— Пей-ка! Вот так! — скомандовала старушка. — С выздоровлением! — Она прослезилась. — Я уж и не чаяла тебя выходить, любонька ты моя! Привезли-то тебя ко мне — краше в гроб кладут!
6
Раз в отсутствие Устиньи Петровны Таня принялась за уборку.
В маленькой комнатке, где Тане не случалось бывать раньше, на столике возле по-мужски застланной койки лежали портсигар, спички, перочинный нож. Бумажный самодельный абажур, прикрепленный к висячей лампе, отклонял свет, направляя его на стол у окна, чтобы было удобнее читать и работать вечером. На чистую скатерть, покрывавшую стол, была положена клеенка. Письменный прибор из карельской березы, прес-папье, китайские узенькие стаканчики, в которых виднелись карандаши и ручки, показывали, что в этом доме не только читают (в столовой была этажерка, битком набитая приложениями к журналу «Нива» за 1912 год, «Родина» за 1903-й и «Пробуждение»).
Таня подняла глаза на полочку с книгами, укрепленную на стене, над столом. Ого! Целая библиотека. Теперь Таня может ждать сколько угодно — это богатство поможет ей скоротать время.
Таня взяла с полки «Воскресение» Л.Толстого. Прочитала первые строки: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе».
Сначала она читала, стоя у стола, под полочкой, потом села и стала медленно перелистывать страницы книги, прочитывая отдельные отрывки романа. С волнением читала Таня сцену в суде:
«Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотревшие глаза были обращены на Нехлюдова, и, не…»
Таня перевернула страницу и продолжала читать:
«…мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистических войн».
Что такое? Таня перелистала книгу. Между страницами «Воскресения», были заложены листки какой-то другой книги. Они были пожелтее. Таня принялась просматривать листки этой второй книги. На последнем листке увидела подпись «Ленин».
Кто-то расшил свои любимые книги и вложил в них статьи и доклады Владимира Ильича Ленина и так же старательно заново переплел книги, придав им совершенно невинный вид. На двух книгах пометки: «Б».
«Бориска?» — подумала Таня, вспомнив, как называла своего сына Устинья Петровна. Надо положить все, как было. Знала ли Устинья Петровна про второе нутро книг на этой полке? Вряд ли, иначе она не оставила бы их тут. Таня взяла стоявший сбоку «Справочник нормировщика», перевернула несколько страниц. И взор ее упал на слова:
«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».
И рядом — записка в осьмушку листа: «Твердо стоит коммунизм на огромном пространстве нашей страны. Свободный народ наш протягивает руку помощи всем трудящимся всего мира. И поднимается всюду ответное движение. Простая мысль созрела у народов всех стран: если русские уничтожили монархию и капиталистов у себя, разве нельзя сделать это и у нас? Где проснулась эта мысль, ее уже не загнать назад, невозможно заставить забыть. Каждый из нас частица материализованной силы идей коммунизма. Материя — вечна. Энергия, заключенная в нас, не может исчезнуть. То, что делаем мы, бессмертно, значит, — бессмертны и мы и дела наши. Что значат в сравнении с этим муки, смерть человека? Если сейчас скажут мне: «Твой час настал, Виталий!» — я скажу одно слово, как матрос на посту: «Есть!»
— Виталька! — шепнула пораженная Таня.
Нет, не одна она была в этом домике на Орлином Гнезде.
Глава 19 Великое дело
1
Первое сентября в кафедральном соборе отслужили молебен, заказанный Дитерихсом, о ниспослании победы христолюбивому воинству. Не сходя с места, ни разу не сев в услужливо подставленное ему кресло, генерал отстоял весь молебен на ногах. Молился он истово, с благоговением, твердо кладя крепко сжатую щепоть сухонькой руки на лоб, на живот, на плечи. Взор его был обращен на «всевидящее око», укрепленное над царскими вратами храма, точно генерал хотел напомнить: «Гляди-ка получше! Чтобы все как следует было!» Губы генерала были сжаты. Лишь иногда нервическая судорога передергивала его рот.
Присутствие главковерха заставляло весь причт служить особенно усердно. Регент, сохраняя благопристойность в фигуре и движениях, свирепо таращил глаза, выжимая из хора все, на что последний был способен. В особо патетических местах лицо регента совершенно искажалось. Когда какой-нибудь певчий вертел головой, оглядываясь на блестящую толпу, регент про себя ругался непристойными словами, беззвучно артикулируя губами, давая провинившемуся понять, что это адресовано именно ему — регент был известный в городе сквернослов…
Седоватый, пряный дым ладана волнами стлался по собору, призрачной дымкой затягивая купол и лики святых. Паперть была переполнена прихожанами, которых вытеснили из храма военные, присутствовавшие по долгу службы.
В правом притворе чинно стояли члены дипломатического корпуса, представители союзных войск. Среди них гордо возвышались американцы, англичане, французы, выражавшие всем своим видом, что стоят они дороже остальных.
Среди офицеров японского экспедиционного корпуса самым младшим был поручик Суэцугу. Он был серьезен едва ли не более самого Дитерихса, в точности повторяя все движения генерала. Крестился Дитерихс — подносил тотчас же руку ко лбу и Суэцугу. Делал генерал поклон — и тотчас же, словно переломившись пополам, сгибался и Суэцугу.
«Вот, черт, выламывается!» — подумал Караев, присутствовавший на богослужении и старавшийся быть в поле зрения Дитерихса. Караеву предстояло в этот день отправиться на выполнение особого задания, но, не представляя еще себе характера будущей операции, он уже знал, что советником в его отряд назначен Суэцугу. Ротмистр со вниманием присматривался к будущему своему негласному начальнику. Суэцугу он знал по Первой Речке, где сменил японский охранный отряд. «Хамелеон»! — думая Караев о советнике. — Ежели на глазах генерала спину гнет, быть мне у него макаркой на побегушках! Ну, да бог не выдаст, свинья не съест!» — утешил он себя. Ходатайство его перед командующим об особом довольствии сотни получило сегодня вещественное выражение: полуторный оклад приятно оттопыривал нагрудный карман его кителя, отчего Караев склонен был видеть все в лучшем свете…
Американцы держались особой группой, чуть отступя от Мак-Гауна, который стоял, сложив молитвенно руки на груди, с набожным видом, плохо сохранявшимся на его малоподвижном, неприятном лице. Он был здесь потому, что Дитерихс должен был в этот важный для него момент видеть вокруг себя всех тех, кто мог дать уверенность генералу в его силе и решительности довести дело до конца. Консул был здесь, чтобы поддержать авторитет и международное значение главы приморского правительства — генерала Дитерихса. Однако думал он не о Дитерихсе. Он знал, что Дитерихс — калиф на час. Солдаты дезертировали из его войск, офицеры пьянствовали, топя в вине свой страх перед неизбежной расплатой; спекулянты справляли свой «пир во время чумы», швыряясь деньгами; рабочие бедствовали и ждали большевиков как избавителей, и кто знает, сколько их готово было взяться за оружие в нужный момент; иностранцы вывозили из Приморья все, что можно было еще вывезти; американские матросы и японские солдаты боялись темных улиц и не отваживались ходить в одиночку, это было опасно. У народа пропал уже страх перед штыками интервентов и застенками Дитерихса.
Но Мак думал о другом. Надо во что бы то ни стало завязать связи с подпольем, но так, чтобы сохранить их, когда интервенты будут отброшены в море. Надо разыскать среди будущих хозяев Приморья таких лиц, которые будут склонны войти в контакт. Да, именно «войти в контакт»! Прекрасное выражение. Надо отравить их лестью, чтобы они попытались делать «свою» политику; отравить их корыстью, чтобы они думали о себе больше, чем о своей революции; отравить их неверием в силы народа, чтобы они обратили взоры за океан, чтобы они попросили помощи; отравить честолюбием, узнать их страсти, пороки, слабые места, ошибки, чтобы потом играть на этом со счетом 100: 0 в свою пользу… Борьба с большевиками временно переходит в другую фазу. Но эти «лица» — пока Мак-Гаун не мог назвать никого — должны были облегчить возвращение сюда парней из Штатов, чтобы начать второй тайм большой игры, первый тайм которой проигран!
Неприятно сознаваться в проигрыше, и Мак-Гаун досадливо поморщился. Хорошо там, в Белом доме, делать большую политику и намечать пути ее осуществления… Дело идет не так гладко, как хотели бы хозяева! Кланг сумел связаться лишь со всякой швалью, которую большевики и не допустят к делам. Паркер — трудно было предположить, что он окажется таким слюнтяем, вернулся из своей поездки с носом, и, кажется, совсем охладел к мысли, которая так понравилась ему раньше. Смит прибежал, как молодой осел с клочком сена в зубах, и принес радостную новость, что он установил кличку председателя подпольного областкома, — «дядя Коля»! Олух! Как будто об этой кличке Мак-Гаун ничего не знал раньше…
Караев напрасно подозревал Суэцугу в показном благочестии. Суэцугу не «выламывался», он был православным. Присутствуя в соборе, он хорошо понимал все происходящее — и не только церковную службу. Теперь, молясь, он невольно думал о своем пребывании в России, которое — он не мог не видеть этого приближалось к концу… В войну 1914 года, по окончании кадетского корпуса, его вызвали повесткой военного министерства для разговоров на частную квартиру. Разговор с Суэцугу вел седоватый человек в гражданском платье, секретарем которого был капитан разведывательной службы… После этого разговора Суэцугу стал посещать школу русской духовной миссии в Токио, выделился среди прочих учеников своим вниманием к русскому языку и догматам православия и был крещен. Никто в духовной миссии не знал, что одновременно Суэцугу посещал другую школу, о которой он не имел права говорить. Когда он с успехом овладел всем, что, по мнению некоего высокого лица, было для него необходимо, ему предложили выехать в Россию, поселиться во Владивостоке и… на время забыть, что он японец. Никто не тревожил его в течение нескольких лет, и Суэцугу терзался, боясь оказаться забытым. Но о нем не забыли! Он опять встретился с седоватым человеком, на этот раз в каюте крейсера «Ивами» на владивостокском рейде. Начальник говорил очень тихо, так что, Суэцугу вынужден был весь превратиться в слух, чтобы не пропустить ни одного слова. Это были очень большие слова!.. Ноги побледневшего Суэцугу плохо повиновались ему, когда он вышел из каюты и ступил на палубу, загудевшую под его шагами; пронзительный ветер со снегом кружился вокруг него, когда он спускался по веревочному трапу куда-то вниз, в темноту, пока его не подхватили снизу чьи-то сильные руки и не поставили на палубу катера, тотчас же отвалившего от «Ивами». Этого вечера Суэцугу никогда не забыть! Не забыть также и того, что последовало потом. Сердце у Суэцугу забилось при этих воспоминаниях. Однако бушевавшие в его груди чувства никак не отразились на его лице… С тех пор все, что делал Суэцугу, было исполнено глубочайшего смысла и значительности. Если бы Караев мог присмотреться к тому, что было очень хорошо запрятано в глазах Суэцугу, он не увидел бы в нем подобострастия при взгляде на Дитерихса. Это было совсем другое чувство.
Когда молебен окончился, архиепископ Мефодий вышел на амвон с крестом. Толпа зашевелилась. В наступившей тишине было слышно, как в алтаре кашляет снимавший облачение иерей, служивший вместе с Мефодием. Архиепископ неодобрительно прислушался к кашлю, нахмурился и сказал:
— Братья христиане, православные, чада мои! С давних времен, когда свет Христовой веры осиял мрак язычества, крестное знамение стало символом силы божией!
Архиепископ перекрестился. Вслед за ним широко перекрестился и Дитерихс и все сопровождавшие его чины. Перекрестился Суэцугу. Перекрестился Караев, подумавший при этом: «Ну, пошел теперь турусы на колесах развозить… Жрать хочется до смерти!»
Краска бросилась в лицо архиепископу. Он заговорил о большевиках, и проклятия посыпались с его бескровных старческих уст. Все громы и гневы господни обрушил он на большевиков. Одного языка ему не хватило, и он проклинал их по-русски, по-старославянски и по-латыни. — Ого! — с уважением покосился на Мефодия Мак-Гаун. — Кажется, он кое-что умеет!»
— Ныне настало время, — воскликнул Мефодий, — для «крестового» похода, похода под священным знаком креста, на большевиков и пожать жатву господа, ибо время приспело!
Тут Дитерихс решительно прошел по красному ковру к амвону.
Поймав руку архиепископа, он деловито приложился к кресту и сказал:
— Благослови, владыко, на дело! — И поцеловал руку Мефодия.
Вечером генерал подписал приказ о наступлении. Оно должно было начаться шестого сентября. «На Москву, русские воины! — начинался этот приказ. — На Москву, воины Земской рати!»
Первого сентября ночью об этом приказе узнал дядя Коля. Второго под видом путевой корреспонденции — «проследовал поезд No…» — этот приказ дошел до Имана. Письменное сообщение о приказе, дублировавшее то, которое перестукивали железнодорожные телеграфисты, было доставлено третьего числа в штаб НРА — Пятой армии. Ответ прибыл четвертого.
И дядя Коля благословил на дело свою невидимую армию.
2
Наседкино было расположено в удобном месте.
Шоссе, соединявшее Никольск-Уссурийский с Владивостоком, просматривалось с невысоких холмов, окружавших село. Железная дорога проходила в десяти верстах южнее села. А в одиннадцати верстах был железнодорожный мостик. Повредив его, можно было нарушить сообщение на этом участке пути. Место указал Любанский.
Подвижной отряд партизан на конях подошел к селу на рассвете. Мертвая тишина стояла в этот час. Даже собаки не тявкали. Спокойствие обнимало село. Партизаны спешились возле избы Жилиных, выжидая, когда второй отряд обойдет село с другой стороны.
Из избы напротив выскочил Вовка Верхотуров. Справив малую нужду, он остановился, рассматривая партизан слипавшимися глазами. Не надо было спрашивать, кто такие эти люди, опоясанные ремнями, с винтовками и гранатами у пояса: своим видом они сказали Вовке все. Сон мгновенно слетел с него. Обрадованный, он принялся барабанить в окна своей избы и закричал что есть силы:
— Мамка! Степанида! Батенька! Наши пришли!
— Замолчи ты, чертенок — цыкнул на него Панцырня. — Эко, глотку разинул… Сыпь домой, а то я тебя!
Парнишка побежал в избу. В это время из одного окна выглянул какой-то рыжеусый мужчина. Разглядев партизан, он тотчас же скрылся. В другом окне показались головы двух девушек; потом, растолкав их, выглянул старик Верхотуров. А через минуту, уже в штанах и сапогах на босу ногу, выскочил опять Вовка.
— Вы белых ищите? — закричал он через улицу.
Старшая из девушек, выглядывавших из окна, низким голосом крикнула:
— Да у нас один проживает. Идите сюда! — махнула она рукой. — Я пока его попридержу! — И голова ее скрылась из окна.
Выскочил на улицу и старик Жилин, придерживая рукой расстегнутый воротник рубахи, обнаживший покрытую седыми волосами грудь.
Партизаны разделились на несколько групп.
Жилин сказал:
— У Верхотуровых, напротив, один живет.
Оттуда выскочила девушка, что обещала придержать белого. Басистым голосом она сказала:
— Удул, черт плешивый!.. Эво-он, через огороды чешет!
На задах мелькала белая фигура.
…Нина, кивнув двум партизанам, бросилась догонять беглеца, вслед за ним перескакивая через прясла.
Но уже кто-то кричал истошным голосом на другом конце деревни. Заржали кони. Какие-то фигуры замаячили в пролете улицы. Хлопнул выстрел, другой, затем пошла стрельба пачками.
Тотчас же зашевелилось все село. То в одном, то в другом доме открывались окна, в них появлялись растрепанные со сна крестьяне. С изумленнно-вопросительным выражением они оглядывали улицу и вслед за тем выскакивали, на ходу натягивая одежду.
— Прячьтесь! — кричал Виталий. — Заденет! Не слышите разве, стрельба идет!
— А-а! Своя не тронет, чужая отскочит! — ответила Верхотурова басом и степенной походкой пошла по направлению выстрелов.
Туда же устремилось и все население деревни, разбуженное неожиданной суматохой. Так надоели белые сельчанам, что, не боясь случайностей, побежали они, чтобы видеть, как партизаны заберут белых в плен.
Рыжеусый, однако, успел предупредить кавалеристов. В чем попало белые вскакивали на коней и, нещадно хлеща, гнали их за поскотину. Коновязь стояла неподалеку от избы Наседкиных, знакомой Виталию. Трое кавалеристов засели за избой и открыли стрельбу. Остальные выводили коней. Одного подстрелил Панцырня. Но момент был упущен. Кавалеристы уходили врассыпную. Гикая на коней, помчался за ними десяток партизан. Топорков морщился:
— Черт возьми! Один оголец всю музыку испортил!
— Ничего, у брода их задержат Олесько с Чекердой! — сказал Виталий. Там полк можно остановить, коли на шоссе пойдут.
На рысях партизаны погнали коней вслед.
Брод, однако, пустовал.
Разметанные камни, еще не успевшие обсохнуть, и вырванная копытами трава были свидетелями того, как летели через брод обезумевшие кони, нахлестываемые нагайками. Полусотня ушла на шоссе.
А по траве, вскопыченной лошадьми, ползал Олесько. Он пытался встать, опираясь о землю руками, плевался кровью и хрипел. Глаза его с бешеной злобой были устремлены на другой берег. Винтовка с прикладом, разбитым в щепы, валялась неподалеку.
Партизаны бросились к Олесько.
— Что случилось, сынок? — спросил Топорков.
Едва слышно парень отвечал:
— Как они показались, я бросился наперерез. «Не уйдете, говорю… гады!» Сбили с ног, смяли. Вот.
— Да ты почто не стрелял? — со злостью, которой не могла смягчить и жалость к Олесько, закричал Топорков.
— Зачем же ты выскочил из засады? — спросил и Виталий, поглядывая на укромное место, которое он сам выбирал для засады.
— Злоба… меня… обуяла. Думаю: покрошу гадов… своими руками.
— А где Чекерда? Он же тебя страховал?
— Ушел… Говорит: «Перебьют всех… и руки не приложишь!» Да и я бы… коли не подскакали бы…
Колодяжный глухо сказал:
— Старикам бы тут стоять.
Виталий оглянулся, ища глазами Чекерду. Но тот уже и сам подошел к Олесько. Он со страхом смотрел на то, как тужится парень говорить, но каждое слово выталкивает у него изо рта алую кровь в пузырьках пены.
— Легкие порвали! — сказал Лебеда, который принялся было перевязывать Олесько. — Ишь, руда с пузырьками.
Виталий смотрел на Чекерду. Пораженный страданиями Олесько, виня себя в этом, парень готов был принять любое наказание.
Олесько положили на устроенные из тальника носилки.
— Ты понимаешь, Чекерда, что ты наделал? — спросил Виталий. — Вы получили приказ перенять белых на броде и не допустить их переправы?
Чекерда, не отрывавший глаз от темных пятен, окрасивших траву и камни на том месте, где ползал Олесько, тихо сказал:
— Получили.
— А вышло что? Один в село побежал — как бы, видишь, без него не кончили войну! Второй одной злобой хотел врагов взять. Приказу, значит, грош цена? Так как же ты думаешь против белых воевать? Скажи мне!
Колодяжный, стоявший возле, досадливо крякнул, сжав руку в кулак.
— В старой армии нас учили, что присягу да приказ надо выполнять, о животе своем не думая. Аж вот как! Сам погибай — приказ не нарушь. Сам погибай — товарища выручай…
Партизаны переглядывались, смотря то на Чекерду, то на носилки с Олесько. Тот повернул к ним голову с тоскливым, остановившимся от боли взором и посиневшими губами.
— Сам я… один… виноват. На себя надёжу имел…
Виталий спросил Чекерду и других:
— Что же с тобой сделать надо?
Кум Колодяжного Лебеда раздосадован был не менее старика на парней, упустивших белых, но и жалости сдержать не мог к так нелепо пострадавшему Олесько. Он понимал юношеский задор Олесько и сказал:
— Куды полетел? Отличиться охота была? Наша отличка — японцев прогнать общими силами. А ты в одиночку решил. Не дело. Я так думаю: пусть это урок другим будет. А Колька пусть о товарище брошенном помнит. Ну, а… будет бой, пущай первым себя окажет…
3
Кавалеристам белых удалось уйти из села, потеряв только трех убитыми. Они оставили снаряжение, боеприпасы.
Когда Виталий и партизаны вернулись с берега, таща носилки с Олесько, они увидели у школы на завалинке Нину. Напротив сидел на траве, стыдливо закрывая рукой прореху, рыжеусый постоялец Верхотуровых. В одном исподнем, трясясь мелкой дрожью, перепуганный до полусмерти, он не спускал глаз с револьвера, лежавшего на коленях Нины. Мальчишки и бабы окружали эту группу, насмешливо перекидываясь шутками. Но и толпа, и все окружающие, видимо, не существовали для рыжеусого, со страхом ловившего малейшее движение Нины.
— Это что за птица? — спросил Топорков.
Рыжеусый тотчас же вскочил, по тону заключив, что подошел старший.
— Это тетенька в плен нашего постояльца взяла! — выпалил Вовка, своим криком всполошивший все село. — А я ей помогал!
— Совсем было на лошадь взгромоздился, — рассмеялась Нина, — да та зауросила. Мы с Вовкой тут его и зацапали!
Вовка закивал усердно головой. Рыжеусый, прикрывая ширинку то одной, то другой рукой, поклонился и сказал заискивающе:
— Я извиняюсь… Я, так сказать, лицо не воюющее.
— А наган-то в руках держал, когда через огороды пулял? — азартно спросил Вовка Верхотуров.
Виталий с любопытством посмотрел на рыжеусого. Тот, забегав глазами, объяснил:
— Это казенное имущество-с… Как, значит, тут шум вышел, я и схватился за него, будь он неладен! Я же, сами видите, бросил его… Вот мадам, извиняюсь, товарищ партизан, и подняли-с.
— Стрелял! — сказала Нина, крутнув барабан револьвера. — Ствол закопченный, и трех патронов нет.
— А вы видели-с? — живо обернулся рыжеусый к Нине. — А коли нет, и утверждать нечего. На что мне стрелять? Кто-нибудь из конных… А я человек не военный. Даже фельдшер… Вот и у крестьян спросите. У меня и фамилия Кузнецов! — к чему-то сказал он.
В толпе раздались смешки, но тотчас же несколько голосов подтвердили, что Кузнецов в самом деле фельдшер. Услышав это, Топорков радостно встрепенулся: его весьма заботило, что отряд был лишен медицинской помощи. Он многозначительно взглянул на Виталия. Но тут Колодяжный приступил к Кузнецову.
— Ты-ка чего же побежал тогда? — спросил он.
Фельдшер не сразу ответил на этот вопрос, пожевал губами и вдруг совсем простодушно сказал:
— Страха ради иудейска.
— Оставить его, что ли? — тихо вымолвил Топорков, обращаясь к Виталию. — Пущай пользует. Олесько, смотри-ка, обихаживать надо. Не ровен час еще прибавятся раненые.
Кузнецов показался Топоркову безобидным человеком. По его мнению, человек этот, сдавшийся женщине и подростку, не мог никому причинить вреда. К тому же невозможность оказать помощь раненому Олесько угнетала его.
Виталий обратился к крестьянам.
— Над народом издевался? — спросил он.
Рыжеусый впился глазами в лица крестьян. Старик Верхотуров, огладив бороденку, сказал:
— Не очень, конечно. Бывало, покрикивал, а чтобы шибко чего сробить такого не было!
Кузнецов шумно перевел дыхание. Верхотуров, плюнув, добавил:
— Хату мою, правда, заразил… дух с него тяжелый идет!
В толпе захохотали. Верхотуров смущенно поглядел на смеющихся крестьян.
— Ну, да это к политике не касаемо… брюхо, вишь, у него больное…
Кузнецов не обратил внимания на замечание Верхотурова; он обратился к Топоркову, обострившимся чутьем поняв, что тот не желает ему зла.
— Сами видите! — сказал он. — Силком заставили служить. Хватают сейчас налево и направо. А меня из Ольгинского уезда взяли. Мечтал уйти, как только обстоятельства позволят. Вот и случай вышел. А я вам пользу принесу, видит бог!
Топорков так обрадовался, что теперь у него будет своя «медицина», что Виталий не стал омрачать радость командира. Рыжеусого отпустили. Топорков пригрозил поставить его к стенке, если он будет «вилять». Кузнецов благодарил, кланялся, незаметно пустил в ход слово «товарищ» и осмелел, почувствовав, что опасность миновала. Он попросил разрешения удалиться. Тут старик Верхотуров поспешно закричал, опять насмешив всех, чтобы Кузнецов убирался из его избы: его «с души воротит» от Кузнецова.
Топорков распорядился отвести фельдшеру отдельную хату и устроить там околоток. Кузнецов побежал в избу. В комнате он вздохнул свободно, открыл рубаху на груди, со злостью посмотрел на себя и проворчал сквозь зубы «Треклятый!» На груди его был вытатуирован двуглавый орел. Кузнецов оделся, собрал вещи и рысцой побежал к назначенному дому. Напоследок он несколько раз пожал руку Верхотурову и его дочерям, повторяя, что он бесконечно благодарен за ласку и привет. Старик сердито сказал в виде напутствия:
— Иди уж, иди!
Просторную избу, где стояли белые кавалеристы, заняли под лазарет. Штаб отряда разместился в школе. Там же приютились Виталий, Топорков и Нина.
— Ну вот, мы и зажили по-людски! — сказал Топорков, обводя сияющим взором стены, потолок, окна, полы нового жилья, которое за час крестьянки привели в порядок, вымыли, вычистили.
— Господи, как я рада крыше над головой! — от души сказала Нина.
4
Шестого сентября белые открыли военные действия. Эшелон за эшелоном шли к северу. Дитерихс лихорадочно гнал людей, пушки, снаряды к фронту. Верил ли генерал в успех своей затеи? С настойчивостью маньяка он не переставал твердить: «Земля и бог, народ и право — вот наше оружие! Вперед, господа, на Москву!»
Но фронт начинался не под Иманом, а гораздо ближе. На Первой Речке был подорван и основательно разбит первый бронепоезд. На Второй Речке развели путь, и с одиннадцати метровой высоты в воды залива рухнул груженный снарядами состав. Полтора часа рвались снаряды, взрыхляя насыпь, вздымая фонтаны воды, полтора часа разлетались вокруг гильзы снарядов, бомбардируя кожевенный завод вблизи полотна, служебные помещения военных мастерских, городок железнодорожников вблизи семафора. Все стекла в окнах домов, расположенных на три версты вдоль пути, были выбиты начисто.
На дороге началась неразбериха. Сразу же было нарушено расписание и все графики движения, составленные военными. На полотне в середине перегона оказывались груженные балластом платформы. Возникла необходимость срочно ремонтировать насыпи, и по этим участкам поезда шли с уменьшенной скоростью.
На шоссе тоже было неспокойно. В выемках участились обвалы. Трудно было доказать участие в этом людей, но порода осыпалась, точно не в силах была вынести тяжести солдат, шагавших на север. Из зарослей кустарника, росшего вдоль шоссе, раздавались выстрелы. Самодельные мины взрывались под ногами солдат, калеча их.
Отовсюду — из сопок и лесов, из глубокого подполья — стягивались к дорогам одиночками, группами и целыми отрядами партизаны. Рука дяди Коли достигала далеко, почти до самой линии фронта.
Подкрепления Дитерихса шли через огонь. А когда все-таки добирались до фронта, они попадали под удары Народно-революционной армии Дальневосточной республики — Пятой Красной Армии.
5
Донесения о ходе военных действий поступали с фронта два раза в день. Но Дитерихс не довольствовался телеграфными сообщениями. Он требовал подтверждения их донесениями с полей боев. Рота фельдъегерской связи потеряла представление об отдыхе и сне.
Воевода Земской рати требовал, чтобы донесения доставлялись ему немедленно по прибытии связных в любое время суток. Он отдал строжайшее приказание:
— Когда бы ни прибыл курьер — немедленно ко мне!
— Но… — начал было порученец.
— Никаких «но»! — оборвал его Дитерихс. Он выпрямился, выпятив, насколько мог, грудь. Лицо его приняло повелительное выражение. — Великое дело не терпит промедлений! Понимаете!
— Когда же вы, ваше высокопревосходительство, будете отдыхать?
— Не об отдыхе сейчас думать должно, а о победе! — величественно ответил Дитерихс.
Порученец смирился. Однако он все же поделился своими сомнениями с начальником верховного штаба. Тот глубокомысленно посмотрел на старательного чиновника, прищурился и проговорил:
— А вы, господин офицер, регулируйте их представления генералу. Понимаете?.. Не думаю, что они опережают телеграммы… Значит, если к их суточному опозданию прибавится еще пара-другая часов, от этого, к сожалению, ничего не изменится.
— Вы думаете, господин полковник, что…
— Я ничего не думаю. Я, к сожалению, знаю, что наши прекрасные друзья союзники начали вывозить из порта различные ценности… Поздно думать… Наштаверх посмотрел на озадаченного порученца, хотел что-то прибавить, но раздумал, убоявшись собственной откровенности.
После замечания наштаверха связные стали прибывать с завидной пунктуальностью: утром, после завтрака верховного правителя, и к вечеру, когда, восстав от послеобеденного сна, Дитерихс находился в бодром состоянии. Вид запыленных вестников с полей сражения, точно они, как в старые времена, скакали на сменных лошадях, приводил генерала в умиление. Он спрашивал связных:
— Вы явились ко мне немедленно после прибытия, господин офицер?
— Так точно, ваше высокопревосходительство! — рапортовал связной, тараща глаза и вытягиваясь в струнку.
Генерал удовлетворенно жевал губами и принимался читать донесения командующих войсковыми соединениями, одобрительно бормоча:
— А вид у вас совсем свежий, не утомленный… Благодарю вас…
Вначале поступали лишь победные реляции.
Белым удалось незначительно потеснить войска НРА. «Движимые духом единения России, наши доблестные войска обрушили главный удар на ст. Уссури, в сердце сосредоточения большевистских формирований, одновременно предприняв с флангов сковывающие действия. Пытаясь спасти живую силу от разгрома, неприятель с боями отходит по всему фронту…»
— Отходит, господа! От-хо-дит! — выразительно подняв кверху указательный палец, говорил генерал и переводил глаза на иконы, что висели во всех апартаментах Дитерихса. — Неотвратимое началось!..
«…Наши доблестные войска, применяя рейдовую тактику, охватывают ошеломленные, деморализованные части противника, безжалостно уничтожая…»
— «Истреблю с места сего остатки Ваала!» — шептал воевода слова пророка Софонии.
Успех первых дней наступления совершенно уверил Дитерихса в его великой миссии. Он прочитывал телеграммы и личные донесения с таким видом, точно заранее звал их содержание, точно ничего неожиданного уже не могло произойти. Он выражал лишь легкое нетерпение по поводу того, что события развиваются, может быть, слишком неторопливо. Все эти дни он был приветлив и тих.
— Благостыня снизошла на меня, Дмитрий Александрович! — сказал он как-то порученцу, впервые назвав его по имени, чем молодой офицер немало был изумлен, так как знал, что балтийский немец отнюдь не был склонен фамильярничать с низшими по положению.
Порученец не видел, однако, оснований для оптимизма Дитерихса, хотя и не мог выказать слишком явно своих опасений. Обстановка в городе совсем не располагала, по мнению порученца, к хорошему настроению. В десять часов вечера, по приказанию японского коменданта, прекращалось движение по улицам, ведущим к порту. Японские патрули занимали выходы к этим улицам. По ним тарахтели грузовики, нескончаемыми лентами вытягивались конные упряжки. Лязг лебедок в неурочное время, шипение пара, возгласы «майна-вира» грузчиков из русских офицеров, доносившиеся с причалов, достаточно ясно показывали, что в порту грузятся суда. Мерный шаг пехотинцев, короткие команды японских офицеров, суета погрузки, которой невозможно было скрыть, поселяли страх в сердцах находившихся в городе белых. Он еще более усилился после того, как на некоторых торговых заведениях и конторах японцев появились записки: «Закрыто по случаю отъезда».
Однажды, взглянув в огромное итальянское окно губернаторского дома, выходившее на бухту, порученец увидел, что из порта выходят, растянувшись караваном, несколько японских торговых пароходов. Офицер указал на них Дитерихсу.
— Красиво… красиво! — сказал воевода после продолжительного молчания, во время которого он не отрываясь следил за развертыванием колонны судов, во главе которой стал миноносец.
Дымное облако из труб кораблей, вытягивавшихся в кильватерную колонну, застлало Чуркин мыс. Зрелище это, однако, не вызвало у генерала тех ассоциаций, какие оно вызывало у порученца. Потирая ручки, он повторил:
— Красиво! Как это называется? Я, знаете, в морском деле ничего не понимаю.
Порученец вопросительно посмотрел на Дитерихса: о чем идет речь? Уразумев, после минутного замешательства, что генерала заинтересовало построение кораблей, он сказал:
— Это называется караваном, ваше высокопревосходительство!
— Караваном? — переспросил оживленно генерал. — В самом деле похоже на караван… Похоже! — И он отошел от окна.
Смысл совершавшегося не дошел до сознания Дитерихса.
6
По-иному, чем воевода Земской рати, отнесся к успехам первых дней наступления начальник штаба «верховного командования». Перечитывая сводки, сопоставляя их, он все чаще хмурился. Он видел то, чего не хотел замечать Дитерихс и чего охотно не замечали штабисты, занятые более отправками за границу личных ценностей, чем военными делами. Противник, то есть Народно-революционная армия, вовсе не «отступала по всему фронту». В этом убеждала карта фронта. 11 сентября Земская рать выдвинулась на позиции поселок Духовской — станция Свиягино. Ударные части Земской рати, во главе с поволжской группой под командованием генерала Молчанова, достигли деревни Успенки. Задачей их было — отбросить части НРА, взорвать железнодорожный мост через Уссури. Здесь они столкнулись с головной группой НРА на линии станция Уссури — станция Шмаковка — деревня Успенка. Удар рати принял на себя Троицко-Савский кавполк. Он отошел вначале на линию река Кауль деревня Шехменово. Сюда подтянулся с двумя полками Степан Вострецов помощник командира Второй Приамурской дивизии. Вострецов развернул 5-й Амурский полк и во встречном бою разгромил наголову авангардные части Молчанова, отбросив их на исходные позиции.
До 6 октября кипели бои в районе поселок Краевский — разъезд Духовской — деревня Никитовка. Белые сами лезли в мешок, который раскрывала НРА.
Командиры Земской рати чуть не передрались между собой. Даже самые незначительные, преходящие успехи каждый приписывал себе, валя неудачи на соседей. А неудачи все множились и множились…
Народно-революционная армия перемалывала все новые и новые части белых, которые устремлялись на фронт. Ощущение катастрофы медленно назревало в сознании солдат и офицеров Земской рати. Драться их заставляло лишь то, что отступать было некуда: сзади стояли пулеметные заградительные отряды. Смерть вероятную предпочитая смерти неизбежной, командиры гнали в бой все новые пополнения, полагаясь на судьбу: авось все образуется само собой! Развязка приближалась с каждым днем.
Командующий Пятой армией и Военный совет НРА за время, прошедшее со взятия Волочаевки, сделали много. Армия получила свежее пополнение из молодых красноармейцев. Железная дисциплина господствовала в частях. Были укомплектованы артиллерийские части. Появились конные пулеметные подразделения: тачанки-ростовчанки добрались и до Дальнего Востока. Сознание же, что конец войны близок, что еще один решительный удар — и наступит желанный мир, придавало новые силы бойцам НРА. Они видели, что лишь маленький клочок русской земли оставался еще во власти белых, они видели, что дни последних сочтены.
Наступление Земской рати захлебнулось у Имана. А затем красные сильным натиском прорвали левый фланг белых и вышли на линию железной дороги. Наступавшие части белых оказались в мешке. Теперь приходилось думать уже не о походе на Москву, а о том, чтобы выиграть время для эвакуации.
Дитерихс не чувствовал этого. Он еще гнал людей на север, когда там все было кончено.
К первым сообщениям об изменении обстановки Дитерихс отнесся, как к досадному недоразумению.
— С ума вы посходили, господа! — сказал он недовольно, когда далее от него нельзя было уже скрывать истинное положение вещей. — Как это может быть?..
Он помолчал, не глядя на наштаверха, провел сухонькой ладонью по дряблой щеке. Казалось, он был просто в недоумении. Вслед за тем он выпрямился и, взявшись рукой за свою седую эспаньолку, решительно сказал:
— Расстреливать трусов!
В последовавшем затем разговоре ему намекнули, что расстреливать придется многих.
— Командиров отступивших частей — в первую голову! — воскликнул воевода.
Но тут не вытерпел и видавший виды наштаверх. Он вдруг совсем неуважительно свистнул и неожиданно сказал:
— Ну, батенька мой, этак всех нас надо сейчас же в Могилевскую губернию отправить… Уж что-что, а по части отступлений у нас опыт велик…
В ту же секунду он спохватился, щелкнул шпорами и застыл, вытянувшись перед уставившимся на него недоуменно Дитерихсом. Верховный правитель, однако, пропустил мимо ушей неделикатное замечание начальника штаба. Он жестко повторил:
— Остановить отступление! Любыми мерами! Даже если придется устлать трупами весь край!.. — И голос Дитерихса зазвенел металлическими нотками.
Все с удивлением оглянулись на генерала, к глуховатому, невыразительному голосу которого давно привыкли.
Последние резервы были брошены на фронт…
7
Военные сводки аккуратной стопочкой лежали на столе генерала Тачибана. Содержание их хорошо было известно командующему японским экспедиционным корпусом. Они не радовали генерала, но он ничем не обнаруживал своего недовольства. Офицер для поручений стоял возле командующего, согнув привычно спину в полупоклоне, и ожидал распоряжений генерала, который очень долго молчал. Наконец Тачибана взглянул из-под полуопущенных тяжелых век на капитана.
— Командирам наших войсковых частей заготовьте приказ: не вступать с красными в соприкосновение, но практиковать выдвижение заслонов при чрезмерно поспешном отступлении частей генерала Дитерихса. В этих случаях содействовать командирам русских частей в восстановлении дисциплины, в целях возвращения солдат в бой, не останавливаясь перед самыми крутыми мерами. Меры восстановления дисциплины предпринимать независимо от того, обращались к нам за содействием русские командиры или нет… Наш долг помочь им в этом!
Коротким, отрывистым возгласом «х-а!» капитан подтвердил, что он понял приказание генерала.
— Военному министерству приготовьте шифровку с оценкой положения на фронте, подчеркнув, что больше месяца Дитерихс не продержится. — Тачибана сделал паузу. — Канагава-сан в Токио ожидает наших сообщений. От него не скрывайте ничего. Он должен знать все, чтобы предпринять что следует. Для печати заготовьте сообщение об успешных действиях войск генерала Дитерихса!
Тачибана замолк. Капитан повторил приказание.
— Что делает Мак? — вдруг спросил Тачибана.
Офицер вполголоса сказал:
— Доверенное лицо Мак-Гауна сегодня изъяло крупные суммы со своего счета во владивостокском отделении Гонконг-Шанхайского банка. Деньги эти переведены в шанхайское отделение банка… Смит все эти дни интересовался счетами вашего превосходительства и счетом военного министерства в Иокогама-Спеши-Бэнк и Чосен-Бэнк…
— Смит?
— Это человек Мак-Гауна. Наши агенты сообщили ему, что счета подкреплены новыми поступлениями… В последние дни Мак усиленно сносится с Вашингтоном — по десяти, пятнадцати шифровок, не считая открытого текста. Открытый текст — в адреса Анаконда майнинг коппер, Иллинойсскую сталепрокатную компанию, в штат Миссури, родителям, в штат Теннесси, жене и сыну. Содержание: бизнес и выражение родственных чувств…
— У Мака родственные чувства? — Тачибана вопросительно поднял брови. Надо внимательно поисследовать содержание этих писем. Шифровки?
— Удалось узнать содержание лишь одного документа, посланного сенатору Бевериджу: Мак сообщает, что продолжает попытки связаться с «будущими хозяевами»… Очевидно, это касается того дела, которым занимается мистер Кланг — «Молодчик». Мак легализовал его. Кланг действует под маркой промышленника, акционера «Северной компании» — довольно крупное дело! Но главная его задача — связаться с подпольем, а также с русскими разных слоев в целях вербовки американской агентуры. Работает грубо, нечисто, афиширует свои связи с завербованными. Правда, это не большевики, а мелкие торговцы, служащие… «Северная компания» — дело Мака, он — «хозяин в тени»…
Тачибана сказал неторопливо:
— Надо перехватить завербованных Клангом и заставить работать на нас. Пригрозить разоблачением их связи с Клангом!..
…Когда капитан вышел, Тачибана остался в кабинете один на один с портретом Иосихито. Портрет этот был сделан так, что глаза императора всегда смотрели на того, кто глядел на портрет. Сколько бы ни находилось в кабинете людей, и где бы они ни стояли, каждый из них всегда ощущал на себе взор императора, который смотрел, как казалось каждому, только на него…
Сейчас Иосихито смотрел на генерала Тачибана своим непроницаемым взором небожителя.
…Разные мысли блуждали в голове Тачибана, уставившего глаза на Иосихито. Они были ровесники, император и генерал.
Оба они жили в эпоху выхода Японии на мировую арену, в эпоху буржуазного, капиталистического преобразования Японии. Оба они принадлежали к гунбацу, военной клике, и по рождению и по призванию, а гунбацу играла решающую роль в японской внешней и внутренней политике. Тачибана принадлежал к клану Кэйки, который пятьдесят пять лет назад «вернул» императору Мутусухито — отцу Иосихито — государственную власть, фактически принадлежавшую сегуну Кэйки при императоре Комэй. Годы правления Мутусухито получили наименование эры «Мейдзи», что значит «Просвещенное правление». Отец Иосихито начал эру военных захватов — Пескадорские, Марианские острова, Корея… Венцом деятельности Мутусухито было нападение на своего западного соседа — Россию.
Тачибана и Иосихито были поручиками, когда японским войскам сдался Порт-Артур… Но Мутусухито не нашел счастья в этой войне. Если бы не вмешательство Теодора Рузвельта, президента Америки, навязавшего мирное посредничество, императору нечем было бы воевать с русскими. Япония истекала кровью, потеряв свыше семисот тысяч солдат убитыми, и была совершенно истощена… «Это была плохая победа! — подумал Тачибана. — Правда, Япония захватила Южный Сахалин, наступив России на пятку, и Ляодунский полуостров, прицеливаясь оттуда на Китай… Но с русскими было тяжело драться!»
Тачибана был верным слугой императорской фамилии. Он был счастлив тем, что служил вместе с наследником императора в одной части. Правда, Иосихито получил два просвета на погонах с двумя звездочками куда раньше, чем Тачибана смог стать штабс-капитаном. В 1912 году Иосихито стал императором. Годы правления его получили наименование «Тайсё» — «Великая справедливость». Штабс-капитан Тачибана не мог больше видеться с бывшим поручиком Иосихито. Однако, когда в России произошла Октябрьская революция и Япония вмешалась в дела русских, бывший поручик припомнил Порт-Артур и вспомнил о своем однокашнике.
Тачибана быстро пошел в гору, и вот он возглавляет японский экспедиционный корпус в России. Но сын не удачливее отца: интервенция выдыхается!.. Сколько бы заслонов ни выставляли солдаты Тачибана, белые катятся к югу, точно скользя по доске, смазанной салом, — есть такая веселая игра в префектуре Киото… Правда, теперь японские войска изучили плацдарм на русской земле. Но драться с русскими тяжело! Еще тяжелее, чем в 1904 году.
Выйдет ли вообще что-нибудь из любой схватки с русскими?
Следует ли стремиться к захвату русских земель?
Не лучше ли жить с русскими в мире?
Тачибана показалось, что кто-то задал ему эти вопросы со стороны. Он испуганно оглянулся по сторонам… Нервы! Совершенно ненужная вещь для солдата!
Генерал встал и прошелся по кабинету. Глаза Иосихито сопровождали его, неотступно следя за ним. Тачибана недовольно поджал сухие губы: гнусная итальянская выдумка, непростительно, что японские художники переняли ее у мастеров Кватроченто! Японцы вообще не должны никому ни в чем подражать, так как они — исключительная нация и развитие ее идет по пути, предуказанному свыше…
Дело было, однако, не в «итальянском секрете». И не он обеспокоил Тачибана! Собственные мысли испугали генерала. Кажется, это были недостойные мысли! Слуга императора не может размышлять о том, что недоступно его понимаю, что постижимо только высшему разумению… Но с русскими так трудно драться! И дело не в недостатке храбрости японских солдат. Дело в том, что они, сталкиваясь с русскими, перестают мыслить как японцы. Они начинают думать о том, что им не должно быть свойственно. Тачибана припомнил доклад контрразведки о деле одного солдата из оккупационных войск, бывшего сельского учителя Коноэ. Подвергнутый пытке, он сказал: «Я осмеливаюсь думать, что японским солдатам нечего делать в России. Я осмеливаюсь также думать, что с русскими надо жить в мире. Я осмеливаюсь еще думать, что русские сами знают, какое у них должно быть правительство!»
Для того, чтобы покончить с неприятными мыслями, мешавшими исполнению служебных обязанностей с легким сердцем и чистой душой, как предписывал кодекс чести японского офицера Бусидо, генерал произнес вслух как нечто не подлежащее сомнению:
— Великая справедливость состоит в направлении энергии японской нации на материк для создания процветания всех народов, для распространения благодати эры Тайсё. Я никогда ничего другого не говорил и не думал!
Вслед за этим он с глубоким почтением сделал поясной поклон перед портретом и вышел из кабинета, пятясь задом, как если бы в кабинете находился живой Иосихито.
8
Паркер не очень любил бывать у консула.
Старый Мак стал слишком бесцеремонным. Раньше он был куда покладистей и — если про Мака можно так сказать — душевней. До того как он стал консулом, он со всеми держался ровней. Теперь он то и дело давал своим собеседникам почувствовать расстояние между ними и собой. Он мог теперь неожиданно замолкнуть и начать невежливо разглядывать гостя, причем на некрасивом его лице тотчас же появлялось смешанное выражение скуки и пренебрежения; иногда среди разговора он принимался рыться в своих бумагах, которые в совершенном беспорядке были разбросаны на столе, углублялся в них, а потом тоном неожиданного открытия восклицал: «А-а! Вы здесь? Чем могу служить?» Мог, прервав беседу, уйти из комнаты, ничего не сказав… Положительно, дипломатический пост испортил старого Мака, с которым в прежние времена было приятно в ночном кабачке пропустить стаканчик виски и выслушать занятную историю, какими Мак был набит доверху…
Однако без Мак-Гауна нельзя было обойтись. Газета требовала близости к официальному представителю Штатов, как первому источнику информации. На информацию же Мак не скупился, хотя часто умел использовать Паркера в своих целях, как произошло это совсем недавно… Сегодня Мак-Гаун сам вызвал Паркера…
Скрепя сердце, но с приветливой улыбкой Паркер вошел к Маку.
Консул сидел в кресле, по привычке погрузившись в него всем телом, не заботясь о том, что его одежда мнется, теряя опрятный вид.
— Садитесь! — сказал консул. — Сигару? Папиросу? Не хотите? Прекрасно! Виски? Коньяк?.. Коньяк! Прекрасно! Пейте!.. Паркер! Вы мне нужны. Плюньте на все свои дела и сделайте мне одно одолжение…
— Одолжение, мистер Мак-Гаун? — с удивлением спросил Паркер.
Мак замолк. Потом потянулся к столу, схватил пачку каких-то бумаг и помахал ими в воздухе.
— Первоапрельские шутки в октябре! Шарады! Уравнения с тремя неизвестными. Кого хотят обмануть? Кто поверит? Это у Дитерихса называется военными сводками. Резиновые формулировки, словесный туман… А старый Тач перещеголял даже дитерихсовских вралей. Дает для печати сообщения об успешных действиях войск генерала Дитерихса. Конечно, это детская хитрость, на которую могут попасться только политические младенцы. Он хочет поддержать до последнего момента акции Мицуи с тем, чтобы потихоньку продать. Мы это используем, конечно! Но я хочу, Паркер, иметь беспристрастную информацию…
Паркер вопросительно посмотрел на консула. Мак ухмыльнулся.
— Без всякой задней мысли, мистер Паркер! Мне надо знать: что происходит на фронте и сколько еще это протянется? Но знать не из чужих рук…
— Но как это сделать?
— Поезжайте туда, старина. Поглядите и скажите мне как американец американцу. У вас хороший нюх и глаза настоящего газетчика! — Мак-Гаун улыбнулся было, то тотчас же сварливо добавил: — Хотя вы бесполезно щепетильны и бережете свою голову, как будто это бог весть какая драгоценность!
Это была шутка, и Мак-Гаун рассмеялся. Натянуто улыбнулся и журналист.
— Джек приготовил вам мотоцикл, горючее. Машину погрузят и выгрузят, где вам будет угодно. Думаю, что с «харлеем» вы будете располагать полной свободой действий. Можно даже рассчитывать на содействие японской администрации, но это в крайнем случае!.. Поистине, я завидую вам, Паркер! Вы столько ездите, столько видите! — сказал Мак искренним тоном, словно Паркер ехал по своей инициативе. — Виски, дружище? Ах, коньяк! Пейте!.. Выезжать надо сегодня же. Время, Паркер, не ждет!
Да, трудно было решить, когда Мак хуже — тогда, когда он груб, или тогда, когда он любезен! Паркер вздохнул и поднялся…
Сегодня Мак был вежлив со всеми.
Когда в дверях его кабинета появился Кланг и стал навытяжку, Мак-Гаун совершенно ошеломил его своей предупредительностью.
— Мистер Кланг? — сказал он. — Проходите, мистер Кланг. Садитесь, мистер Кланг. Папиросу, мистер Кланг? Как ваше самочувствие, мистер Кланг?
Ястребиные глаза его при этом были холодны, и вежливость Мака испугала Кланга, который хорошо знал, что это дурной признак: Мак-Гаун недоволен, если так вежлив. Кланг присел, но заранее приготовился к разносу.
— Докладывайте, мистер Кланг, — сказал Мак-Гаун.
Кланг начал было говорить о делах «Северной компании» — тут он кое-что сделал, что давало ему право если не на благодарность, то на внимание Мака. Однако консул остановил его движением руки:
— Я в курсе всего этого, мистер Кланг! Меня в данный момент интересует то, каких успехов вы добились по установлению связей с русскими, которые могут оказаться нам полезными при изменении политической обстановки в Приморье…
Клангу нечем было похвастаться. Мак сказал:
— Та агентура, которую мы завербовали, — это агентура второго сорта. Нам нужны хорошо законспирированные люди из числа тех, кому большевики могут и будут доверять… Вы не справились с заданием, Кланг! Вы взялись за бизнес, забывая, что бизнес только средство для того, чтобы закрыть вашу настоящую физиономию…
— Мистер Мак-Гаун! — протестующе сказал Кланг.
— Вы сумели сделать много. Я отдаю вам должное. Но дела «Северной компании» могут вас больше не интересовать. Ими будет заниматься другой «акционер»… И если в вашем списке не окажется ни одного из нужных нам лиц, я вам не завидую, Кланг! До свидания!
Кланг вышел от Мак-Гауна, как в тумане. Крах!..
Скольких людей видел в эти дни Кланг. С кем только он не говорил шумно, горячо, добродушно, доверительно, сыпля словами и хохоча тем смехом, который так располагал к нему людей в Штатах! Но все усилия его были бесполезны: подполье было неуловимо. Он узнал имя одного из руководителей подполья — Михайлов — и кличку его — дядя Коля. Но, вместо того чтобы помочь Клангу в поисках, это имя заставляло людей настораживаться и замолкать. В такие минуты Кланг забывал о своей способности говорить и вспоминал только о своем умении стрелять. Он вспоминал в такие минуты о том, чего ему не хотелось вспоминать, — остров Мудьюг… Те, там, не сдавались, их нельзя было ни купить, ни запугать, ни одурачить. Они умели умирать так, что Кланг переставал спать — неутоленная ярость гнала сон прочь. Проклятое место!
Но должны же, думал Кланг, быть слабые места в этой крепости духа, которую воздвигли большевики в душах простых людей! Должны быть! Почему в Штатах он умел и делал много? Почему?.. Здесь же он не находил никаких зацепок. Руки его встречали либо пустоту, либо стену отчуждения.
…Ему повстречался Марков. Марков много помог Клангу в понимании обстановки в Приморье. Он многое знал. Он был незаменим, когда шла речь о владивостокских буржуа, он в совершенстве знал их подноготную, из чего Кланг извлекал пользу… Однако Марков не мог или не хотел навести Кланга на желанный след…
— Выпьем, Марков! — сказал Кланг, беря того под руку.
Марков по обыкновению пил не пьянея.
— Зачем вам встречи с подпольем? — спросил он прямо.
— Вы знаете, я деловой человек, Марков! — Кланг доверительно склонился к газетчику. — Я нашел хорошее дело. Но как только большевики выкинут отсюда япсов и белых, если у меня не будет хороших связей, лопнет и мое дело! Ясно?
— Оно лопнет потому, что вам не завязать связей, и потому, что, надо полагать, все их взаимоотношения с иностранцами будут строиться на новой основе.
— Не понимаю! — говорил Кланг. Основа основ: куплю-продам!
— Вам не понять их! — Марков странным взором, щурясь, глядел на американца. — Они — прямоходящие, мыслящие существа, Кланг. А мы с вами, хотя и двуногие, но еще не расстались с привычкою бегать на четвереньках и пожирать своих ближних, особенно если они не дают садиться себе на шею… Вам не удастся околпачить их. Они умеют мыслить, а мы с вами — только хитрить, иногда более или менее удачно. Мы с вами, как и всякий зверь, думаем только о сохранении своей шкуры, они же — о будущем человечества. Ни более ни менее! В вас мысль о потере вашей драгоценной только для вас шкуры вселяет животный ужас и стремление всяческими зверствами отдалить этот момент. А им мысль о смерти не страшна — они остаются жить в делах своих, Кланг! Мы в момент смерти будем скулить и выть, может быть, попытаемся кого-нибудь укусить. Они умирают так, что каждая их смерть поднимает на борьбу сотни других! — Марков замолк. Потом сказал с горечью: — Налейте мне, Кланг! Когда я пьян, земля меня притягивает и я чувствую, что я еще жив…
Со смешанным чувством страха и жадного любопытства слушал Кланг Маркова. Так идущий по гребню скалы со страхом косит глазом на пропасть под ногами. «Марков умеет-таки сорвать флер со всех и со всего. Кроме большевиков! — отмечал Кланг. — Над большевиками он не издевается!» В цинизме Маркова была какая-то притягательная сила, он говорил то, о чем Кланг не смел и думать: это был бы полный крах, после которого остается пустить себе пулю в лоб, а Кланг еще хотел жить…
— По сути дела, вас следовало бы отправить в контрразведку! — мрачно сказал Кланг, думая испугать Маркова. Но тот лениво ответил:
— Это не доставит вам удовлетворения… Я давно уже музейный экспонат, а не человек; только не я содержусь в спирте, а спирт — во мне!.. А такому убийце, как вы…
— Но, но! — предостерег Кланг.
— …надо слышать, как хрустят выворачиваемые кости, и видеть, как сочится кровь из растерзанного мяса. Так бывало на вашем проклятом острове Мудьюг…
— Что вы об этом знаете? — впился налитыми кровью глазами Кланг в собеседника.
— Не скажете же вы, что учили там военнопленных вышиванью болгарским крестом! — дерзко отозвался Марков.
…Они говорили друг другу дерзости и встречались опять. Начав с попытки отделаться от Маркова, Кланг привык к Маркову; Марков был для американца неистощимым источником информации из того болота, в мутной воде которого Кланг умел ловить золотые… Уже ушли на север баркентина и два моторных парусника, чтобы делать для мистера Кланга на Чукотке деньги. Ах, если бы для него одного!.. Черт возьми, Мак будет совсем свиньей, если не уделит Клангу хотя бы пятнадцати процентов добычи. Уже кого-то из проспекторов-одиночек люди Кланга ухлопали. Счет в Гонконг-Шанхайском банке и Джапэн-Чайна-Грэдинг банке уже не умещался в одной графе. Кланг комбинировал, заключал союзы, расторгал их, нападал и защищался, входил в соглашение с кем-то из дельцов, для того чтобы уничтожить соперника, и подставлял тотчас же ногу своему соучастнику, рвал все, что можно было, зубами, когтями…
Но это было только сегодня. А хозяева хотели, чтобы поживу на этой земле можно было хватать и завтра, когда здесь уже не будет японцев. Но этот завтрашний день ускользал от Кланга…
Он бесился, но ничего не помогало ему — ни жадность, ни беззастенчивость, ни хитрость, ни подлость, ни угрозы, ни посулы…
Те, кого он купил, не стоили денег Мака…
Глава 20 Начало конца
1
Со Второй Речки вышел бронепоезд «Николай Мирликийский». Почти одновременно дядя Коля приказал: ни в коем случае не пропускать бронепоезд к Никольску. Вслед за сообщением в отряд были доставлены капсюли с гремучей ртутью для подрыва мин.
Привез капсюли матрос-минер, обучивший партизан за два дня технике подрыва железнодорожного пути теми средствами, какие у них были.
В отряде создали подрывные группы. Нина, Панцырня и молодой Жилин составили одну группу, Алеша Пужняк, Виталий, Жилин-отец, Чекерда — вторую.
Отряд контролировал участок пути протяжением в тридцать верст. На сторожевом холме, с которого полотно просматривалось на значительное расстояние, засели Колодяжный и Лебеда. Они должны были сигнальным дымом предупредить подрывников о приближении поезда, которого те не могли видеть из-за полутуннеля.
Обе группы расположились в версте друг от друга на широкой луке насыпи. На северном участке мина была заложена под башмак мостовой фермы, на южном под шпалы. Мины представляли собой пудовые заряды пороха, упакованные в железные, клепаные бочонки. В жестяном гнезде, имевшем отверстие в стенке бочонка, находился капсюль с гремучей ртутью. В отверстие вставлялся железный костыль, немного не доходивший до капсюля. При нажиме сверху острие костыля пробивало капсюль, и он, взрываясь, воспламенял заряд. Из опасения преждевременного взрыва костыль вставлялся в последнее мгновение.
Полсуток провели подрывники в окопчиках, неподалеку от мин, ожидая с минуты на минуту появления поезда. Прошел товарный порожняк, неведомо зачем двигавшийся на север. На юг проскочил какой-то служебный поезд: два паровоза тащили три салон-вагона и один «столыпинский», покрытый броневыми плитами. Непрестанно давая гудки, он несся на предельной скорости.
Панцырня, завидев его, сказал:
— Вот бы рвануть его! Кого там несет?
Нина заметила:
— Генерал какой-нибудь улепетывает… Видно, жарко под Иманом…
Поезд исчез в отдалении. Солнце припекало по-осеннему, как это бывает в Приморье, когда, словно стремясь вознаградить за переменное, дождливо-ветреное лето, оно щедро греет землю, уже тронутую желтизной.
Панцырня нетерпеливо поглядывал на сторожевой холм, пошевеливая в кармане костыль. Желая произвести на Нину впечатление своим бесстрашием, он сам вызвался подорвать мину. Помня случай с американцем и полагая, что Панцырня хочет исправить свою оплошность, Нина уважила просьбу Панцырни.
Но Колодяжный с Лебедой не подавали признаков жизни. Время тянулось медленно. Панцырня начал нервничать, вдруг представив себе ясно тот риск, которому подвергался подрывник, вставляя костыль в гнездо. «А ну, как ахнет эта штука раньше времени?! Тогда, поди, и ложкой не соберешь!» У него засосало под сердцем. Он поглядел на Нину, которая присмирела, свернувшись калачиком, и не сводила глаз с холма. «Эх-х! — мотнул головой Панцырня. Под бочок бы к тебе, краля писаная!.. А тут — суй голову под топор!» И Панцырне стало жалко себя.
И в момент, когда Панцырня меньше всего думал о взрыве, на вершине сторожевого холма показался дымок. Сначала он был едва заметен, потом вдруг черным деревом поднялся кверху.
Нина спрыгнула в яму, знаком приказав Жилину тоже спрятаться.
— Паша! К заряду! — торопливо сказала она и горячими ладонями сжала руку партизана. В этом пожатии было многое: и ободрение, и страх за него. Подрывавший подвергался значительной опасности из-за несовершенства мины.
Панцырня вдруг обмяк и почувствовал, что ноги его словно приросли к земле: если он сделает хотя бы один шаг, то упадет.
— Ну, что же ты? — с беспокойством посмотрела на него Нина.
Парень отвернулся, чтобы не видеть ее глаз.
— Я сейчас… я… одну минутку, — сказал он невнятно, сам не зная, что сказать.
Прерывистый гудок послышался слева. Нина лихорадочно схватила Панцырню за рукав.
— Ну!
Тот принялся шарить по карманам.
— Я… костыль потерял! — пробормотал он еще тише и как-то согнувшись весь, словно став меньше ростом.
Побледневшее его лицо все сказало Нине. Она протянула руку:
— Давай мне! Быстро!
Руки Панцырни тряслись. Он, чуть не плача, крикнул:
— Да я не знаю, где он… Ей-богу, потерял…
Нина с силой толкнула его в грудь.
— Ах ты, гад! — сказала она со слезами отчаяния и бессилия.
Поезд показался в выемке. Солнечные блики легли на бронированных башнях и палубах. Серо-стальной, чуть покачиваясь на стыках, тяжелый — от тяжести его глухо гудели рельсы, — угрожающе выставив трехдюймовые жерла орудий, он вытягивался из полутуннеля на магистраль. Нина с ужасом смотрела на стальное чудовище. На кривизне пути вагоны развернулись. Нина увидела зеленый и трехцветный угольник на борту среднего вагона и размашистую надпись на нем: «На Москву!» В тот же миг она услышала выстрел — это сигналил Виталий, привлекая внимание первой группы.
И вдруг какая-то мысль осенила ее. Она мгновенно встрепенулась и, точно ободряя себя, крикнула:
— Надо ударить камнем по коробке с капсюлем…
Забыв о Панцырне и Жилине, девушка бросилась к мостику. Небольшой ложок вел к нему, скрывая Нину от бронепоезда. Она побежала, не замечая ничего, кроме башмака фермы, под которым лежала мина. «Только бы успеть!» промелькнула у нее мысль.
Обессилевший Панцырня залез в яму и сжал голову руками, чтобы не видеть того, что произойдет. Молодой Жилин, пытаясь понять, что случилось, смотрел то на парня, то на Нину, бежавшую по лугу. С бронепоезда заметили неожиданно появившийся дым на холме. Он встревожил команду. И на всякий случай, имея заранее готовое оправдание, командир бронепоезда приказал открыть огонь из пушек и пулеметов, произвести веерный обстрел местности, прилегавшей к насыпи. Снаряды, гудя, понеслись на холм, с грохотом разрывались далеко за ним. А там пошло бухать со всех сторон.
Дыбом встала земля. Нина сделала еще несколько шагов и упала недвижимой, головой к мостику.
Жилин увидел, как неподалеку от Нины разорвался снаряд, подняв столб земли. С визгом разлетелись в стороны осколки. Воя и свистя, один промчался над ямой, в которой сидели партизаны. Панцырня еще больше согнулся. Жилин увидел, как упала Нина. Тогда, еще не сознавая вполне, что делает, он схватил гранитный осколок, подвернувшийся под руку, и бросился вслед за Ниной, бормоча:
— Ну нет, это ты врешь! Это, ты знаешь, не выйдет!
К кому относились эти слова? К Панцырне ли, который тупо глядел на развернувшуюся перед ним картину, или к бронепоезду, который, набирая ход, приближался к южному участку, показывая заносчивую надпись «На Москву!»
Жилин разбежавшись по косогору, пролетел мимо Нины, спохватился было: надо бы помочь девушке. «Потом!» — подумал он и через минуту оказался у мины. Рельсы ритмично вздрагивали от тяжести бронепоезда.
— Ну, это ты врешь! — опять выкрикнул Жилин и, изловчившись, ударил по жестянке острым ребром камня.
Время для него измерялось долями секунды. Сознание работало столь быстро, что ему казалось, будто время идет слишком медленно. И когда уже взорвалась в жестянке гремучка, когда порох воспламенился и совершалось неотвратимое, когда взрыву уже ничто в мире не могло помешать, Жилину показалось, что удара недостаточно. Он успел с силой ударить по корпусу мины еще раз…
…И мир для Жилина перестал существовать.
2
Взрыв разворотил полотно. Две шпалы вынесло, разметав в щепу. Оторванный рельс загнулся, точно санный полоз. Полотно съехало на сторону.
Машинист дал задний ход. Клубы пара окутали паровоз. Маленькая радуга вспыхнула на мельчайшей водяной капели и тотчас же погасла. Бронепоезд двинулся назад, сразу развив ход. Командиру стало ясно, что он попал в западню. Он стремился проскочить опасное место. С гулом ринулась тысячетонная махина назад, к югу, ища спасения. Скорость спасла бронепоезд. Он почти проскочил, когда взорвалась вторая мина — Алеши Пужняка. Этот взрыв отделил от бронепоезда две передние, полуброневые платформы с пулеметной командой. Одна из платформ вздыбилась, показав днище, закопченное мазутом, вертящиеся колеса, и рухнула вниз, корежась и ломаясь, вторая пробежала по одному рельсу, угрожающе склонясь набок, соскочила и, разодрав шпалы, понеслась по ним. Остановилась, почти невредимая, если не считать того, что бетон стен расселся.
Остановился и бронепоезд, простреливая весь правый сектор, где залегли подрывные группы. Из поваленного полуброневого вагона некоторое время слышались какие-то звуки, сопровождаемые взрывами, как видно, детонирующих гранат. Потом все стихло. Из второго, с наружной стороны, через нижний люк стали выскакивать люди — человек двадцать.
Завязалась перестрелка.
Виталий со своими людьми преградил белым путь. Белые залегли.
Панцырня открыл глаза. Оценил обстановку. Выскочил из ямы-окопчика и бросился через насыпь с тыла, чтобы ружейным огнем оказать поддержку Виталию. Из окопчика он видел, что Нина лежит, полузасыпанная землей. Что Жилин был разнесен в момент взрыва мины, ему было ясно. Свидетелей его малодушия не было. Панцырня достал из кармана костыль-боек и, сильно размахнувшись, забросил его в кустарник. Вскарабкавшись на насыпь, он притаился за рельсами и осмотрелся. Белые рассыпались небольшими группами и поодиночке, перебежками, продвигались к бронепоезду. Партизаны обстреливали белых. Панцырня увидел японского офицера, который, пригибаясь к насыпи, не замеченный никем, ужом полз вдоль осыпавшегося гравия. Японец смотрел вперед: все внимание его было поглощено залегшей на полотне группой Виталия. Японец решил зайти ей в тыл.
Маленький тщедушный, в кургузом тесном мундирчике с узенькими погончиками на плечах, он сначала показался Панцырне мальчишкой. Парень расправил свои могутные плечи и, почувствовав прилив храбрости, потихоньку спустился с насыпи и лег в след японца. Теперь Панцырня видел перед собой маленькое тело японца, облаченное в хаки, его небольшие ноги в желтых ботинках, подкованных на подборах. «Добрый товар!» — подумал Панцырня и пополз за японцем. Тот ничего не слышал, пока Панцырня не оказался в опасной близости. Услышав сзади шорох, японец мгновенно обернулся. На лице его изобразился ужас, он невольно оскалил зубы, точно готовый вцепиться ими в преследователя. Но в глаза ему смотрело дуло винтовки. Японец поднял руки вверх и сказал, старательно выговаривая по-русски слова:
— Стрелять не надо! Вы понимаете меня? Я сдаюсь… Правильно?
— Ну еще бы! — сказал Панцырня. — А то я бы тебя, знаешь, куда отправил… А ну, давай на ту сторону! — махнул он рукой, показывая через насыпь.
Беспокойство зажглось в глазах офицера. Он медленно, без помощи рук привстал, обнаружив при этом чисто змеиную гибкость, и стал подниматься наверх.
Перевалив насыпь, Панцырня и не подумал о группе Виталия. Захват японского офицера означал его удачу. Дело теперь можно повернуть как угодно. Панцырня метнул тревожный взгляд в ту сторону, где лежала Нина. Девушка не шевелилась.
Японец споткнулся при спуске и обернулся. Опять изобразил улыбку, при которой все зубы его выступали наружу, и со свистом втянул в себя воздух.
— О, росскэ храбрый солдат… Очень храбрый, да? Правильно?
Заискивающая его улыбка польстила Панцырне. Он с удовольствием передернул своими широкими плечами, почувствовав себя богатырем. Винтовку он закинул за плечо. «Скажу, голыми руками взял!» — подумал он.
— Ну, давай, пошли, некогда мне с тобой разговаривать, — сказал он, выпятив нижнюю губу.
В лице японца произошла какая-то перемена, хотя он по-прежнему улыбался. Неуловимо быстрым движением офицер выхватил браунинг и уставил в голову парня. «Брось, не балуй, а то я тебе, знаешь, за это…» — хотел сказать Панцырня, когда вдруг увидел налившийся кровью черный ненавидящий глаз японца, а вместо второго глаза — черную дырку ствола пистолета. «Брось!» — хотел сказать Панцырня и не успел. Японец выстрелил ему в голову. С тоскливым стоном парень рухнул, как стоял, плашмя, подмяв под себя руки. Суэцугу — это был он — носком ботинка тронул голову Панцырни, чтобы удостовериться, не маневр ли это со стороны партизана, потом, согнувшись, побежал к бронепоезду, скрываясь за кустарником.
3
В бронепоезде помещался отряд Караева при советнике Суэцугу. Задачей его было контролировать железную дорогу.
В Раздольном, получая хорошие оклады и довольствие, пьянствуя и бездельничая, Караев и его казаки чувствовали себя неплохо. На операцию сотня выехала с неохотой. Когда партизаны испортили путь, а бронепоезду все же удалось проскочить через вторую мину благополучно, Караев, глядя в амбразуру командирской башни, весело сказал:
— Ну, слава богу!
— Что «слава богу»? — спросил назначенный его помощником Грудзинский.
— В Раздольном веселее! — заметил Караев. — А думать теперь о том, чтобы отправиться в Иман, и не стоит. Ишь, как товарищи полотно всковырнули… Молодцы, черти! Под самым носом взорвали. Рисковые ребята!
— Не понимаю вашего восхищения врагами отчизны, — холодно сказал Грудзинский.
— Дело-то в том, что у нас таких уже нет! Были, да иных уже нет, а те далече. Помните, как это у поэта?
— Господин ротмистр! — Грудзинский посмотрел на Караева исподлобья.
— Не нравится — не слушайте! — сказал равнодушно Караев. Он с любопытством наблюдал в щель. — Смотрите-ка, одну нашу коробку разнесло в пух! Никто даже не лезет оттуда. Как говорится, мир их праху!
Грудзинский покосился на Караева, но тот, поглощенный зрелищем, не обратил внимания на своего помощника. Когда из второго вагона выскочили казаки, Караев сокрушенно заметил, различив среди них Суэцугу:
— Вот, черт косоглазый! Живой остался. А я надеялся, что его ухлопали.
— Это вы о нашем союзнике говорите, родина которого дает нам возможность бороться против большевиков? — спросил Грудзинский.
Караев оторвался от щели и искренне удивленным взором окинул Грудзинского.
— Да вы дурак или сумасшедший, не пойму? Союзники, союзники… Вы семнадцатый год где встретили, господин войсковой старшина? — неожиданно задал он вопрос.
— На Кубани.
— Ну-с, а двадцать второй вы кончаете на Дальнем Востоке. Понятно? Черта ли в этих союзниках толку, ежели нас к последнему морю красные прижали и, помяните мое слово, через полмесяца нам придется в содержанки к японцам идти, в Токио улицы подметать. — Он непоследовательно спросил: — Скажите, пожалуйста, Грудзинский, в чем разница между дураком и сумасшедшим?
Взбешенный Грудзинский отошел к другой амбразуре, а Караев для себя заметил:
— Я думаю так: дурак — это сумасшедший без всяких идей в голове, а сумасшедший — это дурак с идеями. Правильно? Что? Неплохо придумано. Чем не теория.
Караев натянул перчатки, схватил стек и кинулся наружу, крича:
— Цепью за мной! Мы их сейчас зажмем. Давай, давай, ребята!
Казаки выпрыгивали из нижних люков, из боковых дверей.
4
Звуки взрыва и вслед за тем перестрелка показали Топоркову, что задание подрывники выполнили. Весь отряд поднялся на ноги. Конные группами выезжали по боевому расписанию. Поскакал и командир.
Между тем на насыпи бой распадался на отдельные схватки.
Среди залегших казаков Виталий рассмотрел знакомое лицо рябого. Он стал за ним охотиться. «А-а, гад! Я с тобой сегодня за все посчитаюсь!» Время от времени он поглядывал в сторону второй группы, ожидая подмоги. Холодок прокрался в его сердце, и он понял, что придется рассчитывать только на свои силы. Перестрелка редела. Тут и Алеша пристрелялся к рябому. Неожиданно рябой запел какую-то разудалую песню. Алеша, уже совсем было взявший казака на мушку, остановился. Рябой, который, сидя за кочкой, знал, что от пули ему не отвертеться, высунь он голову вправо или влево, вдруг вскочил во весь рост и, разинув рот до ушей, продолжал петь. Затем пошел с приплясыванием, куда глаза глядели. «Спятил!» — подумал Алеша с сожалением и опустил винтовку, следя за странными телодвижениями рябого. Та же мысль пришла в голову и другим, и по нему не стреляли.
Рябой, приплясывая, шел, словно без цели. Дойдя до кустарников, он вдруг что есть силы бросился бежать.
— Охмурил, рябой черт! — с досадой сказал Алеша и принялся палить вдогонку, но безуспешно: кусты мешали целиться.
Чекерда уложил двоих. Группа белых начала таять.
Сбоку раздались выстрелы. Пуля сорвала с головы Чекерды фуражку. Парень поднял ее. Мурашки поползли по его спине. «Откуда это?» — думал он. Пуля прилетела с другой стороны насыпи.
Чекерда тревожно показал Виталию на кустарник справа:
— Похоже, окружают!
Виталий взглянул туда, где находилась первая подрывная группа.
— Что там случилось? Почему не поддерживают огнем, как было условлено?
Никто не мог ответить ему на этот вопрос. Что бы там ни случилось, обстановка вынуждает Виталия с его группой действовать вчетвером. Если противник перевалил за насыпь, обход почти неизбежен. Надо идти на соединение с первой группой и засесть в выемке мостика, удобной для обороны, и удерживать ее, пока не подоспеет Топорков. Виталий махнул товарищам рукой:
— А ну, — давайте к мосту!
Жилин-отец, ранивший троих, но и сам раненный в руку, был бесполезен в схватке. Он лежал вприслон к рельсу и, прижимая кое-как забинтованную руку, тихонько стонал. Он догадался, что на северном участке что-то неблагополучно, и стонал не столько от боли, сколько от тягостной мысли, что, может быть, там сын его, последний сын, убит или тяжело ранен, — ведь только это могло помешать ему прийти на помощь первой группе.
Ползком, перебежками они стали уходить.
Теперь белые имели преимущество. С двух сторон наступали они вдоль полотна. Виталию и его группе пришлось бы несладко, если бы не Топорков с отрядом.
Из-за кустарников, шедших от моста, через холмы к сторожевой высоте, вдруг начали вспыхивать огоньки. Вот один казак из десанта Караева взмахнул руками и рухнул на землю. Другой схватился за грудь. Потом из-за кустарников послышалось «ура», нестройное, прерывистое, но отрезвившее белых. Поняв, что на этот раз придется иметь дело с главными силами отряда, они стали отходить к бронепоезду. Артиллерия и пулеметы из башен и амбразур взяли отступавших под защиту настильного огня, который не давал отряду Топоркова приблизиться.
— Не дать ли им тут хороший урок? — спросил Грудзинский Караева.
Тот покосился на него.
— Не дать!
— Но почему?
— Из пушки по воробьям стрелять бесполезно, милостивый государь мой! Ведь запас израсходуем, а они и не почешутся. Рассредоточатся — и все. Стреляй, не стреляй — не возьмешь!
Караев нашел Суэцугу в кустарнике, где японец спокойно наблюдал за сражением. Японец сказал:
— Правильно. Да. Надо уходить. Наша цель достигнута.
Караев изумленно уставился на него.
— Мы установили, что партизаны разрушили мост. Правда? Я так выразился?
— Так, так! — сказал Караев.
Люки задраили. Покалеченный бронепоезд, без двух платформ, тронулся, ускоряя ход.
5
Лебеда и Колодяжный со сторожевого холма наблюдали за событиями. Кровь разгорелась в обоих.
Колодяжный раздувал ноздри.
— Не так бы нашим пойти, не так. Вон бы той обочиной… Да тут бы, на пригорочке, и почистили бы белых.
Лебеда сказал иронически:
— Э, если бы да кабы, да во рту выросли грибы…
— А поди ты, кум, к черту! — рассердился Колодяжный. — Отстань! Что я, кукла, на это дело молча смотреть. А то сам пойду.
— Ну поди, коли невмоготу.
— И пойду!
Колодяжный свирепо сверкнул на кума глазами и поспешно собрался: затянул потуже ремень, опояску, нахлобучил шапку-ушанку, которую он носил и зимой и летом. Лебеда саркастически усмехнулся:
— Вот дурень! А что потом скажешь? Мол, забыл о приказе… Тоже, старый солдат называется.
— Не могу, кум! Душа горит.
Лебеда вытряхнул трубку.
— Ну, коли душа горит, пойдем, кум! — сказал он.
— Это как понимать — пойдем? — уставился на Лебеду Колодяжный.
— Ну, значит, вместе пойдем.
— А… кто же за дорогой наблюдать будет? — озадаченно спросил Колодяжный.
— Вот и я о том же спрашиваю, кум, — невозмутимо в тон ему ответил Лебеда.
Колодяжный сердито засопел:
— Заноза ты, а не кум, когда так! — вынул трубку и принялся набивать ее табаком.
6
Первым обнаружили Панцырню.
Он лежал ничком, был жив, но без сознания.
Потом Виталий увидел темное платье Нины. Подбежав, принялся откапывать полузасыпанную землей, травой и щепой разбитых деревьев Нину. Она была недвижима, однако сердце ее билось. Девушку стали приводить в чувство. Она открыла глаза. Долго всматривалась в окружавшие ее лица. Оглушенная взрывом, она не могла сообразить, что с ней и где она. Память ее прояснялась медленно. Нина поднялась и уставилась мутным взором на мост. Даже отсюда она видела, что он взорван. Взгляд ее упал на носилки с Панцырней. Она задумалась, припоминая что-то, и с напряжением сказала:
— А… где… Жилин?
Подошедший к Нине отец Жилина со страхом спросил:
— А где же Ваня-то? А?
Топорков сказал:
— Подходим. Панцырня — на насыпи, в голову раненный, ты — взрывом оглушенная, а Жилина нету. Что тут было, скажи?
Нина не ответила. Она посмотрела на мост и вдруг расплакалась, закрыв глаза обеими руками, представив себе, что произошло, когда она лежала без сознания. Жилин-отец понял все. Он, сгорбившись, пошел прочь, чтобы не видели люди, как слезы льются у него по щекам, застилая глаза. Он шел, спотыкаясь, не видя земли, а зайдя в кусты, сел и долго сидел, ничего не видя и не слыша, отдаваясь своему горю.
— А что же я матке-то скажу? — протянул он глухо.
7
Нина была сильно контужена и впала в полуобморочное состояние. Ни Бонивур, ни Топорков не решились расспрашивать ее о подробностях гибели Жилина.
Что же касается Панцырни, то выстрел Суэцугу только лишил его сознания; пуля разорвала кожу, но череп не задела. Когда в лазарете перевязали Панцырню, он встал на ноги.
— Лежи ты! — прикрикнул на него Лебеда, раненный во время веерного обстрела с бронепоезда, когда Караев «прочесывал» окрестности; ему порвало осколками мякоть руки, он добрался до села, поддерживаемый Колодяжным. Куда?
— Сам знаю куда! — мрачно сказал Панцырня. — Где Нина-то?
— Слышно, в штабе отлеживается.
Панцырня вышел из лазарета и, пошатываясь, направился к штабу. Нина лежала там. Голова у нее нестерпимо болела, все тело ныло. От боли Нина боялась шелохнуться. Узнав Панцырню, она закрыла глаза. Панцырня сел рядом. Он сказал с видимым затруднением:
— Слышь-ка, Нина…
Нина не отозвалась. Ей не хотелось говорить с Панцырней. Гибель Жилина объяснила ей, что произошло после того, как она кинулась к мине у моста и ее настиг разрыв снаряда. Голос Панцырни живо напомнил ей, как блудливо прятал он глаза, говоря, что потерял костыль. «Именно Панцырня был виновником гибели Жилина», — сказала себе Нина, не будучи, однако, в состоянии додумать что-то очень важное и нужное.
— Слышь! — повторил партизан. — Костыль-то я верно потерял!
— Не в костыле дело! — с трудом сказала Нина. — У Жилина никакого костыля не было, а совесть была.
Панцырня долго сидел молча. Потом тихо сказал:
— Не до мины мне было… понимаешь? Дурной я мужик… Я тама сидел, а не об костыле думал… Ты мне глазыньки застила.
— Что за глупости! — вспыхнула Нина.
— Понимай, как знаешь. У меня уж такой дурной характер: коли за сердце взяло, все забуду!.. А я к тебе приверженный… У меня только и свету в окошке, что ты. Верь, не верь — как хошь. Я в этом деле сам не свой становлюсь. Мне тогда на все наплевать… Да вы, бабы, не понимаете этого… А ты жалость ко мне поимей!
Нина, сморщившись от усилия, возмущенно повернулась к Панцырне. Парень сидел понурившись, держась обеими руками за перевязанную голову. Он глухо спросил:
— Рассказала?
— Что ты струсил?.. Нет, не успела.
— Я не струсил, — отозвался Панцырня. — Кого мне трусить? Я тебе говорю: сознания решился я тогда совсем…
В этот момент тошнота подступила к горлу Нины, она махнула рукой и отвернулась к стене, не сказав того, что надо было сказать Панцырне. А парень добавил:
— И не говори. Сам скажу. Твое дело тут сторона.
Приступ боли обессилил Нину. Она малодушно подумала: «Пусть сам скажет. Так будет лучше, правильнее!»
Девушка охотно избавила себя от мысли о том, насколько правильно будет, если она промолчит.
Но и Панцырня ничего не рассказал ни Бонивуру, ни Топоркову. Он надеялся, что все как-нибудь обойдется. Надеялся, что Нина не вспомнит о происшедшем, поверит ему на слово. Не хотелось Панцырне признаваться в своей трусости. Не хотелось признаваться и в том, что он хранил про себя: не очень-то ему хочется проливать свою кровь и рисковать своей жизнью теперь, когда победа была уже близко. Год назад он храбро бросался вперед, не боясь опасности. А теперь начал рассчитывать: стоит ли рисковать? Ведь не для того, чтобы лечь в могилу раньше срока, пошел он в партизаны.
Отец Пашки был крепкий хозяин. Немного недоставало до того, чтобы клейкое словечко «кулак» пристало к нему: то один, то другой из деревенских мужиков оказывался в долгу перед Никодимом Панцырней. Всю жизнь работал Никодим, как вол, не видя ничего, кроме земли. И жену себе подобрал под стать, прижимистую, жадную до работы. Сыновья характером пошли в отца — тоже мимо не пропустят. Женил старшего сына — сноху долго подбирал «под масть». Приторговывал, одалживал под проценты, ничем не брезговал, лишь бы войти в силу. И почти достиг этого перед самой Октябрьской революцией. Старшего сына забрали семеновцы. Семеновцы потом хлынули из Забайкалья на восток. Никодиму не пришлось провожать старшего — он был убит неподалеку от родной деревни… Тогда старший Панцырня сказал младшему: «Ты-ка, Пашка, собирайся в партизаны. Довольно с девками шалаться, дело делать надо!»
Пашка обомлел от неожиданности. Отец, хмуро оглаживая седую бороду, пояснил: «Большаки, видать, верх берут. И Никишку припомнят. А с ними идти в одной упряжке — глядишь, не тронут!» От старшего сына отрекся. Мать, услыхав, заголосила было, но Никодим жестко сказал ей: «Цыть, дура! Ему теперь на мою отреканку-то наплевать, ни жарко, ни холодно… А нам еще жить! Поняла?..»
Когда уходил Пашка, закинув за плечи мешок, набитый шанежками, Никодим долго молча смотрел на него, и лишь когда Пашка, не выдержав тягостного молчания запыхтел, отец сказал: «Ты-ка под пули-то не шибко суйся! Убьют так на хрена тебе и хозяйство, а я теперь одному тебе все оставлю! Никишка-то…» Он не докончил и замолк, опустив голову…
Как-то на одном привале, когда трещали кругом веселые костры, сыпля искры в ночное небо, заговорили партизаны о самом тайном, о своих мечтах. Каждый из них высказывал свои мысли о том будущем, за которое дрались.
— А чо там говорить! — сказал Пашка. — Я так думаю: вот кончим воевать, по домам поедем, нарежут мне земли с полсотни десятин. Зря, что ли, мы воевали? И буду я ходить сам себе голова. Будут передо мною шапки-то ломать!
Громкий хохот, раздавшийся вокруг, смутил его.
Чекерда через костер посмотрел на Панцырню, заслоняясь от жара рукой.
— Дак это ты партизанишь за то, чтобы перед тобой шапки ломали? Зря, паря, трудился! Кулаков-то новых разводить не станем, думаю!
Слова эти вышибли из-под ног Пашки почву, лишили его той маленькой тусклой мечты, с которой до сих пор он жил…
…Скрыть случая с подрывом мины не удалось. На отрядном собрании никто из партизан не взял его под защиту. Это быт почти полный крах.
Бонивур предложил исключить Панцырню за трусость из отряда.
— Выгнать из отряда легче легкого! — сказал, однако, Топорков. — А чуда он потом пойдет — нам не все равно. Парень еще молодой, из него человека сделать можно, хотя в голове у него сейчас… — он махнул рукой. — А в шоры взять надо, да покрепче! Помни, Панцырня! — сказал он Пашке. — Третьей промашки у тебя не будет, а две уже было. Говорили с тобой довольно. Коли голова тебе дорога, держись да не падай…
Пять дней шли бои под Иманом…
Истомленные пятидневными боями, обескровленные и обессиленные части Дитерихса неспособны были сделать более ни одного усилия.
Стекавшиеся со всех участков фронта в штаб НРА сводки одна за другой сообщали: «Атаки противника отбиты с большими для него потерями. Приготовлений к новым атакам со стороны белых незаметно».
…В последнюю атаку командиры Земской рати не могли поднять солдат. Уфимские стрелки отказались идти под пули народоармейцев. Командир четвертой роты штабс-капитан Войтинский расстрелял двух солдат, которые пытались бежать в тыл. Через час он сам был убит выстрелом в затылок. В Ижевском полку потери достигли семидесяти пяти процентов личного состава. В отдельных ротах уцелели по десять — двенадцать человек, и идти в атаку было некому. Тридцать третий Омский полк, попятившийся назад, был встречен огнем пулеметчиков офицерского заградительного отряда и японцев и потерял убитыми и ранеными до трехсот нижних чинов и унтер-офицеров. Командир полка застрелился.
Красные разведчики сообщали изо всех сел, занимаемых белыми, что настроение у солдат подавленное, кое-где они митингуют. Допрашиваемые перебежчики показывали: «Кабы не японские войска в третьих эшелонах, какой бы дурак полез на рожон!..»
В штаб НРА прибывали посланцы из партизанских отрядов. Дядя Коля приказал им держать связь непосредственно со штабом, принимая отдельные поручения Реввоенсовета ДВР для содействия наступавшей Пятой армии.
Партизанских гонцов принимал командующий. Он внимательно присматривался к прибывавшим, щуря свои светлые глаза. Скупыми словами, не оставлявшими никаких сомнений или недоумений, он разъяснял задачу, которую надо было выполнить отряду в тылу у белых. Его неторопливая, большая, белая, с длинными сильными пальцами рука начинала скользить по карте, отмечая расположение, численность отрядов, их взаимодействие с соседями.
В один из таких моментов в комнату вошел Алеша Пужняк, посланный по заданию дяди Коли для личной связи отряда Топоркова со штабом.
Увидев тесный круг людей вокруг карты, лежавшей на столе, Алеша не посмел нарушить сосредоточенное молчание, сопутствующее важным делам и решениям. Впустивший его ординарец кивнул головой на командующего: вот, мол, сам — и вышел.
В это время командующий негромко сказал:
— Картина почти полная. Неясно только, на что мы можем рассчитывать в районе Раздольного. А именно там следовало бы кое-что предпринять. — Он обратился к кому-то из штабных: — Проверьте, нет ли кого-нибудь оттуда?
Алеша козырнул:
— Разрешите? Из отряда Топоркова связной Алексей Пужняк.
Начштаба выслушал его. Пальцем поманил к себе.
— В карте разбираетесь? Письменных предписаний не дам — возвращаться придется через фронт. Понимаете? Поэтому запомните хорошенько все, что вы должны передать командиру Топоркову…
Через час в сопровождении двух вооруженных конных Алеша на всем скаку пересек линию фронта. Передал коня ожидавшим его железнодорожникам, распростился с провожатыми и, забравшись в тендер паровоза, шедшего на юг, к утру достиг расположения соседнего с Топорковым партизанского отряда.
В четыре утра Пятая армия перешла в наступление. Артиллерия прямой наводкой расстреляла позиции белых. Зарницы взрывов обагрили рассвет. А вслед за артиллерийским обстрелом, превратившим в кромешный ад все поле предстоящей атаки, лавиной хлынули забайкальские кавалеристы на своих низких, мохнатых и свирепых нравом монгольских лошадках, которые зверели, слыша свист сабель и гиканье всадников. С конниками шли тачанки. Храпящие кони, пулеметное татаканье, ливень пуль… Передовые охранения и первые эшелоны Земской рати были смяты. Напрасно пытались белые офицеры остановить бегущих солдат. Из санитарных фур выбрасывали раненых. Ездовые резали постромки, чтобы скорее уйти от опасности. Артиллерийские расчеты бросали орудия. Пулеметчики забывали о пулеметах. Пехотинцы сбрасывали с себя всю выкладку. Вестовые бежали от своих подопечных офицеров. Офицеры на конях скрывались от своих солдат.
…В этом стремительном отступлении, уже через час превратившемся в беспорядочное бегство, все перемешалось — дивизии, полки, батальоны, роты. Самая возможность организованного сопротивления исчезла. Японцы в третьих эшелонах попятились…
Паника охватила войска белых.
Противостоять панике никто не мог. В это утро оказалось, что никто не хочет погибать за Дитерихса. Все — и генералы, и офицеры, и солдаты — думали не о выполнении бредовой идеи балтийского немчика, а лишь о спасении своей жизни.
Народно-революционная армия на всем протяжении прорвала фронт белых.
Расчищая ей путь, партизанские отряды блокировали вражеские гарнизоны.
Часть третья Идущие вперед
Глава 21 Село
1
Длинные золотые нити, поблескивая в лучах солнца, проносятся над селом. Бабье лето! Самое время ходить по ягоды, по орехи.
Но на сопках, в орешнике — посты, дозоры.
…Колодяжный устроился в развилине вяза. Снял с себя ватник, сложил вчетверо и уселся, поставив винтовку меж колен. Листва закрывала его со всех сторон. Не поворачивая головы, прищурившись, он оглядывал окрестность. Его глаза окружены сеткой мелких морщинок. От солнца и ветра кожа на лице и на руках стала коричневой, словно дубленой. Лишь в складках самых глубоких морщин, когда старик поднимает голову, виднеется белая, бледная кожа. Сдвинул Колодяжный на затылок старенькую ушанку с выцветшей красной лентой, седые волосы его засеребрились на свету. Ветер разметал их, спутал, вздыбил кверху чубом, и старик сразу стал бравым, словно ветер скинул с него много лет. Видно, в молодости был он заводилой, гулякой, первым парнем на деревне…
Ничто не нарушает тишины ясного утра. Лишь чуть слышно ветер шелестит ветвями вязов, сосен, берез, орешника. Тепло сморило старика, сами собой закрывались его глаза. Борясь с дремотой, он вынул кисет, бумагу, насыпал табаку и ловко скрутил цигарку. Зажег спичку и закурил. Щурясь от едкого крепкого дыма, осмотрелся.
Вьются над орешником стрекозы. Проплыла мимо нитка паутины. Зеленые кузнечики, прыгая, шевелят траву и надоедливо стрекочут. Красный муравей пробежал по ветке, вылез на листик, торопливо обшарил его, привстал, повертел головкой и прыгнул вниз.
Колодяжный вздохнул:
— Благодать-то какая!
Неясный шорох привлек его внимание. Он прислушался.
Кустарник справа зашевелился. Старик бросил цигарку, сбил на глаза ушанку, присел. Выждав, крикнул:
— Стой!
Движение в кустах прекратилось. Старик лязгнул затвором.
— Вылазь, а то стрелять буду!
Кусты раздвинулись. Из-за них выглянул мальчуган. Одет он был в полинявшую от стирки и солнца рубашку, застегнутую одной пуговицей на шее, и черные штанишки. Лицо мальчугана с коротким носом, покрытым веснушками, маленький треугольником рот, острые, что шило, глаза, белые, почти незаметные брови — все выразило изумление. Он не ожидал встретить здесь кого-либо. Озираясь, он повел по сторонам головой с оттопыренными ушами. Старик вышел из-за кустов, изобразив на лице строгость.
— Тебе чего здесь надо? Чего ты лазишь, где не след?!
Мальчуган испугался было, но, разглядев, что строгость старика напускная, улыбнулся.
— А я орехи собирал… Во, полный картуз! Хочешь? — и протянул Колодяжному картуз, доверху наполненный желтыми орешками. — А ты чего тут делаешь?
— Много знать будешь, скоро состаришься! — пошутил старик. Улыбка раздвинула его усы. Он кивнул головой, беря горсть орехов. — Здеся ходить нельзя, милый! Иди, сынок, домой… Ты чей будешь?
— А батькин… Мишка.
Старик подумал: «Басаргин, значит, столяров сынишка».
— Батьку-то Павлом звать?
Мальчуган утвердительно кивнул, занятый орехами.
Старик заметил строго:
— Ну, так вот, Михаил Павлыч, дуй до дому, быстро — одна нога здесь, другая там! — Он повернул мальчугана. Шершавой рукой провел по его голове и легонько подтолкнул. — Давай до дому, сынок!
Но в ту же секунду он прижал мальчика к земле и сам присел. Картуз с орехами упал на траву, орехи рассыпались. Мальчуган сдвинул брови и сердито сказал:
— Но… не баловай!
Старик пригрозил ему:
— Тише!
Из-за кустов вышел Кузнецов. Он нагнулся, пробежал опушку и опять нырнул в заросли. На солнце блеснул его люстриновый пиджак, в который он облачился после ухода белых. Часовой крикнул:
— Стой! Куда?
Кузнецов остановился, испуганно осмотрелся. Разглядев партизана, он сказал успокоительно:
— Свои, свои! — и вышел из кустов.
Вытянул из кармана носовой платок, снял очки. Партизан внимательно смотрел на его обрюзгшие, покрытые седоватой щетиной щеки, тонкие, бледные губы и мешки под глазами. Кузнецов протер очки, надел их и, смотря поверх, спросил партизана:
— Не признали, Егор Иванович?
— Признал, — отозвался старик. — Только ты пошто крадучись тут ходишь? Смотри, кругом посты, ненароком зашибут. Поздно будет отзываться-то! Знаешь сам, какое ноне время. Куды собрался? Ходу здесь нету.
Рыжеусый сунул платок в карман и заложил руки за спину.
— Крадучись, говоришь? А дело мое такое деликатное… Его без чужих глаз делать надо. Травку я разную собирал. Лечебную. Обладающую медикаментозными свойствами. Есть такие травки.
— Как не бывать, есть. Но ты, однако, ветинар?
— Ветеринар я по образованию. Так уж получилось. А склонность я имею к врачеванию людей. Вот травка то и годится. Видишь, она мала, сила же в ней большая содержится! — Ветеринар вынул из кармана какую-то травку. — Вот, например, валериана официналис альтронифоля, — сказал он важно. — При сердечных заболеваниях применяется.
Старик взглянул на него:
— А лекарствами не трафишь?
— Нет, я все больше травкой.
Старик понимающе качнул головой.
— Это верно… Иная травка большую, однако, силу имеет.
Кузнецов механическим движением выбросил травку, которую только что показывал, сунул руки в карманы.
— Ну, я пойду.
— Прощевай! Да, будь добренький, захвати с собой Басаргина мальчонку. Нашел время орехи собирать. Отведи домой.
Мишка поднял брошенную фельдшером травку, долго рассматривал ее, потом сунул в картуз с орехами. Услышав, что речь зашла о нем, он встрепенулся. Сияющее лицо его потускнело.
— А я тута буду! — сказал он, насупясь.
— «Тута!» — передразнил его старик. — Нельзя тута… Вот ветинар предоставит тебя к батьке. А ты батьке скажи, чтобы он тебе ухи нарвал: не лазь, куда не след…
— А вот и не скажу! — протянул Мишка.
— А я тогда сам скажу! — припугнул его старик.
— А вот и не скажешь! — совсем развеселился Мишка, поняв, что дед шутит.
Ветеринар тронул его за плечо.
— Пошли.
Они спустились по косогору к дороге. Фельдшер перестал обращать на мальчика внимание, занятый своими мыслями. Тонкие губы его сжались. Поверх очков он рассматривал окрестные сопочки. Ему стало жарко. Он снял свою помятую соломенную шляпу. Покатая, с залысинами голова его блестела от пота.
Мальчуган вспомнил об орехах. С орехами Мишка вытащил и травку, которую бросил ветеринар. Он пожевал ее — невкусно, пощипал невидный цветок ее. Решил: надо отдать рыжеусому, пусть лечит кого-нибудь. Фельдшер отошел уже далеко. Мишка пустился за ним вприпрыжку. Догнав, дернул за рукав:
— Дяденька!
Тот вздрогнул, обернулся и с досадой сказал:
— Чего тебе?
Мишка протянул ему валериану.
— На, возьми травку. Лечить будешь.
Фельдшер посмотрел на Мишку, взял травку и раздраженно бросил ее в придорожные кусты.
— Иди ты со своей травкой, знаешь куда…
Мишка простодушно сказал:
— Это не моя, а твоя!
Фельдшер нахмурился.
— А чего ты, собственно, ко мне привязался?
Он отвернулся и крупными шагами пошел в село. Мишка обиделся. Губы его сложились в плаксивую гримасу, глаза покраснели и наполнились слезами. Он хотел заплакать, но ветеринар ушел уже далеко.
2
Кузнецов огородами добрался до избушки, которую отвели ему. Из окон его избы видны были школа, превращенная в штаб отряда, площадь и проезжая дорога.
На площадь выходила и лавка Чувалкова.
Сам Чувалков сидел на табуретке у дверей лавки, в тени, выглядывая на улицу. В этот час покупателей не было. Чувалков сосал леденец и посматривал на штаб, не пропуская никого, кто входил или выходил оттуда. Не выходя из лавки, Чувалков видел весь конец. Он заметил и Кузнецова, когда тот переходил улицу.
Не раз, еще при белых, Кузнецову приводилось разговаривать с Чувалковым. Во хмелю фельдшер был словоохотлив, а Чувалков умел всегда вовремя подлить водки своему собеседнику и так занять его, что тот и не замечал, что сам Чувалков пил мало, а все больше угощал. Чувалков редко открыто высказывал свои мысли, часто облекая их, когда нельзя было умолчать о своем мнении, в евангельские изречения, очень удобные для того, чтобы вложить в них любое содержание. Так получилось, что за короткое время Чувалков узнал всю подноготную Кузнецова, а последний знал о Чувалкове только то, что считал возможным сказать о себе лавочник. Иногда, подвыпив, Кузнецов, обливаясь пьяными слезами, сетовал на то, какую несчастную, маленькую и подленькую жизнь он прожил: он терзался тем, что когда-нибудь ему придется держать за нее ответ. А то, что она была и маленькой, и мелкой, и подлой, он сам хорошо понимал.
Чувалков слушал молча, сочувственно кивал головой. Сочувствие распаляло фельдшера, он тянулся с пьяной улыбкой к Чувалкову и твердил:
— Всю душу свою выложил, исповедаюсь тебе, Николай Афанасьевич, какой я есть гнус и каин!
Чувалков не разуверял, не утешал, но, когда он начинал говорить о том, что волновало фельдшера, все облекалось в такие слова, что вдруг вся жизнь Кузнецова приобретала какую-то значимость и оказывалась направляемой божьей рукой и волею и сам он превращался в «орудие господа», и это возвышало его в собственных глазах. Его тянуло к Чувалкову, хотя лавочник ничем не выказывал своего расположения к фельдшеру, кроме угощения, в котором он, впрочем, не отказывал никому из односельчан.
Фельдшер заметил раскрытую дверь лавки Чувалкова, подумал-подумал и побрел к ней.
— Здорово! — сказал он хозяину.
— Христос с тобой, — отозвался Чувалков и пододвинул гостю вторую табуретку.
Они стали смотреть на улицу, на штаб, живший своей жизнью.
— Ворочаются! — сказал Чувалков.
— А чего им не ворочаться! — ответил Кузнецов. — Видно, скоро и во Владивостоке хозяиновать будут. Нашито, слышно, отступают. Конец, видно, выходит.
Прищурившись, Чувалков посмотрел на фельдшера и погладил свою бороду обеими руками.
— Кому конец, а кому начало! — сказал он загадочно.
Кузнецов хмуро глянул на хозяина. У того глаза светились какой-то затаенной мыслью. Кузнецов кивнул на штаб:
— Этим, что ли, начало? Мало радости, Николай Афанасьевич!
— И этим… и другим! — опять тем же тоном сказал Чувалков.
— Что-то загадки вы загадываете!
— Господь не даст воцариться Ваалу! — сказал Чувалков.
Кузнецов досадливо махнул рукой.
— Господь! — хмыкнул он с непередаваемым выражением. — Далеконько ему до нас, грешных… Шатается земля под ногами, и свет в глазах темнеет. Что будет? Куда податься? За кого держаться?.. — Он посмотрел на Чувалкова.
— А друг за друга! — живенько вставил Чувалков. — Друг за друга, а господь — всем нам опора! Вот ты ко мне ходишь, я с некими людьми беседы веду, у тех свои братья по духу! По единому камню крепости воздвигаются. Вот и надо воздвигнуть крепость в стане Вааловом… Возносится дерево к небу, шумит листами-то, а корни его червь гложет. Мал червь, а дерево точит, и падает оно! Велика сила у червя господня, не слышна уху работа его, а и в нем воля господа живет. Вот и мы черви господни!..
— Мудрено! — уставился Кузнецов в пол. — Черви, черви! — сказал он, помолчав, и дальнейшие слова его показали, что ничего мудреного для него не было в словах Чувалкова. — Человек червя-то вот как! — Кузнецов показал, будто растирает что-то на полу ногой. — И все, нет червя!.. — Он даже скрипнул зубами от охватившей его неожиданной дрожи страха и ненависти. Вот у тебя землю отняли? Отняли! Что ты сделал? Молитовки твердишь! А спасут тебя молитвы, когда у тебя лавку отберут?.. И отберут, у них это один момент!.. Вот тебе и крепость! Тьфу! Слушать тошно, Николай Афанасьевич.
— Землю отобрали, а душу не отберут! — сказал Чувалков спокойно. — Была бы душа, а господь надоумит.
Кузнецов зло посмотрел на Чувалкова. Пораженный и сбитый с толку спокойствием собеседника, он сказал:
— Да ты знаешь что-нибудь, что ли, Николай Афанасьевич? Не томи.
— Верую! — сказал Чувалков.
Кузнецов отвернулся, махнув рукой, — его совершенно не затронуло слово, сказанное Чувалковым.
Увидев это, Чувалков тихо проговорил:
— Коли лодка перевернулась, дурак тот, кто идет ко дну. Влезь на лодку, осмотрись, примерься, да и обратно ее ворочай, чтобы опять сесть. Не понимаешь? А еще фершал!..
Он наклонился к Кузнецову и вполголоса заговорил:
— Вот ты говоришь, скоро «они» хозяиновать во Владивостоке будут. Пущай!.. Сколь годов воевали, теперь, кроме этого, ничего не знают. Солдат понаделали. А разве солдат работник? Землю разорили, хозяйство развеяли. Теперя победят — что увидят? Жрать нечего. Заводов нет. Машин нет. Ни-ча-во нету! И денег нету… Все чисто пустыня аравийская. Понял? И вся Расея такая. Теперя за голову возьмутся, зубами пощелкают, пощелкают, да на поклон к загранице пойдут — взаймы просить, машин, да инженеров, за припасу всякого. Понял? А те, думаешь, что?
— Ну, откажут! — кивнул головой Кузнецов. — Значит, нам крышка.
— Не откажут! — сказал Чувалков. — Охотой дадут, чего хочешь. Но для порядку своих пришлют. Деньги дадут, да из своих рук не выпустят. Понял? А у кого деньги, тот и хозяин. Вот и начнут полегоньку лодку-то переворачивать, пока опять не станет на воду как след… Силой-то с большаками сладу нету. Понял? А тута против денег-то что они сробят? Ничего! Все кричат «буржуй» да «буржуй», — а буржуя господь хозяиновать учил не одну сотню лет. Дай малому ребенку соху в управу — он те напахает куды почто! Понял? А коли большой его за руку поведет, тут и малый с сохой управится. Только соха-то пойдет туды, куды большому надо! — И Чувалков рассмеялся тихим, клокочущим смехом, ударив Кузнецова по плечу. — Понял?
Кузнецов усомнился.
— Сидишь тут в лавке, выдумываешь! — сказал он. — Чтобы кто-нибудь большевикам помог… вряд ли!
Чувалков вдруг сказал шепотом:
— Не я, большие головы придумывали. Некий человек мне открыл… Увидал, что я душою поослаб, руку помощи протянул, утешил, свет открыл. Не ведаем ни дня и часа, когда посетит нас господь своей милостью, сказано в Библии. Недолго царство врага рода человеческого продлится, еще не исполнился торжества своего, а мера его уже измерена и дни его сочтены. Велел ждать, готовыми быть, точить древо-то, ныне растущее!
— Кто велел-то? — тоже шепотом спросил Кузнецов, оглядываясь по сторонам.
— Некий человек нездешний, издалека, — уклончиво сказал Чувалков.
— Русский?
— Перед богом все равны! — уклонился от ответа Чувалков.
Кузнецов понимающе кивнул головой.
— Ну, пора идти! — сказал он.
— Пока! — ответил Чувалков и добавил: — Ты ко мне часто-то не заходи. Коли что надо будет, я тебя сам найду. Богово дело втайне делать надо. Пусть правая рука не знает, что творит левая, сказано. Понял?
Кузнецов хотел сказать, что ни о каком боговом деле ничего не знает, но Чувалков проводил его и закрыл дверь.
3
Придя домой, Кузнецов захлопнул дверь и навесил крючок.
В раздумье он стал ходить большими шагами по комнате, непрестанно поглаживая свои рыжеватые усы. Чем больше он ходил, тем сильнее волновался, вспоминая беседу у Чувалкова. Зря говорить Чувалков не стал бы.
…Стало смеркаться. Кузнецов, как был в сапогах, лег на кровать. Немигающим взглядом следил он за стрелкой часов-ходиков, однообразно тикавших в тишине над этажеркой с книгами, покрытыми пылью, пакетами, бумажками и коробками вперемежку с заржавленными ветеринарными инструментами.
В дверь постучали.
— Эй, Кузнецов! Дома? Спишь, что ли?..
Подавив вздох, Кузнецов намеренно громко зевнул, встал с кровати и, шаркая ногами, подошел к двери. Он долго шарил по ней руками, словно не находя крючка, и бормотал вполголоса:
— Сейчас, сейчас… Эка… Сейчас… Одну минутку…
Пришедший сказал:
— Засвети-ка огонь! Дело есть.
Кузнецов зажег лампу. Ее свет озарил позднего гостя.
— Вот что, Иван Петрович, — заговорил Топорков. — Как с теми лошадьми, которые у тебя на излечении находятся?
— А что им сделается, лечатся, — ответил фельдшер.
— А ну, пойдем посмотрим, которых можно забрать… У нас сейчас каждая лошадь на счету.
Фельдшер с готовностью надел шляпу и пошел вперед.
— Выступаете? — спросил он. — Далеко?
— Нет, недалеко…
В карантине, где стояли партизанские кони, было душно и темно. Тишину нарушало лишь тяжелое сопение больных лошадей да хруст травы, которую они жевали.
Командир заметил:
— Чего же ты без света коней держишь? Покалечатся в темноте.
— Никак не покалечатся. Научно доказано, что темнота действует на животных успокаивающе, — сказал Кузнецов.
Он чиркнул спичкой, зажег лампу. Кони повернули головы на свет. Командир по-хозяйски потрепал одного по шее.
У нескольких лошадей на холках зияли раны. Нечего было и думать о том, чтобы их использовать. Командир досадливо поморщился.
— Чего-то долго не заживает у них. Чем ты их лечишь?
— Слезами лечу-с… — неожиданно зло проговорил Кузнецов. — Йоду нет. Марганца нет. Аргентум нет… Поверьте, сердце кровью обливается, а лечить нечем. Вот слезами и лечу. Только карболка еще есть… Выйдет — не знаю, что дальше делать буду…
Осмотр продолжался. У одного коня на ноге вздулся огромный нарыв. Левая задняя нога распухла. Кожа на ней растянулась и потрескалась. Сухой жар палил ногу. Когда люди стали ее рассматривать, конь запрядал ушами, начал часто вздрагивать, прижался в угол стойла и косился оттуда налитыми кровью глазами. Топорков резко сказал:
— Чего же ты не разрежешь нарыв?
Фельдшер широко развел руками.
— Наука не рекомендует производить вскрытие абсцесса прежде его полного созревания.
Командир посмотрел на него.
— Наука, наука!.. Созреет, так его и резать незачем, сам прорвется. А я бы, знаешь, с мужицкой практикой, без науки, три дня тому назад выпустил бы ему гной из нарыва, а сегодня он мог бы в строй пойти! — сказал он.
Остальные лошади были здоровы, но раскованы. Командир задумался. Потом осмотрел копыта, привычной рукой поднимая к свету ноги лошадей.
— Что с этими?
— А усталость роговой оболочки была-с… Трещины на копытах… Я распорядился расковать их.
— Не вижу никаких трещин. По-моему, они годны в строй. Нам сейчас каждая лошадь дорога… Пришлю коваля, пусть заберет их и подкует… А впрочем, для ускорения… — Командир отвязал раскованных лошадей, взял под уздцы четырех и отправился к кузнецу.
Через двадцать минут у станка закопошился старик Жилин. Коней одного за другим вводили в станок. Кони брыкались, но коваль ловко привязывал их к колену станка, и они утихали. Командир помогал ему. Коваль покрикивал:
— Н-но!.. Стоять! Тихо!..
Лошади всхрапывали, косились на веселого коваля, а он похлопывал их по крупу и по животу горячей ладонью, загонял шипы, подколачивал их, счищал терпугом заусеницы, подмигивал командиру.
— Эка бог помощничка послал… Ты, однако, знаткой человек. Поступай ко мне подмастерьем, а? Не хочешь? Твое дело… Ты чего раньше-то делал? Коваликом был?
— Нет, коваликом не приходилось быть. Я шахтер, сучанский.
— А пошто ты здесь-то оказался?
— Значит, так надо! А к коням-то в походах, в сопках привык… Наука нехитрая.
Подошли партизаны и увели коней. Командир сказал Кузнецову, который молча наблюдал за ковкой и не принимал участия в разговоре:
— Ну, пока!
Топорков пошел к штабу. Село уже погрузилось в темноту, но на улицах его было заметно движение. Квартировавшие у крестьян партизаны выводили коней, седлали их и в поводу вели к школе.
Вся площадь перед штабом заполнилась конными. В сумраке слышалось звяканье уздечек, стремян, фырканье лошадей, тихие окрики всадников. Кони волновались, обнюхивали друг друга, часто двигали ушами, лягались.
Прищурившись, Топорков вглядывался в темноту. Подозвал к себе Виталия.
— Пойдем, Виталя, пора, — сказал командир.
Он взошел на высокое крыльцо школы. Бонивур последовал за ним.
— Товарищи! — произнес Топорков, и площадь затихла. — Мы выступаем на Ивановку. Первый раз мы будем действовать не в одиночку, а в составе сводной части партизан Никольского района. Командование доверило нам задачу прорвать фланг белых. Мы должны эту задачу выполнить. Ясно, товарищи?
— Ясно! — раздалось несколько голосов из толпы. — Насыплем белякам доверху…
Топорков отступил в сторонку, уступая место Виталию.
— Ну, скажи несколько слов! — тихо произнес он.
Виталий глубоко вздохнул. Он оглядел площадь. В полумраке неясно виднелись люди. Они стояли не шелохнувшись. Виталий угадывал в этой неподвижности волнение партизан, которое ощущал и сам он и Топорков, волнение от сознания того, что решающие дни наступили, что начинается то главное, из-за чего люди бросили дома, жен, детей.
Звонким голосом, от которого будто посветлело на площади, Виталий сказал:
— Товарищи партизаны! Пришел наш час! Теперь мы за все рассчитаемся с японцами и белогвардейцами. За Лазо, за пытки, за муки, за слезы, за голод, за бесправие, за унижение, за Ивановку и Тамбовку, за Николаевск и Даурию, за Онон и Зею, за кровь и пот наши во имя будущего! И за наших отцов и братьев! За все!.. Последние версты нашей земли, последние окраины нашей Республики освобождаем мы от капиталистических гадов. Помните об этом, товарищи! И помните о том, что в этот час Ленин из Москвы глядит на приморских партизан! Настало время, товарищи, для последнего расчета с белыми; никто больше не поможет им — ни японцы, ни американцы! Может быть, первыми принесем мы во Владивосток наше красное знамя. Может, многих недосчитаемся в конце этого пути. Товарищи! Сергей Лазо говорил: «Как для обильного урожая требуется влага, так для победы пролетарской революции требуется кровь революционеров. И мы всегда готовы пролить эту кровь!» Не о себе, а о будущем нашем будем думать, идя в бой, — и мы победим! Кто живет для народа, тот живет вечно! Да здравствует товарищ Ленин и партия большевиков!
Топорков скомандовал:
— По коням! Левым плечом марш-ма-а-арш!
Улицы загудели от дробного топота. Тоненько задребезжали стекла в окнах крестьянских домов. Ряд за рядом покидали партизаны село. Головные скоро слились с ночной тьмой. Колонна медленно вытягивалась на шлях и исчезала из виду. Время от времени доносилось цоканье копыт по придорожным камням да звяканье снаряжения. Потом все стихло.
Алеша подвел Топоркову коня. Командир сошел с крыльца и сказал Бонивуру:
— Жалко, что ты остаешься! Вместе бы способнее. Привык я к тебе!
— Ну, ты знаешь, что не своей охотой остаюсь, Афанасий Иванович! сказал Виталий.
— Об этом довольно! — сказал командир. — Дядя Коля знает, что делает. У тебя задание, сам понимаешь, какой важности. Ну, пока! Связным будет Пужняк. — Он дружески обнял юношу, поцеловался с ним трижды и сказал: — Может, не увидимся!.. Ну, давай руку. Боевой распорядок помнишь? Куда раненых… куда штабное имущество…
— Помню…
— Ну, всего… Да, кстати, поглядывай за фельдшером. Черт его знает, не понравился он мне сегодня. Больно глаза нехорошие, все куда-то в сторону зыркает.
— Ты за Пужняком гляди! — заметил Виталий. — Чтобы не лез, куда не след. Ему сегодня будет работа.
— Не маленький, чего учить! — отозвался Алеша.
— Ну, ладно! Давай, Алеха!
Командир одним движением вскочил в седло. Пужняк тоже сел на коня, и партизаны поскакали вслед за колонной, подняв облако пыли.
…Вьется по дороге пыль, поднятая копытами коней. Свист ветра в ушах, да толчки крови в сердце, да цокот копыт по убитой дороге, да звяканье уздечек. Нахлестывают партизаны коней…
Скачут звезды, в вышине мерцая. Придорожные кусты безмолвными тенями возникают впереди и уносятся прочь, исчезая во тьме…
4
Партизанские отряды уничтожали телеграфную и телефонную связь. Валили столбы, зацепив железной «кошкой» за изоляторы и подпилив основание. Рвали их динамитными шашками. Накидывали металлические крючки на провода.
Ни одно донесение о движении партизан не достигало Владивостока. Грозными признаками того, что случилось в тылу Дитерихса, явились эти перерывы связи, непонятные, неожиданные, точно вдоль всей трассы бушевала гроза.
Беспомощно стояли диспетчеры у селекторов, бессильные понять происходящее. Офицеры связи крутили лихорадочно ручки полевых телефонов, тщетно пытаясь вызвать соседей.
Первой отказала Евгеньевка. Она вышла из линии посредине разговора наштаверха с комендантом Спасска-Дальнего. Наштаверха интересовало: что предпринимает начальник спасского гарнизона против возможного сосредоточения партизанских сил вблизи города? Комендант сказал, что он не думает, что…
Сквозь треск электрических разрядов наштаверху почудилось, что кто-то сказал, врываясь в разговор: «Ну и не думай, кобыла долгая!»
— Что? Что такое? — переспросил наштаверх.
Ответом ему был неясный шорох и затем полное молчание.
Наштаверх подул в трубку. Трубка безмолвствовала. Полковник передал ее помощнику, прося немедленно дозвониться до Спасска. Через минуту со станции доложили:
— Связи со Спасском нет!
Четыре часа молчал Спасск. Потом связь возобновилась на час, чтобы прерваться опять на полдня.
Из Никольска не могли дозвониться до Голенков. Потом исчезла связь Гродекова с Хорватовом. Затем точно в преисподнюю провалилось Раздольное. Едва была восстановлена связь с Раздольным, кто-то выключил надолго Уссури, потом Свиягино…
Наштаверх поручил все телефонные переговоры своему помощнику. Но по мере докладов о перерывах связи, которые следовали один за другим, наштаверх все более хмурился. Ставя значки на карте, он угрюмо соображал: это не случайность, не следствие атмосферных явлений. Он доложил Дитерихсу, что большевики стягивают свои силы к железнодорожным узлам, видимо готовя удар.
Дитерихс прищурился, постучал мертвенно-белыми костяшками пальцев по зеленому сукну стола.
— Паника! Кто это сообщает? Подвергните от моего имени домашнему аресту на неделю, чтобы не выдумывал!..
Наштаверх сказал, что это его личное мнение. Дитерихс не отозвался. Не скрывая иронии, наштаверх спросил:
— Прикажете идти под арест?
— Не надо! — сухо ответил Дитерихс.
Только сейчас он обратил внимание на карту, испещренную пометками наштаверха. Какая-то тень прошла по его лицу. Смешанное выражение испуга, ярости и неприязни к наштаверху промелькнуло во взоре Дитерихса. Он выпрямился.
— Я всегда говорил, что лучшая связь — фельдегерская!
Наштаверх хотел сказать, что дело теперь уже не в качестве связи, но устало понурился и смолчал.
5
В этот день Дитерихс отправился на Пушкинскую улицу, к командующему японскими экспедиционными силами.
Отсалютовав винтовками, часовые у ворот снова застыли. Дубовая, с большими медными кнопками дверь, ведущая в вестибюль, распахнулась перед воеводой. Любезный офицер в чине капитана провел Дитерихса в бельэтаж, попросил сесть, предложив полюбоваться лакированными японскими альбомами, огромные крышки которых вызвали у Дитерихса неприятное сравнение с надгробными плитами.
Дитерихс сказал:
— Доложите его высокопревосходительству, что я по срочному делу, не терпящему отлагательства!
Офицер с поклоном исчез. Дитерихс долго сидел в низком кресле, напротив которого висел портрет императора Иосихито.
Азиатски-непроницаемое лицо императора не выражало ничего. Миндалевидные глаза его, погашенные прищуренными толстыми веками, казались сделанными из тусклого темного камня. Изящные, с тонкими, видимо, очень подвижными пальцами, руки его были картинно откинуты в стороны.
Неслышно вошедший слуга поставил перед воеводой вино, чай, сигары. Один бокал, одну чашку…
— А генерал? — резко спросил Дитерихс и, насупившись, посмотрел на слугу.
Подобострастно склонившись перед генералом, слуга ответил:
— Я… росскэ вакаримасен!
И исчез столь незаметно, что Дитерихс не мог ничего больше сказать. Ни к вину, ни к чаю он не притронулся. Томительно долго ждал. У него не было часов. Но в соседней комнате тикали настенные. Каждые четверть часа там названивал тоненький, какой-то трепетный колокольчик.
Текли минуты. Непроницаемым взором глядел на генерала император. Мертвая тишина царила в доме. Любезный офицер не появлялся. Казалось, резиденция вымерла. Лишь чуть заметно колыхалась одна из портьер, скрывавших вход в соседнюю комнату. Дитерихс боялся сквозняков и недовольно оглянулся на окна: не открыты ли? Однако все окна были плотно закрыты, несмотря на жаркий день.
Через час бесплодного ожидания Дитерихсу ненавистно стало лицезрение портрета императора-бога, за бесстрастностью которого Дитерихс увидел презрение к людям, жестокость и недоступность человеческим чувствам. Комната по-прежнему была пуста. Кровь бросилась в голову Дитерихсу. Он буркнул:
— Черт знает что такое!
Резко встал и направился к колыхающейся драпировке, чтобы позвать кого-нибудь. Тотчас же из-за нее появился любезный офицер. Видимо, он очень спешил навстречу генералу, так как даже несколько запыхался.
— Господин генерал уже уходит?
— Но, позвольте, я уже час жду его высокопревосходительство, — вспылил Дитерихс. — Могу я узнать, что произошло?
Склонившись в низком поклоне, офицер ответил тоном величайшего сожаления:
— Господин генерал болен! Очень, очень болен! О, совершенно болен! Превосходно болен! Он очень сожалеет, что лишился высокого удовольствия видеть вас, господин генерал… Он поручил мне быть вашим собеседником, чтобы вы не соскучились. Вместо хозяина. А?
Дитерихс озадаченно посмотрел на любезного офицера.
— Позвольте, милейший, отчего же вы не сказали этого сразу?
Любезный офицер замигал. Он напряженно сморщился, точно Дитерихс задал ему вопрос необычайной трудности. Затем вежливо сказал, извиняясь за свою непонятливость:
— Не понимаю… Я очень плохо говорю по-росскэ.
Дитерихс, громко стуча каблуками, направился к выходу.
— Передайте его высокопревосходительству, что я желаю ему быстро поправиться!
Любезный офицер втянул через зубы воздух.
— Благодарю, господин генерал! Мозет быть, он скоро выздоро-вит! Мозет быть…
Дубовая дверь точно сама распахнулась перед Дитерихсом.
Часовые у ворот отсалютовали воеводе.
Дитерихс не смотрел на них.
Глава 22 Иуда
1
Кузнецов пробыл на площади, пока последний конный не исчез из виду. Держался он в стороне. Стоял, машинально теребя свой галстук-помпон.
Мимо него, обдав теплой пылью, проскакал Топорков с Алешей Пужняком. Фельдшер закашлялся надсадисто, со всхлипыванием. Потом пошел к штабу.
Бонивур сидел на крыльце, охватив колени руками. Фельдшер, кряхтя, сел рядом. Помолчал. Потом, всматриваясь в лицо комсомольца, сказал:
— Ну вот и поехали наши себе славы добывать.
— Не за славой гоняются, — отозвался Бонивур.
— А что найдут? — спросил фельдшер с глубоким вздохом. — Охо-хо… Жизнь наша!
Юноша не ответил ничего. Фельдшер опять спросил:
— А вы чего не поехали?
— Так надо.
— Дело, значит, есть?
— Может быть, — сказал Виталий. — И вам дело найдется. Придете завтра за лазаретом последить. Ни один бой без раненых не обходится. Так что я прошу вас завтра никуда без моего разрешения не отлучаться.
— Ну, куда мне деваться? — зевнул Кузнецов. — Ох-хо-хо! Жизнь наша! Он посидел молча, поскреб щетину на щеках, поднялся. — Ну, доброй ночи, приятных снов!
Волоча ноги, Кузнецов поплелся домой. Виталий ушел в штаб.
Стояла густая темь. В двух шагах ничего не было видно. Влажное марево от нагретой за день земли, поднявшись в высоту, плотным покрывалом окутало всю окрестность. Через этот покров не видно было и звезд. То и дело запинаясь о какие-то бугорки и камни, которых днем он не замечал, Кузнецов добрался до своей избушки. Он стал нашаривать дверную ручку и вдруг с испугом отскочил, почувствовав, что рука его ткнулась во что-то живое.
— Ой, кто это? — невольно вскрикнул он.
— Повылазило? — отозвался ему кто-то шепотом. — Не видишь, что ли, сижу, тебя дожидаюсь.
— Кто это? Не вижу, — всматривался Кузнецов.
— Не ори! — так же тихо сказал ожидавший. — Не во благовремении рот-то разинул.
— Николай Афанасьич! — сообразил Кузнецов. — Заходи, гостем будешь.
Вместо ответа Чувалков потянул Кузнецова за полу и хлопнул по крылечку ладонью.
— Садись!
— Недоумевая, что потребовалось Чувалкову от него в такое позднее время, фельдшер сел и потянулся в карман за куревом. Чувалков недовольно сказал:
— Палить хочешь? Подожди!
И Кузнецов так и не вынул портсигара из кармана.
То, что Чувалков сам пришел к Кузнецову, было необычно, и Кузнецов тоже шепотом спросил встревоженно:
— Что случилось, Николай Афанасьич?
— Дело есть! — коротко отозвался Чувалков. — Вот что я тебе скажу, а ты слушай. Времени у нас мало. Надо все сделать быстро, так, чтобы товарищи ничего и не почуяли, — одна нога здесь, другая там!
— Да что делать-то? — глухо спросил Кузнецов. — Я тебе как будто ничего не должен, ничего не обещал.
— А наплевать мне на твои обещанки! — сухо сказал лавочник. — Что скажу, то и сделаешь! К утру тебе надо быть в Раздольном. Понял?
— Да как же это так? Что мне там делать? Там белые… — начал было недоуменно Кузнецов, чувствуя что-то крайне неприятное для себя в предстоящем разговоре, а еще более в том тоне, каким начал разговор Чувалков, — сухо, коротко и понятно…
Да, не зря пришел Чувалков к Кузнецову. От того, что услышал фельдшер, у него по спине поползли мурашки. Он отстранился от Чувалкова и сказал решительно:
— Ну нет, Николай Афанасьич, я на это не согласен… Пусть уж кто-нибудь другой, а я… Не пойду я!
— Пойдешь! — сказал Чувалков.
— Не пойду я!
Чувалков помолчал и сказал спокойно:
— А чего тебе тут оставаться? Все равно, коли дознаются, пулю в лоб получишь не сегодня-завтра. А уж дознаются — будь уверен… Эти с-под земли, все выкопают. От них не уйдешь…
— Чего дознаются? Ты меня не стращай, Николай Афанасьич… Чего там дознаваться? Кто чего знает? Только ты.
Чувалков тихонько засмеялся, и смех этот показал Кузнецову, что до сих пор он не знал Чувалкова, хотя и часто видался и говорил с ним.
— А может, я и скажу? А?.. Коли ты мне впоперек пойдешь. Понял?
Кузнецов задохнулся.
— Да как же это ты? — едва вымолвил он.
— Да, коли узнают, не помилуют! — продолжал Чувалков тем же тоном. Это ты мне свой, коли большевика уничтожил. А у них разговор короткий: к стенке поставят и не почешутся. Да, так-то!.. Коли к утру обернешься, товарищам и невдомек будет! — Он встал. — Ну, прошивай пока!
Кузнецов молчал, сипло дыша.
— Да не вздумай и нашим и вашим! — предупредил лавочник. — Коли не товарищи, так я тебя достану или кто другой… Так что поворачивайся, пока не вызвездило!
Он исчез в темноте, словно растворился в ней. Ошеломленный Кузнецов даже не услышал его шагов и лишь тогда сообразил, что Чувалков ушел, когда на его осторожный оклик: «Николай Афанасьич!» — никто не ответил.
Войдя в избушку, фельдшер не зажег света… Вспомнив про табак, принялся жадно курить, затягиваясь до того, что у него запершило в носу и в груди. Прислонясь к косяку окна, он долго, пока не затекли ноги, объятый смятением и страхом, глядел в темный, глухой четырехугольник окна. Угроза Чувалкова была не напрасной — лавочник никогда не тратил слов зря: он мог донести и сам остаться в стороне… Фельдшер с бешенством ударил кулаком по подоконнику так, что заныла рука: «Надо же было перед всякой бородой открываться! Дурак безмозглый! Кайся теперь… А этот ангел господень, гад ползучий, как он обошел меня! Ах ты!..» Кузнецов застонал от ярости: «Напрасно я его не придавил — кто бы потом дознался? Ему со мною не совладать, хлипкий… Ну, дай только вернуться! — погрозился Кузнецов. — Уж я на тебя наведу!» И только тут спохватился, что даже тогда, когда Чувалкова уже не было с ним, он думал о необходимости выполнить приказание лавочника, а расчеты с ним он откладывал на будущее. «Господи, помоги!» — взмолился Кузнецов и вышел крадучись из избушки.
Ничто не тревожило спавшего села. Душная ночь нависла над ним. На небе проглядывали звезды, мелькая красным и голубым огнем. Вокруг стояла тишина, и каждый шаг отдавался в ушах. Кузнецов, боясь дышать, пошел к выгону. Вздохнул он свободно, когда перемахнул через перелаз. Сердце Кузнецова отчаянно билось. Согнувшись, он перебежал расстояние, отделявшее плетень от орешника. Отдышался. Взял левее и пошел к болотистому лугу, от которого тянуло сыростью. Но на открытой местности его могли увидеть дозоры, и он пополз. Брюки на коленях промокли. Руки почернели от грязи и слизи. Полы пиджака обвисли. Так он прополз до половины луга. Огляделся. Брезгливо вытер платком мокрые руки. И, уже не думая о дозорах, пошел дальше, все ускоряя шаг. Потом пустился бегом, припадая на правую ногу.
Временами он останавливался и переводил дыхание. В глазах у него плавали красные круги. Шляпу он уронил в кустарниках, через которые пробирался.
…Он потерял ощущение действительности, бежал, как во сне, не видя дороги, а она подбрасывала ему под ноги все новые и новые версты, то ровные, то ухабистые. Он падал, поднимался и бежал дальше. Страх овладел им. Кузнецов понимал, что это глупо, что бояться ему некого, что белые уже недалеко, но страх гнал его вперед.
Одна за другой гасли звезды. Небо потемнело. Совсем маленький клочок дороги видел Кузнецов впереди. Дорога словно пряталась от него в кустарники. Холодный ветерок обогнал Кузнецова, прошумел листьями, плюнул ему в лицо росистой, травяной сыростью. Ночь еще плотнее укрыла землю своим покровом. Потом словно кто-то в вышине осторожно приподнял этот темный покров — чуть забрезжило. По-прежнему в глубокий мрак были погружены и кустарник, и степь, и дорога, а на востоке черной линией ясно обозначилась гряда сопок. Стало светать…
Фельдшер щурил ввалившиеся и обметанные синими кругами глаза. За ночь на его лице прибавилось морщин, щеки запали, щетина выбилась наружу через помятую, точно захватанную кожу.
Вдруг сбоку хлестнул выстрел. Пуля пролетела мимо ветеринара, словно кто-то насмешливо свистнул. Кузнецов не сразу сообразил, что это такое. Второй выстрел он расслышал явственно. Он бросился ничком на землю, лицом прямо в пыль. Он сжался в комок, боясь вздохнуть, чтобы не выдать свое присутствие. Он не шелохнулся, когда услыхал шаги приближающихся к нему людей.
Кто-то ткнул его в бок тяжелым, подкованным сапогом и сказал грубо:
— Эй ты, хватит носом землю рыть! Подымайсь! Кому говорю?!
2
Фельдшер открыл глаза и увидел приклады винтовок, упершихся в землю, запыленные армейские сапоги, на которые были приспущены шаровары с желтым лампасом. Кузнецов поднял голову. Перед ним стояли два казака. Первый, постарше, с каленым лицом, упрятанным в пушистую с сединой бороду, мохнатыми бровями и широкими скулами, глядел немного прищурившись. Лицо его было беззлобно, даже что-то детское чудилось в его вздернутом носе и голубых глазах, которыми он равнодушно рассматривал лежащего. Синяя рубаха, перехваченная в поясе узким сыромятным ремешком, широкими складками спускалась почти до колен. Немного поодаль стоял второй. Помоложе первого, сухощавый, он походил на цыгана смолевым цветом иссиня-черных вьющихся волос, смуглым лицом, агатовыми глазами и статным телом, которому было тесно в потрепанном мундире, застегнутом на все пуговицы. Опущенный ремень фуражки туго перехватывал подбородок, подчеркивал овал лица и придавал казаку выражение особенной собранности и удальства.
Кузнецов вскочил и забормотал, глотая от волнения и радости слова. Он торопился и захлебывался, боясь, что его могут принять за красного. Он обернулся к тому, что был постарше, и поминутно кланялся, прижимая грязные руки к пиджаку.
— Я не красный-с… Никак нет! Я приверженность к законному правительству имею… И царствующему дому свою преданность доказывал… В русско-японскую был на фронте и ранение имел-с.
Он торопливо высморкался и, зная, что теперь его уже не убьют, попытался пошутить:
— Вы меня за красного посчитали, а я не красный! — По привычке, приобретенной за время пребывания у партизан, он повторил: — А я не красный, товарищи.
Тут он похолодел от своей обмолвки, поперхнулся, дикими глазами посмотрел на белых, криво улыбнулся и перевел испуганный взор с одного лица на другое.
Старший медленно поднял винтовку и прикладом ударил Кузнецова в грудь.
— Товарищ нашелся.
От боли Кузнецов чуть не лишился сознания. Но все же понял, что это может стоить ему жизни, и превозмог боль; бросился на колени, умоляюще сложил руки, не то отдаваясь на милость, не то стараясь защититься от второго удара, и закричал отчаянно, с визгом:
— Не бейте, не бейте меня, миленький!.. Ваше благородие! Я перебежчик… Я к вашему командиру — сообщить о партизанах. Я их выследил. Их можно захватить!
Урядник опустил винтовку.
— А ну, руки вверх!
Кузнецов послушно выполнил приказание.
Его обыскали. Урядник просмотрел документы, найденные в кармане пиджака, и сунул их обратно. Из брюк извлек портсигар фельдшера. Раскрыл, понюхал папиросы, повертел портсигар в руках и, сообразив, что вещь серебряная, сунул в карман. Фельдшер перестал бормотать. Урядник глянул на него:
— Чего зенки лупишь? За вас, сволочей, кровь проливаешь, с голоду дохнешь, а за всю жизнь такого кисета не заробишь! Ты за донос-то сколько денег отхватишь? Промысел прибыльной…
Кузнецов притих; ноги у него подгибались, поднятые руки тряслись. Казак, заметив его состояние, обидно равнодушно сказал:
— Гнида. Сегодня красных продаешь, завтра — нас… — Потом он обернулся к молодому, который молча смотрел на эту сцену: — Отведи-ка, Цыган, до ротмистра. Может, в верно с делом пришел. Пущай доложут. Сдавать будешь отрапортуй, что, мол, дозор урядника Картавого задержал.
Молодой неохотно козырнул и кивнул головой на дорогу. Кузнецов понял, что ему приказывают идти вперед. Он пошел мелкими шажками, вздымая облачка пыли косолапыми ногами. Казак взял винтовку «на ремень» и переложил в правую руку нагайку. Мерными ударами сбивая подорожники и репьи, он двинулся вслед. На фельдшера он не смотрел. У того уже отлегло от сердца; он повеселел и стал рассказывать про свое бегство. Говорил о том, как ловко он выбрал для этого момент и как удобно сейчас сделать налет.
— Все в походе! — говорил он скороговоркой. — В селе, господин кавалер, только больные да раненые, касса и документы, имущество и несколько человек штабных. В селе засаду устроить, остальных встретить, чтобы ни один не ушел. Все они коммунисты да комсомольцы. Не жалко!.. А раненым да больным все одно помирать…
Перебежчик оглянулся на конвоира, ожидая встретить одобрение. Но на него глянули насупленные, угрожающие глаза. Желваки на скулах конвоира напряглись. Ремешок фуражки глубоко врезался в кожу. Конвоир сказал сквозь зубы:
— П-падло!
Кузнецов не понял его. Он угодливо осклабился:
— Падаль. Совершенно правильно.
Но казак еще более посуровел.
— Ты падло! — произнес он громко и вдруг с размаху хлестнул фельдшера нагайкой.
Тот охнул и с ужасом посмотрел на конвоира. А чубатый шагнул к нему и ударил под вздох. Кузнецов захлебнулся. От второго удара у него что-то хрустнуло внутри. Он упал. Конвоир стал бить его ногами. Каждый удар заставлял фельдшера извиваться от боли. Цыган молчал. Это особенно пугало ветеринара. Он всхлипывал, давясь слезами, не в силах набрать воздуху для крика. Животный ужас овладел им. Он катался в пыли, чтобы избежать ударов подкованного сапога. Лес и дальние сопки завертелись в глазах.
…Какие-то конные мелькнули в степи. Казак отошел в сторону. Сквозь слезы и грязь Кузнецов увидел его и прерывисто заговорил:
— Господин кавалер, не убивайте меня… Я старик… За что же вы меня?
Цыган крикнул:
— Ну, ты… вставай. Айда! — И, видя, что Кузнецов охает и не может подняться, опять крикнул: — Давай, давай! Али еще хочешь? Ну!
Окончательно потерявший способность соображать, оглушенный, с болью во всем теле, Кузнецов поднялся и поплелся по дороге. Цыган взял винтовку наперевес и пригрозил фельдшеру, следя за конными, что выехали на дорогу.
— Молчать!.. Если хоть подумаешь кому сказать — убью сей минут! Слыхал? Пшел вперед… гнида!
Конные поравнялись с ними. Это была смена уряднику. Сменные осадили лошадей.
— Откуда ты этого достал?
— Перебежчик.
— А чо ты его так измочалил?
Конвоир посмотрел на Кузнецова и потрогал затвор винтовки. Кузнецов замер. Цыган сказал хмуро:
— Да бежать, паскуда, пытался.
За всю дорогу он не проронил больше ни слова. Фельдшер боялся раздражать его, но был не в силах сдержаться и потихоньку стонал.
3
Показались дома. Это было Раздольное, занятое белыми.
Повсюду вдоль улиц стояли двуколки. Лошади были привязаны к длинным, наспех сделанным коновязям. Грудами лежал неубранный навоз. Красноватые лужи протянулись вдоль улиц, издавая острый запах аммиака.
Неподалеку возвышался двухэтажный дом. Конвоир повел к нему Кузнецова. Навстречу попадались кое-как одетые белоказаки. Среди них были и иркутяне с оранжевым лампасом, и забайкальцы — с желтым, и оренбуржцы, и ижевцы. Промелькнуло несколько драгун в красных рейтузах с серебристым лампасом. Сотня была собрана из остатков разбитых частей. Были тут и александровского призыва, седые, усатые казаки, по-стариковски приседавшие при ходьбе, и юнцы, щеголявшие пышными чубами и кавказскими поясами с насечкой. Один из них спросил конвоира:
— Красного поймал?
Тот пренебрежительно сплюнул сквозь зубы в сторону Кузнецова и махнул нагайкой.
— Куда ему!.. Доносчик.
Юнец выругался:
— Шкура!
Подошли к штабу. К ним вышел худощавый офицер-каппелевец, с погонами войскового старшины. Он посмотрел на ветеринара.
— Я войсковой старшина Грудзинский. Что вы можете нам сообщить?
Кузнецов протянул ему грязную, в ссадинах руку.
— Ветеринарный фельдшер Кузнецов.
Офицер нетерпеливо постучал носком сапога и звякнул шпорой. Он повторил:
— Что вы хотите нам сообщить?
Кузнецов оробело спрятал руку за спину и начал:
— Я служил… то есть, простите, не служил, а меня заставили помогать красные… Я имею сообщение…
Грудзинский щеголевато повернулся, стукнул по лакированному сапогу стеком и направился в дом, кивнув на ходу Кузнецову:
— Идите за мной!
4
Каждый из дней этих летних и осенних месяцев 1922 года был знаменательным днем. Эти дни вмещали в себя такие события, что историкам потом надолго хватило изучать документы о них. Еще шли бои на фронте, еще хозяйничали во Владивостоке американцы и японцы, еще властны были они издеваться над русскими людьми, мучить и истязать их, еще предатели родины и изменники сеяли в Приморье ужас и смерть, чтобы пожать позор и бесславие, а Новый Хозяин уже становился обеими ногами на приморской земле…
Дальбюро ЦК РКП (б) дало указание: на занятых белыми и интервентами землях тайно провести съезды крестьянских уполномоченных, выделенных бедняцко-середняцким активом. Съезды крестьянских уполномоченных должны были избрать комитеты по установлению советской власти в Приморье. Съезд Никольск-Уссурийского района должен был состояться в Наседкине.
В небольшой комнате происходил допрос фельдшера. Грудзинский, не моргая, уставил холодный взгляд в переносицу Кузнецову. Фельдшер рассказал все, что знал сам и что передал ему Чувалков, и замолк. Молчал и Грудзинский, взвешивая услышанное. Он еще верил в то, что борьба не кончена. Арестовать съезд, обезглавить крестьянский актив, уничтожить штаб крупного партизанского отряда, возможно, раскрыть владивостокские явки — вот что таило в себе сообщение Кузнецова. «Без малейшего риска!» — отметил себе Грудзинский, не любивший ввязываться в дела, где можно было пострадать.
Задумчиво посмотрев в окно, он вызвал дневального, быстро написал записку; вручая ее дневальному, он что-то потихоньку сказал. Дневальный вышел. Грудзинский, уже не глядя на Кузнецова, у которого затекли ноги, стал быстро писать.
Кто-то вошел. Кузнецов обернулся.
Позади стоял ротмистр. Скользнув безразличным взглядом по Кузнецову, он подошел к Грудзинскому. Старшина, подняв брови, кивнул на Кузнецова. Ротмистр спросил:
— Кто это?
— Перебежчик. Сообщает, что есть возможность захватить штаб партизанского отряда в Наседкине. Кстати, там сегодня будет проходить съезд, — Грудзинский скривил губы, — уполномоченных, будут выбирать комитет по установлению советской власти в этом районе. Как это вам нравится? — спросил он с едкой усмешкой.
Караев неожиданно щелкнул пальцами.
— Товарищи не теряют времени! — проговорил он. — Поторапливают, черт возьми! — Он перевел взгляд на Кузнецова: — Ваш платный?
— Нет, «доброволец»! — ответил Грудзинский и обратился к фельдшеру: Все сообщили?
— Как на духу! — поспешно ответил Кузнецов. — Как на духу, господин войсковой старшина! Да могу ли я что-нибудь утаить! Я в жандармском корпусе служил-с. В девятьсот пятом свою верность доказал! — В голосе его послышались слезы; он скороговоркой добавил: — С того года-с и душевного покоя лишился.
— Провокатор? — взглянул на него Караев.
Кузнецов отвел глаза в сторону.
— Я ведь не за деньги, ваше благородие.
Караев насмешливо вставил:
— Из любви к искусству, значит, или из-за высоких принципов?.. Охота вам, Грудзинский, с этим старым дерьмом возиться, — это не спасательный пояс, наверх не поднимет.
Он взял со стола протокол допроса и стал читать.
— Ого, — проговорил он, — да тут, кажется, речь идет о некоторых моих старых знакомых!
Глаза Караева заблестели, он машинально сопровождал каждую фразу протокола прищелкиванием пальцев.
— Так… так… Не худо! Это называется — везет, как утопленнику!
Грудзинский вызвал казаков и велел вывести фельдшера. Караев остановил Кузнецова и сказал:
— Будете нас сопровождать. Проведете сотню кратчайшим путем на место. Лошадь дадим. Попытаетесь бежать — расстреляем! Можете идти!
Когда Кузнецов и казаки вышли, старшина спросил:
— Вы что, думаете поднять сотню по этому доносу?
— Думаю поднять!
— Вы считаете, что военная ситуация благоприятствует этому?
— П-с-ст! — свистнул Караев, и на лице его выразилось пренебрежение. Ситуация! О какой ситуации можно говорить после Волочаевки?!
При упоминании о Волочаевке старшина передернул плечами, но сдержался.
Ротмистр стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнула чернильница.
— Руки чешутся, господин старшина!.. Все равно красные попрут нас куда Макар телят не гонял… Японцам в содержанки, в Константинополь — туркам сапоги лизать. Кончается наша лавочка… виноват, ситуация, господин войсковой старшина! Не хмурьте брови и не вздумайте читать мне мораль. Я знаю ей цену. Годна она лишь как туалетная бумага… На кой черт мы России? Не помогут нам и эти… «добровольцы», — кивнул он головой на протокол допроса. — Так хоть сердце сорвать, чтобы ни черта тут не осталось. Знаете: «Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает!»
— Зуда в руках еще недостаточно! — сухо сказал Грудзинский. — Нужно еще что-то…
— Pia desideria, — сказал насмешливо Караев, любивший щегольнуть школьной латынью. — Обойдемся и без этого. Сейчас важнее всего пример, натиск, смелость, вихрь, огонь! Смерч, черт возьми! А идеи я предоставляю проповедовать вам.
— А японское командование одобряет этот шаг?
— А-а! Ларчик просто открывается! — протянул Караев. — Какого же вы ляда, простите за дерзость, ситуациями да идеями голову затуманиваете? Так бы и сказали, что у няньки надо спроситься. Сейчас позвоню нашему штатному соглядатаю. Не думаю, что он будет против. Ведь я у него ни солдат, ни оружия просить не буду! Кроме того, в этом доносе есть одно имя, которое меня ин-те-ре-сует…
Он стал крутить ручку телефона.
— Не утруждайтесь, — сухо предупредил старшина, — поручик Суэцугу идет сюда.
В дверях показался японец. Офицеры встали. Суэцугу пожал им руки. Редкие усы его были тщательно нафиксатуарены. Лицо хранило важное и непроницаемое выражение. Караев рассказал «советнику» о своем замысле и замолк, ожидая, как отнесется к этому японец. Тот долго думал, потом втянул со свистом воздух и заметил:
— Это личное дело росскэ командование.
— Но как бы японское командование отнеслось к этому налету?
— Налет? Это хорошо! — процедил японец. — Это имеет воспитательное действие… Солдат не можно долго стоять на одном месте… Это вредно. Надо любить военное приключение.
— Значит, вы одобряете мою мысль?
— Это личное дело росскэ командование, — опять ответил японец и добавил: — Я буду сопровождать вас. Смею покорно давать предложение: надо идти двумя колоннами… чтобы ни один партизан не ушел. Село надо охватить со двух сторон.
Как видно, Суэцугу пришел сюда с готовыми приказаниями. Караев посмотрел на Грудзинского, затем поклонился японцу:
— Благодарю за совет, господин поручик!
— На здоровье, — учтиво ответил японец. — Выступать через полчаса. — Он сунул свою маленькую ручку офицерам и, не сгибаясь, вышел из комнаты.
5
Не такого приема ожидал Кузнецов, когда в страхе и в предвкушении удара по партизанам бежал к белым. Понятно, он не рассчитывал на их особенную признательность, зная хорошо по личному опыту, что провокатором брезгуют даже те, кто пользуется его услугами. Но он, как ему казалось, имел право хотя бы на холодную вежливость, которая осталась для него памятной еще с охранки.
Во время бегства по лесной дороге много картин промелькнуло в его мозгу.
Вспомнилась Кузнецову черная зависть к удачливому товарищу, который был не только врачом, но и «неблагонадежным». Эта зависть привела Кузнецова в жандармское управление. Кузнецов сумел убрать соперника с дороги, но сам стал орудием охранки. Он пытался избавиться от этой опасной работы. Охранка «провалила» его. Случай спас Кузнецова от справедливой мести. И тогда Кузнецов, как в родное стойло, прибежал в жандармерию, чтобы навсегда стать «Рыжим». Он начал работать в охранке, подстегиваемый страхом. Революция выбила почву из-под его ног, поселив в его душе страх перед расплатой. Навсегда он запомнил тот день, когда на его глазах матросы убили одного провокатора, тот умирал долго и трудно. Ненависть произросла из этого страха, ненависть к тем, кто может потребовать и его, Кузнецова, к ответу. Ненависть и страх его угадал Чувалков и использовал…
Здесь ему тоже плюнули в лицо.
Ошеломленный приемом, фельдшер вышел в сопровождении конвоира на крыльцо. Рябой казак подвел к крыльцу коня. Кузнецов вскарабкался в седло. Сидеть было неудобно: слишком высоко подняты стремена. Кузнецов хотел попросить опустить стремена, но не решился. От неудобного положения в седле заболело все тело. И эта боль всколыхнула всегда тлевшую в нем ненависть и злобу.
Сотня собиралась неохотно. Белые косились в сторону фельдшера. Видно, в налет никому не хотелось идти. Казаки переговаривались между собой вполголоса.
— Черт те что! — сказал пожилой казак, проходя мимо Кузнецова. — Куды, на кого нас опять пошлют?.. Послали бы всех в одно место разом… чтобы не тянуть.
— Тише ты, Лозовой… старшина услышит, — одернул второй.
— А пускай слышит! — с досадой проговорил Лозовой. — Все одно, не через месяц, так через два от красных удирать придется. Насмотрелся я уже. Хорохорятся, хорохорятся офицеры, а потом драпают… впереди нас, грешных. Так на Дону было, на Кубани, в Крыму. А отсюда куда? Всех япошки не увезут…
— Тише!
Из-за коновязей вышел Грудзинский. Завидев его, казаки подтянулись.
Через двадцать минут сотня была в строю.
Караев вышел из дома, легко вскочил в седло и проехался перед строем. Почти одновременно с ним на площадь явился и Суэцугу. Японец восседал на огромной австралийской лошади. С высоты седла он казался мальчишкой, но терракотовое его лицо не теряло важности. Он прикоснулся к козырьку, приветствуя офицеров, и застыл в стороне.
Раздалась команда.
Конь, на котором сидел Кузнецов, не чувствуя руки хозяина, заупрямился. Он стал бить ногами, становился на дыбки и норовил укусить седока. Кузнецов не мог совладать с ним и болтался в седле, клонясь то в одну, го в другую сторону. Конь то прядал вбок, то заносил задом, распушив хвост, то танцевал на месте. Он налетел на строй и лягнулся. Другие кони шарахнулись в сторону. Станичники стали оборачиваться на Кузнецова. Строй разваливался. Караев бешено крикнул:
— По коням!
Казаки вскочили в седла. Разъяренный Караев подскочил к Кузнецову. Глаза его налились кровью, лицо побледнело. Он задыхался от ярости. На уголках губ выступила пена. Он рванул под уздцы коня, на котором сидел фельдшер, и, срываясь на визг, заорал:
— Ч-черт! Какой дурак дал хорошего коня этой… этой…
Он не нашел нужного слова, которым можно было выразить обуревавшую его ярость, вытянул коня Кузнецова нагайкой, вспомнив о строе, повернулся к сотне, с любопытством следившей за этой сценой, и крикнул:
— Смир-р-р-на-а. Налево марш-марш!.. Рысью!
Команду повторили хорунжие. Колонна приняла походный порядок. Двое казаков стали по бокам Кузнецова. Сотня двинулась. Цементная пыль, поднятая копытами, седым облаком закрыла лошадей и потянулась вслед за колонной.
Глава 23 Партизан
1
Узкие длинные лучи солнца проникли через листву и яркими пятнами легли на землю. Заискрились росинки на траве и на подножиях деревьев. Ночные тени поголубели, попрятались за углы домов, за срубы. С каждой минутой становились они короче, пядь за пядью уступая место дневному свету.
Виталий не ложился спать в эту ночь, не сомкнул глаз.
Едва перевалило за полночь, в деревню стали прибывать делегаты съезда крестьянских уполномоченных. По одному, по двое стали они заезжать в село с двух концов. Каждого принимали партизанские посты на дальнем подступе и провожали до села, где встречал их Виталий, отводя в школу. Делегаты тоже не ложились. Начались разговоры. Среди делегатов было много знакомых. Задымили папиросами, передавали друг другу кисеты, угощали своим табаком. Виталий предложил:
— Товарищи, кто хочет отдохнуть, можно в два счета устроить!
Немолодой крестьянин с умным худощавым лицом и быстрым, сметливым взглядом небольших светлых глаз, глубоко сидящих под крутым лбом, обернулся к Виталию, спокойно оглядел его, и вдруг теплая усмешка пробежала по его плотно сжатым губам.
— Не утруждайся, сынок! Не начавши, чего отдыхать? Да и дело наше такое, что не об отдыхе думаем! — ответил он за всех. — Какой тут отдых!
— Что верно, то верно! — поддержал его второй делегат, приземистый, костлявый мужик, которого нужда и голодовки состарили раньше времени, обметав его глаза темными кругами и покрыв когда-то красивое лицо сплошной сетью морщин. Поношенная одежда его доживала последние сроки, скособоченные сапоги были велики, и голенища хлюпали по икрам мужика.
Стесняясь своей заплатанной кацавейки, он старался держаться в тени. Однако слова его прозвучали твердо, уверенно, и по тону его было понятно, как стосковался он по настоящей работе, по настоящей жизни. Он поправил сползшую опояску на чистой рубахе — дань торжественности предстоящего дела и раздумчиво добавил:
— Теперя только настоящая страда и начнется, милок, как беляков-то посшибаем!
Нет, не об отдыхе думали эти люди, верные из верных, не раз прошедшие через многие испытания, на себе перенесшие все тяготы подневольной жизни, знавшие и поборы, и грабеж деревенских мироедов, и грубость сельской администрации из кулацких сынков, и бесправное положение, дававшее знать о себе на каждом шагу, — познавшие на собственном опыте и то, чем была царская Россия, и то, чем были колчаковщина, атамановщина и гнет американских и японских интервентов… Они хотели жить по-новому, как указывали им большевики, — без мироедов и кулаков, без чиновников и попов, без вечного обессиливающего страха перед нуждой, стучащейся в двери, без гнета, преждевременно сгибавшего им спины. Не раз брались они за оружие, чтобы отстоять свою правду. По-хорошему все делегаты были взволнованы, пряча свое волнение под молчаливой сосредоточенностью, под незначительными разговорами. Только курили больше, чем всегда, а закурив, иной раз забывали о цигарке, пока не угасала она, испуская струйку дыма…
В темноте сеней кто-то из делегатов остановил Виталия:
— Товарищок, не приехали еще из городу-то?
И Виталий с нетерпением ожидал представителя областкома, который должен был проводить съезд: может быть, кто-нибудь из знакомых?
…Представитель областкома Марченко приехал в шесть часов, когда все делегаты были в сборе. Смуглый, невысокий, с пристальным взглядом острых, внимательных глаз, сразу охватывавших всего человека, с которым он говорил, он уже был знаком Виталию, тот видел его однажды у Перовской. Когда Виталий встретил его у околицы, он крепко пожал руку юноше и первый спросил:
— Товарищ Бонивур? Как на новом месте? Освоились? — Он тотчас же перешел на «ты». — Вот что, товарищ, я думаю, тебе незачем объяснять, каково значение этого съезда. Прошу тебя предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность работы съезда. Золотые люди собрались, им цены нет, опора наша на селе… Такое поручение не каждому бы доверили. Понимаешь?
— Я понимаю, товарищ Марченко! — ответил Виталий, вытягиваясь, как перед командиром. — Очень понимаю.
— Ну ладно!
Они поднялись на крыльцо школы. Кое-кто из делегатов знал Марченко в лицо, его окружили, здоровались. Кто-то торопливо спросил:
— Приехал, что ли?
— Приехал!
— Давайте знакомиться, товарищи! — сказал Марченко. — Все ли в сборе?
— Все, Родион Яковлевич! — сказал ему тот немолодой крестьянин, что разговаривал с Виталием. — Говорили мы тут с мужиками, всем охота поскорее начать.
— А не рано? — спросил Марченко, прищуриваясь.
К нему протиснулся второй собеседник Бонивура, в стоптанных сапогах. Он протянул Марченко руку как старому знакомому, улыбнулся, отчего лицо его помолодело, и сквозь обыденные черты проглянул озорной, нравный парень, каким он был, видно, в молодости.
— Яковлевичу! — сказал он.
— О, Кузьма Федотыч! — Марченко протянул ему обе руки, почти обнимая старика. — А я по спискам смотрю: тот, не тот?.. Сколько лет не видались! Болел, что ли, что у нас в городе не бывал?
— И болел, и сидел, и всего было! — усмехаясь, ответил Кузьма Федотыч. — Наше дело такое, сам знаешь!.. Оно пора бы начинать, Родион Яковлевич! Кузьма, сморщившись, поглядел на солнце, поднявшееся над горизонтом. Хороший-то пахарь в поле выходит раньше солнышка, а оно, глянь, как высветило!
— Ну, в добрый час! — став серьезным, сказал Марченко. — Давайте начинать, товарищи!
Он направился к зданию школы.
За ним устремились поспешно и делегаты, бросая на землю цигарки и затаптывая их.
— Товарищи! — сказал Марченко, когда делегаты уселись по местам. — Бои еще не кончены. Но нам с вами надо заглянуть вперед, приготовиться загодя…
Виталий стоял на крыльце. В раскрытую дверь ему было слышно, как Марченко каким-то совсем необычным голосом сказал громко:
— Товарищи! Объявляю съезд крестьянских уполномоченных открытым…
Виталий сошел с крыльца.
Бессонная и тревожная ночь сказывалась во всем теле какой-то ленивой ломотой. Виталий зевнул. Но о сне нельзя было думать. Сгоняя сон, он крепко зажмурился, затем быстро раскрыл глаза, повел в стороны руками и присел несколько раз так, что хрустнуло в коленях. Бегом направился к рукомойнику, висевшему на улице. Вымывшись до пояса холодной водой, он растер тело, пока оно не разрумянилось.
Ощущение живительной свежести опять пришло к Виталию.
Виталий пошел в избу, где лежали больные и раненые. В сенцах он наткнулся на медицинскую сестру из деревенских девчат. Она прикорнула на кадушке с водой после тревожной ночи. Трое раненых забылись сном лишь под утром. Всю ночь они метались, бредили, а когда немного утихли, она вышла в сенцы — подышать свежим воздухом; присела на кадушку, облокотившись на стену, запрокинула голову, чтобы взглянуть на небо, и мгновенно уснула. Рот ее полуоткрылся, розовые губы обсохли.
Виталий не стал будить девушку.
В избе было душно. Висящая на стене лампа коптила. Копоть смешалась с табачным дымом: несмотря на все запреты, больные не в силах были отказаться от табака. В этой духоте они спали неспокойно, шептали во сне, шевеля и чмокая губами, стонали, ворочались.
Бонивур погасил лампу и оглядел лежащих. Они спали в самых разнообразных позах. Иные — лицом вниз, судорожно вцепившись в подушку, другие — навзничь, кой-кто свернулся калачиком. Некоторые больные храпели, и в этих прерывистых, тяжелых звуках угадывалась глубокая усталость от боли, не оставлявшая их и во сне. Старику Лебеде что-то снилось, и он бредил.
Бонивур прошел вдоль топчанов. Наклонился над Панцырней. Повязка теснила Панцырне голову. Он порывался иногда стащить ее, но не мог совладать с руками, путался в одеяле и глухо стонал.
Бонивур взял полотенце, намочил его из ведра, стоявшего на подоконнике, и положил компресс на лоб Панцырне. Раненый утих.
Олесько попросил пить. Виталий протянул ему жестяную кружку. Стуча зубами, тот выпил воду. Тщетно пытался он раскрыть глаза: веки слипались, обрывки снов еще метались в сознании. Не поняв, кто дал ему воду, Олесько отвернулся и заснул.
Утро потихоньку входило в окна, выхватывая из мрака неясные фигуры лежащих, сбившиеся одеяла, щербатый пол и паклю, торчавшую из пазов бревенчатой стены.
— Надо смерить раненым температуру, сделать перевязки. Виталий пошел за фельдшером. Девушка в сенях, заслышав его шаги, проснулась.
— Ой, лишенько! — сказала она. — Звинить меня, пожалуйста! Сморилась я…
Виталий тронул ее за плечо.
— Сейчас я тебе смену пришлю.
2
Село проснулось. Женщины, гремя подойниками шли доить. В конце села надсадисто закричал теленок, отнятый от вымени. Петухи вывели кур на дорогу. Улицу перешла босоногая девочка с пустыми ведрами. Она остановилась у колодца, прицепила ведро к журавлю. Длинная тень журавля перебежала через дорогу, вскарабкалась на стену скотника, стоявшего напротив, и вернулась обратно. Девочка потащила ведра домой. Худенькая спина ее выгнулась. Она шла, поджав губы и не поднимая глаз, опущенных на дорогу.
Бонивур нагнал ее.
— Чего же тебя заставляют воду таскать? — спросил он. — Надорвешься.
— А мамка больная, — сказала босоногая. — А Ксюшка сегодня сестра милосердная.
— Кто это Ксюшка?
— А сестра моя. Она в партизанском лазарете. Да ты знаешь ее! Она большая. Она за мамку все делает. Ксюшка. У нее красный платок.
Виталий припомнил, что дежурившая в лазарете девушка действительно была в красном платке. Он успокоил девочку:
— Скоро придет твоя Ксюшка.
Долго Виталий стучался в окна избы, где жил фельдшер. На стук никто не отзывался. Через мутные стекла Бонивур разглядел неразобранную смятую постель. Фельдшера не было. Не было его и в карантине. Кони, не получившие ночной дачи, понуро стояли перед пустыми кормушками. При входе Виталия они подняли головы. Жеребец с нарывом на ноге тихонько заржал. Он хотел есть. Ночью нарыв прорвался. Боль, отбивавшая у него охоту к корму, исчезла. Он совался теплой мордой в свою и чужие кормушки. Осторожно, фыркая от пыли, выбирал завалявшиеся зерна овса.
Виталий принес несколько охапок сена. Лошади потянулись к нему. Он задал им корма и вышел.
Где же фельдшер?
Бонивур стал ходить от избы к избе, спрашивая, не видал ли кто-нибудь Кузнецова. Но никто не встречался с ним со вчерашнего вечера. Виталий постоял на дороге, раздумывая. Поглядел на кустарник, окружавший село, и неясная тревога шевельнулась в нем. Исчезновение фельдшера не предвещало ничего хорошего. Виталий еще раз мысленно представил себе боевой распорядок, выработанный им с Топорковым на случай возможного налета белых. Сил для отражения налета было недостаточно. Значит, следовало подготовиться к такому отступлению из села, чтобы не было лишних жертв. Усилить бы охрану подступов…
Виталий оглянулся на школу, в окнах которой видны были люди. Он ясно разглядел, что, обращаясь к съезду, что-то горячо говорил худощавый крестьянин. Потом встал и начал говорить с места другой. Жизнь этих людей сегодня вручена Виталию. И не только их жизнь, а нечто несравненно большее, ради чего жили и эти люди, ради чего и Виталий и партизаны находятся здесь, ради чего взяли они оружие в руки.
Виталий пошел на посты, наказав Тебенькову быть неотлучно возле школы, если он потребуется Марченко.
3
Солнце поднималось все выше.
Старик Колодяжный умостился в развилине дерева на дальнем посту и с наслаждением покуривал, выпуская клубы дыма из своей носогрейки. Сизый дымок выдал его присутствие. Виталий подошел незаметно. Старик спохватился, слез с дерева, бросил на Виталия быстрый взгляд, решительно выколотил трубку о пенек и затоптал гарево ногами. Смущенный тем, что его застали врасплох, и насмешкой стараясь замаскировать свое смущение, он спросил Виталия, прищурившись:
— Блюдешь, значит, по-хозяйски? За главного сегодня?
— Надо блюсти да в оба смотреть! — отозвался Виталий.
Егор Иванович насупился.
— Я и смотрю, как надо, не учи! А что трубку палил, ты мне в глаза не тычь. Сплоховал, значит! Больше не буду.
Он помолчал, потом спросил, намекая на съезд:
— Не выбрали еще власть-то?
— Еще не кончили съезд, — ответил Виталий.
Егор Иванович усмехнулся.
— Что ты будешь говорить! Еще никогда в жизни таких тяжелых часов не отстаивал, а уж сколько раз приходилось в карауле быть!.. Николи так не тревожился, паря! А это время ну все глаза проглядел: не несет ли кого по нашу душу? И трубку-то запалил от этого, что душа не на месте. Отчего бы это, Виталька?
То же самое чувствовал Виталий. Он глянул на старика и сказал:
— Чего спрашиваешь, Егор Иваныч? Сам знаешь.
— Да как не знать, понимаю! — усмехнулся Егор Иванович. — А чудно! Ближе кровной родни! — Он кивнул головой на деревню, и Виталий понял, что Колодяжный говорит о делегатах съезда. — Наши же мужики, а гляди, может, кто и во власть войдет… Все никак приобыкнуть не могу к тому, что мужику теперь другая цена, чем при Миколашке-то.
Виталий озабоченно спросил:
— Егор Иваныч! Скажи, ты Кузнецова не видал? Он не проходил здесь?
— Какого Кузнецова? Ветинара, что ли?
— Ну да, ветеринара.
— Сегодня не видывал. А вчера он тут таскался, чуть я его не пришил. Хорошо, что отозвался, а то я бы его кончил.
— Что он делал здесь?
— Говорит, травку медицинскую собирал, а кто его знает, правду ли говорил, брехал ли… Али нужда есть до него?
— Пропал он куда-то. Нигде нет.
Колодяжный насупился. Он поглядел на Виталия и нерешительно спросил, вспомнив бегающие глаза ветеринара:
— А может, он того… к белякам метнулся?
Бонивур посмотрел на старика.
— Ты думаешь?
Тот уже уверенно сказал:
— Петрович-то? Эта шкура барабанная все может… Напрасно я его вчера не пришиб.
— Ну, не пришиб, значит, не судьба. Ну, пока, Егор Иваныч!
— Прощевай!
Оставшись один, Колодяжный покачал головой, только сейчас обнаружив свою тревогу при вести об исчезновении Кузнецова. Не меньше Виталия он понимал серьезность положения.
Старик нахлобучил ушанку на глаза, отогнул козырек, чтобы солнце не слепило, и стал напряженно осматривать тропу и кустарник в низине. Подбадривая себя, бормотал:
— Мы-то насчет этого ученые! Нас не обведешь…
4
Эти часы показались Виталию очень долгими. Но когда вернулся с обхода, он понял, что не имеет права скрывать от Марченко свое беспокойство и свои подозрения.
С Тебеньковым он послал Марченко записку и сел у крыльца, ожидая ответа. Марченко вышел сам. Увидев озабоченное лицо Бонивура, он спросил:
— О чем ты хотел со мной поговорить? Это важно? Виталий коротко рассказал Марченко о побеге Кузнецова.
— Почему ты не сказал мне об этом сразу, при встрече? — спросил Марченко. — Нам приходится быть очень осторожными. Мы не можем рисковать нашим активом, теми людьми, на которых опираемся.
— Товарищ Марченко, я сам ничего не знал и не могу утверждать, что Кузнецов бежал. Но раз его нет в деревне, я должен думать о самом худшем.
Марченко подумал.
— Ты правильно поступил! — сказал он. — Надо будет ускорить разъезд. Мы скоро заканчиваем выборы членов комитета по Никольск-Уссурийскому району. Не отлучайся далеко, можешь понадобиться.
Он вернулся в помещение.
…Алеша Пужняк вынырнул из-за кустов от брода, перемахнул через плетень, хлестнул коня нагайкой. Точно рыжее пламя лизнуло плетень. С мокрого, лоснящегося тела коня слетали капли воды, сверкая на солнце. Заметив Виталия, Алеша помчался к нему и, лихо осадив коня, остановился, точно вкопанный. Молодцевато козырьнув, сказал:
— От Афанасия Ивановича! — и протянул запечатанную записку.
Виталий прочел ее. Топорков писал, что отряд дерется, вступил в бой с ходу. Сопротивление белых слабеет. Партизаны обложили село со всех сторон. Удалось перехватить двигавшийся к белым обоз. Захвачена пушка с зарядным ящиком, несколько ящиков патронов и гранат. Белые оставили бы село, но бежать им некуда. Отдельные солдаты бросают оружие и сдаются. Топорков просил сообщить об этом дяде Коле. Дойдя до этого места, Виталий усмехнулся. Алеша расплылся в улыбке.
— Ох, и жарко там!
— Нашим?
— Нет, у нас убитых нету… Несколько легко поранило. Но ничего, все в строю… А белым хуже — их там и крестьяне косят: из сараев да с чердаков гвоздят, аж дым идет. Поди, пока ехал, уже кончили их. Поспеть бы…
Заметив людей в школе, Алеша удивленно спросил:
— Это кто?
Тебеньков, ухмыльнувшись во весь рот, подмигнул Алеше и показал большой палец правой руки.
— Во! Большое дело! Советскую власть, брат, выбирают… Комитет!
Алеша с уважением прислушался к голосам, доносившимся из школы.
— Я тебе, Алексей, одно дело хочу поручить! — сказал Виталий. — Первое — доложишь Афанасию Иванычу, что у меня все в порядке. Второе — доложишь, что исчез Кузнецов. В селе его нет…
— Убег к белякам, гад! — сказал Алеша.
— Пока неизвестно… Афанасию Иванычу передашь только то, что я говорю, своего не прибавляй. Передашь ему записку! — Виталий вынул из полевой сумки бумагу и карандаш. Написал что-то, сложил записку вчетверо. — Я тут прошу у командира из захваченного снаряжения выделить, сколько можно, гранат и винтовок для дяди Коли.
— Есть! Передам… Пока!
— Погоди. Все, что он тебе даст, отвезешь на завод Пьянкова. Там наш дозор.
— Да как же это? — недовольно сказал Алеша. — Мне надо в бой.
— Навоюешься еще, успеешь… Завернешь оружие хорошенько в рогожу, клеенку, уложишь в бочку. Сверху зальешь бардой.
— Это зачем?
— Помогать тебе будет Андржиевский Станько, из железнодорожников. Когда все уложите, свое оружие спрячете и поедете на сто пятую версту…
— Там же белые!
— Если бы их там не было, повезли бы просто, без хитростей. На сто пятой бочку сдадите путевому обходчику Сапожкову.
— Есть сдать Сапожкову! Все будет сделано! — Алеша дал коню шенкеля, конь прянул в сторону. Виталий сердито крикнул:
— Держи себя дисциплинированно, товарищ Пужняк, слушай до конца и не вертись! Спросишь: «Барда нужна?» Он ответит: «Нужна». Если на участке есть чужие и оружие принять будет нельзя, он ответит: «Корову еще не пригнали». Понял? Если он попросит передать что-нибудь племяннице, возьмешь. Дашь ему записку, которую я напишу дяде Коле…
Над второй запиской Бонивур думал дольше. Несколько раз перечеркивал написанное, писал снова, перечитывал, исправлял. Потом прочел вслух:
— «Дядя Коля! Погода у нас стоит хорошая. Вчера мы ходили по грибы в то место, где мы были с тобой в прошлом году. Лесник, который там жил, теперь уехал, мы ему помогали вместе с дедкой Афанасом. Грибов набрали много. Посылаю тебе вязочку с дедей Гошкой. Напиши мне, когда твои именины, а то мы забыли. До свидания.
Витя»
Алеша, загибая пальцы, перечислил все, что приказал ему сделать Бонивур. Он ничего не пропустил и ничего не добавил. В окно выглянул Марченко. Алеша лихо козырнул ему: знай наших! Марченко усмехнулся. Виталий хлопнул Алешу по плечу и пожелал удачи.
— Ну, давай, да побыстрее!
Пужняк, спрятав записку в тулью фуражки, заломленной на затылок, вытянул коня нагайкой и помчался. Как и при въезде в село, он не воспользовался воротами, а перескочил через изгородь и наметом поскакал к броду…
Немного времени спустя в школе зашевелились, зашумели люди. Съезд окончился. Делегаты стали выходить на крыльцо, возбужденно переговариваясь между собой. Марченко вышел вслед за ними.
— Товарищ Бонивур! Надо организовать отправку людей — и чем скорее, тем лучше.
— Лошади готовы! — ответил Виталий. — Накормлены, напоены.
Сердечно и шумно делегаты прощались с Марченко и усаживались кто в бричку, кто в седло, выезжая из таежного конца села по домам кружным путем. Несколько дольше других задержались уполномоченные, избранные в комитет. Марченко говорил с ними. Среди избранных оказались и Кузьма Федотыч и тот, первый крестьянин. Последнему Марченко сказал:
— Ну, товарищ Пащенко, тебе придется возвращаться в освобожденную Ивановку. Бонивур получил от Топоркова сообщение, что белые отступают. Значит, тебе первому и советскую власть в селе организовывать. Желаю успеха! А ты, Кузьма Федотыч, поостерегись пока домой возвращаться, погости у дочки пару дней!
— До свидания, сынок! — кивнул Кузьма Федотыч Виталию. — Заезжай ко мне — привечу, как родного! Поди, пока нас сторожил, натерпелся, а?.. Ну, прощайте, товарищи!
Когда последний делегат скрылся за околицей, Виталий решительно сказал Марченко:
— Товарищ Марченко! Вам тоже задерживаться не следует.
— Гонишь? — пошутил Марченко. — Не гони, сам уеду! — Он взял коня под уздцы. — Проводи меня немного! — и зашагал вдоль поскотины к северному краю села.
В одном проулке Виталию почудилось лицо Чувалкова, он оглянулся, но фигура, привлекшая его внимание, тотчас же исчезла. Виталий ускорил шаг. Марченко глянул на него, но тоже прибавил шагу.
— Передавал тебе привет товарищ Михайлов! — сказал он. — Надо было тебе это сначала сказать, да личные дела я на потом оставил… Топорков о тебе очень хорошо отзывается, говорит, ты правая у него рука!
Виталий вспыхнул, покраснев до корней волос. Марченко покосился на юношу.
— Не правда, что ли?
— Да он мне ничего никогда не говорил!
— Ну, тебе не говорил. А он зря слов на ветер не бросает… Теперь еще одно дело. Спрашивал Михайлов: как ты насчет вступления в партию? Не думал?
Виталий остановился. Он не мечтал о таком высоком доверии. Ему казалось, что все, что он сделал, все это слишком мало для того, чтобы вступить в партию, что надо совершить что-то необыкновенное, чтобы стать коммунистом. Он сказал:
— Я не думал, товарищ Марченко.
Поняв состояние Бонивура, Марченко обласкал его взглядом, в котором проскользнуло что-то отцовское.
— А ты подумай? Что тебе в комсомольцах ходить до седой бороды?.. Товарищ Перовская тебе рекомендацию дает, да и Афанасий Иванович не откажется, коли попросишь.
Он взял руку юноши, крепко пожал ее, одним движением вскочил в седло, кивнул Виталию головой на прощание и ходко поскакал прочь, сидя в седле точно влитой.
5
Большую радость испытал Виталий в ту минуту, когда Марченко передал ему слова Михайлова. Лишь сейчас понял он, как большевистское подполье воспитывало его день за днем, не оставляя своим вниманием, помогая в трудных положениях, поправляя, когда молодость или неопытность сбивали его на неверный путь. Вспомнил Виталий все встречи с Михайловым, Перовской, Антонием Ивановичем и другими заметными и незаметными работниками партийного подполья. У руководителей большевистского подполья находилось время для того, чтобы постепенно подвести юношу к тому великому рубежу, каким в жизни человека является вступление в партию большевиков — передовой отряд рабочего класса… Это был великий день!
Возвращался Виталий в деревню — словно летел на крыльях.
Марченко скрылся в подлеске. У Виталия будто гора свалилась с плеч. Через час все делегаты будут вне пределов досягаемости, а за себя и своих партизан Виталий не боялся. Не за тем они шли в партизаны, чтобы думать о своем благополучии.
6
На пути к штабу Виталий встретил трех девушек. Несмотря на будний день, они были в ярких, праздничных полушалках. Это шла смена в лазарет.
Настя Наседкина окликнула задумавшегося Бонивура:
— Виталя!
Виталий взглянул на девушек и улыбнулся.
— А ну, девчата, двигайтесь быстрее! В лазарете Ксюша уже, наверно, с ног свалилась.
Настенька приветливо помахала ему рукой. Взгляды их встретились. Что-то теплое и хорошее мелькнуло в задорных глазах Настеньки. Она крикнула:
— Виталя! Придете вечерком?
Юноша утвердительно кивнул головой.
…Молодежь давно избрала полянку возле дома Наседкиных местом для гулянья. Тут танцевали под гармонику полечку с притопами и вскриками, тут парни «женихались» с девушками. Тут пели протяжные, задушевные украинские песни, завезенные вместе с обливными глечиками и вышитыми сорочками и рушниками с Украины, о которой помнили деды и память передавали детям.
Виталий любил эти деревенские вечеринки. Юноша в дробной чечетке не уступал деревенским плясунам. Он был неизменным участником всех игр с того памятного вечера, когда впервые увидел задумчивую Настю у костра, и неизменно в паре с ним оказывалась она. И когда в танце он обнимал ее за талию и несмело прижимал к себе, она не отстранялась. Лицо ее покрывалось нежным румянцем. Короткие волосики на затылке, выбившиеся из-под тяжелой косы, завивались мелкими колечками. Настя искоса поглядывала на Виталия, не отбирая своей руки, и легонько отвечала на его пожатие, не умея ничем больше выразить то, что чувствовала она к Виталию и чему сама еще не могла подобрать название, — а это была любовь, пришедшая к Настеньке и Виталию в их восемнадцатую весну.
Радостью своей, которую принес ему Марченко, Виталию не с кем было поделиться. Не Тебенькову же рассказывать об этом: подумает, Виталию хочется похвалиться. А Виталию просто невмоготу было сдержать свою радость. «Вечером встретимся с Настенькой — обязательно расскажу! Она поймет! Все, все расскажу, и про клятву… Теперь уже недолго до победы!»
7
Бонивур зашел в штаб и оглянулся. Школьные парты были сложены одна на другую и стояли впритык у стен. На одной была откинута доска. Оборотная сторона доски вся изрезана ножом. Красовалась пушка с непомерно широким дулом. Пушка изрыгала дым, возле нее стоял партизан со знаменем, а вокруг валялись враги. Для убедительности над поверженными кривыми буквами было выведено: «Белые». Автор этого произведения подписался полным именем: «Миша Басаргин» — и поставил в конце пятиконечную звезду. Глядя на рисунок, Виталий усмехнулся: отцы берутся за винтовки, чтобы бить врага, — и у детей то же на уме! И если доску парты исправит деревенский столяр, пройдясь по ней рубанком, и сгладит ее, то никакой другой столяр — ни время, ни беды не сотрет, не изгладит того, что врезалось в память ребенка.
И эту подпись Миши Басаргина и пятиконечную звезду Бонивур принял как дружескую поддержку со стороны тех, кто еще не мог встать рядом с ним, но кто давал это обещание на всю жизнь.
Часовой, стоявший у дверей, заглянул в комнату. Виталий спросил:
— Лошади готовы?
Тот отозвался:
— А как же, только махнуть — будут тут… Под навесом пока стоят, в тени.
— А под раненых?
— И под них готовы. Там же.
И опять ходил по селу Виталий. Чем выше подымалось солнце, тем сильнее он тревожился. Смотрел в ясное небо, по которому плыли крохотные облачка, на кустарники, по которым волной перекатывался ветер, на белые стены хат, ослепительно сверкавшие в лучах солнца. Пытался рассеяться, но тревога его не утихала.
8
В лазарете было тихо и чисто. Настенька проветрила комнату. Белели повязки на раненых. На плетне висели, развеваясь по ветру, выстиранные бинты. От ступенек вымытого крыльца подымался чуть заметный парок. Девушки повесили в углах лазарета связки пахучей травы, и приятный запах ее перебил запахи карболки и спирта. Настежь раскрыли окна и двери. Ночной духоты не осталось и следа. Девушки вымыли раненым лица и руки, отобрали махорку, разрешив выкурить лишь по одной закрутке. Лебеда смотрел на кусок неба и жнивья, видимый из окна, вдыхал доносившийся запах травы. Он сложил руки на груди и притих. Выглядел он словно в праздник. Увидев Бонивура, крикнул в окно:
— Эй, Виталя, заходь в гости!
Бонивур заглянул в окно.
— Ну, как живете, товарищи?
Лебеда посетовал:
— Махру девки отобрали… А курить страсть хочется!
Виталий усмехнулся:
— Что ж вы плохо хранили махру-то? Или против девушек не устояли?
Лебеда кивнул головой на Настеньку, показавшуюся на пороге:
— А ты попробуй против такой поборись! Она к нам с лаской. Думали, и верно обрадовать захотела. Словно Лиса Патрикеевна: «Дедушка, дай я вам подушечку поправлю. Вот вам, дедушка, водичка! Вот вам, дедушка, полотенчико! Не свернуть ли вам цигарку?» Свернула, раскурить дала, — Лебеда в этом месте перешел на украинскую речь, — а потим каже: «Оце вам, диду, остання цигарка, а бильш, каже, не буде, бо командир у лазарети палыть цигарки не дозволяе!» Ось тоби и раз! У-у, я тоби! — с притворной строгостью погрозил он Настеньке.
А она стояла в просвете раскрытой двери. Солнце освещало ее фигуру, золотило растрепавшиеся волосы, просвечивало сквозь ситцевое платьишко и обрисовывало фигуру девушки. Никогда Виталий не видел ее такой. Лицо ее разрумянилось, и верхняя губа задорно вздернулась. Глаза ее встретились с глазами Виталия. Лебеда смущенно крякнул и отвел взор, чтобы не смутить девушку. Виталий потупился.
Настенька прошла по комнате и остановилась перед Лебедой.
— Ты чего, дедушка, жалуешься?
— Тот замахал на нее руками.
— Что ты? Что ты? Разве это жалоба?
Настенька спросила Бонивура:
— Ну как, товарищ Бонивур… поругаешь или похвалишь за порядок?
— Похвалю, Настенька.
— Очень?
— Очень.
И от простой этой похвалы девушка зарделась. Взгляд Виталия сказал ей больше его слов. Но и Виталий спохватился, зная, что Лебеда видит взаимное их смущение, и, уже как начальник, серьезно сказал:
— Командир вернется — доложу, что отлично несла службу, товарищ Наседкина!
Повернулся и ушел. Проводила его Настенька взглядом, оправила зачем-то подушку у Лебеды. Тот взял ее за руку, сверху положил свою ладонь, и сильная маленькая ее рука скрылась совсем.
— Что, Настенька… люб тебе?
Было в тоне его что-то отцовское, задушевное. Настенька тихо ответила ему, чтобы не слышали другие раненые:
— Люб-то люб… да не знаю, люба ли я ему.
— А ты поперед батька в пекло не лезь, как у нас говорят. Любит он тебя, я вижу… Приглядывается к тебе да и себя проверяет. Смекай, что сватов зашлет скоро.
Настенька еще тише сказала Лебеде:
— Да он мне никогда ничего не говорил.
— А тебе говорить надо? Сама не видишь — любит он тебя, хоть и не сказывает… Не говорит сейчас — потом скажет. Парень что надо!
Потом Лебеда хозяйственно спросил, словно свадьба Настеньки и Виталия была решенным делом:
— Матери-то сказывала?
— Нет. Мама больная… Да и комсомольцев не любит сильно.
— Это ничего… Будем живы, сумеем ее направить на путь истинный… А я уж посаженым буду у вас, — оба вы сироты, некому будет за порядком смотреть.
Эта беседа произошла так неожиданно, Настенька открылась Лебеде так просто, что и сама не верила себе. О таком и с матерью стыдно говорить, а тут рассказала все чужому человеку и почему-то стыда не почувствовала, а на душе сразу легко стало. Лебеда погладил ее ласково по руке и сказал, глядя в упор своими добрыми глазами:
— Была у меня дочка… Коли б осталась жива, посватал бы за хорошего человека. А ты мне дюже нравишься да и на дочку похожа, вот и заговорил… Только ты теперь никому ни гу-гу. Время придет — всем расскажем.
Настеньку окликнули со двора подруги. Она вышла. Лебеда закрыл глаза и откинулся на подушку. Вот она, жизнь! Дочка его умерла на выданьи. Думал выдать ее замуж да внуков нянчить — не вышло. Тосковали они со старухой долго, но потом всю нежность, нерастраченную, копленную для внуков, стали отдавать людям. Не было отзывчивее стариков Лебеды с Лебедихой. А тут словно вернулась вся эта нежность и согрела сердце старика, когда Настенька выслушала его по-дочерни нежно и доверчиво.
9
Виталий шел, не чуя под собой ног. Настенька, такая, какой он видел ее сейчас, не выходила у него из головы. Он оторвался от своих мыслей, лишь выйдя на площадь, где звенели мальчишечьи голоса.
Ребята играли в войну. Бонивур остановился.
Штабель бревен изображал крепость белых. Ребята постарше, лет десяти двенадцати, нацепили вырезанные из бумаги пятиконечные звезды, украсили свои картузы красной лентой и зашагали к росшей вокруг полыни, высоко подымая ноги и прижимая к плечам длинные прутья.
Командир — Вовка Верхотуров — скомандовал:
— А ну, ребята, песняка!
И все вразброд запели:
Все тучки, тучки понависли.
И с моря пал туман.
— Скажи, о чем задумался,
Наш Чуркин-атаман?
Виталий покачал головой.
— Что же вы, ребята, о разбойнике поете? Уж если вы партизан изображаете, так и песня должна быть подходящей. Я же учил вас.
Вовка покосился на Бонивура. Потом махнул рукой.
— Отставить про Чуркина! Давай затягивай про революцию!
И первый запел:
Тучки черные по небу вьются…
Рати белых идут на восток.
Но мечи уж повсюду куются:
Жизни новой восходит росток.
Грозы на небе гулко грохочут,
Пушки огненным смерчем горят…
Белым гибель готовит рабочий,
И в тайге партизаны стоят
Ребята скрылись в полыни. Тотчас же в «крепость» полетели комья земли с травой. Малыши, сидя на бревнах, терпеливо ждали, когда можно будет пустить в ход и свое оружие — шапки подсолнухов. Уже в полыни началось движение. Это «красные» готовились идти на штурм. Двое ребят привязывали красный платок к палке, чтобы двинуться в атаку с развернутым знаменем. Но в этот момент военные действия были неожиданно прерваны.
Один из мальчишек, оставшихся в «крепости», слез с бревен и решительно направился к полынному полю, не обращая внимания на комья земли, летевшие мимо него и падавшие у его ног. Он храбро перешел поле. Навстречу ему выскочил Верхотуров и сердито закричал:
— Ты куда, Мишка, лезешь? Раз ты белый, так сиди в крепости, а когда мы ее возьмем, тогда можешь уходить.
— Не хочу! — сказал Мишка, упрямо мотнув головой. — Белым быть не хочу. Я красный.
— Если все будут красные, так кто будет белым? — убеждал его Вовка.
— Никто! — сказал Мишка.
— Как это так — никто? Что же это будет?
— А так: никто — и все! И очень хорошо будет! — убежденно ответил Мишка.
Наблюдавший за этой сценой Виталий рассмеялся. Он подошел к ребятам и сказал старшему:
— Ну что ты, Вовка, заставляешь его белым быть? Пусть будет красным.
— Да у него даже и звезды нет! — заупрямился Вовка.
Виталий обнял Мишку за плечи.
— Как тебя звать?
— Мишка Басаргин.
Бонивур вспомнил баталию на доске парты, подписанную именем его нового знакомца, и сказал:
— Ничего, Мишка, будет у тебя звезда!
Он снял фуражку, отцепил с околышка свою пятиконечную звездочку и дал Мишке. Тот осторожно взял звездочку, прицепил ее к своему дырявому картузу и заблестевшими глазами глянул сначала на «командира», потом на Виталия.
Бонивур напутствовал его:
— Смотри, не потеряй!
— Ну что ты! — сказал Мишка. — Я-то потеряю? — И, не зная, чем выразить обуявшую его радость, он выхватил деревянную саблю, хлестнул по ивовому пруту — лихому скакуну — и закричал пронзительным голосом: — Ур-ра-а! — и помчался в наступление на «крепость». — За мной! Ура-а!
Виталий поманил к себе Верхотурова и сказал ему:
— Вот что, Вовка, собери-ка ребят, которые побойчее, постарше!
Через минуту собралось человек десять. Помолчав немного, Виталий сказал:
— Ребята! Вы должны помочь нам. Надо, чтобы вы последили за дорогой да за кустами. Людей заметите — сейчас же в село и сообщите мне. Ну, кто возьмется за это?
Вовка тотчас же сказал:
— Я!
За ним еще шестеро вызвались помочь Бонивуру.
10
Бонивур послал подростков к дозорным. Засев на половине расстояния между дозорными, они смогли просматривать теперь всю округу.
Вовку Бонивур поставил неподалеку от Колодяжного.
— Ну, партизан! — легонько хлопнул он Вовку по плечу. — Смотри в оба.
Верхотуров взглянул на Виталия.
— Вот винтореза бы мне сюда еще.
— Винтореза?
Вовка смутился.
— Ну, винтовку! Как беляк на дорогу, я его раз — и готово.
Бонивур усмехнулся.
— Успеешь еще, навоюешься! — И ушел.
Когда Виталий исчез из виду. Колодяжный окликнул Вовку:
— Эй, сынок! Поди сюда! — Вовка подошел. Старик усадил его возле себя. — Ну, посиди со мной, а то сон морит.
Вовка буркнул:
— Виталя сказал, с того поста наблюдать!
Колодяжный ворчливо ответил:
— Виталя, Виталя!.. А я-то что, не знаю, чего можно, чего нельзя? Мне и отсель твой участок — как на ладони. — Он прищурился. — Ишь ты, и сосункам дело нашел Виталька! Ох, и дошлый!
— Деда! — сказал Вовка. — А верно сказывают, Виталий в Москве был?
— Был.
— И Ленина видел?
— Ну да, видел.
— Он нас песни учит петь.
— Виталий-то?
— Ага.
— Его на все дела хватает, — сказал, зевнув, Колодяжный. Старика томила дремота.
Раскаленный воздух слоился над окрестностью. И дальние сопки в потоках этого воздуха трепетали и словно двигались. Редкий ветерок пробегал по белым дорогам, взметывал тучки пыли, будто кто-то невидимый шагал по этим дорогам, таясь от всех.
Томительный жар словно придавил все вокруг. Даже птицы в кустарнике замолкли, оглушенные зноем. Солнце все сильнее и сильнее палило землю, будто решило выжечь ее дотла. Несмелый ветерок не смягчал жары, царившей вокруг.
«Быть грозе!» — подумал Колодяжный, сбив свой треух на затылок и обливаясь потом.
И в самом деле, гроза была близка…
Глава 24 Налет
1
Партизанский дозор, выставленный у завода Пьянкова, обстрелял белых. Белые замешкались было, но Суэцугу махнул на дорогу рукой, и казаки поскакали дальше. Алеша Пужняк только что залил бочку бардой. Увидав, что белые помчались к селу, он вскочил на коня и понесся быстрее ветра напрямик, опережая казаков, чтобы предупредить штаб.
Старик Колодяжный прищурил глаза: на дальней дороге, которая вела к заводу Пьянкова, заклубилась пыль. Вовка тронул старика за рукав.
— Дедка! Глянь, скачет, — шепнул он.
— Вижу! — хмуро отозвался партизан, открыл подсумок и широко перекрестился. — Ну, помогай бог! — Он обратился к побледневшему при виде этих приготовлений мальчику: — Беги, сынок, до штаба! Бонивуру скажешь: скачут сабель сто, а может, и поболе. А потом ховайся да татьке с мамкой скажи — окна подушками закрыть, а самим в подпол залезать. Носу на улице не высовывать, пока не уйдут белые из села… Ну, чего стоишь? Беги!
— А вы, деда? — спросил мальчуган. — А вы?
— Беги. Я за тобой.
Вовка помчался через кустарники, заливисто засвистел, заложив два пальца в рот, — это был условный знак. Колодяжный посмотрел вслед Вовке, пригладил бороду, вздохнул и опять внимательно прощупал глазами местность. Далеко в стороне, поперек кривизны дороги, что вела к заводу, скакал одинокий всадник. Он почти слился с лошадью.
«Кто такой? — спросил себя старик. — Скачет, будто упредить хочет. Не иначе как кто-нибудь из наших… А эти-то, ишь, наперерез пошли. Придется этих осадить. Господи благослови!» Колодяжный поднял винтовку, тщательно прицелился во всадников, показавшихся на дальнем повороте, и выстрелил. Вогнал второй патрон, вскинул винтовку, приложился и опять нажал на спусковой крючок. Выстрелил он пять раз с быстротой, на какую способен лишь старый солдат и охотник. Все пять выстрелов заняли несколько секунд. Потом он всмотрелся в колонну. Про себя сказал:
— Ай да дед! Поди, паря, двух спешил… Так и надо. Не скачи! Расскакались, черта вашей матери!
Колонна расстроилась. Кинулись в сторону лошади, сбросившие седоков. Задние осадили, оглядываясь по сторонам. Головные оторвались от середины, затем стали поворачивать и спускаться со шляха на обочины. Отряд рассыпался по кустам. Белые стали пробираться скрытно и сильно замедлили продвижение.
Одинокий всадник ожесточенно нахлестывал коня. Колодяжный ясно разглядел красную ленту на его фуражке, а мгновением позже узнал Алешу Пужняка.
— Добре, сынок, добре! — шепнул он.
Алеша, не обращая внимания на выстрелы, мчался к селу. Прорвался через кустарники и пересек дорогу. Вылетел на пригорок, мелькнул в кедровой рощице, выехал на малую тропу и, втянув голову в плечи, помчался к околице.
Большая группа белых скопилась в лощинке справа. Лощинка вела к селу, огибая высоту, на которой притаился Колодяжный. Белоказаки шли осторожно, оглядываясь по сторонам. Партизан опять тщательно прицелился и выстрелил.
И на этот раз он не промахнулся. Пули его находили тех, к кому посылала их твердая рука. Вот один как шел, так и уткнулся в траву, не выпустив поводка из рук. Под вторым конь шарахнулся на пригорок, пролетел по нему несколько шагов, вздыбился и рухнул наземь, придавив своей тяжестью седока. Третий вдруг выпрямился в седле, приподнялся на стременах, взмахнул нагайкой, словно собираясь ринуться вскачь, и кулем запрокинулся на сторону. Испуганный конь помчался назад, оглядываясь на седока, которого волочил по земле, и скрылся в кустах.
Колодяжный увидел, что белые положили коней, — видимо, совещались. Он перебежал на другую сторону холма. Алеши Пужняка не было видно, он уже добрался до Виталия. Между тем и белые оправились от смятения, вызванного выстрелами, и пошли широким фронтом, охватывая полукругом дорогу к селу и подступ к холму, на котором находился Колодяжный, окружая засаду. Дед высмотрел место, где кусты колыхались сильнее.
— Либо конные идут, либо группа. Была не была — повидалась! — сказал он вслух и выстрелил. Должно быть, ранил лошадь, потому что та высоко подняла голову и бросилась в сторону. Она ломилась через чащу, и треск сучьев пошел по кустам. Наконец она заржала звонко, заливисто и потом замолкла. — Жаль конягу! — сказал дед.
Выстрелы деда вызвали переполох среди наступавших. То тут, то там в чаще замелькали лица и фигуры людей. Колодяжный, разрядив винтовку наугад, обежал холм и увидел, что настала пора уходить. Приседая по-стариковски, он трусцой побежал к околице села. Крики наступающих заставили его обернуться. Беспорядочно стреляя, белые кинулись на холм. Дед показал кукиш:
— На-кося, выкуси… партизанского!
Он добежал до валунов и присел за ними. Белые показались на холме. Дед опять приложился. Один казак упал, на секунду задержался, потом покатился вниз… все быстрее и быстрее; встречавшиеся на его пути камни подбрасывали тело вверх.
Колодяжный буркнул в усы:
— Покатайся, поваляйся…
Но последний выстрел выдал его. Пули защелкали по камням, откалывая куски. Острый осколок угодил в деда. Он пошатнулся и схватился за ухо. Осколок оторвал мочку. Кровь полилась деду за воротник. Злые огоньки блеснули в его глазах.
— Мальчонку нашли — ухи рвать, туды вашу!.. А этак вот не хочете! — Он опять выстрелил, но не видел, попал ли в кого.
Целый град выстрелов ответил ему. Дед присел, переждал немного и ползком, скрываясь за валунами, стал пробираться к леску, закрывавшему лощину. На подъем карабкались белоказаки. Среди них Колодяжный заметил человека в черном пиджаке. Дед остановился и глянул внимательнее.
— Никак знакомого бог несет! — сказал он в усы и приостановился.
Человек в пиджаке ходко лез в горку. За ним на некотором отдалении следовал смуглый, цыганистый казак, а за тем уже целая группа. Человек в пиджаке поднял лицо, и Колодяжный узнал Кузнецова. Гнев бросил деда в краску. Руки у него затряслись. И, вместо того чтобы отойти село, крыши которого уже виднелись, он спрятался за сосной и затаил дыхание. Казалось, он успокоился, руки его перестали дрожать. Он смотрел не мигая, как приближается к нему Кузнецов. Он видел, что какой-то, с лычками на погонах, заставил группу перестроиться в цепь. Казаки немного поотстали. Только Цыган и фельдшер лезли все выше. Кузнецов, достигнув пригорка, обернулся и успокоительно махнул рукой. Потом он глянул вперед и прямо перед собой увидел Колодяжного. Дед спокойно сказал ему:
— И пошто ты, Петрович, все ходишь тут? Твоего ли ума дело? Тебе бы коням градусы вставлять, а ты людям жить не даешь. Чего не здороваешься? Не узнаешь?
Кузнецов подумал, что дед не знает о его бегстве. Бледность сошла с его щек, и он, чтобы оттянуть время, проронил:
— Здравствуй, Егор Иваныч!
— Здравствуй, иуда! — грозно крикнул Колодяжный.
И фельдшер, поняв, что попал в ловушку, обернулся на косогор, с которого уже виднелась голова Цыгана.
— Куда смотришь? — заревел дед. — Сюды смотри, на смерть смотри, иуда!.. Собакой жил, собакой и сдохнешь!
Он чувствовал, что цепь белых вышла на косогор и крыло ее обогнуло рощу, в которой он стоял. Колодяжный вскинул винтовку и выстрелил в Кузнецова. Фельдшер схватился за живот руками, страшно вытянулся, глаза его округлились, в ужасе он смотрел на старика.
— Смотри, смотри! — сказал дед и поднял винтовку.
Но Цыган припал к земле и крикнул Колодяжному:
— Беги, дед!
Кузнецов рухнул на землю и завыл, катаясь по ней. Кровь обагрила траву и одежду. Белые сомкнули кольцо и бежали к Колодяжному. А он, встретив безумный взгляд Кузнецова, сказал:
— Умирать будешь долго, собака! И за меня и за наших будешь мучиться, иуда.
Он с отвращением плюнул и обернулся, услышав шорох за спиной. Восемь белоказаков бежали на него. Дед выстрелил. Один споткнулся и упал. Дед опять щелкнул затвором, но по звуку понял, что патронник пуст. Он сунул руку в подсумок, там было пусто. В этот момент одна пуля ударила его в ногу. Он крякнул. Вторая впилась в мякоть руки. Третья пуля ткнула его под лопатку. Он болезненно сморщился. Двое подняли вверх приклады, чтобы ударить деда, но он скользнул под приклад одного и пырнул казака штыком.
— Помолись за меня, мертвец! — обернулся ко второму и наотмашь ударил его по голове.
Но остальные уже подбежали, кольцом окружая деда. Старик, словно цепом, махал винтовкой и пошел прямо на белых. Кто-то крикнул:
— Живьем бери!
— Попробуй, возьми! — сказал дед и заревел, как раненый медведь.
Шатаясь, весь залитый кровью, Колодяжный ринулся из круга, к валунам.
— Уйдет, стреляйте! — взвизгнул кто-то сзади.
Засвистели пули вслед старому партизану.
«От смерти не уйдешь!» — с трудом подумал дед.
Не хотел живым даться Колодяжный. Он кинулся к валунам, но споткнулся, со всего маху ударился головой о каменный выступ и замертво упал.
2
Вовка Верхотуров подбежал к штабу и, задыхаясь, крикнул Виталию:
— Идут беляки… Может, сто, может, боле… на шляху!
Виталий встрепенулся, машинально обдернул гимнастерку, встал и посмотрел в ту сторону, куда указывал Вовка.
— Опоздали! — с торжеством сказал он и провернул барабан нагана, хотя и без того знал, что наган заряжен.
Из-за околицы подбегали и другие ребята с той же вестью. Виталий сказал:
— Спасибо, друзья! А теперь по домам! Сами прячьтесь, и всех прячьте. Всем скажите: на улицу не выходить!
Заметив Вовку, который не сводил с Виталия глаз, он спросил:
— Что тебе?
— Может, я пригожусь? — дрогнувшим голосом сказал Вовка.
— Подрастешь-пригодишься! — ответил Виталий. — А сейчас — домой!.. Одна нога здесь, другая там!.. Ну, быстро!
Вовка пошел медленно, нехотя, надеясь, что Виталий вернет его, но Виталий уже забыл о нем. Ребята припустились бежать. Еще не успели они скрыться, как из-за околицы в село ворвался Алеша Пужняк. Он осадил коня у штаба.
— Беляки скачут, Бонивур! — крикнул он, переводя дыхание. Конь его тяжело поводил боками, с губ его хлопьями падала пена. — Как бы съезд не захватили, Виталя! Я их здорово опередил… Успеем через брод переправить.
— Опоздали! — повторил Виталий. — Да мы их тут еще на полчаса задержим — и все, ищи ветра в поле!
— Слава богу! — вздохнул Алеша.
Бонивур только теперь сердито посмотрел на Пужняка.
— А ты чего примчался? Думаешь, тут без тебя не управятся? Ох, Алешка… Ну, давай обратно! У Андржиевского был?
— Был. Только паковать начали, а тут скачут! Мы стрелять, а они мимо. Казаки. Сотня! Тут я напрямик взял. Они по дороге, а я вперерез. Насилу упредил.
— А кто же к Любанскому отправится, товарищ Пужняк? — тихо спросил Виталий.
— Так ведь упредить надо было вас, чтобы приготовились, — растерянно ответил Пужняк.
Виталий строго сказал:
— Сейчас же назад. Пока село не окружили. Письмо и посылку надо сегодня же отправить Любанскому. Понял?
— Понял.
— Айда! Не попадись только, Алеша. — Виталий хлопнул Пужняка по колену. — Пошел!
Рванулся конь Алеши. Виталий отскочил в сторону. Не оглядываясь, помчался Алеша через огороды из села. Виталий же через минуту был возле лазарета. Он махнул рукой дневальному, стоявшему в тени, возле лошадей. Подводы встали у крыльца. Виталий сказал Настеньке:
— Помоги погрузиться раненым, сама прячься. За нас не беспокойся!
— А ты? — с тревогой спросила Настенька.
— Я вернусь скоро! — улыбнулся Виталий. — Ничего они этим налетом не добьются… промнутся только.
Он взглянул на штаб. Имущество было уже погружено на подводы. Часовой еще стоял у крыльца. Бонивур крикнул ему:
— Чекерда! Снимай пост. Поручаю тебе штабное имущество в тайгу переправить.
Чекерда сел на подводу, взял вожжи и чмокнул губами: «Н-но, пошел!» Кони легко тронулись с места и вынесли подводу на тракт. Виталий оглянулся. Из лазарета выносили раненых. Панцырня ступал, крепко сжав губы. Его усадили на подводу, устланную сеном. Рядом положили Олесько. Когда Олесько переносили, он потерял сознание, но потом опомнился и сказал едва слышно:
— Оставили бы меня, товарищи, все равно уж скоро мне…
Лебеда сердито крикнул на него:
— Не хнычь, хлопец… Люди знають, що роблять… А ты мовчи!
Подросток лет шестнадцати хлестнул лошадей. Поскотина была разгорожена. Чуть видная тропа уходила в редколесье, да которым текла речка. Подвода, мягко подскакивая по траве, углубилась в лес, по направлению к броду.
Вслед двинулись вторая и третья подводы. Парни, сидя на передке, нахлестывали лошадей. На одной подводе были аптечные ящики, казна, документы. Лебеда напоследок обнял здоровой рукой Настеньку, крепко поцеловал и сказал:
— Поихалы с нами, дочка?
Настенька ответила по-украински, как всегда в минуты волнения и в разговорах с матерью:
— Ни, не можу, бо маты в мене хвора! Як вона тут одна останется?
— Ну, тоди ховайсь, дивчинонька, бо белым на очи краще не попадаться. Прощай.
— Прощайте, батько Лебеда.
Подвода тронулась, Лебеда сказал Виталию:
— Торопись, комиссар.
— Я сейчас! — сказал Бонивур и взял Настеньку за руку.
3
Подвода с Лебедой миновала лесок. Листва и хвоя, опавшие на землю, смягчали ее ход. Старик посмотрел на свое плечо, на косынку, что придерживала на весу раненую руку, и ухмыльнулся.
— Ось який з мене сват вийшов! И рушник в мене е, як у свата, тильки музыка щось-то не грае… Де ж ти музыкарики?
В этот момент на холме загремели выстрелы. Парень, гнавший подводу, кивнул Лебеде:
— Уж заиграла твоя музыка. По этой, что ли, скучал?
Кони вошли в воду. Речка текла быстро и казалась тут глубокой. Но парень, кинув взгляд на другой берег, взял наискосок разбитого молнией дерева и направил коней против течения. Поперек реки, не заметная глазу, шла каменная перемычка. Это и был брод. Кони шли, осторожно ставя ноги. Вода журчала, обтекая их и оставляя ребристый следок. Кони фыркали и прядали ушами при звуках выстрелов. Лебеда повернул голову и стал вслушиваться.
— Ты не знаешь, батько Колодяжный еще не переправлялся через брод?
— Нет, не видал.
Переправа кончилась. Уже виден был на песчаном берегу темный следок от первых подвод и на траве блестели капли воды. Лебеда опустил ноги в воду и спрыгнул с телеги. Парень удивился:
— Куда вы, батько Лебеда?
— А до батька Колодяжного. Вин же там один.
— Мне Виталий вас поручил, я за вас отвечаю.
— Ну, ты за себя отвечай, а уж я как-нибудь отвечу сам, — сказал Лебеда и побрел обратно, держа винтовку над головой.
Парень остановил лошадей. Лебеда обернулся.
— Чего стал? Тебе велено подводу в тайгу отвезти, так и вези, а приказ не нарушай… Гони, я тебе говорю, чего коней в воде держишь? Гони!
Парень вздохнул и хлестнул коней вожжами. Кони сразу взяли пригорок и скрылись в тайге. Лебеда пошел быстрее. Теперь выстрелы слышались чаще. Лебеда хмурил брови и шел, все ускоряя шаг.
Миновав переправу, он попробовал взять винтовку больной рукой; косынка не давала ей разогнуться. Стрелять было трудно, но можно. Старик пересек рощу и стал подыматься по косогору. Перевалив его, он почти бегом пустился к холму, где отстреливался от белых Колодяжный. Лебеда бежал и шептал, словно Колодяжный мог его услышать:
— Держись, куме, держись!.. Держись, куме, держись!.. Ще трошки, куме… Ще малость…
Он бежал задыхаясь. Рука на перевязи ныла все сильнее. Плечо и руку будто солнце нагрело — они стали совсем горячими. А губы старика пересохли. Воздуху не хватало. Голова сильно кружилась. Колени слабели, и ему стоило большого усилия не остановиться. Он уже не бежал, а шел. Сухой язык во рту лежал, как колода. Лебеда пытался подбодрить себя:
— А ну, старый, наддай!
Лесок кончился. Впереди белели валуны, возле которых копошились люди. Лебеда передохнул, наставил ладонь козырьком и всмотрелся… Силы словно вернулись к нему. Глаза по-прежнему видели все отчетливо. И Лебеда узнал Колодяжного, который отбивался от белых. Он увидел, как ринулся на них Колодяжный, и услышал его медвежий рев. Он поднял винтовку, но опустил ее, когда Колодяжный грянулся о камни. На секунду все задвоилось в глазах у Лебеды. К партизану подбежали белоказаки, тронули его и отошли прочь. «Опоздал!..»
— Ну, добре, кум, що хоч не от их поганой руки помер! — скорее подумал, чем сказал, Лебеда и поднял винтовку. — Хорошей смертью помер… Надо ж тоби й поминки хорошие!..
Он уложил двух возле кума. Потом почудилось Лебеде, что земля под ним колышится, как зыбка. Слух изменил ему. Он не слышал, какая вдруг поднялась трескотня. Он был слишком заметной мишенью на открытом месте. Пуля ударилась в приклад и раздробила его. Лебеда непонимающе посмотрел на сломанную винтовку, но затем выпустил ее из рук.
— От, ледащо! — сказал он про себя.
Потом вдруг увидел ярко-голубое небо. Ни облачка не было видно на нем. А над собой Лебеда увидел казачью голову в папахе. На лице казака топорщились усы, глаза пристально глядели на Лебеду. Партизан долго, как ему показалось, думал, откуда взялся казак и что ему надо. Потом он устало закрыл глаза.
4
Когда телега с Лебедой скрылась за околицей, Виталий велел Настеньке спрятаться.
— Зачем? — сказала Настенька.
— Ты слушай меня, спрячься! — повторил Бонивур. — Береги себя, Настенька!
Девушка ступила шаг и оказалась вплотную к нему.
Вся кровь отхлынула у него от лица. Показалось Настеньке, что разлука их будет долгой, и на все запреты она махнула рукой: пусть говорят, что хотят. Она обвила его шею руками, прижалась к нему. Виталий взглянул ей в глаза и прильнул к ее губам. Потом Настенька оттолкнула Виталия и строго сказала:
— Беги, любый!
Виталий, словно не в себе, не мог оторвать от нее глаз. Она повторила:
— Беги!
Он улыбнулся:
— Милая… любимая!
И третий раз Настенька сказала:
— Беги!
Тогда Виталий поцеловал ее и сказал:
— До свиданья, Настенька… Ты прячься!
— Спрячусь, милый, — проговорила Настенька и побежала домой.
Виталий глядел ей вслед. Голова его горела от того, что произошло. Он сам не верил себе. Но он до сих пор чувствовал прикосновение Настеньки и знал, что это правда, что он вернется сюда, к ней, и доскажет недосказанное. И вдруг все для него сделалось таким простым, как простым было их объяснение… Что за день был сегодня! Видно, и счастье, как и горе, не приходит в одиночку, — сначала слова Марченко, теперь взор Настеньки, и слова ее, и объяснение… Мир вокруг Виталия раздвинулся, став нескончаемо просторным и в то же время вместившись в сердце Виталия, переполненное радостью. Какой щедрой бывает иногда судьба!..
Выстрелы с холма, где находился Колодяжный, отрезвили Виталия.
Он бросился туда, чтобы помочь старику, но сообразил, что Колодяжный, задержав наступающих с южной стороны села и заставив их рассеяться, может выйти прямо к броду, через лесок. Однако, белые могли обойти его с восточной стороны, где доступ был удобнее, будучи скрыт мелколесьем. Надо было шугануть их хорошенько тут! Если они залягут, можно будет задержать их минут на сорок. За это время подводы уйдут далеко, не говоря уже о том, что делегаты смогут достигнуть соседних сел…
— А ну, Тебеньков! Давай со мной! — крикнул он партизану, который, вогнав патрон в патронник и поставив винтовку на боевой взвод, следил за Виталием — что прикажет? — и прислушивался к выстрелам, раздувая ноздри и сжав зубы.
Схватив ручной пулемет «шош», Виталий кинулся к восточной окраине, перемахнул через плетень двора Басаргина. Тебеньков за ним. Пробежали через огород, выскочили на зады усадьбы Чувалкова и огляделись. Белые потихоньку, переползая по одному, по два, скапливались в кустарнике на косогоре. Спрятавшись за угол крытого чувалковского двора, Виталий полоснул по притаившимся казакам, не ожидавшим удара отсюда, короткой очередью из пулемета. Казаки бросились врассыпную. Вторая очередь уложила их носом вниз в теплую землю.
— Машинально! — сказал Тебеньков, вкладывая в это слово восхищение свое точностью прицела и правильностью расчета Виталия.
Он приложился, нажал спуск и послал пулю в казака, который поднял голову. Казак ткнулся в землю.
— Ага, понюхай, чем пахнет! — сказал Тебеньков.
Казаки ползком, прячась за всеми укрытиями, стали откатываться с косогора вниз, к овражку.
— Дело! — сказал Виталий.
Так пролежали Виталий с Тебеньковым минут десять. Казаки стали отвечать на выстрелы Виталия. Пули посвистывали где-то в проулке или с сочным чмоканьем впивались в бревна отсыревшего угла. Одна прошила фуражку Тебенькова, чуть приподняв ее. Парень судорожно схватился за козырек, сорвал фуражку, посмотрел на свежую круглую дырочку.
— Ничего дает! — сказал он одобрительно. — Малость бы пониже — и в самый раз!
Виталий встряхнул волосами, закрывавшими ему глаза, и только сейчас сообразил, что на нем нет фуражки. Он оставил ее в штабе, на окне, возле которого сидел, выглядывая и ожидая новостей.
Пора было отходить.
От огорода к огороду перебегали они, на каждом рубеже задерживая белых. В отдалении справа в проулке завиднелась школа. Еще две перебежки, а там лесок, за ним переправа. Виталий передал Тебенькову «шош»:
— На-ка, перебегай дальше! Я сейчас.
— Куда ты? — недоуменно спросил парень. — Я с тобой!
— Сейчас! — ответил Виталий и кинулся по проулку к школе. — А ты давай к броду — и на тот берег! Я выйду ниже.
Схватить фуражку с подоконника штаба и потом обратно — на это нужно было три-четыре минуты. Виталий подбежал к штабу. Но возле крыльца уже стояли чужие кони.
— А, черт! — сквозь зубы сказал Виталий, но не остановился.
Окно было открыто. Фуражка лежала на старом месте. Виталий протянул за ней руку. Из окна выглянул бородатый казак. Он посмотрел на Виталия, пошевелил губами. Но, прежде чем он успел издать хоть один звук, Виталий разрядил свой наган прямо в лицо бородатого, обогнул штаб и, прячась за избами, побежал к выгону.
Отовсюду слышались выстрелы. Они слышались даже со стороны реки. Если выйти туда, как раз угодишь на преследователей! Видимо, белые обложили село…
Бонивур достиг поля, заросшего полынью, и лег. Надо было обдумать свое положение. Оно было не из завидных.
Двое конных показались невдалеке. Ускользнуть от них было невозможно. Они заметили Виталия. Бонивур присел в полынь, торопливо зарыл наган, вынул из гимнастерки документы — комсомольский билет и мандат делегата Третьего съезда комсомола, закидал травой. Разодрал подкладку фуражки. Вынул листок папиросной бумаги — это были владивостокские явки, которые Виталий не успел заучить. Первым движением его было положить бумагу в комсомольский билет, но он остановился: слишком многими жизнями рисковал Виталий, оставляя здесь явки. Он бросил взгляд поверх полыни. Конные повернули к нему. Тогда Виталий принялся жевать бумагу. Она набухла и стала жесткой. Кое-как разжевав, он проглотил бесформенные комки, в которые превратилась бумага, и, сплюнув горькую слюну, поднялся. Демонстративно застегивая ремень, пошел прямо по дороге, не скрываясь. Конные догнали его. Посмотрев на их смуглые скуластые лица и желтые лампасы, Виталий подумал: «Гураны, забайкальские! Народ хитрый… Этих не проведешь!» — И, опережая вопросы, спросил, протягивая ладонь:
— Махорочки не дадите, господа казаки? Курить страсть хочется.
— Кто таков? — придержал коня старший казак.
— Соседский, — отвечал Бонивур, глядя на него.
— Чего тут шалаешься?
— Да вару призанять хотел. Сапожник я… Так что, не дадите махорочки?
— Нашел время за варом ходить! — сказал второй, разглядывая Виталия.
Бонивур усмехнулся:
— Откуль же мне знать, что тут пальба подымется? Кабы вы упреждали, что, мол, тогда-то будем палить, так я бы и не пошел… А погода с утра была добрая.
— Больно ты разговорчивый, — сказал второй.
Виталий понял, что чуть не переборщил. Все внутри у него клокотало от волнения. Нетрудно проявить доблесть и выдержку в бою, где справа и слева товарищи, думающие то же, что и ты. Но когда ты один и безоружен; когда на выручку тебе не придут ни сила, ни оружие, нужно еще что-то, кроме храбрости. Тут нужно ясное сознание и трезвая оценка. Ни тени страха — или все погибло. И Виталий победил в себе страх. Он заставил себя улыбнуться.
— А уж род у нас такой… говорливый. Фамилие мое Говорухин. Опять же сапожники, они завсегда говоруны… Шпильки-то вгоняешь-вгоняешь, дратву сучишь-сучишь, мысли всякие думаешь-думаешь, аж тошно станет. Ну, живого человека увидишь — и язык сам завьется… Неда ром говорят: язык без костей!
— Точно, что без костей, — сказал казак. Он вынул тавлинку и отсыпал Виталию махорки. — Самосадка, горлодер!
Виталий скрутил козью ножку и задымил. Слезы выступили у него на глазах. Он поперхнулся.
— И то горлодер… У нас такого не садят.
— Рази, паря, здесь табак? — снисходительно сказал казак. — Не табак, а капуста. А это — забайкальский.
Казаки проехали мимо. Виталий шел, едва шевеля ногами. Топот сзади заставил его отскочить в сторону. Мимо пролетел еще один белый. Он догнал тех, что трусили впереди, что-то показал им, и вдруг все трое повернули назад, к Виталию. Третий крикнул ему:
— А ну, давай, паря, шагай за нами.
— Чего это? — удивился Виталий.
— Отведем в штаб, там узнаешь.
— Да мне до вечера вернуться домой надо. Хозяин заругает! — громко сказал Виталий.
Белые переглянулись. Двое настроены были в пользу Виталия, но третий решительно заявил:
— Давай, давай… Кому говорю?
Взятую на себя роль приходилось играть до конца. Виталий опять обернулся к казакам:
— А бумажку мне в штабе дадут, что я задержан был, а не с девками балясы точил?
— Иди… Коли надо, дадут… Да добавят еще.
Виталий зашагал. С боков и сзади ехали белоказаки. Лошади касались его мордами и обдавали теплым дыханием.
5
Простившись с Виталием, Настенька побежала домой.
Она бежала и думала о Виталии и об их объяснении в любви, неожиданном и простом. Из знакомых парней ни один не грезился ей. Когда же впервые в деревню с отрядом пришел Виталий, она, увидев его, сразу почувствовала, что он ее желанный. Когда поцеловалась девушка со своим любимым — словно обет ему дала в верности, потому что знала: второй поцелуй соединит их не скоро. Страх пронизал ее всю, когда у нее мелькнула мысль, что село окружают белые и Виталию придется идти через их огонь, что пули убивают и тех, кто много любил, и тех, кто впервые поцеловал девушку.
А рядом со страхом жила в ней радость, что без лишних слов сказал о любви своей Виталий. И в короткий миг, пока глядела она ему в глаза, родные, ласковые, хорошие, родилось в ней счастье. И чтобы сберечь его, она оттолкнула Виталия, сказала ему: «Беги!» Трижды повторила она это слово, пока смог оторваться от нее юноша. Она подтолкнула его и побежала сама.
Ее дом стоял на окраине. Бежать пришлось через половину села. Улицы опустели. Кое-где в домах позакрывали ставни. Хаты словно ослепли: в окнах торчали подушки и дерюги. Настенька оглянулась. Виталий скрылся из виду. «Только бы добрался до брода!» — подумала Настенька, услышав трескотню выстрелов на холме.
Потом девушка услышала странный свист… еще и еще… «А ведь это же пули!» — сообразила она, приостановилась и оглянулась. С холма скатывались конные. Они мчались на село; обнаженные клинки сверкали в воздухе. С другого конца улицы хлестнула пулеметная очередь. Белые кричали. Прерывистое «ура», то стихая, то снова вспыхивая, слышалось со всех сторон. «Окружают», сказала себе Настенька. Посмотрела вдоль улицы. Сзади маячили конные. Тогда она бросилась дальше. Совсем задохнулась, но продолжала бежать, пока не увидела плетень своего двора. Она перелезла через городьбу. За плетнем она присела, тяжело дыша, и увидела, что в сенцах дома стоит ее мать. Мать опиралась о косяк, с трудом держась на ногах, и тревожно глядела вдоль улицы. Конный проскакал мимо, гикнув, и выстрелил. Старуха испуганно захлопнула дверь, но тотчас же приоткрыла ее опять. Настенька ползком добралась до крыльца.
— Мамо, идите в хату… Я тут.
Мать тихонько вскрикнула:
— Доню моя!
Настенька вошла в сени и тотчас же заперла дверь. Мать припала к ней, плача, и вся дрожала, как в лихорадке. Она гладила дочь. Слезы струились по ее лицу, но она не вытирала их.
Настенька отвела ее и усадила на кровать.
— Успокойтесь, мамо.
Обняла мать за плечи и села рядом с нею. Потом положила голову на колени матери. Старуха опустила на горячий лоб дочери свою сухую, теплую ладонь.
— Господи боже, а я перелякалась. Думаю: де ж вона, моя рыбонька?.. А кругом стрельба… Аж в мене сердце зайшлось.
Настенька не ответила ей. Она гнала от себя мысль, что Бонивур мечется среди белых, ища спасения, старалась уверить себя, что он уже миновал брод. Сосны шумят над ним, и он улыбается, представляя себе бешенство белых, не нашедших в селе ни одного партизана. Но сердце щемило. И как девушка ни успокаивала себя, ей становилось все тоскливее. Она заплакала. Мать наклонилась над нею:
— Що ты, доню?.. Я с тобою.
— Страшно, мамо! — сказала Настенька.
Мать поняла, что происходит в душе дочери. Она тихо сказала:
— Они уже в тайге… Хиба ты кого с партизанив покохала, доню?
— Да, — еле слышно ответила дочь.
Старуха закрыла глаза.
— Що ж, доню… Люби, пока любится… — Мать перестала ее гладить. Долго сидела молча. Затем вздохнула и сказала невнятно, словно во сне, словно через силу: — Твоя доля, голубко, твой и выбор… А моя доля — внуков колыхать, коли бог приведе хочь одним оком их побачить.
Настенька сняла с головы ладонь матери и прижалась к ней залитым слезами лицом.
6
Когда Бонивур отозвал старших ребят и они ушли выполнять его поручение, площадь опустела. Только малыши оставались у штабеля. Флаг, водруженный старшими, до сих пор развевался над бревнами, чуть шевелясь. Ребята столпились вокруг Мишки и рассматривали его звезду — подарок партизана. Мишка принял воинственную позу. Он заломил картуз, выпятил живот, заложил руки за опояску и выставил вперед правую ногу.
— А ну, давайте играть дальше!
— А как же без белых? Ведь красные белых должны бить.
Ребята озадаченно переглянулись. Мишка задумался.
— А играть будем так. В траве спрячемся, потом ка-ак выскочим, постреляем, потом возьмем крепость и поскачем дальше, с флагом… Ур-ра! За мной! — Он закричал что есть силы и побежал в заросли травы.
Мишка первый вырвал из земли пучок травы и подбросил его вверх. Земля осыпалась с травы маленьким облачком. Это походило на взрыв. Ребята с восторгом подхватили Мишкину затею. Они рвали траву, бросали вверх, кидались в сторону, падали, запутываясь в полыни, кричали и визжали.
Мальчишки уже утомились и стали стихать, когда из-за околицы в деревню начали возвращаться посланцы Бонивура. Они неслись по улицам, останавливаясь у дворов, стучали в окна и кричали:
— Белые!.. Прячьтесь!
Остальные, думая, что старшие ребята выдумали новую игру, тоже побежали по улице, нахлестывая воображаемых лошадей. Они не слышали первых выстрелов Колодяжного. Мишка Басаргин летел впереди, вскидывая высоко ноги.
Но из ворот выбегали родители и тащили ребят за руки, испуганно оглядываясь на холм, который опоясался дымками выстрелов. Вовка цыкнул на Мишку:
— Сыпь домой, лягушонок!
Но Мишка показал ему язык и поскакал дальше, крича свое «ура-а», хотя на улице никого из ребят уже не было. Тут появилась мать Мишки. Она уже давно искала его по соседским дворам. Мать схватила сынишку за подол рубахи, вырвала из рук прут и саблю, бросила их в траву. Мишка потянулся за ними, но мать сказала ему:
— Пошли, пошли, сынок! — Заметив на картузе сына красную звезду, она побледнела, схватила картуз, сорвала звезду и, широко размахнувшись, бросила в полынь: — О господи, владычица!.. Откуда у тебя такое?.. Найдут — убьют, прости господи, ни за понюшку табаку.
Мать взяла сына на руки и, что-то шепча, пустилась бегом к дому. Из окна выглядывал отец, прибивавший дерюгу. Мишка брыкался ногами и руками и отчаянно ревел:
— Звездочку дай, куда бросила мою звездочку?.. Не хочу домой!..
Мать вбежала в комнату и опять отвесила сыну затрещину. Раньше она никогда не била его. Мишка перестал реветь и удивленно взглянул на нее. Она сказала:
— Неслух окаянный… Это тебе не играшки!
А отец, кончив прибивать дерюгу, торопливо сказал, кидая в открытое подполье одеяло, подушку и краюху хлеба:
— Оставь, Маша, вишь, не в себе мальчонка… Что ты его бьешь? Полезайте скорей! Казаки, кажись, в село вошли… Быстро!
Мать залезла в подполье. Отец схватил сына под мышки, поцеловал, уколов небритой щетиной, и опустил вниз, на руки матери.
— Молчи, сынка… не балуй.
Потом взялся за крышку, посмотрел, как Марья усаживалась в углу, и сказал:
— Ты не бойся, Маша! Пока сам подпол не открою, не шуми и виду не подавай. Поняла?
— Поняла уж, Паша! — шепнула белыми губами мать. Расширенными глазами посмотрела на мужа. — Ты бы, Паша, тоже с нами. А?
— Эх, ты непонятная! — сказал отец. — Пустую избу увидят, копаться будут, все одно найдут, спросят: «Чего, мужик, прячешься? Значит, красный, коли спрятался…» У них разговор короткий.
Отец опустил крышку, и в подполье стало темно. Сразу из глаз Мишки пропал и отец и видные снизу доски, которые сушились на печи. Исчезло все. И мать не видна была в темноте. Инстинктивно Мишка подвинулся к ней, посмотрел на узкую полоску света, пробивавшуюся через щель пола, поискал глазами мать и, не увидя, спросил дрогнувшим голосом:
— Мамка, ты тута?
— Тут, сынок… Тише, не кричи. Сиди тихо, я тут. — Мать обняла его.
Мишка спросил:
— А чего это будет, мама?
По-прежнему шепотом мать сказала:
— А ничего не будет. Пока белые не уйдут, сидеть будем.
Мишка помолчал, прислушиваясь к глухим шагам отца наверху, потом опять спросил:
— А какие они, белые, мамка?
— Нехорошие, сынка. Молчи ты, ради Христа!
В голосе матери послышалось раздражение. Мишка понял, что она сердится, и, хотя не знал почему, замолчал. Здесь, в темноте, ему стало жутко: пропала вся Мишкина храбрость. Ссориться с матерью не стоило, а то одному страшно. Чтобы рассеять страх, Мишка сказал, хотя ему вовсе не хотелось есть:
— Ма-ам, дай хлебца!
Мать пошарила рукой. Найдя хлеб, отломила горбушку и сунула ему. Мишка принялся жевать, но сухой хлеб показался ему невкусным. Мишка отложил его и стал слушать звуки, доносившиеся с улицы. Раздавался топот лошадей, он шел раскатами, то сильней, то тише. Мать шепнула:
— И скачуть, и скачуть… Царица небесная…
Она стала шептать молитву. Непонятные слова путались, коверкались, повторялись и пугали Мишку. Он попросил:
— Ма-ам, не надо… боязно…
В этой темноте, не видя своих рук и ног и почувствовав себя совсем маленьким, он потянулся к матери. Забрался на ее колени, положил голову на грудь матери. Родное тепло согрело его. Мать тихонько покачивала его, и это покачивание напомнило ему что-то давно забытое. Мишка устроился поудобнее и затих. Через несколько секунд он сладко всхлипнул. Мать прикрыла его шалью и сидела не шевелясь. Наверху продолжалась скачка. Кто-то кричал. Потом сильно зашумели. Отец, лежавший на полу у окна, тяжело дышал и ворочался, половицы под ним скрипели. Мать позвала его тихонько:
— Паша! Павло!
Павло не отозвался. Мать, прислушавшись к ровному дыханию спящего мальчика, задумалась и тоже задремала.
Глава 25 Настенька
1
Белые ворвались в село с двух сторон, после того как пулеметной очередью прошлись по нему из конца в конец. Трое разведчиков промчались по улицам и осадили коней у штаба. По пути, у груды бревен, им встретился красный флажок, водруженный ребятами. Один из разведчиков гикнул и, метнувшись к флагу, полоснул саблей по гибкому древку. Флажок упал на землю.
В здании штаба было пусто, ветер хлопал открытыми дверями и пугал белоказаков: все чудилось им, что кто-то притаился за дверью. Они походили по комнатам, раскидали парты. Никого! На открытом окне лежала фуражка. Один расхохотался:
— Вот так добыча, паря!
Бородатый разведчик подошел к окну, но чья-то рука протянулась за фуражкой. Бородатый увидал в окне бледного юношу с лихорадочно блестевшими глазами. Это было последнее, что он видел в своей жизни, так и не поняв, откуда взялся юноша. Когда выстрел Бонивура размозжил ему голову, он тяжело упал навзничь. Второй бросился в погоню и не вернулся. Третий отодвинул труп бородатого в сторону, сожалительно чмокнул. Он вышел на крыльцо, прикрыв за собой дверь. Цепи белых осторожно продвигались по селу. Разведчик махнул успокоительно рукой. Спешившиеся вскочили на коней и начали съезжаться к площади. Ротмистр, раздраженный засадой и боем, бросил поводья и взбежал на крыльцо. Сотня глядела на него. Он начал было:
— Господа казаки… Орлы! Лихим натиском, преодолевая сопротивление врага, мы заняли… — Но вдруг обмяк, оглянул площадь и устало бросил Грудзинскому, который стоял возле: — Потрепись, братец… мне что-то тошно… — и ушел за дверь.
Войсковой старшина через несколько минут тоже вошел в комнату.
— Надоело сказку про белого бычка тянуть… — сказал ротмистр.
— Ну, знаешь, — вспыхнул Грудзинский, — нам про этого белого бычка до конца своих дней говорить придется. Так что… Мне не нравится твое поведение. Я буду рапортовать…
— Иди к черту! — равнодушно сказал Караев.
В комнату вошел Суэцугу. Он снял перчатки, расстегнул плащ и сел на табурет. Офицеры молча поглядели на него. Суэцугу был недоволен. Это чувствовалось по резкости его движений. Он вынул из кармана пакетик с ароматическими шариками дзинтан и бросил один в рот. Окинув взглядом офицеров, спросил:
— Как успехи?
Караев помедлил.
— Село занято нами… — ответил он, морщась.
Японец насмешливо втянул в себя воздух.
— Если бы мы не заняли село, мы тут не сидели бы. Так? Я правильно выразился? Я задавать вопрос: как ваши успехи, есть ли захвачено борсевики? Как много вы потеряли солдато?
— Человек двенадцать, господин Суэцугу, — сказал Грудзинский, поглядывая искоса на Караева.
— Это много! — ответил японец и посмотрел на ротмистра.
Тот нервно хрустнул пальцами и проговорил:
— A la guerre comme a la guerre!
Японец нахмурился:
— Я вас по-росскэ спрашиваю!
— Я говорю: «На войне как на войне»… Без жертв не обойдешься!
Японец отправил еще один шарик в рот, с треском раскусил его и, чавкая, стал жевать.
— Сколько пленных взято? — спросил он. — Где делегаты?
Грудзинский встал и вышел из комнаты, сказав:
— Сейчас все выяснится, господин Суэцугу!
Караев проводил его взглядом и отвернулся к окну. Грудзинский с кем-то поговорил у крыльца. Потом отошел от дома, и шаги его затихли. В штаб донеслось звяканье уздечек: мимо то и дело проезжали конные. Затем потянулись носилки с ранеными. Через полуприкрытую дверь слышались их стоны. Караев захлопнул дверь. Суэцугу прищурился.
— У вас, господин Караев, плохие нервы. Стоны и кровь — это благородное зрелище, они укрепляют мужество солдата. Это лучше любой музыки для солдата… Как вы думаете?
— На вкус да на цвет товарища нет.
— Вы, европейцы, этого не понимаете, — снисходительно усмехнулся Суэцугу.
Грудзинский вернулся не один. Вместе с ним вошел разведчик и отрапортовал, что никого из партизан в селе не обнаружено.
— А кто же двенадцать казаков уложил? Никто, по-твоему?
Караев, не мигая, смотрел на разведчика. Тот выдохнул:
— Не могу знать, а только мы не нашли партизан. Куда-то они в тайгу скрылись.
— Дурак! — сказал Караев.
— Так точно.
— А где тот… как его… Кузнецов?
— Так что кончается… В живот ранило… Очень мучается.
Суэцугу зашевелился и обеспокоенно спросил:
— Кто ранен?
— Кузнецов, который донес о партизанах, — ответил Грудзинский.
Японец встал.
— Надо оказывать ему помощь… Надо, чтобы он говорил. Не надо, нельзя умирать!
Он вышел из штаба.
Грудзинский приказал казаку:
— Кузнецова тащите под навес. От него узнаем, куда скрылись партизаны. Он еще не скоро умрет… А этого убрать, — кивнул он на труп бородатого.
Казак глубокомысленно сказал:
— Преставился, значит, Спиридоныч, упокой, господи, его душу. — Он снял папаху, перекрестился и крикнул в дверь: — Эй, ребята, помогите!
Вошло несколько забайкальцев, взяли труп и ногами вперед вынесли. Положили его позади избы, где уже рядком, по ранжиру, лежали другие. Раненых разместили в тени навеса. Оттуда неслись стоны и ругань.
Один казак, с перебитыми ногами, остервеневший от боли беспрестанно ругался. Его останавливали:
— Тише ты, Саньча, чего ругаешься… Вон, погляди, Лозовой помирает — и то тихо лежит.
— Пущай помирает, мне с его шкуры не шубу шить, мне своя дороже.
— Тише, Саньча!
— Чего тише? Ты мне-ка ноги дашь свои?! У-у!
И в припадке дикой злобы и зависти к тем, кто остался цел, он метался по земле, бил себя по раненым ногам, кричал от боли и старался ударить подходивших. Глаза его горели безумным блеском. Лоб покрылся каплями пота, волосы разметались. Кровь лужей стояла под ним. Он смотрел на нее жадно и кричал:
— Руда моя, руда, куда ж ты, поганая, в землю течешь? У-у, язва! — Он бил землю руками. — Мало я в тебя пота вылил, теперь ты руду мою пьешь…
Кто-то сказал тихо:
— Решился парень совсем!
Услыхав это, раненый окинул безумным взглядом толпу.
— Не я, а ты решился, что за марафетчиков да воров воюешь! Воевали бы они у матери в подоле, кабы не мы, дураки, им свои головы подставили: на, мол, режь, коли желаешь! Вон за ту гадину воюем, которая своих продает и наших не жалеет… Что, не подох еще, гадюка лысая? — крикнул он, увидя, что двое несут Кузнецова. — Куда вы его волокете, дуры! Бросайте сразу в поганую яму!
— Тише, Саньча, и он мучается. Ему в хлебное место пуля угодила…
— А я не мучаюсь? — закричал Санька и страшно поднялся на перебитых ногах, грозя кулаками Кузнецову. — Из-за тебя, иуда, мучаюсь, чтоб тебе каждый день всю жизнь подыхать… Подлюга!
И он рухнул на землю. Последний пароксизм ярости лишил его сил. Руки его судорожно зашарили по телу, точно чего-то ища. Казаки столпились вокруг него.
— Обирается! — сказал один.
— Кончается Санька, — сказал второй, и все сняли папахи.
Кузнецова положили тут же. Синеватая бледность покрыла его лицо, глаза потускнели. Он трудно поводил головой и тихонько стонал. Живот у него вздулся и кровоточил. Пальцы, не переставая, дрожали. Из здания штаба показался Суэцугу и направился к фельдшеру. Караев вышел вслед за ним. Видя закрытые глаза Кузнецова, он протяжно свистнул. Но рябой, доложивший о Кузнецове, понял старшину и сказал:
— Никак нет… Сомлевши только. От водички в себя придет! Сей минут…
Он убежал к колодцу, придерживая рукой болтавшуюся шашку, и быстро вернулся с полным ведром. Набрав воды в рот, он прыснул в лицо фельдшеру. Кузнецов открыл глаза. Суэцугу присел на корточки и сделал знак ротмистру. Ротмистр нагнулся над раненым:
— Вы меня слышите?
Кузнецов мигнул, — значит, слышит. Караев спросил его:
— Где же партизаны? В селе никого нет. Где ваш съезд?
Фельдшер подумал, соображая, потом шепнул:
— Ушли или прячутся… Пить! — И зло простонал: — Возились бы еще больше, дураки они вас ждать!
Грудзинский подошел к Караеву и сказал:
— За раненым надо поухаживать.
Фельдшер с напряжением сказал:
— Девки поднаторели. В лазарете… которые партизан… обихаживали… Наседкина Настя, Ксюшка Беленькая…
— Все, что ли?
— Пить! Шлыковы девки да Верхотуровы… Пить!
— Нельзя вам пить! — сказал Караев.
Старшина отправил казаков с поручением привести к штабу девушек, работавших в партизанском лазарете. Кузнецов опять потерял сознание. Суэцугу встревожился:
— Это что… умирать?
— Нет, при такой ране долго живут, — равнодушно сказал рябой. — Коли чего надо узнать, мы его водичкой…
2
Резкий стук в дверь вывел Настеньку и ее мать из забытья. Они вздрогнули. Стук повторился. Не слыша ответа, стучавший принялся барабанить кулаком, сапогами и еще чем-то.
— Открывай! — послышался голос из-за двери.
Настенька высвободилась из объятий матери и встала с кровати. Мать испуганно ухватилась за нее.
— Куда ты, доню?
— Стучат! — спокойно сказала дочь. — Надо открыть. Все равно двери вышибут, не поможет.
— Мабуть, то не к нам, — сказала старуха, сама этому не веря.
Но словно для того, чтобы рассеять ее сомнения, тот же голос крикнул:
— Эй, Наседкины, открывайте!
Настенька быстро подошла к двери и взялась за крючок. Мать подскочила к ней и, оттолкнув, шепнула:
— Ховайсь, голубко… Мне, старухе, ничего не будет, а ты молода.
Стук прекратился. За дверью ждали, когда им откроют. Мать толкнула Настеньку в угол, за полог, чтобы вошедшие не увидели ее.
Мать направилась к двери, сдернула крючок и сказала ясным голосом:
— Чего вы стукотите, человиче? Кого вам треба?
— Наседкину.
— Наседкина — це я…
— А Настя где Наседкина?
Голос матери дрогнул и прежней ясности в нем не было, когда она ответила:
— А нема в хате.
— Где она?
— Хиба я знаю? Дивчина своим розумом живе, бо вже добре выросла.
— Придется обыскать хату, мать! — послышался второй голос.
Гулко хлопнула дверь, закрытая матерью. Она встала к ней спиной и сказала, взявшись за косяки:
— Не пущу хату поганить… Добром прошу, уходите… Нема дочки дома.
— Да ну, разговаривать с ней! — сказал первый и шагнул к старухе. Посторонись, мать… Все равно силой возьмем.
— Не пущу! — закричала старуха отчаянно. — Не пущу! Рятуйте, люди, рятуйте!
Пронзительный крик ее разнесся вдоль улицы. Настенька рванулась к двери.
— Мамо моя! — Мимо белых бросилась к матери. — Мамо моя, ридна!..
Но мать посмотрела на нее с укором и угасшим голосом сказал:
— Що ж ты, доню, не убегла… Через окно б.
Рябой казак процедил:
— Чего вы развозились? Только и надо от вас, что раненым помочь, а крику на все село.
В соседних дворах показались старики и женщины. Они со страхом заглядывали через плетень во двор к Наседкиным. Рябой недовольно посмотрел по сторонам.
— Эк их! Все село перебулгачили.
Услышав, что ее поведут к раненым, Настенька успокоилась. Мать перекрестила ее, поцеловала и сказала:
— Иди, дочка.
Она накинула дочери на плечи полушалок, и Настенька пошла впереди белоказаков. Смятение с новой силой охватило ее. Что делать? Отказаться?.. Что от этого изменится? А вдруг ей удастся узнать у раненых что-нибудь полезное своим… Впервые приходилось Настеньке думать о том, что еще недавно совсем не тревожило ее.
Из боковой улицы послышался шум. Трое станичников вели упиравшуюся Ксюшку Беленькую. Ее волочили за руки, силком ставили на ноги. Платок Ксюшки сбился на шею. Растрепанные косички закрывали ей глаза, она откидывала их в сторону и молча озиралась. Билась она, словно рыба в сети, выгибаясь всем телом, бросаясь то в одну, то в другую сторону, то рвалась вперед, пытаясь высвободиться, то с силой откидывалась назад. Руки ее до локтя покраснели и покрылись ссадинами. Наконец это надоело одному из казаков. Он ругнулся и, резко схватив Ксюшку за руку, вывернул назад. Ксюшка смирилась, поняв, что ей не совладать с белыми.
Цыганистый казак оглядел девушек. Его взор остановился на Ксюшке.
— Ну, вот так-то лучше. Только и дела вам, что раненым помочь. Вот тебе слово, слышь!
Сестра Ксюшки, простоволосая, босоногая, шла сзади. Молча смотрела, как волокли Ксюшку, болезненно морщилась, видя, что сестре больно, и по-бабьи хваталась рукой за щеку.
Увидев Настеньку, шедшую с поднятой головой, Ксюшка жалобно улыбнулась ей, тоже подняла растрепанную голову и пошла спокойнее. Тогда ее руку отпустили. Ксюшка встала рядом с Настенькой. Освободившиеся конвоиры свернули в сторону, к дому Шлыковых. От Верхотуровых послышался женский крик. Причитала Верхотуриха. Просьбы, жалобы и ругательства смешались в ее крике. Значит, брали всех работавших в лазарете.
Сестер Верхотуровых волокла целая ватага белых. Здоровые девки сопротивлялись отчаянно. Но когда им заломили руки за спину, они смирились. Марью при этом один гуран вытянул нагайкой вдоль лопаток. Марья охнула. На возглас ее из-за спины матери, которая держала сына от греха подальше, вырвался Вовка.
Точно звереныш, сверкая темными глазами, он бросился на забайкальца, сбил станичника с ног и вцепился изо всех сил в его заросшую шею своими крепкими пальцами. Казак захрипел. Но в ту же секунду и белые и мать Вовки бросились разнимать сцепившихся. Забайкалец тяжело приподнялся, жилистыми руками схватил Вовку за плечи и оторвал от себя. Размахнулся, закинув руку с нагайкой за спину.
— Ах ты, змееныш!
Свистнула ременная плеть. Вовка схватился за лицо. Кровь брызнула меж пальцев из рассеченного лба.
Станичник, ощеря зубы, дрожащими руками потянулся за винтовкой. Верхотуриха кинулась к Вовке, заслонила его собой.
— Не тронь, дядя, а то двух решай! Не дам!
Вовка рвался из ее рук. Но мать сжала его со всей силой отчаяния. Марья тихо сказала бородатому, остановившись перед ним:
— Не марайся ребячьей кровью, казак!
Тот, тяжело дыша, взбешенный, все еще шарил за спиной, ловя приклад винтовки. Тогда Цыган толкнул его плечом.
— Митрохин! Брось, станичник… Тебе и волк глотку не перервет, куда ж мальчонке.
Митрохин овладел собой.
— Мальчонка?! Я б ему показал! Ах ты, варнак! Мало дых не сломал. И откуль они такие?
Он неудобно поводил головой и откашливался. Марья сказала ему:
— Оттуль, казак, что сами вы их делаете.
Цыган оглянулся на нее.
— Помолчи, девка, — сказал он негромко, потом заторопил: — Пошли, пошли, станичники!
Марья окликнула мать:
— Мамынька! — И головой кивнула на Вовку: — Уведи братку!
Та потащила сына домой. Марья стала за Настенькой, сестра — за ней. Шествие тронулось. Марья нагнулась к Настеньке и тихонько спросила:
— Перевязывать будем?
И ответ пришел Настеньке сам собой:
— Будем. И слухать будем.
— Не разговаривать! — крикнул Митрохин.
3
Через некоторое время все девушки, указанные Кузнецовым, были приведены на площадь. Они стояли тесной кучкой, прижавшись друг к другу, точно эта близость могла защитить их от белых. Последние же, убедившись, что партизан в селе не осталось, осмелели. Они окружили девушек широким кольцом и принялись разглядывать их.
Настенька высоко подняла голову. Глядя на нее и Ксюшка Беленькая тянулась изо всех сил. Сестры Шлыковы, как в детстве, взялись за руки, и лишь побелевшие пальцы их показывали, что они не просто держатся, а крепко сжимают руки. Старшая. Пава, побледневшая от страха, закрыла глаза, младшая, Дарьюшка, смотрела в одну точку, уставившись в землю. По лицу ее нельзя было заметить, что она испугана. Но полные губы ее, непрестанно дрожавшие, выдавали ее страх. Девки Верхотуровы, обе в мать, высокие, дородные, с большими руками и широкими плечами, похожие на переодетых парней, казалось, не особенно волновались. Марья подперла щеку кулаком и покусывала кончик головного платка. Словно только и дела было у нее, что это занятие. Она не отрывала взгляда от сестры, будто видела ее в первый раз. А Степанида тяжелым взором, нахмурив густые брови и сморщив лоб, глядела на белых. Не то чтобы злоба светилась в этом взоре — просто смотрела она на столпившихся, будто на пустое место. Но тот, на ком останавливался этот тяжелый, немигающий взгляд, как-то поеживался. Она же неотступно смотрела, и было непонятно, видит ли она того, на ком останавливала взор, или не видит.
Белые все сужали круг. Задние напирали на передних, толкали их и пялили глаза на девчат. Непристойные шуточки, смех неслись из круга. Но девчата молчали, потому что перед ними были чужие, против которых воевали их братья и отцы.
— Глянь-ка, паря, какая стоговина стоит!
— Не стоговина, а девка. Разуй глаза, вишь — в юбке!
Хохот заставлял девушек вздрагивать. Беляки не унимались:
— Барышни, а чего вы скушные? Улыбнитеся, зубки покажите… Мы ребята веселые…
— Вот эта, с косичками, мине бы впору пришлась…
Рябой гоголем прошелся перед девушками. Остановился возле Ксюшки, подмигнул ей и ущипнул за грудь. Побледнев, девушка отшатнулась. Настенька защитила ее своим телом от второго щипка. А старшая Верхотурова вдруг наотмашь хватила казака по лицу. Рябой, не ожидавший удара, отлетел и схватился за щеку. Степанида сказала ему строго:
— Вояка!.. На печи с бабой тебе воевать. Ишь, на девок храбрый нашелся! Посмотрела бы я на тебя, как ты с партизанами дерешься!
Казак подскочил к ней и взмахнул нагайкой. Степанида погрозила пальцем:
— Не балуй, парень. Отыму эту кисточку да тебя же и выдеру. Не хорохорься! Чего же не бьешь? Мы привычные к битью.
Марья опустила платок и встала рядом с сестрой. Рябой, выругавшись, отошел в сторону. Степанида напутствовала его:
— О, так-то лучше. Языком болтай, а рукам воли не давай. Много вас, щипальщиков, найдется. Не стыдно? Гляди, девка аж зашлась. Герой!..
Казаки хохотали.
— Да, паря, эта девка на черном хлебе рощена!
— Белый господа кушали, которым вы защитниками приходитесь, — сказала Марья, — а мы и на черном малость выросли…
Урядник растолкал круг.
— Чего на девок уставились? Не видали? — напустился он на белоказаков. — А ну, готовить коней марш, нечего балясы точить… А ты бы, девка, тоже не шибко кулаками-то помахивала: не ровен час оторвутся, не найдешь, куды и приставлены были! — огрызнулся он на Верхотурову.
— Наши руки известно к чему приставлены, — неторопливо сказала Степанида. — А вот на чем они у вас растут, не знаю. Больно на чужое заритесь.
— Помолчи, — сердито сказал урядник, — а то у нас найдется, чем тебе рот заткнуть. Шибко говорливая!
Настенька тронула Степаниду за руку и шепнула:
— Не связывайся с ними, Степушка, не роняй себя.
— И то… — сказала Верхотурова.
Урядник вдруг гаркнул:
— Смирно!
К кругу подошел войсковой старшина и поздоровался:
— Здравствуйте!
Девушки не отвечали. Старшина сказал:
— Ну вот, девушки… Партизаны ваши удрали, стоило показаться правительственным войскам. Только попущение божье дает большевикам держаться, но чаша терпения его будет скоро переполнена. Вы помогали партизанам, и за это надо бы вас наказать, но христолюбивое воинство великодушно. Вы можете загладить свою вину, оказав помощь воинам, пострадавшим в боевой схватке. Урядник, отведите девушек к раненым!
Он ушел в штаб, Ксюшка спросила Настеньку шепотом:
— Насть… это кто… поп?
— Нет, Ксюшка.
— А чего это он про бога-то?
Верхотурова ответила ей громко:
— А не за што боле держаться-то, вот за бога и цепляется.
Белые, услыхавшие ее слова, расхохотались. Рябой крикнул:
— Вот девка так девка! Мне бы таку зубату жену!
Степанида опять не осталась в долгу:
— А на што ты мне такой? Я б те в одну ночь сгрызла да на утро косточки бы собакам отдала!
Настя опять шепнула Верхотуровой:
— Степушка, не связывайся с ними.
— Ладно, — сказала Степанида, — не буду.
Заметив девушек, Суэцугу подошел к ним. Он слышал обращение Грудзинского и наблюдал за всей сценой молча. Когда Грудзинский отвернулся, Суэцугу, поразмыслив, решил, что старшина говорил не так, как следовало. Он взялся за саблю и выступил вперед. Урядник козырнул ему. Японец деревянным голосом произнес:
— Девушки росскэ, надо помогать казаки. Кто не выражать желание, тот будет делать слезы свои родственники! — Для убедительности он чиркнул по горлу ребром ладони, сделал свирепое лицо и отошел.
Урядник отвел девушек к навесу, под которым лежали раненые. Их встретили глаза, полные боли, осунувшиеся лица. Лозовой посмотрел на Ксюшку, подошедшую к нему. Лицо его было спокойно. Он повернул голову навстречу девушке и оглядел ее с ног до головы.
— Ну, вот бог и привел помереть с сестрицей, — сказал он, — а то скушно на мужиках-то помирать.
Ксюшка ответила ему:
— Рано еще помирать, казак.
— Утешай, утешай меня! — уголками губ улыбнулся Лозовой. — Твое дело такое. Я старый солдат, знаю, когда смерть приходит. Не жилец я, чую: главную жилу перешибло. Кровь-ат становится… Будто ни рук, ни ног у меня нету. Только голова еще думат… И то, поди, долго не сработат… Умираю я, девка.
— Страшно! — вырвалось у Ксюшки.
— Помирать не страшно, — после паузы ответил казак. — Жить страшно… когда видишь… что конец тебе пришел… Вся жизнь уже вышла… а ты еще… землю топчешь… — Он говорил словно в бреду. — Вся жизнь вышла… а ты еще живешь… С родного краю и духу не слышно… Где семья, где женка… где сыны — не знаю. Сам кости унес, вишь, куда… на край земли. Против воли господа не устоять…
4
Урядник сказал Настеньке:
— Обиходь, девка, вот этого! — он показал рукой на Кузнецова, лежавшего в углу.
Настенька узнала фельдшера. Ей ничего не было известно о его бегстве. Она подумала, что Кузнецов захвачен белыми в плен. Острая жалость кольнула ей сердце. Она с состраданием поглядела на его лицо, на перемазанное кровью и грязью платье. Опустившись на колени, она наклонилась над фельдшером и посмотрела в его запавшие от боли глаза.
— Не успел уйти? — шепнула она с сочувствием, погладила его по вискам и опять сказала: — Не успел?
Фельдшер закрыл глаза, и болезненная гримаса исказила его лицо. Настенька поняла: зачем спрашивать, когда и так видно! Осторожно, стараясь не причинить боли, она стала снимать с него одежду. Кузнецов застонал. Настенька осторожно смыла грязь с краев раны, наложила тампон, шепча:
— Ну, ничего, ничего, Петрович! Терпи, милый! Потерпи немного…
Слезы навертывались у нее при виде того, как мучительно содрогается все тело Кузнецова от прикосновения легких ее рук.
— Потерпи, Петрович!
Эти слова она говорила вслух, потом шепотком спросила, увидев, что он устремил на нее свой замутненный взор:
— Все наши ушли? Никого эти катюги больше не взяли?
Она ждала ответа, а Кузнецов вдруг заметался и застонал, словно хотел куда-то бежать. Он что-то шептал, но Настенька не могла разобрать ни одного слова. Стала гладить его по голове, но фельдшер метался еще сильнее.
Мимо раненых в сопровождении Суэцугу прошел Караев. Он направился к фельдшеру. Настенька опять принялась за перевязку. Караев, не обратив на нее внимания, склонился над умирающим.
— Жив? — спросил он.
Кузнецов открыл глаза. Суэцугу потер руки с довольным видом и, насколько мог, ласково взглянул на девушку.
— Хорошо надо перевязать.
— Говорить можете? — спросил Караев фельдшера.
Кузнецов ответил слабым, глухим голосом:
— Да.
«Зачем это он?» — подумала Настенька, оглянулась на японца и незаметно тронула фельдшера за руку: «Молчи уж, нечего с ними говорить!..»
— Вы знаете всех, кто помогал партизанам? — задал Караев вопрос.
Настенька похолодела. Кузнецов ответил тихо, но внятно:
— Все они одним миром мазаны!
Услышав незнакомое слово, Суэцугу недоуменно поднял брови, вынул из кармана маленькую книжечку — словарь и торопливо перелистал его, ища объяснения.
У Настеньки задрожали руки и лицо стало бледным. А Кузнецов тем же глухим голосом закончил:
— Всех под одну гребенку надо… и старых, и молодых…
Суэцугу шепнул что-то ротмистру.
— Фамилии скажите! — потребовал Караев.
Настенька замерла. Сейчас человек, которого она только что перевязывала, навлечет несчастье на головы многих близких ей. И жалость, которую еще минуту назад испытывала она к нему, нежность и все сострадание ее показались ей постыдными. Она содрогнулась от гадливости и омерзения. Сейчас Кузнецов назовет людей. Он уже тяжело передохнул и пошевелил губами, собираясь с мыслями. И помешать этому нельзя…
Короткая мысль заставила Настеньку вздрогнуть.
Она наклонилась к Кузнецову еще ниже, словно для того, чтобы пропустить бинт вниз. Кузнецов раскрыл рот. Настенька, сама холодея от того, что она намеревалась сделать, нажала левой рукой на живот раненого. И вместо слов из его глотки вырвался вой от боли, пронизавшей его. Он оскалил зубы, задохнулся и потерял сознание.
Настенька же, собрав все свои силы, с притворной тревогой посмотрела на фельдшера и покачала головой:
— Как мучается!
Суэцугу окинул девушку подозрительным взглядом, Караев досадливо сморщился. Нужно было во что бы то ни стало, пока Кузнецов не умер, узнать от него все. Они стали терпеливо ждать, когда фельдшер очнется. Через несколько минут Кузнецов пошевелил головой и открыл глаза. Суэцугу, переводивший глаза с него на девушку, нахмурился и сказал ей резко:
— Э, росскэ, уходите… — и махнул рукой в сторону.
Настенька отступила на несколько шагов. Караев сказал:
— Скажите фамилии тех, кто помогал красным.
Как упрямо цеплялся за жизнь Кузнецов! Сколько злобы было в этом долговязом искалеченном человеке, который, умирая, тащил за собой других, чтобы дать исход своей ненависти! Отошедшая к другому раненому, Настенька услышала, как Кузнецов назвал фамилию ее, Жилиных и старика Верхотурова. На секунду Кузнецов смолк, потом сказал, что партизаны не могли уйти далеко и, переправившись через брод, отсиживаются в тайге. Он часто дышал, в горле у него хрипело, грудь вздымалась неровно, порывами. Острые приступы боли заставляли его извиваться, но он говорил, называя людей, перемежая их имена с ругательствами. И столько ярости звучало в его голосе, что даже Караев почувствовал себя скверно.
— Как найти брод? — спросил Суэцугу, вынув из кармана карту местности.
«Против казаков нашим не устоять, все хворые да раненые!» — подумала Настенька.
Она мгновенно представила себе, как помчатся кони через реку, как по тропе, тайной и нехоженой, поползут белые. Выстрелы и крики нарушат тишину леса, и кровь окрасит мягкую зеленую траву. Представила Виталия убитого. Она встала, выпрямившись во весь рост, подошла к Кузнецову и туда, где на белой перевязке, сделанной ее руками, виднелось розовое пятно просачивающейся крови, с силой ударила ногой. Кузнецов дернулся и захлебнулся красной пеной. Глаза его дико выкатились. Вслед за этим широкой струей черная кровь хлынула у него из горла, затопив все слова, которые он собирался прохрипеть. Суэцугу сунул карту в карман и взялся за саблю. Караев отшатнулся и выхватил револьвер.
Белые со всех сторон бросились к Настеньке. Она не сопротивлялась. Рябой заломил ей руки. Испуганно вскрикнули девушки. Раненые завозились, приподнимаясь на локтях. Караев подошел к Настеньке:
— Ты что же это, девка? А?
Настенька даже не взглянула на него. Теперь ей было все равно. Никто из деревенских не выдаст брода, найденного партизанами. Значит, белые не могут настичь отступивших партизан. Она знала, что теперь ее не пощадят, что не бывать ее счастью, но иначе она поступить не могла. И странное спокойствие охватило ее. Точно не ей заламывали руки, словно не к ней все ближе придвигалось лицо ротмистра, перекошенное яростью. Она не чувствовала ни рук, ни ног и тяжести тела не ощущала. Только толчки крови, словно не в ней, а где-то сбоку, выстукивали: так… так…
Суэцугу хищно взглянул на нее. Лицо его приняло темный оттенок. Он мягко подошел к Настеньке и размахнулся.
— Борсевико! — сказал он хрипло.
— Не смей! — твердо, но глухо сказала Настенька.
Наступило томительное молчание после этих слов, произнесенных так, что Суэцугу не посмел ударить девушку.
То, что сделала Настенька, поразило белых. Они расступились. Рябой отпустил ее. Настенька стояла совсем свободно. И раненые, и деревенские девушки, и чужие, пестрой толпой окружившие ее, молчали.
Настенька окинула толпу взглядом и всмотрелась в лица подруг. Они были бледны. Ксюшка совсем позеленела. Они ничего не поняли. Как могла она ударить раненого, да еще своего? Настя разжала губы:
— Он привел белых в деревню, девчата! — сказала она и умолкла.
Резкие морщины пересекли ее лоб и обозначились складками у губ. Точно постарела она на десять лет. И почудилось девчатам, что не Настенька стоит в кругу врагов, а мать ее. Будто и волосы сединой подернуты… Девчата сбились в кучу и затаили дыхание…
Караев рванулся мимо Насти и резко крикнул, словно на ходу лозу шашкой срубил:
— В штаб!
Поскользнулся в темной луже, чуть не упал и в бешенстве ринулся, не глядя ни на кого, прочь от круга, к школе. Суэцугу натянул на руки лайковые перчатки и отправился следом за ротмистром, легко перескочив через лужу. Рябой шагнул к Настеньке. Она повернулась и пошла к штабу, сказав негромко:
— Прощайте, девушки!
Слезы ручьем хлынули из глаз Ксюшки. Сквозь их пелену она глядела неотрывно на удалявшуюся подругу. Марья Верхотурова шумно вздохнула:
— Расстреляют теперь Настеньку.
Стоявший возле бородатый казак покосился на нее:
— Да уж не поглядят… Человека ведь убила… Ну, де-евка!
Марья оглянулась:
— Человека? Собаку поганую. По собаке и смерть!
5
Настеньку привели в штаб. Ее заперли в чулан, отделенный от коридора дощатой стеной. В некоторых местах доски разошлись, и полоски света прорезали темноту тесной клетушки. У дверей стал рябой. Настеньке через щелку была видна его давно не бритая щека, желтый кожаный подсумок и затвор винтовки, отбрасывавший холодные отблески.
Она долго стояла, не в силах обдумать свое положение. Потом почувствовала, что затекли ноги. Пошарила в темноте руками и нащупала кадушку. Села на нее и сжала руками виски.
Только сейчас ей стало тяжело. Только сейчас она поняла, что сегодня кончится ее семнадцатилетняя жизнь. Что было в ней, в этой короткой жизни?
Отца Настя не помнила. Мать уходила на работу с рассветом, а возвращалась, когда становилось совсем темно. В отсутствии матери Настенька была совсем одинокой. Она бродила по хате и молча играла с тряпичной куклой, которую сделала мать. «Ось тоби цяця, доню!» Настенька целыми днями таскала куклу на руках, боюкала ее, одевала, иногда наказывала — это бывало, когда ей самой попадало от матери.
Когда подросла, вместе с матерью стала делать все, что приносило заработок. И понемногу пустая их хатка стала иной. Помнит Настенька, как повесила она первые занавески на окна. Сразу стало как-то уютнее, и свет, смягченный белыми занавесками, по-другому осветил хату. Тогда мать обняла дочку, прижала к себе и сказала тихо:
— Доню моя… Работница… Золотые руки.
Похвала эта многого стоила: иссохшие руки матери, покрытые вздувшимися венами, потрескавшиеся и обветренные, знали, что такое труд.
Любая работа спорилась у Настеньки. Все охотнее приглашали ее женщины себе в помощь. Характер у Настеньки был хороший. Всегда она была приветлива, тепла лаской, идущей от сердца, от хорошего отношения к людям и жизни. Но ясно видела она, что на этом свете хорошо жили почему-то лишь прижимистые, скупые, расчетливые люди, вроде Чувалкова, у которого часто работала мать, а другие бедствовали. Но не видела она исхода из этого. И мать говорила ей, когда жаловалась Настенька на несправедливость судьбы:
— Не нами свет начат, не нами и кончится, доню!
…Смотрела Настенька прямо перед собой и многое вспоминала. Но еще не успела она пожалеть о себе, размякнуть и по-девичьи расплакаться, как в сенях послышались шаги. Кто-то открыл дверь и сказал ей:
— Выходи!
Дрожь пробежала по ее телу. Она встала и вышла. Яркий свет ослепил ее. Она зажмурилась, потом широко открыла глаза.
На крыльце стоял с какими-то бумагами в руках Караев. Возле него старшина. Трое конных охватывали крыльцо полукругом. Перед крыльцом с обнаженной головой (смолевые волосы рассыпались крупными кольцами), спокойно глядя на ротмистра, стоял Бонивур…
Глава 26 Испытание
1
Когда опасность глянула на Виталия своими пустыми очами, он вновь обрел спокойствие. Врагов он не боялся. Твердо и уверенно держался при встрече с казаками. Напал на хорошую выдумку и сумел так простодушно и спокойно говорить, что отвел от себя подозрения. Но третий конный, догоняя своих на всем скаку, успел заметить что-то в траве. Он остановил лошадь и клинком раскидал траву. Под нею обнаружил вчетверо сложенную бумажку с печатями и маленькую книжечку. На обложке книжечки чернела надпись: «Российский Коммунистический Союз Молодежи». Бумажка же оказалась мандатом Третьего съезда комсомола на имя Виталия Бонивура. Сунув документы в карман, станичник хлестнул лошадь, проскакал мимо шедшего по дороге Бонивура. Догнав своих, показал находку. Успокоенные было ответами Виталия, белые встревожились и решили задержать паренька. Он подчинился, решив до конца играть свою роль.
Бонивура подвели к штабу. Третий конвойный пошел с докладом об арестованном. Виталий опустился на ступеньки крыльца.
— Эй, станичники, дайте закурить! — протянул он руку.
Один наклонился и отдал ему свою цигарку, которую только что завернул. Виталий отметил это как плохой знак: конвоир считал, что дело арестованного кончено. Виталий задумчиво раскурил цигарку, втягивая горьковато-кислый дым самосада.
Какое-то движение на другом конце площади привлекло его внимание. Он бросил взгляд туда.
Двое ребят стояли у завалинки дома Жилиных. Виталий узнал Вовку Верхотурова. Второго он не мог разглядеть. Ребята, заметившие, как конные провели кого-то к штабу, старались увидеть, кто этот пленник. Переминавшиеся лошади загораживали Виталия от взоров ребят.
«Эх-х, узнают огольцы — не сумеют сдержаться!» — с досадой подумал комсомолец. Он встал с крыльца, чтобы скрыться за крупами лошадей. Но лошади неожиданно расступились, отмахиваясь от мух, и открыли Бонивура. На одну минуту взгляды Виталия и Вовки встретились. Ужас исказил лицо мальчугана. Смертельно побледнев, он поспешно отвернулся.
Конвойный заметил ребят. Направил коня в ту сторону.
— Эй, чижики, чего надо?
Ребята обернулись к нему.
— Знакомого, что ли, признали? — спросил станичник, кивая головой в сторону Бонивура.
— Какого знакомого еще?! — Вовка подошел к изгороди.
— А ну, давай сюда, может, признаешь…
— А ну тебя! — со слезами крикнул Вовка.
Ребята перемахнули через изгородь и скрылись за лесом.
— Куда? Назад! — крикнул конвойный, потешаясь.
Лишь топот босых ног прозвучал ему в ответ.
Виталий, почувствовав слабость, опять присел и сунул в рот погасшую цигарку. В ту же минуту его подняли. Из штаба вышел Караев. Он взглянул на Бонивура. Документы его он держал за спиной.
— Кто такой? — спросил Караев.
Виталий повторил выдуманную им историю. Караев стал рассматривать документы. Виталий вздрогнул, увидев свой мандат и комсомольский билет в руках ротмистра. Земля зашаталась под ним. Почувствовав, что бледность проступила на щеках, он пятерней стал причесывать разлохматившиеся волосы и скрыл от Караева лицо. Ротмистр пристально, очень пристально глядел на Бонивура, словно что-то вспоминая.
— Документы твои?
— Какие документы? — открыл глаза Виталий и выдержал взгляд.
— А вот эти, — Караев показал ему мандат и билет. — Не ты выбросил?
— Не знаю, господин офицер, кто бросал, — сказал Виталий. — Может, кто из партизан. Кажись, от села они отступили.
— Так тебе незнакомо это? — опять спросил Караев, дал ему комсомольский билет в руки и стал внимательно следить за тем, какое это произведет действие.
Виталий взял билет и открыл его. Руки его дрогнули. Он почувствовал вдруг, что играть становится слишком тяжело, и, чтобы на чем-нибудь сосредоточиться, стал читать, кому выдан билет. Он шевелил губами, точно читая по складам, и короткое его имя показалось ему очень длинным в эту минуту.
— «Вит-а-лий… Бо-ни-вур…»
Он прочел его вслух, и точно кто-то подал ему руку. Это было имя человека, которого уважали и считали храбрым. Неужели поддаться мертвящей слабости?
«Твой час пришел, Бонивур, — сказал он себе. — Собери же всю свою твердость, все свое мужество!»
Отдавая билет, он был почти равнодушен.
— У нас таких не бывало… — Но глаза его тянулись к драгоценной книжечке, к словам, напечатанным на ее обложке.
«Российский…»
За этим словом увидел Виталий далекую Москву, съезд комсомола, улицы красной столицы, первый дым заводов, оживающих после войны, горячие, взволнованные речи, от которых кружилась голова, и трудности казались легко преодолимыми… А вот Красная площадь, и по ней шагает, заложив глубоко руки в карманы, человек, своими прищуренными глазами видящий многое: и то, что было, и то, что есть, и то, что должно быть, чьи слова одинаково слышны и в Москве, и во Владивостоке, подымая людей на борьбу. И опять зазвучал в ушах Виталия незабываемый голос, чуть картавый, живой голос, от которого яснеет жизнь. Это он сказал, что надо «…из воли миллионов и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной страны создать единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разбиты неминуемо».
«Коммунистический…»
Видит за этим словом Виталий множество людей, состоящих в великом братстве, освященном гигантской борьбой. Братстве, в котором не знакомые друг другу люди ближе кровной родни. Людей, которые объявили войну всему, что угнетало человека; людей, вооруженных самым сильным оружием, не боящимся ржавчины и нетленным: ленинским словом, источающим искры, зажигающим сердца, побеждающим и непобедимым, вечным и прекрасным силою юности возрожденного человечества…
И вновь пламенеют в памяти Виталия, как огненный символ веры, слова:
«…быть коммунистом, это значит организовывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспитания и дисциплины в этой борьбе».
«Союз молодежи…»
Видит Бонивур за этими словами многих, чья жизнь только началась, девушек, чьи руки еще не ласкали милого, но знают уже холод винтовочного приклада. Юношей, к чьим щекам еще не прикоснулась бритва, но которым уже знаком и зной среднеазиатских степей и морозы Якутии, усталых, но сильных, юных, но умудренных опытом, готовых и к жизни и к смерти во имя жизни. И опять родной голос, исполненный бесконечно притягательной силы, ожил в памяти юноши:
«Коммунистический союз молодежи только тогда оправдает свое звание… если он каждый шаг… связывает с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров».
Дыхание захватило у Виталия. Он собрал все силы.
— У нас таких не бывало! — ответил он на вопрос Караева, и сердце его сжалось тоской.
Ему захотелось положить билет туда, где он лежал до сих пор, — в нагрудный карман гимнастерки. Но белые не должны торжествовать. Не все еще потеряно! И Виталий взглянул на Караева. Так спокоен был его взгляд, что ротмистр не мог с уверенностью сказать, принадлежат ли документы этому вихрастому пареньку, называвшему себя учеником сапожника и чье лицо вызывало у Караева какое-то беспокойное, но неясное воспоминание…
Караев вертел документы в руках, не зная, как поступить. Бонивур смотрел на него. Конвоиры переминались с ноги на ногу, ожидая приказания, что делать с задержанным: «пустить в расход» или освободить? Наступившую тишину нарушил Грудзинский. Он наклонился к ротмистру:
— Вадим, что ты будешь делать с девкой?
Караев о Настеньке не думал, его занимало сейчас другое: притворяется стоящий перед ним простоволосый парень, умело изображая простодушного подмастерья, или на самом деле он таков? Он ответил:
— Делай, что хочешь.
— Я думаю, надо дать урок другим.
— Делай, что хочешь… Действуй, — повторил Караев.
Тогда войсковой старшина приказал вывести Настеньку из чулана.
…Увидев любимую между двумя белоказаками, Виталий похолодел. Щеки его побелели. Настенька же, выйдя из темноты на свет, зажмурилась, ступила два шага и широко открыла глаза. Виталий стоял прямо перед ней, у крыльца. Он поднес руку к губам, словно предупреждая о чем-то. Горе и отчаяние пронизали Настеньку. Тоскливый крик вырвался из ее груди:
— Виталий!
Караев живо обернулся к Настеньке и опять глянул на юношу, и глаза его блеснули догадкой.
Настя увидела, как Виталий горестно качнул головой, и поняла свою ошибку. Колени ее подкосились, в глазах потемнело, и, лицом вперед, ничего не сознавая более, она упала на землю.
Виталий бросился к ней, но его уже схватили. Он рванулся в сторону, его сбили с ног, вывернули руки и мгновенно скрутили веревкой. И лишь когда уткнулся он лицом в цементную пыль, забившую нос и рот, он понял, что уйти не удастся…
— Вот ты каков! — произнес Караев, раздувая ноздри. — Да ты, я вижу, не подмастерье, а мастер!.. Сейчас мы это выясним. — Он обернулся и поманил кого-то пальцем из комнаты.
Из дверей показался Чувалков. Он скользнул взглядом по Виталию. Караев вопросительно кивнул на Виталия:
— Кто?
Чувалков отвернулся от Виталия, мельком оглядевшись вокруг, и сказал потихоньку:
— Комиссар, господин офицер! Он сегодня и уполномоченных встречал, и охрану нес, и проводил, как они закончили. Да в нашем селе его каждый знает: Бонивур его кличка!
Караев заиграл желваками на челюстях — фамилия эта много сказала ему. В глазах его заблестели злые огоньки.
— Так. Довелось и встретиться, товарищ комиссар! — сказал он сквозь зубы. — Мир, как говорится, тесен! — И недобро замолчал, не отводя глаз от юноши.
Чувалков стоял в дверях, стараясь не быть заметным с улицы, втягивал голову в плечи и совсем спрятал свою пышную бороду в ладони.
— Мне бы до дому надо, господин офицер, — сказал он, не имея больше сил стоять здесь, рядом с ротмистром и со связанным Виталием.
Караев непонимающими глазами посмотрел на Чувалкова.
— Что? Ах, да!.. Можете идти!
Чувалков поспешно скрылся в глубине комнаты. Хлопнула дверь — это лавочник вышел с черного хода, чтобы его не видел никто из деревенских. Он трусцой побежал от дома к дому, озираясь на слепые окна крестьянских домов, завешенные и заслоненные подушками: не выглядывает ли кто? Добравшись до своей избы, тихонько открыл калитку, стараясь не стукнуть щеколдой. На крыльце стояла его жена, унылая, преждевременно увядшая женщина. Чувалков отдышался.
— Куда ты ходил-то? — спросила она. — Ничего не сказал…
— А тебе дело есть? — спросил грозно Чувалков и погрозил ей кулаком. Смотри у меня!
— Да я что! — испуганно отозвалась жена. — Боязно ведь…
Чувалков задернул занавески на окнах и ткнул жену в бок сухим кулаком.
— Расхлебянила все, раскрыла… Я тебе раскрою!..
2
Бесчувственную Настеньку казаки оттащили за дом.
Караев сказал:
— Так… Все ясно! — Ярость нарастала в нем. — Однако ты ловкая штучка. С тобой занятно будет побеседовать в другом месте! Люблю смелых людей! Глаза его искрились, лицо подернула нервная судорога.
Виталий понял, что для него все кончено, что бежать, пожалуй, не удастся. Он снова овладел собой. Спокойное лицо его представило разительный контраст с подергивающимся лицом Караева. Ротмистр старался унять овладевшую им дрожь, но не мог. Им овладело желание разбить недвижное лицо стоящего перед ним человека, взятого в плен и спокойно ждущего расправы. Рука его тянулась к револьверу. У него не было ни слов, ни мыслей, чтобы привести какой-нибудь другой аргумент в этом безмолвном состязании двух устремленных друг на друга взглядов. Он отвел глаза в сторону, не выдержав взора Виталия.
На крыльцо неслышно вышел Суэцугу. Он с любопытством посмотрел на Виталия.
— Это кто? Борсевик?
— Так точно, да еще какой! — протянул ротмистр японцу документы.
Суэцугу внимательно прочел их.
— О, Бонивур! — сказал он радостно. Арест Виталия привел его в такое хорошее настроение, что он совершенно искренне поклонился Виталию и произнес, словно увидев доброго знакомого: — Здрастуйте, здрастуйте!
Грудзинский прошел туда, где находилась Настенька. Она еще не пришла в сознание. Стоявшие возле нее Цыган и рябой приложили руки к козырькам.
— Сомлела, господин войсковой старшина, — сказал Цыган.
— Придет в себя — отведите за околицу и расстреляйте!
Цыган вздрогнул.
3
Тень от избы покрыла лежавшую на земле Настеньку, и в полумраке лицо ее, казалось, светилось. Голубые тени легли ей на глаза, на крылышки ноздрей и притаились в углах губ. Круглый ее подбородок с чуть заметной ямочкой заострился. От этого словно строже стало лицо Настеньки и еще красивее. Одна коса расплелась, и поток золотистых волос залил ее плечи, грудь и стекал на темную землю. Почти незаметно было дыхание Настеньки. Только во впадине над ключицей толчки сердца вызывали едва приметное колыхание. Руки раскинулись по сторонам — словно чайка взмахнула белыми крыльями, собираясь взлететь…
Цыган качнул головой и горестно вздохнул.
…Тихий вздох тронул губы Настеньки. Она открыла глаза и посмотрела в голубое небо. Потом перевела взор на избу. Вспомнила все и шевельнулась, чтобы встать на ноги. Цыган протянул ей руку. Но она оперлась о землю, медленно поднялась, отряхнула платье. Рябой сказал:
— Ну, пошли, девка!
— Уже? — прошептала Настенька.
— Пошли! — повторил рябой.
— Не ведите по селу, казаки… бо мама может повстречаться!
Цыган кивнул головой. Настенька взглянула в его затуманенные глаза, поняла, что против воли тот идет, и сказала ему:
— И на том спасибо, казак.
Она пошла огородами. Конвоиры за ней. Настенька шла задумчивая, как ходила с матерью на работу. Тоненькая морщинка пробилась у нее на переносице. Ей не верилось, что скоро она умрет, и томительное ожидание делало тягостными последние минуты. Она спросила:
— Куда?
— В чистое поле, — лениво ответил рябой.
Значит, конец… Настенька замедлила шаги. Запах пересохшей земли щекотал ей ноздри. Сбоку несло горечью полыни. Девушка обращала внимание на все, чего раньше не замечала. Услышала она, что из сосновой рощи, перешибая деревенские запахи, доносится смолевое дыхание сосен. Дышала бы этим запахом полной грудью долго-долго… И потянуло ее к соснам… Она обернулась:
— У сосен, казаки.
И, зная, что ей не откажут в последней просьбе, повернула к роще. Рябой недовольно сморщился. До рощи нужно было идти дальше. Но Цыган повернул за Настенькой. Покосившись на его каменное лицо, рябой зашагал рядом.
Золотые паутинки проносились над головами трех людей, шагающих по пожелтевшей траве. Одна прильнула к Настеньке и протянулась к Цыгану, словно не Цыган вел Настеньку на расстрел, а Настенька куда-то вела казаков, связанная с ними этой прозрачной, сверкающей нитью. Рябой оборвал паутинку. Цыган тихо сказал ему:
— Слышь, может, отпустим девку?
— Как это — отпустим? — удивился тот, но тоже вполголоса: — Тебя Караев потом отпустит… Больно добер ты сегодня.
— Зря ведь убьем.
Рябой недовольно покосился на Цыгана.
— Я, знаешь, доложу ротмистру про такие твои слова. Помолчи-ка лучше.
И снова шагали они за Настенькой. Она уже оправилась и ступала по земле, ощутив вдруг странную легкость. Как ни тихо говорил Цыган, прося рябого отпустить ее, обострившимся слухом человека, доживающего последние минуты, она поймала этот шепот и разобрала слова. И надежда, никогда не оставляющая людей, как добрый и верный друг, в самые тяжелые минуты, вспыхнула в ней. Всем существом своим она напряженно и радостно ждала слов, которые сделали бы ее свободной и оставили бы ей жизнь. Удивительную жизнь, где каждый миг неповторим и не похож на другие!.. И запахи сосен, и шелест травы, и посвист птиц в роще стали какими-то особенно значительными, точно ничего в мире, кроме них, не оставалось. Они заполнили все существо девушки. Нестерпимо голубело небо, словно становилось оно ярче с каждым шагом Настеньки.
Дойдя до первых сосен, кудрявыми шапками уткнувшихся в небо, Настенька остановилась. Грибной душок напомнил ей, что девчонкой бегала она сюда и здесь испытывала нескончаемую радость от немой игры с грибами, которые прятались от нее, дразнили своим запахом и не давались в руки. Никогда не могла она увидеть грибы прямо перед собой: они всегда оказывались сбоку… А вот теперь она видела их всюду, словно взгляд ее вызывал лесных жителей наверх. К чему бы это?.. Говорят, что гриб сразу показывается лишь тому, кто не жилец на белом свете…
Настенька не слышала, чем кончился разговор конвоиров, но почувствовала, что ей надо обернуться. Она обернулась и замерла. Цыган сидел на земле. Он охватил голову ладонями и закрыл глаза. Рябой, подняв винтовку, целился в Настеньку. Черный кружок ствола уставился ей в грудь.
Настенька не успела ничего подумать. Она только глубоко-глубоко вздохнула. Казалось, воздуха вокруг не хватит, чтобы напоить грудь досыта. Какое-то колотье ощутила она внутри. В груди вдруг стало горячо, словно кто-то плеснул кипятком на нее. И это горячее хлынуло вверх. Настеньке стало страшно. А воздух все сильнее и сильнее вливался в ее полуоткрытый рот. Острая боль резанула ее. Она глянула на запад, поверх головы целившегося в нее рябого. Багровые облака ползли по небу, бросая кровавый отсвет. И трава, и небо, и шумящие сосны, и закрывший глаза Цыган, и тот, что хотел ее убить, — все было затянуто красной пеленой. Пелена эта становилась все гуще и мрачнее. Проглянул сквозь нее голубой кусочек неба, а потом закрылся и он. Красное стало черным. Кто-то бережно подхватил Настеньку, колыхнул, как колыхала в детстве мать. Потом все исчезло… Она не слышала звука выстрела. Она ощутила лишь резкую боль в груди, хотела приложить ладонь, чтобы хотя немного утишить ее, но, широко взмахнув руками, без стона упала навзничь.
Цыган открыл лицо. С опущенным ружьем стоял рябой, глядя на девушку. Настенька лежала на боку с открытыми глазами. Струйка крови показалась из-за плотно сжатых губ, зазмеилась по щеке и утекла за воротник.
Цыган подошел к Настеньке и взял за руку. Рука была безжизненно-покорной. Цыган прикрыл Настеньке веки, сложил руки крест на крест на груди и снял фуражку. Потом, не глядя на рябого, пошел к селу. Рябой, сплюнув, поплелся следом за ним…
4
Бонивура отвели в одну из комнат штаба, служившую партизанам кладовой для оружия. Комната была без окон, только узкая отдушина почти под самым потолком пропускала немного света. Виталий осмотрелся. Он чуть не наступил на что-то лежавшее у самых дверей. Нагнулся, рассматривая. Лежал человек. Виталий вгляделся и узнал Лебеду.
«Неужели транспорт раненых был задержан?»
Эта мысль наполнила отчаянием Бонивура. Он начал тормошить партизана. Но Лебеда затаил дыхание, из-под полуопущенных век вглядываясь в черты лица наклонившегося над ним человека. Виталий зашептал:
— Дедка! Лебеда!
Узнав знакомый голос, Лебеда открыл глаза:
— Виталька?
— Тише, диду… Неужели транспорт раненых взяли белые?
— Ни, транспорт, мабуть, вже там, в тайге сховавсь…
— Как же ты, диду, попался?
Лебеда вздохнул, виноватым голосом ответил:
— А я куму хотив подмогнуть, та не вышло… Кровь потерял и попавсь, як малесик.
— А он где?
— Кум-то?.. Наложил груду белякив да и сам убився о каменюгу… Бився добре… Не жалко — не один пишов на той свит…
— Значит, и Колодяжного нет?
— Нема кума, — ответил Лебеда. — И кума я не спас и дисциплину нарушил… А ты как, Виталька, попал?
Бонивур, не таясь, рассказал старику все. Тот печально мотнул головой:
— Значит, попались мы с тобой, Виталя. Эх-х! Обидно в клетке сидеть. Я птица вольная, волю люблю… И повоевал на своем веку. В германскую был взят на фронт. Нас на греческий фронт погнали. В Салониках мы стояли. Негров видал, и греков, и англичан, и всяких…
Потом революция в России случилась. Дознались до этого — стали домой проситься. В эту пору мы уже во Франции были. Удули мы с товарищами, тридцать человек. До России через Америку добрались только втроем. Осадчего Колю в Сибири колчаки убили. Петросов Сурен к большевикам подался — под Волочаевкой дрался да руки лишился, слыхал я… А я до Хабаровска добрался, людей хороших встретил, на работу встал… Все бы ладно было, да опять черт помешал — мобилизация. Забрили меня белые, в солдаты взяли. Калмыков… Что он над трудящимися делал, нет таких слов, чтобы описать да рассказать.
Насмотрелся я на калмыковские зверства, кое-что понимать начал. Помог один человек. Большевик… Подойницын. Большого ума человек был, хотя и из простых. Пошли у нас в полку разговоры. Подойницын разъяснил нам, что в стороне нынче никак стоять нельзя, либо к большевикам надо идти, либо к белым, середины, выходит, нету; кто ни к одному берегу не пристал, тот белым помогает тем, что против них не идет! Вот как вышло!..
Ну, настало время — мы из казарм на улицу! Офицерам наклали, сколько не было жалко, и давай уходить. Думали на ту сторону Амура податься, а там — до партизан!
Белые с нами не справились бы!
Однако только мы из казарм — справа и слева ракеты, стрельба! А город-то американцы и японцы пополам поделили. К железной дороге да к мосту через Амур японцы располагались, а к Красной Речке — американцы. Мы в коридоре между ними оказались. Нам ультиматум: сдавайтесь! Ну, не японцам же сдаваться… Разоружили нас американцы, в колючую проволоку заперли, лагерь устроили. Ну, показали себя американцы… Что ни вечер, из лагеря то одного, то другого уводят. Калмыковцам выдавали, да и сами пытать не брезговали… Я там, в лагере американском на Красной Речке, додумал уж до конца все и в большевики решил идти — вижу, никто, кроме них, простому-то человеку добра не хочет… С тех пор большевик, и жизни мне за это не жалко!..
Многое видел Лебеда в своей трудной жизни. Говорил для того, чтобы отогнать от Виталия невеселые думы, развеять печаль, давившую сердце…
— Дядя Коля спрашивал, как я насчет партии думаю, — сказал Виталий. Марченко передавал. Говорил, что Перовская рекомендацию даст.
Лебеда легонько положил руку на плечо Виталию.
— А что? Давно пора. Ты хоть и молодой, да голова у тебя ясная! Да тебе любой из наших — что Топорков, что я, что Жилин — верный поручитель…
Он помолчал, потом так же тихо сказал:
— Лютуют белые. Опереться-то не на что. Только и осталось у них за душой, что злоба… Такой только по обличью человек, а так — волк волком.
— К чему это ты, батько? — спросил Виталий.
— К себе в логово нас с тобой унесут… Пытать будут Тихой смертью умереть не дадут!
Виталий вздрогнул, вспомнив яростные, налитые кровью глаза Караева. Старик учуял эту дрожь. Он приподнялся и сел, поддерживая здоровой рукой больную. Приблизил свое лицо к Виталию и попытался рассмотреть его лицо, его глаза.
— Страшно? — спросил он и затаил дыхание.
— Страшно… — сказал Виталий. — А только я не боюсь. Ты за меня испугался?.. Думаешь, не выдержу я? Я не боюсь смерти, батько.
— А пытки? — спросил Лебеда.
Виталий положил свою горячую руку на здоровое плечо Лебеды.
— Вместе будем. Увидишь сам! — сказал он твердо.
— Гордишься! — усмехнулся ласково Лебеда. — Гордись, сынок, крепче будешь… Я-то долго не выдержу: крови мало, и устал я… А у тебя тело молодое, жить будет охота. Такое тело трудно победить. Если худо будет, не думай о боли, Виталька, ругайся, пой песню, думай о чем хочешь, а о боли старайся забыть. О товарищах думай, о Настеньке. Может, и доведется еще, увидишься с ней!
Услышав имя Настеньки, Виталий вспомнил ее крик и то, как падала она, почти не согнувшись, плашмя, словно березка, подрубленная под корень.
— Арестовали Настеньку, — шепнул он.
Лебеда успокоительно сказал, чтобы не растравлять Виталия:
— Ничего. Выпустят. Ни в чем она не виновата.
Сказал он это уверенно, но гнетущая отцовская тоска защемила сердце. Ничего доброго не ожидал он от белых. Но вслух повторил:
— Выпустят. Конечно, выпустят!
Они перестали говорить о Настеньке, словно боясь своими тяжелыми сомнениями навлечь беду на нее.
Если бы знали они, где сейчас Настенька! Заметался бы в смертной муке Лебеда, рвал бы на себе волосы и бился бы об стены, крича: «Доченька, ридна!» И заплакал бы, не стыдясь слез, Виталий Бонивур.
Но они ничего не знали и желали Настеньке добра.
5
Караев был взбешен. О преследовании партизан нечего было и думать.
Ротмистр расхаживал по комнате штаба.
Грудзинский, сидевший у окна, исподлобья поглядывал на ротмистра. Старшина был религиозен до ханжества. Он видел развал белой армии, видел, как приближается неотвратимый конец, но фанатически верил в какое-то чудо, которое должно спасти ее. Тем мучительнее переживал он все неудачи, которые все множились при паническом отступлении белых к морю, после Волочаевки. Как раньше он верил, что Волочаевка остановит красные войска, так теперь верил, что Никольск-Уссурийский станет тем камнем преткновения, о который споткнутся большевики. Он был против того, чтобы отряд Караева снимался с места, в глубине души надеясь, что именно отряд, в котором находится он, Грудзинский, призван в обороне Никольска сыграть решающую роль. Но Караев настоял на своем. Японцы его поддержали. Грудзинскому ничего не оставалось делать, как только исполнять приказ.
Караев остановился перед старшиною:
— Не дуйтесь, Грудзинский. Сейчас мы возвращаемся.
Старшина поднялся.
— Разрешите считать это за распоряжение?
— Погодите. Я еще не все сделал здесь. Где эта Жанна д'Арк?
Поняв, что речь идет о Настеньке, Грудзинский ответил:
— Отвели на выгон и расстреляли.
— Остальным я думаю дать наглядный урок. Тех, кого назвал этот ветеринар, и девок выпороть на площади. Пусть помнят…
— Надо думать о будущем, господин ротмистр, — сказал Грудзинский… Когда мы вернемся сюда, население встретит нас плохо, если мы будем применять такие меры.
— Не будьте наивным, старшина. Никакого будущего у нас нет, и сюда мы не вернемся, не утешайте себя!
— С такими мыслями нельзя служить великому делу, — сказал Грудзинский сухо.
— А я, знаете, ничего другого делать просто не умею, кроме как служить так называемому «великому делу», которое с недавних пор стало таким маленьким, что свободно уместится в жилетный карман, когда нам придется улепетывать из Владивостока.
— Бог не допустит этого! — хмуро сказал старшина.
— Э-э! — презрительно протянул Караев. — Бог долготерпелив! Идите распорядитесь насчет экзекуции. У меня в сотне есть такие мастера, что любо-дорого!
Из соседней комнаты выглянул Суэцугу. До сих пор он сидел, молча глядя в окно на суету вокруг штаба, и время от времени делал какие-то записи в полевой книжке. Когда Караев и Грудзинский заговорили, Суэцугу вслушался в их беседу. Поняв, о чем шла речь, он презрительно сплюнул на пол и вытер губы батистовым платочком. Менторским тоном сказал:
— Офицеры не должны ссорить друг друга… Не ругать… В чем дело?.. Объясните мне…
— Ротмистр Караев предлагает выпороть лиц, указанных Кузнецовым, — сухо предложил старшина.
— Что такое «выпороть»? — с наивным видом произнес японец.
— Бамбуками бить, — пояснил ротмистр. — Я думаю, это будет полезно.
Лицо Суэцугу прояснилось. Он закивал головой:
— Хорошо… Надо выпороть. — Он записал в книжку это слово.
— Мусмэ, которая убивать Кузнецова, надо расстрелять.
— Сделано, — отозвался Караев.
— Хорошо, — продолжал поручик. — Других надо выпороть. Пусть они, как всяк сверчок, знает свой насестка.
— Значит, вы одобряете мой план?
— Да, бог на помощь!
— Вы религиозны, господин поручик?
— Да.
— Скажите, а какую вы исповедуете религию? — живо спросил Караев.
— Я исповедую такую религию, которая нужна Ямато…
— Старшина тоже религиозен. Только у вас это лучше получается, рассмеялся ротмистр. — Распорядитесь, господин старшина!
Грудзинский вышел, хлопнув дверью.
Через несколько минут все приготовления к экзекуции были закончены. Каратели раскатали штабель бревен, возвышавшийся на площади. Несколько бревен уложили рядком. На берегу реки нарубили лозняку.
6
Едва офицеры ушли, Суэцугу опять принял то презрительное выражение, которое не сходило у него с лица сегодня с самого начала экспедиции.
В чисто военных вопросах Суэцугу был малосведующим человеком. В наступлении на Наседкино он не принимал никакого участия, но все, что удавалось, приписывал своему руководству и участию, а все неудачи, постигавшие отряд, относил за счет неумения русских офицеров. «Неполноценные люди! — говорил он про них. — Ссорятся, когда нужно быть беспощадными. Рассуждают, когда надо повиноваться! Не верят в то, что делают!»
Сам Суэцугу верил в то, что его действиями руководит высшая, непостижимая воля императора. Из этого следовало, что все, что он делает, свято, как свята воля тех, кто доверяет ему выполнение своей воли. Уже одно это сознание делало Суэцугу неуязвимым для упреков совести, раскаяния, жалости.
Жизненная цель Суэцугу заключалась в служении этой идее. Ради достижения этой цели все средства были хороши. Соображения этики и морали не должны были мешать выполнению цели, они не должны были приниматься во внимание.
…Каждый раз, когда случалось что-нибудь шедшее вразрез с намерениями и надеждами Суэцугу, только мысль о своем высоком назначении могла смягчить его огорчение неудачами.
Налет был неудачен. Донесение, которое он должен был составить, не ладилось. Который раз суровая действительность выбивала из-под его ног почву; партизаны оказывались предусмотрительными, храбрыми, белые не могли справиться с ними, несмотря на помощь Америки, Японии и других… Что-то было неладно вокруг. Суэцугу переставал понимать происходящее, и его нерушимая вера в себя и в миссию Японии как-то странно начала пошатываться…
И мысли Суэцугу возвращались к тем временам, когда все было понятна и делалось так, как рассчитывали «там», в недосягаемых верхах… Опять в его памяти оживал январь 1918 года, мрак ночи на рейде, гулкая палуба под ногами, яркий свет в уединенной каюте «Ивами», темные силуэты «Идзумо», «Адзума», «Асама», «Якумо» — японских броненосцев в Золотом Роге… И слова большого начальника: «Офицер запаса Исидо высказывал мысли о том, что большевики выражают интересы простого народа… Это — недопустимые мысли!» И Суэцугу ощутил вновь тот трепет, то незабываемое состояние, в котором он находился тогда.
…Кровь бросилась в лицо Суэцугу. Он склонился над листками записной книжки и стал писать черновик донесения.
Глава 27 Крестьяне
1
Хмурые крестьяне потянулись на площадь.
Шли они, словно волы в ярме, тяжело, не глядя вперед, не видя дороги, будто чувствуя погоныч в руках станичников, которые обходили дворы, выгоняя поселян на экзекуцию.
Окрики белых слышались отовсюду. Они постарались: в хатах никого не осталось. Павлу Басаргину не удалось отлежаться. Он таился, сколько можно было, пока в дверь стучались, но когда она затрещала под тяжестью прикладов, он вскочил и, готовый к самому худшему, открыл дверь.
— Ишь ты! — удивился один из казаков. — Глянь-ка, паря, какой лобан!
Басаргин исподлобья посмотрел на казака.
Бородатый казак смерил его с головы до ног взглядом с прищуркой, не сулившей ничего доброго.
— Краснопузый, однако? — уставился он.
Павло повернулся к нему и сказал:
— Кабы красный был, так ушел бы в тайгу!
— А черт вас бери, поди узнай, когда на лбу не написано, партизан али нет!.. Может, попрятались по избам, оттого и не нашли никого…
— Надо бы пошарить, — сказал второй, ставя винтовку на боевой взвод. Поди, в подполье целый полк ховается!
Он двинулся к подполью. Но Павло опередил его.
— Не бойся, — тихо молвил он, — сам покажу, какой полк там ховается.
Он осторожно поднял западню. Бородатый с опаской глянул вниз…
Измученная страхом и ожиданием, Маша спала, прислонившись к стене и бессильно уронив голову. Она прикрыла собой сына. Один ичиг с Мишки свалился, и мальчишечья нога белела в темноте подвала. Басаргин опустил крышку.
— Племя! — сказал бородач. — Черт его знает, что из него вырастет… Краснопузые? Сёдни меня мало не задавил один такой шибздик. Поди, паря, годов тринадцати, не боле. Однако доси шея не ворочается…
— Что бог даст, то и вырастет! — сказал Павло.
— Бог, бог… Ноли ему дело есть до нашего семени?! Само растет…
Когда Басаргин подошел к площади, почти все население деревни было уже там.
Старая Верхотурова заплаканными глазами смотрела на кучку поселян у бревен. Там находились ее старик и дочки. Вовка, сбычившись, стоял возле. Левый глаз его запух, вздулся; багровый кровоподтек пересекал лоб. Здоровым глазом он, не мигая, рассматривал белоказаков из-за плеча матери, которая хоронила его от лишних взглядов. Павло стал рядом.
— Это кто же тебя разукрасил? — спросил он удивленно.
— Да за Марью вступился. Ну и причесали, — отозвалась мать.
Вовка промолчал.
— Глаз-то как?
— Цел, Пашенька, цел… бог миловал.
Вовка поднял голову.
— А я и одним увижу, что надо! — сказал он со злобой.
Мать закрыла ему рот:
— Тише, сыночек… не гневи…
2
Крестьян сгрудили в концах коридора, образованного строем. Они стояли немой толпой. Что-то странное произошло с ними. Все они стали на одно лицо. Точно кто-то серой, землистой краской прошелся по их лицам. Насупленные брови потушили взгляды, резкие складки на лицах сделали крестьян старше и строже. Толпа молчала. И это суровое, осуждающее молчание пугало белых. В который раз почувствовали многие из них, что сила на стороне этих замкнувшихся, ушедших в себя людей, согнанных на площадь насильно.
Не многие из белых выдерживали мрачные взгляды крестьян. Встретившись с глазами, устремленными на них из толпы, они смотрели сначала равнодушно, потом, не в силах выдержать, отводили свой взор. Иные подмигивали товарищам, словно предвкушая что-то веселое, но чувствовали тяжесть, все более обволакивающую сердце. Ни ухарский вид, ни подмигивания не выручали их. Наконец присмирели и наиболее удалые из них.
Туча, прошедшая селом, растаяла. Унеслись и остатки ее, разорванные ветром в клочья. Солнце, идущее к западу, окрасило небо фиолетовой дымкой. Сквозь эту дымку проглянули ярко-зеленые полосы. Эти полосы слоились и переливались, точно волны ходили в вышине, над селом. Они то становились узкими, то вдруг ширились, захватывая полнеба. Дымка посветлела, стала сиреневой, она уже не скрывала странного зеленого света, который отбрасывали на землю изумрудные полосы, рожденные заходящим солнцем. Воздух стал удивительно прозрачным, словно толща его уменьшилась. Обычно голубые, дальние сопки словно приблизились к селу, как бы наклонились над ним. И сосны, стоявшие далеко за выгоном, те сосны, под которыми лежала мертвая Настенька, стали ясно видными. Синева, покрывавшая их, улетучилась, они стали зелеными, и, казалось, все иглы их можно было пересчитать. Исчезла воздушная перспектива. Все предметы осветились и сблизились.
Застыли казаки у бревен. Застыли офицеры на крыльце штаба.
Грудзинский прошептал:
— Господи боже, какая красота!
— Зодиакальный свет! — ответил вполголоса, подчиняясь общему напряжению, Караев. — Вы, батенька, поживите здесь, так всего Фламмариона в натуре увидите… И три солнца, и кресты на небе — чудес хоть отбавляй!.. Чертовский край!
А зеленый свет все лился и лился.
— Знамение! — шепнул кто-то в толпе крестьян.
Но зеленый свет перемежился яркими желтыми полосами, ослабел и погас, мгновенно исчезнув. Отодвинулись сопки. Сосны встали на свое место. Синевой окутался горизонт. Мертвенные лица карателей опять стали коричневыми, словно дублеными.
Невесть откуда взявшиеся облака закудрявились на небе. Пышные края их золотились на солнце. Притихший было ветер вдруг пробежал по селу и пошевелил казачьи чубы. Оцепенение прошло. Караев резко крикнул:
— Смирно!.. Экзекуцию начи-и-най!
Вмиг все зашевелилось. Переступили с ноги на ногу крестьяне, осматриваясь пугливо то на карателей, то на девушек под навесом. Урядник грубо сказал девушкам:
— Ну, пошли.
Девушки тронулись с места.
Белоказаки косили глаза на арестованных.
Когда девушек вместе с крестьянами поставили у бревен, Суэцугу поспешно вышел из штаба. Он высоко задрал голову и оглядел из-под широкого козырька фуражки толпу.
— Росскэ куресити-ане! Смею приказывать вам выслушивать меня. Вы нарушили заповедь ваши предки, вы подняли руки на священную особу императора. Вас наказывать за это надо. Вы неразумные дети есть. Вы борсевикам помогали. Это хорошо нет!.. Борсевика бога нет. Это плохо! Великая Ниппон желает установити настоящий порядок в России. Кто сопротивление думает оказывать, тот надо вы-пороть! Как маленьки ребенок делает отец… Мы ваш отец духовный есть… брат по вере. Хуристосо с вами!
Чтобы крестьяне могли убедиться, что они имеют дело с единоверцем, он с деревянной методичностью перекрестился три раза, твердо кладя щепоть правой руки на лоб, живот, правое и левое плечо.
— О господи… батя косоглазый выискался. Чего это на белом свете деется! Пороть — так порите, а что же кометь-то ломать! — сказал Верхотуров. — На вас господь мой позор перенесет!
Суэцугу приписал слова старика действию своей речи. Он довольно осклабился и хлопнул по плечу Верхотурова.
— Хуристосо терпел и вам велел.
Верхотуров обернулся:
— Потерпим, макака… потерпим! А потом разом сочтемся — дай срок!.. И добавил слово, которое Суэцугу не стал искать в словарике.
Он попятился от старика и махнул рукой Караеву. Тот кивнул головой. Молодой казак бесстыдно сказал Верхотурову:
— Сымай штаны, дед… Драть тебя будем!
Верхотуров посмотрел на него строго, но смолчал. Корявыми, негнущимися пальцами задрал подол рубахи на спину. Старухи заохали. Верхотуров поклонился толпе.
— Простите, крестьяне… Не сам срамлюсь, другие срамят!
И лег на бревна, положив голову набок и закрыв плотно глаза. Вытянули деду руки вдоль бревен и прижали. Один каратель сел на ноги старику. Двое по сторонам взяли лозы в руки.
3
Взглянув на мать Настеньки, на прозрачное ее лицо, тощее тело, седые волосы, выбившиеся из-под платка, на измученные ее глаза, Грудзинский коротко поговорил с Караевым и сказал старухе:
— А ты благодари ротмистра. Он отменяет наказание, которое ты заслуживаешь. Надеюсь, что больше не будешь якшаться с большевиками.
— Где моя дочь? — спросила мать Настеньки, не видя ее среди девушек.
Старшина не ответил. Старуха снова спросила его:
— Где моя дочь? — Она стояла, неотрывно глядя на старшину.
Досадливо поморщившись, старшина кивнул. Подскочил рябой, подхватил Наседкину под локти и через строй вывел прочь.
Сухими, воспаленными глазами посмотрела мать на него.
— Где моя дочь?
Рябой отступил на шаг в сторону. Этот немигающий взгляд обеспокоил его. Он оправил оружие и повернулся, чтобы уйти. Старуха тронула его за рукав.
— Где моя дочь, казак?
И, чтобы отвязаться, не глядя на нее, рябой сказал:
— Ищи — найдешь… Почем я знаю, где твоя дочь.
Услышав свистящий звук лозы, хлестко легший на тело Верхотурова, и испуганный вздох толпы, охнувшей разом, он нетерпеливо метнулся туда. Но взор старухи держал его. Тогда, обернувшись, он грубо крикнул ей, пригрозив нагайкой:
— Иди, иди отсюда! Сказано тебе: ищи — найдешь!
Он сплюнул через зубы и ушел. Наседкина проводила его темным взглядом. Оттого, как сказал рябой «ищи — найдешь», холодок пополз по телу матери. Недоброе было в этих словах. Она повернулась и побрела вдоль улицы. Останавливалась у каждого дома. Стучала. Долго вглядывалась в немые окна. Обошла всю улицу. Побывала и на соседних. Настеньки не было нигде. Тогда она подумала, что, может быть, в ее отсутствие дочь вернулась домой и ожидает там. Она повернула в сторону своей хаты. Сначала шла тихо, потом, охваченная нетерпеньем, побежала, схватившись за грудь руками, чтобы сдержать удары сердца. С трудом поднялась на крылечко, перевела дыхание и тихо окрикнула:
— Доню!
Прислушалась. Тихо. Никто не отзывается. Тогда шум своей старой крови в ушах она приняла за дыхание спящего человека и с твердой уверенностью, что дочь уснула, не дождавшись ее, вошла в хату. Кровать была пуста. Дочери в хате не было. Мать подошла к постели, потрогала ее руками. Крикнула громко:
— Доню!
Постояла, оглядывая пустую хату. Холодно. Тоскливо. В деревне Настеньки не было. Тяжесть выросла в душе матери, заполнила все ее существо, и то недоброе, что бросил ей рябой, вдруг стало ясным. Настеньки нет в живых!
Мать медленно вышла, спустилась с крыльца, обогнула хату. За плетнем начиналось жнивье. За жнивьем с одной стороны — чащоба орешника, с другой сосновая роща. Мать направилась в поле. С площади донесся гул голосов. Она даже не повернула голову. Пошла по стерне. Ветер закружил ее, дохнул в лицо холодом и завихрился на дороге винтом. Золотые венчики на облаках погасли. Облака потемнели. Ветер вернулся и бросил в старуху горсть пыли. Далеко, куда достигал глаз, щетинилась стерня. Ни одной живой души не было вокруг. Ветер ярился; он метался, подбрасывая в воздух высохшие зерна, оставшиеся на поле, мел по земле сухую траву, шумел в стерне. Кустарник поклонился Наседкиной в ноги, и в его зарослях ничего не увидала старуха. Она постояла, прикрыв глаза от ветра ладонью и придерживая платок на груди. Повернулась. Ветер трепал на старухе юбки, обкручивая их вокруг ног, надувал пузырем. Тащил за концы платка, выбивал из-под него волосы и растрепал их, застя взор и мешая смотреть. Наседкина пошла в другую сторону. В два раза быстрее прошла она обратный путь и направилась к соснам.
Что-то темнело вблизи сосен. Мать побежала туда, издалека узнав полушалок дочери. Ветер утих, лишь сосны шептали что-то, потом замолкли и они.
Настенька лежала со сложенными руками и закрытыми глазами. Она вытянулась и казалась выше ростом. Смерть еще не наложила на нее своего отпечатка. Губы, еще розоватые, были полуоткрыты. Распущенные волосы пролились жидким золотом на траву и блестели в лучах заходящего солнца.
— Доню! — сказала мать.
Она оглядела дочку и тихо, будто боясь нарушить ее покой, опустилась рядом на траву. Заметила струйку крови, вытекшую из уголков рта Настеньки, бережно обтерла кровь своим платком. Взяла за руку, и рука дочери не разжалась, не ответила на ее пожатие. Мать наклонилась над Настенькой. Дыхания не было слышно.
Слезы побежали из глаз матери. Ветер взметнулся, раздул пламя волос Настеньки. Старуха растерянно посмотрела кругом… Нет больше у нее дочери!.. Движения ее становились все более медленными. Она озиралась вокруг. Чужим, холодным, ненужным и странным показалось ей все: и лес отрада уставшего, и поле — кормилец людей, и дальние сопки, из-за которых приходила погода и солнце.
— Доню, а як же я? — спросила мать… — А як же я? — спросила она второй раз и глянула на лес.
Но в шуме его она не услышала ответа. Тогда она встала во весь рост. Посмотрела на небо, покрытое розовыми бликами, предвещавшими назавтра ветер, и ничего больше не увидела в нем.
— Боже мой! — сказала она молитвенно и горячо зашептала: — Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный… Молилась всю жизнь, щоб счастье себе добыть, тай не бачила его!.. Дочку Настю спородила — не спала, не ела, всю недолю от своей хаты отводила, щоб не узнала ее дочка. Было б ей жить, да с любым кохаться, да тебя радовать!.. Коли в тебе есть жалость, коли любишь ты людей, коли есть у тебя сердце да разум какой — пожалей меня, господи, владыко живота моего, надию мою верни, дочку верни, боже! Коли тебе души потребны, возьми меня, я уже устала от жизни!.. Чого ж ты молчишь?! сказала она, строго глядя в небо.
Ветер умчался прочь. Ни один волос не шелохнулся на голове Настеньки. Было очень тихо вокруг. Мать долго стояла, вперив взор в небо, словно ждала чуда.
Но чуда не было… Порвалась последняя тоненькая ниточка, которая сдерживала горе матери. Мать запричитала и с отчаянием бросилась на труп дочери. Слезы хлынули из ее глаз и застлали все мутной пеленой.
4
Старика Верхотурова подняли с бревен. Кривясь, чтобы не выдать боли, он сказал было:
— Бог простит… бог простит… — и ступил шаг. Одежда прилипла к ранам, старик почувствовал дикую боль и заорал: — Бог простит… да не я, катюги! Я-то не прощу! — на глаза ему попался недобро улыбнувшийся Караев. Не скаль зубы, гад, и до тебя ще доберутся! Не я, так сыны.
Вовка, во все время экзекуции не сводивший глаз с отца, рванулся вперед. Мать вцепилась в него. Но она не справилась бы с ним, если бы не Павло Басаргин, который перехватил мальчугана.
— Куда?
— К бате! — выдохнул Вовка.
— Не так надо, Вовка! — посмотрел ему в здоровый глаз столяр. — Не так! — Он прижал к себе маленького Верхотурова. Тот дрожал, точно в ознобе.
Верхотуров все ругался, переступая с ноги на ногу.
Степанида сказала ему:
— Тише, тятя… Будет и на нашей улице праздник. Крестьяне расступились, пропустив старика к своим. Старуха припала к нему. Павло толкнул Вовку:
— Подмогни отцу!
Мальчик осторожно взял отца под руку.
— Батя!
— Что «батя»? — взглянул на него выцветшими от боли глазами Верхотуров. — Батя… Видал, как батю драли?
— Ну, видал, — сурово ответил Вовка.
— А коли видал, так я с тебя, сукинова сына, семь шкур спущу, коли забудешь! — Верхотуров сморщился от боли.
Вовка тихо сказал:
— Я-то не забуду… Пошли, батя, домой.
Верхотуров, охая и шатаясь, будто пьяный, поплелся к хате. Вовка, поддерживая его, пошел с ним. Напоследок он оглядел карателей. Здоровый глаз его остановился на бородатом станичнике…
Настала очередь девушек. Казаки подступили к ним и связали руки. Женщины из толпы заголосили:
— Господин офицер… Ваше благородие! Ослобони девок, Христом-богом просим…
— Молчать! — крикнул старшина, который торопился скорей закончить расправу.
Толпа съежилась. Казаки заухмылялись. Марья Верхотурова сказала строго:
— Не троньте! — А когда почувствовала на себе чужие руки, отчаянно взвизгнула: — Ма-а-ама!
Верхотуриха всплеснула руками. Басаргин повернул ее лицо к себе и прижал, чтобы не видела ничего.
Марья, отчаявшись, пнула ногой что есть силы одного из карателей. Казак скривился — удар пришелся по больному месту — и свалил Марью на землю ударом кулака. Другие девушки тоже сопротивлялись, но совладать с палачами им было не по силам.
На сестер Верхотуровых навалились целой оравой и сломали, точно дерево с корнем вырвали. По двое сели на плечи и на ноги. Ксюшка Беленькая вырвалась и побежала вдоль строя. Ее перехватили и отнесли на бревна. Закрестились в толпе старухи. Отвернулись крестьяне.
Цыганистый казак подошел к Грудзинскому.
— Господин войсковой старшина! Не след бы девок славить. Опосля замуж никто не возьмет!
— А тебе-то что? — цыкнул на него старшина.
— Деревенский я! — сказал Цыган.
Не поняв, что этим хотел сказать молодой казак, Грудзинский отдал приказание. Караев лихорадочно облизал губы и подошел ближе. Он тяжело дышал, не отводя глаз от девушек.
Первыми пороли Верхотуровых. Девки молчали, судорожно вздрагивая. Встали они сами. Их развязали. Они оправили платья и отошли в толпу, трудно передвигая ногами. Степанида, будто запоминая, посмотрела пристально на ротмистра и на Грудзинского. Лишь когда подошли к матери, у Степаниды задрожал подбородок. Она прильнула к матери, точно малая. Марья — с другого плеча. Разом заплакали они, и было странно слышать этот тихий плач от плечистых, дородных девок.
Ксюшка извивалась всем телом. Она мычала от боли. Сестренка ее, стоявшая в толпе, опустилась на колени и заплакала. Ксюшка услышала плач сестренки и глухо сказала:
— Ленка, перестань… — Потом со слезами в голосе крикнула: Перестань, кажу… Мени ж с того погано, дурная.
Девочка зажала рот руками и стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. Казаки щадили Ксюшку, боясь, что, худенькая, бледная, тоненькая, она не вынесет порки. Удары они наносили без «потяга», от которого вздувается и рвется кожа. Ксюшка стонала и бормотала что-то, захлебываясь слезами. Цыган опять подошел к Караеву:
— Господин ротмистр! Прикажите отставить… Я когда вел ее сюда, поручился, что она только раненых будет перевязывать. Прикажите отставить!
Караев не слышал его. Он заметил, что лоза не свистит, опускаясь на тонкое, растянутое тело Ксюшки, что казаки только для виду делают размах, смягчая его в конце. Он подскочил к бревнам, отстранил одного, выхватил свежую лозу из пука лежавших возле.
— Как бьешь? — сказал с бешенством Караев. — Как бьешь? — повторил он еще яростнее. — Вот как надо! — Он раскрутил лозу. Гримаса перекосила лицо Караева. Он побледнел и тяжело дышал.
Цыган крикнул ему так, что все оглянулись на него:
— Господин ротмистр, от-ставить!
Тот пьяно глянул по сторонам и, дрожа от возбуждения, опять раскрутил лозу в воздухе.
Цыган вспрыгнул на лошадь. Грудью растолкал строй, давя карателей, и вымахнул к бревнам. Левой рукой поймал лозу и сказал, насупясь:
— Оставь, говорю!.. Я ей обещал. Слышь?
Остервеневший Караев хлестнул Цыгана наотмашь и обернулся к Ксюшке. Цыган охнул и выхватил клинок. Сверкнула на солнце сталь и, зазвенев, опустилась на голову ротмистра. Не рассчитал Цыган, не дотянулся, не срубил голову Караеву, — конь шарахнулся в сторону, и сабля, скользнув, рассекла офицеру лоб. Ротмистр схватился за лицо, растопыренными пальцами стараясь зажать рану. Кровь залила глаза и руки. Грудзинский выхватил револьвер и бросился к Цыгану. Цыган болезненно сморщился, крикнул хрипло: «И-эх!» — и рубанул по сторонам. Кого-то задел по лицу, кого-то по руке, хотел достать старшину, но промахнулся: тесно казаку в толпе, которая бросилась к нему, когда первое смятение прошло.
Сжав зубы так, что белые пятна проступили на скулах, он врезался в толпу карателей, топча их, поднял коня на дыбы, повернул на задних ногах и свалился ему под живот, когда Грудзинский выстрелил в него; он изловчился и снизу пырнул старшину клинком. На свою беду промахнулся Грудзинский. Тупо глянул он вниз и стал оседать. Цыган же опять оказался в седле, взял коня в шенкеля и послал через бревна. Каратели расступились, и Цыган вырвался на волю.
Несколько выстрелов прогремело вслед Цыгану. Пронзительно закричали бабы. Цыган пересек улицу, заметил разгороженную околицу и бросился к ней. На ходу снял винтовку, повернулся в седле, выстрелил в бросившихся за ним карателей. В него стреляли беспорядочно, залпами. Он свалился набок, чтобы обмануть преследователей, и полверсты провисел на стременах, мотаясь из стороны в сторону от бросков коня, а сам внимательно наблюдал за тем, что происходит сзади. За ним гнались пешие. Некоторые, суетясь, садились на коней. Ни Караева, ни старшины среди преследователей Цыган не видал. Пешие отстали, думая, что Цыган убит или ранен. К околице вылетели конные. Дальше всех бежал Суэцугу. Он размахивал револьвером, посылая казаков в погоню, семеня короткими ногами в желтых штиблетах, ругался и кричал, путая русские и японские слова. Ему подвели коня. Он неловко вскарабкался в седло. Трясясь, словно мешок, набитый орехами, поскакал за Цыганом.
А Цыган уже подъехал к речке. Посмотрел по сторонам. Быть бы тут броду, да что-то не видно! Цыган стегнул коня нагайкой, и конь бросился в воду. Речка бурлила вокруг, но конь был ко всему привычен и выплыл на другую сторону. Цыган потрепал коня по шее. На берегу послышался шум. Казак пригнулся к луке и поскакал в тайгу.
С полчаса он ехал рысью, увертываясь от сучьев. Потом остановил коня и прислушался. Не услыхал ничего, кроме лесного шума. Какие-то птицы посвистывают в ветках. Прилежно долбит дерево дятел… Казак сорвал с плеч погоны, снял кокарду с фуражки, бросил ее прочь, опустил поводья. Не чувствуя руки седока, конь наклонил голову, щипнул травы. Бока у него ходили ходуном, и шумное дыхание раздувало ноздри. Потом он фыркнул, поднял голову, запрядал ушами и громко, заливисто заржал. Оглянулся на Цыгана, словно спрашивая, куда идти. Но седок только потрепал его по шее. Конь пошел в ту сторону, откуда отозвалась на его ржание кобылица. Сначала он шел тихо, потом быстрее, наконец припустился рысью.
…На конце сабли, которую выхватил Цыган из ножен, уместилась вся его прежняя жизнь, шальная и бестолковая. Взмахнул ею казак над головой, рубанул ротмистра — и не стало прежней жизни. Утопил ее казак в крови Караева. Конь унес его от погони. Вода смыла след его. А за речкой начинается тайга и новая жизнь казака. Долгая ли, короткая ли? Худая или хорошая? Да разве что-нибудь может быть хуже того, что оставил Цыган за рекой?
Вверил он свою судьбу коню. Ступает конь по прошлогодней, сухой листве. Шуршит листва… Всей прошлой жизни казака цена — опавший лист.
5
Не один Цыган понял в эти дни, что пора уже рассчитаться со старым. Тысячи солдат белой армии прошли тысячи верст с оружием в руках. Они шли, подчиняясь долгу, приказу, насилию. Узы долга ослабли: солдаты не могли не видеть, что правда — на стороне народа. Приказы утрачивали свою силу: слишком безнадежно было положение тех, кто их отдавал. Оставались только насилие да общность преступлений перед народом — они еще держали в тисках солдат, давно не веривших офицерам. Белые были прижаты к последнему морю, отсюда был только один выход: изгнание. Но страх перед расплатой оказался слабее страха перед чужбиной.
Началось дезертирство. Пойманных дезертиров расстреливали. В Гродекове солдаты отказывались стрелять в своих, — опять офицеры обагрили кровью солдат свои руки… В Прохорах вместе с приговоренными к расстрелу целое отделение ушло в сопки. На фронте к красным переходили взводы и роты со снаряжением и оружием.
Только присутствие японских войск в третьих эшелонах кое-как поддерживало последнюю белую армию на русской земле. Но японцы медленно отходили назад. И вслед за ними с боями откатывались и белые, огрызаясь, как затравленный зверь.
Все партизанские отряды вошли в соприкосновение с отрядами белых. Под Никольском по всей округе носился отряд товарища Маленького. Пэн был неуловим и вездесущ. В самом Никольске гарнизон был терроризирован партизанами Пэна. Усиленные посты, огневые точки, окопы опоясывали Никольск, но отряд Пэна просачивался через все преграды, снимал посты, захватывая огневые точки, заваливая окопы. Однажды ночью люди Маленького прорвались к тюрьме, взорвали гранатами часть стены, осадили стражу в караулке и освободили заключенных партизан и большевиков. Взбешенный Дитерихс объявил награду за голову Маленького Пэна — пять тысяч рублей. На следующий день, после того как по городу и окрестным деревням было расклеено это объявление, Пэн ворвался в город, разоружил роту егерей у военных складов, вывез из одного склада пятьсот винтовок, десять пулеметов, полторы тысячи гранат и исчез, прежде чем начальнику гарнизона удалось организовать отпор. На стенах домов и склада Пэн вывесил листовки: «Дитерихс обещал за мою голову 5 000 рублей. Значит, моя голова стоит этого. Но тому, кто доставит Дитерихса в расположение партизанского отряда и отдаст его в руки народа, я, Маленький Пэн, обещаю сохранить жизнь. Это стоит дороже денег. Господа офицеры, пользуйтесь случаем!»
В эти дни у Феди Соколова был любопытный разговор. В воскресенье он с Катей Соборской пошел на шестую версту за орехами. Они напали на хорошее место неподалеку от форта: тут орешник был густой, сильный, орехи гроздьями усеивали ветки, желтыми бочочками раздвигая зеленую, начинающую рыжеть оболочку. Ходить сюда за орехами не разрешалось: запретная зона начиналась в нескольких шагах. Катя кинулась к орешнику и, забыв обо всем при виде орехов, закричала:
— Чур, мое!
— Тише ты, Катюшка! — шепнул ей Федя, сгибаясь пополам, чтобы не привлекать ничьего внимания. — Как пальнут, будет тебе «твое»!
Катя спохватилась, но было уже поздно. Из-за колючей проволоки, опоясывавшей запретную зону, показался солдат. Он глянул на молодых людей. Катя, предупреждая его вопрос и окрик, замахала руками.
— Уходим, уходим. Подавись ты этими орехами! — закричала она, заслоняя собой Федю, немало смущенного таким оборотом дела и намерением Катюши.
Она стала тихонько подталкивать Федю назад. Она испугалась не столько за себя, сколько за Федю…
Солдат посмотрел на Катю, — на ее побелевшем лице ярко вспыхнули глаза, устремленные на него. Увидев девушку, да еще такую красивую, солдат смягчился. Он оглянулся и сказал:
— Чего ты испугалась? Не бойся… — И пошутил: — Дядя не сердитый!
— А, все вы на один манер! — ответила Катя. — Понаставили вас тут на нашу голову. Никуда ни выйти, ни пройтись! Ну, беда просто!
— За орехами, что ли? — спросил солдат. — Собирайте, коли так! Мне не жалко!
Косясь на солдата, Катя не заставила себя упрашивать и, забыв о своем страхе, принялась обирать кусты. Солдат, не отводя глаз от ее фигуры, залитой солнцем, спросил у Феди:
— Закурить не дашь?
— Отчего не дать, можно! — ответил Федя.
Закурили.
— Зазноба? — кивнул солдат на Катю.
— Немного есть! — отвечал Федя, ухмыльнувшись.
— У меня сеструха такая же! — сказал солдат, прищурившись от горького дыма.
— А ты откуда?
— Издали, отседа не видать! — со вздохом ответил солдат. — И не грезил сюды попасть!
— А чего шел? — затягиваясь, спросил Федя. — Дома-то худо, что ли, было?
Солдат сплюнул, настроение у него испортилось; видимо, вопрос Феди задел его за живое.
— Отчего худо? Дома-то не худо. А вот забрали да погнали. Чудо, что живой остался, остальных наших всех положили, что вместе забрали-то. Один я остался — может, для того, чтобы весточку принести, баб опечалить? — хмуро пошутил солдат.
— Да! — сказал Федя сочувственно.
— А теперь и не чаю до дому добраться! — сказал солдат. — Бают ребята, что нас скоро в Японию повезут… Эх-х! Жизнь окаянная! — опять сплюнул он.
Катя, набрав полные карманы орехов, подошла и прислушалась к разговору.
— А чего вам Япония? — спросила она простодушно. — Там родня, что ли?
Солдат покосился на нее.
— У черта там родня! — сказал он, сердясь.
— А чего туда ехать? Оставайтесь тут! — прежним тоном проговорила Катя, выразительно поглядывая на Федю, который нахмурился, слыша, какое направление приобретает разговор; он, однако, не мешал Кате: когда говорила она, все выглядело безобидной шуткой.
— Куда я сейчас денусь! — с досадой проронил солдат.
Катя, высыпая ему на ладонь горсть орехов, сказала:
— Угощайтесь!.. А зачем сейчас? Вы ко мне приходите, когда офицеры лататы зададут, когда им не до вас будет… Я бы ни за что в Японию не поехала: там и хлебушка-то нет, один рис, на деревяшках ходят, в бумажных домах живут… Ну их! — И Катя замотала головой, словно в Японию должна была ехать она.
Солдат рассмеялся и кивнул Феде на Катю:
— А она у тебя забавная, девчонка-то! — выговорил он и, подумав, добавил: — А ить она это неплохо придумала, а?
— Ну, пора нам собираться! — сказал Федя.
Солдат не отрывал глаз от Кати.
— А ты где живешь? — вдруг совсем не шутливым тоном спросил он Катю.
Девушка показала на свой дом, ясно видный с горки.
— Не шутишь?
Катя отрицательно покачала головой.
— Этот серенький дом-то?
— Ага!
— Думаете, не приду? — спросил солдат.
— А я ничего не думаю! — опять обращая все в шутку, ответила Катя.
Они пошли прочь, солдат долго глядел вслед. Федя нахмурился.
— Ты чего? — спросила Катя.
— Так, ничего! — ответил Федя. — Больно ты его приглашала. Понравился, видно?
— И правильно сделала! — быстро ответила Катя. — Виталий бы похвалил за сметку, а ты… Ой, Феденька! Да ты совсем дурной, оказывается! — Катя насмешливо показала ему язык, взъерошила в один миг волосы, растрепав всю прическу, и, крикнув: — А ну, кто быстрей! — кинулась бежать от Феди.
Глава 28 Сердце Бонивура
1
Караев, раненный в голову, не мог руководить погоней.
Никто не стал преследовать Цыгана за рекой. Каратели боялись наткнуться на засаду. Кроме того, Грудзинский, смертельно раненный клинком Цыгана, был теперь не страшен казакам: они уже знали, что войсковой старшина не жилец на белом свете, не будет теперь совать свой нос в их дела и разговоры…
Разъяренный Суэцугу посылал погоню за реку, крича и срываясь с голоса. Он показывал рукой, горячил коня и подталкивал казаков. Казаки тоже кричали, но в воду коней не пускали. Суэцугу стал угрожать револьвером. Казаки нахмурились и переглянулись, — Суэцугу был один среди них. Он заметил эти переглядки и невольно помрачнел: кто знает, что могли задумать они, эти русские, о которых никогда нельзя было с уверенностью сказать, что у них на душе.
— Надо догонять! — жестко сказал он, приняв выражение непреклонности.
Однако это мало подействовало на казаков. Один из них сказал, махнув рукой:
— Догоняй сам. Там тайга. Там партизаны, большевики.
— Тайга… Борсевико… — повторил он.
Какая-то тень прошла по его возбужденному лицу. Он повернул и погнал коня прочь.
Казаки постояли у реки, постреляли вслед Цыгану, посовещались, как быть, и вернулись.
К их удивлению, Караев, узнав, что Цыгана упустили, принял это сообщение довольно равнодушно. Для ротмистра было ясно, что из села надо как можно быстрее уносить ноги. Он боялся, что у Цыгана найдутся подражатели.
Караев прошел к Суэцугу, уединившемуся в комнате.
— Я думаю выступать обратно! — сказал он японцу.
Суэцугу сухо ответил:
— Как хотите. Вы не умеете воевать. Ваши казаки не лучше борсевико.
Караев вышел, хлопнув дверью.
К нему подошел ординарец.
— Так что, господин войсковой старшина скончались, — доложил он совсем не печальным голосом. — Очень уж много крови потеряли.
Караев пошел посмотреть труп. Грудзинский лежал, сжавшись в комок. Руки его были сведены у живота. В этой нелепой позе он походил на сломанную куклу и казался теперь маленьким и бессильным. Караев посмотрел на него и философски заметил:
— Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
— Так точно! — козырнул ординарец.
— Ты понял, что я сказал? — удивленно спросил ротмистр.
— Никак нет!
— Дурак! Распорядись, чтобы тело старшины отправили в Раздольное. Сообщить по команде, что через полчаса выступаем.
Ординарец ушел. Ротмистр сказал Грудзинскому:
— Так-то, блистательный спаситель всея Руси… Не помог тебе ни боженька, ни черт. Надеюсь, что ты еще не успел настрочить на меня донос! Вот и выходит, что все к лучшему в этом лучшем из миров. — Караев вернулся к Суэцугу.
На столе японца лежала кучка мелко исписанных листков из блокнота?
— Позвольте узнать, что вы писали, поручик?
— Это донесение моему начальнику.
— Вы не сообщите мне содержание этого донесения?
— Пожалуйста! — согласился Суэцугу. — Я сообщаю, что группа кавалерии ротмистра Караефу, под командованием поручика Такэтори Суэцугу, совершила разведывательный налет на село, котору было занято крупными силами партизан и борсевико. Далее я говорить, что был большой бой, в котору много борсевико убито есть. Еще я доносить, что отряд захватил много пленные и снаряжение. Вот. Все.
— Мягко выражаясь, вы доносите неправду, господин поручик, — осторожно сказал Караев.
— Японски офисеро не может говорить неправда, — невозмутимо отозвался Суэцугу.
— Но ведь было наоборот. Красных было мало. Бой был небольшой. Наших убили много. А не досталось нам ничего, кроме двух пленных.
— Но с вами были японски офисеро, значит, было так, как он писать… Все правильно! Японец всегда победитель есть.
Караев пожал плечами. Суэцугу снисходительно заметил:
— Вам этого не понять. Голова у европейца другое устройство имеет.
Ротмистр с любопытством посмотрел на японца: серьезно ли тот говорит? Но лицо Суэцугу было важным и значительным.
— Скажите, поручик, а если в бою будет уничтожена большая часть японского отряда и останутся в живых человека два-три, кто будет победителем?
— Те, кто остался в живых.
— Если остался один?
— Все равно.
— А если и его убили, тогда кто?
— Япония.
— А если японца, оставшегося в живых, возьмут в плен?
— Этого не может быть, — сказал живо Суэцугу.
— Ну, а если все-таки взяли в плен?
— Нет, не можно… Японец не можно взять в плен…
— Позвольте… ведь партизаны забирали в плен японцев?
— Нет.
— Но я знаю это.
— Это вам только кажется. Японцев не бывает пленных.
— Ну, знаете… — развел руками Караев.
— Вам этого не понять! — с видом превосходства сказал Суэцугу и продолжал писать свое донесение.
Напоследок каратели прошлись по крестьянским дворам. Большинство польстилось на съестное. К седлам приторочили и в сумы напихали кур, гусей. По селу разнесся поросячий визг: волочили за ноги живых поросят, вытащенных из свинарников.
В хатах, где хозяева не заперли дверей, казаки хватали что попадало на глаза — полушалки, сапоги. Один унес балалайку и тренькал на ней пальцем. Другой стащил целую скрыньку, обитую жестяными полосами, скрепленными медными гвоздями, и украшенную охровыми и суриковыми разводами.
Караев с перевязанной головой вышел из штаба. Кубанку он держал в руках: теперь она не налезала на голову. Сморщившись, он поглядел на мародеров, но ничего не сказал.
Суэцугу, сопровождавший ротмистра, удивленно посмотрел на площадь, откуда доносилось подавленное кудахтанье и гоготанье. Потом глубокомысленно заметил:
— Военная добыча есть награда доблести воина.
Караев покосился на него. Ординарец подвел лошадей. Ротмистр и поручик сели на коней.
2
Лебеду и Виталия вывели. Они щурились, выйдя на воздух. Увидев перевязанного Караева, Виталий не мог сдержать усмешки. Значит, пока они с Лебедой сидели взаперти, в селе что-то произошло. Караев из-под полузакрытых век посмотрел на Виталия. Вполголоса отдал какое-то приказание ординарцу и с небольшим эскортом уехал.
Ординарец передал приказание подхорунжему, и тот ускакал. Белые подошли к Лебеде и Виталию. Партизанам связали за спиной руки и накинули петлю на шею. Лебеда крякнул, а Виталий поежился, почувствовав прикосновение веревки. «Неужели тут и кончат?» — промелькнула у него мысль. Но у Караева были другие планы относительно захваченных в плен. Белые сели в седла, не выпуская веревок из рук. Значит, поведут, но куда?
Какой-то молоденький казачок, не успевший ничего уворовать у крестьян, так как дежурил возле лошадей, заметил на ногах Виталия добрые еще сапоги. Он кивнул головой и сказал Бонивуру:
— А ну, сымай… Чего зря топтать будешь.
Виталий сказал насмешливо:
— Что, служба, у белых даже сапог не выслужил? Плохо твое дело.
Тот зло посмотрел на Виталия и передразнил:
— Не выслужил, не выслужил… С вами черта в ступе выслужишь!
— А чего же ты служишь? Ушел бы… а то у тебя жизнь впереди. Молодому-то, поди, неохота умирать, когда красные поднажмут.
Казачок окрысился:
— А ты, думаешь, старым помрешь? Не надейся! Караеву в лапы попал — он те жизнь-то укоротит.
К ним подошел урядник Картавый.
— Что тут за разговоры?
— Сапоги, говорю, на ём ладные. Чтоб не пропали, снять надо.
Урядник наклонился, рассматривая сапоги. Большим пальцем провел по коже: хороши.
— Сымай!
— Коли надо, снимай, — усмехнулся Виталий, — а то руки развяжи.
— Ну, это не выйдет, насчет рук, — погрозил кулаком урядник. — Развяжи, пожалуй, так потом и не найдешь.
— Вас же сотня, а я один, — сказал Виталий, надеясь, что руки, может быть, развяжут, а там будет видно.
Но урядник вместо ответа крикнул:
— Садись! — и, не дожидаясь, пока Бонивур сделает это, схватил его за ногу.
Виталий неловко упал, ударившись плечом о землю. Урядник схватил сапог за подошву и каблук, потянул на себя. Сапоги сидели плотно. Урядник покраснел от натуги, но упрямо тащил к себе. Рванул сапог и снял его, чуть не вывихнув Виталию ногу. Молодой протянул руку за сапогом. Картавый показал ему кукиш и, разувшись, стал натягивать сапог себе на ногу. Молодой сказал:
— Куда тебе, на твои тумбы! Ведь не налезут.
Урядник продолжал распяливать голенище. Оно с треском лопнуло по шву. Молодой сердито сказал:
— Ну, что я говорил, черт ты этакий!.. Зря только отнял.
Он схватился за второй сапог, но урядник, оттолкнув его, снял сам и клинком разрубил сапог пополам.
— На-кася выкуси…
Наблюдавшие за этой сценой расхохотались. Только бородатый Митрохин осуждающе покачал головой, с нескрываемой жалостью глядя на пропавшие сапоги.
— Эх-ма! Товар хорош был.
Обращаясь к нему за поддержкой, обескураженный казачок развел руками:
— Видал? Эва, как он… Ни за что ни про что… А? — Плачущим голосом он укорял урядника. — Кобель, право слово, кобель! И сам не гам, и другому не дам! Ну, и зачем же ты их порубил, черт косой? Я бы их починил.
— А чтоб ты начальство уважал… вперед бы не совался.
— Ну, ты, начальство, — шишка на ровном месте.
— Поговори у меня! — прикрикнул Картавый, гулко высморкался и ушел.
Молодой в бешенстве погрозил ему вслед кулаком.
Бонивур с усмешкой смотрел на все происходящее. Лебеда пошевелился.
— Христопродавцы… Одно слово, мародеры. Сапоги, сапоги! Мало не передрались из-за обуток, а о хозяине и не вспомнили, гады… — сказал он громко.
Митрохин ответил ему:
— Вспомним, не обрадуешься!..
Он хрипло откашлялся и отошел к коновязи. Лебеда сплюнул в его сторону. Тихо, только для Бонивура, добавил:
— Не знай, что тут было, пока мы в чулане сидели. Главную-то собаку кто-то благословил… Видал, башка перевязана? Теперь такое дело: надо бы нашим дать знать, что и как. Тут, пока эти лаялись, я с мальчонкой Верхотуровым перемигнулся.
— Ну? — оживился Виталий.
— Только боится он подходить. Все за избой хоронится. Тоже отметину получил… Голова перевязана, левого глаза и не видать. Не знаю, что придумать.
Виталий огляделся. Действительно, фигура мальчика маячила у избы Жилиных. Какая-то мысль мелькнула у комсомольца.
— Эй, станичники! — обратился он к белоказакам. — Пить охота. Принесите водички.
— Посыльных для вас нет! — ответил ему молодой.
Бонивур окликнул Вовку:
— Эй, сынок, притащи воды! Пить охота.
— Пущай несет, — сказал Митрохин.
Вовка исчез, чтобы через минуту появиться вновь. В его руках был большой деревянный ковш. Вовка перешел дорогу, стараясь не пролить воду, но, когда взглянул на Виталия, руки его дрогнули, он чуть не уронил ковш. Виталий посмотрел на мальчугана. Все лицо у Вовки было перекошено опухолью. Кровоподтек виднелся из-под холщевой повязки, покрывшей лоб. Бонивур стал пить, не сводя взора с Вовки. Глаза мальчугана наполнились слезами.
— Кто тебя? — спросил Лебеда. — За что?
— Вон тот, бородатый… Я ему за Марью чуть дыхало не перервал! скороговоркой ответил Вовка и прерывающимся голосом спросил: — Как же теперь будет, Виталя, а? Как же будет теперь?
Горячий шепот Бонивура заставил мальчика выпрямиться.
— Последи, сынок, куда нас поведут… Дай знать Афанасию Ивановичу. Понял? Пускай выручает!
— Ладно! Понял!
Виталий хотел было задать Вовке вопрос о Настеньке, все это время острое беспокойство за девушку терзало его. Но конвойный, заметив, что арестованные разговаривают, крикнул:
— А ну, кончай!
Вовка, сжав в руках ковш до того, что костяшки пальцев побелели, выдохнул с такой силой, что даже стон вырвался из его груди:
— Эх-х, Виталя… винта бы мне! Я бы их, гадов…
Лицо его исказилось, острая жалость, тревога за пленных и недетская ненависть к белоказакам вмиг состарили его.
— Помогай нам, Вовка! Вместе рассчитаемся за все.
— А ну, сыпь отсюда! — заорал конвойный.
Вернувшись от коновязи, Митрохин насупился и тоже закричал:
— Давай, давай… пока я еще не добавил!
Вовка перебежал площадь и скрылся в избе Жилиных.
Сотня собралась. Подхорунжий отдал команду. Головные тронулись. Пленников поставили между шеренгами. Один из конвоиров ощупал гимнастерку Виталия, прикинул: со связанными руками не снять. На одежду Лебеды никто из белых не позарился. Его ичиги и старенький ватник ни в ком не вызывали корысти.
…Село словно вымерло. Вечерело, но ни в одной из хат не зажигали огня — ждали, когда уйдут белые. Виталий оглядывался по сторонам. Ни одной живой души! Неужели никто не видит, как их уводят отсюда? Нет, в окне у Жилиных он ясно разглядел Вовку. Однако тот сейчас же исчез, хлопнула дверь избы. В этот момент кони тронулись. Веревки натянулись. Пленники пошли по дороге. Справа и слева, впереди и сзади их шли кони. От гулкого их топота вздрагивала земля.
Две фигуры из избы Жилиных метнулись к околице. Когда Митрохин миновал околицу, у развалившегося сарая что-то засвистело в воздухе, и бородатый, схватившись за голову, повалился из седла на дорогу.
К Митрохину бросились, подняли. Все лицо его было залито кровью из широкой раны, обнажившей скулу и надбровье. Подхорунжий, побледнев, оглядывал окрестность. Многие схватились за оружие, ожидая, что сейчас начнется свалка, — место было удобное для засады, — кое-кто спешился.
Урядник наскоро перевязал Митрохина. Он бормотал:
— Эк рассадил! Чем же это?
Рябой наступил на что-то тяжелое, закопавшееся в пыль. Поднял. Это был кружок печной чугунной конфорки.
— Счастлив твой бог, что не насмерть! — сказал он. — Экой штукой черепушку развалить вполне можно.
Пленники переглянулись.
— Никак Вовка! — шепнул Лебеда.
Опомнившись, Митрохин кинулся к сараям, сняв винтовку с плеча.
— Убью на месте, истинная икона!
Подхорунжий остановил его:
— Отставить, Митрохин!
— Дак это чо получается… — начал было тот.
— А то, что ежели на час еще задержимся тут, — сказал подхорунжий, так всех, поди, положат…
3
Сумрак опускался на окрестность. Погасли красные блики на небе. Бонивур проводил их взглядом.
— Ветер будет завтра.
И он подумал о том, что завтра может быть многое, а его уже не будет. Мысль эта плохо умещалась в его мозгу. Лебеда, шедший рядом, придвинулся совсем близко, локоть к локтю, и шепнул:
— Ты места эти знаешь?
— Знаю… каждый кустик…
Лебеда продолжал:
— Скоро совсем стемнеет. Можешь веревку перегрызть? Зубы у тебя молодые. И я их тут задержу, буду кидаться в разные стороны. А ты — сразу за этот кустарник… По лощинке к речке выйдешь.
— Один не стану! — сказал Виталий.
— Не пори горячку! — зашептал старик. — Обоим не уйти. Я со своей веревкой не справлюсь. А один уйдешь — поспешай на подмогу.
Лебеда был прав. Стоило испытать все. Пока не использованы все возможности спасения, нельзя сдаваться. Бонивур ожидал темноты.
Дальше от села на дороге стал попадаться щебень. С каждым шагом идти становилось все труднее.
Миновали сосновую рощу справа. Темные деревья отошли в сторону. Слева донесся звенящий шум воды. Речка в этом месте была совсем близко. Знакомые, тысячу раз хоженные места!.. Здесь вот, на опушке, посреди которой возвышалась старая береза, молодежь жгла костры и прыгала через них. И он, Виталий, прыгал… И ожила в его памяти картина. Ребята шевелят костры палками, чтобы огонь горел ярче, чтобы еще веселее рвался вверх, чтобы труднее было прыгать. Нужно хорошо разбежаться… потом оттолкнуться обеими ногами от земли, с силой выбросить руки вперед… Ринуться через пламень, обдающий лицо палящим жаром, и перелететь через него. А потом толчок о землю… Платье дымится, и пекло костра оказывается сзади, а прямо перед тобой — смеющиеся лица девушек и парней…
— Виталий… начинай, родной, — шепнул Лебеда.
Бонивур схватил зубами веревку. Кони шли неровно — то быстрее, то тише, — веревка дергалась. Виталий стал перетирать ее зубами. Но веревка намокла, стала скользкой и поминутно вырывалась. Скоро Виталий почувствовал, что во рту у него стало солено. «Эх, десны рассадил!» — подумал он. Наконец веревка стала поддаваться. Но тут всадники хлестнули лошадей. Пленным пришлось бежать. Тучи пыли из-под копыт лошадей летели в их лица. Пыль хрустела на зубах. Мелкие камешки, брошенные копытами лошадей, секли лицо. Каждый шаг Бонивуру давался с трудом, камни ранили его обнаженные ноги. Не легче было и Лебеде. Ноги плохо повиновались ему, он спотыкался и однажды упал. Белые остановили лошадей, с бранью подняли его на ноги. Полузадохшийся Лебеда осмотрелся вокруг налитыми кровью глазами. Потом опять они бежали рядом юноша и старик. Они прижимались плечами, потому что только так могли помочь друг другу. Но все чаще хрипел и всхлипывал Лебеда, не в силах набрать в грудь воздуху.
Далекий крик, в котором слышались страх и отчаяние, донесся до всадников. Они повернули головы, прислушиваясь. Бонивур напряг слух. Далекий топот коня услышал он. Потом топот утих. Крик повторился. В этой темноте, неизвестно откуда идущий, не похожий на голос человека, несся он, казалось, из леса, или с сопок, или с неба, на котором мерцали звезды.
Пронесся он сначала тихо, потом все громче и громче. И чем сильнее становился он, тем тревожнее звучал. Жалоба, страх, тоска и отчаяние слышались в нем. Он достиг высокой точки и погас. Все стихло.
Белые сдержали коней. Обеспокоенные этим криком, они озирались по сторонам.
— Волк, — сказал Митрохин.
— Это непохороненный покойник себе место просит, — сказал рябой суеверно и перекрестился.
Урядник презрительно сплюнул:
— Эх вы, крестолобы… Филин это кричит. Он ужасти как пугает ночью людей.
Бонивур подумал о том же.
Если бы знал он, что это за крик! Это плакала над трупом дочери мать Настеньки, думая, что никто не видит и не слышит ее горя. Холодным звездам в вышине поверяла она всю неизбывную материнскую боль. Не знал Виталий, что Настенька уже застыла, что возьмут ее скоро люди, положат в сосновый ящик и предадут земле. Видел он ее живой, веселой, радостной, светлой и чистой, какой осталась она для Бонивура на короткий миг его жизни.
4
…То рысью, то шагом ехали всадники. Задыхались, готовые упасть, и вновь переводили дух пленники. А дорога тянулась впереди нескончаемой серой лентой, прихотливо изгибаясь и выпрямляясь. Спереди набегали все новые и новые сосны, холмы, пригорки и кустарники. Дальние сопки забегали вперед, ближние ряд за рядом отступали назад, словно не в силах видеть крестного пути двух измученных людей.
Но вот движение замедлилось. Сотня остановилась. Обострившимся слухом человека, которого не покидает надежда, Бонивур уловил топот сзади. И опять затих топот.
Большая часть белых на рысях поскакала дальше, а небольшой отряд, из десяти — двенадцати человек, свернул в сторону от дороги. Под ногами зашуршала трава. Какие-то постройки зачернели невдалеке. Насколько позволяла темнота. Виталий разглядел дом, сарай, что-то похожее на навес и конный станок. Видимо, это был хутор.
Казаки спешились. Веревки, тянувшие пленных, ослабели. Лебеда сразу опустился на землю, сипло, прерывисто дыша.
Подошли белые и приказали встать. Бонивур поднялся. Двое белых взяли старика за руки и за ноги и отнесли под навес. Затем пленников прикрутили к стойкам. Задели больную руку Лебеды. Старик охнул и что-то пробормотал. Когда каратели отошли, Бонивур стал вглядываться. Лебеда весь обмяк. Колени его согнулись, голова бессильно опустилась на грудь. Бонивур встревоженно сказал:
— Дедушка… а дедушка!
Из-за навеса вывернулся часовой и лениво сказал:
— Не разговаривать!
Бонивур замолк. Часовой подошел к пленникам. Сплюнул звучно в сторону, пошарил в кармане, достал кисет, набил трубку и закурил. Пламя спички осветило его лицо — круглое, с редкими белокурыми усиками. Это был тот белоказак, которого обделил урядник. Он постоял, оглянулся на шум, послышавшийся из дома, в котором зажгли свет, почесался и сказал:
— Ну, вот и ночь прошла… Чудно!
На него гнетуще действовало тяжелое дыхание арестованных, только нарушавшее тишину под навесом. Часовой наклонился к Лебеде, всмотрелся.
— Живой, — сказал он, видимо, только затем, чтобы избавиться от тишины.
Подошел к Бонивуру и, попыхивая трубкой, стал рассматривать его. Немигающий взгляд Бонивура потревожил часового, он отступил на шаг.
— Чего смотришь? Вот как тресну по буркалам-то… — И отошел в сторону.
Его томило вынужденное безделье и ожидание. Он прошелся несколько раз перед навесом и заметил, обращаясь к Бонивуру:
— Ты молодой, а он старый… А умрете вы в одно время… Чудно! — Тут он не то кашлянул, задохнувшись дымом, не то засмеялся. — Молчишь? Ну молчи!
Что-то неясно тревожило часового. Может быть, близость смерти?.. Или он просто боялся темноты? Молчать он не мог. Он опять сказал:
— У меня красные Саньку убили, брата… А сегодня вас обоих убьют. Так и идет… — После паузы он добавил, раздражаясь от воспоминания: — За такого казака, как Санька, ваших надо десятерых угробить, а то и поболе… У вас таких казаков нет!.. Али тоже есть? Нынче ваш один старик здорово, леший, дрался. Скольких положил, а потом о каменюгу ударился и голову размозжил. Поди, тоже казак! Ноги кривые.
Мужество Колодяжного поразило часового. Потом он усомнился, не слишком ли хорошо отозвался о Колодяжном, и сказал неуверенно:
— А может, не казак… Рази настоящий казак пойдет к вам? Голытьба — та идет. Оно, правда, и у меня имущества небогато, но мы в родстве со станичным… Вот войну прикончим, земли прирежут за добрую службу… тогда лучше будет… Али не скоро еще война-то кончится? Не знаешь? — Он замигал, ожидая от пленника ответа, потом добавил: — Не знаешь. И никто не знает.
Часовой зевнул и перекрестил рот. Потом спросил:
— Жив? Эй ты, красный, еще от страха не помер? — Раскурил погасшую трубку, посветил спичкой над головой и, увидя, что Бонивур по-прежнему смотрит в темноту, устремив взор на редкие звезды, мерцавшие в вышине, сказал:
— Жив.
Какая-то мысль пришла ему в голову. Он, кряхтя, стащил со старика ичиги.
— Сгодятся! — и сунул их в угол.
Из дома стали выходить люди. В освещенном четырехугольнике двери их фигуры появлялись четкими силуэтами и пропадали в темноте, когда люди сходили с крыльца. Часовой отошел от Бонивура, бросив напоследок:
— Казнить вас будут… Ротмистр у нас карахтерный человек.
Он вытянул руки по швам, узнав подходившего Караева. За спиной Караева вышагивал Суэцугу. Ротмистр сказал часовому:
— Дурак… не мог догадаться огня разжечь! — И обернулся к сопровождающим: — А ну, насчет костра, живо!
Суэцугу раскрыл портсигар и предложил ротмистру папиросу. Они закурили. Суэцугу, аккуратно подстелив плащ, сел на колоду в углу навеса.
Трое белых кинулись за дровами. Скоро они вернулись с охапками досок, щепы, кольев. Часовой клинком нащипал лучины и стал устраивать костер, пыхтя от старания. Кто-то принес сена. Часовой сунул его в середину щепы и зажег. Пламя спички перекинулось на сухую траву, разбежалось по стебелькам, пожирая их и пробираясь все глубже. Густой дым повалил клубами. Часовой закашлялся, наклонился над огнем и стал раздувать его. Пламя взыграло и накинулось на щепу. Затрещало топливо.
5
Колеблющийся свет костра озарил навес. Пляшущие тени заиграли на лице привязанного Бонивура. Он закрыл глаза, ослепленный светом. Костер погасил звезды, на которые он смотрел. Небо погрузилось во мрак. Казаки столпились возле костра, протягивая к огню руки, больше по привычке, чем по нужде: ночь была тихая и теплая. Бонивур открыл глаза и посмотрел на врагов. Большинство были люди пожилые — лет сорока, сорока пяти. Только трое моложе других. Все они показались Бонивуру чем-то похожими друг на друга. Лица их были красны. Видно, выпили для храбрости. Бонивур сообразил по равнодушию, с которым они держались, что предстоящее им привычно, что эти люди — приближенные ротмистра.
Караев кивнул головой на Лебеду: отвязать! Бонивур с болью подумал, что не ушел Лебеда от пытки и не легкой, тихой смертью умрет он, а в муках. Крепок был партизан! Жизнь сидела в нем прочно, но лучше бы умереть ему от ран… Лебеда открыл глаза, увидел белых и стал искать Бонивура. Улыбнулся ему потихоньку, словно не было тут никого, кроме своих. Но, ободряя друга, сам он был устрашающе бледен, не Лебеда, а его тень. Он опустился на землю.
— Вставай, вставай! Нечего, — сказал рябой и толкнул его.
Лебеда ответил:
— Чего стоять… Настоялся уже.
— Отлежишься в могиле, — оборвал его рябой. — Встань перед господином ротмистром.
Лебеда с ног до головы осмотрел Караева. Тот молчал, только розовая кожа его лица медленно багровела. Тем же спокойным, тихим голосом партизан сказал:
— Не велик барин, чтобы стоять перед ним.
Караев подошел к Лебеде:
— Коммунист?
— А то как же! — с гордостью ответил старик. — Все хорошие люди в коммунистах.
Караев криво улыбнулся.
— Ну, хороший человек, не скажешь ли ты: была у вашего отряда связь с Владивостоком? Кого из делегатов съезда знаешь?
— Как не быть! — сказал Лебеда. — У нас это дело хорошо поставлено. Как связи не быть? Вот как попрут вас из Владивостока, тогда узнаешь, какая у нас связь была… А насчет съезда не слыхал ничего!
— Расскажи нам все, что ты знаешь о связи с Владивостоком — явки, людей.
— А что мне за это будет? — заинтересованно прищурился Лебеда.
Караев ответил:
— Отпустим под честное слово, что ты не вернешься к красным.
— Ишь ты… — раздумчиво протянул Лебеда и обратился к Бонивуру, тревожно смотревшему на эту сцену. Всем существом своим Бонивур понял, что Лебеда сознательно принимает на себя первый удар, чтобы показать юноше, как надо держать себя с врагами. — Смотри, смотри, как он зубы-то оскалил, волк, одно слово, а притворяется человеком… Нет, ваше благородие, не выйдет! прищурился он на Караева.
Палачи окружили старика. Ротмистр ударил Лебеду. Старик не удержался на ногах и отлетел на стоящих сзади. Там приняли его на кулаки и стали кидать по кругу, словно мяч. Ему не давали упасть. Руки его были связаны, он не мог защищаться. Удары сыпались на него со всех сторон. Он вертелся волчком. На каждый удар он отвечал словами: «Не выйдет!» И эти слова еще пуще разъяряли белых. Они изощрялись в ударах, чтобы заставить Лебеду замолчать, отступить…
Суэцугу внимательно следил за происходящим.
Бонивур смотрел, мучительно содрогаясь от каждого удара. Холодная испарина выступила у него на лбу. Он закрыл глаза. Но глухие удары и затихающее «не выйдет», которое Лебеда все твердил, заставляли Бонивура смотреть. Ему хотелось кричать, но он сдерживал себя.
Лицо старика стало неузнаваемым. Один глаз запух, рассеченные губы раздулись. Старик взглянул на него, и Бонивур успел прочесть в этом взгляде непобедимое мужество. Лебеда попытался даже улыбнуться ему — или это только показалось?
Наконец Лебеда кулем свалился на землю.
Караев наклонился над ним:
— Будешь говорить?
Старый партизан с трудом открыл черные щелки запухших глаз, взглянул на Караева, попытался плюнуть, но губы не повиновались ему. Он отрицательно покачал головой.
— Будешь! — со злобной уверенностью сказал Караев.
Голые старческие ноги лежали на холодной земле, и Лебеда зябко поводил пальцами. Суэцугу из своего уголка проговорил, поглядывая на голые ступни Лебеды:
— Папаша холодно есть… Надо немножко греть.
— Будешь! — твердил Караев.
Он наклонился над костром; тугая его шея побагровела, он бешено рванул воротник рукой и распахнул сразу, оборвав пуговицы. Схватил пылающую головню и обернулся к партизану.
— Будешь! — прошипел он. — Врешь, старик, будешь!.. — Он приложил головню к пяткам пленника.
Лебеда охнул и дернулся.
— Дедка, дедка! — зашептал Бонивур, и слезы заструились из его глаз.
Караев злорадно следил за гримасой боли, исказившей лицо Лебеды.
— Что, припекает?! Я же сказал, что ты будешь говорить! Будешь!
И вдруг Лебеда ясно сказал:
— Буду! Буду говорить, катюга!.. И не только я буду говорить… Многие будут говорить. Тыщи народов будут говорить! Всё припомнят вам… как зверей, будут вас истреблять… и духу вашего на земле не оставят…
— Ах ты! — изумленно отступил в сторону ротмистр.
— И весь род ваш истребят по десятое колено! — кричал Лебеда. — Недолго уж вам издеваться над народом. И никто вам не поможет! И родины не будет у вас, и друзей не будет… В собственном дерьме утонете. Земля не примет вас! — крикнул он громко и замолк, словно этот крик унес остатки сил.
Ротмистр вынул револьвер, взвел курок, но Суэцугу предупредил:
— Старик надо отдыхать немножко.
Караев брезгливо вытер руки платком и отошел от Лебеды, тяжело дыша. Он направился к Бонивуру. Окружив Виталия плотной, разгоряченной толпой, переговариваясь вполголоса, каратели задымили папиросами. Караев тоже закурил, резко щелкнув крышкой серебряного портсигара. Он сел на стул, услужливо придвинутый рябым. Сосредоточенно выпустил изо рта несколько колец дыма, смахнул их рукой. Вынул из кармана гимнастерки гребенку, причесал растрепавшиеся волосы, положил гребенку в карман и сказал Бонивуру, который исподлобья следил за всеми движениями ротмистра:
— Ну-с, молодой человек, надеюсь, что мы с вами сговоримся… Вы человек образованный, интеллигентный. Вы, надеюсь, поймете, что не обязательно превращаться в котлету… Подумайте над этим. Я задам вам несколько вопросов, вы на них ответите, и затем мы расстаемся. Вы меня поняли? Я спрашиваю — вы отвечаете, и затем расстаемся. Мы незнакомы. И никто не узнает, что эти сведения сообщили вы… Есть у вас владивостокские явки? Я жду, — подчеркнул он.
— Я ничего не скажу! — ответил Бонивур. — И среди нас вы не найдете предателей.
— Однако же этот фельдшер, как его… Кузнецов, кажется, выдал вас? едко сказал ротмистр.
— Он случайный человек, — поднял Бонивур голову. — И он не избегнет справедливого суда.
— Чьего суда? — поднял брови Караев. — Понятия о справедливости бывают весьма относительны.
— Высшей справедливостью в нашем понятии, — отозвался Бонивур, — будет окончательное истребление подобных вам, забывших честь и совесть, продающих родину иноземцам.
— Ого, как ты заговорил! — протянул Караев, и красные пятна пошли по его лицу. Он крикнул рябому казаку: — Иванцов!
Рябой подошел и глянул на Виталия. Нахмурил брови, словно что-то припоминая. Недобрая ухмылка растянула его рот, обнажив желтые от курева клыки. Сжав зубы, заиграл желваками. Лицо его потемнело.
— Ага! С увиданьицем! — процедил он, будто про себя, и глаза его вспыхнули: он узнал Виталия.
6
Рябой бил молча, тяжело дыша, сосредоточенно и методически. Выждав, ротмистр сделал знак. Рябой отступил:
— Говорить будете?
— Я ничего не скажу, — глухо ответил Бонивур.
— Даже если от вашего слова будет зависеть жизнь товарища?
Виталий содрогнулся от этих слов.
По знаку Караева казаки подняли Лебеду и стали выламывать ему руки. Лебеда крепился. Сжал челюсти так, что на скулах буграми вздувались желваки. Шея покрылась тугими синими жилами. Он слышал последние слова Караева и старался ни одним звуком не выдать боли, чтобы не подвергать Бонивура искушению. Но когда треснула кость на раненой руке, он глухо замычал от боли, рванулся в сторону, потащил на себя палачей, заметался, стараясь вывернуться. Гудела земля от топота ног. Ругательства, хриплое дыхание белых и стоны Лебеды наполняли полумрак навеса.
И тогда жгучими, мужскими слезами заплакал Бонивур, видя, как ломают Лебеду палачи. Вырваться бы, налететь на белых! Раскидать их, взять бы Лебеду и утишить его страшную боль! Но не рвется веревка и не падает на землю. Связаны руки, и все глубже впивается веревка в тело.
Караев смотрел на Бонивура, и ноздри его раздувались. Вынул из кармана флакон, намочил платок, глубоко вдохнул запах духов.
— Ну, будете говорить? — тихо спросил он. — Одно ваше слово, назовите явки — и мы оставим старика в покое… Ну?!
Бонивур собрал кровь, наполнявшую его рот, и плюнул в ротмистра.
Караев отскочил.
— Ах, вот как! Ну, попробуем по-другому.
Палачи оставили Лебеду и бросились к Бонивуру. Ротмистр приказал устроить дыбу. Ноги Бонивура привязали к столбу, через стропила перекинули длинную веревку и зацепили его связанные руки. Потянули за веревку. В плечи Бонивура ударила резкая, горячая боль. Бонивур закатил глаза. Ему плеснули в лицо водой. Он пришел в чувство. Воспаленными глазами уставился Караев на Бонивура.
— Будешь говорить?
Виталий отрицательно мотнул головой.
Пытка продолжалась…
Но юноша молчал.
Он уже не походил на человека. Лебеда закрывал глаза, чтобы не видеть, а Бонивур, казалось, смотрел на него остановившимся взором. Наконец измученный старик крикнул:
— Да перестаньте же!.. Христом-богом молю!
— Скажешь? — обернулся к Лебеде ротмистр, часто мигая.
И тогда Виталий хрипло, превозмогая невыносимую боль, словно на чужом языке, невнятно, с трудом сказал и взглядом погрозил старику:
— Не смей… дед… говорить… не смей!
Ожесточение обуяло белых. Они пытали его уже только затем, чтобы заставить кричать. Но Бонивур даже не стонал. Столько силы было в этом растоптанном, изломанном теле, что боль не могла победить его.
Корчился Лебеда.
— Виталя, Виталька… Ох-х… Виталька, родной! — твердил он.
…Ночь подходила к концу. Гасли одна за другой звезды. Чернота ночи сменилась предрассветной мглой. Отупевшие мучители терзали Бонивура и сами были словно во сне, от которого не могли очнуться.
Даже огонь не заставил юношу закричать. Выпустили палачи головни из рук. Упали они на землю, дымясь и тлея.
И тогда Караев вынул клинок. Он вырезал на груди Бонивура, там, где все еще билось сердце комсомольца, пятиконечную звезду.
Втягивая голову в плечи, Бонивур извивался от дикой боли. Но когда сошлись последние окровавленные линии, образовав звезду, он выпрямился, поняв, какой знак положили на его тело.
Прощаясь с жизнью, со всем, чего не видели уже его глаза, с теми, кого не встретит он больше, с Настенькой, с товарищами, со всем лучшим, что было у него в жизни, со всеми надеждами и с самой жизнью, он крикнул:
— Да здравствует коммунизм!
В страхе застыли палачи. И, не зная, что еще сделать, но видя, что юноша не побежден, кинулся к нему Караев, взмахнул саблей…
Вспыхнул напоследок костер и погас. Страшась содеянного, не глядя друг на друга, белые ушли из-под навеса, и шаги их затихли. Караев спиной попятился к выходу, дрожа всем телом.
Суэцугу пугливо посмотрел на Лебеду и выстрелил в него. С револьвером в руке вышел японец, озираясь на навес, словно тот, кто оставался там, мог догнать его и схватить. Наткнулся на что-то, повернулся и бегом бросился к сараю, откуда доносились хруст травы и звякание уздечек: там стояли оседланные лошади.
Караев вскочил в седло, ударил коня шпорами так, что тот взвился, и, резко повернув, погнал его к Раздольному. Клочья травы и земли летели от копыт.
Вслед за Караевым помчались Суэцугу и белоказаки.
…С низин полз белый туман, путаясь в траве. Седые клочья его тянулись вдоль построек, закрывая их; они вошли под навес, прикрыли стойки и лежавшего Лебеду, укутали босые ноги Бонивура, поднялись выше и скрыли все: будто и не было на свете ни хутора, и ни того, что произошло здесь…
Глава 29 Идущие вперед
1
Хмурое утро вставало над селом.
Мишка проснулся, едва тусклый свет глянул через дерюжку, которой было завешено окно. Отец сидел за столом перед кринкой с молоком и медленно ел. Мать, прислонясь к косяку окна, смотрела на отца. Мишка свесил ноги с печи.
Из-за околицы донесся женский крик. Мать побледнела и прислушалась. Отец через дерюжку посмотрел в окно.
— Наши, кажись! — молвил он, схватил со стены телогрейку и выбежал на улицу.
Мать накинула на плечи полушалок и бросилась вслед. Изба опустела. Мишка шмыгнул носом, слез с печи и подобрался к окну. Сунув голову под дерюжку, он прильнул к стеклу, приплюснув нос.
К околице, обгоняя друг друга, бежали мужики и бабы.
От околицы шла толпа. Впереди — конный с красным флагом, а за ним партизаны с винтовками, с лошадьми в поводу. Партизаны что-то несли.
Мишка прижался к стеклу плотнее. Поискал среди партизан Бонивура и не нашел. Зато он увидел Вовку. Маленький Верхотуров шел рядом с Топорковым, опустив руки, будто плети. Перевязанная его голова, изуродованное опухолью лицо делали его неузнаваемым. Если бы не знакомая рубаха в голубой горошек, подпоясанная наборным ремешком, да полосатые тиковые штаны, Мишка не распознал бы деревенского заводилу.
Толпа направилась к школе. Партизаны положили свою ношу. Народ сгрудился вокруг. Командир отряда взошел на крыльцо и заговорил.
Мишка слез с подоконника. Надел на босу ногу худые отцовские ичиги и, не закрыв за собой дверь, выбежал на улицу. Крестьяне и партизаны стояли тесно. Мишка попытался пробраться внутрь круга. Наткнулся на знакомые стоптанные, с сыромятной подвязкой ичиги. Поднял вверх голову и увидел рыжеватую бороду отца. Мишка потянул его за полу. Отец нагнулся к нему, и, не удивившись тому, что сын здесь, поднял его на руки.
Говорил командир так, будто каждое слово давалось ему с болью. У крестьян были строгие, окаменевшие лица. Женщины плакали, закрываясь платками. Мальчуган хотел спросить, почему они плачут, но побоялся. На сентябрьском ветру он продрог.
Отец подозвал мать, передал ей Мишку и велел идти домой.
Вернулся отец в дом не скоро. Молча достал со слег, подвешенных к потолку, несколько высохших досок, которые берег для поделки ульев, порезал их, обстругал и принялся сколачивать гроб.
Мать прижала сына к себе и фартуком вытерла слезы.
— Такой молодой!.. — сказала она.
— А что им молодость? И грудных не помилуют! — ответил отец.
Глядя на его работу, мать вполголоса вспоминала:
— На живом теле звезду вырезали… Нелюди!
— Кто, мама? — спросил Мишка.
— Ты не слушай, сынок! — спохватилась мать.
— А гроб кому?
— Одному дяде… партизану Бонивуру… Убили его белые…
— За что убили? — раскрыл Мишка глаза.
— Не поймешь, — сказал отец. — Сейчас не поймешь.
Но Мишка понял, что черноглазый партизан уже не научит сельских ребят новой песне, не устроит состязаний наперегонки, не покажет, какие надо с ружьем приемы делать. Нет Бонивура! Мишке стало тоскливо. Он посмотрел на мать, на отца. И в глазах родителей была та же тоска. Мишка сморщил нос, хотел чихнуть и неожиданно заплакал. Растер грязным кулаком слезы по лицу и, видя, что мать и отец задумались, тихо вышел из избы.
Ребята толкались на улице.
Увидав, что в штаб потянулись сельчане, ребята пошли туда же. У крыльца стоял караул. Красный флаг, подвешенный у входа, был перетянут черной лентой. Часовые не двигались, не шевелились, они словно застыли, глядя прямо перед собой. Люди входили и выходили, а часовые стояли, словно каменные. Поднялись на крыльцо и ребята.
Комната была украшена зеленью. Перекрещенные еловые ветки были прибиты в простенках и над дверями. Ветки же покрывали и пол зеленым ковром. Посредине комнаты стояли два стола, а на них покоился гроб. Был накрыт он партизанским знаменем. Потемневший от ветров и копоти красный шелк мягкими складками свисал на пол. Белый с незабудками платочек был накинут на лицо Бонивура, платочек, который Нина вынула из своего вещевого мешка.
2
И Вовка Верхотуров был тут. Он не сводил глаз с гроба Бонивура. Через знамя и через платочек, накинутый на лицо комсомольца, он видел Виталия таким, каким застал его, когда с группой партизан прискакал из Ивановки. В полуверсте от белых следовал он, когда те волочили пленников на расправу. Не помня себя, нахлестывал коня, мчась за подмогой. И мчались с ним вместе и земля, и небо, и кусты по обочинам дороги. Так летел маленький Верхотуров, что и до сих пор чудилась ему эта бешеная скачка.
Не успела помощь!
И стоял Вовка, глядя на гроб, и не верил, что все события вчерашнего дня случились на самом деле, и раздвоились чувства его, и тому, что Бонивур мертв, не мог он поверить.
Заметив Верхотурова, Мишка шепнул ему:
— Вовка!
— Но тот не слыхал. Мишка позвал вторично. Вовка посмотрел на Басаргина, будто на пустое место, и Мишка не осмелился окликнуть Вовку еще раз.
Ребята долго смотрели на гроб и пытались представить себе лицо Бонивура. Так для них и остался он черноглазым, вихрастым, веселым и живым.
Партизанский караул стоял у тела Бонивура Алеша Пужняк и командир отряда вытянулись у гроба. Топорков, отдав воинскую почесть Виталию, отошел и шепнул что-то Вовке Верхотурову. До сих пор стоявший в неподвижности Вовка встрепенулся и вспыхнул.
Дали Вовке ружье. Он встал на место Топоркова. Мальчишеская радость овладела им, когда настоящая винтовка оказалась в его руках. Лицо Вовки залилось краской. Он взглянул на Алешу и стал навытяжку. Кончик штыка блестел, как звездочка. Винтовка была тяжелая и холодная. Как солдат стоял Вовка. «Эх-х! Виталя посмотрел бы сейчас!» И тотчас же подумал Вовка, что Виталий уже ничего не увидит и не услышит. Не мог совладать с собой Вовка. И по щекам его покатились слезы.
Алеша Пужняк метнул на Вовку быстрый взгляд, и у партизана покраснели веки, словно нажег их ветер…
Толпились у входа крестьяне и партизаны. Курили, молчали, — время слов еще не пришло…
3
Неотступная тревога за Настеньку терзала сердце Марьи Верхотуровой: что сталось с Настенькой? И остальные девчата в этот вечер все глаза проглядели, высматривая, не покажется ли где-нибудь она, хотя бы под штыками… Уже стемнело, когда белые покидали село, — в сумерках трудно было распознать кого-нибудь в сумятице возле штаба…
Кто знает, на что надеялись подруги, когда кинулись в штаб после ухода карателей, но встретили их пустые, захламленные окурками да рваной бумагой комнаты с раскрытыми дверями, — Настеньки здесь не было…
— Увели, гады! — сказала Марья, жалобно оглядывая товарок.
…На рассвете опять собрались девчата вместе, раздумывая, что теперь делать. А тут один парнишка, который был с Вовкой, когда тот из-за сарая следил, по какой дороге поскачут караевцы, стал клясться, что белые увели с собой только Бонивура и еще одного партизана, а кого именно — он не разглядел, и что Настеньки с ними не было. «Ну что, глаз у меня нету, что ли?» — заверял он.
Подошла к девчатам мать Марьи и Степаниды, поглядела на дочерей.
— Надо бы поискать, девочки! — тревожно сказала она, и от этих слов всем стало не по себе.
Ксюшка поднялась, но Марья замахала на нее руками.
— Сиди уж, Ксеньюшка! Мы сами… Пошли, Степа! — взяла она сестру за руку.
Стали девушки спрашивать, не видал ли кто-нибудь Наседкиных.
Спросили в одном дворе, в другом… Тревога охватила их. Из хат выскакивали девушки и женщины, объятые одной мыслью, переглядывались видно, несчастье не ходит в одиночку!..
Стали искать мать и дочь окрест села.
Кто-то припомнил, что будто с выгона слышался ночью не то крик, не то плач. Готовые к худшему, разделились на две группы и стали обходить выгон, осматривая каждый куст и ямку.
Издалека Марья приметила что-то темное возле сосен.
Закусив кончик головного платка и подбирая юбку, бросилась она к соснам. Остальные побежали за ней, подзывая друг друга…
И вот увидели они: лежит со сложенными руками Настенька на траве, еще не пожелтевшей здесь, оттого что ветви сосен прикрывали траву от палящих лучей солнца, а возле Настеньки в горестной позе, сама словно неживая, сидит мать… Ветер треплет волосы Настеньки, то и дело закрывая ей лоб и лицо. Мать тихонько отстраняет волосы, чтобы не мешали они смотреть на дочь.
— Остаповна! — позвала Верхотуриха.
Мать не услышала ее. Плача и причитая, кинулась Верхотуриха на шею Настиной матери, чтобы принять на себя часть горького ее горя. Тогда поняла Остаповна, что уже не одна она возле Настеньки, и обвела взором толпу. Глаза ее, обметанные темными кругами, потускнели и глубоко запали. Неизбывная тоска написана на ее лице. Слез уже не было, все их выплакала мать за эту ночь…
— Нема у меня дочки! — тихо сказала она и погладила Верхотуриху по плечу, словно ее надо было утешать. — Нема!
— Бог дал — бог и взял, Остаповна! — сказала Верхотуриха.
— Бог? — спросила мать, и недобрая усмешка искривила ее губы.
Вздохнули девушки в толпе, насупились мужчины, дрогнули и потупили глаза, — что могли они сказать матери?
…Подняли партизаны Настеньку на носилки, сложенные из винтовок, точно была она солдатом и погибла в бою.
Несли тихо, ступая след в след. Сбоку шла мать, едва касаясь земли, и смертной мукой светились ее сухие глаза, и тихо говорила она что-то, слышное только одной Настеньке, и поправляла волосы на лбу дочери, когда ветер раздувал их… Поддерживала ее старая Верхотурова под руку и чувствовала, что мать не понимает, кто идет рядом с ней.
— Остаповна! Остаповна! — окликала она, но мать не слышала ее.
Шли партизаны, несли мертвую девушку, и клубились над их головами облака, несясь тесной толпой в ту же сторону, куда шли люди. Клубились облака и кипели, будто что-то рвалось в небе, металось и искало выхода.
Потемнело, осунулось лицо матери. Словно каменной стала она. Верхотуриха тронула ее за рукав и сказала:
— Остаповна! Почитать бы над Настенькой псалтырь.
Мать повернулась и непонимающе глянула на старуху. Та повторила. Мать тихо качнула головой.
— Не надо! — жестко сказала она и опять замолчала и замкнулась в своем горе, где, кроме Настеньки, не было никого.
…Лишь когда комья земли глухо стукнули о крышку гроба, забилась мать, словно птица, застигнутая грозой. Бережно ее взяли женщины и уговаривали. А потом она точно сломалась, утихла, и глаза ее померкли. Увели мать домой. Яркий румянец появился на ее щеках. Сухонькое тело затряслось и забилось. Куда-то порывалась мать, извивалась и боролась с кем-то. Бредила, и из несвязных слов поняли испуганные женщины, что вступила она в единоборство с богом. Всю ночь мать проборолась с ним и, должно быть, одолела, потому что под утро радостная улыбка тронула ее губы. Она громко сказала Настеньке: «Иду, иду!» — и ушла.
Женщины положили на ее веки медные пятаки и зажженную свечу вложили в скрещенные на груди руки.
За околицей, у берез, на пригорке, выросли могильные холмики. Две красные звезды, сделанные Алешей Пужняком, возвысились над холмами, видные издалека. Прогремели выстрелы, которыми партизаны отдали воинскую почесть товарищам. Долго перекликались сопки, разбуженные залпом; долго эхо повторяло салют.
Когда ушли все, к могилам подошла Нина. Она стояла, не вытирая слез, струившихся непрерывно, и глядя на красные звезды и высокий березовый крест, выросший на пригорке. Потом опустилась на землю и обняла руками голову…
Только утром вернулась она в деревню.
4
Вспомнил Мишка про звездочку, которую сорвала с его картуза мать, стал шарить в полыни. Вовка Верхотуров, не находя себе места, бродил по селу. Увидел Мишку, спросил, что он ищет. Мишка сказал. Вовка молча принялся ему помогать. Долго лазили ребята по траве, ползали на коленях, раздирая полынь и репейник руками, шаря по земле. Принимались искать несколько раз, но только устали и перепачкались, ничего не найдя.
— Где же твоя звезда, Мишка?
Постояли ребята, посмотрели вокруг. Опять алел над штабом красный флаг. Солнце палило землю. Проносились мимо ребят золотые паутинки. Мишка посмотрел на Верхотурова.
— Ты теперь в партизаны пойдешь? — спросил он.
Вовка ответил не сразу.
— Не берут. Говорят, маленький! — сказал он, насупясь. Но ничего… я вырасту!
— И я тоже.
— Ты еще не скоро, Мишка! — обнял его Верхотуров.
— Вырасту! — упрямо сказал Мишка.
…Они пошли по улице. У избы Жилиных их внимание привлек тоненький свистящий звук. Ребята заглянули во двор. Старик Жилин, согнувшись над шлифовым точилом, правил саблю. Молча стоял возле него Алеша Пужняк. Жилин отнял саблю от точила, попробовал пальцем.
— Однако хороша, Алеша? — спросил он партизана.
Алеша принял саблю, тоже попробовал пальцем. Осмотрелся вокруг. Подошел к топольку в полторы руки толщиной. Оглянулся на старика.
— Не пожалеешь?
— Давай! — сказал старик. — Уж коли я наточил… — он не закончил фразу, а только поднял одну бровь, как бы говоря: «Не сомневайся!»
Крепкой смуглой рукой взмахнул Алеша. Сабля рассекла воздух. Тополек вздрогнул, но по-прежнему стоял.
Мишка жалостливо охнул.
— Мимо!
Но Алеша сказал с восхищением:
— Хороша!
Деревцо, постояв секунду, повалилось на сторону, печально прошумев листвою. Точно слезы, выступил на срезе сладкий сок. Кинулись ребята смотреть. Жилин тоже подошел к топольку, придирчиво приглядываясь.
— Ты, однако, мастер! — сказал он одобрительно.
Какие-то искорки промелькнули в его взоре. Он разгладил бороду тыльной стороной ладони. Потом, чего-то смущаясь, взял у Алеши саблю. Переложив ее из руки в руку, поплевал слегка на ладонь, огляделся. Присмотрел и себе тополек. Примерился, прежде времени крякая потихоньку в предвкушении удара. Размахнулся с силой, отчего в его старой груди что-то гулко хакнуло, и ударил по топольку.
Чуть зазвенела нежным голосом сабля, и упал тополек в ноги Жилину.
Алеша изумленно качнул головой. Ребята разинули от удивления рты. А Жилин сказал:
— Хороша!
В окно увидела старуха Жилина, что мужики рубят в саду деревья, выскочила на крыльцо и приготовилась было накричать на «чоловика», но только и хватило у нее силы укоризненно прошамкать:
— О-то! Ото дурный, хиба ж ты з глузду зъихав, що садочек рушишь?
Но Жилин и не посмотрел на жену, задумавшись о чем-то, пошевеливая клинок.
Алеша ревниво отобрал саблю. Потрогал лезвие пальцем…
Вовка посмотрел на Алешу.
— Вострая? — спросил он.
Вместо ответа Пужняк взмахнул саблей наперекрест, сверкающие восьмерки окружили его с обеих сторон.
— Эх-х! — сказал он жестко. — За Виталю у нас завтра счет пойдет! Вложил саблю в ножны, не глядя, словно сама она прыгнула туда, лязгнув эфесом. Он попрощался с Жилиным и обернулся к ребятам. — Ну, бывайте здоровеньки! Кланяйся отцу, Вовка, скажи: и за него с белыми посчитаемся!
С завистью и обожанием посмотрели ребята на Алешу. А он, статный, сильный, ушел в штаб.
Жилин долго что-то бормотал себе под нос, шевеля усами, гладил бороду, потом направился домой.
— Жинка! — позвал он голосом, который показывал, что хозяин в хате он, старик Жилин, и никто больше. Старуха откликнулась. — Где мой бебут, старая? — спросил он.
— Що тоби треба вид мене? Якого тоби ще бебута? — ворчливо сказала жена и, говоря, что и знать не знает она, что это такое, притащила из сеней кривой артиллерийский тесак, привезенный стариком с русско-японской… Тесак был зазубрен, видать, много домашней работы переделал он с тех пор, как канонир возвратился домой с войны.
Жилин насупил брови.
— Ото ж! Що ты с оружием зробила, стара?
— А ты не знав? Та на що вин тебе снадобился?
Жилин знал, что на вопросы жинки лучше не отвечать, так как им конца не будет, вышел во двор и начал точить тесак. Эфес тесака сохранился, даже медные «пуговки» на нем имелись. И когда старик потер их покрепче сначала корявой рукой, а потом подолом рубахи, «пуговицы» заблестели.
С тревогой смотрела жинка на мужа. А он отточил тесак, заткнул его за пояс, накинул на плечи ватник и пошел к штабу. Заподозрив неладное, старуха сморщилась, глаза ее заслезились, но сказать старику она ничего не посмела.
5
Сколько было силы в Лебеде, и сам он не знал, и никто не мог подумать, что столько силы может быть в человеке. С хутора привезли его живым. Лебеда не открывал глаз, не стонал. Чуть слышно билось его сердце.
Положили партизана у Верхотуровых. Перевязали раны. Чуть всего с головы до ног не забинтовали, так изранен и избит был Лебеда.
Долго не приходил он в сознание.
Догадались топленым молоком с салом попоить раненого. Голову, избитую, заплывшую кровоподтеками, подняли, зубы разжали и поили с ложечки.
Бормотал Верхотуров, стоя у кровати:
— Коли попьет, жив будет… Не примет душа божьего дара — так в темную и отойдет.
Выпил Лебеда все, что дали ему. Через полчаса проступила кровь на бинтах. Солнце на закат пошло — открыл глаза партизан. И стал смотреть сквозь узкие щелки запухших век. Долго ему чудились семеновские палачи. Потом разглядел он своих. С трудом шевельнул губами, силясь говорить, но голоса не хватало ему. Медленно двигал он глазами, оглядывая собравшихся. А у постели его были Топорков, Нина, Алеша Пужняк, Чекерда и другие.
Весть о том, что Лебеда очнулся, облетела отряд. Тесно стало в горенке. Жались друг к другу и ждали, томясь, что скажет Лебеда, словно с того света пришедший! Но слова не шли из горла Лебеды, а сказать что-то он хотел, до того хотел, что даже кончики пальцев его трепетали.
— Водочки бы ему сейчас, — сказал Чекерда.
— Ты с ума сошел! — взглянула на него Нина. — Не водочки, а вина бы ему виноградного… да где его возьмешь?
Верхотуров переступил с ноги на ногу.
— Никак у старухи была сладенькая, красная.
Принесли кагор. Влили в рот Лебеде с ложечки четверть стакана. Через несколько минут у него будто силы прибавилось. Наклонился над ним Топорков:
— Отец! Слышишь меня?
Мигнул Лебеда глазами, а потом тихо-тихо молвил:
— Говорить хочу! Пусть народ слушает.
— Все здесь, отец! — сказал Топорков.
Медленно, останавливаясь после каждого слова, рассказывал Лебеда о том, что произошло на хуторе.
Тягостная тишина стояла в комнате. На человеческую речь не похож был рассказ умирающего Лебеды. Точно капли воды, потихоньку текли его слова, унося остатки жизни.
И многим казалось, не быль, а тяжелый сон рассказывает Лебеда. Но больше слов говорило лицо Лебеды: кровь, запекшаяся на губах, разорванные ноздри, багровые пятна на лбу, опаленные брови и многое, что скрывали бинты, но что угадывалось под ними. Временами терял он сознание. Очнувшись, продолжал. Рассказал о Виталии, о себе…
Выпрямился в кровати, превозмогая боль, открыл глаза пошире. Посмотрел на Топоркова.
— Не… предали… не… предали… нико… го…
— Слышим, отец, слышим! — сказал командир на ухо Лебеде.
Лебеда не отводил взора от Топоркова. Сомкнул губы и смотрел пристально в лицо, наклонившееся над ним. Смотрел и Топорков в глаза Лебеде, напрягая слух, ожидая, что скажет партизан. Долго смотрел, пока не понял, что Лебеда отошел уже от своей муки, высказав то, что держало его в жизни, что в долгие двенадцать часов единоборства со смертью помогало ему одержать верх…
6
Пришел старик Жилин к Топоркову.
Сидел командир отряда, охватив голову руками. Тело немело, будто налитое свинцовой тяжестью от горя, обуявшего командира, и не мог поднять он головы, пальцем шевельнуть не мог.
Вытянулся перед Топорковым старик Жилин, таращил голубые младенческие глаза и держал искривленные старостью и ревматизмом ноги — пятки вместе, носки врозь. И казалось ему, что стоит он, как в бытность канониром, точно молодой дубок… «Голову выше, плечи развернуть, грудь вперед, живот втянуть…» — вспомнил он строевую драгомировскую скороговорку и выпятил грудь, сколько позволяли его шестьдесят лет, что тяжелым грузом легли на его плечи.
Долго стоял Жилин. Кабы по другому поводу пришел, не стал бы дожидаться, окликнул бы Топоркова; но с тем, с чем пришел он, по мнению старика, неподходяще было самому начинать. Однако густо откашлялся, чтобы заявить о себе.
Поднял голову Топорков. Глазами, в которых еще плескалась глухая боль, посмотрел на старого артиллериста. Увидел его выправку, увидел тесак за поясом, решительность в лице и понял, что пока он сидел, переживая горе, Жилин времени не терял и хотел теперь свою стариковскую жизнь отряду вручить. И Топорков тоже встал.
— В поход, что ли, собрался, Арсений Иванович? — спросил он.
— Так точно! — ответил старик.
Мелькнуло в его голове воспоминание, что солдатские ответы «так точно», «не могу знать», «никак нет» называл в дни службы вороньим граем да собачьим лаем, а тут вдруг в один момент понял, как много ими можно сказать.
Только эти два слова сказал Жилин, а Топоркову уж и спрашивать нечего стало. Командир хорошо знал таких деревенских стариков, как Колодяжный, Верхотуров, Жилин. От зари до зари могли они махать литовкой на покосе, обставляя молодых; вершили стога, вздымая жилистыми, сухими руками чуть не копну сена на вилах; по грудь в воде, ледяной да быстрой, управлялись с бреднем; за банчком спирту отламывали в сутки концы в четыре десятка верст; диких лошадей в покорных ягнят обращали, взявши на дыбках двумя пальцами за пылающие ноздри. Георгии да медали за службу в царской армии получали недаром — знали, почем фунт лиха; считались непьющими, да и правда не пили водку; они употребляли ее, но по-своему: накрошив в миску хлеба, заливали его водкой и это месиво хлебали ложкой. Звали их в деревне «лешаками». О чем мог спросить Топорков Жилина?
Он посмотрел пристально на старика.
— Вершими на Никольск пойдем, Арсений Иванович, — сдюжишь?
Жилин засопел. Седые брови его поднялись до половины лба и опустились; он нахмурился.
— А то? — отвечал он вопросом на вопрос. — Егор-то Иванович Колодяжный послабже меня в полку считался.
— Ну, как знаешь, тебе виднее, Арсений Иванович! Не мне тебя отговаривать… Поздравляю со вступлением в отряд! Скажешь Чекерде, чтобы дали тебе карабин.
Видно, в этот день одно было в голове у всех поселян.
Не находя себе места после похорон Бонивура и Настеньки, отец Мишки Павло Басаргин ходил по избе, непрерывно думая о чем-то важном. Пристал к нему сын с вопросом:
— Тять… а ты пошто не партизан?
Отец остановился и диковато посмотрел на Мишку. Никогда такого лица не видал у него сын. Павло свел в одну линию густущие черные брови. Точно не понимая, что сын говорит, уставился на него Павло. Мать тихонько цыкнула на Мишку.
— Поди сюда, сынка! Отцу не до тебя.
Мишка и сам уже попятился от тяжелого взора отца. Но Павло вдруг помягчел, опустился перед сыном на корточки.
— Отчего, говоришь, не партизан? — задумчиво переспросил он и поднял глаза на жену.
Маша, чувствуя, что с мужиком что-то творится, с готовностью ответила за него:
— Всем нельзя в партизаны, Мишка… Надо ж кому-нибудь и землю пахать.
Перед глазами Мишки стояли Алеша, рубящий тополек, Топорков в кожаной куртке, Чекерда с гранатами за поясом. Довод матери показался ему пустым. И, словно подслушав его мысли, отец сказал так же задумчиво, как раньше:
— А чего ее пахать-то?.. Пашешь, пашешь, а для кого?
Не привыкла Маша размышлять над такими вопросами. Беспокойство овладело ею. Она огляделась и ухватилась за спасительное средство, что останавливало все разговоры в доме Басаргина:
— Давай обедать, Павло, а то щи простынут.
Басаргин встал.
— Что щи? Тут душа простынет скоро.
— Да что ты непонятное говоришь? Я о щах, а ты о чем?
Вместо ответа Павло спросил ее:
— А чем я хуже других, Маша?
Не хотелось Маше понять мужа, но не понять было нельзя. Мужская совесть проснулась у Басаргина, и не захотелось ему больше отсиживаться от войны в избе, у теплой квашни, от которой шел домашний запах кислого теста. Маша поняла, что муж уйдет. Может быть, и не вернется. Может быть, сиротская доля ждет Мишку…
Оделся Басаргин и вышел из дому.
— Куда это папка-то? — поглядел Мишка ему вслед.
— Не знаю, Мишенька. Куда надо, туда и пошел! — сказала мать и заревела в платок.
Басаргин поднялся на крыльцо школы.
Столкнулся с Жилиным.
Старик торжественно нес в руках карабин. В его фигуре была написана такая важность, какая бывает лишь тогда, когда мужик снимается у фотографа.
— Эка! — удивленно сказал Павло. — В починку дали али как?
— Моя! — сказал старик. Номер девятьсот пятьдесят одна тыща четыреста шешнадцать.
Басаргин мучался мыслью о том, как завести разговор с командиром отряда. Не умел он говорить о себе. Встреча с Жилиным облегчила ему задачу.
Он остановился в дверях комнаты Топоркова. Окинул взором осунувшееся лицо командира, почувствовал его горе и, словно сердясь на кого-то, сказал:
— Винтовку-то мне дашь или как?
7
К вечеру старику Верхотурову стало плохо.
Он лежал на кровати, уставив в потолок налитые кровью глаза. Тяжко хрипел от удушливого кашля. По лицу Верхотурова пошли красные пятна. Руки стали сухими, и кожа на них блестела. Лоб был горячим, губы пересохли.
Верхотуриха растерялась, не зная, что стряслось со стариком. Она суетилась, без нужды бегая из комнаты в комнату. Принесла кваску, чтобы старик испил. Он отказался. Выбросил прочь компресс, который положила ему на голову жена, не взглянул на огуречный рассол, принесенный ею. Верхотуриха притащила ему чаю с малиной, водки, настоенной на красном перце. Старик отодвинул в сторону.
— Не тревожь! — сказал он. — Не суетись!
— Может, на битое место мази какой положить? — Она наклонилась над мужем, по-бабьи жалостливо сморщившись, полагая, что допекает старика боль от вчерашней порки.
Но не боль от лозы донимала Верхотурова. Он забранился:
— Поди ты, знаешь куда… На душу мазь не положишь! Мне не задница жар гонит — злоба! Всю жизнь прожил, как следовает быть… А тут…
— Заживет! — утешила старуха.
— Заживет! — взревел Верхотуров. — И-и господи, черта твоей матери! Кабы не хворость моя, зубами гадов пошел бы рвать… Под поганую пулю пошел бы…
— Да не тревожься ты, грешный! Отдохни.
Верхотуров давился кашлем и сучил кулаки в злобе, все с большей силой овладевавшей им.
— И сам дохлый, не могу… И нема кому за меня стать!
А в соседней комнате тихо-тихо лежали дочери. Они не плакали, не ругались. Лежали молча. И бог весть о чем думали. С тех пор как Марья расплакалась на груди у матери, встав с бревен, обе сестры не проронили больше ни слезинки. И не знала мать, как приступиться к ним.
Степанида раздумчиво сказала:
— Нам и в детстве-то батя подолов не заголял, а тут…
— Стеганые мы теперь! — отозвалась Марья.
Степанида долго прислушивалась, как бунтует за стеной отец. Вполголоса поговорила о чем-то с сестрой. Та сначала не соглашалась, спорила со Степанидой, а потом кивнула головой:
— Ну, делай, как знаешь, Степушка!
Добыла Верхотуриха у соседки какой-то «мягчительной» мази. Как ни ругался старик, но жена оказалась упрямой и настояла на своем.
Только стала натирать мужу болевшие места, как в комнату вошла Степанида.
— Иди, иди, дочка, отсюда! — замахала на нее сухой рукой мать.
Старик, стыдясь, опустил рубаху.
— Чего тебе, дочка? Иди.
Степанида, не обращая внимания на конфузное положение отца, медленно, как делала все, опустилась на колени.
— Мамынька, батя! Благословите в отряд идти.
Мать, держа в одной руке банку, в другой на ладони мазь, невольно махнула рукой, будто отстраняясь от Степаниды.
— Христос с тобой, Степушка! Что ты? Окстись! Поди приляг, родимая… отлежись… Господи, что надумала!
Верхотуров посмотрел на дочь, насупясь; у него сразу опять заболело все.
— Куды-ы? — сердито крикнул он. — Это еще что? Тебя там не хватало.
— Благослови, батя, в отряд идти! — спокойно повторила Степанида. Привыкшая с детства на все спрашивать у стариков позволения, она и тут не могла миновать их.
Старик, злясь оттого, что не мог сам подняться, заорал на дочь:
— Мало тебя били? Еще, дурная, хочешь?
Степанида повела своими могучими плечами.
— Что били — не мой стыд! Я и за тебя и за Марью отплачу, — сам, было время, стрелять учил.
— Ты не мудри! Тоже солдат нашелся. Сопля!..
Степанида поднялась с колен.
— Ты, батя, не лайся-ка! А то я и так уйду… Благослови лучше!
Подошла к самой кровати. Наклонилась к отцу. Тот не мог удержаться, легонько двинул ее по затылку: «У, непокорная!»
— За меня отплатишь! — сказал он, сморщившись. — Что я, что Марья — не в нас дело. Видно, правду говорят, что у девок волос долог — ум короток… Ты за Расею нашу в отряд иди, а не за сеченого отца… Время пройдет, белых попрут, так мне эта сечка в отличку будет, чтобы другие не забывали: вот какая доля у белых для всякого трудящегося человека припасена, другой не жди! Понимать надо!..
Вслед за тем, неловко сложив пальцы щепотью, он перекрестил дочку трижды:
— Во имя отца и сына и святого духа!
Глаза матери наполнились слезами. Но, понимая, что ни отца, ни дочь не переспоришь, она докончила тихо:
— Аминь!
Решимость оставила Степаниду, едва пошла она в штаб. Одно дело разговаривать со стариками, другое — с командиром отряда. Она остановилась перед дверью комнаты, где сидел Топорков, и поспешно сделала к выходу несколько шагов, услышав движение в комнате.
Дверь распахнулась. От Топоркова вышла, неся в руке какую-то бумагу, Нина с заплаканными, запухшими глазами.
— Ты что здесь делаешь, Степа? — спросила девушка, рассмотрев в полутьме коридора Верхотурову.
Степанида тяжело задышала, не зная, как приступить к разговору. Нина, увидев, что Степанида взволнована чем-то, обняла ее.
— Ну что, Степа?
— Ой, Нинча, хочу в отряд проситься, а духу не хватает… Топорков-то человек сурьезный… А ну как скажет он: «Мне-ка девки на что?»
— Забоялась, что ли, Степушка?
— Забоялась. Но ты мне скажи: у него никого нету? Коли один, так я пойду.
— Не ходи! — сказала Нина.
— Пошто? Не примет? Так я и одна пойду партизанить! Право слово.
— Не ходи! — повторила Нина. — Вот видишь, список у меня в руках? Поручил Топорков записывать всех, кто в отряд хочет.
— Пиши меня первой!
— Да ты, поди, больна еще, не торопись.
— Дома-ка я, Нинча, и век не подымусь, на Марью да на батю глядючи. Пиши! — властно повторила Степанида и ткнула пальцем в список. Робости ее как не бывало.
8
Отряд пополнялся новыми бойцами.
Из соседних деревень прибывали конные и пешие. Многие приносили с собой винтовки, гранаты. Оружие получали те, у кого его не было.
Прибывали к Топоркову командиры отрядов, расположенных по соседству. Совещались, разрабатывали планы совместных действий.
Проходя мимо свежих могил, снимали шапки. О мертвых не говорили, но помнили. Помнили, чтобы в близкой битве посчитаться за них.
А битва близилась с каждым часом.
Уже грузились во Владивостоке первые эшелоны японцев, отплывавших на острова. Грызлись спекулянты, отбивая друг у друга места на пароходах «Доброфлота», идущих за границу. Еще дрались ожесточенно посланные на фронт в последний момент войска, еще двигались они к фронту, но движение это походило на движение крови в обезглавленном теле: она еще идет, струится по венам и артериям, но уже нет животворной силы в этом движении, и тело остывает.
Алеша тосковал. Придерживая саблю рукой, он бродил по селу, не находя себе места. Оседлал коня, выехал на дорогу. Наметом стлался по пути, пока скачка не освежила его.
Обратно ехал, бросив поводья.
Издалека зачервонели перед Алешей звезды над холмиками. Снял шапку Алеша, и опять лютая тоска вернулась к нему.
Какой-то конный стоял перед могилами. Что-то знакомое почудилось Алеше в фигуре этого всадника. Он насторожился и одернул коня. Конь вздернул голову и пошел красовитей.
Услыхав топот, всадник обернулся, и Алеша узнал казака из сотни ротмистра Караева. Это был Цыган, вернувшийся в село после ночи шатанья в лесу, без цели, без думы, в душевной пустоте. С рассветом пришел он к холму с красными звездами, пришел к решению, менявшему его жизнь.
Ярость охватила Пужняка. Сама собой вырвалась из ножен его сабля, засвистела над головой, и конь рванулся вперед, почуяв бешеную руку всадника. Не зря точил саблю Алеша. Не прозвучал еще приказ, ведущий в бой, а уж на конце Алешиной сабли повисла жизнь чужого.
Вихрем налетел он на Цыгана.
Выхватил и казак свою саблю. Встретил Алешу клинком. Отбил удар, который должен был сиять ему голову. Лязгнули сабли и высекли радужные искры из стали. Отбил второй удар казак и не ударил. В третий раз засвистела сабля Алеши над головой казака. Встретил Цыган удар, принял саблю Алеши на клинок; скользнула сталь по стали, вздыбились кони врагов, скрестились клинки у самых эфесов, так, что в глаза друг друга взглянули Алеша и Цыган. Налитый кровью взгляд Алеши не встретил в глазах казака ни ненависти, ни ярости… Казак не хотел умирать, не хотел и убивать, он только защищался.
— Что жмешь, шкура? — прохрипел Пужняк, напружинясь и всю силу свою употребляя на то, чтобы оторваться от сабли противника и получить свободу для нового стремительного и сокрушительного удара. — Не будь бабой, гад! Умри как казак!
Кони разнесли их в стороны. Сделал Алеша поворот и с прежней яростью поскакал на Цыгана. Но тот, широко размахнувшись, отбросил в сторону саблю. Сверкнула она на солнце и воткнулась в могильный холм, раскачиваясь от силы броска.
Пронесся Алеша мимо. Удержал тяжелую руку. Просвистела его сабля над головой Цыгана. Тот не шелохнулся. Только смертная бледность покрыла его лицо, стерев смуглоту, будто губкой. Успел Алеша рассмотреть бледность казака. И успел рассмотреть еще, что нет у казака на плечах погон.
Опасаясь подвоха, повернул коня на дыбках, посмотрел на Цыгана. Тот стоял, шевеля уздечку.
Алеша подъехал к сабле Цыгана, нагнулся, взял. Грудь его вздымалась от шумного дыхания.
— Ну? — спросил он Цыгана. — Ты что? Кончил войну? Лапки вверх, на печку, тараканов кормить? Хитрый Митрий!
Казак сказал:
— По-твоему — кончил. А по-моему — только начинаю. Где ваш командир-то? Проводи!
Алеша кивнул на дорогу к селу.
Казак дал коню шенкеля. Пужняк поехал за ним, держа на коленях чужую саблю.
У околицы казак обернулся к Алеше:
— Дай шашку-то!
— Чего захотел! — сказал Алеша.
— Дай шашку-то! — повторил Цыган. — Ведь не с бою взял, паря! Не по закону.
Алеша одарил его мрачным взглядом и эфесом вперед подал саблю Цыгану.
— Спасибо! — сказал казак. — Живым оставите — побратимом будешь… Последнего родича моего вчера убили… А без родных тяжело жить!.. Я не волк.
9
Олесько впадал в забытье во время разговора, потом неожиданно приходил в сознание. Он был еще так слаб, что мог произнести лишь несколько слов. Сказав фразу, отдыхал долго, иногда забывая, о чем говорил.
Нина в неподвижности сидела в своей комнате, когда к ней вошел Топорков.
— Ты у Олесько давно не была? — спросил он.
Топорков помолчал, потом, словно сердясь, сказал:
— Сходила бы к нему. Мается. Видно, хочет тебя увидеть, а не говорит. Как дверь откроется, он глядит, будто рай ему оттуда покажут. А идут-то все мужики.
Посмотрел командир в окно, моргнул несколько раз, и еще более сердитым показалось его лицо Нине. Но не сердился Топорков: Нина уже хорошо изучила его лицо.
Нина пошла в лазарет.
Встретил ее у двери взгляд Олесько. Робкая радость вспыхнула в нем. Партизан глубже втянул голову в подушку, не сводя с Нины взора, наполненного такой нежностью, что дрогнуло у девушки сердце и слезы подступили к ее глазам. Она присела возле и взяла руку Олесько в свою… И удивилась и ужаснулась: до чего рука стала тонкой, почти прозрачной и невесомой! А там и всего юношу разглядела: виски его запали, тоненькие голубые жилки обозначились под бледной кожей, обтянувшей череп. Щеки впали, глаза провалились и светились из темных орбит чуть заметным блеском.
— Ну что, Ваня? — сказала девушка, не понимая, куда за эту неделю исчез Ваня, которого она знала.
Бледное подобие Олесько глядело на нее. Но сдержала себя девушка, ничем не высказала ни своего удивления, ни страха, который овеял ее холодом при взгляде на Олесько. И ей удалось это. Что мог ответить ей юноша? Все эти дни он ждал ее прихода. Когда уходил отряд на дело, мучительно боялся он, что с Ниной может что-нибудь случиться, — о себе он не думал.
— Тебя долго не было! — сказал он.
Раненые отвернулись, чтобы не мешать Нине и Олесько.
Нина тихонько поглаживала его руку. А он смотрел на Нину безотрывно, точно всю ее хотел вобрать в себя, насмотреться на весь остаток жизни.
— Я думал, ты сердишься или забыла обо мне, — промолвил, отдохнув, Олесько. — Вот и Виталя не заходит тоже. А мне хотелось бы увидеть его.
— Он к дяде Коле уехал, Ваня!
Однако внутренний трепет, охвативший ее при воспоминании о Виталии, передался Олесько. Руки ее дрогнули. Олесько почувствовал их трепет и тревожно спросил:
— Что такое, Нина?
— Устала я, Ванюша.
Олесько закрыл глаза.
— Мне легче стало, Нина.
— Ну да, ты скоро поправишься, Ванюша.
По-прежнему с закрытыми глазами Олесько сказал:
— Нина! Я хочу тебе что-то сказать.
— Ну, скажи.
— Поцелуй меня… если тебе не противно.
Она коснулась его щек. Закрытые веки Олесько дрогнули. Он медленно раскрыл глаза, глубоко посмотрел в глаза Нины и опять смежил веки.
— А теперь уйди, Нина. Я тебя буду помнить вот так… Твое лицо надо мной.
Он замолчал, слушая, как осторожно шагает Нина.
— До свидания, Ванюша!
— До свидания, Нина.
В сенях Нина встретилась с Панцырней.
— Были у Вани? Как он?
— На поправку пошло! — сказала Нина. — А вы чего поднялись?
— Дак рази можно лежать? — Он притронулся к головной повязке, не разбинтовалась ли. — Такое дело начинается! Да я и здоров почти.
— Почти!
— Нет, ей-богу, здоров! — До сих пор Панцырня говорил весело, но тут его тон изменился. — Не могу лежать… Вот ходил в рощу дубки ломать… Проверил — сила в руках есть!.. Еще не одного белого положу. В лазарете-то мне хуже… Как своими руками за Витальку да за Лебеду копчу какого-нибудь белого, тут мне и полное исцеление придет! Ей-богу!
Шум на улице прервал их разговор.
Оживление изменило вид села. Со всех сторон к штабу тянулись люди, пешие и конные. Панцырня воскликнул:
— Никак приказ пришел! Бегу! Надо успеть коня да оружие получить! Не знаю, как без меня Воронок жил и кормился. Ну, коли испортили коня, убью на месте!
Схватив свой вещевой мешок, он бросился на улицу.
Нина пошла к штабу, где сгрудилась толпа.
Топорков стоял на крыльце. Лицо его было торжественно, взволнованно. На бегу Нина услышала его слова:
— Товарищи! Народно-революционная армия на всем фронте перешла в наступление!..
Павло Басаргин успел забежать домой. Он крепко обнял Машу и сказал, что уходит с отрядом. Жена заплакала, но негромко, чтобы не разбудить Мишку. Павло поцеловал ее.
Подойдя к кровати, он долго смотрел на разметавшегося во сне сына: лицо мальчика дышало жаром, и розовые губы приоткрылись.
— Береги сына, Маша! — тихо сказал Павло.
Неловко поправив винтовку, висевшую через плечо, он взял котомку и вышел, прикрыв за собой дверь.
10
Отряд выступил.
Скакали партизанские кони, и ветер бил в лицо партизанам, свежий ветер из-за сопок, за которыми лежало море.
Задолго до выступления отряда Вовка Верхотуров засел на дальнем повороте, на котором вместе с Колодяжным видел казаков Караева в день налета. Долго сидел он, пригорюнившись. Грустные мальчишеские мысли чередой пролетали в его голове. Для чего пришел он сюда? Он отвечал себе, что ему хочется видеть партизанский отряд во всей его красе, в походе. А в тайниках его души таилась надежда, что, увидев его на шляхе, пожалеют его партизаны и возьмут с собой, дадут коня, карабин. И поскачет партизан Верхотуров мстить за Виталия и отца!
Ведь бывает же, что исполняются мечты!
…Заклубилась вдали пыль. Забилось сердце Вовки.
Топот многих копыт потряс дорогу.
Вовка отступил в кювет, чтобы лошади не сбили его с ног. Одна за другой пронеслись мимо него шеренги партизан. Пыль закрывала от него очертания лиц и фигур. Тепло коней ощущал Вовка. Мимо! Мимо! Ряд за рядом. Все знакомые и родные.
О! Почему же нет никому дела до Вовки?
— Степушка-а! — закричал он, увидев в облаке пыли сосредоточенное, сердитое лицо сестры, с винтовкой за плечами скакавшей между Жилиным и Ниной.
Крик его потонул в топоте копыт. Никто не обернулся даже. Не слыхали…
Мимо! Мимо!..
Колонна так же внезапно кончилась, как появилась.
Вот скрылась она за поворотом. И если бы не облако пыли, оседавшее на землю и серым налетом покрывшее Вовку с головы до пят, можно было бы подумать, что отряд приснился ему.
Бодрость покинула Вовку. Он сел на обочине дороги и горько заревел. Между всхлипываниями он твердил себе:
— Вырасту… тоже буду партизаном! Буду!
Неслись партизанские кони. И не подозревали партизаны, что ждал их тут Вовка, что сквозь слезы он провожал их отчаянным взором. И не подозревала Степанида, что в этот час кончилось детство ее брата…
Неслись партизанские кони. Скакали партизаны мимо попутных деревень и сел. И, точно снежный ком, рос отряд, оттого, что новые и новые бойцы ожидали его в каждом селе, на каждом перекрестке и на хуторских тропинках и вливались в отряд.
Их было много.
И с каждым часом становилось все больше и больше.
Глава 30 Дорога на океан
1
Тосковал Алеша. Он не мог примириться с мыслью о гибели Виталия. Точно что-то оборвалось у него внутри, возникла какая-то зияющая пустота, томилось сердце, и ничто не могло отвлечь его от мыслей о Виталии. Говорить же с кем-нибудь о том, что не давало Алеше спать и гнало прочь все остальное, было трудно. А поделиться своим горем хотелось, чтобы хоть немного облегчить себя. «Таньче надо написать! Но как послать? Ладно, напишу, а пошлю, если оказия случится!» И он присел под дубок, вынув бумагу и карандаш.
«Здравствуй, сестренка! Пишет тебе Алеша, твой брат.
Не знаю, как и писать тебе о том, что случилось у нас в отряде. Да все равно от тебя не скроешь — не чужой ты человек, а я по тебе скучаю. Лучше сразу. Три дня тому назад белые захватили Виталия. Они мучили его. Когда не поддался он пыткам, они убили его. Виталя умер как красный герой. Никого не выдал.
Вот что случилось у нас. Не буду говорить о том, что испытывал я, когда увидел тело Бонивура. Одно скажу: не будет и не будет пощады белым. Эх, если бы пришлось свидеться с палачами его! Коли заведется во мне жалость, сам себя задушу, своими руками, чтобы наружу не вышла. Злой я теперь, Таня. Болит сердце так, что и не рассказать.
Пишу, а не знаю, когда перешлю тебе письмо.
До свидания, Танюша! О Виталии не плачь. Не плакать о нем надо, а бить белых гадов до последнего!
Твой любимый братишка Алексей».
Слезы застлали Пужняку глаза.
Цыган положил Алексею руку на плечо. Смуглая его ладонь была горяча. На темном лице углями горели налившиеся кровью от усталости и бессонницы глаза. Под Халкидоном рубился Цыган отчаянно, будто смерти искал, а когда наступило затишье, не спал, а, положив голову на скрещенные руки, вперил очи в густое, черное небо: не легко было ему идти по новой дороге… назад, к океану…
— Не надо, побратим! — сказал Цыган Алеше. — Успокойся.
— А я ничего! — ответил Пужняк, скрывая глаза от Цыгана. — Думаешь, плачу? Не такие мы, браток! — Он встал, одернул рубаху и, не оборачиваясь, ушел в кусты, пока не исчезли из виду люди. Лег там на землю, уткнув лицо в руки.
И пока не вернулся он таким, каким был всегда, Цыган не ушел с места, откуда видна была ему дорожка, протоптанная в высокой траве Алешей.
— Что писал-то? — спросил Чекерда Алешу.
— Так, для себя! — ответил Пужняк.
Чекерда взглянул на него живо и сказал горячо:
— Правильно, Алеша! Бери себе на заметку все… Такое время, паря, что одной головой всего и не упомнишь… А я вот плохо грамоте-то знаю. Иной раз и написал бы, да куда там!
Алеша смутился, хотел сказать, что писал сестре, а потом подумал, что Чекерда прав: стоило отметить следы этого пути отряда к морскому побережью с боями и победами, чтобы не забыли люди о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение последних верст русской земли. «Что ж! — подумал Алеша. Запишу, потом Афанасию Ивановичу отдам, пригодится кому-нибудь!» Он сказал Чекерде и Цыгану:
— Давайте вместе держаться!.. Цыган — справа, ты — слева, а я — за коренного.
Чекерда обидчиво прищурился:
— А почто я слева?
— Ближе к сердцу! — отшутился Алеша, поняв невысказанную мысль Чекерды, и добавил: — Не в том вопрос, Кольча, кто справа, кто слева, кто с какой руки, а в том, чтобы стенкой держаться!
— А я ничего! — сказал Чекерда. — Давай!
Цыган же молча кивнул головой.
Чекерда шепотом спросил Алешу:
— А ты стихи не пишешь, Алексей?
— Виталя писал, а я не умею! — отозвался Алеша.
— Ох, написать бы! — вздохнул Чекерда и зажмурил глаза. — Про Виталю бы да про то, как мы белых расчесываем… Чтобы за сердце брало!
— Напишут! — сказал Алеша. — Напишут, Кольча!
2
По дитерихсовским сводкам выходило, что белые прочно удерживают линию фронта, противодействуя натиску Народно-революционной армии и опираясь на крепкий тыл.
От мистера Мак-Гауна Вашингтон потребовал точной информации. Она нужна была в Нью-Йорке, пока можно было еще сыграть на положении в Приморье. Японской информации Нью-Йорк не верил, потому что в Токио были заинтересованы в том, чтобы еще некоторое время поддержать на высоком уровне индексы фирм, наживавшихся на интервенции. Господин Канагава, вернувшись в Японию, заявил корреспондентам газет, что интересы японских фирм будут ограждены независимо от политической обстановки в Приморье и что деятельность их может продолжаться еще значительное время, так как режим Дитерихса крепок, как никогда. Канагава лгал, но он не мог не лгать… При известии о полной эвакуации японцев из Приморья акции Мицуи и связанных с ним фирм неминуемо должны были резко упасть, а потому следовало выгадать время, чтобы реализовать их на рынке мелким держателям, — пусть крах интервенции ляжет на их плечи. Мицуи ни при каких обстоятельствах не может терпеть убытки…
Мак вызвал к себе Паркера, Смита и Кланга.
Как всегда хмуро, он объяснил, чего он хочет от каждого. Он сказал Паркеру:
— Мне нужна точная информация, Эзра! Не для газет. Враньё исключается. Вы умеете видеть и слушать: вы расскажете мне о том, что вы видели и слышали. Ничего больше.
Когда перед Маком предстал Смит, консул, не поднявшись с кресла, обратил на него свои покрытые красными прожилками глаза.
— Не буду объяснять вам положение, которое в настоящий момент создалось. Эвакуация всех сил союзников из Приморья — дело ближайших недель. Но… те, кто связан с вами, не должны думать, что мы уходим навсегда. Наоборот. Они должны думать, что мы скоро вернемся. Как проповедник, вы посетите всю свою паству — в пределах досягаемости, конечно. Вселите в них веру, поддержите шатающихся: наши связи должны остаться крепкими и еще крепче, чем были. Форма Красного Креста поможет вам, если возникнут какие-нибудь случайности.
Кланг услышал от Мака:
— Можете убираться на север. Сейчас там нужна крепкая рука, — я не намерен лишаться своих долларов. Надеюсь, Москва еще не скоро дотянется до тех мест. За это время вы успеете стать богатым человеком. Учтите, что я вас найду везде. Если доллары будут у меня, они будут и у вас. Но если у меня не будет долларов, это обойдется вам дорого, Кланг. Со мной лучше не ссориться. До свидания!
…Паркер с мистером Смитом выехали в прифронтовую полосу.
Находясь во Владивостоке, они по-иному представляли ее себе. Она начиналась гораздо ближе, чем это можно было вообразить.
Сразу же, выехав из Владивостока, они увидели картины начавшегося развала, неразберихи, царствовавшей на дороге. Переполненные поезда. Станции, забитые войсками. Вереницы санитарных вагонов, напиханных до отказа ранеными, которых некуда было девать. Сбившиеся с ног военные коменданты. Толпы раненых на платформах и откосах насыпей. Офицеры, потерявшие воинский вид и утратившие власть над подчиненными. Деморализованные солдаты, осаждавшие на разъездах и полустанках поезда, медленно идущие во Владивосток. Открытая торговля оружием в двух шагах от эшелонов. Драки. Неприкрыто враждебное выражение на лицах крестьян при взгляде на воинские составы, идущие на север.
Паркер не был подготовлен к этой картине. Его глубоко поразило то, что он увидел. Не новичок в военном деле, он хорошо понимал, что все это значит, и был встревожен не на шутку. Мрачен был и Смит. Однако он утешал себя тем, что Советам придется тем труднее, чем больший беспорядок найдут они в Приморье после ликвидации белых.
— Чем хуже, тем лучше! — твердил Смит, глядя в окно вагона.
Перепаханным полем казалась ему вся округа. И кое-где тут должны взойти семена, брошенные Смитом. «Жатва господня!» — приходили ему в голову привычные слова.
В Паркере пробудилось беспокойство и любопытство, возник профессиональный интерес к заключительной сцене того спектакля, каким казалась ему русская революция. Он решил добраться до передовых позиций.
Смит же вскоре сошел с поезда и решил продолжать путь на мотоцикле, его «паства» была рассеяна по окрестным деревням.
Неподалеку от Никольска поезд остановился: путь был разобран. Ремонтные рабочие налаживали полотно под присмотром взвода солдат. Как выяснил Смит, дорога была взорвана час назад, перед самым проходом воинского состава. Взрыв оторвал два вагона. Разметанные на щепки, они были сброшены под откос, усеяв вокруг землю обломками. Ремонт грозил затянуться на несколько часов.
Смит забрал из багажного отделения свой мотоцикл.
— Господин Смит! — сказал ему офицер из железнодорожного батальона. Здесь крайне неспокойно… Я вам категорически не рекомендую ехать одному и отдаляться в сторону от железной дороги. Видите ли, мы уже не контролируем все то, что лежит за пределами полосы отчуждения.
— Ничего! — ответил мистер Смит, любивший это русское выражение, с помощью которого можно было сказать и слишком много и слишком мало.
Смит запустил мотор. Мотоциклет помчался по дороге на Воздвиженку, где жили несколько хорошо знакомых Смиту баптистов, у которых он иногда бывал. Эти «братья» были для него хорошим источником информации.
Смит вовремя заметил протянутую через дорогу тугую проволоку. Он резко затормозил. «Харлей» остановился перед самой проволокой.
— Черт возьми! — сказал он. — Еще одна секунда — и мистер Гувер мог бы не считать меня больше в числе своих подчиненных.
Он слез с мотоцикла и протянул руку за кольтом. Он повернул направо, оглядывая придорожные кусты. Тотчас же с левой стороны послышался окрик:
— Эй! Руки вверх!
«Хорошо организовано!» — подумал Смит и обернулся.
Из-за кустов показался молодой парень с винтовкой, вслед за ним вышел еще один, пожилой. Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать в этих людях партизан. Смит глянул в сторону Никольска, где стоял крупный гарнизон. Офицер из железнодорожного батальона был прав, он знал, о чем говорил…
— Я из американского Красного Креста! — сказал Смит быстро, предупреждая вопросы. — С кем имею честь?
— Чего? — сказал молодой, не поняв.
— Партизаны мы! — проговорил старший. — Куда вы едете? Нельзя!.. Кто такой?
— Вот мои документы!
Старший взял бумаги, протянутые ему Смитом, стал рассматривать. Молодой через плечо заглядывал в бумаги.
— Орел, Митрич! Глянь! Ей-богу, орел! — сказал он, увидев штамп на удостоверении.
— Да не наш это, — ответил Митрич, — наш-то двухголовый был, а у этого одна голова! Мериканский это орел!
— А по-моему, что одна, что две головы — все равно одна контрреволюция! — сказал молодой.
— А ну, давай за Маленьким слетай! — сказал старшой. Он кивнул Смиту: Ложись!
Смит вынужден был лечь. Напрасно он говорил о своей неприкосновенности, которую ему давала форма Красного Креста, о назначении этой организации. Партизан молчал и только дымил коротенькой трубочкой. Махорочный дым наносило на Смита. Он вытащил свой портсигар.
— Возьмите моего табаку! — сказал он.
Партизан покачал головой.
— Свой курим! — сказал он, приминая махорку в трубке большим пальцем, желтым от никотина.
Молодой партизан вернулся с китайцем, грудь которого перекрещивали пулеметные ленты, а на ремне висел огромный парабеллум в деревянной кобуре; карабин дулом книзу болтался за плечами китайца. Смит поднялся было навстречу, но, увидев китайца, демонстративно сел. Черт возьми, что за проклятая страна, где судьба его, американского гражданина, может зависеть от желторожего китаезы! Черт возьми еще раз! Это было слишком. И мистер Смит побагровел.
Он отвечал на вопросы Пэна, не глядя на него, обращаясь только к старшему партизану. Отвечать на вопросы китайца? Этого Смит не мог сделать. Все существо его возмущалось странной необходимостью подчиниться китайцу. Китайцу!.. Да, он представитель Красного Креста. Красный Крест заботится о пострадавших во время войны как военных, так и гражданских лицах. К нему поступила заявка о том, что в селе Воздвиженка есть сироты, оставшиеся после расстрелянных или убитых родителей. Красный Крест озабочен их судьбой. Он стоит вне политики. Его задача — помощь нуждающимся в медикаментах, жилищах, в человеческом участии, наконец. Кто сообщил? Кажется, некто Коровин!.. Точно Смит не помнил и назвал первую попавшуюся ему фамилию из знакомых в Воздвиженке.
— Коровин? — спросил Пэн и переглянулся с Митричем. — Помощь ему, господин представитель, уже не нужна. Вы можете отправляться назад!
— Почему не нужна? — спросил мистер Смит.
— А он получил сполна все, что ему причиталось! — сказал Митрич. Выдал, гад, японцам людей, а потом, для отвода глаз, сироток взял… Добрый шибко! Ну, да мы это дело улегулировали! — медленно произнес он трудное слово.
— Чего делать-то с ним? — спросил молодой партизан Маленького Пэна.
— Пусть едет назад! — решил Пэн. — Ваша ходи назад! — сказал он, возвращая документы Смиту.
Впервые Смит посмотрел прямо в лицо Пэну.
— Ишь, вызверился! — невольно сказал Митрич, увидев выражение его лица.
Но Смит уже отвернулся и уселся на мотоцикл.
— Ходи, ходи! — как на простого кули, закричал Пэн, которого возмутил последний взгляд американца: слишком вызывающим и дерзким был он.
«Господи, дай мне встретиться когда-нибудь с этим ходей!» — воззвал к своему богу мистер Смит, нажимая на стартер.
— Зря, пожалуй, отпустили! — с сожалением сказал молодой партизан, глядя вслед «харлею», пылившему по дороге. — Может, ссадить? — спросил он.
Пэн отрицательно покачал головой. Партизан подумал про себя: «Ну, пущай только вернется. Уж я его ублажу… Бумага-то с орлами».
3
Шестого октября части Пятой армии заняли Свиягино.
Защищали станцию корниловцы — остатки «добровольческого корпуса», некогда сформированного на юге России. Это были матерые звери. Прошедшие всю Россию из конца в конец, видавшие поражения и на юге, и на западе, и в Сибири, они понимали, что эти дни решают их судьбу. Среди них почти не было солдат. Во взводах большинство составляли унтер-офицеры — старослужащие, которым солнце на небе казалось начищенной пуговицей на мундире офицера. Не пригодные ни к чему больше в жизни, кроме цыканья на солдат, они видели, что приближается неизбежное, крах, и дрались отчаянно. Дрались за сытую казарменную жизнь, за власть над десятком солдат, за все то, что составляло их символ веры, — за «старый порядок». Воюя за него, они сотни жизней оставили за собой, отрезая дорогу к спасению и прощению, не щадя и понимая, что и для них пощады не будет.
Они заперлись в станционных зданиях. Все подходы были пристреляны. Бой был жестоким. Корниловцы дрались до последнего. Когда красные занимали здания, там находили только трупы.
4
Военные контролеры на телеграфе тревожно поглядывали друг на друга, читая телеграфные сообщения с фронта и из отдельных гарнизонов. Но и от гражданских сотрудников телеграфа трудно было скрыть положение, — наиболее интересные новости переходили из уст в уста. Как ни экономно для составления сводок пользовалась этими сообщениями дитерихсовская служба информации, почти в тот же день весь город узнавал об отступлении Земской рати из того или другого населенного пункта. О падении Свиягино город знал уже через два часа после получения телеграммы…
Таня узнала об этом одной из первых. Она вела журнал поступлений. С ворохом телеграфных лент из аппаратной прибежала дежурная бодистка. Скороговоркой она перечисляла поступившие сообщения, сыпля номерами и датами. Таня быстро писала, прислушиваясь к ее голосу.
— Свиягино, — с ударением сказала бодистка. — Номер одна тысяча триста пятьдесят два. Пятьдесят шесть слов. Шестого десятого. Двадцать второго. Шестнадцать ноль восемь! — И добавила: — Выперли! Связь со Свиягино прервана! «Выперли» не пиши! — И понеслась прочь от стола Тани…
«Значит, Нарревармия уже в Свиягино!» — сообразила Таня, поняв, что в четыре часа восемь минут из Свиягина была дана последняя телеграмма перед оставлением его белыми… Это была хорошая новость!
…После работы Таня втиснулась в переполненный трамвай. Надо было добраться как можно скорее до «почтового ящика»: дядя Коля ждал сообщений с телеграфа.
Таню прижали в тамбуре к самому окну. Трамвай покачивало на стыках. В грудь Тани уперся туго набитый мешок, который один из вошедших держал за спиною.
— Послушайте, — с досадой сказала Таня, — вы меня совсем задавили!
Владелец мешка заворочался, оглянулся.
— Дак ведь меня тоже жмут! — проговорил он, не то извиняясь, не то не принимая упрека Тани.
Лицо его показалось Тане знакомым. Где она видела эти белесые реснички, этот маленький носик, клочковатые брови и глаза с прищуркой, не дававшей рассмотреть их как следует?.. Вдруг человек, обернувшийся к Тане, чуть заметно подмигнул ей. «Да это Иван Андреевич!» — чуть не закричала Таня, но спохватилась. Она спросила:
— Вы где выходите?
— А ты где? — отозвался Иван Андреевич.
— Я на Мальцевском!
— Ну, и я там выхожу. Давай вместе пробиваться!
Он шевельнулся, поддал плечом в одну, в другую сторону и расчистил дорогу. Вышли они вместе…
— Ну, здравствуй, дочка! — сказал Иван Андреевич, улыбаясь. — А тебя не узнать. Такая красотуля стала, что не дай бог!
Без бороденки и Ивана Андреевича узнать было трудно. Таня сказала ему об этом. Иван Андреевич молвил со странным выражением:
— А наше дело такое: ходи, да не показывайся! Не так, что ли?
Таня спросила:
— А как насчет дома, Иван Андреевич?
Иван Андреевич махнул рукой:
— Ну, дева, тут такие дела, что не по дому… Потом уж, вместе с Ваней-соколом поедем.
— С кем, с кем? — поглядела Таня.
— Да есть тут один человек. Я у него сейчас живу… Работаем вместе плотничаем; я ведь плотник и столяр, что хочешь!.. В порту работаем.
Таня прошла мимо дома, в который должна была зайти. Она оглянулась. Спутник, которому она обрадовалась сначала, теперь мешал ей. Однако Иван Андреевич не отставал от нее. Таня спросила, далеко ли ему надо идти.
— Да мне надо на Луговую, а там еще дальше! — ответил Иван Андреевич. Я вышел-то, чтобы с тобой побалакать! — добавил он простодушно. — А то не чаял и увидеться… Не чужая ты мне теперь. Не забыла, как мы с тобой познакомились? То-то!
Он почувствовал смущение и неловкость Тани.
— Да ты чего сникла-то? Ты меня не бойсь! — Он оглянулся вокруг. — Ты по делу, что ли, куда идешь?
— По делу!
— А-а, ну тогда другой разговор! — протянул Иван Андреевич.
Он остановился и доверительно сказал девушке:
— Не зря тогда мы с тобой повстречались-то, дочка! Меня, знаешь, за это время как перевернуло. Ой, дак я теперя сам вижу, какой дурак был раньше… Такое дело… Ну ровно скотина, вокруг себя-то ничего не видал, дома сидючи. Вот ты думаешь, Иван Андреевич за рублем куды-то пошел? Нет, дочка, не за рублем. Мы с Ваней-соколом сейчас в Диомиде катера чиним, ремонтируем. Ну, это такой ремонт, что вместо рубля, того и гляди, пулю получишь. Слух есть, что всю морскую посуду, что по морю плавает, угонять будут… Ну, мы так починим, что не угонишь. Поняла? То-то.
Таня изумленно взглянула на бывшего солдата. Иван Андреевич ухмыльнулся и с бесшабашным видом махнул рукой, словно говоря: «А что, я такой. Могу!»
— А ведь вы, Иван Андреевич, — напомнила Таня разговор у Сони в памятный вечер, — боялись с «большевиками» связываться! А теперь?
Иван Андреевич, улыбаясь, поправил на плече мешок с инструментами, подкинул его одним движением плеча.
— Связался! Связался! — сказал он таким тоном, словно удивлялся самому себе. — Связался… К тому идет.
— А если раскроется с катерами-то?
— Ну, сказала!.. Мы, дочка, не только катера!.. Да я скоро вместе с Ваней-соколом и удую из городу-то, ищи нас потом!
Иван Андреевич вдруг посерьезнел и тихо сказал:
— Угонять пароходы будем. А то отдай белым — только и видел! Есть тут один человек, Митрий Афанасьевич Лухманов. Не слыхала? Капитан… По мелким бухтам, пока время есть, пароходы-то загоняет. Где их потом искать, когда белых припрут! Меня судовым плотником на «Ставрополь» взяли. Вот ты говоришь — раскроется с катерами. С катерами — ерунда, дочка! А с пароходами — это да!.. Ох, знаешь, я и во сне-то таких людей раньше не видал. А все через тебя!
Таня вспомнила свой разговор с Перовской.
— Не во мне дело, Иван Андреевич! — сказала она. — Вы на эту дорогу стали еще тогда, когда бежать надумали!.. А все остальное проще!
— Это что? Выходит, я сам виноват? — хитро усмехнулся Иван Андреевич. Ну, не будем разбираться, дочка. Прощай пока! Ох, до чего же я рад, что повстречался с тобой!
5
«7 октября. Черниговка.
Посмотрела бы на меня сейчас сестренка — не узнала бы ни за что. Такой бравый рубака из меня вышел — партизан, одно слово!.. Топорков вчера похвалил меня: «Хорошо действуешь, Алеша!» А у Топоркова похвалы дождаться скорее на ладони волосы вырастут. Наши дерутся один одного лучше. Хотел написать, кто отличился. А как? Об одном напишешь, другому обида. Красные герои! Вчера расчехвостили корниловцев. Заняли станцию Свиягино. Повсюду мертвые лежат. Смотришь на них — за что дрались? Топорков говорит, дрались они за то, чтобы перед народом за старые грехи не отвечать. А и то — за многими, наверно, из них петля скучает… А что за народ у нас! Вчера, только мы расположились малость отдохнуть, приперся Олесько, будто с того света, тощой, зеленый, ветром его шатает. К Топоркову: так, мол, и так, явился для несения службы после поправки! Осерчал на него Аф. Ив., гонит: «Иди отлеживайся, пока в седле сидеть не будешь, как казак». А Олесько — ну, не думал я, какой он — полез на коня, чтобы доказать. Мы к нему: вот свалится, много щепок будет! А он — сидит! Сидит!.. Посмотрел на него Топорков, чуть не плачет. Смягчился. «Черт с тобой, говорит, оставайся, пока при штабе, а оружия не дам!» Олесько ему: «Меня, говорит, без оружия куренок из пальца застрелит!» Дали оружие. Написал об Олесько, потому как все очень поразились. Мы-то на ногах все, а он прямо из могилы встал… Писать больше некогда.
Писал Алексей Пужняк, боец отряда Топоркова, своей рукой».
6
В этот день Катя занималась постирушкой.
Только развесила она белье, растянув по двору веревки, как в калитку кто-то постучал. Она подошла к калитке, отодвинула щеколду.
За калиткой стоял солдат.
Катя отшатнулась.
— Да вы не бойтесь! — сказал солдат и живенько шагнул за калитку. Повернулся, закрыл за собой. — Мне на улице стоять не с руки!.. Не узнаете, барышня?.. Помните, в орешнике разговор был…
— Здравствуйте! — сказала Катя не очень приветливо.
Солдат смущенно и заискивающе посмотрел на девушку.
— Не сердитеся! Я зашел-то по делу… Думал, адресок вы так, шутейно, дали, а вас тута и нету… А вы серьезно. Извините уж, решил проверить. А то вы пошутите, а у нас дело не шуточное.
Они постояли немного. Разговор не налаживался. Катя была встревожена этим посещением. Она попыталась обернуть дело в шутку, как и тогда, на форте. Но Солдат не был расположен к этому. Он сказал, что его могут хватиться, и взялся за калитку.
— Заходите, гостем будете! — сказала Катя.
— Приду! — ответил солдат. — А можно, если мы несколько человек придем? — спросил он, думая о своем. — Я кое с кем говорил, одинаковые думки у нас!
По-прежнему шутливым тоном Катя сказала, что он может приводить с собой хоть целый полк.
— Нет, полк не выйдет! — покачал головой солдат. — Дуробабов-то там еще хватает!
Попрощавшись, он вышел. Катя долго смотрела ему вслед.
Мать, из окна видевшая всю эту сцену, недовольно спросила:
— Кто это?
— Знакомый один! — ответила Катя.
— Ой, Катька, не водись с солдатами! — мать погрозила пальцем. — Это уж последнее дело… А Федька-то что? Поссорились, что ли?.. Парень ладный, непьющий, некурящий.
— Да вы о чем, мама?
— Все о том же! — ворчливо ответила мать. — Белье вот не пересуши…
…Катя бросилась к Соколову.
— Феденька! — запыхавшись, сказала она. — Приходил!
— Кто? — недоуменно посмотрел на подругу Федя.
— Солдат, которого мы с тобой встретили в орешнике. Он говорил, что хочет не один прийти.
Федя почесал нос, подумал.
— Ну что же, что не один! Это даже хорошо!.. Как бы ему дать понять, чтобы приходили с оружием. Зачем его белым отдавать? Правда? А?
— Это, конечно, да! Только… — Катя вздохнула.
— А что?
— А вдруг это нарочно он? Их спрячешь, а за ними следом белые! Тогда что?.. Не погладят, я думаю!
— А если «вдруг», — сказал он тихо. — Все надо брать на себя, Катя!
— Я возьму! — ответила она, выпрямившись. — Что, я хуже других?
7
«10 октября, Спасск-Дальний.
Сегодня наши красные орлы заняли Спасск. Что тут было!.. Два дня не знали, на чем стоим. Если верить попам, есть на том свете ад. Ну, я думаю, там не жарче, чем было у нас.
Опишу про Олесько. Уж как мы за ним смотрели, а ввязался все-таки! Не углядели. Примостился к пулемету на тачанке — и давай поливать беляков. А пулеметчика у нас убило. Только было замолчал пулемет… Действуем вместе с Красной Армией нашей славной, которая послана по приказу товарища Ленина освобождать от гидры контрреволюции наше гордое Приморье. Приехал потом главком. «Кто это, говорит, так ловко станцию взял?» А это мы ее взяли. Тут наши герои всякие подвиги совершали. Только описать их все невозможно. Во-первых, болит у меня рука, так и крутит, так и крутит, — поцарапали, мало без руки не остался! А во-вторых, кабы я писать умел, как Виталя… У меня только четыре класса приходского. Меня главком узнал. И как только запомнил — уму непостижимо: я у него один раз со связью был. «Вижу, говорит, теперь, что такое приморские партизаны, — настоящие ребята!» Ну, теперь я еще пуще буду драться… У нас песня тут появилась Хорошая. Везде поют…
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье
Белой армии оплот…
В этой песне здорово про партизан сказано. Правильно сказано. А только я так думаю: кабы не Красная Армия, мы бы еще долго тут пыхтели, — белым ходу-то нету, ну и дерутся. А про Спасск тоже хорошо сказано:
И останутся, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни…
Про Волочаевку-то надо бы наперед сказать; ну, тогда стих не получается. Да это все знают, когда белым накладывали, пусть так и остается!.. А песню эту не я сочинил. У меня не выходит. Это красноармейцы сложили. Говорят, один — одну строчку, другой — другую. Вот бы научиться!
Писал собственной рукой партизан Алексей Пужняк, в чем и расписуюсь».
8
Земля горела под ногами у Паркера во время этого его путешествия. С трудом он добрался до Монастырища. Здесь стояла сотня Караева. Совершенно подавленный виденным и испытанным — его два раза обстреляли, — Паркер был мрачен; его очень мало привлекала перспектива быть убитым, когда его миссия уже была закончена. В Монастырище он не задержался. Успел распить с ротмистром и Суэцугу бутылку коньяку. Вдали гремело что-то, будто там грохотала гроза. Паркер прислушивался. Он хотел было спросить Караева, что это такое. Но сам догадался и помрачнел еще больше… Это доносились отголоски боя за Спасск. «Успеть бы вернуться!» — малодушно подумал он и забыл про налитый стакан. Караев сообразил, какие мысли тревожат корреспондента, и неприкрыто усмехнулся. «Ага! Нос на квинту повесил! Тебя бы туда-то!» — со злобой мысленно сказал Караев своему собеседнику.
— Каково положение? — спросил Паркер.
— Дают нам товарищи! — ответил Караев. — Догонят и еще дают!
— Я вас не понимаю.
— А чего не понимать? — огрызнулся ротмистр. — Бьют нас большевики! И дело не в большевиках, конечно! — махнул он рукой.
— А в чем же?
— В том, что за большевиков стоит Его Величество Народ!
— Народ? — Паркер впервые поднял на ротмистра глаза, холодные, усталые, злые. Он пожал плечами. — Что такое народ? Этнографическое, социологическое понятие.
— Когда идея овладевает массами, она становится материальной силой! сказал Караев, повторив услышанное где-то выражение. — Что такое народ? Вы узнаете это когда-нибудь, господин Паркер!
— Вы думаете, что это, — американец кивнул в сторону доносившейся пальбы, — возможно и у нас?
— Невозможно только штаны через голову надевать! — дерзко заметил Караев.
Суэцугу почти не принимал участия в разговоре. Он пил коньяк мелкими глоточками, медленно краснел и только, время от времени любезно осклабясь в сторону мистера Паркера, со свистом втягивал воздух, выражая этим свое почтительное внимание к умным и значительным словам корреспондента…
— Итак, война в России кончается, господин поручик? — не ожидая подтверждения, спросил Паркер.
Суэцугу вежливо ответил:
— Возможно!
— Мы сделали все, что могли? Не так ли? — спросил Паркер. — Мы были хорошими союзниками в этом деле.
Суэцугу поклонился.
— При совместных действиях американцев и японских солдат на станции Ушумун генерал Оой высоко оценил мобильность и активность американского батальона.
— Да, триста японцев были под командованием американского полковника Лоринга при военных акциях на Сучане! — кивнул головой Паркер. — Подумать только, поручик, чего стоило нам это предприятие!
— Кровь моих соотечественников! — сказал Суэцугу.
— Доллары, господин поручик, доллары! Сколько долларов!.. — Паркер решительно опустошил свой стакан и поднялся. — Какое пространство лежит там! — он показал рукой в сторону, откуда шел гром. — Естественный рынок Америки, поручик!
— Сфера приложения интересов Японии, господин Паркер!
Сказав это одновременно, они замолкли, уставившись друг на друга. «Обезьяна!» — подумал Паркер про Суэцугу. «Дурак!» — подумал Суэцугу про Паркера.
Кровь бросилась в лицо Караеву, но он смолчал — теперь все равно!
— По последней! — сказал он, наливая коньяк.
Но ни Паркер, ни Суэцугу не обратили на него внимания. Паркер, прощаясь, небрежно махнул ему рукой и вышел…
9
Потеря белыми Спасска вызвала во Владивостоке панику. Взлетели цены на фрахт. Билеты на поезда Китайско-Восточной железной дороги брались с бою, за бешеные деньги. Вокзал был забит «публикой» — семьями офицеров, торговцами, спекулянтами, владельцами ресторанов, кафе, гостиниц, бирживиками, маклерами, ювелирами, содержателями публичных домов и игорных притонов, артистами, «метрессами» видных чиновников… К классным составам прицеплялись теплушки. Один за другим отходили без всякого расписания поезда, повинуясь лишь мановению волшебной палочки в чьих-то неведомых руках. Толстосумы спешили в Харбин, пока красные войска не заняли и Пограничную.
В атмосфере охватившей город паники спекулянты, однако, еще обделывали свои дела. Продавались акции «Доброфлота», продавались купчие на рудники и шахты Сучана, акции тетюхинских серебросвинцовых месторождений, документы на владения рыбалками, золотыми приисками, лесоразработками. Но никто на самом деле не хотел приобретать то, к чему властно протянулась рука настоящего хозяина… Ценные бумаги, купчие крепости, документы на владения покупали лишь затем, чтобы немедленно продать кому-нибудь, в ком жажда наживы, надежда на глупость и жадность другого были сильнее. «Даю!» — кричал один. И этот возглас точно магнитом притягивал к нему других. «Беру!», «Продаю!», «Покупаю!» Проигрывал последний — тот, кто уже не мог продать. Продавались дома, которых нельзя было увезти, яхты, которые были уже угнаны, гостиницы, рестораны, магазины, меха, золото, драгоценные камни, монополии, заводы, мастерские, фабрики, пароходы, автомобили… Все это продавалось с прибавлением слов: «на ходу», «с постоянной клиентурой», «на доходном месте», «высшего качества», «с надворными постройками и служебными помещениями», «лучших марок», «большой емкости»… хотя все это уже стало фикцией, воздухом…
Старший офицер военного корабля «Лейтенант Дымов» продал даже металлический балласт со своего корабля. Балласт был цветного металла. Поддавшись общему безумию — выиграть хотя бы что-нибудь, когда все летело к черту, старший офицер забыл даже об остойчивости корабля.
Толпы людей осаждали военную комендатуру Владивостока, таможенное управление, иностранные военные и торговые миссии, все учреждения, имевшие гербовые вывески, добиваясь только одного: уехать, уехать, лишь бы уехать… Бежали преступники, бежали министры, бежали денежные мешки — толстосумы, бежали и обыватели, захваченные этой паникой, не умевшие разобраться в происходящем или просто привыкшие, как к старому платью, к «старому порядку», которого уже не оставалось в России…
10
Вернувшись во Владивосток, Паркер рассказал Мак-Гауну о своих впечатлениях и наблюдениях. Он был подавлен увиденным. Никогда в жизни он не наблюдал ничего подобного.
— Если нечто такое же творится во всей России, — сказал он, — то этой стране не оправиться от ужасающего развала долгие-долгие годы. Мне кажется, что Россия отброшена назад в своем развитии на столетие. Читать о революциях приятнее, чем видеть их! Это ужасно!
— Короче, Эзра! — сказал Мак-Гаун. — Пусть это заботит самих большевиков! Ваше заключение о положении на фронте?
— Занавес опускается. Конец! — сказал Паркер.
Консул сунул ему руку.
— Спасибо, Эзра! Вы правы.
Паркер вышел. На вокзальной площади он столкнулся с Марковым.
Марков стоял у металлической решетки летнего спуска на перрон. Ветер трепал его гриву, но Марков не отстранял волос, мешавших ему глядеть на шумную, бестолковую сумятицу, паническую сутолоку на путях и на перроне, густо забитом толпою. Он навалился на решетку плечом и прижался лбом к холодным прутьям ее, не сводя глаз с разноголосого месива внизу.
— Хелло! — окликнул его Паркер. — Набираетесь впечатлений?
Марков молчал. Паркер тронул его за руку. Журналист посмотрел на американца отсутствующим взглядом, но потом очнулся.
— Пауки в банке! — сказал он.
— Не видел! — отозвался Паркер, не поняв Маркова.
Тот мотнул головой вниз и пятерней отбросил волосы назад.
— Посмотрите!
— Ах, вы об этом? — брезгливо приглядываясь к происходящему на вокзале, сказал Паркер. — Не стоит внимания, Марков! Это газы из выхлопной трубы сломанной машины, отработанный пар… шлак, черт возьми! А вообще-то, половину из них надо повесить, утопить, уничтожить. На кой они черт там, куда их несет? Надвигается безработица… Нигде нет войны, Марков! Вы понимаете, что это значит?.. Впрочем, вы этого не понимаете. Идемте выпьем! Мне, признаться, хочется сегодня напиться, как свинья… Проклятые впечатления! Только не в ресторане — люди опротивели мне!.. Где вы живете?
Они молча пересекли улицу. Зажатое между двумя высокими домами, ютилось небольшое двухэтажное здание с провинциальным палисадничком перед фасадом и узенькой зеленой полоской травы между оградой и домом — «Меблированные комнаты «Бристоль».
— Моя берлога! — сказал Марков. — Когда есть деньги, подают в номер все, что угодно!
Длинная, узкая, точно гроб или кегельбан, комната запущена, по-холостяцки неряшлива. Видимо, хозяин ее мало думал об уюте, мало думал и об удобствах. Старое пальто было брошено на смятую кровать, оно служило халатом или пледом. Ношеные ботинки со сбитыми каблуками торчали из-под стола. Настольная лампа, покривившаяся в сторону, была прикрыта бумажным колпаком, истлевшим от жара сверху. На столе был ералаш, в котором мог разобраться только хозяин. Чистая бумага лежала вперемежку с исписанными, перечеркнутыми листками. Пачка «Кепстена», кое-как вскрытая, покоилась возле чернильницы, в которой торчала обгрызанная ручка. Табак был рассыпан по всему столу. Окурки, обожженные и сломанные спички усеивали пол. Возле кровати — стул, на стуле — недопитая бутылка коньяку, выжатый лимон…
Паркер сморщил нос — здесь было душно. Быстрым взглядом он окинул комнату и удивленно поднял брови, увидев среди развала, поражавшего взор, добротный, солидный книжный шкаф, заполненный книгами.
— Вы читаете, Марков? — спросил Паркер.
Марков окинул гостя мрачным взглядом.
— Нет, это следы древней, давно исчезнувшей культуры! — сказал он, отбрасывая назад волосы. — Это не для вас и не для меня… Вы всему философскому наследию человечества предпочитаете чековую книжку, а я перестаю понимать высокие истины, о которых трактуется здесь, — до того одичал в обществе себе подобных…
— Не пренебрегайте, Марков, чековой книжкой, это фундамент жизни в наше время… Кроме того, вы говорите дерзости.
Марков буркнул:
— А я не нанимался вам в услужающие — чесать пятки и говорить приятные вещи. Пейте! — Марков вытащил из-под кровати бутылку…
Это была мрачная попойка. Лишь изредка кто-нибудь из собутыльников лениво цедил сквозь зубы незначительное замечание. Марков щурил глаза, разглядывая на свет стакан с коньяком, или, задумавшись, опускал свою косматую голову, и беспорядочная грива закрывала его лицо волосяной сеткой. Паркер обратил внимание на то, как много седых волос появилось в гриве Маркова. Седина струйками поливала буйную голову любителя скандалов.
— Хелло, Марков! Вы совсем поседели за это время.
— Нервы, — со вздохом ответил газетчик. — Нервы… Странная и ненужная вещь. Оказывается, они сохраняются в спирту дольше всего прочего. В первую очередь высыхает и перестает функционировать уважение к себе, потом — честь и совесть, потом — уважение к людям, потом — элементарное человеческое достоинство.
— Что это? Философия музейного экспоната?
— Практика! Меня ничто больше не интересует. Только нервы гудят.
Марков оживился, откинул назад голову, и грива его взлетела вверх, заслонив на мгновение свет лампы. Глаза его заблестели.
— Но есть, однако, вещь, которая могла бы меня вдохновить, а может быть, сделать человеком!.. Представьте себе, Паркер, такую картину. Вместо беспрепятственного панического бегства с награбленным вы видите в городе восстание. Весь этот шлак, которому вы великодушно готовы предоставить место для гниения в ваших помойках, обретает силу для свершения поступков. А? Тогда вся эта толпа, весь этот газ из выхлопной трубы, как вы изволили выразиться, обращается на вас… А? Это была бы чудная картина, Паркер! Побоище, в котором гибните вы с вашей проклятой чековой книжкой, гибнут японцы и прочая интервенционистская дрянь!.. Новая Варфоломеевская ночь! Уничтожают мерзавцев, торгующих чужой кровью, головоногих гадов… Ах, как бы я об этом написал! Как бы я написал! — Он встал во весь рост перед Паркером. Длинные руки его метались над головой американца, уродливые тени заплясали по стенам комнаты.
Паркер, не меняя положения, сунул руку за пазуху. Он тихо сказал:
— Еще одно движение, Марков, и я вас продырявлю. Еще ни разу я не промазал в своей жизни.
— Ю ар фулли, мистер Паркер! — сказал Марков. — Не бойтесь! Для того чтобы убить вас, надо иметь уважение к себе, а оно, как я сказал, в спирту погибает в первую очередь… Вот почему сегодня на вокзале люди дрались друг с другом за места в вагоне, вместо того чтобы драться с вами за место в жизни…
— Вы еще не уложились, Марков? — спросил лениво Паркер. — Пора и вам сматываться. Я могу посодействовать вам, достать билет…
Паркер тяжело поднялся с места.
— Ну, с меня хватит! — сказал он. — У меня такое ощущение, что вместо ног у меня студень… А вообще, Марков, вы рано поете панихиду. Мы, американцы, оптимисты! Это у вас — Толстой, Достоевский, загадочная русская душа, долгая история… Мы счастливы отсутствием далекого прошлого — в этом наше преимущество перед остальными народами. Нас мало стесняют те философские категории, в которых увяз Старый Свет. Плевать мы хотели на этику, дипломатию, философию, мораль, ставшую в вашем понимании сказкой для грудных младенцев. Пока есть это, — Паркер вынул из кармана пачку долларов, — и это, — он показал из-под френча кольт, — мы покупаем Старый Свет оптом и в розницу или берем его! Сила сильного, Марков, — вот право двадцатого века. И эта сила — у нас! Ну, черт с вами… То есть я хотел сказать: покойной ночи, Марков!.. Дьявольски крепкий у вас коньяк…
После ухода Паркера Марков долго сидел не двигаясь, закусив толстую прядь волос своих, упавших ему на лицо.
— Что ж все-таки делать?.. Что делать? — спросил он громко сам себя.
— Звали? — спросил коридорный, всовывая заспанную голову в комнату, и тотчас же исчез, услышав грозное: «Сгинь, сатана!» Марков вытащил из стола пачку карт. «Пятнадцатая!» — сказал он себе и стал отсчитывать карты. Пятнадцатой был червонный туз.
— Свой дом! Оставаться! — промычал Марков и перемешал карты. Но туз выпал еще дважды. — Оставаться! — задумчиво протянул Марков. Потом он громко сказал. — А на кой черт большевикам алкоголики? Бесполезный предмет! Аб-со-лют-но!
…Через два дня он столкнулся на пристани с взъерошенным, потным, потерявшим всякий лоск Торчинским, который изнывал под тяжестью двух больших чемоданов. Торчинский мельком поздоровался с Марковым и подумал: «Никак с этим чертом придется ехать. Да он измытарит меня совсем! Вот не повезло!»
— Не понимаю, Марков: зачем вам уезжать? С вашими взглядами…
— Болото, в котором мы с вами квакали всю жизнь, Торчинский, выплескивается в другое место; я привык к этому болоту!
Торчинский пожал плечами.
— С вашими взглядами на большевиков вы могли бы оставаться здесь, господин Марков! Ну, я понимаю, идейная борьба, которую я вел, заставляет меня опасаться «их» мести, но вы…
Марков расхохотался и уничтожающе поглядел на Торчинского.
— Не обольщайте себя горделивыми мыслями, Торчинский… Потом это плагиат! Это не оригинально, совсем не оригинально… Нет, нет…
— Какой плагиат? — уставился Торчинский на Маркова.
— Ну как же! — загрохотал Марков. — Помните, у Крылова? «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона!» Ха-ха-ха!.. Идейный противник! Нет, вы не пропадете, Торчинский, в вас еще живо чувство юмора! Ха-ха-ха!..
11
Всю ночь один за другим шли мимо сто пятой версты поезда. Шли без зазора, впритык друг к другу. Гроздьями висели на подножках, толпами лежали на крышах, битком набивали вагоны солдаты, офицеры. То и дело мимо будки путевого обходчика проходили колонны, группы, отдельные солдаты. Все время справа и слева слышался топот, скрип колес, грохот и скрежет металла. Любанский, он же Сапожков, не зажигал света в сторожке, время от времени выходя с зажженным фонарем к полотну дороги. Мелькали товарные вагоны, постукивали колеса на стыках, ветер от мчавшихся составов холодил лицо «обходчика», обрывки говора, брани долетали до него… Темные вагоны печальной вереницей текли мимо, точно порождение ночного кошмара.
К исходу ночи движение на дороге затихло.
Какая-то толпа наткнулась на будку.
— Эй, давай уходи! — заорали на Любанского из темноты. — Скоро красные придут! Они тебя живьем спалят. Пощады, знаешь, никому не дают, все подчистую крушат!
— Куды я пойду, ребята! — сказал Любанский тоном досмерти перепуганного человека. — У меня четверо мал-мала меньше! В избенке навалом лежат.
— Да ну его к черту! — крикнул кто-то, и толпа схлынула, пропав в темноте.
Немного времени спустя около будки опять послышались голоса. Любанский вышел.
— Обходчик? — услышал он. — А ну, живо, давай лом, ключи, молоток!
— Да на что вам? — спросил Любанский.
— А тебе дело есть? — сердито отозвался голос, и Любанский услышал, как лязгнул затвор винтовки. — Твое дело маленькое! Понял?
— Да я сейчас! — сказал Любанский торопливо.
Он засветил фонарь, отыскал требуемое и отдал белым. Ему велели идти домой и не показываться. Ночные посетители исчезли. Скоро до Любанского донесся тихий лязг лома о рельсы, глухая возня.
— Ну, это мы еще посмотрим! — сказал Любанский вслух.
Он зашел в сарай, пошарил в сене, извлек оттуда ручной пулемет, приготовленный на всякий случай загодя, и кинулся в обход, к тому месту, где белые разводили пути… Прилег между рельсами и открыл стрельбу по голосам…
Вскрик, возня, топот ног, несколько выстрелов наугад, куда попало, были ответом Любанскому. Потом он услышал, что кто-то барабанит в дверь будки.
— Войдите! — сказал насмешливо Любанский.
Через некоторое время окна будки засветились красным светом. «Чего это они удумали?» — удивился Любанский и тотчас же понял, что белые в отместку подожгли будку… Розовый свет заиграл на рельсах, и они заблестели длинными лучиками, уходившими во мрак… Поджигатели были еще возле избушки. До Любанского долетели глухие удары. Это белые ломились в сарай. Он опять пальнул в ту сторону. Удары сразу же затихли. Любанский видел, как, озаренные пламенем, поднявшимся над избушкой, белые уходили в лесок, спасаясь от света, делавшего их далеко видными.
Неясный свет забрезжил на небе. Светало…
Легкое сотрясение рельсов привлекло внимание Любанского. Он вскочил, поняв, что с севера идет состав, отступил в сторону, сойдя с насыпи… Вскоре на пути показался бронепоезд. Шел он тихо. Ни одного человека не было видно на нем. Темный в скудном утреннем свете флаг тихо колыхался на командирской башне. Сердце Любанского дрогнуло. В ту же минуту разглядел он на головном вагоне красную звезду, закопченную, облупившуюся, — она первой принимала на себя поток встречных пуль и осколков снарядов…
Будка догорала, рухнув на землю. Пламенели, превращаясь в уголь, стены последнего пристанища Бориса и источали жар, от которого почернел сарай. Любанский выскочил на свет, уже не таясь, кинулся в сарай, выхватил из сумки красный флажок, воткнул его в щель сарая. Ветер заполоскал маленькое полотнище.
— Товарищи! — закричал что есть силы Любанский и встал возле пути с зеленым флажком в руках. — Товарищи! — кричал он и махал флажком. Он не мог найти иных слов, кроме этого слова, которое впервые за несколько лет он мог крикнуть во всю силу своих легких. — То-ва-ри-щи!..
Бронепоезд замедлил ход. В первом вагоне с лязгом открылась дверь. Пулемет, ощерясь тупым рылом, выглянул из нее. На полотно мягко спрыгнул человек. Буденовка с острым верхом была заломлена на затылок. Из-под козырька ее выбивался светлый чуб. Красная звезда алела на буденовке. Алые петлицы лежали на груди.
— Здорово, товарищок! — сказал красноармеец Борису…
12
«Сегодня, 11 октября, заняли мы Монастырище. Партизан Чекерда спас меня от пули рябого гада-казака. Пощипали мы тут сотню особого назначения. У этих палачей побывал в руках Виталя. На них лежат его муки и кровь… И отлились им вчера эти муки и кровь!.. Не многие ушли! Писать не могу — до сих пор сердце горит и руки дрожат, напишу когда потом. А теперь догонять надо тех, кто ушел. Ну, да не уйдут! Не будь я партизан Пужняк, коли всех не догоним».
Глава 31 Осенний ветер
1
Горделивые и корыстные расчеты Караева на привилегированное положение, о котором говорил Дитерихс, рассеялись, как дым.
Никто не хотел всерьез принимать наименование и назначение «особой» сотни. В этом внутреннем фронте она была такой же затычкой, как и все остальные сотни, дивизионы, эскадроны и батальоны…
Караев оказался в Монастырище.
Отряд Топоркова после спасских боев получил задание — просочиться опять в тыл белым. Топорковцы с радостью приняли новое задание.
Крупный населенный пункт — Монастырище — был выгодным в тактическом отношении узлом. Шоссейная дорога связывала его с Никольском, Спасском и Владивостоком. Монастырище контролировало широкое плато, пересекаемое железной дорогой, и было значительным препятствием на пути к Никольску.
…Советник «особой» сотни, поручик Такэтори Суэцугу получил секретное предписание — оставить сотню и немедленно отправиться во Владивосток. Он церемонно известил об этом Караева, подав два пальца своей маленькой руки, затянутой в лайковую перчатку. Караев сдвинул на глаза кубанку и насмешливо сказал:
— Сматываетесь, значит, поручик?!
— Как? — спросил Суэцугу. — Что вы сказали?
— Лыжи, говорю, навострили? — усмехнулся Караев.
— Я не понимаю вас! — сухо сказал Суэцугу, застегивая перчатки. — Я с удовольствием поговорил бы с вами, но я тороплюсь…
— Ну, ну!
Восклицание ротмистра не понравилось японцу. Он понял намек.
— Я солдат, господин Карае-фу! — высокомерно проронил он. — А солдат должен немедленно выполнять приказ!
— Вот я и говорю: выполняйте! — Караев не мог удержаться от резкости; ему было ясно, что отзыв советника означает единственно то, что японцы признали игру безнадежно проигранной. — Мотайте, пока вас тут не прихлопнули! — сказал он зло.
Суэцугу нахмурился. Но Караев уже спохватился, вспомнив, что судьба еще может столкнуть его с японцем, и с самой любезной улыбкой проговорил:
— Счастливого пути, господин поручик!
Морщины на лице Суэцугу разгладились.
— Счастливо оставаться, господин ротмистр! — живо отозвался он и колко добавил: — Гора с горой не сходится, а человек и человек — может быть… До свидания!
Караев молча поклонился.
— Буду рад видеть вас в другом месте! — раскланялся Суэцугу.
Однако выехать японцу не удалось.
Партизаны уже перерезали все дороги. Суэцугу обстреляли. Поручик вернулся.
В доме, который он покинул полчаса назад, как ему казалось, навсегда, Суэцугу внимательно оглядел свою одежду. Фуражка его была прострелена, просторный офицерский плащ тоже был продырявлен в трех местах. Поручик уставился на эти мелкие отверстия и сидел молча. Темно-карие матовые глаза его утратили всякое выражение. Но каменная неподвижность побледневшего лица дала понять Караеву, какие именно мысли проносились в этот момент в голове поручика. Караев сочувственно хмыкнул и сказал, желая ободрить японца:
— Счастлив ваш бог, поручик!
Суэцугу выпрямился. Надменность проглянула в его чертах. Деревянным голосом, неестественно громко, будто для кого-то стоявшего за дверью, он произнес:
— Смерть в бою — высшая награда патриоту!
Караев оторопел. «Эка нашпиговали тебя, чертову куклу!.. Ишь, вытаращился — будто аршин проглотил!» У него просилось с языка злое замечание о том, что поручик возвратился, не пытаясь прорваться через партизанские заслоны, и что это шло вразрез с горделивой фразой Суэцугу. Но он смолчал, лишь наклонив голову, как бы в знак уважения к сказанному поручиком.
2
Сотня Караева занимала восточную окраину села. С рассветом началась перестрелка. Едва развиднелось, партизаны пошли на сближение, подобравшись вплотную к оборонительной линии белых.
Алеша Пужняк со своими побратимами подкрался к одному из домов и, выглянув из-за угла, заметил группу белоказаков, устанавливающих пулемет, обращенный вдоль улицы. Казаки торопливо перетаскивали камни, кирпичи, какие-то доски, воздвигая завал. В полусогнутых фигурах, перебегавших с одной стороны улицы на другую, Алеше почудилось что-то знакомое. И вдруг его осенило. Он чуть ли не в полный голос сказал, молитвенно сложив руки:
— Господи, боже ты мой!
Чекерда удивленно вскинул на него взгляд:
— Ты чего?
Алеша подозвал Цыгана.
— Цыган! Погляди, не узнаешь ли кого?
Тот вгляделся в копошившихся казаков и негромко сказал:
— Наши… — Потом поправился: — Караевские, Алеша!
Пужняк быстро повернулся к нему всем телом. Желваки заходили у него на скулах. Он спросил казака:
— Драться будешь, Цыган? Или рука не подымется?
Цыган поглядел на Алешу. Бледность проступила через его смуглую кожу. Но вместо ответа он поднял винтовку и прицелился в перебегавшего улицу казака. Алеша остановил его жестом: «Успеем!» Велел Чекерде сообщить Афанасию Ивановичу, какого противника посылает им судьба.
…Ожесточение обуяло партизан, когда весть о встрече с палачами Виталия прокатилась вдоль всей линии.
Афанасий Иванович хлестнул плетью по своему ичигу.
— А ну, давайте разом, партизаны!
Алеша вставил:
— Надо бы, Афанасий Иванович, к этому вопросу с тактикой подойти.
Командир повел на Алешу глазами, налившимися кровью.
— По всему фронту разо дер-нем! Полетят к чертовой матери!.. Для такой злобы одна тактика: бить почем зря, чтобы все летело вверх тормашками!.. Ч-черта им в дыхало!.. За Виталю!
И точно ярость Топоркова была той спичкой, что бросили в пороховую бочку, взорвалась партизанская злоба! Крик: «За Виталю!» — вырвался из сотен глоток. И когда имя это было сказано, всё забыли партизаны. Поднялись они во весь рост и пошли на караевцев не сгибаясь.
…Рванул Алеша кольцо гранаты, метнул чугунное яблоко в тех казаков, что мостились у завала. Взлетел на воздух пулемет, отбросив в сторону оторванный каток. Четыре гранаты были у Алеши. Четыре взрыва раздались у завала. Освободил руки Алеша. Мести его надо было вылиться в рукопашной. Выхватил Алеша саблю и кинулся из засады. Цыган — за ним. Подоспевший Чекерда подскочил к Алеше с левой руки.
Не глядел Алеша на тех, кого рубил. Ненавистные лица врагов белыми пятнами возникали перед Алешей, и рубил он по их раскрытым в отчаянном крике ртам, обрывая проклятия и мольбы, по глазам, наполненным ужасом. И не было в нем жалости…
…Расстреляв все патроны, урядник Картавый был прижат в угол. Ужас сковал его движения, когда увидел он, что идут партизаны не таясь, в рост. Чувствовал он, что партизан поднял гнев, который ведет людей сквозь ливень пуль, сквозь пожары и смерть, побеждая все. Заледенило душу казака, и не стало у него сил защищаться. Поднял он было руки вверх. Но тут Алеша, в неутоленном своем гневе, чирканул по нему саблей, и перестал Картавый существовать.
…Кинулся Митрохин, ходивший еще с отметиной Вовки на лбу, в чьи-то сенцы, когда увидел, что не устоять против партизан. Сорвал судорожной рукой дверь с крючка. Ввалился в мрак сеней. Нащупал, трепеща, какие-то бочки, сдвинул их в сторону и присел — хотел схорониться. Но за ним вслед ворвался Цыган. В полутьме, сидя, рассмотрел Митрохин станичника, озаренного светом из двери. Не удивившись появлению его, Митрохин с трусливой радостью подумал: «Свой», — и понадеялся на спасение. Цыган всматривался в сумрак, держа палец на спусковом крючке винтовки, Митрохин сказал:
— Это я, Сева, Митрохин.
Вспомнил он тут имя Цыганкова, хотя до сих пор только и называл его байстрюком, Цыганом да голышом, памятуя, что никогда тому не сравняться с ним, богатым казаком Митрохиным, у которого одних коней до ста в табуне ходило.
Цыган тусклым голосом сказал:
— А-а… Это ты, Митрохин!..
— Я, я, Сева… я. Кому же больше быть? Я… — торопливо ответил казак, и по звуку голоса было понятно, что распяливает он рот в непослушную улыбку, задабривая станичника.
Цыган равнодушно-нехотя сказал:
— Вышел бы за избу, что ли.
— Не-е, я лучше тут, Сева… Спасибочки тебе.
— Ну, тут так тут, как знаешь, — сказал Цыган и нажал спуск. В тесноте сенец негромко хлопнул выстрел…
3
Караеву стало ясно, что в Монастырище он попал в ловушку. Сначала он пытался руководить боем, но Афанасий Иванович спутал все его карты, бросив партизан в атаку. Все фанфаронство вылетело из головы Караева, когда он увидел, как тает его отряд. Караев посмотрел на присмиревшего Суэцугу и сказал:
— Ну, ваше благородие… давайте удирать.
— Надо вывести сотню из боя, — нерешительно проронил Суэцугу.
Караев ответил, отводя глаза:
— Своя рубашка ближе к телу… Да и кого выводить?.. Последних кончают товарищи… — Он крикнул Иванцова. Тот вырос в дверях. — Ну, рябой, выводи, как хочешь! Выведешь — сам жив останешься… Не выведешь — первая пуля тебе, вторая — мне. Нас с тобой не помилуют!
Рябой кивнул головой в сторону выстрелов, как бы спрашивая: «А как с остальными?» Ротмистр равнодушно пожал плечами.
Иванцов оседлал коней и проулками, сам — впереди, стал продвигаться по селу. Выстрелы слышались со всех сторон. Иванцов обернулся к Караеву:
— На арапа пойдем, в лоб! Они тут зарвались… Проскочим, а там — что бабушка наворожила!
В ту же минуту он сделал курбет и, схватив под уздцы лошадей ротмистра и японца, кинулся в чей-то двор. Едва он успел закрыть за собой ворота, на улице показалась целая процессия: Алеша, Чекерда, Цыган и старик Жилин, который вел перед собой на длинном чумбуре белесого казачка. Пощадил он его за торопливое обещание вывести незаметно партизан к дому, в котором находились Караев и Суэцугу. Шли они медленно, так как бледный казачок был чрезмерно осторожен и делал шаг вперед не иначе, как оглядевшись вокруг. Через щели забора рябой увидел всех. Лицо его побагровело, и руки сжались в кулаки. Он легко отнял одну доску от забора и через пролом прицелился в Алешу.
Каким-то шестым чувством ощутив опасность, Чекерда тревожно оглянулся и увидел рябого, прильнувшего к винтовке. И в тот момент, когда рябой выстрелил, Чекерда свалил Алешу наземь. Просвистела пуля и задела белесого казачка. Казачок заорал блажным голосом и, причитая и хватаясь за плечо, стал кататься по земле. Бросив его, партизаны кинулись ко двору.
— Стерва рябая! Черт тебя дернул… — ругался ротмистр.
Но рябой, не обращая внимания на офицера, бормотал:
— Эх-ма, не удалось его угробить… деповской…
Он знал здесь все ходы и, не мешкая, вывел офицеров во второй двор. Направив коня на ветхий забор, он повалил его, и перед беглецами оказалась пустая улица, в самом конце которой виднелись какие-то конные. Рябой, зверовато глянув на офицеров, кинул:
— А ну, теперя держись… Навпротык пойдем. Кто отстанет, за того я не ответчик!
Рябой с силой хлестнул коня нагайкой и с места дал шенкеля. Поскакали за ним и ротмистр с поручиком. Конные, услышав топот, задержались немного. Рябой вихрем пролетел мимо них. Погоны Караева все объяснили партизанам. Они стали поворачивать коней. Но тут рябой дико вскрикнул:
— Ар-р-я-а-а!
От этого крика кони взбесились и полетели, что есть силы. Вдогонку им прогремели выстрелы; рябой свернул в боковую улицу, едва не разбившись об угол дома.
Суэцугу, забыв про кавалерийскую посадку, охватил шею коня руками и лег на него, цепляясь за гриву. Его подбрасывало, как на ломовой телеге. Сзади послышался топот. Рябой, казалось слившийся с конем, оглянулся, на скаку выстрелил из винтовки, бешено хлестнул своей нагайкой коней Суэцугу и Караева. Заплетенная в конец нагайки свинцовая пуля рассекла кожу на крупах коней. Обезумев от боли, кони понеслись как ветер. Суэцугу в жизни своей не видал такой скачки. Его кидало с седла на круп и обратно с такой силой, что он уже не чувствовал своего тела и не думал уже ни о чем, единственно стараясь не свалиться с коня.
Иногда в бешеной тряске этой попадалось ему на глаза лицо Караева, низко пригнувшегося к луке. И по тому, каким оно стало, Суэцугу было ясно, что Караев не отступит от своих слов, сказанных рябому, и что третья пуля будет ему, Суэцугу…
Японец потерял счет времени. Вдруг он заметил, что конь его припадает на одну ногу. Суэцугу стал отставать. Он встревоженно закричал:
— Мой конь плохо есть!.. Подождите меня!
Караев оглянулся. Коротко поговорив о чем-то с Иванцовым, он сдержал своего коня. Рябой подождал Суэцугу, снял винтовку с плеча, молча сунул дуло в ухо коню и выстрелил. Конь рухнул, чуть не придавив поручика. Иванцов хлопнул ладонью позади седла.
— Залазь, ваше благородие! — крикнул он. — Всундулой поедем. — И добавил, видя, что поручик растерялся: — Залазь, а то бросю… Мне и со своим вожжаться надоело!..
Подставив стремя, он легонько взял поручика за шиворот. Суэцугу торопливо вскарабкался на коня и оказался за спиной Иванцова.
— Держись! — сказал рябой.
Не видя ничего перед собой, кроме спины казака, Суэцугу вынужден был обнять его и прижаться к широкой, словно подборная лопата, казачьей спине. От мокрой гимнастерки рябого пахло махоркой, потом, солью. Суэцугу сморщился, но скоро притерпелся к этому запаху, и перестал его замечать…
…Через час бешеной скачки кони были загнаны. Бока их запали, свистящее дыхание с шумом вырывалось из ноздрей. Едва добравшись до какого-то хутора, кони пали на землю. Караев сказал, прищурившись:
— Жалко!
— А чего их жалеть? Сработались, — ответил рябой и снял с коней седла.
Иванцов что-то сказал ротмистру. Тот прищелкнул пальцами, соображая, сплюнул.
4
Рябой отправился искать еду. Он вошел в первый попавшийся дом, велел хозяйке собирать на стол, позвал Караева и Суэцугу. Шепотом Иванцов сказал Караеву, что на хуторе есть только две лошади, годные под седло. Проголодавшийся поручик охотно уселся и, не дожидаясь остальных, принялся есть хлеб с салом. Рябой тоже съел ломоть, Караев присел было, но вдруг поднялся и сказал казаку, выходя из хаты:
— Поди-ка полей мне!
Иванцов вышел вслед за ротмистром. В сенцах загремели ведра. Суэцугу слыхал, как плескался, отдуваясь и фыркая, ротмистр. Потом все стихло. Поручик жадно ел. В комнату вошла хозяйка. Суэцугу подмигнул ей:
— Позовите моих товарищей, а то я все съем! — Он погладил себя по округлившемуся животу и довольно рассмеялся.
Хозяйка сказала:
— Да они уже уехали!
Суэцугу уставился на нее, не прожевав куска.
— Кто уехали? Куда?
— Кто, кто? Офицер с казаком. А куда — вам лучше знать.
Суэцугу вскочил. Что делать? Кинулся к дверям.
Три хаты, сарай, покосившиеся прясла; убранный огород с рыжими плетнями тыквы да обезглавленными подсолнечниками на перекопанных грядах, конский станок, один вид которого ясно говорил, что им давно не пользовались; кривая проселочная дорога, исчезавшая в стерне, — вот и все, что увидел поручик перед собой. Ужасное волнение охватило его. Однако, заметив взгляд хозяйки, Суэцугу овладел собой. Он строго сказал:
— Позовите старосту! Немедленно!
— Какого еще старосту? Не было его у нас вовек! — отмахнулась хозяйка.
Суэцугу смутился. Но в памяти его всплыло вдруг лицо полковника Саваито, перед которым поручик благоговел. Полковник твердил своим подчиненным: «С русскими нужна строгость, строгость и еще раз строгость, решительность и непреклонность. Выросшие в своих степях, они не имеют качеств, рождаемых правильным воспитанием. Им недоступно понимание чувств японцев, а потому в обращении с ними рекомендую строгость и твердость!» Кажется, это было необходимо сейчас больше, чем когда-либо. Суэцугу вынул пистолет и уставил его в грудь хозяйки.
— Старосту! — повторил он жестко. — Или я стреляю!
— Да говорю я тебе, что нету у нас старосты!
Но, по понятиям Суэцугу, староста должен быть везде, где жили люди, и он повторил свое требование. Тогда перепуганная до смерти женщина, кинув отчаянный взгляд по сторонам, истошно заголосила:
— Гришка-а-а! Поди сюды-ы!.. Гришка-а-а!
На ее крик из сарая вышел мужчина лет сорока, широкий в плечах и с большими руками. Едва разглядев, что происходит на крыльце его дома, мужчина схватил увесистый шкворень, валявшийся возле сарая, и, не раздумывая, кинул его в поручика. Шкворень, пущенный с недюжинной силой, тяжело ударился в косяк двери. Суэцугу едва увернулся от него. Женщина воспользовалась этим и, спрыгнув с крыльца, скрылась за углом дома.
В руках мужика появился топор. Из другой хаты поспешно вышел на шум парень лет двадцати, какой-то старик выскочил из-за стога сена с вилами-тройчатками в руках. Несколько женщин и девушек выбежали из других хат.
Продолжая кричать, хозяйка, в которой негодование и злость пересилили страх, выглянула из-за угла и ударила Суэцугу жердиной. Сделано это было неловко, по-женски. Не ожидая нападения с этой стороны, поручик чуть не выронил из рук пистолет. В это мгновение нападавшие оказались в такой угрожающей близости от поручика, что он инстинктивно переступил порог двери и захлопнул ее за собой.
Дверь завалили…
— Не уйдет теперь! — сказал грубый мужской голос.
— За окнами глядеть надо! — донесся до Суэцугу возглас хозяйки.
Поручик постучал в дверь.
— Господа куресити-ане! — крикнул он сколько мог грозно. — Я приказываю вам, чтобы староста пришел сюда!
— Бабе своей прикажи! — ответили ему из-за двери.
— Открывайте двери, я не буду вас наказывать! — сказал поручик, смягчая голос.
За дверью злорадно захохотали. Кто-то насмешливо крикнул:
— Ой, напугал совсем… Накажи, пожалуй!
Мороз подрал по коже поручика от этого смеха, ничего доброго ему не сулившего.
Одно из окон выходило к лесу. С радостью отметив это обстоятельство, поручик стал потихоньку приоткрывать его. Но в ту же секунду снаружи по раме с силой ударили. Со звоном разлетелись стекла. Поручик подул на ушибленные пальцы и отскочил от окна.
— Я тебе высунусь! — раздался злой голос. — Я тебе высунусь! Сам залез — живым и не мечтай уйти!
Суэцугу поежился.
В это время на улице послышался конский топот, затем радостный крик:
— Товарищи! Сюда-а! Мы тут японца застопорили!
Поручик кинулся ко второму окну. Люди с красными лентами на фуражках разговаривали с хуторскими, поглядывая на хату, в которой находился Суэцугу. Они спешились и, хоронясь, стали приближаться к хате. Поручик заложил двери крючком и взвел курок пистолета. Странно знакомый голос послышался за дверью:
— Эй, господин хороший, выходи!
Суэцугу выстрелил на голос.
— Ах, ты этак-то? — услышал Суэцугу рассерженный возглас, и вслед за этим град выстрелов осыпал дверь.
Прижавшись к косяку, Суэцугу видел, как десяток пуль продырявили вершковые доски. В безрассудной ярости он принялся стрелять в дверь, точно она была живым существом.
Впрочем, отрезвление наступило быстро: в браунинге иссякли патроны. Суэцугу не сразу понял это, а когда понял, холодный пот выступил у него на лбу. Он тупо поглядел на пистолет, теперь бесполезный, и отбросил его в сторону. Значит, конец?.. Голыми руками ничего не сделаешь… Поручик вспомнил о сабле. Нет, он еще не безоружен, еще не все потеряно, есть еще способ уйти от расправы.
Суэцугу быстрым движением отстегнул портупею. Прислушался. За дверью шла какая-то осторожная возня. С глухим грохотом упала колода, которой была подперта дверь снаружи. Поручик взялся за эмалированный эфес сабли, украшенный изображением цветка вишни, и быстро вынул ее из ножен. Холодное сверкание стали вызвало восторженный холодок в спине и в коленях поручика. Армейская сабля показалась ему в этот момент родовым рыцарским мечом, что с честью передавался из поколения в поколение. Вынул поручик из кармана смятый, но еще чистый носовой платок, обвязал клинок посредине, чтобы не порезать руки при исполнении того, что подсказывала ему честь дворянина…
«…Храбрости исполненный, благородно рожденный, сорока самураев потомок Цураюки Сумитомо — обряд сеппуку над собой исполнил. Живот свой, полной чаше подобной, мечом родовым двуручным вспорол он…» — промелькнули в его голове полузабытые строки рыцарского романа.
Суэцугу, сжав зубы до боли в скулах, сел на пол, скрестив ноги. Уставив лезвие сабли в живот слева и нажал. Но волнение заставило его забыть о мелочах обряда: добротное армейское сукно помешало сабле. Спохватившись, поручик расстегнул мундир, брюки, сдвинул теплый набрюшник, расстегнул белье и обнажил живот.
«Обряд сеппуку исполнив, плавал в своей крови благородно рожденный Цураюки Сумитомо, блистающих имен предков низким поступком не запятнав…»
Суэцугу приложил острие сабли к животу. Кожа на месте нажима побелела. «Больно!» — с удивлением подумал Суэцугу, продолжая нажимать. Вот сейчас хлынет кровь и сталь войдет в его живое тело… Еще одно усилие, один миг…
Мгновенно в памяти поручика ожила полузабытая сцена… Яркая лампа бросает желто-розовые блики на породистое, матово-белое лицо, хорошо знакомое Суэцугу. Такие лица можно видеть только на старых японских гравюрах. На Суэцугу смотрят внимательные глаза.
«Исидо-сан! — сказал тогда Суэцугу. — Мы находимся накануне великих дел!»
Суэцугу был возбужден и говорил немного высокопарно. Собеседник его кивнул согласно головой, но в глазах его зажглись какие-то встревожившие Суэцугу огоньки.
«Исидо-сан! — продолжал Суэцугу. — Величие Японии требует жертв!»
Собеседник был вполне согласен с этим, но его лицо вдруг стало серым.
«Исидо-сан! — сказал тогда Суэцугу. — Выбор императора пал на вас, дорогой соотечественник! Поняли ли вы меня?»
Да, Исидо понял… Но, вместо того чтобы с поклоном принять от Суэцугу пистолет, Исидо прищурил глаза и со всей силой, на какую был способен, ударил Суэцугу, и они оба свалились на пол. Поручик до сих пор помнит, как тяжело пыхтел Исидо, обдавая его запахом пота… Поручик был моложе и сильнее, только это решило дело. Выстрел прозвучал глухо. Пороховая вонь стала простираться по комнате. Исидо не встал, когда Суэцугу поднялся с пола… В дверях, ведущих в глубину квартиры, появился человек. Еще не поняв, что произошло, но испугавшись беспорядка в комнате, он хотел закричать. Суэцугу выстрелил… С тяжелым стуком упал возле хозяина и второй человек. Суэцугу спохватился: выстрелы могут услышать с улицы. Он прислушался. Стояла мертвая тишина. Только по-прежнему разноголосо и очень деловито тикали часы… Нет, что-то тогда шло неладно. Почему Исидо кинулся в драку? Разве не понял он, какое высокое наслаждение быть принесенным в жертву ради своей Ямато?.. Потом Суэцугу бежал… Пустынные улицы, свежий ветер… Ах, этот взгляд Исидо, который хотел уйти от неизбежного!.. Быть исполнителем и быть жертвой — это разные вещи! Разные, черт возьми!..
…Зачем Суэцугу вспомнил об этом теперь? Силы оставили его. Он затрясся от нервной дрожи. Тошнота подкатила к горлу. Он выпустил саблю из рук…
Сильным рывком партизаны сорвали дверь с крючка. В хату ворвались Алеша Пужняк и Чекерда. Они кинулись к Суэцугу.
Поручик не мог даже поднять рук. Лишь громкая икота безобразно вырвалась из его стеснившегося горла. Увидев непорядок в костюме поручика, Чекерда возмущенно сплюнул:
— Вот гад, прямо в избе!
— Да нет, это он себе харакиру сделал! — сказал Алеша, глянув на валявшуюся саблю. — Опоздали, шут его забери!
Суэцугу поднимался с пола, придерживая брюки трясущимися руками.
— Вот тебе и раз! Да он жив!.. Ну, паря, а я думал, что он себе кишки выпустил!.. Не совладал, значит!
У поручика была хорошая память. Он тотчас же узнал Алешу. Выпрямившись, насколько позволяло его положение, он попытался улыбнуться и сказал Алеше непослушными губами:
— Здрастуйте! Рад вас видеть!
Алеша готов был расхохотаться.
— Я лицо не-пури-косновен-ное, — важно сказал поручик и громко икнул.
Он досадливо нахмурился и проглотил слюну, чтобы унять икоту. Но икота усиливалась. С трудом, прерываемый звуками мучительными и смешными, он объяснил, что он «лицо, временно не воюющее», поэтому его следует отправить в штаб части, чтобы он мог вручить для хранения свою саблю старше его по чину.
— Да чего ты беспокоишься? — спросил Чекерда. — Это и я могу!
Он взял саблю Суэцугу и с любопытством стал ее разглядывать. Поручик протестующе сделал к нему шаг. Чекерда сказал неуважительно:
— Не колготись, ваше благородие. А то я тебе доделаю твою хорохору-то! — Он угрожающе взмахнул саблей поручика.
Суэцугу попятился.
— Не надо! — сказал он торопливо. — Партизано пленных не убивать… Правильно? Так? — Икота раздирала его глотку.
— Эк его разобрало! — покачал головой Чекерда.
Вошедший в хату старик с вилами-тройчатками в руках заметил деловито:
— А это с его страх выходить!.. Напужали вы его дюже… Ишь выворачивает! Ну и куды же вы яво теперь? В плен, што ли?.. Мало он, гад, нашего хлебушка поел. Мотри-ка, аж лоснится, гладкий!
Старик с вожделением посмотрел на свой корявый кулак и огорченно вздохнул, когда Алеша сказал ему: «Не трожь!»
5
Караев с Иванцовым добрались до Первой Речки. Здесь они пристали к одному из семеновских отрядов, бежавших с фронта и с боем прорвавшихся через заградительную зону. Никто не преследовал их, потому что белый фронт разваливался. Эшелон за эшелоном прибывали на Первую Речку. Состав за составом, в затылок друг другу, останавливались они, забивая пути. Казаки и солдаты оставались в вагонах, понимая, что бесполезно занимать казармы, которые не сегодня завтра придется бросать, чтобы бежать куда-то дальше…
Многотысячную массу не сдерживала больше никакая узда. Солдаты и казаки дебоширили. Старшие офицеры избегали показываться.
Кривя рот, смотрел Караев на знакомую картину бестолковой суетни в эшелонах. Где-то горланили пьяные. Сидели на путях, лежали на крышах вагонов, слонялись вдоль составов казаки и солдаты — опустившиеся, небритые, немытые… Иванцов подсел к ротмистру:
— Ну, ваше благородие, куды мы теперь?
— На кудыкину гору! — раздраженно буркнул Караев.
Иванцов вздохнул.
— То-то и оно, что на кудыкину! — Пустыми глазами он посмотрел на ротмистра. — А дале что, ваше благородие?
— Я тебе не цыганка — судьбу предсказывать… Куда пошлют, туда и пойдем! — с сердцем ответил Караев.
— Не знаешь, стало быть? Да и кто знает? — сказал Иванцов. — А тольки я теперь от тебя не отстану.
— А если я в плен пойду?
Рябой жестко усмехнулся, лицо его потемнело, он хищно глянул на ротмистра:
— Ну, в плен-то ты, ваше благородие, не пойдешь. Ты жизню любишь…
…Днем к станции подошел экстренный поезд в составе трех салон-вагонов и двух платформ с пулеметами. «Максимы» были видны и в тамбурах салонов. Поезд остановился, ожидая путевки во Владивосток. Из вагонов никто не выходил. Окна их были завешены плотными шторами. По охране с желтыми лампасами на шароварах казаки узнали забайкальцев. Шлявшиеся по перрону кинулись с расспросами к охранникам. Те, презрительно глядя на земляков, молчали. Присмотревшись к составу, кто-то из казаков неожиданно крикнул:
— А ведь, паря, это атаманов поезд! Ей-бо!
Во всех эшелонах сразу заворошились. Отовсюду толпы галдящих и возбужденных казаков и солдат устремились на перрон. Точно гречиха из разорванного мешка, вываливались семеновцы из теплушек. Не прошло и пяти минут, как весь перрон был заполнен. И по другую сторону состава скапливалась толпа. В короткое время экстренный поезд был окружен шумевшими людьми. Говор, крики, неясные угрозы слились в одно.
— Атамана-а! — орали семеновцы.
— Атама-на-а да-вай! — раздавалось все громче.
Состав безмолвствовал. Молчание это еще больше раздражало толпу. Кто-то в запальчивости крикнул:
— Что, атаман, переперло ответ держать? Боисси выйти?!
Кто-то оглушительно свистнул. Один казак подскочил к салону:
— Пущай атаман выходит! А то расстреляем всех начисто!
Над головами засверкали сабли, замаячили винтовки. В одной теплушке раскатились напрочь двери, открыв стоявший раскорякой пулемет. Номерные бросились стаскивать чехлы с пулеметов.
В окнах салонов замелькали головы.
На площадку среднего вагона вышел офицер с черным чубом над глазами. Его узнали. Это был подполковник Шабров — начальник штаба.
— Атамана давай! — загорланили ему навстречу.
На площадке показался Семенов. Его защитная гимнастерка была расстегнута, волосы всклокочены, рыжие усы распушились, как у кота, багрово-красное лицо его лоснилось, глаза заплыли. Он был пьян. Несколько офицеров-телохранителей спустились с площадки, преградив доступ к ней.
Шум стал утихать. Казаки шикали друг на друга. Когда воцарилась относительная тишина, атаман хрипло крикнул:
— Здорово, станичники!
Ему ответили вразброд, нестройно. Атаман покачнулся, обвел толпу глазами.
— Ну, что дальше, станичники?
Рябой, стоявший рядом с Караевым, натужась, отчего шея его раздулась непомерно и толстые жилы набрякли, пульсируя на ней, закричал что есть силы:
— Ты чо, паря, нас спрашиваешь? Это мы тебя спрашиваем: чо дальше?!
Атаман, сбычившись, глянул в сторону рябого и на всю станцию закричал:
— А дальше и некуда, станичники! Все! Провоевались мы!
Толпа шатнулась.
— А кто со мной одной веревкой связан — к китайцам да японцам пойдем! выкрикнул Семенов, обуянный злобой. — По границе расселимся… Момента ждать будем! Японцы… помогут нам… немцы… Своего момента ждать будем до седых волос, до гробовой доски! До осинового кола в спину! — Он выпученными глазами оглядел притихших казаков.
Шабров, наклонившись, что-то проговорил. Атаман умолк и тяжело поднялся на ступеньки.
Рябой, который все время смотрел на атамана, протискиваясь все ближе, крикнул:
— А мы?
Атаман через плечо ответил:
— И вам туда же дорога!
Рябой ухватился за поручни.
— Нет, ты постой! — заревел он.
Что еще хотел спросить у атамана казак, так никто и не услышал. Коротко свистнув, паровоз рванул состав. Рябой вскочил на подножку. Молодцеватый телохранитель шагнул к рябому и прикладом японского карабина с силой ударил его в лицо. Иванцов, запрокинув голову, оторвался от поручней, зацепился за что-то широкими своими шароварами и упал между вагонами; из узкого просвета на секунду показалась его голова, затем рябой исчез. Набирая скорость, поезд помчался по сверкающим рельсам. Казаки шарахнулись в стороны, давя друг друга, чтобы не попасть под колеса.
6
Вечером пришел ожидаемый приказ: семеновцы через Владивосток отправлялись в Посьет, а затем пешком в корейский город Гензан. С собой разрешалось брать только самое необходимое. Лошадей не хватало, и малые обозы едва-едва могли поднять двух-трехдневный запас продовольствия.
Ротмистр долго отбирал вещи, по десять раз перекладывая их. Получалось много.
Взгляд Караева упал на вещевой мешок Иванцова. «То ли дело этим скотам, — подумал ротмистр, — пачка махорки, пара портянок, и ни черта больше не надо!» Вслед за тем он рассудил, что вещевой мешок удобнее чемодана. Караев ухватился за мешок, оказавшийся несоразмерно тяжелым. Ротмистр развязал его. Вынул изрядный кусок свиного сала, несколько пачек махорки, десяток головок чесноку… Под этой поклажей в вещевом мешке находилось что-то тщательно завернутое. Ротмистр принялся разворачивать сверток. В свертке лежали кольца, брошки, портсигары, браслеты, золотые и серебряные монеты. Воровато оглянувшись, он запустил руку в сверток. Тут было целое состояние. Не в силах сдержаться, Караев зачерпнул горсть, что попалось. Золотой зуб среди прочих вещей объяснил Караеву, каково было происхождение этого клада.
— Ай да хват! Ай да рябой! — прошептал ротмистр.
Он завернул тряпицу. Сунул в мешок две смены белья, консервы, хлеб, закинул за плечи плотно завязанный мешок и вышел, без сожаления взглянув на свои разбросанные вещи.
— Что больно налегке? — спросил его какой-то поручик, уже взмокший под тяжестью двух чемоданов.
Караев махнул рукой.
— А пусть все горит синим пламенем! — с пренебрежением сказал он. Увидев, что белые рубят, топчут, сжигают все, что нельзя было взять с собой, крикнул: — Круши все в пыль! Вот это по-моему!
7
Катя, разметавшись на постели, спала так сладко, что изо рта у нее потянулась слюнка.
— Катюшка! — вдруг позвала мать и стала расталкивать Катю. — Кто-то на дворе у нас возится! Поглядеть бы!
Катя повернулась к стене. Старуха стала через запотевшее оконце вглядываться во двор. Там толпился народ, едва видный в неясном полумраке начинающегося рассвета. Увидев винтовки, старуха затрясла дочь:
— Катька, вставай! На дворе солдаты, дочка! Не за тобой ли, господи помилуй!
Катя вскочила, протирая глаза. Послышался тихий стук в окно. Катя выглянула.
— Ну, барышня, принимай гостей! — сказал тихо знакомый солдат. — Мы, пожалуй, в сарайчике схоронимся! А вы дверки прикройте, да чужих не пускайте!
Солдаты, видно, уже успели оглядеться и все распланировать.
— Ну, занимайте сарайчик! — сказала Катя.
— Спасибочки! — ответил солдат. — Кипяточку у вас не найдется ли? Душа застыла! Мы ведь с ночи здеся!
— Мама, поставьте самоварчик! — сказала матери Катя.
Мать, ворча, принялась щепать лучину, а Катя, накинув платок, помчалась к Феде Соколову…
— Много ли? — спросил Федя. — С оружием?
— С оружием, человек пятнадцать! — сказала Катя. — Что теперь делать? Видишь, не испугалась!
Федя засмеялся и обнял Катю.
— А я и не думал, что испугаешься! — сказал он.
Катя отстранилась.
— А чего теперь Таню не поминаешь? — усмехнулась она.
— Ух ты, какая злая! — удивился Федя.
— А ты думал?
Федя, двое ребят из депо и Катя пошли к домику Соборской.
Открыв дверь сарайчика, Федя сказал:
— А ну, ребята, давайте-ка сюда оружие.
В сарайчике зашевелились. Кто-то сердито сказал:
— Уговора не было!
Катя заметила в руках деповских ребят револьверы.
— Сейчас уговоримся! — заметил Федя спокойно.
В сарайчике зашептались.
— А что! — послышался чей-то голос. — Правильно!
Из сарайчика вышел солдат. Он сказал Феде:
— Здорово, товарищи! Убери наган-то. Сейчас сдадимся. Я Стороженко, из порта, большевик, мобилизованный… Ну, я и в роте время не терял, как видишь!..
8
Дитерихс почувствовал вокруг себя странную пустоту.
По-прежнему в большом губернаторском доме было людно. Множество людей сновало по коридорам и из комнаты в комнату. К подъездам подкатывали автомобили, пролетки, мотоциклы, ландо, коляски. Из окон своего кабинета правитель видел толпы входивших и выходивших из здания. Такая же толчея была заметна и у подъезда Морского штаба. Позавчера генерал подписал приказ об эвакуации, к которому был приложен подробный список, каким частям, где и на какие виды транспорта грузиться, куда следовать. План был составлен специалистами, которые старались уложить эвакуацию многотысячной деморализованной массы в часы и минуты графика, хотя всем им было ясно, что график нарушится в первые же часы эвакуации. Генерал начал было читать список, но скоро у него зарябило в глазах от бесчисленных наименований частей, номеров паровозов, причалов, пирсов, названий судов и местностей. Мутная пелена застлала его взор. Дитерихс вздохнул и не глядя поставил свою подпись на нужном месте, куда давно нетерпеливо указывал ему пальцем порученец.
После этого и почувствовал генерал пустоту. Порученец появлялся редко. Никто не тревожил генерала. Город жил своей лихорадочной жизнью, дни наполнены были тревогами, суетней, какими-то трагедиями, возмущениями, страхами, горестями и тайной борьбой. Но все это шло мимо генерала.
В этот день Дитерихсу с утра принесли бумаги на подпись. Среди них была последняя сводка, из которой генерал узнал, что войска Народно-революционной армии приближаются к Угольной.
Он долго сидел, созерцая сводку, будто пытаясь прочесть в ней что-то кроме того, что было в ней написано. Слушал надоедливое тиканье огромных часов, стоявших в кабинете, маятник которых с усыпляющим однообразием метался в своей стеклянной тюрьме из стороны в сторону. Сквозь неплотно закрытую дверь кабинета слышались голоса. Дитерихс оторвался от сводки, отложил ее, повернул текстом вниз и с видом занятым и важным стал читать другие бумаги, на редкость незначительного содержания. Разговор в приемной продолжали вполголоса. Дитерихс не мог разобрать слов. Вдруг до его слуха донеслось ясно сказанное порученцем: «Только в долларах!» На это возмущенный баритон громко возразил: «Но вы же, батенька, меня раздеть хотите! Это уж слишком!..» Вслед за тем разговор опять перешел на полушепот. Вырвалась одна фраза порученца: «Только из уважения к вам…»
Дитерихс встал из-за стола и вышел в приемную.
Порученец со словами: «Счастливого пути!» — жал в этот момент руку высокому, отлично одетому человеку со сбитым на затылок котелком и жемчужной испариной на лбу. В левой руке человек держал какую-то бумажку. Он подул на свежую подпись, чтобы чернила засохли. В открытом ящике стола порученца видна была пачка иен. Оба — и порученец и человек в котелке — с замешательством обернулись к генералу. Человек в котелке торопливо сказал: «Всего наилучшего!» — и направился к двери мимо генерала, вежливо прикоснувшись к котелку. Дитерихс взял у него из рук бумажку, подписанную порученцем. Это был пропуск на выезд из города и разрешение на вывоз на военном транспорте каких-то «ста мест». На пропуске стояла подпись Дитерихса. Генерал озадаченно посмотрел на порученца.
— Но позвольте! — сказал он, морща лоб. — Я что-то не припомню, чтобы я…
Человек в котелке вдруг решительно выхватил пропуск из рук генерала, сбил котелок на глаза, и буркнув: «Счастливо оставаться, господа!» выскочил из приемной.
— Что это значит? — спросил Дитерихс.
Порученец глядел на генерала не мигая. Невинным голосом он сказал:
— Пропуск был выписан еще два дня тому назад, но этот господин не приходил… Я продлил его и вручил сегодня.
— О каких долларах здесь вы говорили?
Порученец закрыл за спиной ящик стола с деньгами.
— Этот господин — делец с Хлебной биржи. Он сообщил мне, что доллары лезут вверх. Они поднялись на девяносто пунктов за одну ночь! Так биржа реагирует на оставление японцами Владивостока.
— Да? — мрачно переспросил Дитерихс.
Как ни был он оторван от житейских вопросов, картина была ясна: порученец подделал его подпись на пропуске за крупный куш. Первым побуждением генерала было ударить по гладкой, холеной физиономии поручика. «А что это изменит?» — спросил он себя и, сгорбившись, вышел.
…Идя по анфиладе комнат, генерал видел следы поспешных сборов: незакрытые ящики столов, кучи бумаг, никому теперь не нужных, разбросанных всюду, сдвинутые с места диваны, шкафы, сейфы, зияющие разинутыми дверцами… Никто не обращал внимания на генерала; встречные вежливо, или, вернее, торопливо, сторонились, пропуская, приветствовали, но за всем этим Дитерихс угадывал равнодушие людей ко всему, кроме собственной участи, отчуждение, безразличие.
Он долго сидел в своей роскошной квартире, в правом крыле губернаторского дворца, отпустив слугу-китайца и охранников.
Вечерние тени вошли в комнаты, окутывая тьмою очертания предметов, скрадывая их. Дитерихсу стало жутко. Вместе с сумерками в комнаты вошло что-то, отчего нервная дрожь проняла генерала. Он почувствовал себя одиноким и никому не нужным.
Потом он побрел в квартиру начальника штаба. Никто не встретил его. И никто не отозвался на его стук. Квартира была пуста. Здесь и нашел его порученец. Он тихонько сказал генералу:
— Господин полковник уехал еще вчера!
Шаркая ногами, потащился Дитерихс по апартаментам особняка. Дом опустел. Некоторые комнаты были ярко освещены, являя видом своим картину полного разгрома, в других господствовала темнота. Теплились лишь лампады перед иконой Иверской божьей матери — Дитерихс считал ее своей покровительницей. Лампады гасли, чадя и треща, некому было заправить их маслом. Кряхтя, залез генерал на кресло и, послюнив пальцы, щепотью загасил две лампады.
— И о боге забыли! — сказал он, качнув головой.
Порученец, следовавший за ним тенью, безмолвствовал.
Было пусто, сыро, холодно, тянуло сквозняком из открытых зачем-то окон и выходных дверей.
В кабинете Дитерихса ожидал знакомый капитан — личный секретарь Тачибана. Он сказал:
— Машина ждет вас, господин генерал… На императорском миноносце вам приготовлена каюта. Генерал просил вас не медлить!
Дитерихс сжал старческие кулачки. Неожиданная мысль пришла ему в голову, он выпрямился. Нервное напряжение заставило его порозоветь.
— Еще не все потеряно! — сказал он. — Борьба не кончена! Я придумал… Мы укрепим форты вокруг Владивостока… Боже мой, как это раньше не пришло мне в голову?! — Он зашагал по комнате. — Нерадивые, бесчестные, невежды окружали меня. Еще не все кончено, господин капитан… Не все.
Японец вежливо осклабился:
— Генерал Тачибана тоже так думает! Только надо пе-ре-менить позиции. Так?
— Да, да! Именно, переменить позиции! — оживленно ответил генерал. Идемте! Я объясню ему свою идею. Он поймет меня.
Дитерихс торопливо вышел из комнаты, не надев ни фуражки, ни шинели. Любезный капитан засеменил вслед.
Порученец накинул на Дитерихса шинель уже тогда, когда тот усаживался в лимузин. Увлеченный новой идеей, Дитерихс бормотал что-то, черкая карандашом в записной книжке.
Любезный капитан, с прищуркой, за которой неизвестно что скрывалось, наблюдавший за тем, как усаживался генерал, выключил в машине свет и тронул шофера рукой.
В половине второго миноносец отвалил от неосвещенного пирса. Дитерихсу не удалось увидеть Тачибана. На флагманском крейсере командующий императорской экспедиционной армией отбыл раньше. Однако Дитерихс по-прежнему был оживлен. Ему сказали, что он сможет увидеться с Тачибана под утро. Он оглядывал темные причалы, Чуркин мыс, гирлянды огней на городских улицах, спускавшихся к заливу с холмов. Он заметил, что электричество стало гаснуть. Вот погасла Светланская, мастерские Военного порта, погасли огни на Эгершельде.
— Что… что это такое? Что это они? — нервно спросил генерал порученца.
Офицер ответил вполголоса:
— Началась всеобщая забастовка, ваше превосходительство!..
Фосфоресцирующий след протянулся за миноносцем. Проплывали мимо темные громады холмов, окаймлявших залив. Дитерихс не сходил с мостика, разглядывал в сумрачной мгле знакомые места. С моря потянуло холодком. Генерал, вздрагивая, сунул руки в карманы… Миноносец прошел мимо острова Скрыплева.
— Что это мигает так? — спросил генерал, мотнув головой.
Зябко съежившись, офицер ответил:
— Маяк, ваше превосходительство!
— Почему же он мигает?
— Мигающий свет заметнее на море, ваше превосходительство. Он дает вспышки через равные промежутки времени.
— В самом деле! — сказал генерал. — Смотрите! Погас… Зажегся… Очень поэтично: земля посылает в море привет… Погас! Зажегся!.. Опять погас!.. Но, не видя больше вспышки, Дитерихс встревожился: — Почему же он не зажигается? — В голосе Дитерихса послышалось отчаяние.
Маяк погас. Земля не посылала больше сигналов в море, где были сейчас только чужие…
Мрак окутал землю. Она исчезла, слившись с темнотой. Генерал понял, что жизнь его кончена, что у него нет больше родины. И никогда не будет…
Эпилог Бухта Золотой Рог
1
25 октября 1922 года с раннего утра на город надвинулся туман. За серой пеленой его тяжело плескался океан, бросая в черные утесы Аскольда и в каменный пьедестал Скрыплева огромные волны. Мириады брызг вздымались вверх от ударов волн о камень, и белоснежная кипень прибоя клокотала, бессильная одолеть твердыню берегов.
Осенний, пронизывающий до костей ветер нес по улицам клочья тумана. Сочились сыростью камни и асфальт.
Нахмурилась Светланская. Прибеднилась улица, будто не она еще вчера нахально пялила глаза, красовалась грудами товаров, пестрела гирляндами вывесок.
Только маленькие домики выглядели по-праздничному: морской ветер трепал и полоскал пламенные языки красных флагов, вывешенных на бедных домишках, в которых жили рабочие. Раздражающе-радостные, они словно бросали вызов насупившимся домам центральных улиц, в огромных окнах которых отражались искры пожара, занимавшегося в просторах города.
Непокрытая, выскочила за порог Таня. Ветер раздувал ее волосы. Устинья Петровна закричала ей вслед:
— Оглашенная! Хоть на голову накинь что-нибудь!
Слова ее заглушил порыв ветра. Он донес гудки пароходов из порта. Таня из-под руки глянула на рейд. Черными утюгами стояли на рейде четыре парохода. Трапы и штормтрапы свешивались с бортов. На корабли забирались люди. Толчея лодок, катеров, барж, шампунек окружала пароходы… Даже на этом расстоянии слышен был шум погрузки. Истерические выкрики женщин, брань мужчин, шипение лебедок, тащивших на борт разную кладь, изредка револьверные и винтовочные выстрелы, которыми часовые сдерживали толпу, — все сливалось в гул, тревожный и неровный.
Еще вчера на рейде стояли десятки судов под всеми флагами мира. Сегодня их оставалось четыре.
Один за другим прекращали они погрузку. Поднимали трапы вместе с вцепившимися в них людьми. Судорожно, сжимая лишь самое ценное, карабкались люди на спасительные палубы. Пусть не было места для лежания — можно сидеть. Пусть не было места для сидения — можно простоять. Можно провисеть, уцепившись за канат… Лишь бы прочь сегодня, сейчас, немедленно из этого города. Скорее! Скорее!.. Бежать, пока не поздно. Пусть тонут чемоданы! Черт с ними, лишь бы почувствовать под ногами гулкую палубу парохода, идущего за границу. В трюмах, на шлюпках, на решетках машинного отделения, у кипятильника, в коридоре, под фальшбортом, на кабестанах — всюду гнездились люди, дико глядевшие на город, ставший им чужим.
Разрезая накипь мелких суденышек, наполненных перепуганными людьми, жаждавшими очутиться за тридевять земель отсюда, один за другим уходили суда через Золотые Ворота, в открытое море…
Таня влетела в дом, схватила красную косынку.
— Устинья Петровна! Последние уходят!.. Последние-е! Устинья Петровна! Вы понимаете это?
— Не маленькая! — ответила Любанская.
Таня схватила палку, прикрепила к ней красную косынку.
— Что ты делаешь, Танюшка? — встревожилась Устинья Петровна. — А как вернутся?
— Не вернутся они сюда! Никогда! Наши сегодня вступают в город.
Таня закружилась по комнате, обняла и звонко поцеловала старушку, выскочила из домика и торжественно приколотила свой флаг к ограде.
Встала, сложив руки на груди, и, не замечая ветра, глядела на родной город, который впервые почувствовала своим, своим по-настоящему.
2
К двенадцати часам сквозь рваные облака стало проглядывать солнце, освещая взбаламученный волнами залив.
На Вокзальную площадь начали стекаться рабочие порта, заводов Эгершельда, рефрижераторов. Были они в своих рабочих одеждах, толпы их двигались, как полки великой армии. Красные банты, словно огоньки, горели на левой стороне груди у каждого.
В этот день рабочие овладели городом.
Исчезла с улиц милиция белых. Не стучали по асфальту подкованные гвоздями башмаки иноземных патрульных солдат.
Патрули рабочих охраняли свой город.
В двенадцать часов дня построились рабочие шеренгами и тронулись от вокзала по Алеутской. Шествие открывали грузчики Военного порта, Торгового порта, Доброфлота, железнодорожного узла. Кряжистые, сильные, в полотняных робах с капюшонами на головах, из-под которых молодо блестели их глаза, шли они мерно, грозно, по-хозяйски, не торопясь, будто шаг за шагом, дом за домом, квартал за кварталом принимая город. Там, где проходили они, уже никогда не должна была ступить нога жадного чужеземца!
Была в этом шествии сила, справедливая, непобедимая, вечная.
Темные колонны заняли Алеутскую, Светланскую, протянулись до Мальцевского, мимо дома Бринера, мимо датской радиостанции, мимо памятника адмиралу Завойко и морского штаба, над которым расцвел огромный шелковый красный стяг, мимо губернаторского дома, где ветер хлопал открытыми дверями, мимо памятника адмиралу Невельскому…
Тихо было в городе.
В половине первого задрожал воздух от выстрела сигнальной пушки возле сквера Невельского, отметившей в этот день не наступление полдня, а вступление в город партизанских отрядов. По этому сигналу заревели гудки всех заводов, паровозов, сирены катеров, свистки электростанций… Пять минут, точно песня, колыхались над городом гудки. И тогда колонны рабочих разделились надвое и заполнили тротуары, образовав на улице широкий коридор.
В этот коридор по Китайской улице вошли в город партизаны с Первой Речки. С гармошками, с алыми лентами на шапках, с протяжными песнями, с лихим посвистом вошли они в город, путь к которому был долог и тяжел. Сторожко ступали по асфальту улиц лошади, привыкшие к сельским просторам, фыркали, раздувая ноздри, храпели, косились на каменные дома, на нескончаемые толпы по сторонам.
Победителями входили партизаны во Владивосток.
Во главе своего отряда шагал Афанасий Иванович Топорков. Кожаная куртка топорщилась на нем, как новая — так стянул ее ремнем командир. Шагал во главе своего отряда и Маленький Пэн. Он смотрел по сторонам смеющимися глазами, слыша, как кричали друг другу, указывая на него пальцами, китайские грузчики, знавшие его хорошо:
— Чега сяодара — Тады Сяодара! — что означало: «Этот маленький Большой Маленький!»
Китайцы выставляли вперед и вверх большой палец правой руки, восхищаясь Пэном.
Партизаны примкнули к рабочим, стоявшим на тротуаре. Смех, шутки послышались со всех сторон, задымились цигарки, заулыбались лица. Узнавали знакомых, знакомились вновь. Топорков впервые пожал руку Маленькому, о котором слышал много хорошего. Оживленный говор пошел перекатываться по улицам.
В два тридцать выглянуло солнце из-за облаков…
Мокрый асфальт отразил веселую толпу, многоэтажные дома, голубые просветы неба в облаках и солнечные лучи, лившиеся с высоты…
Заиграли, засверкали краски вокруг. И серое однообразие толпы исчезло, явив праздничную пестроту костюмов.
В этот момент с Китайской улицы на Светланскую въехали всадники, подобные русским богатырям. На них были островерхие шлемы с красной звездой. Лица мужественные и простые, загорелые и обветренные в походах. Широкие красные петлицы, точно на кафтанах стрельцов, алели на их груди. Горячились кони командиров. Строго шли народоармейцы, неся на плечах винтовки, в дула которых были воткнуты зеленые ветки или багряные виноградные листья.
Дрогнул воздух от крика людей. Нескончаемое «ура», то стихая, то вновь нарастая до того, что звенели стекла в окнах домов, пошло перекатываться по многокилометровому коридору улиц, устланному сосновыми зелеными ветками. Шапки полетели вверх.
В город вступила Красная Армия.
В этот день, 25 октября 1922 года, закрылась последняя страница истории гражданской войны в России.
3
Склоны владивостокских холмов были усеяны народом, наблюдавшим вступление войск в город.
Среди толпы была и Устинья Петровна, ждавшая в этот день сына и потому накинувшая индийский шелковый полушалок — свадебный подарок старшего механика; с нею была и Таня.
Старушка стояла чинно, словно это она принимала парад. Таня волновалась, перебегала с места на место, где лучше видно.
Зрители усеяли крыши домов, заборы, деревья.
Глядели, обмениваясь замечаниями, на невиданное зрелище до тех пор, пока не прошла кавалерия, пехота, артиллерия, пулеметные роты. Потом потянулись пароконные телеги армейских обозов, санитарные фуры и, наконец, вызвавшие взрыв веселого оживления походные кухни. Гордо сидели повара на передках, дымились трубы кухонь, и запах гречневой каши струился из котлов.
Орудийные залпы возвестили утверждение власти ДВР в последнем очищенном от белых и интервентов городе.
4
После парада многотысячные митинги состоялись на площадях.
На трибуну взошел Антоний Иванович. Он разгладил свои пушистые седые усы. От волнения руки его дрожали. Чтобы унять эту дрожь, Антоний Иванович оперся руками о барьер. Долгим взглядом он оглядел собравшихся.
Здесь были те, кто локоть к локтю стояли все это время в одной шеренге армии дяди Коли.
Вот Федя Соколов. Он с таким вниманием, весь подавшись вперед, смотрит на Антония Ивановича, будто видит его впервые в жизни. Федя сегодня в праздничном тесном пиджаке, обтянувшем его сухие лопатки, шелковая рубаха топорщится.
Вот Квашнин. Точно утес среди моря, возвышается он в толпе.
Алеша, увешанный оружием, в черной кожанке, с огромным красным бантом и алой лентой на лохматой папахе, не похож сейчас на деповского рабочего. Антоний Иванович думает про себя: «Ишь ты, бравый какой! Вояка!.. Скоро, поди, в цех придешь воевать…»
Вот стоит Чекерда, картинно опершись на саблю, отобранную у Суэцугу. Его привел сюда Алеша, сказав: «Сопки ты, паря, видел… теперь на мою породу, на деповских, погляди! Они потверже сопок будут…»
И Нина тут же. Пепельные ее волосы облаком реют над серьезным и торжественным лицом; она не видит взглядов, которые бросает на нее украдкою Алеша Пужняк.
Вот и сам дядя Коля. За последнее время у него совсем побелели виски, но темные глаза горят молодым блеском, и эта неугасимая молодость, брызжущая из глаз Михайлова, спорит с сединой и побеждает ее. Голубоглазый мальчуган крепко держится за его пиджак, не отходя от него ни на шаг. Сияющими глазами смотрит на Михайлова жена, — наконец они вместе!
…Тысячи знакомых и родных лиц обращены к Антонию Ивановичу. Глаза всех устремлены на него в ожидании того, что скажет старый мастер. Среди друзей нет Виталия Бонивура, и грусть трогает душу Антония Ивановича. «Погиб за советскую власть!» И не мертвым, а живым встает перед его глазами Виталий.
В наступившей тишине, когда многотысячная толпа затихла так, что слышны стали разоравшиеся где-то петухи, предвещавшие хорошую погоду, старый мастер сказал:
— Слово мое будет короткое, товарищи! Все мы об одном думаем. Так давайте же просить советскую власть, товарища Ленина, чтобы приняли они Дальневосточную нашу республику в свою семью! Чтобы была единая Советская Россия! От западной границы и до самого Тихого океана навеки нерушимая!..
Он хотел еще что-то добавить, но тут Федя Соколов вытянулся во весь свой саженный рост и поднял длинную свою руку с широкой ладонью так, что рукав на ней задрался по локоть. Он крикнул что есть силы, давая выход тому, что скопилось в его душе:
— Голосу-ю-ю-у!
И лес рук поднялся вслед за рукой Феди Соколова, клепальщика первого разряда депо Первая Речка…
…Не дождавшись окончания митинга, Алеша сказал Чекерде и Цыгану, стоявшим возле него:
— Эй, люди! У меня тут сестренка живет. Пошли!
— Неудобно! — возразил Цыган.
— Брось! — сказал Алеша, и озорной огонек мелькнул у него в глазах. Таньча, поди, разных штучек-ватрушек напекла… Терпения нет, до чего есть хочу.
Она стали пробираться через толпу и увидели Нину, с грустью смотревшую на вокзал. Воспоминания нахлынули на нее с неодолимой силой. Она задумалась.
Веселый чертенок озоровал в этот день в Алеше. Он подтолкнул Нину, сделал страшные глаза и сказал:
— Сейчас же пошли, быстро!
Встревоженная Нина пошла за ним.
— Что случилось, Алеша?
Выйдя на свободное место, Пужняк объяснил:
— Тут неподалеку, на Орлином Гнезде, тебя ватрушки дожидаются!
Нина укоризненно покачала головой:
— Ну, Алеша, когда ты повзрослеешь?
Нечего было и думать пробраться на прежнее место возле трибуны. Нина видела, что толпа сгрудилась еще сильнее.
— Пошли, когда так! — улыбнулась девушка.
5
Алеша широко распахнул дверь в дом Любанской.
— Здесь Таньча… то есть Татьяна Пужняк, живет?
Устинья Петровна хотела ответить, но мимо нее из комнаты Виталия вихрем пролетела Таня и бросилась на шею брату; за ней виднелись Соня, Катя, Машенька, Леночка.
— Алешка, как я по тебе соскучилась!.. Братка мой милый!..
У Алеши подозрительно покраснели глаза. Чтобы не раскиснуть, он сказал:
— Ага! Братка? Милый? А кто меня поедом ел, когда мы вдвоем жили?
— Я, Алеша! Но я не буду больше!
Соня, Леночка, Катя и Машенька обступили Алешу, любуясь им; Машенька даже пощупала его руками, сказав при этом:
— Ой, Алешка! С саблей, с наганом.
Освободившись от объятий Тани, Пужняк представил своих спутников:
— Чекерда! Разведчик. На три аршина сквозь землю видит…
Чекерда застенчиво посмотрел на Таню и, не зная, куда деваться от смущения, так сжал ее руку, что девушка вспыхнула.
— А это — Цыган, прошу убедиться, единственный из белых, оставшийся в этом городе. Будем за деньги показывать: по полтиннику с носа, а у кого короткий — с того рубль, чтобы не хитрил и на даровщину не зарился!
Цыган укоризненно посмотрел на Алешу, в темных глазах его промелькнуло неудовольствие.
— Что, всю жизнь глаза колоть будешь, побратим?
— Больше не буду! — сказал Алеша. — Бывший белый, Таньча! А за этот месяц он лихим партизаном стал. Так и знай: смелый партизан Сева Цыганков!.. А это — Нина, подрывник и… хорошая девушка в общем!
Зардевшаяся девушка поздоровалась со всеми.
Таня многозначительно посмотрела на брата и, ожидая, что Алеша приготовил сюрприз, на цыпочках подошла к двери, быстро открыла ее и заглянула в сени. Там никого не было.
Оживление ее упало. Она посмотрела на Алешу. Устинья Петровна тоже вопросительно уставилась на него.
— А где Виталий? Я в его комнате ничего не изменила: все, как было! Мы-то с тобой в вагон опять переедем, а ему — у Устиньи Петровны жить. Заждалась она.
Алеша переглянулся с Ниной и Чекердой. Значит, дядя Коля ничего не сообщил о гибели Виталия?
— Разве вы ничего не знаете? — медленно спросил он у Тани.
Девчата встревоженно переглянулись. Машенька побледнела, почуяв что-то в тоне Алеши.
— Нет. А что?
— Виталя погиб семнадцатого сентября… Мы через Михайлова сообщали.
У Тани задрожал подбородок.
Устинья Петровна устало опустилась на стул, впервые почувствовав, как стара она и как плохо у нее работает сердце. Столпились вокруг нее девушки, пораженные этим известием, и одна тоска и боль отразились на их лицах словно стало в комнате темнее.
6
Алеша тронул рукой Чекерду:
— Ты море видал, партизан? Нет? Пойдем, покажу!
— Виталя рассказывал о море хорошо, — сказал Чекерда.
Они пошли к заливу. Таня с Чекердой, Цыган с Устиньей Петровной и Борисом, Нина с Алешей, Соня, Лена, Катя и Машенька шли за ними нестройной стайкой. Машенька переводила влюбленные глаза с Алеши то на Цыгана, то на Чекерду и дергала Катю за руку, шептала:
— Ну, Катька, бесчувственная ты. Посмотри, какие ребята наши-то, а! Красавцы, правда?
Катя одергивала ее и, гордясь своей близостью к партизанам, еще теснее прижималась к Соне и Леночке.
Расступалась толпа перед ними, давая дорогу. Восхищенные и настороженные, открытые и исподлобья взгляды провожали партизан. Мальчишки увязались за ними, но отстали, когда Алеша сделал свирепое лицо.
В губернаторском доме кто-то по-хозяйски ходил по залам. Часовые стояли у дверей. В одном из них узнали друзья старика Жилина. С бебутом у пояса, с винтовкой в руках, стоял канонир у дверей губернаторского дома и важно поглядывал на прохожих и на подчаска — бывшего посыльного Народного собрания, который с винтовкою стоял на часах напротив него.
Приколотая одним концом к филенке фигурной двери большая афиша трепалась по ветру.
— Эка, сколько бумаги! — сказал Алеша, подходя к афише и готовясь оторвать ее.
— Стой! Может, нужное что-нибудь. Прочитай раньше! — сказал Чекерда.
Алеша, придерживая афишу растопыренными пальцами, вслух прочел кривые, торопливо написанные кистью строки:
— «Господа! Граждане!
Сегодня ночью правительство генерала Дитерихса пало. Кабинет министров сложил с себя полномочия. Памятуя, сколь пагубно безвластие, мы, нижеподписавшиеся, образовали новое, крепкое правительство на демократической платформе, в составе…»
— Ну, в составе! Читай дальше! — сказала Катя.
— А состава — нету. Ветер оборвал. Удул, поди, за границу! — сказал Алеша и стал срывать афишу. — Пригодится! — Он бережно сложил ее в несколько раз и сунул в карман.
Свернув налево, они спустились по переулку в порт.
— Вот здесь мы с Семеном шли, когда нас освободили Степанов и Виталий! — тихо сказала Нина, указывая на памятный приступочек, за которой положили они тогда рябого казака.
…Мысли о Виталии не покидали их…
Пустынен был рейд.
Зеленые волны разгуливали по простору залива. Ничто не мешало им гулять вдосталь. Все, что было в порту, угнали с собой белые. В просвете Золотых Ворот курился дымок. Машенька указала на него:
— Смотрите, какой-то пароход идет!
Веснушчатый мальчишка, из тех портовых мальчишек, которые всегда все знают, покосился на девушку.
— И вовсе не идет, а деру дал!.. Американец. «Сакраменто»… Он у двенадцатого причала стоял…
…Последним из кораблей интервентов покинул владивостокский порт американский крейсер «Сакраменто».
Интервенция кончилась!..
На борту «Сакраменто» находился мистер Мак-Гаун. Ему было приказано оставить русский берег. Попыхивая сигаретой, Мак всматривался в уходящие берега, так и не давшие ему миллиона. Он ясно видел красные флаги, реявшие над городом. Рядом с ним стоял сержант технической службы. Не отрываясь, он тоже провожал взглядом русский берег. Взгляд его был напряжен, челюсти плотно сжаты. Мак — уже не консул — взглянул на сержанта. Ему казалось, что в глазах этого чужого ему парня он видит отблески своих чувств. Он хлопнул сержанта по плечу:
— Ничего! Мы еще переиграем эту проклятую игру!
Сержант повернулся к Мак-Гауну.
— Я бы не стал! Русские — крепкие парни. С ними следовало бы жить в мире! — сказал он.
— Заткните ваш рот, сержант! — свирепо сказал Мак. — Ваше проклятое мнение никого не интересует!..
Молчаливо глядели партизаны на залив.
— Мертво как… словно пустыня! — повела плечами Нина. — А бывало тут каких только судов не увидишь.
— Ничего, Нина! Оживет! — весело сказал Алеша. — Будет кораблей еще больше… Виталий говорил…
Алеша остановился: они условились не говорить о погибшем друге. Но как было не вспоминать о нем, когда он был все время незримо с ними. И Алеша докончил:
— Виталя говорил: «Все флаги будут в гости к нам, Алеша! Верю, будет время такое: входит в порт пароход, флаги на нем чужие, а люди свои, родные, едут учиться к нам!» Так и будет!
Вдруг на лице Чекерды выразилось удивление и волнение. Он торопливо сорвал шапку с головы и с силою хлопнул ею о каменную кладку причала. Все с недоумением посмотрели на него, а Чекерда отчаянно-радостно сказал:
— А ведь, братцы вы мои, конец войне-то!.. А? Конец! Все! До края земли дошли. Дальше некуда… Все чисто! Как Виталя говорил…
Чекерда, пораженный величием залива, озирал его широко раскрытыми глазами. Изумление не сходило с его лица. Он никогда не видал моря. И теперь с жадностью смотрел вдоль Золотого Рога, словно взор его мог увидеть море за Золотыми Воротами, раскинувшееся привольно, а дальше — необозримые пространства Великого океана…
Борсевико — так японцы, в языке которых нет звука «л», называли большевиков.
Миллионка — китайский квартал Владивостока, пользовавшийся дурной славой. В нем были сосредоточены публичные дома, игорные заведения, торговля наркотиками.
Завойко — герой защиты Петропавловска-на-Камчатке от англо-французского вторжения в 1854 году.
Двадцать шестое мая — 26 мая 1921 года образовалось марионеточное Приморское правительство японской ориентации, так называемый «Черный буфер».
Кранечный — от «кранцы» — деревянное или плетенное из каната приспособление, предохраняющее борт судна от резких ударов при отшвартовке.
Балберы — поплавки, пробочные или деревянные, иногда полые стеклянные.
Лоба — сладкая редька.
Сконтрпарил — дал задний ход.
Вакаримасен — Не понимаю (япон.).
Мусмэ… росскэ мусмэ, ероси! — Девушка… русская девушка, хороша! (япон.)
Ниппон — японское название Японии.
Аригото — Благодарю (япон.).
Pia desideria — Благие намерения (лат.).
A la guerre comme a la guerre! — На войне как на войне! (франц.)
Ямато — одно из наименований Японии.
Ноли — Разве (забайкал.).
Vanitas vanitatum et omnia vanitas — Суета сует и всяческая суета (лат.).
Всундулой — искаженное бурятское слово «сундлатом», часто употребляемое русскими в Забайкалье. Означает: ехать вдвоем на одном коне.





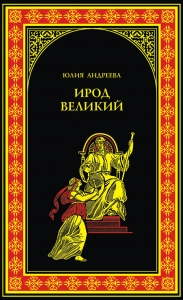
Комментарии к книге «Сердце Бонивура», Дмитрий Дмитриевич Нагишкин
Всего 0 комментариев