Мелф Концерт для Крысолова
Памяти всех жертв нацизма
Ну а мной — кончается строй бригад, Я самый последний крот, арьергард. Я иду. Я всем ходокам ходок. А будет привал — засну, умру, не опомнюсь. В нас, кротах, силен основной рефлекс: Велят умереть — умри, родиться — родись. Плюс мы спешим, мы шествуем далеко, на Северный Полюс, Чтоб на нем, присвоив его себе, создать парадиз. И хотя над Полюсом ночь густа, С ней справится зоркий глаз, глаз крота. Всяк жонглер, на ярмарке шут любой, — Пока мы течем вокруг, бряцая надсадно, — Прям стоит и вертит в уме цифирь (горазд не горазд считать, удал не удал): мол, клык за клык, за хвост полтора хвоста, три, стало быть, за два. А итог выходит всегда другим, чем он ожидал. Эй, басы! Мигните-ка там альтам. Из Моцарта что-нибудь — нам, кротам. Михаил Щербаков.Благодарности
Автор выражает искреннюю благодарность:
Снарке — за неоценимую помощь в поиске документальных материалов,
Сенси — за скрипку Рональда Гольдберга,
Хайнриху фон Фламмеру — за то, что всегда смеялся вместе с Бальдуром,
Морису — за любовь и веру в Бальдура,
Аше — за веру в автора.
Часть 1. Крысолов и его дети
1910–1918. Скрипка в военном оркестре. Ронни
С пяти лет Ронни Гольдберг был ясновидцем.
Разумеется, это звучит вовсе не так естественно, как «он был футболистом» или «он был недотепой», но для него ясновидение, во всяком случае до десяти лет, было чем-то само собой разумеющимся — более того, Ронни Гольдберг даже и не подозревал о том, что это — нечто такое, что отличает его от других.
У него не было хрустального шара с таинственной молочной мутью в глубине. Он не умел читать по строгим квадратным лицам случайно выпадающих дам и валетов. А жирно-коричневая кофейная гуща размывалась под струей воды из крана, так и не успев сообщить никаких тайн. У него были карие глаза сынов Израилевых, но не было тяжелого, проницательного, временами стекленеющего и проникающего в тайны будущего взгляда.
Зато у Ронни была стена. Стенка его комнаты, на которую он всегда долго смотрел, прежде чем заснуть, была обклеена дешевыми светло-желтыми обоями с коричневатыми завитушками. На ней сиротливо висела дешевая картинка в рамке — долговязый Гаммельнский крысолов уводил из неблагодарного города розовых ненапуганных детей в белых фартучках. По ночам на стену криво падал бледный блик уличного фонаря. Ронни смотрел на завитушки, изменившие цвет, и иногда видел кое-что. Да кто в детстве не высматривал всяких рожиц на стенах… Только Ронни, в отличие от других детей, которые не хотят засыпать вовремя, видел не рожицы, не сказочных чудовищ, а вещи самые обыкновенные. В шесть лет, например, увидел маму, которая со злым, раскрасневшимся лицом искала что-то в ящиках письменного стола. Ронни откуда-то знал, что ищет она исписанную половинку тетрадной обложки (страшно нужное что-то было на ней накарябано), которая в данный момент лежала в книге, а книга — на журнальном столике. Он бы хотел подсказать ей, но не знал, как — ведь он просто видел все это, а настоящая мама спала в своей комнате.
Ясновидение началось в пять лет, тогда же, когда кончился отец. Не скончался, а именно кончился, как кончаются праздники — ты, усталый, валишься спать с приторным привкусом во рту, гудящим призраком гама в ушах, цветным туманом в голове, и усталость переходит в беспамятство, в котором изредка вспыхивают угасающие огоньки. А наутро просыпаешься с разочарованием и слабым недоумением: праздник кончился, и вчерашний день не повторится никогда-никогда… а был ли он вообще? — к полудню он помнится уже робко и неотчетливо, будто сон.
Отец Ронни был человеком-праздником — и вот потому-то однажды его пятилетний сын проснулся, увидел, что нет на вешалке в прихожей отцовского короткого пальто, черного, маленького и растрепанного, словно вороненок — и сразу понял, что и этот праздник кончился, вороненок, возможно, улетел куда-то в серо-белый лабиринт заснеженных крыш, а его хозяин, шумный чародей, отец — тоже исчез и никогда не вернется. Начались будни. И как ужасно принимать их теперь — если все, что было до, помнится обстоятельно, как добрая и головокружительно волшебная сказка Андерсена.
И будни действительно начались — нескончаемые, черно-белые, ни шаткие ни валкие, неаккуратные, как буквы, что вечерами Ронни писал в старой тетрадке под диктовку матери.
Как сон помнилось все, что было с отцом, при отце — веселая вертлявая мелодия, порхающая в полутьме кабачка — крошечная нахальная феечка, щекотно целующая всех в кончик носа или уголок рта; улыбки и покашливания, постукиванья об пол носками старых башмаков, вознаграждающие музыканта дороже, чем аплодисменты, сильные пальцы с редкими темными волосками на нижних фалангах, которые с мягкой точностью хватали Ронни за маленькие, чумазые, вялые пальчики и показывали, как зажимать струну… Си открытая, ми открытая, Ронни.
За столиком в уголке сидят усталая женщина и маленький курчавый мальчик. Они смотрят на музыканта с восхищением и гордостью…
А как-то раз и вовсе случилось чудо — «возьми с собой скрипку, Ронни». Какая там скрипка — детская скрипулечка… если положить их рядом, отцовскую и мою, они будут как лебедь и гадкий утенок. И все же…
— А теперь все слушайте, мой сын вам тоже кое-что сыграет…
— Гольдберг, твоего сына из-за стола не видать! — проскрипела старуха Нора Кац, вдова антиквара и собирателя замшелых книг Исаака Каца, который год назад тихо сгорел от туберкулеза.
— Ай, замолчи, фрау Навуходоносор! Чтоб тебе на похоронах сыграли такую музыку, какую Моцарт сочинял в пять лет!
— Ай, Гольдберг! Мне не нужна на похоронах музыка, которую сочинил этот австрийский гой! Пусть уж лучше играет твой сын! — глумливо прочирикала бабка Нора.
— Вот и я про то же! Ронни!..
Ронни сыграл как умел, счастливо плавая в облаках табачного дыма и всеобщего восторга. Он не замечал, как мама сжала губы — они стали не толще басовой струны.
Она ничего не имела против музыки. Но не очень хотела, чтоб сын тоже играл по кабакам. Филармонический оркестр — куда ни шло, но платить за такое будущее было нечем. И те деньги, что откладывались ею втайне от мужа — хотя и таить там было особо нечего — она считала средствами, должными обеспечить сыну не столь неверное будущее.
Она была учительницей, и ее мечтой для сына был университет. Мюнхенский желательно.
Она любила Давида Гольдберга — видит Бог, любила, — и чья вина, что он в нищете родился царем Давидом, который никогда в жизни не обращал внимания на то, что является вечным уделом простых смертных.
В нем словно все меньше и меньше оставалось плоти — он ел, как цыпленок, чтоб вечером насладиться и объесться вниманием тех, кто его слушал. Но жена его так не умела. И сын, судя по тому, что ему три раза в день требовалось есть, не умел тоже.
Он постепенно превращался в одну из своих мелодий — а под ее сердцем с первого дня их совместной жизни засела дробинка усталости, которая почему-то росла, последовательно заливая тело свинцом. Учить оболтусов — вроде и не самая тяжелая работа, но кроме этого у Анны Гольдберг были и другие обязанности. Самая тяжелая работа — ткать более-менее нормальное существование из рвущихся нитей. А нити рвались и рвались. Непостоянный и маленький заработок Гольдберга был самой тонкой нитью. Толстая, теплая, пушистая нить, которая раньше ночами накрепко связывала их тела друг с другом, тоже постепенно истончалась и гнила по мере того, как Гольдберг превращался в пьяную мелодию..
А свинец все заливал и заливал ее тело. То по вечерам руки вдруг отказывались перелистывать залапанные страницы ученических тетрадей и подолгу лежали на столе, бессильно белея под светом лампы. То по утрам ноги не хотели даже втискиваться в боты, чтоб тащиться по слякоти к школе. То прямо посреди урока тяжко клонилась над столом голова, до краев наполненная той неизлечимой, тихо гудящей в ушах болью, которая рождается от хронического беспокойства за завтрашний день. А то — и это было хуже всего — нудная тяжесть поселялась внизу живота и перекатывалась там, как гирька, так, что матка сжималась в испуганном спазме, а яичники начинали ныть, то дуэтом, то по очереди, то справа, то слева. Любая женщина знает такую боль, но обычно испытывает ее раз в месяц или даже не испытывает вообще. Иной раз боль эта была хоть и несвоевременна, но так правдива, что Анна Гольдберг на перемене без нужды брела в уборную и проверяла, не грозит ли ей опозориться перед ученицами — ну как пятна просочатся на юбку… Но никаких пятен и в помине не было. Надо сходить к врачу, думала она. Но, стоило ей вернуться домой и увидеть сына, боль проходила, и поход к врачу откладывался на неопределенное время.
Все меньше и меньше восхищения и гордости было в ее взгляде, когда она иногда приводила Ронни посмотреть, как играет его отец.
Гольдберг ничего не замечал, Ронни тоже.
А свинца становилось все больше и больше в ней. И кончилось это тем, что однажды Гольдберг, который после работы до позднего вечера обычно спал до полудня, проснулся невовремя…
Ей нужно было вставать рано, и в этот раз она тоже встала, но не направилась, как обычно, умываться — а застыла аки соляной столп. Она почему-то смотрела вниз — на свою застиранную ночную рубашку, на узкие босые ступни. У нее были неудобные туфли — раньше они были удобными, но она носила их слишком давно. В правой туфле что-то там порвалось внутри и немного мешало при ходьбе, давило в носке. Она все собиралась посмотреть, что там такое, да как-то забывала, было не до того — и только теперь поняла, как долго собиралась, наверное, с полгода, не меньше, потому что ноготь большого пальца успел искривиться и потихоньку, подло начал врастать.
Анна не замечала ничего — но сейчас вдруг увидела покрасневшую кожу и ощутила невнятную боль. И эта малюсенькая, почти незаметная боль доделала ту работу, которую начала та послесвадебная дробинка под сердцем…
Гольдберг проснулся от глухого стука. Анна лежала в обмороке возле кровати.
Он сонно, непонятливо глядел на нее — и не понимал, кто эта женщина с желтоватым лицом и синими тенями под некрашеными закрытыми глазами, и куда делась Анна — та, которую он когда-то увлек в вихрь, состоящий из Моцарта, улыбок и презрения к условностям…
Она очнулась сама.
— Я что, опаздываю?..
Надо сводить ее к врачу, подумал Гольдберг. Больше он не смог заснуть.
Вечером того же дня — Анна нашла в себе силы, чтоб после проверки тетрадей потащиться с маленьким Ронни «к папе на работу» — они снова слушали его скрипку. А поздно вечером — когда Ронни уже спал — Анна высказала свою первую и последнюю просьбу мужу.
Она попросила его уйти.
Он долго глядел на нее своими вечно затуманенными музыкой и алкоголем глазами — а потом побрел одеваться. Когда за ним тихо закрылась дверь, Анна плакала на кухне — ревела, как девчонка, дослепу, до соплей — и не заметила даже, что он ушел, не взяв с собою ничего. Даже скрипка его осталась на своем обычном месте.
Позже она часто думала, куда же он ушел — без единственной вещи, что давала оправдание его существованию на этом свете. А потом рассудила, что это, во-первых, не единственное оправдание (второе мирно сопело в своей кровати «на вырост»), а во-вторых… Гольдберг не пропадет и так. Не исключено, что по одному его кивку у скрипача Венского филармонического вдруг выпорхнет из рук его Страдивари или Амати — и отважно вылетит из окна навстречу снегопаду — и новому хозяину…
Но факт оставался фактом — о бывшем муже своем она никогда ничего не слышала.
Теперь все вечера принадлежали только ей. Может быть, ей и впрямь удастся сделать так, чтоб Ронни не повторил легкую, бездумную, волшебную, нищую судьбу отца. Обе скрипки — и большую и маленькую — она спрятала в старый шкаф.
Ронни было пять лет. Это тот возраст, когда можно задавать вопросы, но не тот, когда можно всерьез взбунтоваться против того, что жизнь изменилась. Его бунт выразился в том, что полгода он каждый вечер спрашивал «Когда мы пойдем к папе на работу?» — но свою маленькую скрипку он не искал всерьез. Только спросил, где она. «В шкафу». — «А.»
Анна удивлялась тому, что маленькие пальцы, умевшие держать короткий смычок и зажимать нужную струну, долго не могли управиться с прописью, хотя читать Ронни научился быстро. Арифметика повергала его в странное состояние — такое выражение лица Анна Гольдберг видела у одной из своих учениц, тринадцатилетней Лотты Минц, которая отличалась легкой формой умственной отсталости…
Когда Ронни пошел в школу, Анну ожидал еще один удар: ее сын, несмотря на ежевечерних Гете, Гейне и Шиллера поочередно, несмотря на ее и его адовы муки в освоении арифметики и муки чистилища в освоении грамматики, учился так себе. Ни шатко ни валко. И предпочитал проводить время, гоняя мяч во дворе и изводя вместе с приятелями хрупкого очкарика Йозефа Каца. Так и провел Ронни целых два школьных года. И Анна никак не могла бы сказать, что такие занятия и увлечения приближают его к Мюнхенскому университету.
Впрочем, стоило посмотреть правде в глаза — эта «социалистическая» школа, даже будь Ронни отличником, не приблизила б его к вышеупомянутому университету ни на дюйм. Школа была нищая, учили тут с расчетом на то, что дальше станка на крупповском заводе никто из учеников не залетит. А из учениц (собственно, в одном дряхлом здании разместились две школы — для мальчиков и для девочек) никому не светит ничего лучше хорошего замужества.
Упомянутый Йози Кац был жертвенный агнец на алтаре школьной агрессивности. Он был из хорошей — для этого квартала — семьи и ходил в школу в чистом кургузом пиджачке (впрочем, возможно, кургузым был не пиджак, а сам мальчишка, слишком нескладный для него). Воротничок его сорочки был так открахмален, что впивался в цыплячью шейку, словно испанский воротник. Йози учился лучше всех в классе, никогда не играл в школьном дворе и разговаривал только с девочками (и первой его позорной кличкой было «девчатник»). После школы Йози учил уроки, а после этого никогда не гулял на улице. Свое он получал на переменах на школьном дворе — его изводили дразнилками до тех пор, пока за него не вступался кто-нибудь из учителей.
Анна в очередной раз спешила на помощь к Йози, которого загнали в угол и пытались накормить землей — и замерла, брови ее беспомощно вздернулись: среди глумливых мальчишеских голосов, выкрикивающих «Жиденок, мамочкин жиденок!» она различила голос своего сына…
Может, мы сами виноваты, думала она. Мы всегда жили как немцы, в доме нет Торы, Гольдберг был в синагоге, наверное, один раз в жизни — на бар-мицва в 13 лет.
Вечером она сказала Ронни, чтоб он не дурил.
— Ты такой же еврей, как и он и как Мария Шварц.
Он ничего не ответил, но она прочитала в его глазах — «ну и что. Меня не обзывают жиденком. И не потому, что я сын учительницы.» Это была правда. Марию Шварц тоже жидовкой не обзывали — но потому, что просто не замечали, а стоило кому-то случайно заметить ее, как она исчезала, словно уменьшалась в размерах и выпрыгивала из поля зрения. За это ее и прозвали Блохой.
Но Анна радовалась хотя бы тому, что Ронни, хоть и не перестал гонять Йози, больше никогда не кричал «Жиденок!» Это убедило ее в том, что она все же имеет на сына какое-то педагогическое влияние.
Но настоящее влияние на Ронни имело все то, от чего его усталая мать была отгорожена тысячью заборов из чернильных каракуль. Она не бродила по улицам, она не слышала бравурного рева военных оркестров, она не замечала, как бодро топорщатся на солдатских лицах кайзеровские усы, и не мечтала, чтоб у нее завтра отросли такие же.
Анна знала, конечно, что началась война, но в ее жизни ничего не могло измениться, война не могла поймать ее на крючок и заставить корчиться на нем — мужа не было, а сын был непризывного возраста.
Ронни, взбудораженный, как и все его приятели, витал в пороховых облаках. Йози Кац был повышен в чине — теперь всякую перемену он был «русской свиньей», и его брали в плен и расстреливали бумажными катышками и горохом.
Воздух войны почему-то пах праздником, напоминал Ронни об отце — тяжкие однообразные будни растворялись в ура-патриотических настроениях, праздничными фонариками сияли молодые строгие лица новобранцев, которых увозил поезд, листовки были как конфетти. А духовые оркестры, играющие так, что даже слабенькая мальчишеская душа рвалась на поля сражений — хотя бы витать там жестоким ангелом, овевая крылышками лица, сморщенные от боли и дыма….
Ронни переполняло желание что-то свершить. Игры в войну, ввиду своей коллективности и ребячества, его не удовлетворяли. И планы приятелей «уйти на фронт» были смешны. Надо делать то, что можешь, думал Ронни.
Рев оркестров был так же праздничен, как когда-то скрипка отца.
Ронни вдруг захотелось опять поиграть на скрипке — но не на маленькой детской, он ведь уже вырос, а на большой. Играть что-нибудь такое, звонкое и зовущее в бой, маршевое, бешеное.
Мать еще не вернулась из школы, у старшеклассников было больше уроков.
Ронни открыл дверцу шкафа.
Обе скрипки лежали в футлярах, как в гробиках. Большой гроб и маленький.
Ронни вынул большой, ощущая волнение — может, почти такое же, какое ощущал Иисус, подходя к пещере с мертвым Лазарем. Встань. Вставай.
Отцовская скрипка устала лежать в тусклом бархате и обрадовалась ему — Ронни сразу понял это. Он с сомнением посмотрел на свои огрубевшие чумазые руки. Наверняка они начисто отвыкли, утеряли чуткость, наверняка они уже не оценят блаженную дрожь нужной струны…
Ронни унес скрипку в свою комнату.
Анна застыла на пороге, услышав неуверенные, поскребывающие, но верные звуки. О Гольдберге она в тот момент даже не вспомнила, первой ее мыслью было — да пусть, все лучше, чем гонять по улице с хулиганьем…
Через неделю нерегулярных упражнений Ронни вспомнил все то, чему учил его отец. Ему даже казалось в какие-то моменты, что он помнит каждую мелодию, сыгранную отцом в кабачке, и может играть так же. В этом был некий соблазн — Ронни помнил, как отцова музыка призывала праздник…
Целый год Ронни возился со скрипкой, и вот однажды Анна Гольдберг снова застыла на пороге, как в первый раз, когда услышала жалобный скрип терзаемых струн — но теперь она была не то что удивлена, а прямо-таки поражена. Она поймала себя на том, что покосилась на вешалку в прихожей — не висит ли там воронье пальтишко. Ей и впрямь показалось, что это вернулся Гольдберг — да и любой, кто слушал его когда-то, легко обманулся бы. Скрипка уже не визжала, как истязаемая собачонка — она радостно насвистывала какую-то райскую песенку.
Ронни был счастлив — ему показалось, что теперь он сможет играть то, что хочется. Идет война, и нужно играть что-то победное, такое не стыдно будет сыграть и друзьям, а что, так будет куда интереснее играть в новобранцев, что едут на фронт, все будет как по-настоящему.
Ронни пробовал сыграть на скрипке один из старинных прусских маршей, подслушанный им у городского духового оркестра. Звучал он в таком исполнении странно, но все же это был марш, настоящий марш.
Все вытаращились на него, когда он притащил скрипку в школу. Он спрятал ее под парту, чтоб не заметили учителя, и вздрогнул, когда услышал за спиною замирающий шепот: «А можно посмотреть?»
Ронни обернулся. Перед ним стояла Блоха. Надо же, глаза у ней не как у блохи, подумал он, а как у стрекозы: черные и круглые. А впрочем, кто их видел, глаза блохи-то, блохи слишком маленькие.
— Чего тут смотреть? — спросил он грубо, — скрипки, что ль, не видала?
Блоха моргнула и исчезла.
И снова появилась — когда они собрались после уроков, он заметил, что она стоит в тени школьного здания и смотрит на него. Но не до нее ему было. На перемене Ронни не достал скрипку, он порешил, что слишком уж мало времени для такой шикарной игры, и ее было решено перенести на послеурочное время.
Его друзья, привлеченные новостью в виде скрипки, упустили Йози, и он успел без потерь убежать домой.
— Ну и пусть, — сказал Ронни, — сегодня воевать еще рано. Сегодня можно просто уезжать на фронт. И чтоб вас провожали матери и невесты, ага?
— Здорово, — сказал мордатый Гюнтер, — только я буду унтером.
— Ладно, будешь. А вы все будете новобранцы.
— А матерями и невестами кто будет? — выкрикнул малюсенький беленький Отто.
— Ты, — сказал Ронни, и все загоготали отчаянно.
— Лучше ты, — огрызнулся Отто.
— Дурак, я военный оркестр. И чего вообще — девчонок что ли нет? Вон Блоха стоит. Эй, — начал Ронни и осекся, как-то не годилось звать будущую солдатскую мать и невесту Блохой.
— Мария, — позвал он.
Она муравьем выползла из тени, словно ожидая, что ее вот-вот расплющит подошва чьего-нибудь башмака. И вдруг подала голос:
— Так и кто я буду? Если я мать, — заявила она с неожиданной солидностью, — то тогда не могу быть невестой.
— Чушь, — крикнул Ронни, не в силах справиться с охватившим его азартом начинающейся игры, — пусть ты будешь мать Отто, а Гюнтеру будешь невеста, какая разница, тебе трудно что ли? Играем же?!
— А, ну ладно.
— Не надо мне никакую невесту, — запротестовал конопатый Гюнтер.
— Не надо, ну и хрен с тобой, — сказал Ронни, — тогда пусть она будет невестой Вилли.
Взрослая грубость произвела впечатление, и Вилли, который вечно дергал девчонок за косы, протестовать не стал.
— Только невест за косы не дергают, — сказал Ронни.
— А у нее кос и нет, — фыркнул Вилли. Это была чистая правда — черные волосы Марии были собраны в пучок.
Игра склеилась сразу же. Унтер построил новобранцев и повел на вокзал. За ровным строем плелась скорбная мать-невеста с белым платком и булыжником в руках. Платком она утирала лицо, булыжник держала под мышкой. Ронни жаждал узнать, зачем даме понадобился булыжник, но не имел права — оркестранты же играют, а не пристают к дамам. Он и играл вовсю, получалось очень здорово, даже новобранцы шли четче, чем обычно.
На вокзале унтер с патриотическим подъемом заорал в два раза громче. Солдаты-сироты грузились в вагон (вагоном был дырявый забор). На перроне остались только Отто и Вилли — дабы достойно попрощаться, а также унтер Гюнтер, который с шиком курил самокрутку из лопуха. Тут и разъяснилась загадка булыжника — оказывается, то был пирог, который безутешная мать совала сыну на дорожку, сын отчаянно отмахивался, начисто выходя из роли, другие новобранцы в это время покатывались со смеху, выглядывая из окон вагона. Ронни тоже хохотал так, что ему было трудно играть. Зато Вилли оказался на высоте — он вынул из-за пазухи чахлую ромашку, загодя сорванную под забором, и вручил невесте… Все новобранцы замерли от торжественности момента.
— Ты вернешься, и мы сразу поженимся, — сказала невеста.
— Может, я не вернусь, — душераздирающе ответил жених, — Меня же могут убить! Потому что пули свистят и вообще!
И в этот-то миг словно и впрямь неслышно свистнула пуля, но попала не в новобранца, а в музыканта.
Ронни, не выпустив из рук скрипки, вдруг ни с того ни с сего повалился на спину…
Он ничего потом никому не сказал. Говорил, что перегрелся на солнце — а может, так оно и было на самом деле. Но важно было совсем не это.
Важно было то, что он УВИДЕЛ. Это было как те живые картинки на стене — но им-то Ронни никогда не придавал особого значения, они просто помогали ему отыскивать потерянные вещи. А это было другое — и нахлынуло вместе с веселым гоготом над каменным пирожком.
Смех, как его слышал Ронни, стал более грубым — теперь ясно было, что смеются взрослые парни, он даже видел их, они стояли в низком окопе — головы торчали — и весело хохотали над чем-то — возможно, это был анекдот… а потом раздался гром, и они рухнули в грязь, друг на дружку, а потом был дым — а когда он рассеялся, на месте окопа была страшная яма, полузасыпанная землей, и что-то торчало из этой земли, серо-красное, круглое. Чья-то голова.
Теперь Ронни не хотел брать в руки скрипку. Он снова уложил ее в гроб и заключил в склеп — закрыл в шкафу.
Но это было глупо — потому что теперь скрипка хотела, чтоб он взял ее в руки. И он, десятилетний, безвольно брел на ее зов, как восемнадцатилетний бредет на зов своей первой, намного старшей, но сильной и умной женщины…
Он с холодком, бегущим по хребту, открывал шкаф и вынимал футляр, а губы его безостановочно шептали — «не надо, не надо, пожалуйста». И она какое-то время была добра к нему, когда он, дрожа, пытался играть веселые отцовские мелодии — никаких картинок не было… Скрипка словно сообразила, ЧТО показала слишком маленькому хозяину — и напугала, и смысла не было — он ведь ничего не понял…
Германия с позором проигрывала войну.
Не одна Анна — многие, кто слышал и любил эту скрипку, обманывались, когда по вечерам ее звуки канарейками и колибри выпархивали из гольдберговских окон. Люди останавливались. Слушали. Улыбались, глядя на мальчишеский силуэт, на тонкую ловкую руку, вышивающую смычком легкую, блестящую ткань музыки. Не улыбалась лишь старая Элеонора Кац (к слову, школьный агнец недозакланный, Йози, был одним из ее многочисленных внуков, и она относилась к нему не с меньшим презрением, чем его одноклассники).
А если б ее спросили об этой скрипке, она бы усмехнулась:
— Что, Гольдберг-таки не придумал ничего получше, как оставить ее ребенку?
Но ее никто не спросил. Ведь никто и не знал, что Гольдберг приобрел этот весьма непростой инструмент у антиквара Каца, теперь уж десять лет как покойного, а уж где Кац взял эту скрипку — того и его жена не знала. Но весьма заинтересовалась, когда Гольдберг стал пробовать инструмент и вдруг обморочно побледнел, и рука его сжалась так, что едва не хрустнул смычок.
— Что? — забеспокоился Кац, — Тут душно…
Гольдберг отмахнулся и сел, положив скрипку на колени — и долго глядел на нее, «словно ребенок на сбитого машиной любимого щенка», как подумала Нора Кац. А мужу ее показалось, что музыкант углядел в инструменте некий потаенный, невидимый простому глазу изъян.
— Звук-то хорош, — робко произнес он.
— Звук хорош, — слабым эхом повторил Гольдберг, — Очень хорош звук…Не Амати, конечно, но отличная штука. Отличная, Кац, а когда я говорю отличная — это значит, о лучшем даже чертов скрипач венского филармонического мечтать не может.
Он не радовался, отметила про себя Нора, нисколько не радовался. Наоборот, словно погас… это Гольдберг-то! «Точно, скрипочка с секретом».
— Кац, — сказал Гольдберг, — инструмент прекрасный. Но ты же знаешь — я расплатиться не смогу…
Кац замахал длинными руками.
— Что болтаешь! Я тебя сколько лет знаю, а? За год, за два расплатишься… забирай да играй себе, чтоб нынче вечером я уже слышал, как ты на ней играешь!
Нора знала — на такое условие Гольдберг согласится, пусть с виноватой улыбкой. Тем странней было то, что он мотнул головой.
— Ой, Кац. Неудобно. Ты платил за нее… я буду играть, и ты два года будешь своих денег ждать?.. Разоришься с этой благотворительностью…
Кац только плечами пожал — он тоже не понимал, что за блажь у Гольдберга. Кроме этого рёхнутого скрипача, он еще никого не облаготворительствовал и не собирался. Кац скромно считал себя не самым состоятельным евреем.
…И оба круглыми глазами уставились на Нору, которая произнесла своим «только-посмей-поспорь» голосом:
— Бери ее даром, Гольдберг. — пронизывающий взгляд на мужа. — Ты ведь ее купил за гроши. Не обеднеешь.
Кац сглотнул — гроши-то гроши, но грошей было немало. Тем не менее, он ни слова не возразил. Торчал за спиной субтильной супруги, словно Голиаф, знающий, что у хлюпика Давида обязательно найдется камешек для пращи.
Норе уж очень хотелось увидеть, как поведет себя Гольдберг. Если и задарма не возьмет скрипку — значит, что-то и впрямь с ней не так…
Скрипку Гольдберг взял. Не нашел в себе сил отказаться — у него никогда не было такого прекрасного инструмента. Гольдберг вообще не умел отказываться от хорошего — будь то женщина, скрипка или кружка пива.
Неделю спустя он сидел за одним столом с Норой Кац и задавал вопросы, мало на первый взгляд связанные друг с другом.
— Нора, — спросил он первым делом, пьяновато качнув кудлатой головой, — Кац не кашляет?
— Кац не кашляет.
— А ты не кашляешь?
— Я не кашляю. И мои дети не кашляют. И этот идиот Соломон, который пудрит мозги Ривочке, не кашляет… И внуки не кашляют. Даже Йози не кашляет! — гневно сказала Нора. Она не любила неясностей, а Гольдберг всю неделю торчал в кабачке, как пьяный знак вопроса, а ответ высматривал там, где его заведомо быть не могло — на дне очередного стакана.
— Это хорошо, — загадочно сказал Гольдберг, узнав, что семья Кац и не думала кашлять. — Скажи, Нора, я мудак, прости меня за выражение?
При этом он обиженно покрутил носом.
— Ты поц, Давид Гольдберг, — сказала Нора, — Пьяный поц.
И за выражение не извинилась. Ей не нравилось, когда Гольдберг пил больше, чем надо.
— А я вот чувствую, что я мудак. Нора, ты веришь в предсказания?
Черные глаза Норы алчно вспыхнули — она почуяла свою любимую дичь. Тайну. Не ничтожный чужой секретик, погребенный под грудою грязного бельишка — это было для нее мелко. А говорить о таком было мелко для Гольдберга. То, что мучило его всю неделю, было настоящим — маленькие грязные секреты не грызут тебя, не сушат — а Гольдберг всю неделю безуспешно заливал в себе жар, огонь тайны, который палил его и проступал наружу — больным румянцем на щеках, дикими всполохами в глазах.
— В предсказания… — деланно равнодушным тоном произнесла она, — знаешь ли, зависит от того, кто предсказывает. Вон Берштейн предсказывает, что все подорожает, и я ему верю, конечно — потому что, действительно, все дорожает… А эта дурында Сара предсказывает, что Ривочка за Соломоном будет как за каменной стеной, и ей я, ясное дело, не верю, потому что, во-первых, Сарочка моя дура, а во-вторых, стоит только поглядеть на этого Соломона…
Дура-Сара была ее третьей дочерью, Ривочка — внучкой.
— Ай, замолчи! — Гольдберг замахал руками и затряс курчавыми патлами, словно осу от лица отгонял, — Я ведь совсем не про то! Я про предсказания…
— Вроде цыганских?
— Вроде, но не вроде… эти-то наврут с три короба, лишь бы ты им дал отвести от тебя порчу за соответствующую цену… Я про настоящие предсказания, понимаешь?
— Настоящие — это те, что сбываются?
— Это само собой, — гробовым голосом сказал Гольдберг, — но кроме того, настоящие — это те, которые не вовремя. И ничего не могут изменить. Настоящие предсказания — штука совершенно ненужная, потому что от них ни толку, ни покоя…
Нора уловила, к чему клонит Гольдберг. И не удивилась. Гольдберг всегда и выглядел, и вел себя так, что от него можно было ожидать чего угодно — по ее мнению, такой «может и глухонемого излечить, и лавку ночью ограбить». Кого-кого, а а уж ее не обманывали его темные, когда детские, а когда и бесовские глаза.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя открылся пророческий дар? — произнесла она с садистским сарказмом трезвого человека, внимающего пьяным бредням, — И в самом скором времени ты напялишь вретище и пойдешь по городу неправедному, предрекая ему огнь и град?
Гольдберг уловил насмешку и приподнял уголки губ в горестной полуулыбке — смейся, смейся.
— Я и сам чувствую себя дураком, — сказал он, — Я чувствую себя героем плохого романа с привидениями…
— Ты еще и привидений видел? Трезвитесь, братья…
— … или героем немецкой классики, которому однажды предложили продать душу…
— Фауст Гольдберг, можешь ли ты человеческим языком сказать, что…
— Дело в скрипке, Нора.
«Я так и знала».
Далее Гольдберг выпил еще — и речь его стала несвязной и страстной, хоть и звучала теперь тише. И то — не предназначено все это было ни для чьих посторонних ушей. А Нора искренне считала, что и для ее ушей это было явно лишним, ибо она не знала, верить Гольдбергу или нет. Верить было, мягко говоря, страшно… а не верить — трудно. Гольдберг и трезвым-то врать не умел.
— Это все воображение, — произнесла она неуверенно.
— Я уж как-нибудь разобрал бы, где мои фантазии, где нет, — окрысился Гольдберг, блеснув мелкими белыми зубами из-под вздернувшейся губы, — С чего бы мне такое воображать, а, Нора? Я что, всю жизнь зарился на твою постель? На его лавку?..
— Заткнись.
По словам Гольдберга выходило, что скрипочка действительно была с секретом, неясно кем, когда и как в нее впаянным: играя на ней, музыкант видел — это был миг, не больше — как привычная обстановка таяла, и возникали некие образы. Живые картины. Одной из них было видение Исаака Каца с чахоточными розами на щеках и кляксой крови в платке, только что отнятом от губ.
Нора любила своего длинного, тихого мужа. Любила его занятие — все эти старые вещи, говорящие на многих неслышных языках. Ей, как и ему, был внятен их еле слышный шепот — все они желали жить, и жить у достойных людей. И вполне заслуживали этого — ведь они были так красивы. Особенно те, которые с виду вовсе не радовали глаз — скорей удручали: и своей старостью, и своим упрямым стремленьем сохранить себя в пространстве, да, с этим вышедшим из моды обликом, с этими незримыми следами чьих-то прикосновений. Казалось, каждая вещь может, лишь попроси ее правильно, рассказать о прежних своих хозяевах.
И это был первый на памяти Норы случай, когда какая-то из вещей, найденных и проданных Кацем, оказалась… нехорошей. А бедный Гольдберг был Норе куда как дороже, чем другие покупатели Кацева старья… и потом, он не был покупателем. Скрипка была ему подарена — из самых добрых чувств — а получилось, выходит, какое-то «Дай вам Боже то, что нам негоже»… Этот подарочек отнял у Гольдберга душевный покой — никогда в жизни скрипач не пил неделю без просыху — и справедливо было, рассудила Нора, что досталось и ей.
Тот разговор так и кончился ничем. Нора ушла домой, Гольдберга довели до дома сердобольные соседи.
А через семь месяцев на Исаака Каца тихой сапой, словно из щели в полу просочилась, накинулась скоротечная чахотка. И права оказалась скрипка — были и багряные вянущие розы на белых щеках, и алые сгустки в платке…
После похорон Каца Нора не раз собиралась поговорить с Гольдбергом об окаянной скрипочке, но как-то не собралась. Да и скрипач, похоже, как-то сговорился с инструментом — во всяком случае, больше не вел никаких странных разговоров о нем.
1921-22. Дуэт скрипки и фортепиано. Бальдур
Годы — это люди. Вспоминая каждый год своей жизни, смотришь ему в лицо — и узнаешь давно ушедшего человека, которого ты тогда любил — или, может, ненавидел. Мать, отец, чумазый дворовый дружок, девочка-задавака с другой улицы…
21-й год — Гольдберги тогда еще жили в Мюнхене — остался в памяти Ронни с уродливым, острым, как бритва, лицом. Он ухмылялся ему, тускло блестя железными зубами Уве Франка.
Никто не помнит Уве Франка, да и не надо помнить. Кто он? Всего лишь взъерошенная призрачная гончая, летящая в авангарде дикой охоты. Те годы и были как дикая охота, что в стылую ночь несется над полумертвой от страха и мороза землей, затягивая в свою бешеную скачку всех, кто может отдать ей свое тепло.
Но тогда Ронни этого не понимал, и другие мальчики ничего не понимали, слишком уж были молоды.
Ронни было семнадцать, и он гордился тем, что Уве Франк, офицер и герой войны, беседует с ним как с равным.
Веймарская республика и Версальский мир, совокупившись, родили многих героев — сейчас их, пожалуй, скорей назвали б чудовищами.
С возрастом зрение не гаснет, а обостряется — глаза тускнеют, но просыпается душа. Во всяком случае, позже Ронни не увидел бы в Уве Франке, с его вечной яростью, шепелявостью и деревянным костылем, героя. Увидел бы озлобленного, искалеченного войной, обманутого человека. Их таких тогда было много, офицеров разбитой армии, и все они были одинаковы в своей ненависти к коммунизму, евреям, республике и напиткам слабее шнапса. Но мальчикам они нравились, потому что молодым всегда нравятся бунтари — а у них был их нелегальный «Черный рейхсвер», где каждый из пацанов хотел оказаться, они считали «Черный рейхсвер» чем-то вроде пиршественного зала в Асгарде.
Уве Франк был у черных одним из тех, кто отвечал за работу с молодежью. Это был хороший выбор. Его костыль и железные зубы внушали уважение, а глаза повергали в трепет. Это были презрительные очи человека, знающего правду обо всем, и о тебе в том числе.
Всех новичков, что только появлялись в его поле зрения, он обычно звал по прозвищам, которые придумывал сам. Ронни долго был у него Еврейчиком (и как же был счастлив, когда он произнес наконец: «Еврейчик — правильный парень, давай садись сюда, Рональд» и далее звал его по имени), Ганс — Рохлей, Роберт — Поросенком. Приходили все новые ребята, случались среди них и совсем сопляки 14-летние, строившие из себя 16-летних, но с Уве этот номер не проходил. Строить из себя у него было бесполезно. Хочешь быть взрослым — будь или убирайся к мамочке.
Не прогнал он только одного из этих щенков, которого сразу прозвал Дворянчиком. Все были удивлены, потому что Уве к тому же не доверял и парням из слишком уж хороших семей, звал их маменькиными сыночками. Среди его ребят был только один такой — Яльмар фон Гроф, который, дабы Уве не так часто вспоминал о его происхождении, стал настоящей оторвой. Кажется, за месяц он попортил фотографию пятнадцати коммунистам — ну и сам заработал шрамище во всю физиономию, страшно было смотреть. А уж разговаривал этот Яльмар, то и дело мешая в свою речь такие слова, каких, наверное, сам Уве не произносил, ловя на себе окопных вшей. Яльмар был свой в доску.
Этот новый паренек был совсем не такой. Вообще говоря, никто б не подумал, что ему всего 14 лет — он был высокий, выше того же Роберта, и лицо у него было слишком серьезным, чтоб выглядеть детским. Правда, смазливое, что да, то да. Белая кожа без всяких прыщиков, темно-голубые глаза, мягкие, словно у девчонки — точней, мягкими они становились, когда он не замечал, что на него смотрят. Светлые волосы, но не соломенного и не золотистого, а какого-то дымчатого оттенка. Одет он был не только недешево, но и вызывающе аккуратно для мальчика. Симпатичный паренек, и с виду — маменькин сынуля, как он есть… впрочем, так Ронни думал о нем со злости. Сам он хотел бы выглядеть как этот парень, а не как еврей (с оруженосцами, как называли себя его теперешние друзья, он почти забросил скрипку). Хотя он и слышал от маминых подруг, что отец его был красавец — его это совершенно не вдохновляло. Каждый день Ронни смотрел в зеркало — на свои вьющиеся черные волосы, карие глаза — и думал о том, что нет тут ничего красивого. Безжалостная амальгама являла ему не больше, ни меньше, чем тощего еврейского мальчишку с настороженным взглядом. Однако его обнадеживало, что ему Уве верил, а этому мальцу с его светлыми вихрами и синими глазами — пока еще нет. Во всяком случае, не до конца.
И Ронни всей душой хотел, чтоб он оказался маменькиным сынком.
Да вот как бы не так.
Во-первых, само его появление среди оруженосцев запомнилось всем, кто играл в тот вечер в футбол на пустыре за крупповским складом.
Это был, конечно, дворовый футбол — играли в тот раз четверо на четверо, и команда, в которой был Ронни вместе с Рихардом, Гансом и Рохлей, безнадежно проигрывала со счетом 2:8 команде Яльмара — там были Роберт-Поросенок и быстроногие конопатые близнецы Фриц и Франц. Поросенок стоял на воротах, толку от него, как знали все, было немного — но штука была в том, чтоб хотя бы пробиться к этим воротам… Верзила Яльмар и шустрые Фриц и Франц обеспечивали оборону без единой бреши…
Ронни поймал сердитый взгляд Рихарда. Шестнадцатилетний упрямец с пшеничным чубом ненавидел проигрывать и все чаще вылезал с Яльмаром один на один.
Никто поначалу не заметил незнакомого паренька, остановившегося неподалеку и с интересом наблюдающего за игрой.
В руках у него была большая коричневая папка. А сам он был в сером пиджачке и белоснежной сорочке, и даже с галстуком. В общем, один из тех, над кем презрительно посмеивается уличная шпана…
Рихард довыделывался — в яростной борьбе за мяч Яльмар случайно (а кто бы посмел сказать, что не случайно?) врезал не по мячу, а по его лодыжке. Рихард рухнул в пыль. Поднялся, попробовал наступить на ногу и опять со стоном сел на задницу…
Ронни помог ему дойти до бревен, служивших скамейками. Лодыжка посинела и пухла прямо на глазах, Рихард молча распустил шнуровку на высоком башмаке, в глазах его стояли злые слезы.
— Все, продули, — сказал он и выругался. Потом буркнул:
— Сигарета есть, Еврейчик?
— На, — сказал Ронни.
— Все, продули…
Рохля и Ганс скорбно посмотрели на синюю лодыжку Рихарда.
Яльмар меж тем с ухмылкой что-то говорил Фрицу и Францу, своим верным вассалам. Он даже не подошел взглянуть, что с Рихардом. И это вывело обычно тихого Ронни из себя.
— Доиграем, — сказал он.
— Трое на четверо? — сказал Рихард, — Рёхнулся ты…
Проигравшие часто чувствительны к взглядам, и потому Рихард вдруг обернулся:
— А ты чё тут болтаешься? Пшел вон!
Это было адресовано тому самому чужому аккуратному пареньку с кожаной папкой.
Он спокойно выдержал четыре неприязненных взгляда и сказал:
— Я же просто смотрю.
— Не фиг тебе тут смотреть, — рыкнул Рихард.
Но тот ни капли не смутился. Более того, проявил неслыханную наглость:
— А можно я с вами? Ты же, — извиняющийся взгляд на Рихарда, — теперь играть не можешь…
— Да мне пофигу, — ухмыльнулся Рихард, — Еврейчик, если вы из себя намерены дураков ломать, то бери этого.
Ронни с сомнением поглядел на чистенький костюм новобранца. А тот уже улыбался ему:
— Ну можно? Да?
— Играй, — процедил Ронни, — как звать-то?
— Бальдур…
— Ладно, пошли.
Бальдур швырнул на бревна папку и пиджак, стянул галстук, по локоть завернул рукава сорочки.
Команда соперников встретила пополнение во вражеском стане насмешливым свистом. Бальдур только улыбнулся…
Аутсайдеры не верили своим глазам. Чистюля просто преобразился, когда услышал первый глухой шлепок истерзанного мяча об утоптанную землю… Ронни вздрогнул, когда нечаянно столкнулся с Бальдуром и увидел, какие у него злющие, горящие глаза… Парень сражался на поле, как на фронте. Он не бегал — летал, а мячик был как маленький муштрованный пес, обретший наконец хозяина — он сам летел, катился, рвался к Бальдуру и послушно прилипал к его щиколотке… Парень отличался виртуозной обводкой, вскоре оказался один на один с Поросенком — и влепил в ворота из двух кривых столбов красивый, унизительный по своей элегантности гол…
Ронни заметил, как зло сплюнул Яльмар, но ему было плевать на это. Игра пошла. Вдвоем с новичком они довели счет до 7:8, а потом Яльмар опять случайно — ну и кто посмеет сказать, что не случайно? — вышиб злосчастный чумазый мячик на дорогу, где тот моментально испустил дух под колесами грузовика.
— Вот черт, — сказал он после этого, — Ладно, с меня новый.
На новичка он и не взглянул — а что было глядеть. После игры тот выглядел ничем не лучше всех остальных — в грязи по уши, волосы дыбом, мокрый лоб в черных разводах.
— Сигарету дайте кто-нибудь, — процедил Яльмар.
Фриц и Франц синхронно хлопнули себя по карманам и пожали плечами. Ронни выудил пачку, смял и выкинул, последнюю сигарету стрельнул у него Рихард. Остальные не курили, а у Рохли, который курил, в жизни своих сигарет не было.
Бальдур протянул Яльмару недавно початую пачку. Сигареты были пижонские, американские, дорогие, как черт — «Пэлл Мэлл». Яльмар сам курил такие. Впервые он сподобился пристально взглянуть на новичка, грязными пальцами вытягивая из пачки сигарету.
— Ничего играешь, — снисходительно обронил он, — Как звать?
— Бальдур.
— А полностью?
— Бальдур фон Ширах.
Ну это было ясно, подумал Ронни, что «фон». А Яльмар вдруг хлопнул парнишку по плечу:
— Мой Бог, да я твою маму знаю! Они с моей подруги! Ну, понял?
— Но, — замялся Бальдур, — у моей мамы много подруг, честное слово.
— Лотта фон Гроф.
— А! Так ты фон Гроф, понятно, — улыбнулся Бальдур, — Яльмар, да?
— Да, да.
Яльмар собирался ни с кем, кроме Бальдура, и не разговаривать сегодня, но тот неожиданно разрушил его планы.
— Ребята, а вас как зовут?..
Уве, который ничего этого не знал и которому до пацанских игр не было никакого дела, сразу же заставил оруженосцев устроить новичку дельную проверочку — и они устроили. Он не побоялся задирать красных на улице и влезть в заведомо неравную драку. Ну, разумеется, оруженосцы не дали им сильно его отколотить. Если б он трусил или хныкал — то просто ушли бы, и больше б он рядом с Франком не появился. Но паренек дрался, пока не свалили — пусть и случилось это очень быстро.
Стоило видеть его дорогой костюм после того, как он поцеловался с мостовой. А из носа и разбитой брови текли кровавые струйки, оставляя пятна на белом воротнике сорочки…
— Тебе дома не попадет? — поддел его Роберт, когда оруженосцы с триумфом возвращались.
— Попадет, наверно, — отозвался он совершенно равнодушно, словно его спросили не о родном доме, а о расписании поездов.
Вид у него был совершенно дикий, особенно рядом с этими парнями, которые выглядели уличными хулиганами, и тут — этот, в костюме с галстуком, промокающий белым платком кровавую юшку…
— Добро пожаловать в оруженосцы Черного рейхсвера, Бальдур.
Уве торжественно пожал ему руку, но паренек даже не улыбнулся.
Уве обвел ребят взглядом — и его острые, словно щепки, глаза впились в угрюмое лицо Ронни:
— Присмотришь за ним. Объяснишь, что к чему. А ты, — он перевел глаза на новичка, — не гляди, что наш Ронни еврейчик, прежде всего он — немец. Видал я на войне неплохих еврейских парней…
Ронни втайне обрадовался, что Уве поручил ему приглядывать за новичком.
Дело было в том, что Ронни, хоть вроде бы и считался у этих парней своим, все же был один. Никто особенно не стремился с ним подружиться — их папаши и мамаши успели внушить им неприязнь к евреям, как к некой хитрой и опасной силе, которая только и стремится отвоевать у них жизненное пространство — деньги, работу и белокурых девушек.
В парикмахерских Ронни просил, чтоб ему как можно короче стригли волосы — так, чтоб было незаметно, что они вьются, и был даже не против, чтоб кто-нибудь крепко дал ему в нос, чтоб навек изменить его форму…
Этот парнишка, Бальдур, был на два года моложе, и в Ронни боролись желание протянуть ему руку и подружиться с ним — и беспомощное пренебрежение («сопляк!»)
К тому же, Бальдур сразу выбил всех из колеи тем, что держался со всеми на равных. Другие малявки смотрели старшим оруженосцам в рот, а если и пытались вставать на одну с ними доску, то получалось у них это так, что сразу был виден недостаток годков и умишка.
С этим было не так. Он действительно казался взрослее своего возраста, этот Бальдур. А держался и вовсе как взрослый — вежливо, холодно, с достоинством. И ему это шло. Ронни подумал, что тут у такого сразу появится друг, а то и несколько — но он не торопился с этим. Даже Яльмар, на которого все новички смотрели восторженно, не производил на него должного впечатления.
— Знаю я эту семейку, — сказал Яльмар, когда оруженосцы однажды вечерком посиживали в пивной вместе с Франком, Бальдура и прочей мелюзги с ними не было, — Моя мать с его хорошо знакомы, она у нас часто бывает. Помню, ей чуть дурно не стало, когда она мой шрам увидела — «Как же так, Яльмар?» — «Да так, подрался, тетя Эмма» — «Ну что ж тут поделаешь… Мальчики должны драться…» Она американка. А папаша его — Карл фон Ширах — капитан, служил у кайзера, потом был директором театра. Старший парень у них застрелился в 18-м, я слышал, как тетя Эмма жаловалась моим, что с той поры и младший как с ума сошел…
Никто из парней не спросил, почему старший сын Ширахов застрелился. Это было не единственное самоубийство в позорном 18-м году.
Ронни и Бальдур клеили на улице плакаты.
Ронни пытался болтать, Бальдур отвечал, вежливо и вполне доброжелательно — он был очень воспитанный паренек и потому просто никак не понять было, как именно он к тебе относится.
— Ты один у родителей? — спросил Ронни. Рука Бальдура с кисточкой, только что сунутой в ведерко, дрогнула — и на штанах у него оказалась длинная белесая сопля мучного клейстера.
— Вот черт, — сказал он, пытаясь стереть соплю носовым платком, — Нет, у меня есть сестра. Розалинда. Страшная зануда. Слава Богу, ее отправляют учиться в Америку.
Про брата — ни слова.
— А ты где учишься?.. — Ронни участливо смотрел, как Бальдур размазывает по штанам белесую липкую дрянь.
— В гимназии, — ответил Бальдур, — Ронни, а ты откуда такой?.. Кто твои родители?
— Мать — учительница. А отец…
В кабачке полутемно и шумно. Тихий гул разговоров. Все они смолкают тогда, когда из освещенного сильной лампой угла начинает звучать скрипка. И все смотрят на музыканта — его худая фигура вытягивается, он выглядит как человек, приманивший птицу счастья — и она не дрожит подобно всем птахам, которых сжимают грубые руки человека, она поет в его руках.
За маленьким столиком в углу сидят красивая женщина и маленький кудрявый мальчик. Оба не сводят с музыканта полных гордости глаз.
…ничего нам не оставил, кроме старой скрипки.
— Ты не играешь?.. — с внезапным интересом спросил Бальдур.
— Играл… отец учил, на другой, поменьше — когда мне было 5 лет. Но та давно сломалась. А эту, что осталась, я брал в руки раза два или три, — ответил Ронни, внутренне содрогнувшись — ему вспомнились те картинки..
— Ты просто не любишь музыку? Да?
— А что ты спрашиваешь-то?
— Я тоже играю. Правда, на рояле. Но на скрипке тоже немножко умею.
— Правда? — Ронни посмотрел на Бальдура удивленно, а потом подумал — что ж в том удивительного, что сына театрального директора учили музыке? Странно было б, если б его учили, к примеру, боксу…
— И тебе нравится?
— Очень, — чистосердечно ответил Бальдур, — Когда я играю, я… просто не здесь. Меня словно на крылышках уносит…
Он смутился своей неуместной среди оруженосцев откровенности и смолк. И Ронни не знал, как показать ему, что ему эта откровенность приятна по меньшей мере так, как евреям под водительством Моисея приятно было уйти наконец из пустыни…
— Слушай, — сказал Бальдур, его ледяная взрослая маска растаяла от его улыбки, — Ронни, я б хотел послушать, как ты играешь, честное слово.
— Чего? — буркнул Ронни, зардевшись, — Ладно тебе, я толком и не учился…
— А, никто толком не учился. Меня с четырех лет музыке учили — думаешь, я все положенное время за роялем сидел? Вот еще! На черта мне это было, мне было интересней с братом гулять… Играть мне стало нравиться лет в… — Бальдур запнулся, — в одиннадцать.
— Почему? — тихо спросил Ронни.
Бальдур достал сигареты, но в пачке болталась всего одна.
— Ронни, бери.
— А ты?
— Да ладно.
— Тогда на двоих.
Они присели на каменный парапетик вокруг палисадника. И пока Ронни курил, Бальдур смотрел куда-то пустыми глазами.
— Держи.
— Ага.
Бальдур затянулся, видно было, что он вообще-то не курит.
— Понимаешь, — сказал он, — когда мне было одиннадцать, мой брат… умер. Я в школе тогда учился, в Тюрингии. И он мне в письме писал — «играй, не смей бросать». Потом умер он… застрелился. Я и не бросил играть… не мог. Мне казалось, что когда я играю, он меня слышит… И потому мне нравилось играть. Я ему играл, я даже выучил то, что он любил больше всего. Ронни, понимаешь, брат у меня был — класс, я, наверное, до сих пор не могу полностью понять, что его уже нет.
Бальдур бросил тлеющий окурок.
— Ты ребятам не рассказывай, ладно? — попросил он, и Ронни чуть не обиделся на то, что о нем так плохо думают.
— Что ты, — буркнул он с досадой, — нашим только про это и рассказывать…
— И все равно я хочу послушать, как ты играешь.
— Да ты рёхнулся. Да мой отец, он всю жизнь по-кабацки играл, и меня так учил. Что это за музыка… тоже мне. Ты-то небось Бетховена с Моцартом играешь.
— Бог ты мой, — усмехнулся Бальдур, — ну, играю. А ты знаешь, что Моцарт — это тоже уличная музыка? Да. Ее — при его жизни — на улицах свистели и по кабакам играли.
Ронни долго молчал, а потом вдруг усмехнулся, пробормотав «этот гой».
— Чего-чего?..
— Да ничего, я вспомнил, как одна старуха хотела, чтоб на ее похоронах играл я, а не Моцарт.
— Странная однако старуха.
— Очень странная. На самом деле, веселая бабка. И… не играл я у нее на похоронах.
— Почему? Тебя Моцарту предпочли, а ты…
— Да она жива еще…
Прохожие с недоумением и некоторым осуждением смотрели на двух хохочущих мальчишек, один из которых был явно из хорошей семьи, а другой, столь же явно, представлял из себя классический вариант уличной шпаны, да еще и с еврейским носом.
— Ладно, — сказал Бальдур, когда отсмеялся, — вообще-то мы живем в Веймаре, но тут у нас куча родственников. В частности, одна моя ненормальная тетя считает, что у нее тут музыкальный салон. Пойдем покажу, где живет. А завтра вечером к семи приходи, скрипку не забудь.
Ронни отвернулся, махнул рукой.
— Да нет, я не про то, Ронни, играть им всем тебя никто не просит! Там комнат куча, и чуть не в каждой — по роялю, — усмехнулся Бальдур, — мы с тобой куда-нибудь влезем и посидим спокойно… захочешь — поиграешь, но главное — приходи!
— К черту, — сказал Ронни угрюмо.
И вот тут-то в первый раз, как Ронни понял потом, он увидел, как Бальдур умеет добиваться своего.
Тот просто посмотрел на него и серьезно, грустно сказал:
— Ронни, приходи, пожалуйста. Я один там чокнусь среди этого меломанского старичья.
И Ронни понял, что не принять приглашения не сможет.
Хотя что мне там делать, думал он, ЧТО мне делать, нищему еврейскому щенку, в салоне Деборы Н.? Да мне и пойти не в чем, впрочем, это неважно, поскольку швейцар заметит мне, что надо бы с черного хода, а вообще — лучше и не надо бы.
И лучше б он не говорил об этом матери…
— Ронни, сынок, там будут такие люди, может, кто поможет тебе устроиться в какой оркестр, — бестолково стонала Анна Гольдберг, — да что значит — не в чем идти? Это тебе не в чем, потому что ты ничего не заработал, и мать тебе не нужна, это понятно, но тем не менее, твоя мать знает, где висит костюм, в котором ты пойдешь, я не скажу, что это прямо-таки модно, но это прилично…
Немодным и якобы приличным оказался один из двух костюмов Гольдберга, в одном он ушел, а второй так и болтался на вешалке все эти годы.
Облекшись в этот несчастный, уставший костюм, Ронни еще до зеркала понял, на кого он похож. На того же, на кого походил и до этого. На нищего еврея — то бишь, на чудо природы…
Но он покорно, словно рядом стоял Бальдур, выбрел из дома с отцовской скрипкой в футляре.
… Но вышло все по его отчаянно-безнадежному заказу: не дав ему смутиться от богатства и брезгливого внимания, Бальдур — отглаженный, благоухающий дорогим парфюмом, стреляющий шаловливо-сияющими глазами Бальдур моментально уволок его куда обещал — в лабиринт каких-то комнат, среди коих случилась одна, маленькая и тусклая, но… с роялем, как Бальдур и говорил. Кроме рояля, были там пара кресел и газетный столик.
— Погоди-ка!
Бальдур убежал, оставив Ронни в тихом ужасе, вызванном возможностью чьего-нибудь случайного прихода… Ну что я здесь делаю, а?!
Когда дверь шумно открылась, он вздрогнул, но это оказался по счастью Бальдур — с каким-то невообразимым подносом. Из горы фруктов, наваленных на этот поднос, двумя осажденными башнями обреченно торчали горлышки бутылок…
— Бальдур, а разве ты… Тебя там… не ищут? — спрашивал порозовевший от вина Ронни полчаса спустя. Лацканы гольдбергского костюма пахли апельсиновым соком, который капал на них, когда безответственный оккупант пожирал фрукты. Бальдур давно скинул пиджак, оставшись в жилете, а Ронни не знал, прилично ли это — снять пиджак, если жилета нет.
— Нет, — беззаботно отозвался Бальдур, тоже розовый, но нежнее, чем смугловатый Ронни, — Я, когда шел с кухни вот с этим со всем, слышал, как моя кузина, черт бы ее взял, дуру тощую, спросила у тетки — а где Бальдур? А та молодец, ответила, что «к Бальдуру пришел его приятель». И тут кто-то там, не знаю, добавил — «И правильно, ну что молодежи тут с нами скучать! Пусть развлекаются, как им хочется!» Эхх, — Бальдур звонко чокнулся фужером с горлышком бутылки, — бедная моя кузина! Это ж, собственно, и к ней относилось, ей же шестнадцать лет, но она, дурища, никому не нужна, даже подруг нет в школе…
— А, — поймал Ронни знакомую ноту, — у нас там одна тоже есть… рядом живет, Мария зовут. Тоже странная какая-то, с ней и не дружит никто.
— Красивая хоть? — спросил Бальдур.
— Она, что ли? — Ронни задумался. И вдруг удивился, потому что видел Марию сегодня, но не заметил ничего… А теперь вспомнил — и удивился! Она же ничего девчонка стала, это раньше ее было не видать, как блоху, но теперь… Она же стройная, и черные волосы, богатые, как некоторые ткани — так и хочется коснуться… И вместо двух чернильных клякс появилось лицо — девичье большеглазое лицо, которое выглядит как дорогущая ваза тончайшего стекла — смотреть неловко, а про то, чтоб коснуться, и подумать страшно…
— Ронни!
— А, да. Красивая.
— Ты с ней дружишь? — вдруг спросил Бальдур, лицо у него было растерянное, в кои-то веки.
— Я? С Блохой?! — искренне возмутился Ронни, — Да ну ее…
Бальдур смотрел на него — и в первый раз в жизни Ронни стало неуютно под этим взглядом, потому что взгляд был пьяный, блестящий, добрый… но тревожный какой-то, Бальдур то и дело отводил глаза.
— Ты что? — спросил он.
— Ничего, — с искренним недоумением отозвался Бальдур, — Слушай, а сыграй мне, а?
Ронни был пьяноват, другие комнаты тихонько гудели от музыки и голосов, и это было как… при отце. Празднично так…
Ронни щелкнул замочками футляра.
— Не бойся, играй, — сказал Бальдур, — там и не услышат ничего, а дальше этой комнаты — выход на террасу, на ней курят, дела никому нет…
Мог бы и не говорить. Ронни и сам хотел поиграть.
Он играл, не видя, какими странными глазами глядит на него Бальдур. А веселые мелодии вдруг грустнели, а потом снова смеялись…
Картинок не было.
Ронни опустил смычок.
Бальдур сидел в кресле, закинув ногу на подлокотник, сидел так спокойно — если б не руки, которые продавали его с головой. Пальцы были стиснуты, связаны в гордиев узел… Ронни не успел спросить, в чем дело, когда распахнулась дверь.
Вошедший мужчина был огромного роста, худой, и вид у него был такой, что он-то плевал и плюет на все манеры и этикеты, причем ему-то никто не посмеет ни слова сказать. Резкое некрасивое лицо еще больше портили крепко сжатые челюсти и презрительно напряженные губы. Но серые глаза имели неожиданно спокойное, даже кроткое выражение. Глаза ангела на лице вредного беса.
Бальдур моментально вскочил. Ронни и так стоял, а впрочем, как он подумал сразу, до него тут и дела никому не было.
Он ошибался.
Мужчина заговорил с Бальдуром по-английски, Ронни английского не знал. Чуть позже Бальдур пересказал ему все это, и Ронни ушам не поверил.
А зря.
— Бальдур, да?
— Бальдур фон Ширах, сэр.
— Кто сейчас играл на скрипке?
— Мой друг, сэр.
— Имя.
— Рональд Гольдберг, сэр.
— Гольдберг… черт, где-то я это слышал… а может, и не слышал, не помню ни черта. Бальдур!
— Да, сэр.
— Дай парню мою визитку, пусть придет, если хочет.
— Да, сэр.
— Надеюсь, что увижу его, действительно. Надеюсь, смогу ему чем-нибудь помочь. Среди тех, кто толчется здесь и мучает инструменты, неясно почему полагая себя музыкантами, он — единственный, кто может рассчитывать на музыкальное будущее. Парень играл старенькие мелодии, но импровизировал на их основе, словно еврейский Аполлон. Давненько я не слышал таких вариаций в таком своеобразном исполнении…
— Сэр…
— Да.
— А я, — самолюбивый Бальдур не мог не задать этого вопроса, — я играю очень плохо, да?
— Ты неплохо кокетничаешь, — ответили ему безжалостно, — но играешь плохо. Нет, это совсем не плохо — для салонов и маленьких концертных залов. Но для больших… Если будешь больше заниматься, появится виртуозность. Но зачем она тебе? Ты все равно не можешь играть так, чтоб сердца бились чаще.
— Неужели это ясно заранее?!
— Это ясно, Бальдур, с первого серьезного произведения, сыгранного учеником. Твое призвание в чем-то другом, но только не в музыке. Вот твой дружок — забыл, как его — да, должен посвятить себя музыке, это дар. Техника у него чудовищная, но пока это ему не мешает… да и не будет мешать никогда, этот справится с чем угодно. Не забудь отдать визитку.
— Да, сэр…
Дверь закрылась.
Конечно, Бальдур не пересказал Ронни ту часть разговора, которая касалась уже не Ронни, а его самого.
— Да кто это? — спросил Ронни.
Бальдур с некоторым удивлением — как можно не знать! — ответил:
— Эрнст Ханфштенгль…
— Чтоооо?!
— Что слышал… Ну, говорю же тебе — это он. Пуци[1]. На, — Бальдур сунул в руку Ронни визитную карточку. Ронни машинально прочел надпись на ней, и глаза у него вылезли на лоб, потому что написано было, очевидно, шутки ради, не только имя, но и прозвище.
— Почему, — спросил Ронни, — его прозвали Пуци? Ты знаешь, Бальдур?
— За то, что неряха. Нет, не в том смысле, что сорочек не меняет, а в том, что постоянно умудряется посадить на себя пятно даже в том случае, если обвязан салфеткой…
Ронни никогда в жизни не осмелился бы прийти по адресу, указанному на визитке. Сидеть с Бальдуром в Богом забытой комнатушке — это было одно, а являться пред ясны очи Пуци Ханфштенгля — это совсем другое. Пуци был не просто видной фигурой в артистической жизни Мюнхена — он был настоящей звездой. Миллионер, владелец процветающего издательского дела был желанным гостем в каждом уважающем себя светском салоне по двум причинам. Славу Пуци создали два его таланта — виртуозная игра на рояле и убийственное остроумие.
Нет, Ронни не собирался тащиться к нему в своем обтрепанном гольдберговском костюме. Но это было неважно, совсем неважно. Важно было лишь то, что Пуци сказал о его игре…
Яльмар фон Гроф единственный из ребят сторонился Бальдура фон Шираха, и рот его с выступающей нижней губой невольно кривился от презрения и отчаяния. Яльмар чувствовал, что смазливый малец вот-вот почти без усилий узурпирует его незримый трон, на котором он, Яльмар, всегда восседал на любом сборище оруженосцев по праву главного сорвиголовы. Но оказалось, что метелить коммунистов и коммунят на улице — это еще не все.
Бальдур много читал, Бальдур знал все на свете и мог все на свете объяснить. Бальдур интересно рассказывал, Бальдур философствовал, Бальдура слушали и поддерживали. Малец бесил Яльмара, когда уверенно рассуждал о национал-социалистическом будущем Германии, рассуждал так, что даже Уве Франк внимательно слушал и кивал лохматой головой. Кроме того, пацаны тянулись к Бальдуру потому, что он вел себя не как вожак мальчишек, а как старший их брат — никогда он, подобно Яльмару, не окорачивал никого командным тоном, не доказывал ничего кулаками, он просто подходил и смотрел тебе в глаза мягко и с участием, гася в зародыше любое желание затеять ссору.
Ронни наблюдал за Яльмаром, он опасался этого неуемного и самолюбивого драчуна и слишком любил Бальдура, чтоб не ощущать тех колющих болезненных токов, что прямо-таки били от Яльмара, когда Бальдур снова и снова оказывался в центре внимания. Яльмар пульсировал, словно нарыв, налитый ядовитым гноем зависти.
На пьянке в неуютной холостяцкой квартире Уве Франка нарыв прорвался.
Уве сам был пьяницей — он полагал уменье пить одной из непременных составляющих мужественности, даром что сам из-за постоянного злоупотребления алкоголем пить уже совершенно не мог — ему хватало стакана шнапса, чтоб погрузиться в сон, по сладости и длительности подобный вечному покою. Старшие оруженосцы порой собирались в его неухоженной квартире, дабы спокойно напиться — тут было нечего опасаться ни родителей, ни полиции, ни коммунистов, ни общественного мнения. Тем более что единственный цензор — Уве — вырубался быстрее всех, после чего препровождался под жилисты рученьки на свою койку и заводил там в две дырочки «Дойчлянд, Дойчлянд юбер аллес» с удивительно нежным подсвистом.
Ронни почти никогда не принимал участия в этих мальчишеских загулах, но в этот раз пришлось — потому что Бальдур достиг среди пацанов уже такой степени влияния, что пренебрежение общими развлечениями могло повредить его авторитету, он ведь и так был одним из самых младших… Нутром почувствовав это, Бальдур заявил, что «неплохо было бы выпить», а Ронни, разумеется, счел долгом его сопровождать.
Ронни видел, что Бальдур старается не налегать на спиртное. Несколько выпитых глотков шнапса одарили его необычайным красноречием, чем он и пользовался вовсю. Его слушали, с ним пытались спорить, он с удовольствием отвечал, блестя чуть затуманенными синими глазами, щеки у него нежно горели, и ему, кажется, нравилось сидеть в центре всеобщего оживления.
Один лишь Яльмар не принимал в споре никакого участия, он сидел в сторонке и мрачно косился на товарищей.
— Но евреи, — орал пьяный Рохля, у которого под влиянием шнапса пропадала неуверенность, — сосут нашу кровь! А в то же время в нашей организации есть евреи!
У Ронни кровь прилила к щекам.
— Ты путаешь евреев и евреев, — отвечал Бальдур, — Разве нет немцев, которые слабы, трусливы, думают лишь о собственной шкуре и не принимают национал-социализма?! Есть, Ганс! Также есть среди евреев и те, которые не принимают своего еврейства — и могут быть нашими товарищами… Скажи мне, чем плох еврей, если он не поступает как еврей? Мыслит не как еврей?.. Если он мыслит и поступает как немец, как патриот — поэтому он с нами, а не сидит у себя в лавочке, трясясь за выручку, — какие у тебя могут быть к нему претензии? Чем тебе плох Рональд Гольдберг, к примеру?
— Ясно, чем он неплох тебе, — раздался вдруг хрипловатый голос Яльмара, — тебе плевать на то, что он еврей, потому что он смотрит тебе в рот. Правда, Ширах?..
— Глупости!
— Нет-нет. Только что ты сам сказал, что тебе безразлично, есть ли среди оруженосцев евреи! Доболтался, милок!
У Бальдура вспыхнули щеки. Яльмар выбил его из колеи простейшим запрещенным приемом полемиста — подменой тезиса, извечной уловкой демагогов. Но Бальдур был умненьким молодым парнишкой, а не искушенным спорщиком, а потому сразу поверил, что его слова прозвучали для чужого слуха именно так…
— Я совсем не то…
— Помолчи. — Яльмар улыбнулся остальным, и все с готовностью устремили на него глаза, — Не знаю, как вам всем, но мне — понятно, почему Ширах допускает столь широкое толкование еврейского вопроса. Потому, что сам он — не чистокровный немец. Ты же наполовину американец, Ширах, хоть и строишь из себя баварского дворянина… Разве не так?
— Какое это имеет значение?..
— Имеет. Для тех, кто является ЧИСТОКРОВНЫМИ немцами.
Ронни понял, что это уже не спор.
— Яльмар, — сказал он, поднявшись, — ты возражаешь против моего присутствия среди вас?
— Пока не возражаю, — Яльмар одарил его кривой улыбкой, — Пока. До тех пор, пока не проявилась твоя подлинная сущность.
Он говорил так спокойно и лучился такой сдержанной, но тем не менее страшной силой, что все, кроме, может быть, Бальдура, сникли и молча уставились в свои стаканы. Шрам на лице Яльмара был багровым.
— Ладно, — сказал Яльмар, — Ширах, вечно ты не дашь никому отдохнуть со своей болтовней. Мы собирались спокойно выпить, если тебе это неизвестно…
Все с облегчением вздохнули — все, кроме Ронни, который решил больше не пить, потому что Яльмар, который рассказывал теперь пошлый анекдот, все еще внушал ему опасение. И не зря. «Он не простит мне — ничего. Если я сделаю что-то, что ему не понравится», — подумал Ронни.
И именно из-за этого впоследствии вспоминал тот вечер с чувством дикого стыда. Ибо Яльмар своим поведением, можно сказать, вынудил его поступить именно таким образом, какой приписывала евреям нацистская пропаганда. «Склонность к предательству»… Бальдур, я предал тебя в тот вечер. Из трусости.
Все было отлично — даже Ронни уже поверил в то, что все будет хорошо, даже Бальдур рассказал несколько смешных историй… а потом настал тот момент, когда все благополучно уплывают куда-то — а когда приплывают обратно, сразу нужно что-то такое… этакое.
— Эхх, хорошо, — сказал Яльмар.
— Угу.
— Ага.
— Только девочек не хватает…
— Ага.
— Угу.
— Хотя почему не хватает… — сказал Яльмар, а множество мутных глаз смотрело на него, — Вон Ширах у нас ничем не хуже девчонки… Всё с Гольдбергом гуляет. Эй, Ронни? Ширах у нас мальчик или девочка?..
Бальдур порозовел, Ронни промолчал, он сидел в углу и сейчас не хотел, чтоб на него смотрели.
— Он у нас красивый, как девочка, и ведет себя, как девочка, — продолжал Яльмар, — вы посмотрите, он же просто девчонка!.. Ширах, у тебя там все, как положено?..
— Ты сомнева… — Бальдур.
— Давай проверим? Ребят, держите его.
Парни рады новой забаве — Роберт и Рихард хватают Бальдура за руки, миг — и он уже лежит на полу и, беспомощно дергаясь, пытается вырваться. Фриц и Франц по немому приказу Яльмара вцепляются ему в лодыжки, чтоб не брыкался. Ронни курит, делая вид, что происходящее — шутка, просто шутка, которая его не касается.
— Ребята, вы что?.. Ребята!..
— Заткнись, — цедит Яльмар, — ничего плохого мы тебе не сделаем. Просто посмотрим, парень ты у нас или притворяешься…
Он с ухмылкой поглаживает дергающегося мальчишку по этому месту, и его ухмылка становится шире:
— У тебя же стоит!.. Так и знал. Ах ты маленький педик!..
Стоит, с немой яростью думает Ронни, у него стоит. Можно подумать, что у тебя — не стоит. И у этих. То-то такие ухмылки дурацкие…
Бальдур уже не дергается. По его покрасневшему лицу катятся слезы.
— Вполне сойдешь за девочку, — усмехается Яльмар, — дырка у тебя тоже есть… Ну-ка, парни, переверните его, щас будем развлекаться…
Что же это, думает Ронни, а они-то что — с ума сошли?.. Слушают его и ухмыляются, красные, растерянные, с моментально поглупевшими глазами… Парни, вы что? Отпустите его, не трогайте! Нельзя же так!
Бальдур опять дергается, да так, что его с трудом удерживают четверо сильных парней — но все-таки, конечно, удерживают. Они выполнили приказ — теперь Бальдур лежит на животе. Не орет — куда уж орать, стыдно же — просто плачет, закусив губы, молоденький паренек, который уж никак не ожидал от своих друзей такого. Какого?.. Вот этого — что его разложат в форме X на полу и будут смотреть, как его лапает старший парень, да с издевочками…
— Ну что, всунуть тебе? А?.. Небось понравится…
— Не надо!.. Нееет! Ну вы что, ну вы… Отпустите!!!
Бальдур дергается и рыдает в голос, как он сейчас не похож на себя — аккуратного, красивого… И что несется из его уст — подумать невозможно, что он знает такие слова… Он орет:
— Сволочи, говно, шпана дешевая, сявки поганые!!!
Неясно почему держащие его руки разжимают хватку. Бальдур моментально вскакивает и приводит одежду в порядок, ВСЮ одежду, даже сбитый галстук… он стоит и смотрит на Яльмара, красный, взъерошенный, часто дышащий, с блестящими от слез щеками. И пьяный семнадцатилетний верзила со шрамом на морде невольно пятится, отступает на шаг под взглядом пятнадцатилетнего мальчишки, смертельно оскорбленного и готового сейчас — убить.
Молчание. И страх влезть между этими двумя — нельзя, нет, ни за что.
— Подонок, — произносит наконец Бальдур, — За это на дуэль вызывают…
Яльмар молчит, багровый, страшный, даже шрам на его лице кажется теперь белым.
— Что, — спрашивает Бальдур, — стреляться будем?..
Молчание, молчание, молчание. Юные наци не смеют встрять в этот разговор. Юные наци, не признающие сословных границ…
Яльмар опускает глаза. ЯЛЬМАР!! Боец и победитель!.. Как так? Или он просто знает, что сопляк фон Ширах с одного выстрела вобьет муху в стену? Впрочем, откуда ему это знать?
— Ты что, — говорит Яльмар тяжким скучным тоном взрослого, — чокнулся?
— Извинись.
— Ну, извини… Бальдур. Надо ж, какой ты псих.
— Прощаю. Забыли.
По лицу Бальдура Ронни видит, что «забыли» — ложь. Бальдуру никогда не забыть, как его разложили на полу под возбужденное хихиканье…
А еще видит он, что парни поняли — Яльмар струсил.
Антракт. 1924. Эдди
Эдмунд Хайнес, или, как звали его приятели по СА[2], Эдди, выглядел человеком, у которого нет никаких секретов. Глаза у него были зеленые и ясные до прозрачности, как у фарфоровой куклы. Он был красив. У него была некрасивая привычка чуть-чуть приподнимать брови, отчего лицо казалось удивленным и глуповатым.
Его все любили. Он казался рубахой-парнем, который мухи не обидит — если не выводить его из себя, конечно.
Тем не менее, у него были два секрета, и хранил он их свято — не из страха, а потому, что больше ничего ценного в его жизни не было.
У него были фрау Марта и записная книжка. Одно привело к другому — фрау Марта вызвала к жизни эти короткие записи, хотя успела к тому времени исчезнуть. Навсегда, но не безвозвратно. Она умела возвращаться.
«Я стал записывать всё это с одной целью — это хорошо помогает потом, когда остаешься один. А мне суждено много раз оставаться одному, пока еще у нас не женят мужчин на мужчинах. Да и тогда, думаю, никто бы не задержался у меня надолго. Зачем? Мне нравятся парнишки помоложе — и что мне делать с такими, если не спать? Выслушивать их глупости? Следить, чтоб не напивались до полусмерти? Вытирать им носик и собирать портфель?.. Преувеличиваю, конечно, мне нравятся молодые, но не настолько. И все же. Приходится быть осторожным. Эрни не раз предупреждал — Эдди, смотри, парень ты хороший, но неприятностей мне не надо. Тут тебе не Силезия. А что Силезия? Можно подумать, в Силезии я только и знал, что бегать за щенками, что еще бриться не начали…»
Нет. Тогда он был слишком молод. И искренне полагал, что встретит какую-нибудь девчонку и, может, женится. Но на фронте это выветрилось у него из головы — навсегда. После знакомства с фрау Мартой.
«А Эрни сам такой же — только ему совершенно все равно, кому сунуть. Думаю, он и Гинденбургу всобачил бы. Да и потом, с его драным рылом только и приставать к молоденьким и смазливеньким… Хотя мужик он что надо. Уважаю. И больше не лезет ко мне — хотя один разок у нас с ним было. По пьяни. Но это не по мне — задницу подставлять, я сам совать предпочитаю. Он понял меня.»
На самом деле фрау Марту звали Мартином, и он служил вместе с Эдди, и ему тоже было восемнадцать. Эдди часто пытался вспомнить, какое у него… у нее было лицо — и не мог: фрау Марта — это же не лицо, это кривая антрацитовая челка до переносицы да широченная улыбка, прямо клавишки малюсенького рояля — без минорных черных, зубы у Марты были как на подбор…
Мартин-Марта был хороший, добрый паренек, просто у него не все было в порядке с головой. Он всегда молчал и почти всегда улыбался, и сержант Хайнес, к которому это чудушко угодило под начало, сперва не знал, что с ним делать, спасибо, другие ребята, что знали уже, что к чему, научили. А делать Мартин мог что угодно. Вообще. Мог без признаков недовольства чистить картошку хоть на всю армию. Мог стирать всем белье — только ему надо было объяснить, что надо не достирать вот эту рубашку до белизны, которой она вообще никогда не отличалась — а просто прополоскать все рубашки, что навалены в корзину.
Зато на аккордеоне он играл так, что… да сыграли б мы так, которые с мозгами-то!
Сержант Хайнес, которого прислали сюда заменить убитого сержанта Бэкера, целую неделю не знал, для чего тут фрау Марта на самом деле, пока не заметил, что парни куда-то шляются по ночам. Проследил. Потемнело в глазах, хотя и так было темно, поздняя ночь.
Чуть уйти в лесочек — обнаружилась поляночка. На поляночке этой было расстелено старое одеяло, а на одеяле лежал рядовой Мартин. К., совершенно голый, и на этого-то рядового на глазах Эдди поочередно ложились остальные ребята. Они часто дышали, рычали, стонали. Мартин не издавал ни звука. Вставая, ребята хлопали его по плоской заднице и говорили: «Спасибо, фрау Марта». Это был почти обряд.
Утром красноглазый Эдди спросил у красноглазого приятеля, что это такое было.
— А, Марта. Забудь. Или, если хочешь, тоже выеби. Ему нравится, он же дурачок. Как взяли в часть, так он сперва улыбался всем, как обычно он улыбается — а потом ребят в бане за хуи лапать начал… Дурак совсем. Ему, кроме этого, ничего не надо. Вот и пользуют, как девку — ему нравится. Думаю, не только наши, а и с соседней роты к нему бегают… Не бойся, он правда дурак, он слова-то знает только те, что по службе положено… А когда бабы нет — лучше ничего и не придумаешь…
Эдди поскрипел зубами — и в следующую ночь отправился к фрау Марте, чуть стемнело. Ее еще никто не успел трахнуть, а, завидев сержанта, и не какого-то там, а Хайнеса, рядовые сразу убрались в кусты. Может, там и остались, Эдди было не до того. Первым делом он улегся на худое, угловатое, почти мальчишеское тело и неплохо попрыгал на нем. Потом — не ушел, как все остальные, очень уж любопытно было. Заставил перевернуться, убрал с глаз парня отросшую челку.
— Ты что, — спросил Эдди первым делом, — совсем дурак?
— А?
— Я спрашиваю, на хуя ты всем даешь?
— Чего?..
В темноте Эдди почти не видел выражения лица парня, видел лишь, что тот вдруг улыбнулся ему. О Господи, действительно идиот.
— Ладно… спасибо тебе. У меня тут яйца уже распухли, — пробормотал Эдди и дернул парня за челку. А тот… тот вдруг приподнялся и неловко ткнулся губами в небритый подбородок Эдди.
С той ночи Марта необъяснимо и бесяще начала липнуть к нему, куда б он ни шел и что б ни делал. Словно тень. Эдди искоса поглядывал на черную челку над глубокими темными глазами… и каждую ночь шел к Марте, как заговоренный. А однажды даже тихонько сказал парням:
— Я все понимаю, ребята, но смотрите сами за собой. Какая скотина его чем-нибудь заразит, пусть после этого своими руками застрелится. А то пристрелю и родным напишу «пал смертью храбрых за кайзера».
Эдди понятия не имел, откуда сможет узнать, какая скотина это сделала, но понял, что до ребят дошло. Хайнеса боялись. Боялись его прозрачных зеленых глаз…
А Марта… Мартин всегда почему-то радовался, тихо, как он только и умел, если к нему приходил Эдди. И даже взял его однажды за руку, пожал тихонько.
А потом Марту убили. И у Эдди поползла слеза из уголка правого глаза, щекотно и горячо, когда он увидел откинутую челку и жалобно глядящие в небо темные глаза. Он же, думал Эдди, был дурачок совсем. Не знал, за что сражается, не знал, за что умрет. Только одно и мог — помогать парням, стосковавшимся по бабам. Зачем, почему его?..
Вернувшись с фронта, Эдди с удивлением заметил, что его больше не волнуют развевающиеся на ветру юбчонки, локоны и крашеные губки. А вот если пробежит мимо худенький парнишка годков 16–18, легкой походочкой фрау Марты (та ходила так, словно под ней трава не мнется)… готово.
Что ж. Как сказал Эрни Рём, вообще это совершенно естественно, если брать историю. Эдди истории не знал. Но сознание того, что он такой на свете не один, очень ему помогло.
Эдди заметил его сразу. Он слишком выделялся в толпе детишек «Черного рейхсвера», толпившихся на митинге и делающих вид, что они готовы разорвать в клочки любого затесавшегося сюда коммуниста. И выделялся как-то вызывающе выгодно. Белый голубок в стае серых. Костюмчик на нем был неприметный — страшно даже представить, сколько стоила такая нежно-серая неприметность. И покрой пиджака был последний американский. Уж Эдди-то знал, он не ходил в рестораны в форменной рубахе и вообще любил хорошо одеться. Впрочем, подумал Эдди, такого хоть запакуй в мешок из-под картошки, все равно будет ясно, что это паренек голубых кровей, почему-то одетый в мешок из-под картошки…
Этот парнишка был с ребятами Франка, поэтому Эдди несколько удивился. Франк ни в грош не ставил ребят из хороших семей — все больше собирал по подворотням хулиганье из рабочих кварталов. А этот малый, по всей видимости, не только не чувствовал себя чужим и лишним в такой компании, но и давным-давно подмял ее под себя. Во всяком случае, когда он начинал что-то говорить, остальные умолкали и слушали (Франка-то с ними вообще не было — наверняка уже сидел и жрал где-нибудь шнапс, хлопая по плечу какого-нибудь случайно встреченного однополчанина).
«Не могу точно сказать, чем меня зацепил этот паренек. Вообще я никогда не имел с такими дела — неприятностей потом не оберешься. Но я смотрел, как он что-то тихо говорит своим дружкам, и почему-то обратил внимание, как занятно сменяются на его мордашке разные выражения.
Один из парней — на вид даже и постарше этого — вообще стоял чуть ли не с открытым ртом и не отрывал от него глаз. Я чуть не сел — этот восторженный слушатель был вполне евреистым еврейчиком. Последние мозги пропил бедолага Франк. Этих нам тут еще не хватало…
Потом я опять так увлекся своими наблюдениями за первым, что позабыл о втором. В конце концов, это его еврейские трудности, что он тут делает и что обо всем этом думает.
И чем дольше я смотрел на этого мальчишку, тем сильнее меня пробирало… у меня всегда так — если кто-то понравился в этом самом смысле, то поначалу всегда словно мороз дерет по коже, даже неприятно. И все это от обычных мыслей — вот, опять, началось, зачем, а ну как не выйдет, а если выйдет, то что… В этом отношении я трус и идиот; я завидую спокойствию Эрни; хотя, кто его знает, что он чувствует, когда вот так смотрит на понравившегося мужика или парня, и о чем в этот момент думает. Может, о том, что у него шрамы на жирной роже. А то и о том, что во время этого он потеет, как в бане, и пыхтит, как свинья, взбирающаяся в гору. Я же думал о том, что этот паренек слишком молод. Может быть, 17. Это «возраст неприятностей» — он уже не ребенок, но еще не мужчина, и родители еще следят, когда он приходит домой и в каком виде, и вряд ли разрешают ему шляться по ночам…»
Но, черт подери, думал Эдди, для того, что я могу ему предложить, он в самый раз. Потом будет поздно — да, поздно, потому что годам к двадцати пяти он, традиционно наливаясь пивком и пожирая сосиски, веснушчатые от горчицы, превратится в жирного поросенка — удачное начало, чтоб со временем стать обычным немецким боровом и найти себе Грету с добрыми лиловыми глазами и уютной подушкообразной задницей.
И еще он подумал о том, что наверняка в этого парнишку влюблены все девчонки, которые его знают. Не паренек — картинка, принц из книжки, рисунок талантливой школьницы в тайной тетрадке. Высокий, с Эдди ростом, худенький, ладный. Да еще это нежное лицо с большими синими глазами, любая девушка душу продаст за такие глаза и ресницы. Да еще светлые густые волосы редкого пепельного оттенка. Челка над темными бровями. Челка, легкая, как крыло мотылька. Хочется нежно зажать ее в кулак, играючи потрепать…
И в то же время, Эдди чувствовал кое-что. Дело в том, что у него было что-то вроде чутья. На таких, как он. Эрнст Рем говорил, что это есть и у него. То есть, Эдди не стал бы утверждать, что этому мальчишке нравятся мужики и он с ними спит — скорей всего, он вообще пока не имеет никакого опыта в этом смысле. Просто в нем это есть — и все это может ему понравиться. «Иначе я бы и внимания на него не обратил. Мое чутье не обманывает». Наблюдая, Эдди лишний раз убедился в этом. Во всем — в том, как он стоял, как говорил, как встряхивал головой, отбрасывая со лба челку, как искоса, вскользь окидывал незаметным взглядом лица дружков — было желание нравиться, но не обычное мальчишеское, прямое, а более затаенное, по-девичьи выражаемое с помощью всяких тонких уловок… И его дружки поддавались этим чарам — думаю, так же, как поддались бы на те же самые уловки красивой и умной девушки.
Эдди пошел покурить и пропустить стаканчик с Эрни, и за это время окончательно решил, что пареньком следует заняться. Он не знал и знать не мог, был ли этот парень уже с девушкой, но был уверен, что с мужиком — еще ни разу. И кровь долбила в виски крошечными, острыми и горячими кулачками, когда он только представлял себе, как это будет с ним… Эдди просто упивался воображаемыми сценами — а воображал себе его страх, его смущение… Он всегда, когда смотрел на очередного паренька, воображал именно это, но до сих пор — а было у него уже пятеро — разочаровывался. Они все, подобранные им на улице, уже знали, что это такое. Или очень умело, как это дано тем, кому нечего терять, делали вид, что знают. Во всяком случае, брали и сосали без вопросов. А когда дело доходило до того, чтоб подставить задницу, ломались для виду — должно быть, чтоб Эдди чего не подумал — а потом, как ни крути, послушно вставали раком или ложились на живот. Кое-кто ныл, но не особенно громко, так что и тут все шло как надо. Уличные мальчишки, как правило, знают, что такое настоящая боль, а тут до нее далеко…
С этим все должно быть не так…
«Тем больше удовольствия я получу, когда наконец всажу ему, сильно, до упора.
Нет, я не садист. Я не забуду о вазелине. Я попробую слегка растянуть ему там всё пальцами. И все равно ему будет больно, но придется принять это — как? Что он будет делать? Плакать беззвучно? Или, чего я не люблю, хныкать, умоляя меня перестать, оставить его в покое, а то у меня точно будут большие неприятности? Или кусать губы и морщить нос, отчаянно не желая проявлять свою слабость? Я хочу посмотреть, что он будет делать… Это будет славный, незабываемый вечерок.
И делать все для того, чтоб этот вечер случился, я начну сегодня. После того, как мы послушаем тут всех, кого стоит послушать. Интересно, местный он или приезжий, этот парень? Неважно. В любом случае вряд ли он сегодня попадет домой.»
Все случилось так, как Эдди и думал. Эти мальчишки во сне не видели, чтоб с ними пошел прогуляться группенфюрер СА… Не мечтали о такой чести. Ясно, что под его чутким и вдумчивым руководством они напились, как свинята. Но не этот еврейчик. И не Эддин будущий любовник. Эдди ничего не стоило все узнать еще до окончания митинга. Еврейчика звали Рональд Гольдберг, а беленького парнишку — Бальдур фон Ширах. Эдди с удовольствием улыбнулся. Это было одно из его любимых имен, и он усмотрел в этом некий знак, бесплотный перст неслучайности, указавший ему туда, куда нужно. Как ни странно, у Эдди был на этом пунктик. Он всегда слишком остро отзывался на то, что кого-то из ребят зовут Герман, Файт, Яльмар, Бальдур. Эти древние имена звучали для него как обещание чего-то сильного, искреннего и… продолженного во времени. Все же, как ни ценил он свое одиночество, ему надоело бродить по Мюнхену от одного светлого круга под фонарем к другому… и выискивать взглядом тощие тени, жмущиеся по углам.
Ронни дрожал от необъяснимого предчувствия беды. От тихого смеха, каким Бальдур отвечал на дурацкие шутки Эдмунда Хайнеса, по его спине бежал холодок, а от уверенного хозяйского жеста, каким Эдди приобнял мальчика за плечи, Ронни поежился, вдруг ощутив свою отграниченность, отстраненность от этих двоих. Похоже, он был здесь лишним… этим двоим было неплохо и без него, а Бальдур, как ему казалось, за все это время даже не взглянул в его сторону… Кроме того, в этой слишком поспешно возникшей близости только что познакомившихся мальчика и мужчины чуялось что-то нехорошее. Страшноватое.
Ронни вышел покурить на лестничную клетку — в этом не было особой нужды, сам Хайнес спокойно дымил в комнате и, казалось, не возражал против того, чтоб парни делали так же.
… Ронни едва успел в первый раз стряхнуть пепел на лестницу, как на щербатую ступеньку упала полоса света, Эдди бесшумно шагнул за порог и встал напротив парня.
— Такие, как ты, никогда не понимают, в каком месте им нечего делать, — тихо, без угрозы сказал он, — Поэтому вас, жидов, так и не любят. Вечно вы суете свой нос куда не просят.
Ронни открыл было рот — и не то чтоб он не знал, что ответить — ведь Эдди сам их позвал, разве нет? — и тут же понял, что услышит в ответ: «Я позвал ЕГО, а не тебя, ты потащился за нами сам, разве нет?» Да и потом, Ронни просто не мог ничего сказать. Эдди Хайнесу, офицеру, парню из корпуса Россбаха,[3] парню из СА — что он мог ему сказать?..
— И вообще, хотел бы я знать, — продолжал Хайнес, — что тебе, взрослому парню, надо от мальчишки и какого черта ты глаз с него не сводишь. В этом есть что-то не то, правда, Мойше?
Ронни отступил на шаг, ему показалось, что кровь под кожей щек просто вскипела… А Хайнес добавил:
— Брысь, жиденок, чтоб я тебя больше не видел. Этот не для тебя.
Бальдур в комнате героически боролся со вторым стаканом шнапса и пока еще одержал половину победы — в этом отношении Эдди предпочитал быть оптимистом.
Мужчина улыбнулся, мальчик ответил широкой, довольно неумной улыбкой.
— Куда… подевался Ронни? — спросил Бальдур, сглотнув.
— Пошел домой. Сказал, что хватит с него. Очевидно, Мойше завтра в лавку…
— Он — Рональд. И лавки у него нет.
— Это временно.
Мальчик улыбался, доверчиво и радостно глядя на нового друга. Явно не привык ждать неприятностей от взрослых. Эдди с удовольствием отметил, что паренек на удивление крепок на выпивку — речь осталась четкой, глаза ясными, и даже поза была прежней — никакой расхлюстанности, свойственной резко опьяневшим и забывшим, где их руки и ноги. Чудо, а не мальчишка. Только не торопиться. Не спугнуть.
— Ты откуда такой? — спросил Эдди, — Здешний?
— Нет… из Веймара я. А здесь у родных живу. Учусь.
— В школе?
— Готовлюсь в университет. Тут есть один старик, профессор, у него занимаюсь, я и еще несколько ребят. Родители платят…
Эдди присвистнул.
— Ты не молод для университета?
— Мне уже 17.
— А что изучаешь?
— Германистику… и историю искусств.
— Это отлично, — сказал Эдди, — Наверно, уверен, что поступишь?
— Ну, да, — смутился мальчик, — уверен… только это неважно.
Эдди пристроился рядом с ним на диван, серьезно посмотрел в блестящие синие глаза:
— А что важно?
— В следующем году мне 18, - сказал Бальдур, слегка покраснев, словно признался в чем-то недостойном, — и я хочу вступить в НСДАП… И…в СА.
— Отлично. Насчет СА положись на меня — что могу, сделаю, — бросил Эдди ничего не значащую фразу. В СА такого примут с распростертыми объятиями и без Эдди Хайнеса. Особенно если его увидит Эрни Рём…
— А почему… почему вы хотите мне помочь?
«Потому что хочу тебя трахнуть», — подумал Эдди, а вслух сказал:
— Хороший вопрос.
— Так почему, герр Хайнес?
— Пожалуйста, зови меня Эдди. Пока что. Вступишь в СА — будешь звать группенфюрер… Шутка. Потому, Бальдур, что ты мне понравился. Ты умный парень, даже очень, для своего возраста. Такие нам нужны.
— Спасибо, — сказал мальчик, и было видно, что ему ужасно приятно.
Болтал на митинге со своими, что твой Геббельс, весело подумал Эдди, а сейчас — сущее дитя, которое угостил конфеткой любимый дядюшка… Кто знает, может, все случится уже и сегодня.
— Ты действительно очень выдающийся молодой человек для своего возраста, — продолжал Эдди, глотнув шнапса, — должно быть, у тебя девушек целая толпа?
— Ну что вы.
Бальдур слегка склонил голову, пряча глаза.
— А что? — спросил Эдди, — что такого я спросил? В твоем возрасте парни интересуются политикой несколько меньше, чем девочками, разве не так?
— Кто как, я думаю.
Умница какой, восхищенно подумал Эдди. И… это уже и впрямь интересно.
Бальдур справился с остатками шнапса — и непроизвольно скривился… а потом сжал губы. Его явно учили, что икать в обществе — верх неприличия. Эдди поднес к его губам стакан воды, мальчик ухватился за него, его пальцы коснулись пальцев Эдди.
— О, извините, — сказал Бальдур, когда угроза икоты благополучно миновала, — Спасибо… ох, про что мы говорили?..
Повело, подумал Эдди.
— Про твою девушку.
— У меня нет девушки… герр Хайнес…
— ЭДДИ. Повтори.
— Эдди…
— Так-то. Тебе не плохо?
— Нет-нет, — отозвался Бальдур, вид у него был презабавный, брови настороженно приподнялись, он словно и впрямь прислушивался к тому, что происходит в его голове под влиянием шнапса, — И мне пора идти…
— Куда ты пойдешь в таком виде? Забудь. Прекрасно можешь переночевать здесь и идти утром на свои лекции. Тут и недалеко.
— Но это неудобно…
— Забудь.
— С-спасибо.
Бальдур справился со смущением — и счастливо улыбнулся.
У мальчишки камень с души свалился, подумал Эдди, он же, похоже, сомневался, сможет ли подняться с этого дивана так, чтоб не оказаться на полу… а падать стыыыдно!
Он молчал, чтоб малыш осознал, что ему нужно поддерживать беседу.
— А вы не женаты, герр Хайнес?
— ЭДДИ. А что, похоже? Нет, Бальдур. Зачем мне это. Женишься — никогда больше не сможешь гулять по ночам. И потом, — тон Эдди остался деланно беззаботным, — я вообще не переношу баб. По-моему, с мужчинами куда проще, — он знал, что сейчас щеки у парнишки вспыхнут, — Мужик никогда не устроит тебе истерику по поводу того, что он забеременел или ему нечего надеть…
Бальдур вздрогнул и опять спрятал глаза.
— И потом, — продолжал Эдди, — с мужчинами кое-чем заниматься куда приятнее… Давай еще по чуть-чуть.
Он быстро налил себе, парню — плеснул на два пальца.
Бальдур молча потянулся к своему шнапсу, выпил, теперь уже не морщась. Встряхнул головой. И сказал:
— Эдди, вы…
— «Эдди, ты».
— Эдди, ты никому не расскажешь, что я тебе сейчас скажу?
— Что ты. Слово офицера.
— Эдди, мне снятся парни. Ну… наверное, ты понимаешь, КАК снятся. Вот ты сказал, что мне надо бы заглядываться на девушек, а я если и заглядываюсь, то на парней. Даже… на мужчин. Не могу по-другому. Словно я сам девушка. А когда мне было 14… - Бальдур смутился и смолк. Яльмар… сволочь.
Когда 14 — это еще ладно, думал Бальдур. А вот когда мне было 11, в интернате в Бад Берка… ох, этот Рольф. Тринадцать лет, сноп золотой соломы вместо волос и жестокие карие глаза. Ухмылка, которой я боялся.
Ах, эта школа. Эта песенка, которую сочинил какой-то тринадцатилетний ироничный гений из числа учеников Не Рольф — этот гением не был, был хулиганом..
Я маменькин сынок, мне тринадцать лет, Замшевая курточка, алый берет. Отвали, деревенщина, паси своих коров, Мне жалко для тебя даже пары слов…Рольф был как все мы, из хорошей семьи, но настоящий бродяжка. Часто мы с ним вдвоем пропускали утренние занятия и бродили по окрестностям. Купались, воровали яблоки и пакостили по мелочи — к примеру, однажды белым днем поменяли местами огородные чучела в соседних крестьянских огородах. Рольф выкрасил белую корову, пасущуюся у леса, гуталином под зебру — глупо, как же глупо, хоть и смешно. Но обычно его проделки были злы. Мне бы и в голову не пришло так развлекаться, но Рольф смотрел на меня и ухмылялся: «В штаны наложил, маменькин сынок?»
Я любил его. Я преклонялся перед его смелостью и презрением, с каким он встречал выговоры и наказания — да какие уж там наказания, наши передовые учителя нас пальцем не трогали.
Однажды мы после купания сидели на заросшем бережке, за кустами, и Рольф, глядя на меня своим жестоким взглядом, вдруг спустил трусы, предъявив молодой набухший член в золотистом кружеве недавно выросших волос, и приказал:
— А ну-ка возьмись за него.
Эдди заулыбался во все тридцать зубов, одну железную фиксу и одну черную солдатскую пломбу. Невольно. Он был просто в восторге. Столько воображаемых сложностей растаяли, как сигаретный дымок.
— Тебе смешно, да? — спросил Бальдур.
— Да нет, — мягко ответил Эдди, — Нет, что ты. А знаешь, почему это с тобой? — он приобнял мальчика за плечи, притянул к себе, чувствуя, как тот готов связаться в маленький, тугой, незаметный узелок, — Потому что ты и вправду красив, как девушка. Даже красивее, — Эдди поцеловал его в губы и тут же со смехом отпустил.
Мальчик просто окаменел — как та уже не вспомнишь чья библейская жена. Эдди откровенно любовался им, стараясь не глядеть в испуганные синие глаза — это было опасно, потому что… Потому что из-за этого могло случиться то, о чем ему однажды поведал Эрни. «Ты можешь всегда быть осторожным, иметь голову на плечах… но однажды — хоть раз — тебе попадется что-то такое, этакое, от чего ты просто охренеешь и будешь думать только о том, как бы побыстрей и поглубже ему въебать. И дергаться на нем хоть до Страшного суда. И не только думать будешь, а сделаешь так, потому что иначе не сможешь. А потом можешь пожалеть. Влипнуть можешь. Проще говоря, поосторожнее, Эдди, тут тебе не война. Поосторожнее со своими сопливыми ребятишками».
— Ну, что ты? — спросил Эдди, — Или я тебе не нравлюсь?
Он улыбался.
Эдди знал, что может не нравиться. Но знал и то, что не может не нравиться, если улыбается — конечно, не во весь рот, как лягушка… Его лицо, обычно чувственное и с нахальным выражением, в улыбке превращалось в нежное и доброе. Сам он и не был, и не считал себя ни нежным, ни добрым; он знал лишь о том, что его улыбка помогает добиться желаемого.
И разницы нет, подумал он, бродяжка с улицы или дворянчик. Эффект один — тают и хлопают ресницами, если кто-то делает вид, что смотрит на них со вниманием, нежностью, любовью. Глупые щенки — что предыдущий чумазый Вилли, что этот чистюля Бальдур. Ничего, жизнь научит рано или поздно.
Эдди улыбался…
Светловолосый зеленоглазый Эдди в светло-коричневой форменной рубахе с расстегнутым воротом, в пальцах папироса, в глазах — ласковая усмешка…
— Ты… мне? Нравишься…
— Хорошо.
Эдди знал — нельзя — и все равно взглянул туда, куда нельзя. В глаза.
И все полетело к черту, в тартарары, в царство Хель, в бездну, где исчезают удобные и приятные возможности.
Папироса тоненько дымилась, вдавленная в стол рядом с пепельницей. Столик на колесиках, крутнувшись, отъехал, задетый ногой в хромовом сапоге. Сапог тесно прижался к ботинку черной кожи, колено в коричневом сукне — к острому колену в сером твиде.
Эдди обнимал парнишку, не обращая ни малейшего внимания на его слабые попытки отстраниться, и целовал, и расстегивал ему рубашку — благо, пиджак и так был расстегнут… и еще и еще целовал мордашку, горячие щеки, ставшие малиновыми, сладкую кожу.
Тот почти не сопротивлялся и только ахнул, когда Эдди заставил его лечь и навалился сверху, хотя места на вечно разложенном диване было предостаточно.
Бальдур крепко зажмурился — темнота была спокойнее, чем происходящее. Если б можно было еще и ничего не чувствовать…
Тяжесть вдруг исчезла, Бальдур отозвался на это глубоким вдохом — и открыл глаза.
Эдди сидел на полу, улыбка его была нежной, а зеленые глаза — безжалостными… и бессмысленными. Так сверкают бутылочные осколки под лучом солнца.
Бальдур, лежа на чужом диване в чужой квартире, с расстегнутой рубашкой и расстегнутыми штанами, взбудораженный донельзя и донельзя смущенный, не знал, что сказать. Что говорить. Что вообще говорят в таких случаях.
Эдди знал. Но голос его был уже не мягким и ласковым. Скорей, спокойным и деловитым.
— Раздевайся.
— Что?..
Эдди последним усилием сдерживал в себе рвущуюся наружу тварь. Она была безымянна, облик ее был неуловим, но, скорее всего, безобразен, ибо нет ничего уродливей, чем одна-единственная страсть, глухая и слепая ко всему, кроме себя самой. Глухой, слепой козлоногий демон, навалившийся мохнатым пузом на пьяненького эфеба в черно-синей от зноя роще, гудящей от криков и звона тимпанов. Локи-притвора, подстерегающий в спальне юного Бальдра. Инкуб, терзающий по ночам молоденького послушника и НЕ исчезающий после петушиного крика…
Бальдур задрожал под безжалостно пожирающим его взглядом древнего демона, и демон сполна насладился этой дрожью. И произнес незнакомым гортанным голосом, без пауз, в несколько приемов, словно Эдди разучился нормально разговаривать:
— Кроха я вижу что ты хочешь и ты это получишь.
— Не бойся все хуйня никто не узнает и тебе понравится.
— Только не рыпайся будет хуже.
Слепота и глухота. Бальдур молчал, потому что чувствовал — хоть бормочи, хоть ори, этот Эдди его не услышит, незачем и унижаться, вымаливая снисхождение. В конце концов, сам виноват. Сам. Сам. Сам. Не хрена было ему позволять… не хрена было рассказывать… и вообще приходить… и вообще…
Стыд зажал ему рот пылающей ладонью.
Будет хуже?
Пусть теперь будет, как будет. Чем хуже, тем лучше. Наверное.
Зажмуренные глаза уже резало, а подушка, в которую Бальдур ткнулся носом, пахла табаком и немытыми волосами. Она была противно-влажной. Из-под зажмуренных век все равно сочились слезы, из носа текли сопли, из разинутого в немом крике рта — слюна. Отвратительно было касаться мокрой наволочки, но раскрасневшаяся, ослепшая от слез мордашка мальчика все равно елозила по ней, когда он дергался от боли.
Тварь желала получить свое — и получала, орудуя своим разбухшим естеством в тугой и горячей тесноте, и в ушах твари опять гремела проигранная война, и орали мальчишки, попавшие под «желтый крест» — золотые кресты в глазах, черные кресты, красные цветы — все что угодно, но не то, что тебя окружает… и рассыпался перламутровыми переборчиками аккордеон фрау Марты… Я жил, я живу, я буду жить вечно, ухмыляется аккордеон бело-гнилой своей челюстью, вздыхает мехами. Ползет, как гусеница, к убитой фрау Марте… К черту фрау Марту. Я жив, я живу! Я свободы хочу — да, свободы, моей, я ее заслужил под пулями и вонючим газом… Я воевал, я защищал вас, я буду защищать вас, только дайте мне жить, как хочу, а стало быть — гаси свечу и прочь от моей постели, пусть в одну ночь — но я свое возьму, буду трахать, прочищать, жарить, парить этого щенка так, как хочу, и столько, сколько хочу, и мне плевать на петушиный крик, сам Бог не разожмет моих пальцев, впившихся в его худые плечи, в белую кожу, сам дьявол из преисподней не помешает мне прыгать на нем, как задыхающаяся рыбина на мягком белом песочке… а потом… потом мне плевать, что он скажет, в крайнем случае просто дам ему хорошего футбольного пинка в истерзанную задницу, и пусть катится к папе с мамой, пусть расскажет, что я с ним сделал. Плевать мне на все, мой револьвер при мне, и, если что, я уйду туда, где меня точно ждет фрау Марта, а вы как думали…
Бальдур тихо зашипел и всхлипнул, когда все, что и так горело, полили жгучей струей.
Эдди тяжко распластался на мальчике, как пристреленный бешеный пес, его тело судорожно вздрогнуло несколько раз, из уголка осклабленного рта тягуче тянулась к подушке струйка слюны… Тварь получила свое и спряталась, оставив тело беспомощным, а голову пустой — больше чем на пять минут. Бальдур под ним даже не шевелился — может, боялся, а может, просто не было сил…
С Эдди Хайнесом никогда еще такого не случалось. Впрочем, было кое-что, но… Вот сейчас он не знал, что говорить, и первой его собственной мыслью было — вот, вот оно, о чем предупреждал Эрни, не влипни, я влип. Он мне этого так не оставит — одна надежда, что ему будет стыдно рассказать об этом кому бы то ни было.
Эдди с трудом поднялся, отметив, что Бальдур сразу же задышал глубже. Мальчик тут же тоже приподнялся, потянул за резинку трусов, потом за пояс брюк… Они привели себя в порядок одновременно (если это так можно назвать, подумал Эдди, я бы на твоем месте пошел помылся, ведь трусы будут в крови… впрочем, кровить у тебя, возможно, будет не только сегодня). Бальдура шатнуло, как пьяного, и он опять опустился на диван и тут же сморщился, перенося вес тела с ягодиц на бедро, уселся боком.
— Можно чего-нибудь попить? — голос его звучал не хрипло — он ведь не кричал — но как-то сдавленно.
— Шнапс.
— О, нет…
— Выпей. Будет не так больно. Выпей, пожалуйста…
— Попробую… оооох!
— Ничего. Ничего. Куришь?
Эдди заботливо дал ему зажженную папиросу.
С минуту они молчали. Эдди вскользь отметил, что Бальдур курит неумело, не втягивая дым. Черт. Черти пятирогие. Я его изнасиловал. Я его выебал как фрау Марту. Я же хотел не так, клянусь, я же хотел, чтоб все было медленно, куда торопиться-то — чтоб боли поменьше, чтоб удовольствия побольше… Ласкать, да, я ведь хотел долго с ним возиться, одно удовольствие приласкать неопытного смущенного паренька… гладить, целовать везде. Я бы и пососал ему, чтоб завелся хорошенько, одно удовольствие подержать во рту упругий горяченький член, полизать его, как леденец, у такого прелестного мальчишки, наверное, и семя похоже по вкусу на горячие сливки… И сунул бы я ему сначала палец, блестящий от вазелина, потом два, а уж только потом, когда сам заерзает, член… осторожненько, медленно, неглубоко поначалу…
Бальдура, который вроде как протрезвел от страха и боли, теперь забрало с одного глотка. Глаза у него повлажнели и уставились куда-то в ломано-призрачное барокко папиросного дыма, в тени и в странные места, в которые заглядываешь нечаянно — и потом об этом жалеешь.
— Ты говорил, — произнес он глухо и вроде как даже обиженно, — что это приятно. С мужчинами.
— А это приятно… — отозвался Эдди, — когда все путем… Сам не знаю, что со мной было… Наверное, я слишком… тебя хотел. Очень было больно, да?
— Просто рай, — отозвался Бальдур.
— Прости.
— Да ладно. Сам виноват, — произнес Бальдур неожиданно громко и зло, — Ну и ладно.
Истерика, что ли, начинается, подумал Эдди. Может быть. Такое он уже видел.
Но нет. Паренек держался, хотя глаза у него опять были на мокром месте.
— Я, наверное, пойду, — сказал он.
— Никуда не пойдешь. Ночь. Дождь. Ложись спать. Я к тебе не прикоснусь, слово офицера, — зачем-то сказал Эдди.
— А я знаю, что не прикоснешься, — хмыкнул Бальдур, — Теперь-то ты головой думаешь…
Вот стервец. Эдди посмотрел на него почти с восхищением. Нет, такого парня у него еще не было. Как жаль, что все так хреново получилось…
Эдди поднялся и принес стопку чистого постельного белья.
— Пересядь, пожалуйста. Не будем же мы спать поверх покрывала…
Он быстро застелил постель.
— Ты где любишь спать? У стенки или с краю?
— Все равно, — откликнулся парень, — я, как говорят, за всю ночь могу ни разу с боку на бок не повернуться… Зато просыпаюсь, как будто меня холодной водой облили… Ох, черт… у меня от этого шнапса в глазах темно. Такое бывает?
— От него даже розовые чертенята, говорят, бывают.
— Согласен… на них. Никогда не видел розовых чертенят.
— Да ложись же. У тебя глаза закрываются, Бальдур, — Эдди сбросил форменную рубаху, взялся за ремень брюк.
— Ты что, намерен спеть мне колыбельную?..
— А ты намерен болтать всю ночь?
— А я болтливый. Только вряд ли тебе моя болтовня интересна…
Бальдур самым аккуратным образом повесил на стул брюки, пиджак, рубашку и галстук. Эдди залюбовался его высокой, стройной, ладной фигурой, уже расставшейся с подростковой несоразмерностью. Бальдур обернулся, словно почувствовал этот взгляд.
— Просто смотрю на тебя, — вырвалось у Эдди, словно в оправдание, — Ложись…
В темноте Эдди постарался улечься так, чтоб даже не коснуться мальчика, благо ширина дивана это позволяла.
— Ну вот, спать расхотелось, — пробормотал Бальдур, — всегда плохо сплю в новом месте…
— Постарайся… тебе нужно поспать.
— С чего ты взял? Я мало сплю, мне хватает шести часов…
— Из тебя был бы хороший солдат.
— Еще будет, возможно… Эдди?
— Да?
— Ты бы хоть обнял меня.
— Что?..
— Почему нет. Мы ведь теперь…любовники, да?
— Бальдур… слушай… прости меня. Я ведь не хотел…
— Не хотел ты сильно, ничего не скажешь, — ехидно.
— Бальдур…
— Обними меня.
Эдди подчинился.
— Вот так лучше, — буркнул парнишка, удобно пристраивая голову ему на плечо, — Теплее. И вообще…
— Что вообще?
— Кажется, что все хорошо.
Эдди поцеловал его в лоб, в челку.
— Еще, — попросил Бальдур, — Приятно… и теперь уже все равно…
Почему бы и нет, подумал Эдди. Хоть сейчас — раз уж он не хочет спать — дать ему то, что он заслужил… безусловно заслужил.
Когда губы Эдди коснулись шеи Бальдура, мальчик запрокинул голову. Эдди пощекотал языком ямку меж острыми ключицами, откинул одеяло. В темноте в бледном мерцании фонарного света торс мальчика казался мраморным — если есть хоть одна мраморная статуя, изображающая распластанного, размякшего от мужских ласк подростка.
Губы мужчины сомкнулись на соске мальчика, маленьком, твердом, похожем на недозрелую ягодку.
Эдди почувствовал, как пальцы Бальдура теплым гребнем взъерошили ему волосы…
Эдди провел кончиками пальцев по впалому теплому животу паренька, по нежной, восхитительно гладкой на ощупь коже, и тот тихонечко хмыкнул от щекотки, а в следующий миг вся ладонь Эдди скользнула под резинку его трусов, туда, где некто молоденький, но рослый и весьма серьезный, уже гордо задрал слепую головку и требовал, ох как требовал к себе должного внимания…
Ладонь Эдди поощрительно погладила красавчика по лысой головке, ласково обхватила. Бальдур заерзал, и не абы как, а так, чтоб член терся об сжимающую его ладонь… Ах ты ж!..
Стоны. Тихие, сдавленные.
Бальдур сам приподнял бедра, позволяя Эдди стащить с него трусы, и сам широко раздвинул коленки. Это не парень, а черт знает что, подумал Эдди с удовольствием, надо же так себя вести, и не стыдно ему нисколько… Впрочем, какой стыд после того, что было. Теперь он хочет получить свое. Сейчас. Сейчас… Я не собираюсь тебе дрочить, это ты сделаешь сам, если захочешь. А я могу устроить тебе кое-что получше…
Такого ты точно еще не пробовал.
…У Эдди затекла шея, онемели губы и отваливался язык, но дело того стоило. Он и сам не ожидал, что так будет, нет, не ожидал… Одно удовольствие теперь вспомнить сдержанного Бальдура.
Распластанный перед ним паренек являл собою нечто совершенно чуждое понятию «сдержанность». Он уже не стоном, а пронзительным воплем встречал каждое легчайшее прикосновение к его члену, его раздвинутые бедра дрожали от напряжения, в стиснутых кулаках скрипела простыня, голова моталась по подушке, сбив ее на край постели…
Эдди в последний разок пригнул голову…
Я заплатил тебе за твою боль, думал он, лежа рядом с мокрым, дрожащим телом, пустым и теплым, как только что сдернутая перчатка. Дамская, изящная, душистая перчатка из тонкой светлой кожи…
Буду ждать, когда ты откроешь глаза. Теперь я всегда смогу смотреть в них без опаски. Так я думаю.
— Неплохо было? — спросил Эдди, когда длинные ресницы наконец дрогнули.
— Просто рай, — пробормотал мальчик. И доверчиво прижался к нему всем телом.
Эдди давно уже похрапывал, а Бальдур все еще лежал без сна. После перенесенной бури он чувствовал себя слабым и вялым, перед глазами плавали причудливые розовые и золотистые пятна. Меж ягодиц все еще было влажно и ощущалось досадное жжение — словно там тлели угольки залитого, но непогасшего костерка.
О, мой Бог, думал он. Где это я, зачем?..
Сумасшедший. Испорченный.
Но я не мог иначе.
Легкий дух не мог более таскать все более тяжелеющее, наливающееся то свинцом, то ртутью тело, не мог это тело оберегать, задыхался и умирал в нем, словно параличный в латах.
Бальдур сам не понимал природы своего влечения, этого кружащего голову вихря, в эпицентре которого он иногда оказывался, взглянув в глаза случайному юноше или мужчине, но справляться с этим самостоятельно уже не мог.
Раньше помогало сесть на велосипед и до одури, до гула и дрожи в коленях крутить педали, колеся по сельским дорогам. Родителям Бальдур говорил, что едет в поход с друзьями — не говорить же, что никакие друзья не нужны, нужно лишь бьющее в глаза солнце, упруго хлещущий по горячим щекам ветер, летящая под колесо лента дороги и незнакомые, с невнятными тяжелыми взглядами лица вокруг (что крестьянам дела до взмокшего барчука на велике, делать-то нечего, вот и носится, как полоумный). В полном изнеможении он вяло снимал с педали ноющую лодыжку и брел с полчаса по дороге, словно загнанный жеребенок, ко всему безразличный, в том числе и к тому, где это он. Челка липла ко лбу, падала на глаза, голова тяжелела от жары. Велосипед он вел за руль — умело, так, что переднее колесо и не думало вихляться.
Заезжал он далеко.
Любил ездить по лесным тропинкам, полосатым от солнца и ухабистым от корней…
Поездок таких — редких, конечно, в месяц пару раз, по выходным — хватало ненадолго, но все же спал Бальдур после них спокойно… вплоть до падения, которое он потом всегда понимал как неслучайное, вспоминая все, что за ним последовало, и думая о том, что от себя не уйдешь — и даже не уедешь на дорогом спортивном велике марки «Бреннабор»…
…А полетел он с велосипеда красиво… Он знал в этом лесу симпатичную полянку, на которой любил отдохнуть (там имелся даже очень удобный пень), а отдохнуть было пора, и Бальдур торопился, накручивая педали и страстно мечтая о бутылке с минералкой, которая была привязана к багажнику. Вот, вот же она, полянка… И тут собравшийся гармошкой носок как-то угодил в цепь, и Бальдур птицей гордою, которую все-таки пнули, перепорхнул через руль и шмякнулся в кусты.
Он зашипел от боли — ничего вроде не переломал, но здорово треснулся, к тому же кусты встретили налетчика в штыки — точней, в острые сучки, и Бальдур ощущал, как на щеке пухнет горячая дорожка царапины, толстая, как суровая нитка. Было и еще кое-что похуже. Бальдур много раз падал и с велосипеда, и с лошади, и знал, разумеется, что при падении сверху ни в коем случае нельзя вытягивать руки, если не хочешь сломать их, да и вообще привык, как пианист, беречь руки… но тут как-то так случилось, что он все же спружинил оземь правой рукой, и теперь большой палец на ней жутко ныл. Хотя вроде был на месте, не торчал в сторону, и все же… что-то было не то. То-то завтра обрадуется герр Миллер, его мастер по фортепиано. «Бальдур, пора уже серьезно относиться к своему музыкальному будущему! Или я ошибаюсь, и вы собрались в футболисты?»
И тут он услышал негромкий смех. Хриплый, молодой — так мог смеяться мальчишка его возраста.
Бальдур торопливо выбрался на тропку из кустов и первый взгляд бросил на свой драгоценный «Бренн» — тот валялся на тропке, как поверженный в битве конь. На коня серебристый велик походил очень мало — скорей уж на огромную сбитую стрекозу, но в воображении Бальдура он был именно конем.
Бальдур искоса глянул и туда, откуда слышал смех, и уши у него покраснели. На поляне — на его поляне, на его пеньке сидела девчонка. Даже не девчонка — а эта! Взгляд моментально зацепился за пестрое платье и смуглое лицо. Цыганка, возможно. В любом случае — бродяжка какая-то. И еще смеется!..
Не глядя в ее сторону, Бальдур приподнял велосипед, чиркнул ладонью по передней шине — колесо послушно засверкало спицами, шина ровнехонько поблескивала черной змеиной шкурой, никакой «восьмерки», слава Богу.
— Сильно треснулся? — послышался с полянки незаинтересованный голос, — хочешь, за две марки помогу, если чего сломал…
Не отвечать было невежливо, да и глупо уж совсем.
— Ничего я не сломал, — сказал Бальдур холодно, — а с кем имею честь?..
Тоже неприлично, все же дама, но его же учили вообще не говорить с такими.
— Чего-о? Фу-ты ну-ты!
Еще и недоразвитая, подумал Бальдур.
— Я спросил, как тебя зовут, вообще-то.
— Маргарита. А тебя?..
Ничего себе, подумал Бальдур, имечко. Черный жемчуг, он слышал, дорогой.
— Бальдур меня зовут.
Теперь он смотрел на нее и поражался ее прямому веселому взгляду.
Она действительно была очень смуглой, черные, плохо расчесанные кудрявые волосы, черные брови, глаза цвета эрзац-кофе, которым поили в локалях — та же иллюзорная чернота, скрывающая янтарный блеск, если глянуть на свет. Платье — действительно неприлично пестрое — было еще и коротковато, что сводило на нет любые претензии на приличие, но девчонка, казалось, совершенно не замечала этого: она сидела на пне, удобно вытянув голые, исцарапанные, словно бы выкрашенные коричневой марганцовкой ноги в расшлепанных сандалетах, и во взгляде ее, устремленном на Бальдура, не было ни тени смущения, ни проблеска высокомерия, короче, она смотрела на Бальдура не как девочка, а скорей как его приятель.
Бальдур подумал, что это, может, оттого, что на цыган всегда все пялятся, вот они и привыкли. Он был совершенно прав.
Его изрядно смущало то, что он не мог даже приблизительно определить ее возраст. Она была маленькой и худенькой, как девочка лет тринадцати, но платье топорщилось на груди самым семнадцатилетним образом, и потом… ее взгляд… По лицу тоже не поймешь — острые девчоночьи скулы и подбородок, но при том тяжелые темные веки и толстые потрескавшиеся губы, которые нагловато ухмылялись.
И поведение девчонки выбивало его из колеи. Она окинула его острым взглядом и спросила:
— Чё это у тебя с рукой?
Бальдур только сейчас понял, что поджимает ноющий большой палец правой руки, инстинктивно помещая его под защиту ладони.
— Да ничего страшного…
— Дай гляну. Иди сюда, — вставать она и не думала, — Да не бойся за велик, никто не утащит. Мой брат бы мог, но он там дрыхнет, пива напился.
Бальдур с полыхающими щеками шагнул вперед. За велик он не боялся нисколько, несмотря на близкое соседство некоего вороватого брата. Подраться Бальдур не боялся даже с парнем на пару-тройку лет старше — сказывалось общение с мальчиками из Кнаппеншафт[4] и мюнхенскими ребятами.
Она схватила его за кисть темной сильной рукой, он сжал губы, когда задели больное место. Пахло от нее резко, не слишком неприятно, но резко — а чем, он понять не мог.
— Вышиб ты его. Из суставчика, понял? Скоро распухнет и посинеет. Хошь, поправлю. За две марки. Или у тебя нет?..
— Как это нет! — возмутился Бальдур.
— Ты сядь.
Он присел на траву рядом с пнем.
— А что ты будешь делать, если придет мой брат и попробует скрасть твой велик? — спросила она вдруг.
— Дам ему в мо… Оййййй!
— Всё.
Бальдур шевельнул пальцем — ничего не болело, осталось только воспоминание о боли.
— Брат говорит, что я дура, — сказала девчонка, — а я и правда дура.
— Почему?
— Две марки вперед не взяла. Теперь зажилишь, да?..
— Да иди ты! — рявкнул Бальдур униженно и зашарил в карманах, нашел пять марок и сунул ей.
— А сдачи нету.
— А не надо, — ответил он в тон, как-то поняв, что такие, как она, берут деньги — любые — как должное, — И спасибо, Ма… — назвать ее так он не мог, смех разбирал, и потому заявил, весь красный:
— По-нашему ты Грета, да? Ну, если покороче?..
— Ага. Еще Марго.
— Это по-французски.
— Ага. По-русски Рита буду.
— Ты и в России была?
— Мы везде были. Только в Африке, брат говорит, никогда не были. Как же по-африкански Маргарита? Не знаешь?
— Я же не из Африки.
— Ну, зато наверно образованный, да?
— Да ладно. А ты все языки знаешь, где вы были?.. — неуклюже вышло, но она поняла.
— А вон, — сказала она, — слышишь, щегол свистит.
— Ну, — Бальдур знать не знал, что это именно щегол.
— В России тоже есть. Он там по-русски свистит?.. Или как? Вот и мы так.
Ничего толкового в этом объяснении не было, именно потому оно и было исчерпывающим. Бальдуру и самому-то удивительно легко давались языки, но из славянских он не знал ни одного.
— Слушай, у тебя там вода? — спросила Маргарита многозначительно.
— Где?!
— Вон, на багажнике. Не дашь попить, а? Жарко.
— Пожалуйста…
Она попила в охотку, с чавком отлепив губы от горлышка бутылки, протянула ему, он тоже присосался к воде. И после этого уже почему-то не хотел сесть на велик и как можно быстрей смотаться отсюда. Они разделили не хлеб, а всего лишь минеральную воду «Файхингер», но… тем не менее. Он подумал, что ему нескоро представится такой случай узнать побольше о тех, кто неизменно вызывал его любопытство.
Маргарита, казалось, никуда не торопилась. Точней, время просто не имело к ней отношения.
— А что ты тут сидела-то? — спросил Бальдур.
— Так.
— А, — сказал он, будто понял.
— А ты чего здесь ехал?
Он улыбнулся — искренне — и ответил:
— Так… Слушай, а как вы… Ну как… Ну вообще живете?
— Живем.
— А зарабатываете… как?
— Кто как, — она ухмыльнулась, показав на этот раз белейшие зубы — не хуже, чем у самого Бальдура, который с детства тер их зубным порошком и выл в кресле стоматолога, который всего лишь хотел выдрать не выпавший вовремя молочный зуб.
— А ты?.. — спросил он.
— Я гадаю… но это так, иногда. Вообще я лечу. Зверей лечу. Коров там, коней. Собак, ясное дело. У тебя собака не болеет?
— Нет… А откуда ты знаешь, что у меня соба…
— Хочешь, тебе погадаю?
— За две марки? — усмехнулся Бальдур.
— За пять.
— Давай.
— А у тебя есть?
— Есть, конечно, — Бальдур снова смутился, и тут его опять цепко схватили за руку.
Маргарита долго вглядывалась в чистую мальчишескую ладонь, но только хмурилась.
— Я во все это не верю, — предупредил Бальдур.
— А я тебе ничего и не говорю, — сказала она, равнодушно разжав хватку, — Не пойму. Мой брат вот поймет… Хотя он, честно сказать, не цыган. Он — наполовину. Но он поймет.
«За десять марок», — мысленно докончил Бальдур.
Солнце, меж тем, спряталось, было уже не так жарко, воздух потяжелел, словно набух.
— Эй, — сказала Маргарита.
— Да?
— Хочешь?
— Что?..
— А то не знаешь, что.
— Эээ…
Бальдур совсем потерялся.
Нет, он не мог сказать, что его никогда не интересовало, что там у девчонок. Интересовало. И волновало. Не настолько, чтоб с ума сходить, но все же.
Мама его никогда особо не беспокоилась о том, чтоб не появляться перед ним полуодетой, и нежные линии ее рук, ног, талии настолько резали ему глаза, что он отводил их, алея, как помидор. Кроме того, была еще и сестра — Розалинда. Она младшего брата, любимца родителей, старалась вообще в упор не видеть. Ни при каких обстоятельствах.
В девчонках его возраста и его круга была, как ему казалось, тщательно скрываемая, но мало чего стоящая тайна — но они так тщательно оберегали ее! Зачем?.. Может, там действительно было что-то такое? Этакое?..
Бальдур с малых лет листал, вместо детских книжек, альбомы с репродукциями мастеров Возрождения и фотографиями великих скульптур. И то, что женщины устроены иначе, в пять лет принял как должное, а потому позже не очень понимал интерес десятилетних ровесников к «сиськам» и «писькам». И с девочками своего круга, в отличие от мальчиков своего круга, обычно сразу находил общий язык — без дурацкого смущения и глупых шуточек обходилось… а чего тут смешного-то?
Дальше стало чуть сложней. В этой семье никогда — никому — какого б он возраста ни был — не запрещали брать с книжной полки то, что хочется.
И потому в возрасте восьми лет Бальдур нечаянно погрузился в черно-белую муть невнятных рисунков в некой энциклопедии и оттуда же узнал медицинское словосочетание «половое сношение». Из всей статьи понял только, что эта неестественная, раз уж попала в сферу внимания врачей, которых Бальдур боялся, штука происходит между мужчиной и женщиной, а в результате рождаются дети.
Фффу!
У него было такое чувство, что он — и Розалинда, и Чарли (нет, только не Чарли!) появились на свет неправильно, как результат болезни папы и мамы. Тут добавила свое и Библия с ее «Ева согрешила» и последующим проклятьем…
Это был первый случай, когда Бальдур не спросил у матери о том, чего не понимал.
В романах, которые он иногда читал, никакого «полового сношения», от которого челюсть сводило, не было и в помине.
Бальдур влюблялся в красавиц, как и герои романов, и вершиною страсти были поцелуи и объятья… а о дальнейшем у него представления были самые смутные, да еще и с грязным осадком от медицинской энциклопедии.
Из всех знакомых девчонок ни одна не тянула на героиню романа.
А это даже не девчонка, подумал Бальдур, неуверенно следуя за Маргаритой, которая ломилась куда-то в кусты, это цыганка. Девушки себя так не ведут. Девушки никогда этого не хотят. А если и хотят, то не предлагают.
Он чувствовал себя ужасно глупо.
А когда она стянула платье, поглупел еще больше. Дернулся и напрягся, увидев мягкие груди с акварельно-расплывшимися сосками цвета охры, и обмяк — ноги не держали — когда узрел мокрую, красную, как маленькая арбузная долька, щель в обрамлении густых темных волос. Пахло слишком пряно и неприятно — словно несвежая селедка под маринадом.
Он уже не слышал ее голоса, сел в траву и сидел, закрыв глаза. Готов был сидеть так до Страшного суда.
— Идем, ну чего ты. Маленький, что ли.
Встал. Вышел за нею на полянку.
На пеньке сидел кто-то… Бальдур моментально очнулся от позорного забытья… цыган.
Наверно, знаменитый брат. Маргарита быстро что-то ему сказала, он коротко ответил — и Бальдур совсем скис под взглядом, таким же, как у нее, но мужским.
И вот уж странность — Маргарита была некрасива, а этот парень… он действительно был чуть старше ее, ему было чуть больше двадцати — был не то что красив, он был поразительно красив. Бальдур просмотрел много альбомов, видел и египетскую, и скифскую, и татарскую, и русскую, и еврейскую красоту. Мертвый канон. А это была — живая, настоящая красота.
Смуглость еврея, разлетные темные брови — русские или татарские, черт знает, — тонкий прямой нос, неясно чей, за такой поспорили б еще иные народы, — губы испанца, четкий, негромко-чувственный рисунок.
Но волосы… Дикие, даже без солнца поблескивающие, черные патлы, неуверенно вьющиеся. Такого остричь по-человечески — и выдавай его хоть за бастарда семьи Чиано. А так…
Да что «так», когда есть глаза… Простые карие глаза, не напрашивающиеся на эпитет, смотрели на Бальдура так искристо-насмешливо, уголки губ ползли вверх в такой неприличной ухмылке, что Бальдур будто за миг оказался верхом на велике и летел прочь, и ветер не остужал пылающего от стыда лица. А за его спиной звенел, удаляясь, издевательский смех…
После всего этого Маргариту он иногда вспоминал — днем. Воспоминание наплывало — и Бальдур — чем бы в этот момент ни занимался — морщился и мотал головой.
А цыганский братец, который мог украсть велосипед и предсказать судьбу, тоже иногда являлся ему — но исключительно по ночам, и Бальдур всегда жалел, что проснулся слишком рано.
Полуденное солнце било в окно. Эдди прищурился, едва разлепив глаза.
— А как же твои занятия? — спросил он у бугорка на одеяле возле своего плеча. Бугорок не шевелился, а в плечо Эдди все так же тыкался блаженно сопящий нос. А говорил — да мне шести часов достаточно, да вообще почти не сплю… Может, оно и так — но не после хорошей дозы шнапса и еще лучшей — секса. Ладно. В конце концов, ты учишься — твоя и забота. Да и вряд ли один пропущенный день занятий скажется на твоей учебе.
Эдди доставляло удовольствие вспоминать тот отрезок ночи, когда он заставил щенка верещать. Отлично. Просто отлично. Эдди сам кончил, пока лизал его.
Что будет, когда проснется?..
Оденется и уйдет.
Навсегда?
А хоть бы и навсегда.
Да только не верится. Нет, не верится…
Эдди снова и снова вспоминал трущийся о его ладонь член, раздвинутые на всю узкие бедра, сбитую на бок подушку. Крики. И влажное от пота худое тело, прилипшее к нему нежно, словно мокрая тонкая бумага.
Словно малец только и ждал, чтоб кто-то сломал ему целку и тем самым дал ему право вести себя так, как хочется…
Нет, это не Макс.
Вместе с именем на память пришли сумрачный взор из-под крутого лба, перышки жестких черных волос и полный набор острых углов — все было острым, не напорись — коленки, локти, ключицы. Нос…
… и зубы. У Эдди до сих пор белели два полулунных шрамика на предплечье, заметных только когда руки покрывал загар. Этот Макс, сукин сын, бродяжка, у него ведь и носков не было… жил у него три дня и все делал вид, что не догадывается, зачем его позвали. Хотя Эдди и не скрывал, что усыновлять его не собирается…
— Можно кофе?..
Барон херов, подумал Эдди, я тебе что — прислуга? Однако покорно вылез из постели и пошлепал на кухню.
Только когда кофейная поверхность вспухла коричневыми пузырями, Эдди заметил, что из окна дома напротив некая юная фройляйн с ненасытным юным интересом пялится на него, а точней, разумеется, на его голую задницу. Эдди ухмыльнулся и повернулся спиной к окну, давая барышне возможность оценить его задницу в фас. И полез на полку за чашками. Обе чашки — на полуденном солнце это сразу бросилось в глаза — были несколько чумазы снаружи, а внутри их и вовсе покрывал карий налет от крепкого чая и кофе. Эдди обычно мыл посуду на скорую руку. У этого щенка дома, небось, фамильный фарфор, блестит, как соплями помазанный, подумал Эдди. Плевать. Будь проще — и народ к тебе потянется…
— Спасибо, — сказал Бальдур, но за чашку, поставленную на тумбочку, не взялся. От кофе струился ароматный пар, а чашка была раскаленной.
— У тебя башка не болит после вчерашнего? — небрежно поинтересовался Эдди.
— Болит немного…
— А задница?
— Тоже.
— А спина?
— Поясницу ломит чуть-чуть… Полагаю, так и должно быть?..
Нет, подумал Эдди, должно быть хуже. Должны быть, ко всему этому, еще и потерянный взгляд и покусываемые губы — эти, или какие иные признаки угрызений совести… Эдди помнил, как сам он после первой ночи с фрау Мартой ходил со сжатыми челюстями и избегал встречаться взглядом со всеми, в том числе и со старшими по званию. И прекрасно понимал всех своих пацанов, и Макса тоже. А вот такое видел в первый раз…
В каком-то смысле, подумал он, этот пацан, которого в первый раз трахнули этой ночью, порочнее меня. Если понимать порок так, как понимают его все. А вообще-то… у него такой вид, словно он наконец-то обрел то, что искал. И если б я не боялся косых взглядов, я вел бы себя точно так же после… Мартина. Прости меня, фрау Марта.
Эдди наблюдал, как Бальдур одевается перед уходом. Не то чтобы внимательно… просто его существо было — теперь — настроено на этого мальчишку и загипнотизировано им, как кобель течной сукой. И потому Эдди заметил даже то, чего не заметил бы в ином случае: еле заметное содрогание губ, когда Бальдур взял со стула свою рубашку, и истолковал замеченное верно — малец не привык надевать одну и ту же сорочку два дня подряд.
В несвежей сорочке, в мятом пиджаке Бальдур шел по хмурой улице, насвистывая «Нет у меня авто, нет рыцарского замка», и думал о том, что наконец-то с ним случилось то, чего хотел он сам, а не те, кто его окружал. Не мама и отец — те хотели от него блеска. Не пацаны — те желали видеть в нем первого из первых говоруна и драчуна… И тем, и другим он мог дарить желаемое. И наслаждаться этим вовсю. Что там говорить — осознавая свою отличность от других, некую непонятную, но такую удобную, родную, ничего ему не стоящую одаренность, Бальдур успел привыкнуть к тому, что в него влюблены все. Начиная с родителей. Все родители любят своих детей пухлыми младенцами, очаровательными карапузами, пытливыми малышами — но кто видел родителей, влюбленных в своего ребенка-подростка? Уже в тринадцать лет ребенок — низшая каста, а далее — неприкасаемый. Всегда неправ, всегда неуместен, всегда оскорбителен для взора, и говорить с ним без толку, розга или оплеуха действенней слов… Бальдур ни разу в жизни не получил от родителей ни одного удара, не было даже слов, даже взглядов, предвещающих такое. Впрочем, отец иногда произносил некую ужасную фразу, и испуганно вздернутых бровей сына ему было достаточно, но оба знали, что это — только фраза, некий шифр, содержащий беспомощное «я не понимаю тебя, Бальдур».
Тогда Бальдур не задумывался об этом ненормальном родительском благоговении перед ним — сынком достаточно неприятным для нормальных родителей такого круга. Его приводила домой полиция; он пропадал на два-три-четыре дня; когда обходилось без полиции, он являлся домой рваным, голодным и побитым.
Намного позже он понял причину этой родительской дрожи над безалаберным сынком. Это Чарли, самоубийца, обеспечил Бальдуру папино-мамино всепрощение. Потеряв одного сына, Эмма и Карл не хотели потерять второго. Такая же нежная натура.
В смерти Чарли они наверняка винили себя — не поняли, не проследили, не спасли…
Переспать с мужиком он хотел САМ. И теперь думал — а может, стоило так и остаться на всю жизнь игрушкой чужих желаний?.. Ведь так было б спокойнее. А теперь… теперь ему и впрямь захочется мотаться в Мюнхене всю неделю, лишь бы увидеть странно-прозрачные зеленые глаза штурмовика.
Это замечательно, бормотал, словно себя заклинал, тощий растрепанный паренек в мятом пиджачке, мутным взором глядя на просыпающийся город.
Это было неэстетичное зрелище — нет, Мюнхен, конечно, был прекрасен, и казалось, в таком городе должны жить благополучные, довольные жизнью люди… Да как бы не так, с конца войны с каждым днем все обстояло хуже и хуже, Бальдуру нужно было благодарить небеса за то, что мама его была американкой с изрядным состоянием. Иначе бы он сейчас, возможно, был одним из тех голодных ребят, которые весь день бегали по городу в поисках хоть двадцати пфеннигов: «Фрау, я донесу сумки?..», «Фрау, я посмотрю за вашим малышом?», «Герр Тиц, я помою вашу машину?»
Мать возила Бальдура в Штаты, и ему нравилось там, но через несколько дней он — даже в пятилетнем возрасте — начинал тосковать по Германии. Полукровка, он любил ту страну, где родился. До боли в сердце тосковал по Веймару с его густой зеленью и памятником Гете, по Берлину, по Мюнхену — по всем городам, где случилось побывать. Отлично говоря по-английски (это был язык, на котором он говорил с рожденья), предпочитал немецкий. Очень переживал, когда кто-нибудь замечал, что он говорит по-немецки не как все — а как-то слишком уж правильно. Литературно.
Бальдур очень любил свою маму, но предпочел бы, чтоб половина его крови — американская англо-саксо-французская мешанина крови Мидлтонов и Тиллу — начисто растворилась в баварской крови фон Ширахов. Он был счастлив, что не унаследовал от матери внешность и походил на отца, впрочем, баварского в его внешности ничего не было — ни темных волос, ни коренастости. Бальдур был высок и строен, со светлыми волосами и синими глазами, скорей уж саксонец, чем баварец.
Бальдур выбросил окурок. Ветерок приятно обдувал лицо.
Юноша присел на ближайший парапет и принял решение сидеть тут до Судного дня, если ему суждено протрезветь только в Судный день: в нем все еще бродил вчерашний хмель, и он знал, что это очень заметно.
Думая о своем, он безучастным взглядом смотрел на идущих мимо, но взгляд его недолго оставался безразличным.
Бальдур был плохо устроен — его мама всегда говорила — «слишком впечатлительный». Когда он подрос, она говорила — «солнышко мое, всех жалеть нельзя, слез не хватит».
Слез, конечно, уже не было — Бальдуру было уже семнадцать — но он был все тот же, что в пять, что в десять лет. Тот, кто плачет над сказкой, где кого-то убили — пусть и самого плохого персонажа — будет неслышно и незримо плакать всегда, над любой чужой болью.
Просто в Бальдуре рано проснулась — и прочно поселилась — потребность смотреть на людей и ВИДЕТЬ их. Ему все было интересно. Воспитанный на стихах Гете и с жадным интересом читающий все литературные новинки, он с тем же интересом слушал, как переругиваются на улице полицейский и торговка.
Бальдур смотрел на мужчин с сильными, привыкшими к работе руками — они шли, по привычке проснувшись рано, но идти было некуда. Они сами это знали, и их глаза удрученно смотрели по сторонам: может, где нужен грузчик? Уборщик? Землекоп? Вышибала? Выбивала ковров? Кто угодно?
Женщины. Тоскливые глаза, красные рабочие руки. Может, где нужна прачка? Уборщица? Посудомойка? Кто угодно?
Дети. Это было хуже всего. Бальдур всегда багровел до корней волос, если какой-нибудь паренек предлагал ему:
— Посторожу ваш велик, а то уведут ведь… Пятьдесят пфеннигов, сударь…
«Мы сговорились встретиться на Мариенплатц.
Он опоздал на полчаса. Ведет себя, как девица. Хочет, чтоб я его ждал, щенка.
Хотя, что там говорить, на самом деле я не злился. Мне казалось, что он обязательно придет, я был в этом уверен. И хотел увидеть его. На него приятно смотреть.
И он прибежал, делая вид, что страшно торопился.»
— Эдди, извини, у нас сегодня была лишняя лекция, и уйти было никак нельзя, потому что этот профессор имеет привычку сообщать родителям… Стар, как Гете, а память идеальная, всем бы так… Притом глухой, как пень. Однажды стою у него за спиной — он в портфеле роется — и пытаюсь всучить ему свою письменную работу. «Герр Эккерман!» Не оборачивается. «Герр Эккерман!!» Тот же эффект. «ГЕРР ЭККЕРМАН!!!» — «Что вы так орете, фон Ширах, я не глухой!»
Эдди усмехнулся. Бальдур так живо изобразил в лицах дряхлого профессора, что удержаться от смеха стоило большого труда. Хотя рассказанная история отличалась некой гладкостью, свойственной тем байкам, что рассказывались не раз. Врушка Бальдур. Но ему и это идет.
Если бы Эдди еще и уловил связь между именами «Гете» и «Эккерман», он бы сразу понял, что Бальдур врет.
Эдди любовался им, не пытаясь это скрыть. Любовался свежим смеющимся лицом, встрепанной челкой. Любовался даже тем, как ладно и лихо сидит на стройной фигуре расстегнутый пиджак, как славно сбился набок узел галстука…
«С того раза прошло меньше недели. Целовались, сосал ему, научил его сосать мне. Он немножко поломался — но когда я прихватил его за чуб и нагнул его голову к своему дружку, все-таки взял — нежненько так, губы мягкие, язык еле движется. Давай поактивней, говорю, ты не сосешь, а целуешь жопу моему коту. Он чуть не подавился моим хуем, потому что прыснул. Почему, спрашивает, жопу коту? Потому что, отвечаю, с отвращением и брезгливостью. Он — ничего подобного! Я: ладно, тогда старайся. И не смейся с моим хуем во рту, это оскорбление моего мужского достоинства.
После этого он вообще укатился. В буквальном смысле, на пол. Валяется передо мной на ковре и ржет, а я сижу со стояком, таким, что в глазах все красное. Дал ему проржаться, потом за челку с пола. Он — ой, бля, больно, Эдди! Работай, говорю. Любишь кататься — люби и саночки возить.
Он сам захотел, чтоб это, на полную, случилось снова. Побледнел, глупый — не забыл, как пришлось хлебнуть горяченького.
Ничего не случилось. Рано. Я просто совал в него смазанные пальцы. Под конец довольно глубоко. Осторожно. Ему нравится. Я видел. В первый раз вижу такое. Но какая же узкая дырка. Я удивился, как я вообще тогда мог его ебать и как он умудрился не орать.
Да, в этих делах он очень хочет стать взрослым. В остальном — пацан пацаном. Те, другие, были взрослей. Но они же были с улицы. А этот… До сих пор не пойму, каким образом он так управился с парнями-оруженосцами. Но со мной он такой, будто ему даже не 17, а каких-нибудь 13, а я его старший брат.
Я спятил, не иначе. Эрни точно б ухохотался надо мной. Когда это я покупал своим щенкам мороженое? Этому купил. Он не просил — просто я пошел за вином и почему-то купил. Захотелось поглядеть, как он его ест.
Оказывается, он ужасно любит мороженое. Но ел так аккуратно, что я чуть не кончил, на него глядя. А он понял, что я его хочу, все-то он понимает.»
«Он так полюбил трахаться.
И совсем он не как фрау Марта, которая умудрялась за ночь обслужить пятерых-шестерых и притом валялась на своем одеяле так, словно ей все равно.
Бальдура я научил всему, что знал, теперь он как только не дает мне — и так и этак, и вот так. Послушный. Ласковый. Радость, а не парень.
Притом, гаденыш маленький, хулиганом оказался, тоже мне, из приличной семьи. Как мы на улице — в кабаке или где еще — он так на меня и косится, глаза сияют шалавым огоньком, мордашка горит, и я уж знаю — если доведется ему где-нибудь на людях что-то выкинуть — коснуться меня по-нашему — так все, сучонок, готов, на штанах бугор, хоть веди его в ближайшую подворотню, ставь раком и еби как шавку. И, надо сказать, пару раз мы такое проделали — не в подворотне, конечно, и не прилюдно, конечно. Но — в парке. В кустах. Весенний собачий заеб, иначе не скажешь.
Вот и в тот раз было то же самое, только я ему дотронуться до себя не давал до того момента, пока мы домой не приехали. Он весь дрожит, как в лихорадке.
Иди, говорю, к столу.
Подошел, ремешок расстегнул, портки и трусы стянул.
Нет, говорю, совсем снимай. Мешать будут.
Он бровью дерг! — как, мол? Я молчу. Ну, он стащил все, как велено. Стоит передо мной — ох, картинка зашибись! — пиджак, сорочка, галстучек, а ниже пояса — ничего, кроме черных шелковых носков. И красавчик вверх глядит.
Ложись, говорю. Он ко мне спиной поворачивается… нет, говорю, не так. — А как? — На спину, говорю, ложись. Да, на стол. Только он задик на край стола пристроил, я его за ноги дернул вверх — и их себе на плечи. Ножки у него — бабе б не стыдно было, стройные, пряменькие…
Он глазами хлопает: Эдди!..
Чего? Погоди, тебе понравится.
Голову отвернул. Щеки красные, губу прикусил. Стыдно, что ли? — черт знает. Ему еще стыдиться, ухохочешься.
И быстро о стыде забыл, когда я руки смазал и давай его там лапать. Он просто с ума сходит, когда я его за задницу хватаю, радвигаю, как надо, пальцы в него сую… Это сначала — пальцы. А потом… ох, как ему понравилось! Выл, бедняжка, думаю, соседи решили, что я себе собаку купил — чтоб от злости пинать, а сегодня у меня как раз день нехороший…
Кончил он, потом я, смотрю, стонет мой паренек, чуть не плачет. Оказалось, бедрышко свело с непривычки, а он терпел, глупыш… ну, я сразу его за ляжку цап — и разминать. Смотрю — уже улыбается, мордаха красная, слюнявая, довольная…»
«Однажды он примерил мою рубашку. Почти как раз, только я в плечах пошире, конечно. Идет мне, спрашивает?
Идет, говорю, штурмовичок что надо. Скоро такую же наденешь. И ведь правда — сидит на нем, как влитая.
Он так любит, когда я про войну, да про Россбаха, да про Рема и СА рассказываю — слушает так, словно ему и правда лет 13.
Только вот как подумаю, что с Эрни станет, когда он его увидит…
Нет, мать твою. Этого — не отдам. Были у меня пареньки — двое — которыми я спьяну с Эрни делился, да и им спьяну было все равно. Но этот… жалко. Нет. Мой.»
«Разговорчики…
— Тебе, — говорит, а сам смеется, — небось скучно со мной, Эдди?
— Нет, — говорю.
С ним соскучишься, как же. Во-первых, болтушка та еще, во-вторых, так смешно у него выходит — просто видишь, о ком рассказывает. Ему б в киноактеры — цены бы не было.
— А тебе, — спрашиваю, — со мной не скучно? Я книжек не читаю, они мне на хуй не сдались…
— Нет, — говорит, — с тобой весело. Ты хоть не дергаешь меня, не воспитываешь каждую минуту… С тобой — хорошо…
— Ну, — говорю, — и на том спасибо.»
Продолжалось это ровно три недели.
Бальдур — зря Эдди так думал о нем — не был порочным существом. То, что обрел — обрел, но все остальное, что получил в придачу, оказалось сплошным разочарованьем.
Постель? — Да… это было существенно. Когда он видел Эдди — влипал в его взгляд и улыбку, словно муха в мед, а перед глазами вставало мутно-влажное, стыдное виденье раздербаненной постели и здоровенного, распаренного, поблескивающего от пота тела на ней — тела, к которому Бальдура всякий раз нестерпимо, сосуще притягивало — прижаться, охнуть под тяжестью, впустить в себя, хоть и было это всякий раз мучительно трудно, и соитие каждую секунду грозило из сладкого стать раздирающе-болезненным, Эдди мало думал об осторожности, когда увлекался, долбил, как долотом в дубовое полено.
А вот себя в такие моменты Бальдур вспоминать не любил — стыд жег как огнем, да и плохо он себя в этом помнил: оставались в памяти палящее притяженье к мокрой Эддиной шкуре, смешанное амбре пота — своего и Эддиного, черно-алая тьма по ту сторону зажмуренных век, сладко-саднящее мокрое тренье, собственный дурацкий смех пополам с истерическим подвыванием…
Бальдур от одного стыда расстался б со всем этим, если б не ощущал в то же время, что его тело неслучайно ведет себя именно так… Он всегда нравился себе в зеркале, о красоте своей знал, теперь открыл и то, что тело его словно бы и создано для таких развлечений, и ненавидеть его за это было бы неразумно. В конце концов, удовольствие было огромно и ослепительно, смешанное со стыдом и непременно-звенящей в самом жарком постельном пылу ноткой унижения… Эдди довершил ту работу, что начал когда-то в Бальдуре угрюмый золотоволосый Рольф, довел образование нежного, чувствительного, самолюбивого дворянчика до конца, открыв эти дьявольские раскаленные врата пидорского царства, где нет у тебя прав, кроме тех, что дарует тот, кто сует тебе… а в другое время ты — снова ты, и смотришь на тупорылого своего дружка свысока, и ухмылка твоя говорит: да кто ты такой?..
Постель — да….
Любовь — ха! Вот уж сказки для девочек.
Эдди, меж тем, успел искренне привязаться к мальчику, скучал без него, но это было и всё, не умел он ничего больше, тот, чью способность любить убила война.
И этого — он так и не догадался — Бальдуру было недостаточно. Да и Бальдур, спроси его, не сказал бы, чего ему не хватает — и почему ему иногда кажется, что рядом с Эдди он вот-вот задохнется, аж слезы выступают на глазах от непонятного, нелепого, ниоткуда явившегося, но теснящего грудь чувства жгучей обиды. Обиды на то, что вот он, Эдди, рядом лежит, а я не вижу его лица, и мне все равно, что на нем, лице этом, сейчас написано… я засну раньше, или позже — неважно, но перед тем, как заснуть, даже не попытаюсь вглядеться во тьму и понять, о чем думает тот, кто сейчас со мною…
Они были слишком чужды друг другу — говорить не о чем. Резерв боевых мужественных историй Эдди исчерпался быстро, говорить приходилось Бальдуру — и тут-то он чувствовал то, что чувствует порою любой одаренный умница, которого слушают все: ощущал себя клоуном. Блестящим, но клоуном, вынужденным невесть почему развлекать ярмарочную толпу за мелкие деньги.
Куда важней для Бальдура, чем сам Эдди, были те люди, с которыми Эдди его свел.
Поначалу Бальдур без вина пьянел в компании штурмовиков — их грубость и прямолинейность сходила для него за честность и прямоту, он на голубом глазу верил в байки, описывающие их военные подвиги. А перед сном эти парни явно молились не Отцу, Сыну и Святому Духу, а Рему, Россбаху и Революции.
Благодаря знакомству с ними Бальдур, имевший и без того немалый вес в мальчишеских компаниях, воспарил на небывалую высоту.
И все это было замечательно. Тешило тщеславие. Но Бальдур состоял не только из тщеславия.
Он смотрел на этих людей, вступал с ними в разговоры, ночами в своей комнате часами проигрывал эти разговоры так и этак — и в конце концов понял, чего ему в этих людях не хватает.
Орали они громко. И всерьез желали все изменить — еще бы нет, если это их дети голодные и оборванные бегали по городу.
Но ни один из них не знал, что именно нужно ДЕЛАТЬ.
Бальдур тоже не знал. Но даже в свои семнадцать понимал, что криком делу не поможешь.
1925. Дуэт для фортепиано и виолончели. Гитлер
Ронни не мог дождаться, когда кончится этот февраль — четвертый месяц одиночества — потому что возлагал на март некие смутные, неопределенные, непонятные надежды — хотя надеяться было не на что, совсем не на что. Жизнь его, как он считал, окончилась, не начавшись.
Он помнил взгляд Эдди Хайнеса, помнил его хлесткое: «Жиденок, брысь, этот не для тебя», — и в горле першило, и становилось больно дышать. Это напоминало ему, как он гостил у тетки в деревеньке на Дунае, и как они, мальчишки, срывали спелые колосья пшеницы и грызли зерна. Просто так. У недозрелых зерен был вкус из тех, что приятны только в детстве — то же, что грызть сосульку, пробовать волчью ягоду… А шли они в то время, кажется, на речку — и в предвкушении прохлады, возни и брызготни им просто не шлось спокойно, несмотря на жару, и они то и дело толкались, спихивая друг дружку с дороги в поле. Это ужасно их смешило, как смешат только мальчишек исключительно идиотские выходки. Больше всех прыгал и бесился Квекс — так его прозвали за то, что у него было шило в заднице…
Годами позже Ронни увидел фильм «Квекс из Гитлерюгенд» — и это было как удар поддых…
Этот, его Квекс был тоже еврей. Или, пользуясь выражением Хайнеса, жиденок.
Это был маленький кучерявый пацан, находившийся в странно-родственных отношениях с пространством. Его подвижность и вертлявость словно обеспечивали ему некую безопасность всегда, что б он ни творил. Там, где другой непременно споткнулся бы и приложился оземь, Квекс, штопорно изогнувшись, ухитрялся не упасть. Он уворачивался от летящего в него каштана даже тогда, когда стоял к бросающему спиной и не подозревал о его намерениях. Он взбирался на деревья так высоко, что другие только ахали, и балансировал на самых тонких ветвях, дрожащих под его узкими ступнями, как струны под пальцами. Он был как марионетка на невидимых нитях.
И вот — в разгар всей этой дурашливой толкотни — пространство впервые предало Квекса… Его толкнули, а он… упал. И закашлялся.
Вскочив на ноги, он кашлял и кашлял, побагровев и держась за грудь. Ребята хлопали его по спине из всех сил, он сводил лопатки и кашлял.
Речка была забыта, все побрели назад, испуганно косясь на кашляющего, задыхающегося Квекса. Это ты его толкнул. Я? Ни черта, это Ганс, я только подбежал…
Квекс больше никогда не прыгал с крыш и не скакал по веткам. Он проболел месяц и умер.
Ронни, единственный из летних его друзей, навещал его — Квекс тоже был из Мюнхена, тоже приехал на лето к родным.
— Больно дышать… и не хочется, — говорил желтый, с синими ногтями, на себя непохожий Квекс. Он стал такой маленький — куда меньше, чем был. Если ему и без того в десять лет давали восемь — сейчас казалось, что ему шесть, такой он был крошечный и такой ужас дрожал в его черных глазах, съежившееся лицо его казалось старческим.
Когда его вскрыли, стало понятно — причиной смерти стал колосок, который он вдохнул. Колосок застрял в легких, и сгнил, и заполнил их гноем.
Ронни долго не мог спокойно спать после этого — дело было в том, что он знал, Квекс умрет.
Сейчас он чувствовал себя почти так же, как Квекс. Словно в его легких что-то застряло. Больно было дышать, не хотелось дышать.
Он не хотел даже смотреть на мать, когда она возвращалась с работы. Она была лишним напоминанием о том, что никогда, никогда им обоим никуда не деться отсюда. Накопить денег, продать квартирку… и что? И — куда?
Та жизнь, которой Ронни год назад отдавал все, что мог, отвергала его. Говорила голосом Хайнеса и вела себя как Бальдур, который ни разу, никогда не зашел к нему после этого. Дружба, оказывается, это такая барахолка. И маленький немец Бальдур ведет себя не лучше жида из пропагандистских брошюрок, меняя худшее на лучшее…
Ронни ни разу не пришло в голову, что Бальдур никогда не был у него дома и не знал его адреса.
Он издалека иногда видел его — в компании коричневорубашечников. И думал — кто же из нас идиот, а?
Начался март, но Ронни все еще никак не мог очнуться от стылого оцепенения.
— Ты когда-нибудь что-нибудь будешь делать? — сказала его мама как-то вечером. Она плакала. Вечер был холодный, она пришла с работы. У нее не было перчаток.
У нее были красные руки. Она смотрела на них и плакала. Она давно уже мыла посуду и котлы в рабочей столовой. Наци не хотели, чтоб евреи учили их детей.
Ронни промолчал.
На следующее утро — после того, как она ушла на работу — он вытащил из шкафа футляр со скрипкой.
Она лежала в своем гнезде из потертого малинового бархата такая же, какой была, когда он вынимал ее в последний раз, для того, чтоб сыграть Бальдуру.
Ронни вынул ее, и ему, как обычно, показалось, что весу в ней не больше, чем в бумажном кораблике. Но хрупкий инструмент выглядел так бесстрашно! А тусклое сияние лака было как дружеская улыбка. Скрипка простила ему его дурацкое пренебрежение. И казалась сейчас единственным другом.
Что ж. Если никуда не деться от того, что ты еврей, еще есть шанс, подумал Ронни. Я ведь знаю, знаю, за что наци не любят евреев. За то, что они удачливы и богаты. Но я не банкир, не торговец. Я… музыкант. Да. И от этого мне точно так же никуда не деться, как от своей жидовской крови. Разве нельзя быть музыкантом? А, Бальдур? Что ты имеешь против музыкантов?
Маленький нестриженый мальчик с темными глазами вызывающе поднял голову.
Он совершал ошибку, сводя всех нацистов к одному Бальдуру фон Шираху, и сам это чувствовал, но иначе не мог, иначе было слишком страшно.
Для Бальдура фон Шираха холодный март 1925 тоже стал поворотною точкой. До него сердце Бальдура было как разболтанный компас, стрелка в котором вихляется и глупо трепещет. Март 25 справился с этим. Он привел в жизнь Бальдура человека, который оказался столь сильным магнитным полюсом, что стрелка задрожала в последний разок — и многозначительно замерла, указывая куда нужно.
Бальдур часто ездил в Мюнхен, знал все новости — знал и то, что «оратор из пивных», герой пивного путча Адольф Гитлер освобожден из крепости Ландсберг, написал там книгу и вот-вот издаст ее.
В тихом Веймаре Бальдуру было тесно и душно — тут ничего не происходило, настоящая жизнь была в Мюнхене и Берлине.
В доме Ширахов часто гостил доктор Ганс Северус Циглер, литературовед и художник, с недавних пор важная шишка — заместитель гауляйтера Тюрингии. Циглер стал национал-социалистом до «пивного путча», а антикоммунистом — и еще раньше, как он однажды сказал.
— Я тоже, — отозвался Бальдур, — я с 12 лет в «Кнаппеншафт»!
Циглер с ласковым интересом взглянул на юношу сквозь стекла своих очков в тонкой оправе.
— О да, Бальдур, ваш батюшка рассказывал мне, какой у него растет юный патриот. Как там у вас дела в «Кнаппеншафт»?
— Он там лидер, — с гордостью сказала мать Бальдура, фрау Эмма, урожденная Эмма Мидлтон, в жилах которой текла буйная кровь свободолюбивых и безалаберных американцев. Она явно восторгалась своим нежным интеллигентным мальчиком, который оказался настолько умным и смелым, что смог командовать грубыми и упрямыми тюрингскими мальчишками.
— О, замечательно, — разулыбался доктор Циглер, дабы скрыть свое недоверчивое удивление. Он был давний знакомец Карла фон Шираха и помнил его младшего сына маменькиным сынком, послушно играющим на рояле положенные часы, но в остальное время болтливым, капризным и сознающим свою власть над обожающими его взрослыми. Бальдур порою казался очень плохо воспитанным — но при одном взгляде на его улыбающуюся мордашку с хитроватыми глазищами в пушистых ресницах об этом забывалось, такого и наказать-то рука не поднимется.
Сейчас перед Циглером стоял уже не тот избалованный мальчишка. В свои семнадцать Бальдур был высоким худеньким юношей с коротко остриженными пепельными волосами, серьезными глазами, изящным, но все же выдающимся фамильным носом и строго сжатыми губами.
— Вы можете задавать мне любые вопросы, Бальдур, — сказал Циглер.
Тот мигнул и тихо попросил:
— Расскажите про Гитлера.
Не прошло и недели, как Циглер снова предстал перед Бальдуром — на этот раз стекла его очков грозно и деловито поблескивали.
— Бальдур, вам ведь известно, что Гитлеру запрещено выступать в Баварии?
— Да-да, вы говорили…
— Это значит, что он будет выступать у нас, в Тюрингии. Здесь, в Веймаре.
— Да?!
— Да. Будьте любезны узнать цены во всех отелях. Он будет с четырьмя сопровождающими, всех мы должны достойно принять. Но средства — мои средства — ограничены, что уж там говорить.
Бальдур справился с блеском:
— Герр Циглер! Я думаю, отель «Германия», что у вокзала!
— Но он же… эээ… третьего разряда.
— Он в порядке. Я заходил туда. Ничего там такого ужасного нет. Конечно, не «Элефант», но…
— Отлично, — быстро ответил Циглер, — А как там насчет зала для выступления Гитлера?
— А, я тоже об этом узнал, это будет стоить еще тридцать имперских. Собственно, это не зал, а большая комната, но… Это близко к отелю, сейчас напишу адрес…
— Отлично, Бальдур, отлично! Там сядет пятьдесят человек?
— Больше.
— Больше не нужно. Бальдур, сколько ребят в вашем «Кнаппеншафт»?
— Сколько вам нужно, герр Циглер?
— Тут у нас, — доктор протер очки платком и снова водрузил на толстую переносицу, — нет штурмовиков. Но мы должны обеспечить охрану. Мало ли что, правда?..
— Да тут будет тихо, как в гробу, — ответил Бальдур, — но мы будем охранять, будем! Герр Циглер, вы можете на нас положиться, клянусь!
Бальдур и впрямь расстарался так, как Циглер и не ожидал от него. Подъезжая с Гитлером к отелю, Циглер увидел, что тот оцеплен подростками в одинаковых серых спортивных курточках, бриджах и высоких горных башмаках. На головах мальчишек были лыжные шапочки, надвинутые по самые брови, это придавало их лицам суровый вид. По фронтону стояли — хитрый Бальдур элегантно затушевал малочисленность и в среднем очень юный возраст «Кнаппеншафта» — самые старшие и высокие. Зная то, что рассказывал Бальдур, Циглер сильно подозревал, что с тылу отеля, негодуя в душе, торчит с десяток двенадцати-тринадцатилетних парнишек.
Сам Бальдур, естественно, стоял у входа. И вид у него в кои-то веки был важный и грозный, ни дать ни взять очень молоденький штурмовик.
— Кто такие? — с интересом спросил Гитлер.
— Общество народного сопротивления «Кнаппеншафт», — ответил Циглер.
— Славные ребята.
— О да.
— Но уж больно молоды, — улыбнулся Рудольф Гесс.
— У нас тут в Тюрингии, — сказал Циглер, — считают, что воспитание патриота следует начинать с детства… Прошу вас…
Он открыл перед Гитлером двери отеля. Как только все приехавшие исчезли внутри, с лица Бальдура моментально сбежало суровое выраженье, и он с открытым ртом обернулся к своему приятелю Гансу Донндорфу, что стоял рядом. Вытаращенные синие глаза встретились с выпученными зелеными.
— Ганс, смотри!!!
— Даааа…
Причиною восторга был мерседес. Парни так засмотрелись на него, что и не заметили тех, кто из него вышел. Такие даже Бальдур видел только в последнем модном кинофильме, а уж остальные-то… Шестиместный, длинный, как корабль, он и не подъехал, а неслышно подплыл к отелю! Спицевые колеса! Черный, словно у рояля, тусклый благородный блеск! Кожаные сиденья!
Бальдур несколько привял. Его собственный ореол, осеняющий его как владельца шикарного спортивного велосипеда фирмы «Бренабор», померк.
— Ни черта себе, — бормотал Ганс. Он забыл уже, что нужно держать оцепленье, и осторожно, на цыпочках, словно автомобиль мог отъехать без шофера, взлететь или просто раствориться в воздухе, подбирался к нему, чтоб кощунственно коснуться кончиками пальцев блестящей дверцы. Рядом таким же манером подкрадывался Бальдур. Остальные тоже нарушили строй и по шажку стягивались поближе к чуду чудному.
— Черрт, — сказал Ганс, — вот так подумаешь — что ни делай, а у тебя такой машинки не будет никогда-никогда…
Бальдур дрожал от восторга и ужасного сознания своей неполноценности. Это так мучило, что он вдруг высоким баском заявил:
— А у меня будет!
— Даааа…
— Спорим?! Не сейчас, а потом. Будет, вот. Я сказал, будет, значит, будет.
— Ха-ха. На что спорим?
— На… на…. Ну, Ганс, не знаю на что.
— Да разве тут скажешь, на что, если мы тогда уже будем взрослыми… Да, мы тогда, наверное, будем коньяк пить. Давай на бутылку «Хеннесси».
— Давай.
Бальдур, разъезжая в своем мерседесе по всем дорогам Германии, с грустью вспоминал этот детский спор. Ганс проиграл…
Соглашенье было заключено, и Бальдур только теперь вдруг заметил, что порядку конец — «Кнаппеншафт» толпился возле машины.
— Это что такое? — рявкнул он, — В строй!!
Сделал он это весьма вовремя. Через десять минут из отеля вышел доктор Циглер.
— Бальдур, — позвал он, — теперь пора в зал.
— «Кнаппеншафт», стройсь! — заорал Бальдур, вновь ощущая себя отнюдь, отнюдь не последним существом на белом свете.
— Бальдур, — Циглер был очень доволен, — Мне кажется, вы хотели б послушать речь…
Бальдур вошел в «зал» и сразу увидел, что тот полон знакомых — здесь был весь цвет Веймара, многие из этих людей бывали в доме фон Ширахов (впрочем, не в те дни, когда в гостиной толпились и вдохновенно голосили что-то гениальное актеры, музыканты и художники). Бальдур подозревал, что многие из них, если заметят его, весьма удивятся — он представал им в доме отца исключительно как вежливый мальчик в смокинге. Но ему было наплевать на это.
Циглер усадил его на какой-то случайный стул у стены.
Общая атмосфера была далека от торжественности — веймарские сливки переговаривались, попивали кофе и делали вид, что вообще явились сюда провести приятный вечерок.
— А сейчас, — сказал Циглер, — вы услышите Адольфа Гитлера.
Рядом с ним появился невысокий, стройный человек в темно-синем костюме, с короткими каштановыми волосами на прямой пробор и маленькими усиками под носом. Ничего особенного, подумал Бальдур, вовсе ничего. С виду весьма скромное созданье. Он видел его и раньше, на газетных фотографиях.
Гитлер заговорил.
Бальдур влюбился.
Он с трудом воспринимал смысл речи — да и знал уже все это: унижение Германии Версальским договором, все исторические предпосылки такого положения… С этого начинали все национал-социалистические ораторы, которых он слышал раньше. Но, может быть, тут впервые дала о себе знать злосчастная Бальдурова натура — если сердце его жаждало веры и любви, он был склонен поверить и полюбить сразу, как только предоставится возможность и явится достойный кандидат.
Полсотни веймарцев долго, очень долго «спали», отнюдь не помогая оратору, но Гитлер, словно не замечая этого, продолжал. Тихий его голос становился все громче. Бальдур дружил с молодыми актерами Веймарского театра, от них и знал это выраженье — зал «спит». Ему очень, очень хотелось «разбудить» все это старичье, хоть как-нибудь, но он не смел. Это были уважаемые люди, которые рассказали б о его недостойном поведении отцу. Отец никогда не наказывал Бальдура, но порой, когда с мальчишкой сладу не было, любил пугать его наказаньем, и делал это так достоверно, что Бальдур с семи до семнадцати лет полностью терялся от одной отцовской угрозы — «я тебя сейчас выпорю», а Бальдур так живо представлял себе это отвратительное действо, что всегда боялся всерьез.
Бальдур дрожал на своем стуле, вперив в оратора горящие глаза. Этот голос проникал в него, как… «как член Эдди Хайнеса», — подумал Бальдур со стыдом и с усмешкой, но только — в сердце. Господи, это не голос, а виолончель… такой же низкий звук… такая же негромкая убедительность иправдивость. Бальдур в жизни не слышал виолончели, которая врет — и был убежден, что на этом инструменте можно играть лишь имея идеальный слух.
Глаза Гитлера скользили по залу — так делает любой, говорящий для камерной аудитории, дабы облегчить свое положение: проще найти одного, кто слушает, и говорить для него. И он нашел такого слушателя — правда, не разглядел его толком, увидел лишь устремленные на него блестящие глаза… Глаза блестели далеко, где-то у стенки, но это было только на руку. Искать того, кто слушает, Гитлера учил его приятель Эрнст Ханфштенгль, и он же говорил — «хорошо, если слушатель твой сидит подальше, глядя в конец зала, ты производишь нужное впечатление на всех. А таращась в первые ряды — абсолютно ненужное».
Голос Гитлера взлетел.
Бальдур видел, что оратор глядит на него, но думал, что этого быть не может, никак не может же!.. Это случайность… Тем не менее, он сел прямей, чем сидел до того.
Наконец-то зал замер, принимая горячую волну, идущую от оратора, и выкупался по уши — это чувствовалось. Теперь ни шороха не было слышно, хотя мужчины невольно меняли позы — раньше сидели как в кафе летним днем, теперь Бальдур видел перед собою прямые спины…
Гитлер закончил с пафосом. Слава Богу, никто не смотрел в тот момент на мальчишку из очень приличной веймарской семьи, который приподнялся на стуле в полной готовности заорать «Браво!»
Тут же, послушные приказу Ганса Донндорфа (точней, приказу Бальдура) зал заполнили мальчишки в серых курточках с тарелками, а доктор Циглер громко возгласил:
— Уважаемые господа, пожертвуйте партии, которая спасет Германию!..
Бальдур не ходил с тарелкой. Он стоял, наблюдая за своими ребятами.
Они собрали аж 75 марок.
— Замечательно, Бальдур, — сказал Циглер, — Мы собираемся обсудить кое-что у меня дома. Не хотите ли — вместе с вашим другом — присоединиться?..
«Вы заслужили это».
— Конечно, — ответил Бальдур, ища глазами Ганса, — да!
И еще долго сможем разглядывать мерседес, подумал он, вот бы прокатиться…
К его великому разочарованию, до отеля Гитлер, его сопровождающие и Циглер отправились пешком. Циглеру нужно было вернуть машину до восьми вечера.
Бальдур и Ганс, донельзя гордые, шли за ними, как настоящие охранники.
Циглер и Гитлер о чем-то бурно беседовали, гитлеровская четверка отстала, но один из нее отстал более чем другие, почему-то дождался двух мальчишек и пошел вместе с ними.
— Отлично охраняли, — сказал этот человек. Он был высок, строен, и, несмотря на холод, на нем была только коричневая рубашка с черным галстуком, форма СА. Его серые глаза глядели из-под мохнатых бровей грустно и не задерживали ни на ком взгляда, — Кто такие?
— Бальдур фон Ширах.
— Ганс Донндорф.
— Я Рудольф Гесс.
— Спасибо, — пробормотал Бальдур, Ганс смутился.
Рудольф Гесс!!! Путч, Ландсберг!!
Гитлер улыбнулся, когда вошел Гесс, и блики его улыбки достались и вошедшим за ним мальчикам.
Циглера не было видно.
— Охраняем — значит, надо охранять, — сказал Бальдур, и они с Гансом вышли из комнаты и застыли у дверей.
Стояли с час, наверное, и уши что у одного, что у другого росли в сторону двери.
Гитлер вышел, вслед за ним вышли Циглер и остальные.
— Кто эти парни?
Циглер торопливо представил:
— Бальдур фон Ширах…
Гитлер протянул Бальдуру руку, тот обалдело пожал ее.
— А это… (Ганс Доннсдорф, — тихо подсказал Бальдур) Ганс Доннсдорф.
Гитлер пожал руку второму.
И ушел.
Рудольф Гесс опять задержался. И вдруг надвинул на нос Бальдуру его лыжную шапочку:
— Пока. Молодцы!
— Бальдур, Ганс, отлично, — бормотал Циглер.
Бальдуру было не до него.
Они с Гансом вышли, идти им было в разные стороны. И Ганс изумленно застыл, глядя, как Бальдур сделал три козлиных скачка по улице, а потом еще и прошелся колесом — с воплем «Ааааааааа!!!»
— Дурной-то! — крикнул Ганс. Бальдур, смеясь, подбирал то, что выпало из карманов, пока он валял дурака.
Он прилетел домой и кинулся к своему столу. Он давно писал стихи, но всегда стеснялся их показывать кому бы то ни было.
Но стишок, написанный в ту ночь, показал Циглеру.
— Ну-ка… Бальдур? Есть копия?..
Вскоре Бальдур — с красными ушами и орущими в сердце победными трубами — увидел свой стишок опубликованным в газетке «Национал-социалист».
А потом почему-то это начали публиковать и в других газетах…
На седьмое небо часто попадают с красными ушами.
А тут подоспел и Гран При — посылка с открыткой. «Герр Гитлер благодарит герра фон Шираха за стихотворение и высылает ему свой портрет с подписью. Рудольф Гесс».
Бальдур долго, долго смотрел на портрет. Тот самый синий костюм, сидящий так себе, коль уж начистоту. Те самые — жесткие, внимательные, непонятные глаза…
Где у меня там валялась серебряная рамка?..
Из другой — черной — рамки на столе смотрело на Бальдура красивое лицо паренька с пепельными волосами и длинным носом. Тонкая шея в тисках гимназического воротника, детское молочное свечение щек, особая легкая муть в светлом вроде бы взгляде — этакая легкая облачность — все это было как намек: таким недолго жить на свете, слишком хороши для него. Мать носила в медальоне портрет этого мальчика, но у отца в кабинете не было фотографий этого парня.
Брат Карл. Вундеркинд. Самоубийца. Тот, кто стоял теперь за правым плечом Бальдура всегда — и лишь при Хайнесе исчезал деликатно. Хайнес не отличался деликатностью. «Слабак он был, твой Чарли, говори что хошь». Впрочем, он и о Гитлере говорил без особенного восторга — вот Россбах, вот Рём, это то, что нужно, бойцы-офицеры-герои-спасут-Германию. А Гитлер, он хоть и служил, а все равно — художник, понимаешь. А с виду — чокнувшийся клерк…
Да ну его, Хайнеса, тупицу, который даже не понимает, что именно этот презренный художник — единственный из всех — сможет что-то ИЗМЕНИТЬ, потому что есть у него способность говорить то же, что и другие, так, что тебе немедленно хочется в бой.
Ты же не обидишься, Чарли, подумал Бальдур, глядя в лицо брату.
Родители беззлобно посмеялись над новым портретом — Бальдур, невесты вот так ставят на стол фотографию жениха. Бальдур вздрогнул.
Они, конечно, так и не узнали о его приключении с Хайнесом — и слава Богу, страшно было и представить себе недоумевающий и презрительный взгляд отца, растерянные и неверящие глаза мамы…
Да и Гитлер, наверно, скривился б, почему-то подумал Бальдур. И Гесс…
А может, и нет.
Бальдур почувствовал в нем что-то этакое, но Гесс был не вроде Хайнеса, а вроде него самого… возможно. Очень уж странно он смотрел на Гитлера. Неотрывно. Даже когда разговаривал с мальчишками. Смотрел не глазами — всем существом, и весь был как радиоприемник, настроенный на гитлерову волну. Любопытно, куда ж он смотрит, Рудольф Гесс, если Гитлера нет в поле зрения?..
В следующий свой визит Циглер принес Бальдуру новую, но уже много раз читанную, слегка засаленную книжку.
— Обязательно прочтите. Это поможет вам разобраться во всем получше, мой друг.
Это было творение Форда «The International Jew», новая библия антисемитов. Бальдур прочел ее за одну ночь — и книга эта непонятным образом напомнила ему Гитлера. Она была такой же захватывающей и жестокой, и точно так же, как Гитлер, срывала с реальности блаженные покровы. Ронни Гольдберга уже не было рядом с Бальдуром, да он и не вспомнил о нем, когда читал эту брызжущую желчью книжонку. В конце концов, Ронни был не такой еврей, о каких повествовалось в этом трактате, создававшем зримый образ хитрого, лицемерного, наглого врага.
О Ронни он вспоминал часто. И думал — да куда же, черт возьми, он подевался?
Бальдур спрашивал о нем у оруженосцев, но те и сами не видели его «с того митинга, ну помнишь… стоп, да вы же вместе ушли?»
В очередной раз отправившись в Мюнхен, Бальдур заказал еще не вышедшую из-под типографского пресса книгу Гитлера.
И компания Гитлера пополнилась еще одним неотрывно смотрящим. Еще одним влюбленным.
Но Бальдур никогда — хоть и обладал буйным и порой неприличным воображением — не мог бы представить себя с Гитлером так, как с Хайнесом.
Хайнес был плотью. Девяносто килограммов красивой, жизнерадостной, самодовольной плоти, вечно стремящейся только к плоти же, вечно наливающейся дурью, потом и свежим горячим семенем от близости какой-нибудь юной, неосторожной, с неосознанным кокетством сплевывающей себе под ноги тушки. Мир полон хайнесов — не каждому же давать.
Гитлер же… дело в том, что, встреть его Бальдур незнакомцем на улице — пролетел бы мимо, и не взглянув.
Бальдур, выросший среди вечных странников театрально-музыкально-шедеврально-ненормальной богемы, привык видеть вокруг себя людей или красивых, или умеющих таковыми казаться. Гитлер, хоть и сам был художником, выглядел карикатурой на всех этих людей. Ассиметричная прядь, падающая на лоб… вздумай тот же Бальдур завести себе такую, и у него был бы весьма романтический вид. У Гитлера вид был такой, словно он сэкономил на стрижке. Вздумай тот же Эрнст Ханфштенгль напялить такое пальтишко — и казался бы не клерком, а трагиком, изгнанным из театра за пьянство… Эдди Хайнес, не имеющий отношения ни к какому искусству, кроме исскуства трахать мальчиков, был достаточно хорош собой, чтоб взволновать юного эстета, а Гитлер казался бы самым заурядным даже среди людей, отобранных в киношную массовку по принципу заурядности…
Бальдур, как несколько раньше влюбился в Хайнесову плоть, теперь влюбился в Гитлера — точней, в дух, в величие коего сразу и безоговорочно поверил, и удручающая невзрачность плоти, этот дух облекающей, в этомслучае отчего-то не наводила на мечту о гармонии, но только подчеркивала, подтверждала величие духа. В конце концов, размышлял Бальдур, у которого, честно говоря, от бурного и беспорядочного чтения была изрядная каша в голове — ну покажите же мне хоть одного ВЕЛИКОГО, подлинно великого человека, который физически был бы сравним с Аполлоном! Ни Сократ, ни Наполеон, ни Рихард Вагнер, ни Отто Бисмарк не смогли бы с чистым сердцем выпендриваться перед девицами на дунайском пляже.
Адольфа Гитлера, в прошлом — ребенка, многократно и жестоко битого, тянуло — и тогда, и сейчас — к детям небитым. Красивым, счастливым, наглым и обаятельным. Древний царек, тешивший стылую старческую кровь близостью жаркого юного тела, был не дурак. И голые гуталиновые воины с кольцами в носах, вкушавшие сырую печень храброго врага, были не дураки. Бери у других то, чего не хватает тебе, бери — или отнимай, и весь мир станет твоим. Окружи себя монахами — будут считать святым.
Юный Ширах был очарователен и смотрел на Адольфа с восхищеньем — этого было достаточно, стоило прибрать его к рукам… тем более что Гесс надежд не оправдывал.
А ведь он, Гессик[5], тоже был небитым ребенком. Любимым ребенком. Красивым, умненьким, одаренным пареньком — таким Адольф увидел его впервые, такого прибрал к рукам. Взор у Гесса тогда сиял — точь-в-точь как теперь у Шираха… и Гесс был прекрасен своей экзотической красотой, гибкий и тонкий египетский котенок с ясными грустными очами.
И все же Адольф ошибся. Гессик, противу ожиданий, оказался мудаком — и все дальше продвигался в этом направлении. В детстве его и пальцем никто не трогал — а вел он себя как самый затюканный сирота из нищего католического приюта, так и не научившийся драться со свинчаткой в кулаке, воровать с кухни булочки и нравиться воспитателям. Он был честен удручающей, скучной честностью натуры, которой больше нечем похвалиться, и как-то безрадостно аскетичен. Его прозвали «совестью партии» (какая злая ирония — если учесть, что партии, жаждущей успеха, совесть ни к чему), а еще — «стеной плача» (за каменной шкурой египетского сфинкса пряталось женское сердце — нежное и всепрощающее, Гесс только и знал заступаться за кого ни попадя). Но главный недостаток Гессика в глазах Адольфа состоял даже не в этом, а в том, что все это делало его занудой. У Адольфа тоже имелась предрасположенность к занудству, он знал об этом — как и о крайней непривлекательности этой черты — и потому не терпел возле себя зануд, словно боясь от них заразиться. Лучше уж верещун Геббельс, алкаш и бабник Лей, веселый бандюга Рем, хохмач Пуци.
Но Гессик… Адольф до сих пор не разлюбил его, не мог — и сердился на себя за это. Уговаривал себя — смотри, смотри, какой он на самом деле. Вовсе не такой, каким пришел — а пришел сияющим, мило-сдвинутым, преданным до зубовного скрипа… впрочем, преданным и остался… Адольф не подозревал, что сам высасывал из Гесса жизненные соки. Коротышка всегда мог спрятать этого высокого малого в своей огромной тени… Мой Руди, мой Гессик, говорил он иногда, когда никто не видел, и гладил несчастного парня по черному стриженому затылку. Гессик млел. Адольф бесился. Любовь Гессика была искренней и сильной, но он прятал ее — да и правильно, ничего более ценного у него и не было. Но это и бесило — скрытность, потаенность… трусость? Адольф был примадонной, для коей доказательством любви служит публично поднесенная корзина роз — а Гесс, стесняясь, дарил полевые ромашки. Скрытно, тайно. Да и сам был не человек, а… какая-то тьма египетская.
Дабы заставить Гесса проявить наконец свои чувства, признаться, расколоться, отдаться на милость победителя, Адольф жестоко мучил его равнодушными взглядами, пренебреженьем, циничными шуточками, заставлял ревновать с помощью прямо-таки бабьих садистских уловок… Но Гесс и от любви страдал как тихий псих или глупая девица — смешно сказать, но от ревности и обиды у него болел живот.
Между тем кое-кто уже в открытую поговаривал о том, что Гесс гомосексуалист, не иначе. О Реме и то шептались меньше — он ничего не скрывал, и в силу этого болтать о нем было даже и неинтересно.
Адольф отчаянно злился, когда до него доходили эти слухи. Ведь болтали о том, как он натягивал верного Гессика в камере Ландсберга — не иначе, на рабочем столе, подложив ему под задницу рукопись «Майн Кампф». Меж тем ничего подобного не было, в Ландсберге были вполне удобные кровати… Да и гомосексуалист из Гесса был бездарный, и трахать его было совестно, потому что он беззвучно плакал от дерущей боли и жгучего стыда. Раскаленный штык в заднице, раскаленное шило в сердце. А с темно-золотистой египетской кожи долго не сходили синяки.
Адольфу мучительно хотелось поговорить с кем-нибудь обо всем этом, поделиться. Ведь это всего лишь армейская забава, так? Ничего серьезного в этом нет и быть не может. Адольф прекрасно знал, что вообще говоря его тянет на баб. На парней тянуло только в армии — а здесь только на Гесса, и Гесс сам в этом виноват, нечего быть таким.
Адольф не хотел обсуждать это. Ему нужно было, словно тому древнему греку, который узнал, что у царя Мидаса ослиные уши, просто сказать кому-то — я трахал Гесса.
Он с кривой ухмылкой перебрал кандидатуры и остановился на Пуци, хоть это и было крайне рискованно — уж этот был проницателен прямо-таки до неприличия.
Адольф улучил момент, когда Ханфштенгль лениво, но самоуглубленно беседовал с роялем на тему Бетховена.
— Пуци!
Па-па-па-памм!
— Чего?..
— Как думаешь, — быстро проговорил Адольф, — Гессик наш — часом не пидор?
Па-па-па-памм!!
— Гессик не пидор.
— Но говорят же, что…
Па-па-па-памм!!
— Гессик дурачок, — мягко сказал Пуци, — Отстань, Адольф.
Казалось, Пуци просто-напросто глух. Как Бетховен. Чтоб проверить это, Адольф еле слышно ляпнул:
— Не может же быть пидором тот, кто плачет, когда его трахают!
Па-па-па-памм!!!
— А ты его не трахай — он не будет плакать.
Да. Глухой тут был один. Бетховен.
И идиот только один. Не Бетховен. И, как ни обидно, не Ханфштенгль.
А Пуци пожалел, что сдержался и не сообщил Адольфу, что иметь человека, который от этого плачет, вообще-то называется не «трахать», а «насиловать» — и от всей души посочувствовал Гессу. Хоть это и было бездарным занятием — сочувствовать. Сука не захочет, кобель не вскочит…
И все же ему было жаль Гесса, нежного Гесса, не умеющего говорить «нет» предмету своей чертовой любви.
— Ты фон Шираха знаешь? — спросил вдруг Адольф.
— Знаю. Директор веймарского театра. Экс. Покинул кресло в знак протеста против Версальского мира… кажется. Жена у него прелесть.
— Он меня приглашает на обед, — доверчиво сказал Адольф.
— Ну так иди. Оденься прилично и иди. Веди себя хорошо. Семья из тех, что твои уличные друзья зовут «фу-ты ну-ты», — усмехнулся Пуци.
— Сын этого Шираха, между прочим, поэт, — Адольф порылся в бумагах на столе и извлек пожеванный номер «Национал-социалиста», — Славный, кажется, паренек.
— Не поэт, а стишки пишет. Бальдур его зовут. Паренек как паренек. Распиздяй, конечно. Избалованный, конечно. И его родители почему-то считают, что из него выйдет великий пианист — это все равно, как если б ты считал, что из Гессика выйдет неплохая танцовщица кордебалета в «Лебедином озере».
В ту ночь, когда Бальдур остался с Эдди, Ронни всю ночь бродил по родному городу, как по чужому.
Днем Мюнхен нравился ему. Ночью он был как любой город, в котором у тебя не к кому пойти. Он не враждебен — он просто равнодушен к тебе, что б ты ни делал. Хочешь, сиди на скамейке, все больше скукоживаясь от ночного холода, хочешь, накручивай круги по улицам, хочешь — плачь, а хочешь — смейся. Только не стучи в чужие двери и не заглядывай в чужие окна, светящиеся нежным семейным светом: в золотистом круге под уютным абажуром — книжка, и мягкий женский голос читает детским глазенкам, внимательно блестящим из полумрака, сказку на ночь. Завтра не вставать в школу, а потому из «смешную или страшную?» мама, под тихий восторг аудитории, выбирает страшную, после которой до полуночи будут перешептыванья в темноте. Как ты думаешь, они щас есть? — Дурак. — Ну есть? — Да кто? — Кры-со-ло-вы. — Нету. Сейчас только крысоловки есть, как у нас в подвале, туда сыр кладут. Крысы любят сыр. — И музыку тоже, да? — Да, отстань, я сплю. — А они детей теперь не уводят? — Кто? — Крысоловы… — Дурак! Сказано тебе — их нету. И спи. — А ну и что… если даже и есть, то дети ведь музыку не любят, как крысы? Вот ты же не любишь, когда приходит герр Либерман тебя на пианине учить? — Не на пианине, дубина, а на фортепьяне. И спи. Ненавижу музыку. — Я тоже… значит, он нас не уведет… мы ведь не пойдем, да?
А после полуночи — будут забирающие пол-дыханья сны.
Теперь и Ронни ночами лежал без сна, глядя не на коричневые обои, а на картинку с Крысоловом, и думал о том, что нет, неправда это — что Крысолова больше нет.
Толпа подростков в коричневых рубашках похожа на стаю крыс. Молодых крысенят, которые загрызут тебя, если ты попытаешься помешать им слушать музыку Крысолова. Глупые, глупые, думал Ронни, вы не боитесь, не думаете о том, куда он вас заведет…
Ронни знал, кто ОН такой — он тоже купил «Майн Кампф», чуть позже, чем Бальдур. И иногда подходил — окольно, будто вор или шпион — к толпам нацистов.
Гитлер. Гитлер. Адольф, Адольф.
Он нанялся музыкантом в крошечный кабачок — посчитав, что ни на что более серьезное не способен. Вскоре кабачок — впервые за годы без Гольдберга-старшего — начал регулярно наполняться по вечерам, чего, как честно признался старый Йозеф, давно уж не бывало, он вообще подумывал о том, чтоб закрыть эту убыточную лавочку, жаловался он Ронни, можно подумать, что и евреев в городе не осталось… Как выяснилось, осталось немало. И кое-кто из них советовал Ронни — парень, не трать ты на нас свой талант, ты мог бы играть в более приличном месте, денежки лопатой грести — но теперь Ронни уже не хотел покидать кабачок. На жизнь ему хватало, мама больше не расстраивалась, и, кроме того, здесь он встретил Марию — после чего уверовал, что бросить ЭТОТ кабачок — плохая примета.
Да, речь шла о Марии Шварц, которая училась с ним в одной школе.
Он даже не успел удивиться, узрев здесь бывшую Блоху — она вошла, поздоровалась со всеми и прямым курсом проследовала к одинокому, стоящему в вечной тени столику, за которым в более счастливые времена всегда сидели супруги Кац, а теперь там была одна Нора.
Нора — ласточка с переломанным крылом — ее траурная шаль криво свисала с плеча — сидела и что-то неслышно рассказывала девочке, лица которой Рональд даже не видел — видел только стреноженный нефтяной водопад ее волос — они падали ниже лопаток, и концы были прихвачены простой заколкой, иначе — разметались бы по спине, по плечам. Они со старухой явно были одной стрижиной породы. Только Нора уже умела тревожно кричать перед дождем, а Мария только училась летать.
Рональд играл. Он знал, что в самом скором времени все разговоры прекратятся. И он — когда захочет передохнуть — подсядет к любому столику, не для того, чтоб выпить (он не любил пить) или чтоб его похвалили (похвал он не любил тоже). В этом кабачке Ронни был теперь таким же непременным и нужным, как ранее его отец.
Он подсел к столику бабки Норы — она, казалось, и не заметила, что Гольдберга заменил его сын.
Старуха и девушка прекратили свой тихий разговор и обе уставились на него.
Он дернул гольдберговским носом и сказал:
— Извините.
Мария беззвучно рассмеялась, и он невольно уставился на нее.
— Ага, — сказала бабка Нора, — Слышишь, Гольдберг, есть женщины, которые мужчин с ума сводят. Есть и такие, на которых ты поглядишь и подумаешь — хорошо, что я в здравом уме. А вот есть такие, с которыми будешь сам сходить с ума, каждый день. Добровольно. И с радостью.
Ронни сощурил глаза, и Нора одними губами сказала, кивнув на Марию:
— Эта — из последних.
В этот вечер Рональд провожал Марию до дома.
В следующий вечер тоже.
Правда, до своего.
1927. Игра в четыре руки. Пуци
Эрнст Ханфштенгль спрятал красные от холода руки в карманы пальто. Снова забыл перчатки, недотепа, привычно «обласкал» он себя. Он втянул голову в плечи и опустил ее, чтоб основной зоной воздушной атаки стал лоб — уж очень неприятно кололи лицо летящие снежинки. Поневоле глядя вниз, он заметил пятно на лацкане пальто. Что за черт?.. И почему, как всегда, на самом видном месте?.. Темное, отвратительно темное, оно выделялось на светлой шерсти, словно неряхина печать. Этот пес жутко нечистоплотный, вспомнил Эрнст слова Хелен, Мария, отведите его в гараж, в доме ему не место. И мне тоже не место, я точно такой же громадный, нелепый, неряшливый, недаром же мне в насмешку дали такое прозвище, подумал тогда хозяин пса — и сейчас вспомнил об этом.
Он знал, почему ему сейчас так холодно — потому что плохо. Обычно его большое неуклюжее тело было так же малочувствительно к холоду, как туша полярного медведя, и мерзнуть, да еще и когда совсем не так уж холодно, он мог лишь тогда, когда ему казалось, что он — дом, брошенный дом с беспомощно зияющими окнами, безжалостно пронзаемый сквозняками…
Эрнст Ханфштенгль поневоле всегда сравнивал себя с чем-то огромным — дом, медведь, ньюфаундленд Шварц. Он был очень высок, и лапищи — что задние, что передние — у него были здоровенные. Любому, кто видел его в первый раз, становилось страшно, когда он приглашал даму на вальс или садился за рояль. Казалось, что дама завершит тур раньше срока с расплющенными пальцами на ногах, а от одного прикосновения этих ручищ к клавишам рояль взревет, как бомбардировщик, а может, даже и взлетит. Но… танцевал Ханфштенгль на удивление грациозно для такого неуклюжего верзилы, а рояль под его руками звучал и весело, и нежно, но уж никогда не оскорбительно для слуха…
Отвратительный вечер. Но закончился он для меня неплохо, подумал Эрнст, и на том спасибо тебе, Господи, и молодому фон Шираху. Могло бы быть и хуже на душе.
Адольф, надо заметить, ничего так и не понял — и это тоже неплохо, еще ж не хватало, чтоб он сунул в это свой нос. Гитлер, это Эрнст заметил за ним давно, обожал лезть в чужую личную жизнь, словно какая одинокая баба. Зато, кажется, Руди Гесс все понял. Но, разумеется, ни слова не сказал Эрнсту. Есть вещи, о которых мужчина мужчине, если меж ними существует хоть какое уважение, говорить не должен. Да и что тут скажешь — Пуци, ты только посмотри, как ведет себя твоя жена?
Как-как. Липнет к Геббельсу, вот как. Да так, что не заметит этого только слепой или пьяный, как Роберт Лей. Лей был сильно пьян — настолько сильно, что ему не хотелось быть душою компании, и посему он мирно сидел на диванчике и слушал, как Пуци тихонько играет на рояле (занялся он этим единственно из желания не слушать Геббельса). Лей тоже играл прекрасно, но не при Пуци, утверждая, что подмастерью нечего делать там, где работает мастер.
Да, нечего. Видимо, мне нечего делать там, где работает Геббельс.
Геббельс восседал в благоухающей клумбе прекрасных дам — Хелен Ханфштенгль, молоденькие Гели и Фридль Раубаль, которые приехали из Вены, какая-то неясная, но прелестная, тоненькая и кареглазая, словно олененок, девчушка, которую притащил Лей — как ее, Господи, Катрин, что ли — и Эльза Гесс, что сидела чуть поодаль. Да, и Адольф. Эльза единственная из всех производила вменяемое впечатление — остальные, включая Адольфа, таращились на Геббельса, травящего байки, с восхищением, словно школьницы на любимого актера. Эльза тоже смотрела на него, улыбалась шуткам, но — Эрнст с тоскою наблюдал за ней, ибо на Хелен ему было смотреть противно — каждый миг видела, где ее Рудольф, чем он занят и какое у него выражение лица. Повезло тебе, Руди…
Был еще где-то тут фон Ширах — но провалился куда-то. Видно, уехал домой. И совершенно правильно сделал — от Геббельса и башка может заболеть.
Эрнсту надоело играть на рояле — все равно, кроме Лея, слушать было некому, к тому же Лея он, как выяснилось, усыпил. Тот тихо посапывал, оттопырив нижнюю губу. Вот, черт, подумал Эрнст с досадой, я уже и играть так стал, что люди засыпают!.. Он поднялся, присел на диванчик рядом со спящим Леем и, забывшись, сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой.
Геббельс вдруг умолк, и Эрнст услышал голос Адольфа — пока еще не раздраженный:
— Пуци, это что такое?..
— Что?..
— Ты, по-моему, куришь?..
— Извините. Я задумался, — Эрнст резко поднялся и ушел на террасу.
Он почти докурил, когда почувствовал легкое прикосновение к рукаву.
— Пуци, — на него тревожно смотрели ясные глазки Гели, — что с тобой?
— Ничего. Башка трещит. Беги, беги скорее, пока Адольф не потерял…
Гели очень любила Пуци — он был одним из немногих, кто всегда принимал ее всерьез. Он сам попросил ее звать его «на ты» и вел себя с нею, как с младшей сестренкой, абсолютно не держа той дистанции, которую навязывал Адольф всем, кто общался с Гели. Пуци спокойно мог обнять девчушку, перенести ее на руках через трудную насыпь на пикнике в горах, заехать за ней и увезти на весь вечер слушать оперу… Гели ему первому, отчаянно стесняясь, поведала о своем желании заниматься оперным пением, и он прослушал ее, аккомпанируя на рояле. Гели покраснела и чуть не плакала.
Пуци был доволен — он ожидал много худшего. Но у этой своевольной, плохо воспитанной девочки оказался весьма приличный голос.
— Надо много учиться, малыш. Заниматься. Тогда, быть может, что-то получится.
Он отметил про себя, что поет она — хоть и дурно, без всякой техники — верно, искренне и даже тепло. С нее словно бы враз слетела шелуха благоприобретенной легкой вульгарности, прилипшей к ней от бездумного подражания старшим дамам. Ее захочется слушать, когда она научится.
— Хочешь, найду тебе мастера?
— Если дядя Альф позволит, — пробормотала она горько. И больше об этом с Пуци не заговаривала. Стало быть, не позволил.
Пуци все хотел поговорить об этом с Адольфом, да руки не доходили.
Было и еще кое-что… ему было тяжело об этом вспоминать. В тот раз она тоже гостила здесь. И попросила свозить ее в кабаре, Пуци повез — отчего нет, ей же не пятнадцать лет, а, слава тебе Господи, уже девятнадцать… Адольфу она соврала, что едет в театр. Ради такого дела Пуци отпустил своего шофера и сел за руль сам — неизвестно, кто и как, что и где может ляпнуть — и это дойдет до Адольфа. А что на все это скажет Адольф, он просто себе не представлял.
Слава Богу, в зале он не заметил ни одной коричневой рубашки и ни одного знакомого лица.
В кабаре Гели, в своем длинном вечернем наряде, казалась не только совсем взрослой, но и вызывающе кокетливой. Она поглощала шампанское и даже… достала из сумочки мундштук и сигареты.
— Гели!.. Адольф убьет меня, если узнает!
— Пуци. Пожалуйста, не надо. Не узнает, я их прячу не скажу где, — хихикнула она. Слегка окосев, она опять превратилась в ребенка. Пуци опасался, что придется увозить ее до конца программы, но нет — держалась она неплохо…
Кабаре было не из лучших, но Пуци чутьем понял, что девчонке нужно расслабиться, и тут атмосфера для того — самая что ни на есть подходящая.
Гели поднялась и направилась в уборную поправить прическу.
Пуци краем глаза следил, нормально ли она идет, и решил, что вполне.
Но вот вернуться без приключений не удалось.
Умудрилась уронить сумочку, распустеха.
Какой-то хлыщ тут же поднял ее и подал. И о чем-то спросил. И Гели с нетрезвым смешком что-то ответила… Парень — какой-то богатенький студентик, судя по виду, и уже сильно подшофе — попытался взять ее под локоть и препроводить к своему столику. Совсем, щенки, с ума посходили, драть таких розгами до двадцати пяти лет, подумал Пуци и поднялся.
Сукин кот был совсем никуда — а может, его не любили девушки, и ему семя в башку ударило, но расставаться с добычей так просто он не собирался. Вид у него был вполне приличный, но…
— Тебе чего, папаша? — прошипел он с интонациями уличной шпаны. А вот этого Пуци не терпел.
— Вот именно, папаша, — мягко ответил он, — Оставьте девушку в покое, сударь.
На папашу Гели, хотя по возрасту вполне мог быть таковым в свои сорок, он не походил, но ему было все равно.
Сопляк не унимался:
— В монастырь готовите дочку, э?..
— Не твое щенячье дело, — терпению Пуци пришел конец, — Закрой рот, допивай и езжай домой. И передай отцу, что плохо тебя воспитывал.
— Чего?.. МОЕМУ отцу? Пе-передать? Да ты кто такой?..
— Я? Фридрих Великий. А ты?..
Оставив парня с открытым ртом и полоумными глазами, Пуци расплатился и вывел Гели на улицу.
— Пуци, — сказала она жалобно, — прости. Он сам прицепился, я не хотела….
— Я знаю.
Она просто не умеет себя вести. Даже окоротить эту наглую рожу не сумела, хотя любая, даже более молоденькая девушка Пуциного круга смогла бы — просто прошла бы мимо, не удостоив такое дерьмо и презрительного взгляда…
Ей не позволяют общаться ни с кем, а ей надо бы иметь опыт общения с молодыми людьми… с ровесниками… как же она жить будет? Впрочем, глупый вопрос. Адольф предпочитает, чтоб все вокруг жили так, как хочет он.
— Слушай, — сказал он, не дотронувшись до руля, — Может, отвезти тебя к Гессам? Думаю, Адольфу не слишком понравится…
Он прервался, но она прекрасно поняла.
— Да, отвези. К Эльзе… скажу потом, что у меня голова разболелась, и ты отвез куда поближе.
Вот и врать он ее учит, поц недоделанный, Адольф. Врут ведь тогда, когда боятся сказать правду.
— Нет! — вдруг сказала она, голос у нее дрожал, — Не надо к Гессам! Мне… перед Эльзой… стыдно… И перед Рудольфом тоже.
— Ну что ты, Господи. Они поймут…
— Они-то поймут… а мне же стыдно, Пуци, все равно.
— Ну так что — к Адольфу?
— Нет… Пуци, — она смотрела на него дикими блестящими глазами, — Пуци, мне и перед тобою стыдно… я тебя больше никогда ни о чем таком не попрошу…. Но я такая, в самом деле… пьяная… Пуци, нельзя нам поехать в какую-нибудь… гостиницу, что ли, чтоб я там выспалась и утром была как нормальный человек?
— Можно. Но как мы потом объясним это Адольфу?
— Позвоним… нет, не Гессам… стой. У меня в Мюнхене есть подруга, у нее в Вене родня, она часто приезжает. Скажем, что встретили ее на спектакле, и я поехала к ней.
— Как зовут подругу?
— Анна-Августа Штюбен Кессерлинг, — быстро отозвалась Гели.
— Бедная девушка, — почти про себя фыркнул Пуци, — Ну, ладушки, авантюристка. Поехали приводить тебя в порядок.
Естественно, ни в какую дурацкую гостиницу он ехать и не думал. Еще чего не хватало. Он повез Гели в свою «берлогу» — так он называл купленную втайне от Хелен квартиру — и купленную, что самое смешное, не для того, чтоб баб водить.
— Ой, — сказала Гели, — это что? Ты же не тут живешь…
— Друга квартира. Уехал в Америку на год, попросил меня цветочки поливать.
— Что-оо?
— Вру, про цветочки разговора не было. Просто ключи оставил.
— А хорошо здесь.
— Да. Неплохо.
Пуци самому нравилось здесь — временами куда больше, чем дома. Здесь он часто проводил время в полном одиночестве — поигрывая на рояле, читая книги, просто напиваясь и глядя, как плывут к потолку облака папиросного дыма.
— Чувствуй себя как дома, Гели.
Он снял пиджак, повесил на стул.
— Ванная там, остальное чуть дальше.
— У меня нет… сорочки….
— Возьми халат.
— Ооой, какой большой. Твой друг такой же верзила, как ты?
— Почти, — коротко ответил Пуци.
Пока она была в ванной, он выволок в коридор — чтоб не рыться при ней в шкафу — все то, что могло понадобиться ему самому по выходу из того же помещения. Если халат друга еще допустимо надеть, то уж нижнее белье и сорочка могли пробудить в ней некие подозрения.
Квартирка была о трех комнатах, но кровать имелась только в одной. Двуспальная, белье было чистым — ночевал он тут редко.
Пуци уже решил, что спокойно просидит ночку с кофе, книгой и сигаретами. Собственно, и в ванную можно было б сходить утром, и любой так и сделал бы — но не Пуци. С тех пор, как он получил это прозвище, в нем проснулась прямо-таки ненормальная для мужчины страсть к чистоте, и ночью он чувствовал себя некомфортно, если не вымылся вечером.
Гели вернулась — разморенная, сонная, улыбающаяся.
— Пуци… как хорошо.
— Давай ты поспишь, малыш, ага?
— Ага…
Она ушла в спальню. И Пуци с чувством выполненного долга отправился в ванную.
В ванну он, благодаря своему размеру в длину, всегда умещался кое-как, приходилось сильно сгибать коленки. Но это не очень мешало — Пуци привык уже нигде не помещаться.
Он задернул занавеску, чтоб не брызгало на пол, и обмяк в теплой, почти горячей воде, на несколько минут позабыв обо всех неприятностях…
Приоткрыв глаза, он дернулся — ему показалось, что занавеска как-то странно шевелится.
Она и впрямь шевелилась. Что за…
И тут из-под нее вылезла рука. Точней, ручка. Лапка.
И прежде, чем лапка эта успела освоиться, Пуци прихватил ее своей клешней и сжал — не в полную силу, но так, что на той стороне занавески кой-кто взвизгнул от неожиданности и легкой боли.
— Это что такое? — произнес Пуци, а голос его, низкий, бархатный, всегда звучал внушительно, когда он нервничал.
— Пуци…
— Что?!
— Пуци… отпусти, больно!
— Отпускаю. Вслед за чем ты выходишь, закрываешь дверь и идешь спать. Что за выходки?!
Пуци отпустил горячую лапку. Дверь ванной неслышно хлопнула. Черт, теперь сам Бог велит одеться полностью — Пуци надеялся, что, поскольку Гели уже будет спать, сорочки и трусов вполне хватит для сидения на кухне (просто другого халата у него тут не было). Теперь еще подтяжки, брюки, носки… еще и галстук, может, повязать?!
Он вышел из ванной полностью одетым во все это, кроме галстука. Пуци не умел появляться перед дамами, с которыми не спал, в расхристанном виде. Гели не спала — он видел по полоске света под дверью. Вот черт разнес девку. Так и знал.
Он тихо прошел на кухню, поставил на огонь джезву, положил на стол книгу. Пусть что хочет, то и делает там, в конце концов, не ему ж нужно проспаться.
Вскоре деликатный кулачок стукнул в дверь.
— Ну? — грубо сказал Пуци, он как раз наблюдал за варящимся кофе, который вот-вот надо было снять с огня.
— Ой, Пуци! Просто так пахнет кофе… на всю квартиру. А мне — можно?
Тебе — нужно, подумал он и процедил кофе в маленькую фарфоровую чашку.
— Пей.
— А ты?
— Еще сварю.
Сварил, сел напротив.
— Ты что делаешь, Гели, можно узнать?..
— Гадаю.
— Что-о?
— По кофейной гуще можно гадать, разве ты не знаешь?..
Да знаю, просто понять никогда не мог тех, кто верит в такую дурнину… Тссс, Пуци, ей всего 19, а можно подумать, что и меньше.
— Ну как? Что узнала?..
— Что мне нужно, то и узнала, — отстраненно сказала Гели.
— Я рад.
— Пуци.
— Что?
— Ты решил спать не ложиться, да?
— Гели, да. Я часто так делаю. У меня бессонница. А если и сплю — то плохо.
— Это видно. Вон какие фонарики под глазами, — сказала она тихо, внимательно глядя на него. Он вздрогнул — просто никто, в том числе и он сам, этого давно не замечал. А он заметил только вчера, прилизывая перед зеркалом свою шевелюру. Действительно, черт-те-что, а не морда, с этими черными ямищами под глазами.
— Ты устаешь. Спать надо больше. И есть, — нравоучительно заметила Гели, — Вечно небось ешь кое-как.
— Да, да, ты права.
Какой хорошей женой ты будешь, подумал он.
— Я тебе утром завтрак приготовлю, хочешь?
— Хочу.
— Пуци. Ну Пуци же!
— Ну что?
— Пойдем туда, хочу сказать тебе кое-что.
Она до сих пор разгуливала в этом огромном для нее халате, полы волочились, как шлейф. И прошествовала она «туда» — в спальню — как королева.
Пуци пожал плечами и пошел за ней. Он знал, что владеет ситуацией — до сих пор.
Гели легла, не сняв халата.
— Пуци, — теперь ее голос звучал безнадежно.
— Да, Гели.
Она чуть не плакала.
— Иди ко мне. Ну иди, пожалуйста!
— Ну зачем, Гели? Спи.
— ИДИ КО МНЕ! — девчонка взревела так, что это сделало бы честь самому Пуци, и очень напомнила вдруг своего дядю — тот же яростный блеск голубых глаз…
Пуци знал, что стоит ему ответить в таком же тоне — истерика будет продолжаться, и потому присел на краешек постели и тихо, устало произнес:
— Гели. В чем дело?
Она тут же подползла и отчаянно разревелась, ткнувшись в него носом. Пуци ждал, пока она выплачется, обняв ее и легонько поглаживая по плечу.
— Пуци… — всхлипнула она с глубокою обидой, — вот и ты… туда же…
— Куда, Гели?
— Никому я не нужна…
— Глупости. Мы тебя любим…
— Любите, да?! Любите?! На словааах! — рыдала она, — Глупые, ненормальные психи, идиоты, ничего вы не знаете и знать не хотите, кроме работы своей… кроме Адольфа… а он, он… он вас всех знаете где видел? И тебя! И Рудольфа! И Геббельса! Не нужны вы ему… и никто ему не нужен… А кому вы нужны — на тех вы не смотрите… некогда…
— Гели. Мужчины должны работать. Так было всегда.
Ее рев пошел на спад. Теперь слова ее, все реже перемежаемые всхлипами, казались еще серьезней.
— Работать? — она приподняла голову и посмотрела ему в глаза прищуренным, злым, тяжелым взглядом, — Так работать, что времени больше ни на что нет? Тебе же жена из-за этого изменяет! — Пуци моргнул, словно ударили, — А Эльза, она забыла уже, когда Рудольфа дома видела больше получаса! Ду-ра-ки! Все вы, ясно?!
— Гели, Гели. У тебя все слишком просто…
— У вас еще проще! Адольф свистнул — вы сбежались. Не мужики, а… свора какая-то!
— Гели, он наш фюрер.
— Крысолов он паршивый!!
— Что-что?..
— Кры-со-лов, — повторила Гели, словно слабоумному объясняла, — Из сказки, не знаешь ее, что ли? Сначала за его дудочкой крысы побежали — ну прямо как вы. Потом дети. А потом…
— Никакого «потом» не было, насколько я помню.
— Так неинтересно. Интересно было б, если б он весь дурацкий этот Гаммельн в озере утопил. После детей — женщин… Сыграл им песенку, они все влюбились — и пошли за ним… Идут, идут, а он все играет и играет им свою серенаду, и они его любят больше и больше. Но он не смотрит на них. И топит их в озере. Туда дурам и дорога. А потом возвращается — за вами. И играет вам… не знаю что, «Хорста Весселя» какого-нибудь. И вы тоже идете… Правда, гадкий Крысолов получается?
— Еще какой гадкий, Гели.
— Вот это он и есть. Адольф.
Пуци машинально отметил, что она перестала звать Адольфа дядей Альфом. Он был ошарашен словами Гели — не ожидал такого, даже не предполагал, что в темноволосой ее головке могут родиться такие мысли…
Он вынул платок из кармана рубашки и принялся вытирать ее зареванную мордашку, она прикрыла глаза. И сказала:
— Знаешь, что я узнала? Когда гадала на кофейной гуще?
— Что?
— Что я скоро умру.
— Боже. Глупости какие.
— Нет. Не глупости. Просто вы, мужчины, думаете, что во всем все понимаете. А это не так, — говорила она отстраненно, — Есть вещи, о которых вы ничегошеньки не знаете.
— Есть, безусловно. К ним как раз относятся суеверия насчет кофейной гущи.
— Не надо острить, Пуци. Это нечестно — острить, когда другой не может ответить тем же.
— Пожалуй, ты права. Извини.
— Обидно будет умирать, Пуци, вот так.
— Как, Господи Боже мой?..
— Так. Ни разу не полюбив мужчину. Как-то даже тошно от этого.
Это была уже крайне опасная область. И Пуци нутром почуял, что сейчас не надо — ни в каком контексте — упоминать имени Адольфа, чтоб не вызвать еще один поток слез или что похуже.
Ему все стало ясно — и он впервые подумал об Адольфе с неким брезгливым недоумением… Оказывается, это чудо в перьях не оправдывало даже слухов о его связи с племянницей. Идиот. Или… неполноценный какой-то. В самом деле, с 15 лет песочить девчонке мозги, а ведь она растет, она уже выросла. И ведь заметно, заметно, что он не лжет, его тянет к ней словно на канате, так какого черта мучить ее и себя? Компрометирующая связь? Чушь чушью. Поговорили б и забыли уже давно. А говорят до сих пор только потому, что бегают, бегают от Гели к нему и обратно тревожные ненормальные токи… Не хочешь, не можешь любить ее — отпусти, пусть встречается с парнями, пусть танцует, смеется и ловит восхищенные улыбки, пусть будет у нее все как у всех… Адольф, собака на сене, ей-Богу. Неудивительно, что девчонка сходит с ума. С пятнадцати до девятнадцати лет не имея от тебя ничего, кроме масленых взглядов и страстных монологов. И… запретов на все, что принадлежит ей по праву. Запрета… на жизнь. Да, именно так. А то с чего бы девятнадцатилетней красивой девчушке думать о смерти?
— Вот потому я тебя и позвала… — сказала Гели.
— Гели, я прошу тебя. Я тебе в отцы гожусь.
— Лучше в отцы, чем… в дяди. Я тебя так люблю, Пуци. Ты мне всегда нравился больше, чем все они… Ну что, разве трудно?..
Еще как, подумал он. Нет, все же проста ты, Гели, до ужаса…
— А ты меня разве не любишь?..
— Люблю, — ответил он, — но… не так, как для этого надо.
— Ты тоже не видишь, что мне уже не пятнадцать, да?..
— Вижу, — сердито сказал он, — но это ничего не меняет.
— Ты просто боишься, да? Что он узнает?.. Я никогда бы не сказала ему, что это был ты… Да у него, — она цинично усмехнулась, — и не возникнет желания проверить…
— Боже, Гели… что ты болтаешь…
— Это ты болтаешь, — шепнула она ему в ухо, — вместо того, чтоб делом заняться.
Ее узкая теплая ладошка забралась в брешь меж двумя пуговицами его сорочки, погладила.
— Прекрати…
— Ни за что…
Она знала, знала — недаром же так больно стукнула его — «жена тебе изменяет»… хотя откуда ей знать, что у Пуци (у Пуци, от которого, несмотря на далеко не смазливую рожу, все бабы млели, стоило захотеть!) давно не было женщины, потому что Хелен действительно не уделяла ему никакого внимания, а изменять ей ему было некогда — да и не было тогда еще особого желания, была надежда — а ну как все склеится?..
Где там. Пуци знал, кто был ее любовником, и ему только и оставалось зубами скрипеть — не потому, что тот был достойный соперник, но потому, что Пуци всегда уважал его…
Его долговязое тело сотрясала мучительная дрожь — и оттого лишь, что девчонка как с цепи сорвалась… и совала руку уже туда, куда, вообще говоря, девственницам руки совать несвойственно. А Пуци в свои сорок, надо сказать, все еще был в этом смысле таким же, как был пусть не в восемнадцать, но уж как в двадцать пять точно, природа щедро позаботилась об этом. У него, наверное, и детей было б больше сейчас, если б того хотела Хелен…
— Эрни. Эрни… мой…
— Гели… детка… — его низкий голос дрогнул, стал выше — его ведь Хелен сто лет как по имени не звала, — ну что ты делаешь…
— Эрни… если б мне был нужен не ты, это был бы не ты… Ты… меня не обидишь, я знаю… ничем, никогда.
— Ты… права… наверное…
— Я красивая?
— Очень, Гели… клянусь всем, что есть у меня дорогого на свете — ты очень, очень красива…
— Тебе не видно. Дурацкий халат… а так, лучше?..
Она не просила выключить свет…
— Мне даже не страшно. Это все он, из-за него я как развратная какая-то…
— Не говори чепухи…
Четыре года в ее теле, словно в запечатанном кувшине, бродили терпкие соки — и не скисли, нисколько, просто вино готово было уже вышибить пробку… Сколько можно, сколько? Пуци помнил себя таким же юным, как она, и знал, как мутится в голове, как темнеет на сердце, как ноюще тяжелеет в паху от невозможности подарить любовь любимому существу.
Но она была девочкой, ей было трудней, куда трудней, чем ему.
Пуци изо всех сил старался, чтоб главное случилось тогда, когда она уже поймет, какое это счастье — быть с мужчиной. Она ведь ничего не знала, она дрожала и лицо ее залилось краской, когда он мягко раздвинул ей колени и сунул меж ними свою лохматую башку.
Через минуту ее бедра так стиснули его голову, что ему стало больно.
А потом — он видел слезы на ее глазах и улыбку на губах, и думал — кажется, неплохо справился. Боялся едва ли не больше, чем она — с таким-то орудием пролетариата испугаешься спать с девственницей. Пуци не переоценивал себя — орудие и впрямь соответствовало общим его габаритам…
Так и не заснули они в ту ночь, лежали рядом и разговаривали, оба знали: то, что случилось — никогда, никогда не повторится. Лучше не надо. Рядом с Адольфом все было не по-человечески, и связь такая, стань она заметной, была бы втоптана им в грязь. Причем Гели отделалась бы жестоким выговором и новыми запретами, а вот Пуци… «Скотина похотливая, до сорока лет дожил — на молоденьких потянуло?!»
Уже одетые, готовые выйти и ехать к Адольфу, они вдруг поцеловались в прихожей — так нежно и грустно, как целуются расстающиеся навсегда. «Любовь не спасает… ни от чего» — «Я понимаю». А потом вышли и сели в машину. Хотя благоразумней было б приехать по отдельности.
— Ты где была?! — взревел Адольф.
Пуци маячил за спиною Гели, глаза у него были сонные. Она много чего ему порассказала в эту ночь, и сейчас он думал — орешь, ну и ори, а пальцем тронешь, оплеуху закатишь — убью к едрени матери. Придушу. Хладнокровно. И у меня это минуты не займет. И будет у нас новый фюрер.
— У подруги я была! — Гели все же испугалась этого рева и стеклянного блеска в голубых глазах.
— У какой еще подруги?!
Чувствуя поддержку Пуци, Гели справилась со страхом и нагло заорала:
— У Аннет! Анны-Августы Штюбен Кессерлинг! Мне что, после спектакля нельзя поехать к подруге, которую сто лет не видела? Что ты кричишь-то?! Поехала с ночевкой, они всей семьей на спектакле были, пригласили меня! Пуци попросила за мной заехать утром и привезти сюда!
— Предупреждать надо!
— Не получилось!
— И Пуци тебе что — шофер, что ли?.. Нашла шофера, делать человеку больше нечего! Как будто Морис за тобой не мог заехать! Дергаешь занятого человека почем зря!
— Мне по дороге было, — заметил Пуци, — Не стоит, пустяки.
— Пуци, не потакай больше таким капризам, прошу тебя, — процедил Адольф.
Пуци отозвался французской фразой. Адольф поморщился, но кивнул. Он расценил это как нечто, не предназначенное для ушей Гели — на что Пуци и рассчитывал — а кивнул из самолюбия, французского он не знал. И позже поинтересовался:
— Пуци… я тебя не совсем понял тогда, ты так протараторил…
— «Чего хочет женщина — того хочет Бог», — холодно перевел Пуци, — Я имел в виду, Адольф, что твое требование — вне правил хорошего тона. Дама просила подвезти ее, мне это было удобно, не вижу причин для отказа.
— Ты слишком трепетно относишься к бабам, — сквозь зубы отозвался Адольф, — У них в минуту — тысяча желаний, если все их выполнять, то… работать когда?
— Я был тебе нужен? Я чего-то не сделал?..
— Нет. Но..
Пуци сам поражался, почему здесь его мысли то и дело уплывали в прошлое. Может, потому, что в настоящем им делать нечего?
К черту, есть хоть одна комната в этом доме, где никто не толпится?..
Есть. Музыкальный салон.
Но там он — к превеликому для себя удивлению — обнаружил фон Шираха, который сидел в кресле, откинув голову и с болезненным видом полуприкрыв глаза.
— Я вам не помешаю? — тихо осведомился Пуци, — Герр фон Ширах?
По возрасту герр фон Ширах был еще мальчишкой, но Пуци никогда не испытывал ни малейшего желания назвать его просто по имени, не чувствуя к нему никакой симпатии. Хотя знал его очень, очень давно.
Ширах заметно выделялся из окружения фюрера своей интеллигентностью, остроумием, любовью к искусству, Пуци не мог этого не признать. Но… юный любимец фюрера, должно быть, сознавая свою исключительность, слишком часто вел себя как очень невоспитанный мальчишка. Адольф изрядно разбаловал его своим вниманием и хорошим отношением, думал Ханфштенгль, а ведь Адольф не из тех, кто отличается долготерпением и милосердием. Когда-нибудь ему взбредет в голову, что зарвавшегося паренька нужно наказать… и тогда никто не позавидует фон Шираху, и его не защитит даже то, что он группенфюрер СА. Есть ведь и фюрер СА — Эрнст Рем, который по одному слову Гитлера сделает из мальчишки сырой бифштекс… А тот словно не понимает, как это опасно — быть под защитой льва и в то же время дергать его за хвост. Бесстрашный паренек? Грош цена такому бесстрашию, думал Пуци, таким ли храбрецом ты себя покажешь, когда тебе сделают немножко больно? Впрочем, на «немножко» парни из СА не остановятся…
Пуци был свидетелем одной из бездумных эпатажных выходок молодого Шираха, и его до сих пор мороз по коже подирал — если Адольф простил мальчишке такое, значит, ожидает более тяжкого проступка, и вот тогда…
По просьбе фюрера Ханфштенгль («Пуци, я хочу, чтоб ты предоставил мне отчет, поговори с парнями, Пуци») присутствовал на студенческом митинге в Мюнхенском университете. Ширах должен был произнести речь. Он прибыл с эскортом из молодых штурмовиков, которые, судя по их виду, готовы были на руках торжественно внести его на кафедру в зале и по окончании речи снести вниз. В руках у него был хлыст, которым он небрежно постукивал по начищенному сапогу.
Шираха встретили шумом, приветствиями, шуточками, свистом, он небрежно махнул рукой — потом, потом, сначала послушайте…
Пуци прекрасно представлял себе, что такое студенческая аудитория — никогда не бывает достаточно тихо, а тишина — обманчива. Под масками чинных ученых юнцов всегда скрываются буйные бурши, что дрались на шпагах на тесных и кривых средневековых улочках — за девку, за идеи любимого профессора и из любви к искусству драки. Это были немецкие студенты, и неясно почему фюрер решил, что Пуци, получивший образование в Гарварде, сумеет найти с ними общий язык.
Ширах нашел.
Такой компании понравился бы юный оратор с бешеной жестикуляцией и горящими глазами, с рвущимся от волнения и убежденности голосом… Ширах оказался не таков, но тишина была почти мертвой. Любой профессор мог бы только мечтать о таком внимании на лекции.
Прежде всего, Ширах не орал, а говорил — достаточно громко, чтоб его слышали, и достаточно четко, чтоб воспринимали, но ни на секунду, казалось, не забываясь, не давая чувствам захлестнуть душу и подступить под горло. Его обычно мягкий и выразительный баритон сейчас почему-то звучал почти металлически. Его жесты были сдержанны, но за ними чувствовалась именно сдерживаемая сила, а не механистичность. Я верю фюреру, говорил Ширах, и объяснял, почему. Именно объяснял — не доказывая ничего, пусть доказывает тот, кто боится, что ему не поверят. В то же время объяснение не звучало свысока — мол, вот я какой умный, почти как ваш профессор… нет, Ширах просто говорил со своими ровесниками, и они видели на кафедре такого же парня, как они, но — что там говорить — очень сильного, очень уверенного. Мало кому не захочется быть, как он…
Ханфштенгль тогда воздал ему должное — браво, подумал он, поди-ка в его возрасте додумайся, как найти самый нужный из нужных тон. И в то же время Ширах удивил его тем, что и не думал подражать более опытным партийным ораторам — фюреру, Геббельсу, Розенбергу, Лею — ни в манере, ни в лексике. Язык у него был правильный и ясный, но чуть более литературный, чем надо бы. Тем не менее, на студентов это производило впечатление.
Но после митинга, когда студенты-наци при горячей поддержке штурмовиков устроили пьянку в какой-то Богом забытой аудитории (впрочем, не такая уж она была и забытая — заваленная окурками, с портретом фюрера на стене, она явно служила чем-то вроде университетского нацистского клуба) Ширах умудрился выкинуть ТАКОЕ…
Пуци лишь краем глаза следил за происходящим — он встретил старого знакомого, профессора Дирка, и с превеликой радостью предался тихой беседе с ним — ему совершенно не хотелось слушать дикие вопли напившихся студентов и гогот штурмовиков. Да и не вписывался он в эту коричневую компанию — Пуци никогда в жизни не надевал партийную форму, его вполне устраивали собственные костюмы. Правда, значок на лацкане и повязку со свастикой носил — но это было допустимою уступкой, не более того.
Он как раз объяснял Дирку, что Гитлер на данный момент представляет из себя оптимальный вариант партийного лидера, и пропустил мимо ушей горячий спор, вспыхнувший между Ширахом и каким-то коренастым краснолицым студентом. И лишь внезапно утихший, словно порывом холодного ветра прибитый гвалт заставил Пуци отвернуться от Дирка… чтоб не поверить своим глазам.
Ширах — в компании двух десятков штурмовиков и полусотни студентов-нацистов трудно придумать выходку наглей — целился из револьвера в портрет фюрера на стене. И с кривою пьяной улыбочкой в полной тишине заявил своему краснорожему оппоненту:
— Счас я тебе покажу, как я не умею стрелять! Вы…выбирай, куда мне попасть — в левый зрачок или в правый?!
Тот так обалдел, что не отвечал.
Щенячья бравада, с легкой брезгливостью подумал тогда Пуци, но у пащенка высокий класс, ничего не скажешь. Башкой рискует. Дурак!
— Хайль фюрер! — завопил какой-то упитый штурмовик, — Ах ты сучонок!! Да я тебя порву!!
— Стой, блядь! — орал Ширах, опустив, по счастью, дуло револьвера. Впрочем, зря он это сделал — штурмовики уже перли на него орущей стеной, студенты отступали, стараясь даже рукавом не задеть никого из этой буйной компании…
— Мой Бог! — взвизгнул Дирк, — полицию!..
Пуци внимательно посмотрел на него и отчетливо произнес:
— Только ее тут не хватало.
Он действительно отдал бы все на свете, только чтоб здесь не появилась полиция. Честно говоря, он устал платить ей за своих полоумных друзей-наци, которые средств не имели, но буянили за десятерых. Последняя выходка того же Гесса едва не влетела в очень-очень круглую сумму, которой у него самого, разумеется, не было.
Гесс после этого смущенно опустил глаза и ковырял землю носком сапога, в то время как Пуци орал:
— Да может хватит уже?! Я вам что, миллионер? То есть, ну, миллионер, конечно, но не обязательно этим так грязно пользоваться!
Дирк умолк.
— Стоять! Стоять!! — ревел группенфюрер штурмовиков, Пуци не сразу вспомнил его имя — Эдмунд Хайнес. Очевидно, и разъяренные парни позабыли, что он их группенфюрер, потому что даже не слышали его — а Ширах уже прижался спиною к стене, словно на расстреле… А руку, в которой был зажат револьвер, так и не поднял, хотя этого было достаточно, чтоб остановить пьяную толпу. Пуци заметил это.
Он сам не помнил потом, как сиганул на три метра вперед, словно русская борзая, а потом еще на три — и встал между побледневшим мальчишкой и двадцатью широкоплечими коричневорубашечниками. Те замерли, тоже не поняв, откуда выскочил перед ними, словно черт из коробки, этот длинный взлохмаченный тип.
— Спокойно, — глубокий голос Пуци не дрогнул, хотя вместо сердца он ощущал в груди холодную подыхающую лягушку — все штурмовики были вооружены.
— Пшел ты в жопу, — рявкнул тот, упитый, шагнув к Пуци, — сказал — порву сучонка, значит, порву!! — он схватил Пуци за плечо, пытаясь отодвинуть с дороги.
Это он сделал напрасно. Пуци не терпел фамильярности, не переносил хамства, не переваривал дешевые ухватки уличной шпаны — так уж он был воспитан. Такие штучки бесили его, моментально перебаламучивая нутро, и он терял над собою контроль. Штурмовик был крупный мускулистый парень с военною выправкой — но он больше не посмел и рта раскрыть, ощутив неимоверную силищу, скрытую в долговязом худющем шпаке — Пуци одною рукой сгреб его за грудки и отшвырнул так, что тот долетел едва не до противоположной стены. Благодаря секундному ступору, возникшему у всех от этой неожиданности, Эдмунд Хайнес получил возможность наконец овладеть вниманием своих людей — и эту возможность не упустил. В момент он оказался возле Пуци… и вскинул руку.
— Хайль фюрер!
— Хайль, — ответил Пуци, небрежно махнув в ответ.
Хайнес протянул ему руку:
— Спасибо, геноссе, что проучили Стефана. Слышишь, ты, полудурок? Это университет, не кабак, здесь мордобоя не устраивают!
— Да, группенфюрер…
— Извиниться перед геноссе.
— Мои извинения, геноссе…
Про Шираха как бы и забыли, но Пуци слышал, как у него выровнялось дыханье, когда он отлип наконец от стены.
— Мне придется рассказать фюреру об этом инциденте, геноссе Ширах, — сухо сказал Пуци.
— Да-да, — кивнул тот, — я и сам расскажу.
— Пить надо меньше, молодой человек.
— Совершенно верно.
— Вы изрядно испортили впечатление о себе.
— Знаю…
— Поедете со мною к фюреру?
Ширах смотрел на него с благодарностью. Конечно, он до смерти боялся объясняться с фюрером один на один… А появление перед фюрером с такими новостями, да еще и в полупьяном виде вообще было равносильно самоубийству.
Фюрер по счастью был в благодушном настроении. Откровенно кислый вид Шираха его заинтересовал, и он спросил:
— Чего нос повесил, Бальдур? Как прошел митинг?
— Мой фюрер…
— Да.
— Мой фюрер…
— Что ты заладил — фюрер да фюрер? И почему от тебя так разит перегаром, могу я узнать?
— Мой фюрер… — промямлил окончательно увядший Ширах.
— Выйди отсюда! — взорвался Гитлер, — подожди в приемной! Или, лучше, ступай в ванную и прополощи пасть, с тобою рядом стоять нельзя — окосеть недолго!
Ширах поплелся к двери.
— Пуци, что за чертовщина, могу я узнать?
— Можешь, конечно…
Пуци изо всех сил постарался преподнести этот случай как забавную историю о глупом поддатом Ширахе. Услышав про свой потрет, едва не продырявленный пулей, фюрер выразительно цокнул языком.
Про мордобой, едва не устроенный штурмовиками, Пуци предпочел не упомянуть вообще.
— Эй, чучело! — заорал Гитлер, — иди сюда!
Бледный Ширах возник в дверях.
— Ты мне скажи, чертов распиздяй, это повторится когда-нибудь?
— Нет-нет, мой фюрер…
— Стой-ка, — Гитлер невовремя вспомнил о том, что, вообще говоря, штурмовики должны были обеспечивать порядок, — Пуци, Хайнес там был?
— Был.
— С парнями?
— С парнями.
— Все было в порядке! — испуганно вякнул Ширах. Пуци лениво посмотрел на него, и во взгляде его читалось — «Молчи, дурак…»
— Кажется, — сказал Гитлер, — я услышал неполную версию? А, Пуци?
— Слегка сокращенную, Адольф, — проворчал тот.
— Бальдур, набери-ка мне штаб СА.
Гитлер долго говорил по телефону с Хайнесом, и на физиономии у него несколько раз сменились самые противоположные выражения. Ширах глядел на него, словно собака, наделавшая лужу на ковре. Пуци достал сигарету, но не прикурил. Все это уже весьма удручало.
— Однако, — сказал Гитлер, повесив трубку, — ты, распиздяй, как выяснилось, едва не спровоцировал там побоище?..
— Да, мой фюрер.
— Пить надо меньше, придурок.
— Да, мой фюрер.
— Пуци, — Гитлер вдруг улыбнулся, — а тебе Хайнес просил передать, что ты, по его мнению, самый смелый шпак на свете… Я надеюсь, ты там никого не убил?
— Нет. Но очень хотелось. А в следующий раз я начну с того, что пришибу Шираха.
— Я вам не помешаю?.. Герр фон Ширах?
— Нет, герр Ханшфтенгль, — прозвучал четкий негромкий ответ. Ширах открыл глаза, и Ханфштенгль удивился ранее не виданному им в них выражению усталости, почти тоски.
— Вы нездоровы? — спросил он, это было у него одной из незаметных и никому не интересных привычек — всегда замечать, что кто-то плохо себя чувствует.
— Да нет, — ответил Ширах, — а что, меня уже хватились?.. Нет? Значит, я могу переждать приступ мигрени в тишине и спокойствии?
— Простите, — смущенно сказал Ханфштенгль, — я сию же минуту ухожу. Я не думал застать вас здесь…
Он ни на секунду не усомнился, что у сидящего перед ним молодого человека действительно сильно болит голова. Ширах был слишком бледен… и потом, если б он хотел сочувствия и внимания, то остался бы в гостиной, где мог бы страдать в полное свое удовольствие, окруженный дамами, закормленный таблетками и ежеминутно спрашиваемый, не лучше ли.
— Подождите, — с недоумением произнес Ширах, — я же не имел в виду, что вы мне мешаете… Просто, понимаете, мигрень — не та болезнь, которую стоит выставлять напоказ, ибо у нее нет никаких заметных признаков. Мне и без того достаточно сплетен про мой… немужской характер, чтоб добавлять к ним байки о том, что я дошел до того, что симулирую головную боль, дабы вызвать сочувствие…
Вся эта тирада звучала бы по-детски вызывающе, не будь произнесена так спокойно и так устало.
— Давно это у вас? — спросил Ханфштенгль, присев рядом с ним.
— Года три, наверное. Но ничего, не так уж страшно. То есть, я слышал о том, что люди из-за мигрени готовы были размозжить голову об стену, но меня Бог миловал, ничего похожего. Вполне терпимая боль, несильная, только очень уж нудная и одним этим способная довести до ручки… Причем шум разговоров действует на нее благотворно, — усмехнулся Ширах, — она усиливается. Потому я и ушел.
— Может, мне лучше все же оставить вас одного?
— Не надо, — попросил Ширах и по-детски добавил:
— А то одному здесь совсем уж тоскливо… Вы ведь — не они. Вы говорите негромко, и не смеетесь, и не включаете Вагнера на полную громкость… так что все в порядке.
— Обычно я говорю громко.
— Я знаю.
— А Вагнера вообще не люблю.
— Правда?
— Да.
«А не смеюсь потому, что шут — единственный, кто не должен смеяться, — добавил Ханфштенгль про себя, — и потом, кажется, сегодня у нас смеются только дамы, потому что нынче у нас тут доктор Геббельс, который, очевидно, предпочитает, чтоб женщины смеялись его шуткам, а не высказывали свои очень умные мысли… Стало быть, Ширах, вас особеннораздражает женский смех… даже не доктор Геббельс, нет, с Геббельсом вы явно рады поболтать…» Ханфштенгль очень любил всяческие игры, в которые играл сам с собою. Основой одной из них были противопоставления.
Весь вечер, думал он, я наблюдаю хромого, но очень шустрого, притом неоспоримо ушастого и необыкновенно похожего на крысенка мужчину, который все, что ни делает сегодня — делает отнюдь не для фюрера. Он развлекает дам, словно бы становясь выше ростом и чуть привлекательней на вид от каждой своей удачной шутки.
С другой стороны я наблюдаю высокого молодого парня, сложенного, как греческий бог, который весь вечер старался — и наконец ему это удалось — убраться подальше с глаз общества. Или фюрера лично. Или, может быть, всех этих женщин. В данный момент он или испытывает, или симулирует очень сильную мигрень, которая оправдывает его в его собственных глазах — да и в чьих угодно тоже. Если и симуляция — то он, скорее всего, и впрямь испытывает выдуманную головную боль. А бледность — актеры тоже бледнеют, когда страдают на сцене. Хорошие актеры, верящие в то, что изображают.
…Геббельса можно понять, и я, конечно, его понимаю…
Шираха я пока не понимаю, но, может, просто потому, что слишком близок к разгадке…
— О чем вы задумались? — внезапно спросил Ширах.
Ханфштенгль взглянул на него — и заметил, что тому явно стало немного лучше. Во всяком случае, с лица сбежала бледность.
Ширах предупредил его вопрос:
— Вы так спокойны, кажется, на меня это оказывает целительное воздействие. Посидите рядом еще, герр Ханфштенгль, а ну как у меня и совсем голова пройдет?..
Это «герр Ханфштенгль» резануло, несмотря на то, что Ширах говорил тихо и без малейшего иронического подтекста… а может, именно поэтому.
А еще, понял Ханфштенгль, и потому, что я первый начал — а он поддержал — это самое «герр», когда можно было обойтись «геноссе».
— Не зовите меня так, — сказал он.
— А как мне вас звать? Не Пуци же?
— Хоть и Пуци. Это совершенно неоскорбительно.
— Ну да, да, — отозвался Ширах уже почти едко, — я, если б меня называли Катце, считал бы это совершенно неоскорбительным.
Ханфштенгль невольно усмехнулся: он как-то сразу понял, что Шираха кто-то так называл… только не на людях, конечно, а… Впрочем, какая разница, кто и где. В этом прозвище содержалось ничуть не меньше иронии, чем в его собственном. На котеночка Ширах походил никак не больше, чем сам Пуци на чистюлю. Наверно, тот, кто звал его так, не любил его. Наверно, тот… А это ближе к разгадке, чем все домыслы. Если не есть разгадка… И зачем же Ширах вообще упомянул об этом?..
Ханфштенгль остался совершенно невозмутимым с виду, хотя в душе его запорхали демоны вроде летучих мышей, вопя противными визгливыми голосами… С ним бывало такое — сразу и вдруг приходил момент истины — истины о человеке, с которым он Пуци-Ханфштенгль, имел дело.
О фюрере, например — и тогда Пуци испугался.
И о Ширахе теперь — и Ханфштенгль содрогнулся…
И, как в первом случае почти сразу пришла обреченность, сейчас явилась жалость. Бедный парень, бедный. Не чета этим ублюдкам Рёму и Хайнесу. Красивый, умный, одаренный мальчишка — и такое несчастье. Ведь женщины — это такое чудо. Взять хоть Хелен… да, Хелен… а впрочем, да ну ее.
Ханфштенглю сразу, как и тогда, в первый раз, показалось, что тот, о ком он уже все знает, знает об этом его знании — и потому он уставился на стенку, пока не услышал голос Шираха:
— Давайте хотя бы по именам. Не люблю, когда говорят «партайгеноссе». Эрнст, да ведь?
— Да, Бальдур.
— О чем вы думали?
— О женщинах, — спокойно ответил Ханфштенгль. Он действительно был теперь спокоен…почти. Все, что его тревожило в этом парнишке, нашло объяснение, и теперь Ханфштенгль старался только, чтоб не показать, никак не проявить то, что он к нему испытывал — жалость, сочувствие. Никакой брезгливости, нет. Мне, наверное, просто везло на таких людей, думал он. Он хорошо знал всего трех гомосексуалистов за всю жизнь — и они не вызывали у него ничего похожего на гадливость. Просто они были другие, не совсем такие, как все… ну и что? Гениальные люди тоже были не такие, как все. Вот и фюрер совершенно не такой, как все… Но фюрер и покойные гении не принимали сочувствия и не нуждались в жалости. Не то что эти, о которых в приличном обществе не говорят…
— А что вы думаете о женщинах?
— Я?
— Да, да.
— Я думаю, что они прекрасны, — тихо сказал Ханфштенгль, — что они прекраснейшие создания на свете, Бальдур.
— Хотел бы я быть женщиной, — тут же отозвался Ширах.
— Что?..
— Ничего, ничего. Послушайте… давайте сыграем, а?
— ЧТО?..
— Ну вон же… рояль. В четыре руки, а?
— Вам, Бальдур, до сих пор не дает покоя то, что я не дал вам стать музыкантом, когда вам было 17?
— Да я счастлив, что вы освободили меня от этой… обязанности.
— Хиндемита знаете?
— Знаю.
— Но только — очень тихо. А то Геббельс прибежит и сюда. И обзовет нас декадентами.
…Ханфштенгль остановился, вслушиваясь в ту музыку — и вдруг понял, что опять забрел черт-те-куда. За ним это водилось с детства — задумываясь о чем-то, он забредал так далеко от дома, что раза два даже пугался, не заблудился ли…
И сейчас он, 40-летний, вновь пережил это ощущение, хотя вроде и не было никаких разумных оснований для этого. Были в Мюнхене кварталы, которые он знал лучше или хуже, но заблудиться уже не мог. Он даже вспомнил название улочки, на которой находился, но даже это не до конца убедило его в том, что ему известно, где он — может, потому, что он никогда не видел эту улочку заснеженной. Без снега она была скучной, как серый старушечий чулок, а сейчас, под фонарным светом, искрилась, принаряженная и тихо, сказочно торжественная — словно ожидала, что по ней вот-вот величаво проедут сани Снежной королевы, запряженные пегими оленятами с розовыми носами и позолоченными рожками. И музыка вдруг зазвучала веселее…
Она звучит, действительно звучит, понял вдруг Ханфштенгль, и это не та, которую я вспоминал, это просто скрипка без аккомпанемента рояля — и слышится она вон из той приоткрывшейся двери под черным козырьком с завитушками.
Он подошел ближе — похоже, это был кабачок. Еврейский, судя по скрипичной мелодии. Что ж, сюда-то мне и надо, должно быть, неслучайно же он возник передо мною, как появляется в сказках неведомая дверь в стене, за которой может быть все, что угодно. Сокровище, например. Мне нужно только одно сокровище на свете, подумал Эрнст Ханфштенгль — душевный покой. И вряд ли я его здесь обрету.
Внутри кабачок мало чем отличался от всех остальных, разве что был очень мал — а потому вполне естественным выглядело то, что он был почти пуст. Разве что за одним столиком сидели два старичка, вид которых усилил в Ханфштенгле ощущение, что все это сказка. Это были птичьи старички — пузатенький воробей и носатый черный грач. Хозяин был старый, тусклый попугай, по нему видно было, что он любит ворчливо скрипеть, но сейчас он слушал скрипку или просто дремал за стойкой. Музыкант со скрипкой был серой канарейкой, нервной канарейкой, которая не будет петь, если рядом ложка звякает о тарелку.
Ханфштенгль тихо сел за один из столиков, расстегнул пальто, положил на столешницу замерзшие гусиные лапы. Заказывать ничего не хотелось, хотелось сидеть, греться, слушать.
Он долго пытался угадать мелодию, но так у него ничего и не вышло. Слышалось в ней что-то знакомое, но неуловимое, она была словно луг, над которым порхает то одна, то другая бабочка. Ханфштенгль, к стыду своему, понял, что не может сказать про эту музыку ничего, кроме беспомощно-дилетантского «похоже на Моцарта». И на Моцарта не более, чем на Вивальди… Импровизация, но какая-то совершенно беззаконная. Если слушать это долго, можно, наверное, и с ума сойти.
Может, они все тут трое и сошли — хозяин и два старика. И если спросишь у них о чем-нибудь самом простом, услышишь не тот ответ, какого ждешь. Сколько времени, например (что они ответят? «Вечность»?) Хороший вопрос. Если б только я сам еще знал, сколько сейчас времени. А заодно бы вспомнить, у кого оставил часы. Нет, в самом деле. Это уже смешно. Вчера Хелен сказала тем особенным голосом, который звучит ласково, но только для того, чтоб скрыть унылое пренебрежение… а что она там сказала-то? Ах, вот что.
Пуци, каким образом ты умудряешься забывать где попало даже те вещи, с которыми нормальные мужчины не расстаются?
Действительно — как можно забыть часы, если они у тебя в кармане? А проклятый портсигар как можно забыть?.. Если я обойду всех знакомых, подумал Ханфштенгль, ну буквально всех, то можно будет устроить выставку моих портсигаров. Штук пять или шесть я точно оставил в гостях…
Пуци, каким образом ты умудряешься забывать где попало даже те вещи, с которыми нормальные мужчины не расстаются?
ЖЕНУ, НАПРИМЕР?..
Впрочем, может, все мои вещи только и мечтают сменить хозяина. Вещи не должны любить такого растеряху. И оставляются-забываются мной там, где им будет лучше. Вот жена, например, почему-то всегда остается там, где Адольф… или, по последним данным, Пауль Йозеф…
Музыкант довел мелодию до очередного взлета — а потом словно бы грубо швырнул куда-то под стол. Пуци повел плечами, это было крайне неприятно. Он заметил, что музыкант — худощавый молодой человек с буйной темной шевелюрой — пристально уставился на него.
— Здравствуйте, — негромко сказал Пуци, он всегда любил этих печальных и одаренных парней-неудачников, растрачивающих свой талант на то, чтоб обычные люди провели хороший вечер, — Позвольте выразить вам восхищение и благодарность за…
Парень усмехнулся и приложил палец к губам. Через мгновение он уже сидел за столом Пуци, с ним прибыли бутылка и пара рюмок.
— Коньяк пьете? — небрежно поинтересовался он.
— Пью. Но…
— Выпьем. Вообще, — парень понизил голос почти до шепота, — мы здесь не очень любим, когда к нам приходят наци. Чтоб вы знали. Но ладно, сегодня можете считать себя моим гостем.
— Неужели на мне написано, что я наци?
— Более того, на вас написано, что вы Пуци Ханфштенгль.
— В таком случае, ЭРНСТ Ханфштенгль. По-моему, вы немножко грешите против вежливости, называя меня по прозвищу? — буркнул Пуци.
— Да, конечно, мои извинения. И теперь ведь и я должен представиться? Рональд Гольдберг. Ну, за знакомство?
— Да-да.
Видел я странных парней, подумал Пуци, но этот, пожалуй, самый странный из всех. Он вроде бы здесь, и глаза его вроде бы глядят на меня, а на самом деле я его рядом — не чувствую. Он что-то вроде бабочки, присевшей тебе на руку, когда ты дремлешь на террасе в летний денек… то есть, тебе кажется, что это, наверное, бабочка, глаза у тебя закрыты, и ты видишь только золото на багряном. А когда открываешь глаза — нет никакой бабочки, да и была ли? Да и бабочка ли?.. Может, кто-то — или что-то — еще легчайше прикоснулось к твоей руке и исчезло, а ты, в своем зажмуренном блаженстве, не видел, не понял… прозевал какой-то знак…
Одно непонятно, подумал Пуци, захлебнувшись некрасивой усмешкой, почему мужик, которому изменяет жена, думает о птичках и бабочках?..
— Кое-что надо оставлять, — вдруг сказал Рональд Гольдберг, вроде не обращаясь к собутыльнику.
— Что?
— Я говорю, есть вещи, которые надо оставлять навсегда. Даже если они тебе нравятся. Нет хуже любви без взаимности. Она способна… погубить любящего.
— Да-да, — кивнул Пуци, поддерживая музыканта и не осознав, насколько сказанное относится лично к нему.
— У вас… неприятности? — тихо спросил он у Рональда.
— У меня уже нет, — улыбнулся парень, и опять безадресно, глядя куда-то вдаль, — Я оставил… И у вас пока еще нет, но будут, если не оставите…
— Что я должен оставить?..
— Вы хотите, чтоб я ответил? Вы сами можете, — ухмылялся Ронни Гольдберг, а точней, обиженный мальчишка, сидящий в нем с 1924. Отвергнутый жизнью юный человек, которого это и подтолкнуло — принять себя и вернуть, вытащить из дальней кладовки свой единственный ценный дар.
Ронни никогда не читал о Кассандре. А если б читал, то обрадовался бы — ему, в отличие от нее, все же иногда верили, и потому можно было надеяться, что его ждет не такая ужасная судьба.
Пуци чуть захмелел от музыки, коньяка и глаз собеседника, а потому тихо ответил:
— Единственное, что мне приходит в голову — это пойти и развестись с женой.
— Дело даже не в вашей жене, — сказал Ронни, — точней, она — это еще не все. Это только часть того, что вы должны оставить… если хотите жить.
— Жить?
— Да, Пуци, если все будет так же, вы скоро умрете.
— Вам здесь платят за это? За предсказания?.. — усмехнулся Пуци, он верил этому человеку — и сам не понимал, почему.
— Кто ж заплатил бы за подобное предсказание. Мне платят за музыку… Впрочем, каждому свое, а я простой сумасшедший. Вы все равно сделаете так, как считаете нужным.
— Да, конечно.
— Не сомневаюсь.
Пуци поднялся — пора было домой.
— Я хочу вам помочь, — тихо сказал Рональд, — не забывайте того, что я вам сказал.
— Почему вы хотите мне помочь? — усмехнулся Пуци, — вы меня в первый раз в жизни видите.
— Второй, — сказал Ронни, — И помог я вам так же, как вы когда-то помогли мне. Я просто указал вам на то, где ваш шанс.
— Ничего не понимаю…
Парень достал из кармана визитную карточку и протянул ее Пуци:
— Это ваше?
Пуци тупо смотрел на собственную визитку, но убей Бог, не мог вспомнить, когда и где давал ее этому странному молодому человеку.
— Простите мне мою невоспитанность, — сказал он, — но я не возражал бы, если б вы напомнили мне, где мы познакомились.
— Мы не знакомились. Во всяком случае, вы мне не представлялись, а сами наверняка тут же забыли мое имя, которое вам назвал мой тогдашний друг.
— У нас общие знакомые?
— Да. Бальдур фон Ширах. Но его больше нет.
— В каком смысле «нет»? Насколько мне известно, он в добром здравии…
— Я имел в виду, — недобро усмехнулся Ронни, — что больше нет того Бальдура фон Шираха, который позволял себе дружить с евреями. Да и вы хороши — проводите время в еврейском кабаке! Что скажет фюрер?
Пуци серьезно поглядел парню в глаза и честно ответил:
— А мне насрать.
…Он подходил к своему дому, ожидая увидеть свет в окнах, но окна были темны. Разумеется. Мария уложила Эгона спать и легла сама. У хозяев есть ключи, и вовсе незачем будить ребенка трезвоном в три ночи.
Если бы Хелен была дома, светилось бы окно гостиной. Она никогда не может заснуть, если не легла когда положено — будет сидеть и читать до утра, или смотреть фотографии, или рисовать штрихами танцующие ломаные силуэты в старом детском альбоме. Летящий подол платья, надежный изгиб пиджачного рукава… Взметнувшиеся волосы, прыгнувшая челка… У всех ее танцоров мужского пола, высоких и тонких, словно одетые фигуры Босха, обязательно были челки.
Снег снова падал, снег танцевал.
Эрнст был шагах в двадцати от подъезда, когда из-за поворота неловко вывернул тускло блестящий джип…
Высокий мужчина в светлом пальто выбрался из него, открыл дверцу, помог выйти даме. Дама — которую Эрнст узнал бы и в полной тьме — сделала ломкий шажок и оперлась на руку мужчины.
Эрнст еще не слышал ее, но и без того наизусть знал, что она говорит.
— Покурим?.. Хороший вечер — если б только нас тут не было…
Мужское «покурим» и эта вечная ирония…
Хелен — Эрнст видел это, за годы брака он научился определять ее состояние по любой малости — была пьяна, как штурмовик. Только в таком состоянии она могла позволить себе так цепляться рукой за любую подходящую опору — сейчас то был мужчина в светлом пальто. И, кроме этой судорожно сжатой на его предплечье руки в черной перчатке, ничто не говорило о том, как она пьяна. Нельзя было даже сказать, что она схватилась за него, ибо напряжена была не вся рука, а только вцепившаяся кисть. Уж она-то была сейчас тверже железа… А Хелен стояла, как обычно, прямо и непринужденно, и другая ее рука подносила сигарету в мундштуке ко рту обычным порхающим движеньем…
Мужчина в светлом пальто. Теперь Эрнст, замедливший шаги, с недоумением приглядывался… да нет, какое, не может быть… С чего бы…
Он не успел еще даже шагнуть в круг фонарного света, как мужчина обернулся, и Эрнст увидел то, во что не хотел верить — а именно, пьяную, красивую и доброжелательно улыбающуюся физиономию молодого Шираха.
— Те же. И муж, — сказал Ширах. Улыбаясь.
Нет, подумал Эрнст с болью, не шути так. Будто не видно, что у Хелен вместо косметики — недорисованный клоунский рот и черные, как у старой ведьмы, круги под глазами. Тушь потекла, а помаду кто-то смазал грубым поцелуем… и это был не ты, Бальдур фон Ширах, точно не ты. Уж я-то знаю.
Хелен засмеялась — неуместно и не по-своему, как часто смеются пьяные и виноватые женщины.
С ней все было ясно — не стоит принимать во внимание. Что бы ни делала. Домой и спать.
Эрнст сунул руку в карман и обнаружил — вот уж одно к одному — что опять оставил где-то портсигар. Может, там, в еврейском кабачке… черт.
— Бальдур, сигареты не найдется?
— Папиросы.
— Давайте… Благодарю.
Глазами он сказал — и за это тоже. За эту… мою жену.
Ширах так же, взглядом, ласковым пьяным взглядом ответил — не за что.
— Эрни, — сказала Хелен, — Эррни. Ты представляешь, как было…
Она прокатила это «р» на языке, словно засахаренный орех, огромный, сладкий. Эрни. Она все реже звала его так. Только спьяну, если уж честно. Пуци и Пуци… Да только сейчас-то какая разница.
— Как ваша голова? — спросил Эрнст у Шираха.
— Прошла… Что совершенно естественно… коньяк — это дело, я вам скажу…
— Как насчет продолжить?..
Ханфштенгль не хотел до утра сидеть, куря сигарету за сигаретой. И не хотел лежать рядом со спящей пьяным сном женой, постанывающей и ухмыляющейся вялыми губами. Ее тонкое тело, когда она спала вот так, напоминало о сломанной кукле. Она стонала и улыбалась, но не двигалась. Даже запястье не дрогнет. И это иногда будило в нем такие желания, о которых он потом не хотел и вспоминать.
— Вы приглашаете?.. — поднял брови Ширах.
— Да. Конечно. Ну куда вы поедете… в таком виде.
— Иногда я заезжал в никуда, — мечтательно откликнулся Ширах.
— И как там?..
— Тоже снег, знаете ли.
Хелен, вися на руках ворчащей Марии, благополучно отбыла в спальню.
Эрнст зажег в гостиной маленькие бра. Ширах словно только того и ждал — он присел на диван, вытянув длинные ноги, и прикрыл глаза.
— Как у вас хорошо, — сказал он, — когда не шумно.
Эрнст был совершенно согласен с ним. Он начал уставать от толпы, вечно снующей здесь, глупо болтающей об искусстве, пьющей и после этого еще более глупо болтающей о том же.
Эрнст поднял рюмку, и она словно подмигнула ему янтарным глазом.
— Бальдур, давайте выпьем.
— За что?
— За то, чтоб… никогда и ни в чем не знать разочарования.
— Ах, какой тост. Да.
— Разочарование — одна из самых ужасных вещей на свете.
— Согласен…
Ширах был все таким же непривычно тихим, хотя у него уже не болела голова.
— Почему вы решили ее проводить? — вдруг спросил Эрнст и смолк, смутившись. Коньяк шибанул в голову, что ли. Какого черта задавать глупые вопросы. Кто ж не проводит даму… но я-то имел в виду…
— Как так получилось, что вы ее проводили? Мне казалось, ей хотелось остаться.
Ширах склонил голову.
— Она плакала.
— Что?..
— Ничего. Плакала в прихожей, хотела уйти. Но не могла найти шубку. Прислуга уже спала… Я предложил отвезти ее домой.
Плакала. Как подло — и как приятно — думать о том, что у нее с ним не всё хорошо… Впрочем, не она — вино плачет. А я-то, я-то хорош. Вот уж действительно, не муж, а недоразуменье.
— А ваш шофер где же?.. — спросил Пуци, чувствуя себя неловко.
— Он уехал на свадьбу к брату. В Мюнхен. Уж с машиной я и сам справлюсь…
— Да, да.
Пустые разговоры. Ох, пустые… а о чем говорить. О моей Хелен, которая уже не моя?
— Вам очень плохо, — сказал Ширах, — выпейте еще. Я вижу, вам очень плохо.
— Вы правы, Бальдур, мне очень плохо.
— Давайте выпьем…
… - Ну а вы, вы-то зачем тратите свое время на… Пуци, которому… изменяет жена? Вы же так молоды. Вам… только и развлекаться. Веселиться. Может, вам весело просто смотреть на меня? Интересно?..
— Пуци не тот шут, над которым смеются, — ответил Ширах, — над вами плакать впору. Шут из «Короля Лира».
— Вот уж спасибо. Злой у вас язык…
— Не злей, чем у вас, когда вы того хотите… Отвечая на ваш вопрос — что я тут с вами делаю — то есть, какова была настоящая причина того, что я принял ваше приглашение — скажу вам, что причина у меня та же, что и у вас. Сегодня я чувствую себя жутко одиноким. И у меня нет женщины, которая хотя бы стала меня развлекать таким образом, как ваша супруга вас…
Тон Шираха задел Ханфштенгля: он не привык, чтоб о Хелен, какая б она там ни была, говорили в таком тоне.
— Так заведите себе подружку, жену, в конце концов, — буркнул Пуци, — Вы молоды, хороши собой, из хорошей семьи, любая юная национал-социалистка с радостью разделит с вами партийные заботы и супружеское ложе…
— Чтоб потом влюбиться в доктора Геббельса или в фюрера и заставить меня почувствовать себя ничтожеством? Спасибо, такое национал-социалистическое семейное счастье мне не нужно.
— Бальдур, не передергивайте уж так сильно. Думаю, вы, если подумаете, назовете множество пар, у которых все хорошо. Гессы те же.
— О да-да-да. То-то Руди проводит с фюрером больше времени, чем с женой, и своих дивных глаз с него не сводит!
— Бальдур, — усмехнулся Пуци, — не знал за вами чисто женской способности вот так перемывать людям кости.
— Это не единственная моя чисто женская способность. Притом что у меня и потребности, — Ширах неопределенно и нежно улыбнулся кому-то невидимому, не Пуци, — тоже чисто женские.
«Значит, я все же был прав, — подумал Пуци, — и зря жалел его. Его это нисколько не мучает. Какой мужчина столь легко признается в гомосексуальности?»
— А зачем вы мне это рассказываете, Бальдур?
— А вы как думаете, Эрнст? Заигрываю…
— Бальдур, ей-Богу, вы пьяны.
— Пьян, конечно. И чувствую себя не лучше вас, я уже говорил. У вас-то хоть завтра возможна иллюзия семейного счастья…
— Иллюзия? Стало быть, она с ним все же…
— Да, да. Только больше не говорите, что я сплетничаю. Вы сами хотели знать. Свечку я не держал, но в том и нужды не было, скажу я вам…
— Понятно, — Пуци отвернулся, налил себе, залпом выпил. Ему было очень больно и ощущал он себя отвратительно. Теперь, когда его подозрения подтвердились — и подтвердились таким поганым образом… Если то, что произошло, заметил Ширах, который полвечера провел в одиночестве — значит, заметили все. Дикая злоба на Хелен несколько минут мешала ему продышаться. Сука, дуреха, чокнутая проблядушка! Сдержаться не могла, чтоб чуть не в чужой гостиной не вскочить верхом на эту ушастую обезьяну, которая на мужика-то похожа только на двух, трех от силы фотографиях Гофмана! Ладно б хоть был какой арийский кобелина двухметрового роста с соломенными кудрями, а то… Йосечка, мать его!
— Эх, — сказал он, — пожалуй, набью я завтра кому-то морду.
— Геббельсу нельзя бить морду, — наставительно произнес Ширах, — он же рассыплется. А вы будете иметь большие неприятности с фюрером.
— Знаете, Бальдур, — сказал Пуци, — Может, вы и правы в том, что не хотите связываться с бабами.
— Угу.
— Прозит, геноссе!
Коньяк почему-то так обжег горло, что у Пуци слезы выступили на глазах. И он с минуту просидел, прикрыв глаза ладонью. Ширах, деликатно отвернувшись, помалкивал. А потом, когда Пуци махнул рукою, вздохнул по-лошадиному и сделал вид, что сплевывает на ковер, произнес:
— Вы мне сейчас так нравитесь, Эрнст.
— Что, Бальдур?.. Почему?.. Чистый Отелло?
— Вроде. Хотел бы я, чтоб кто-то испытывал столь же сильные чувства ко мне.
— У вас еще все впереди.
— Кто знает. У всех самых лучших мужиков уже есть жены или любовницы… — комически-скорбно выдохнул Ширах, и Пуци невольно улыбнулся:
— Смешной вы сегодня.
— Наверное. Я рад, что смог вас немножко отвлечь. Тем более, что иным образом вы бы мне вас утешить не позволили…
— А вы бы что, были согласны на это? — с пьяным добродушием спросил Пуци.
— А то.
— Но зачем же?
— Затем, что вы, как я совершенно уверен, очень нежны в постели. Такие огромные медведи, как вы, обычно очень нежны, словно раздавить боятся, — ласково сказал Ширах, — А я очень люблю, когда со мной нежны. Просто умею это ценить, чтоб вы знали.
«В отличие от НЕЕ. Йосечка небось набросился на нее, как кобель… вот уж чего никогда я не умел — так это вот так бросаться…»
Ширах прикурил, поудобнее устроился на диване, придвинувшись к Пуци и положив голову ему на плечо. Пуци нисколько не возражал против этого, даже внутри ничего не запротестовало. Желание куда-то деть свою боль и подарить кому-то то, от чего эта манда влегкую отказалась, пересиливало комплексы. А почему бы и нет, черт возьми? Прямо на этом диване, прямо здесь. Будет что вспомнить об этом вечере, кроме боли и пьянки… И риска нет — Мария не встанет ни за что, спит она, как сурок. Хелен пьяна, тоже пушкой не разбудишь. Эгон никогда не просыпается после полуночи, если никто не трезвонит в дверь.
Пуци повернул к Шираху голову, тот привстал, позволяя себя обнять, и сразу же угостил его таким поцелуем, что Пуци моментально поплыл и размяк. Впрочем, не до такой степени, чтоб не обратить внимание на включенный свет.
— Выключить? Бальдур?
— Зачем? Он мягкий, глаза не режет.
— Но…
— Стесняетесь, Эрнст? А чего?.. В лицо вы мне, скорей всего, смотреть не будете… — мягко посмеивался Ширах, — зато увидите всё, что нужно.
— Вы… определенно не хотите, чтоб я забыл этот вечер!
— Конечно, не хочу. Замолчите наконец. Или… давайте сменим тему разговора.
Тема разговора сменилась самопроизвольно.
— Эрнст, все же, на всякий случай, давайте не будем раздеваться совсем… мало ли что…
— Да, да…
Ну и какая разница, обалдело думал Пуци через несколько минут, все равно кто угодно, если нас увидит, все поймет… Расстегнутые рубашки и брюки, алые следы поцелуев у меня на шее и груди, член, который порвал бы штаны, если б Ширах не склонился к нему и не начал его лизать…
— Ты с мужиком первый раз? — спросил вдруг Бальдур.
— Да.
— У тебя есть способности… Теперь сползай на пол и сам думай, что делать. Только полегче, не забывай. Здоров уж он у тебя очень.
Ширах давно уже стоял на коленях возле дрожащего на диване Пуци. Теперь он окончательно спустил брюки и трусы, оперся локтями на диван, удобно пристроил голову.
— Эрнст!..
— Ага. Сейчас.
У Пуци не было проблем — Ширах помогал ему, как только можно. Он отзывался на каждое прикосновение, на каждое содрогание члена меж его ягодицами, он вел себя так, чтоб Пуци было с ним легко, удобно…
И Пуци был поражен. Он не мог припомнить, чтоб в последнее время получал от жены удовольствие, сопоставимое с этим беззаконным чудом в виде упругой узкой мужской задницы, так доверчиво ему подставленной и так охотно сжимающей нежными тисками его член. Все было медленно — с непривычки Пуци слишком опасался сделать больно. Но Шираху не было с ним больно, явно, ему было так хорошо, судя по тому, как он судорожно прогибал поясницу и бормотал что-то невнятное, ткнувшись носом в сложенные руки… Пуци невольно убыстрил темп, слишком уж это было мучительно — так долго шевелиться еле-еле. Теперь он то и дело тесно прижимался к спине Шираха, даже подсунул ладонь ему под грудь, и двигался быстрыми короткими толчками. Ширах охнул, потом тихонечко застонал, отвечал на каждое движение Пуци стоном, а поскольку Пуци двигался быстро, стоны эти сливались в еле слышное пронзительное поскуливание. Эти тихие, но совершенно непристойные звуки окончательно свели Пуци с ума, и он дернул к финалу такими яростными рывками, что Ширах задохнулся, вцепился в обивку дивана не только руками, но и, возможно, зубами… а потом просто окончательно сполз на пол.
Пуци тупо смотрел на него. Ширах лежал рядом, пытаясь отдышаться, глаза у него были закрыты, нежные порозовевшие щеки блестели от слез, а шея над воротом сорочки — от пота.
— Пуци, — сыто произнес он, — Пуци.
Голос так контрастировал с мокрыми щеками, что Пуци передернуло.
— Почему глаза на мокром месте? — тихо спросил он, — Больно было все-таки, дурачок?
— Нееет… Просто нельзя было кричать. Правда же? А когда нельзя орать, я всегда почему-то весь в слезах… особенность, что ли, такая…
— Нет, правда, совсем не больно?
— Глупый ты, Пуци.
Парень приподнялся с трудом, принялся натягивать трусы и брюки, заправлять рубашку. Пуци совершенно машинально тоже привел в порядок свою одежду. С пола они так и не встали — так почему-то теперь было лучше. Словно снова сесть на диван — означало убить возникшую близость.
— Вообще-то, мог бы и сказать мне что-нибудь, — тихо сказал Бальдур, — просто так что-нибудь. Я знаю, слова ничего не значат, но все равно. Не забывай, женщинам нужно, чтоб им что-то говорили…
— Бальдур… — Пуци провел кончиками пальцев по его щеке, — С тобой… очень хорошо.
Пуци мог сказать что-то и кроме этого — но не теперь. Слишком все было ново для него. Не скажешь же, глядя в эти синие сонные глаза с насмешливым искрящимся донышком, что тебе было так сладко с ним, как никогда в жизни. И что хочется сделать это еще раз — но чтоб обошлось без его слез. Да, чтоб орал, если хочется. И чтоб был без сбившейся намокшей сорочки и брюк, сковывающих движения бедер.
— Я старался.
— Дурачок маленький.
— Я не маленький. Я вполне взрослый идиот.
— Почему идиот? Все-таки жалеешь?
— Нет. А ты?
— Нет.
— Пуци, — Бальдур серьезно посмотрел на него, — А еще разок — потом — захочешь?..
— Тебе это нужно?
— А тебе?.. Вот так, будешь знать, как задавать тупые вопросы… Налей мне выпить.
— Держи. И впрямь, надо бы выпить… Ты совсем меня с ума свел, — в голосе Пуци все еще дрожали смущенные нотки.
После того, как выпили, Бальдур сел, опустив голову… и через некоторое время пробормотал:
— Ну почему всегда нельзя так?.. А?..Почему обычно всё так плохо?..
— Что плохо? — спросил Пуци.
— Обычно, Пуци, со мной это делают случайные мужики. И видел бы ты их высокомерные рожи — мол, извини, сегодня мне захотелось остренького… И они такие грубые. Знаешь, как больно?.. У тебя вот член здоровенный, а больно было чуть-чуть, под конец, когда уж это было все равно. Ладно, молчу, не буду тебя смущать такими подробностями.
— Можешь продолжать, — сказал Пуци и немного тише добавил:
— Мне кажется, теперь я должен побольше узнать о тебе…
— Ты так считаешь? По-моему, вовсе необязательно.
Им нечасто перепадала возможность переспать — оба были слишком заняты. Пуци опасался, что Ширах, с его склонностью к эпатажу, как-нибудь, да продемонстрирует окружающим, что они не друзья, а хуже. Потом Пуци понял, что опасаться такого — несусветная глупость. Ширах, хоть и бывал дурашлив с виду, оказался мальчишкой скрытным и гордым. Он даже слегка ухаживал за дамами — то за одной, то за другой. Он был молод, хорош, он нравился, но… легко менял объект ухаживания на другой. Нечистой репутации гомосексуалиста он предпочел сомнительную славу ветреного малого.
Пуци глухо и глубоко тосковал по Шираху, когда был не с ним — треклятый паренек с первой ночи влез к нему в душу и свернулся там теплым калачиком, вроде пушистого щенка или, скорее, добродушного чертенка. Улыбка чертенка согревала выстуженный дом.
На работе Ширах был деловым и жестким, после работы, в обществе — болтливым и остроумным до язвительности, с ним было трудненько управиться и Пуци, который этого уже не хотел, и даже Геббельсу, который желал этого страстно — чертов мальчишка подрывал его авторитет самого блестящего собеседника, тем более что не уступал ему ни в ясности мысли, ни в образованности.
— Смотри, — предупреждал Пуци, — поосторожнее.
— А что?
— Нельзя дразнить животных, Бальдур, — зло пошутил Пуци и вздохнул:
— Ничего ты не боишься, дурная твоя голова.
— Кого я должен бояться? Нашего красавчика Гебби?.. Иди ты, Пуци, я даже в детстве не боялся юродивых…
— Что Гебби, черт бы с ним. Просто когда твои шутки не доходят до фюрера, всем становится несколько неловко.
— Не вижу своей вины в том, что у фюрера другое чувство юмора…
— У него его вообще нет, Бальдур.
— Не скажи. Убогое, но есть. Он так весело ржал — потом — когда ты позвонил ему из Берлина в Мюнхен и сообщил, что штурмовики подожгли рейхстаг…
— Они могут…
— Потому и шутка получилась.
… Пока что казалось, что беспокойство Пуци за Шираха не имеет под собою никаких оснований. Противники нацистов (коих становилось все меньше, что, разумеется, объяснялось исторически) уже поговаривали о том, что у холостого фюрера таки появился фюреренок. А фюрер глядел на Шираха с плохо скрываемой нежностью и гордостью. Чего нельзя было сказать о докторе Геббельсе.
… Геббельс подготовил очередную речь. Фюрер прочитал два первых абзаца, пожал плечами и передал ее Гессу. Гесс пролистал, фыркнул, отдал Пуци. Ширах сунул любопытный нос через плечо Пуци — и раньше, чем кто-либо из старших успел раскрыть рот, брякнул:
— Ну и словеса, мама дорогая!.. Вы хотите сказать, что простые рабочие вас поймут?
Геббельс терпел Шираха уже слишком долго. И теперь по-тихому взорвался и прошипел:
— Кажется, мнения малолетнего дофина я не спрашивал!
— Если я дофин, то вы, Йозеф, — Мария Антуанетта, — звонко отпарировал Ширах.
— Чтооо?
— Когда ей сказали, что у народа нет хлеба, она отвечала — «Пусть ест пирожные». Вот ваша речь и есть такое пирожное. Но если учесть исторический опыт…
Геббельс побледнел дозелена, поняв, что Ширах имеет в виду — а именно, бесславный конец высокомерной французской суки.
— Думаю, в нашем случае не стоит учитывать столь негативный исторический опыт, — Пуци попытался сгладить неловкость, но не вышло. С Геббельсом произошел один из его нечастых припадков агрессивности.
— Вы на что это мне намекаете, Ширах? — грубо поинтересовался он. Грубости у Геббельса не получались, получалось что-то вроде безобразной, придушенной истерики.
— Пауль, — почти шепотом обронил фюрер — только он да жена звали его так — и Геббельс, нахохлившись, скомкал листки, сунул их в карман и оскорбленно молчал до вечера…
А что он там высказывал фюреру и Гессу вечером, ни Пуци, ни Ширах не узнали, потому что, измученные своей недоступной близостью, уехали под разными предлогами, чтоб встретиться на этот раз в безалаберной, всегда полной каких-то мальчишек квартире Шираха, где сегодня, по счастью, никого не было.
— Послушай. Пожалуйста, больше так не делай. Не надо почем зря наживать себе такого врага, как Геббельс… — Пуци еще долго вещал о том, что за свинья геноссе Пауль Йозеф и на что способен в порядке мести, но в конце концов смолк, удивленный молчанием Шираха.
Тот сидел, опустив глаза, и чему-то слегка улыбался.
— В чем дело?
— Мне нравится слушать, как ты читаешь мне мораль.
— Неужели?
— Да.
— Ты становишься на удивление белым и пушистым, когда остаешься со мной наедине, — усмехнулся Пуци, — не разъяснишь ли, с чем это может быть связано?..
Действительно. Он просто не узнавал Шираха-нахала, Шираха-язву, Шираха-недотрогу, когда они оставались вдвоем. Бальдур чуть не мурлыкал, когда широкие ладони Пуци ласково разминали ему плечи, согревая кожу под тонкой рубашкой. Потом рубашка осторожно стягивалась с него — причем вид у Пуци был такой, словно он с какою-то целью осторожно отдирает лепесток от розы и сам смущен этим издевательством над красивым цветком. Ширах тихо смеялся — удержаться было невозможно — над странно-смягчившимся выражением лица Пуци, когда тот смотрел на него.
— Я вызываю в тебе сентиментальность, — сказал Бальдур однажды, — Это плохо, Пуци.
— Становлюсь похож на тетушку-домохозяйку, которая промокает глаза платком, когда смотрит очередную метро-голдвин-майеровскую трагедию?..
— Да нет. Просто все время боюсь, что твои сопли скажутся на трахе.
— А в первый раз говорил мне, что тебе нравится, когда трахают нежно.
— Нежность — это не сентиментальность. Сентиментальность — это самый верхний и изрядно подкисший слой нежности. Гадость, которая постоянно сочится наружу, в то время как нежность остается внутри. Вот Рильке был очень нежным, по-настоящему. Помнишь, к нему является умершая женщина, которую он любил. Если б он был сентиментальный мудак, как большинство поэтов, он завопил бы: «О, любовь моя, ты вернулась, как я рад, как я счастлив видеть тебя!» А он говорит — «слушай, иди отсюда пожалуйста»…
Рильке, да, Рильке. И Хиндемит. И сколько упоительных вечеров мы могли бы провести в их компании — куда более подходящей для нас, чем сборище огненноглазых, бешеных, дьявольски высокомерных ничтожеств в коричневых рубашках. Почему бы мне не издавать те книги, которые хочется, почему бы мне не любоваться отличными репродукциями, гордясь качеством печати — ах, какой бы альбом, скажем, Эрнста я мог бы сотворить! А Бальдур написал бы мне статьи для него, они были б смешные, полные искреннего детского восхищенья, и это очень пошло бы к картинам Эрнста.
Вечерами Бальдур писал бы свои плохие стихи, а я бы объяснял ему, почему они плохие. Здесь, сейчас нам толком и поговорить ни о чем некогда — успеть бы впихнуть немного любви в те несколько всегда торопливых, всегда случайных, всегда по-дурацки тайных часов, которые нам иногда достаются.
— По-моему, не слишком удачная идея пересказывать поэзию Рильке своими словами, — заметил Пуци, думая о том, что сказал Бальдур, — Стыдно не помнить Рильке наизусть.
Бальдур тут же отозвался строфою из «Реквиема», но не той, которую ожидал услышать Пуци:
— «Ведь вот он, грех, коль есть какой на свете: не умножать чужой свободы всей своей свободой. Вся любви премудрость — давать друг другу волю. А держать не трудно, и дается без ученья…»Бальдур низко опустил голову, и Пуци, прекрасно помнящий «Реквием», поймал его лукавый, искоса, из-под челки, какой-то лунный, из какого-то «нигде» взгляд — и невольно вздрогнул, когда мальчишка закончил чтение:
— «Ты тут еще?…»
А тут ли я еще?..
Может, и впрямь — не он смотрит на меня из «нигде», а я на него?
Что ж, если это так — я должен дать ему уже сейчас последний свой совет. Самый важный.
— Бальдур. Что ты будешь делать, если меня не будет с тобой?
Взгляд в ответ — усталый и укоризненный. «Снова сопли, да? Что за вопрос — что буду делать? — да то же, что и всегда…»
Они часто объяснялись так — не нужно было произносить, один считывал с глаз другого.
— Нет, — сказал Пуци, — не стоит. Впрочем, может и стоит, но… Бальдур, тебе нужна женщина.
— Что?.. — Бальдур подумал, что ослышался: не ожидал такого от Пуци в свой адрес, да и кто б говорил — человек, натерпевшийся от бабы аж до ебли с парнями…
— Послушай меня, — когда голос Пуци звучал так — низко и устало, Бальдур всегда считал за лучшее действительно прислушаться, — Постарайся кое-о-чем позабыть и посмотри на них.
— На баб?
— На женщин, Ширах, на женщин… Увидишь много такого, на что не обращал вниманья никогда… И не думаю, что не найдется среди них такой, за которой ты пошел бы на край света. А потом у тебя будут дети — вот тогда ты меня поймешь…
— А если не найдется? Не будет? Не пойму?..
— Значит, и мужчиной никогда не станешь. И пожалуйста, при мне не употребляй слово «бабы». Я этого не люблю. Не уподобляйся Адольфу и не подражай самому плохому, что в нем только есть.
— Какого черта ты меня воспитываешь?
— Такого, что ты удивительно плохо воспитан, Бальдур. Да, кстати о подражании: у тебя появилась та же самая отвратительная привычка, которая, между прочим, делает тебя смешным.
— Какая?..
— Бальдур, когда ты стоишь на трибуне, вовсе незачем складывать руки на хую. Вы все так делаете. Не смешно ли это?.. Футбольная команда. «Стенка». Бери пример с Гесса.
— А Гесс не там держит руки?
— Вовсе нет, он засовывает ладонь за ремень… почему ты такой ненаблюдательный?
Бальдур решил исправить это упущение и теперь тщательно следил за тем, где и как каждый из партайгеноссен держит руки. И убедился в том, что Пуци прав и это действительно очень смешно — пять, а то и десять человек в одинаковых позах… Отследил Бальдур и его самого — и выяснил, что если Пуци не держит руки в карманах, то складывает их на груди, и рожа у него в такие моменты становится очень презрительной.
— Но тебе это чертовски идет, если хочешь знать…
— А я действительно складываю руки на груди?
— Да.
— Бальдур. Это… неосознанный жест защиты. Надо последить за собой…
— А меня учили, что и в карманах руки держать неприлично…
— А я себе могу позволить плевать на некоторые приличия. Зато я, черт возьми, не хожу в театр в галифе.
А разговор о женщинах вскоре напомнил о себе самым неожиданным образом.
Ширахом заинтересовалась весьма юная, но и весьма деловая и решительная девица — а именно, дочь фотографа Гофмана Генриетта, которая вроде бы ни с того ни с сего начала собирать о нем информацию — тщательно, словно Борман. Видимо, опрос других дам ничего ей не дал — никто из них почти ничего не мог сказать о Ширахе, кроме общих слов, и Генриетта перешла на его друзей, первым из которых, естественно, оказался Пуци.
Впрочем, его она спросила бы так и так — все знали, у кого можно получить наиболее компетентное мнение о другом человеке.
Пуци знал Гофмана очень давно, Генриетту помнил еще девочкой. Сейчас это была шестнадцатилетняя особа с некоей врожденной ясностью представлений и незаурядной способностью слегка, но обаятельно хамить — и нахальство это ей шло.
Разговор у них произошел в кафе. Генриетта держалась с видом совершенно взрослым и независимым.
— А что тебе, — лениво поинтересовался Пуци, — до этого Шираха, Хенни, детка?
— Не зови меня деткой, Ханфи.
— Вот уж извини. Я тебе сопли вытирал, как ты помнишь.
— Хватит об этом, — рыкнула Хенни, слегка покраснев, — Ты мне скажешь что-нибудь или нет?
— Ты не так начала разговор. Во-первых, забыла волшебное слово, а во-вторых, не нужно звать меня «Ханфи». На это имеют право исключительно мои однокурсники.
— Ну, если тебе больше нравится твоя кошачья кличка, то…
А их неплохо было б свести с Ширахом, подумал Пуци, такая же язва. Вот веселая у них получилась бы семейная жизнь.
— Эрнст, — Хенни вовремя сменила тон, — ну пожалуйста, скажи, что ты о нем думаешь.
— Это серьезно, детка?
— Мне кажется, да.
— Ширах, — сказал Пуци, — это золотое сердце, полное отсутствие мозгов и блядская натура. Ты уверена, что тебе это подходит?..
— Насчет мозгов — действительно, полное отсутствие?..
— Я думал, ты спросишь про натуру. Но ты меня не разочаровала, — ухмыльнулся он, — Полное, Хенни.
— Почему меня это не смущает?..
— А на что тебе его мозги — своих нет?.. Тем более, что тебе противопоказано любить умного мужчину. Ты его с ума сведешь.
— Спасибо, Эрнст.
— А не за что. Удачи. Кстати, могу сказать, в каком кафе обычно просиживает портки твой Ширах…
— Ну, еще не мой.
Будет твоим, вдруг понял Пуци. Будет. Куда денется.
Что-то не то во внешности, не то в манерах, не то во всей решительной повадке Хенни подсказывало ему, что именно ей, вполне возможно, удастся обратить на себя внимание мальчишки, с пренебреженьем смотрящего на плотнотелых мещановатых немецких девиц. Не в пример им, Хенни была хрупкой и изящной, одевалась с хорошим вкусом — и с ней не было скучно…
— Пуци, ты пророк?
— Нет. Обычный ясновидец средних способностей…
— Представляешь, я встретил самую красивую девчонку в Мюнхене! — тараторил Ширах, — Я так и сел, когда ее увидел. Если б я и хотел быть с девушкой — то, пожалуй, только с такой…Не знаю, кто она и откуда, но факт, что не немецкая корова. Я бы сказал, француженка… Парижанка.
— О, — сказал Пуци, пряча усмешку, — как интересно. Красивая?
— Очень, — мечтательно сказал Ширах, — знаешь, такая изящная… с короткой стрижкой. Каштановая… И, знаешь ли, вид у нее этакий… нахальный и веселый… Интересная штучка. Вот черт, я плохо говорю по-французски.
А неплохо было бы разыграть представление, подумал Пуци, Хенни влегкую бы согласилась побыть француженкой из одного удовольствия посмеяться над этим вахлаком.
— А по-немецки ты не пробовал с ней поговорить?
— Но…
Ширах мотнул головой и состроил какую-то кривую физиономию, словно у него стрельнуло в больном зубе, а начав говорить, как-то совсем не по-своему замялся:
— …но, понимаешь, я… как-то не видел повода… к ней подойти. И, по-моему, на улице знакомиться неприлично?
Пуци негромко засмеялся. Оказывается, Бальдур Великолепный умел ухаживать только за дамами, которые годились ему в матери и притом были чужими женами. А какая-то шестнадцатилетняя сопливка ввергала его в ступор!
Бальдур обиделся.
— Ну вот. Сам же уверял, что мне нужна девушка. Какого хрена теперь смеешься? Что я должен делать?..
— Может, познакомиться?
— Да как? Если я подойду и… к примеру, спрошу — по-французски, конечно, — не показать ли ей достопримечательности Мюнхена… Что она обо мне подумает?
— Что ты полный идиот. Впрочем, об этом я ей уже говорил. А что до французского — лучше не пугай ее своим английским прононсом.
Глаза у Шираха округлились, и Пуци сжалился над ним.
— У этой девочки, — сказал он, — истинно французская фамилия Гофман, достопримечательности Мюнхена она знает лучше тебя, потому что прожила здесь всю жизнь, а ты все же полный идиот…Кстати об английском — одолжи мне почитать вот эту книжечку, а?
— Да бери, — рассеянно откликнулся Ширах — в данный момент его волновала только перспектива встречи с Хенни Гофман.
И даже если бы Пуци сказал ему, что собирается, приехав домой, первым делом швырнуть «The International Jew» в камин, он не обратил бы на это ни малейшего внимания…
Часть 2. Мост через пропасть
1935–1938. Трубы и барабаны. Пауль
В кабачке полутемно и шумно. Тихий гул разговоров. Все они смолкают тогда, когда из освещенного сильной лампой угла начинает звучать скрипка. И все смотрят на музыканта — его худая фигура вытягивается, он выглядит как человек, приманивший птицу счастья — и она не дрожит подобно всем птахам, которых сжимают грубые руки человека, она поет в его руках.
За маленьким столиком в углу сидят красивая женщина и маленький кудрявый мальчик. Оба не сводят с музыканта полных гордости глаз.
Да, думал Ронни Гольдберг, почти все как тогда — почти.
Красивая женщина не сводит с музыканта полных гордости глаз.
А вот маленький мальчик…
Во-первых, он не курчавый. Мой Пауль — парень с характером, он потребовал остричь его так, как острижены его приятели во дворе. Во-вторых, он не смотрит на меня, ни с гордостью, ни с осуждением — он вообще на меня не смотрит… Я понимаю, ему просто скучно, он не любит музыку. Не всем же в семье на роду написано и положено ее любить.
Тем не менее, Рональда Гольдберга весьма огорчало то, что его сын, на которого он чуть не молился, когда тот только прилетел в его дом — прилетел на руках его матери, словно на белых тонких крылышках — никогда даже не вслушивался в музыку. Никогда. Просто не замечал ее. С тем же равнодушием он слушал пьяный гвалт соседей за стенкой.
Рональд выбрал сыну имя любимого персонажа из Нового Завета. Апостол Павел, бывший Саул, ослепленный и прозревший… Рональд полагал, что с таким именем его сыну нечего бояться ослепления — уже Павел, не Саул.
И впрямь — у малыша с младенчества был острый и пристальный взгляд, не такой, какой бывает у младенцев — эта глупая голубая муть — нет, Ронни казалось, что Пауль смотрит на все происходящее и видит его.
Пауль рос — маленьким (всегда меньше ростом, чем малыши его возраста), но не слабым; он никогда не болел и редко хныкал. У него, кажется, и не было периода умилительной младенческой пухлости, вызывающей стылый восторг старых дев в парке. Едва вылезши из пеленок, Пауль стал цепким, гибким и шустрым, словно паучок. Ронни с ума сходил от дурацкой радости, наблюдая, как его дитя осваивает — все более уверенно — сперва горизонтальную, а потом вертикальную плоскость… Того гляди оторвется от земли и улетит в небо, без крыльев, так, — думал Ронни, глядя на то, как его сын улыбается погибающей от холода астре, голубю на мостовой, огромной страшной лошадиной морде.
Пауль все рос, а Рональд все более и более проникался ощущением того, что дома у него живет чудо.
Острый и пристальный взгляд так и остался у мальчика — и он изводил и отца, и мать, и кого ни попадя вопросами — а что это? Как? Почему так? — позже началось: а как это работает?
Рональд знал, что родители жены в один голос назвали б его преступником за то, что он таскает сына по кабакам и прочим местам, мало подходящим для времяпровождения культурных младенцев. Тем не менее, он замечал, что у трехлетнего Пауля и словарный запас, и способы взаимодействия с миром — сущее богатство по сравнению со скудным багажом пятилетних культурных младенцев, гуляющих в парке с культурными мамами и боннами.
Когда Рональд возвращался с работы, его встречала сонная Мария — да, веки у нее припухли, а под глазами теперь слишком часто синели полумесяцы — следы опрокинутой ночи, печать бессонницы. Рональд знал, что она иногда не может спать — и читает до его прихода. Каждый раз сидеть в задымленном кабачке она тоже не могла — Пауля не следовало слишком часто водить в такие места, ребенок должен ложиться вовремя, а о том, чтоб оставить его дома одного, она не могла и помыслить — ни тогда, когда Пауль только и знал, как бы приложиться лбом о пятый угол, когда в комнате их четыре, ни тогда, когда он уже спокойно врал, что «ляжет спать в девять и не будет трогать спички и сидеть на подоконнике». Ладно, говорил Пауль, я просто буду придумывать сказку. Про кротов.
С кротами была отдельная история — однажды, когда Паулю было четыре, Гольдберги приняли приглашение случайных знакомых Рональда (по кабачку и скрипке) приехать к ним в гости за город. Ронни привычно прихватил скрипку, Мария надела какое-то платье в мелкий цветочек, Ронни его не видел раньше — и стала в нем удивительно юной, летней, легкой. Ронни подумал, что, может, плевать на приглашение, просто погулять с ней и с Паулем по полям, нарвать ей цветов, а Паулю показать муравейник — наверняка это грандиозное строение зачаровало б его на целых полчаса, и он не заметил бы, что родители спрятались в кустах и хихикают там, как маленькие…
Все шло прекрасно, и Пауль вел себя за столом, как самый маленький в мире дипломат аристократического происхождения. Он с честью выдержал обед. А уж хозяйскую атаку: «Какая прелесть, как воспитан! Пауль, а кого ты любишь больше — маму или папу?» и тому подобное он выдержал с блеском.
И тут-то прилетел откуда-то из дебрей огромного сада хозяйский сын — по виду года на три постарше Пауля — Хайни, длинный каштановый паренек, перемазанный всем, что растет в саду. Он что-то нес в сложенных лодочкой чумазых ладошках.
— Смотрите! Крот!
— О, — сказал хозяин, — Опять кроты… Вроде бы у нас их давно не было, правда, Вертер?
Вертер был таксой в полстола длиной. Ронни любил собак, но Вертера невзлюбил сразу — тот был умен и деликатен прямо-таки неприлично для пса.
— Вертер переловил всех кротов, — похвалился хозяин, — кроме того, он гроза крыс.
Убийца вредителей лежал рядом с хозяином и улыбался, счастливый. Ронни и без него подозревал, что иные ручные звери мало что понимают человеческую речь, а еще и посмеиваются над нами.
Пауль тем временем разглядывал трофей Хайни.
— Он же… мертвый? — спросил он.
И Хайни, с высоты своих восьми лет, ответил высокомерно:
— Конечно, раз уж он здесь. Кроты слепые, роют норы под землей, а если вылезают, то их убивает солнце.
Ронни тогда словно переселился в тело своего маленького сына. И увидел его глазами — мертвого звереныша, такого крошечного, в пол-ладони он был, этот кротик.
— Это предрассудок, — услышал он свой голос, — Солнце кротов не убивает, это ерунда.
Пауль изучал свою чашку.
С того момента он очень заинтересовался кротами. Прочитал все, что смог найти, о их жизни, и однажды сказал:
— Ну и что, что они слепые. У них есть другие органы чувств.
И придумывал сказки про них, поражая Рональда и Марию тем, как находчиво в этих сказках кроты использовали эти самые другие органы чувств вместо ЗРЕНИЯ.
Пауль рос, и все, чем он жил, в том числе и кроты — уходило в ту тень, какая заслоняет от нас, уже семи-десятилетних, наше младенчество.
Первый во дворе, первый в школе, Пауль-выдумщик, Пауль-сорвиголова, Пауль-маленький взрослый, одним словом способный расцепить дерущихся пацанов, одним взглядом дарящий, как наградой…
— У нас в семье все хорошо усваивали знания, — Мария.
«Не отступай», — Рональд.
Пауль, взахлеб читающий «Фауста». «Ведьмину кухню» — он читал так, что его даже попросили прочесть ее на школьном вечере для родителей.
Вот Паулю уже десять, и по-теперешнему нужно — ехать в Берлин, сдавать документы в канцелярию Гитлерюгенд. Съездили. Глупости, формальности. Ничего больше.
Рональд знал, что обманывает себя.
В далеком 24-м Рональд решил навсегда выкинуть наци из головы. Но у него это не получилось — время показало, что никак невозможно не думать о том, что расползается подобно заразе… Крысы плодились и благоденствовали, и даже заражали кротов своей жизнерадостной мозговой хворью…и кроты выползали на поверхность, под сжигающее солнце, кривое черное солнце с кривыми опаляющими лучами.
Наци были везде, со всех стен смотрел на немцев голубоглазый уродливый Крысолов. А во всех школах, кроме него, глядел на мальцов его наследник и ученик — тот, которого Ронни когда-то звал просто Бальдур. Его можно было видеть, как и фюрера, даже на открытках. Девчонки раскупали эти открытки вмиг — юный красавец с твердым взором и чувственными губами, с растрепанными короткими волосами, со стройной шеей, открытой благодаря распахнутому вороту рубашки… Самое смешное было то, что кротята так и остались слепыми, кривое черное солнце только еще больше слепило их. Рональд видел фотографии в газетах — рейхсюгендфюрер от хорошей жизни все больше раздавался в талии, а щеки уже и со спины были видны… Это подтверждало Рональдову мысль о преображении тех, кто пошел за дудкой Крысолова. Тоненький мальчишка с ясными глазами и легкой доброй улыбкой превратился в жирную крысу…
День рождения Адольфа Гитлера — праздник наци, но Рональду было не продохнуть — кабак набит, играй, музыкант, играй веселей, мы хотим веселиться, потому что мало ли что завтра, а сегодня — хотим.
Вечер, восемь вечера, 20 апреля. Не то что яблоку, вишне-то негде упасть. Скрипка подшучивает над собравшимися, над их серьезностью, над их усталостью. И вот уже кто-то улыбается, кто-то блаженно жмурится, хватив стопочку…
И почему вдруг, откуда — эта распахнутая дверь? Почему тот, кто пришел, стоит, не ступив за порог? Что это за белое пятно в темноте?
Не пятно — лицо. Женское лицо, которое еще утром — Рональд это отлично помнит — было красивым…
Рональд кладет скрипку на первый попавшийся стол и выходит, с каждым шагом ощущая, как растет земное притяжение, которого только что не было вообще — а теперь оно почему-то растет дальше своей нормы, с той же неумолимостью, с какой иногда ползет вверх ртуть в градуснике, показывая, что у больного вот-вот вскипит кровь… а ты можешь только бессильно наблюдать за этим.
Только бессильно идти, куда должен, уже почти волоча ноги.
И так нет ничего хорошего — нет и не будет — а тут еще дурная весть.
Голос Марии был странно спокоен.
— Пауль пропал.
Рональд молчал, и она объяснила:
— Пришел из школы. Сделал уроки. Пошел гулять. И до сих пор нет.
— Но еще только восемь…
— Но уже в это время он всегда был дома.
— Ну, может…
Рональд думал — да, действительно, ну может. Десять-двенадцать лет, компания пацанов, самый что ни на есть хулиганский и бродяжнический возраст. Куда-то забрели и не успели добраться до дома вовремя. Сидят, где-нибудь жгут костер и, упаси Бог, курят (ну-ну, две мятые сигареты на восьмерых?). Или еще что придумали… Небось, явится часам к девяти или в полдесятого, весь исцарапанный, в порванной рубашке и с виноватыми глазами…
Началось…
Ронни помнил, каким был сам в его возрасте, и потому что-то уверенно защищало его от тревоги и страха за сына.
Но Мария была слишком бледна.
С другой стороны, в кабачке было слишком много народу, люди, которые ждали вечера с любимой скрипкой… и это было даже важнее убытка, что понесет хозяин, и важнее того, что Рональд мог заработать за вечер…
Но Мария была слишком бледна.
И вот уже Рональд, оставив скрипку в комнатке за стойкой, где ее точно уж не коснутся чужие руки, идет рядом с женой, даже чуть впереди — шаг у него шире…
Какое ему дело до тех, кто останется без музыки, если не понятно, где Пауль — его сын, оправдание его существования на этом свете, его дар этому миру!
Пауль не ждал у дверей.
Рональд и Мария зашли к соседям. Если б не Пауль, Ронни ни за что не переступил бы порога этого дома — герр Вайнраух, мясник, был убежденный нацист. Жена его, круглая, розовая тетка Лизбет, по счастью, не особенно интересовалась политикой и не считала, что каждый еврей мешает ей жить — и потому частенько болтала с Марией, а младший Вайнраух — Ули, веселый круглощекий пацан, всегда играл с Паулем, причем даже не злился, если Пауль обставлял его в ножички или обгонял в салках.
Рональд вздохнул с облегчением — герра Вайнрауха не было дома. Отмечал день рождения фюрера в своем, нацистском кабачке, само собой. А Лизбет просияла улыбкой до ушей:
— Ах, как приятно, что вы зашли, ведь все же праздник! Правда, мы никого не ждали, но уж позвольте вас пригласить к столу…
— Нет-нет, — начал было Рональд. Но нечаянно заглянул в комнату сквозь открытую дверь — и осекся.
За столом сидели Ули и еще трое ребят, двух из них Рональд, кажется, где-то видел… На улице, должно быть. Одноклассники Пауля, как пить дать.
Мальчишки пожирали пышный, благоухающий ванилью торт, по уши вымазав довольные мордашки кремом, и потому походили на самых юных на свете клиентов брадобрея. Лизбет обожала детишек, как Ронни знал от Марии, и очень хотела завести еще парочку, но герр Вайнраух что-то не торопился ей в этом помочь. И потому добрая баба вечно изливала на всех соседских ребят и друзей Ули поток своей любви и кулинарной продукции.
Все четверо пацанят были в коричневых рубашках, уже слегка пострадавших от крема, и новеньких черных галстуках. Видно, ни за что не хотели сегодня расстаться с формой… На правом рукаве каждого была алая нашивка со свастикой в белом круге. Как тощие голодные клещи, свастики впивались в детские плечи. Пауля Мария сегодня тоже собрала в школу таким же манером, только отглаженный галстук дала с собой.
Рональд взглянул на жену — и она ответила ему жалобным взглядом… от беспокойства она просто забыла сообщить мужу нечто важное.
Забыла, что Пауль так и пришел домой без галстука — и не в то время, в какое должен был. Их должны были сегодня везти в Берлин, конечно же. И там повязать им галстуки Юнгфольк.
— Он пришел рано, — прошептала Мария, — и сказал, что церемонию почему-то перенесли… Он был как всегда, я и поверила… Он же никогда не врет, Ронни…
Рональд похолодел, почти обо всем уже догадавшись.
— Хайль! — сказал он. Правда, без салюта.
Мальчишки вскочили, как на пружинках подброшенные, их испачканные кремом правые ладошки взлетели над головой:
— Хайль! — хором крикнули они веселыми, задорными голосами.
— Поздравляю, ребята, — сказал Рональд.
— Спасибо, спасибо, — загалдели они в ответ, снова усевшись.
— Спасибо, герр Гольдберг, — вежливо сказал Ули, на него ведь смотрела его мать, — Посмотрите-ка! Нам так повезло, нам прямо сегодня уже их выдали, потому что мы из Мюнхена! И мы на неделе еще едем в Мариенбург, в замок!
Он торопливо вытер руки салфеткой, полез в нагрудной карман и гордо предъявил Рональду удостоверение Юнгфольк N… Рональд не запомнил цифру, помнил лишь, что она была семизначной. Фотографии еще не было — «это потому, что нас только сегодня сфотографировали в галстуках». И подпись, свидетельствующая то ли о спешке, то ли о садящемся зрении, то ли о сильном подпитии — слишком крупная и нетвердая — SCHIRACH.
— Ох, — сказала Лизбет, умиленно любуясь на ребятишек, — Мария, а что же ваш Пауль-то к нам не пришел?..
Мария жалко пожала плечами. Ронни собирался спросить у ребят, когда они в последний раз видели его, но тут один из них сам подал голос. Это был рыжий пацанчик покрупнее других, и вот его Рональд точно не видел раньше — возможно, он жил на другой улице.
— А Паулю-то чего праздновать, — сказал этот мальчишка, — Его ж не взяли в Юнгфольк…
Так, я и знал, подумал Ронни. Чего можно было еще ждать от них? Чего?! Все повторяется. Только мне было уже 19, а Паулю — всего десять, и они хотят вышвырнуть его из жизни уже сейчас. Все более жестоки… что ж, этого стоило ожидать.
Но не приведи Господь, чтоб им это — удалось.
— Тебя как зовут? — спросил он у рыжего.
— Мартин Лей.
— Что?..
— Мы очень дальние родственники, — пояснил мальчик с гордостью.
— Рад за тебя, — со странной усмешкой ответил Рональд, — давай-ка, Мартин, расскажи, что там у вас сегодня в школе было.
Бесхитростный серьезный увалень, дальний родственник Роберта Лея, рассказал. Хорошо воспитанный паренек. Взрослый спрашивает — надо ответить.
Мария потемнела, словно она была не женщина, а вещь, которую за ненадобностью отодвинули в темный угол. Лизбет тихо охала за спиной Рональда. А Рональд сунул руки в карманы и до хруста сжал кулаки.
Его Паулю не только отказали в приеме в Юнгфольк, но еще и унизили публично. Перед всем классом учитель географии («-Мм-артин? К-как фамилия этого мер… вашего учителя? — Лейденсдорф. — Ааааа. С-спасибо.») заставил мальчика встать и со смаком произнес:
— Думаю, все вы понимаете, что Пауль Гольдберг не может быть вашим товарищем. Евреям нечего делать в рядах национал-социалистической молодежи!
Мартин рассказал, что после этих слов Пауль «стал прямо белый весь» и вышел из класса без разрешения. И больше его в тот день они не видели.
— Спасибо, — коротко произнес Рональд. И вышел из светлой комнаты в темную прихожую, грубовато увлекая за собой Марию и не попрощавшись ни с кем — ни с юными крысенятами Шираха, ни с фрау Вайнраух.
Он должен был искать своего мальчика. Но не знал, куда бежать.
А бежать и не понадобилось.
Увидев в конце улицы медленно бредущую, хромающую, растворяющуюся в темноте и вновь возникающую в кругах фонарного света фигурку, Рональд испытал такое облегчение, что, казалось, мог бы сейчас взлететь.
Мария уже бежала к Паулю… добежала и жалобно вскрикнула. Рональд и сам уже видел расквашенный лоб, черный фингал под заплывшим глазом, кровавые усы под носом, грязную порванную рубашку, разбитое колено над сползшим, потемневшим от крови и грязи гольфом… Ерунда, подумал он, слава Богу, что жив, нашелся. Пусть и чуть потрепанный, но целый, это все можно починить… Ему пришло в голову, что он думал о мальчике отчего-то так же, как о скрипке с порванными струнами…
А потом поразился, каким точным оказалось это сравнение.
Он подхватил сына — слишком взрослого, довольно тяжелого — на руки и спросил:
— Кто тебя так?.. Пауль, кто?!
— Н-ннникто, — ответил мальчик.
— К врачу, — пробормотала Мария.
— Ннннне нннадо…
Ронни потащил сына домой.
— Где ты был? — спрашивала Мария, — Где, Пауль?..
— Ннннна пппустыре я б-ббыл…
— Кто тебя так, Пауль, скажи ради Бога!
— Ннникто…
Оказавшись дома, в родных стенах, он чуть отошел — а потом опять внезапно расклеился, залившись слезами, и сквозь спазмы и заикание выдавил, что никогда не пойдет больше в эту школу, никогда.
Мальчик, весь в йоде и в пластырях, спал неспокойно, несколько раз просыпался от собственного скрипа зубами. Мария сидела возле него всю ночь.
Рональд прилег, пытаясь заснуть, но глаза его вновь и вновь притягивала старая картинка на стене. Крысолов… Гитлер? Нет. Не теперь. Сейчас долговязая фигура Крысолова просто казалась ему знакомой, и толпами шли за нею уже не крысенята, а дети, обычные дети, те, что были нарисованы на картинке. Странно, что они не в коричневых рубашках… но это — временно. Они же там еще маленькие. Шкурки поменяют цвет на коричневый тогда, когда им исполнится 10 лет.
Утром Рональд, чуть рассвело, сходил на пустырь, где любила играть вся окрестная ребятня. Вечерами пареньки постарше жгли там костры, хоть родители и ругали их за одежду, пропахшую дымом.
Рональд зорко всматривался в траву, утоптанную ребячьими башмаками, в кострища, в мусор, оставленный мальчишками — бумажки от конфет, смятые самолетики из линованной бумаги, обертки от мороженого… Ему хотелось понять, что здесь случилось с его сыном.
Внезапно его осенило — скрипка!.. Да не бежать же за ней домой. Рональд замер на месте, прикрыв глаза, и вообразил, что она у него в руках, что он поднимает смычок и легко касается им струн.
Этого оказалось достаточно. Ведомый неясной уверенностью, он побрел в тот край пустыря, что зарос высоким бурьяном, крапивой и чертополохом. И обнаружил там маленькое черное пятно на земле, несколько обгоревших щепок и клочок черного шелка, вплавившийся в одну из них.
Оскорбленный, оплеванный перед всем классом мальчишка сжег свой так и не повязанный галстук. Этот проклятый черный ошейник для бурых дрессированных крысенят.
А потом…
Рональд снова вскинул руки, воображая в них скрипку… и почти сразу уронил их, они повисли, как парализованные… Он сам чуть не упал — таким знакомым было то, что он увидел. Таким далеким. Просто уже другие были на месте Эдди Хайнеса.
Он слышал эти юные голоса — наверняка парнишки еще «пускали петуха», но не вчера, ибо в них не было неуверенности.
Он видел их — так ясно, что при необходимости (а она есть!) узнал бы. Трое. Лет по четырнадцать, если не старше. Чуть загоревшие под весенним солнцем прыщавые лица, колючие челки, колючие усмешки. Коричневые рубашки, засученные рукава, мятые черные галстуки, голые коленки, спущенные для шика гольфы, пыльные башмаки. Не Юнгфольк — Гитлерюгенд. Может быть, тоже новички — в гитлерюгенд берут в 14, и тоже, наверное, на день рождения этого дегенерата… Там, в этих отрядах, им придется несладко, может, они это знают — и оттого-то им еще слаще глумиться над «малышней»… даже над своей… а уж над Жиденком, Который Посмел Сжечь Галстук…
На миг одно видение затмилось другим, словно картинка, поверх которой в волшебный фонарь всунули другую.
Светловолосый мальчишка с полными слез испуганными глазами, дергающийся в лапах четырех парней постарше, в то время как пятый…
Рональд вернулся домой, уже все зная.
Пауль уже проснулся, ел кашу. Мария с тревогой смотрела на него. За ночь синяк под глазом пожелтел. Мальчик казался хмурым, но достаточно спокойным.
Услышав, как Рональд возится в прихожей, расшнуровывая башмаки, Мария вышла к нему. И полушепотом сказала:
— Он все еще заикается.
Вот так, подумал Рональд с обессиливающей яростью. Вот тебе и самый звонкий голос в классе, вот тебе и «Ведьмина кухня», вот тебе и хорошая учеба… Мало что жиденок — так еще и заика, гыыыыыыы!!!!
Вот тебе и хорошее будущее. В один день — перечеркнутое…
Он шел по улице, стараясь ни с кем не встречаться взглядом.
В учительской он отчетливо произнес, глядя в глаза какой-то кудрявой толстушке:
— Мне нужен штудиенрат Лейденсдорф.
— Он на уроке, — ответила толстушка удивительно мягким и глубоким голосом. Но если вы подождете десять минут — до перемены…
— Подожду.
Он знал, что она косится на него, бродящего по узкому школьному коридору, словно зверь по клетке. Но полицию пока не вызывала. Успеешь еще, подумал он. А пока…
Ему стало жаль ее, такую маленькую, пухлую, встревоженную.
— Тут учится мой сын, — бросил он, в очередной раз маяча напротив открытой двери в учительскую.
— А, — девушка заметно успокоилась. Мало ли странных родителей… Тем более школа не из лучших, в таком районе…
Лейденсдорф «не имел чести» знать Рональда Гольдберга — на родительские собрания обычно ходила Мария. А Рональд Гольдберг не желал сомнительной чести знакомиться с ним ближе, чем нужно, и слушать его высокомерные объяснения, если таковые вообще имелись. Для Рональда Гольдберга — таким его сделали скрипка и кабачок — человек, публично втоптавший в грязь беззащитного, не заслуживал звания человека. И потому Лейденсдорф — рыхлый толстяк лет тридцати пяти, с недоверчивыми голубыми глазами и двойным подбородком — только услышал, как Рональд представился… а потом, не успев ни слова сказать, учитель врезался спиной в серую школьную стену, и из рассеченной губы его побежала на белый воротничок кровь. Темная, с отвращением подумал Рональд, жабья. При таком тусклом свете… А может, такая и есть. Черная слизь.
Была переменка, но детский галдеж в коридоре тут же смолк.
Лейденсдорф выпрямился, оттолкнувшись от стены пухлыми, запорошенными мелом ладонями. Разбитая губа оттопырилась, как у обиженного ребенка, и он, чуть шепелявя, произнес (голос его заметно дрожал):
— Герр Гольдберг…да? Хорошо, хорошо… Я… я вам… я… клянусь вам, что об этом… инциденте… узнает рейхсюгендфюрер…
— Узнает, — бросил Рональд, — я сейчас же еду в Берлин.
Плевать, когда я там буду и когда смогу найти его, думал Рональд. Но — найду. Если понадобится — ночью вытащу из кабака или из постели, или где он проводит ночи. Меня и не пустят к нему — за ним же постоянно мотается взвод СС, личная охрана, да и адъютантов небось целый рой. Важная шишка, что говорить, подчиняющася только и единственно самому фюреру… Да только мне и на это плевать, Бальдур фон Ширах. Я найду тебя, чтоб посмотреть в твои глаза и спросить, за что те, кого ты расплодил, покалечили моего ребенка. И лучше тебе не звать охрану, Бальдур фон Ширах, потому что мне отчего-то кажется, что старый мой перочинник, который мотается у меня в кармане (талисман или что-то вроде) быстрей вонзится тебе в глотку, чем твоя охрана успеет скрутить меня.
Рональд взял машину, которая — по старости своей и шофера — оказалась ему по карману. То-то и глохла несколько раз посреди дороги…
В Берлине Рональд был в восемь вечера.
В канцелярии гитлерюгенд светились окна.
Стройный светловолосый паренек согласился передать Бальдуру фон Шираху, что с ним желает встретиться Рональд Гольдберг… и через десять минут возвратился с запиской. Рональд развернул ее — нет, это был не тот косой крупный почерк, коим было подписано удостоверение Ульриха Вайнрауха, это были три быстрые, словно готовые улететь с листка строки: «Ронни, как я рад тебя видеть! Но сейчас страшно занят. Приезжай в 11 по адресу… (следовал адрес). Если не можешь, скажи парню, его зовут Отто, когда ты сможешь встретиться со мной». Подпись — не подпись, а просто небрежные инициалы — видимо, сказалась привычка подписывать любую бумагу — но не полностью фамилия, как на удостоверении, а просто BvS.
Рональд, пораженный, поднял глаза на паренька.
— Передай, что я приеду в указанное время по этому адресу, — выдавил он.
— Да, геноссе, — и паренек исчез.
Геноссе… чумная крыса тебе геноссе!
До ночи Рональд бродил по городу. Это был Берлин — не Мюнхен — и все равно, неспешная эта прогулка вдруг пробудила в нем воспоминания. Не те, которые нужно.
Память вела себя как ребенок, которому неприятно вспоминать разбитую вазу и стояние в углу на коленях, а приятно — как солнечно было в парке, и как остро, замечательно пахнет краской от новой игрушечной лошадки.
Ронни вспоминал, как они с Бальдуром стояли в переулке и курили одну на двоих папиросу…
Он не сразу нажал на кнопку звонка у скромной двери.
Открыл ему тот самый длинный светловолосый паренек. Отто[6], кажется. Адъютант рейхсюгендфюрера или что-то вроде этого. Сейчас он был не в форме — в клетчатой ковбойке и стареньких домашних брюках. Создавалось ощущение, что он живет в этой квартире. А где же жена Шираха? Ронни помнил, как в тридцать втором читал в газете о свадьбе рейсхюгендфюрера и дочери Гофмана, личного фотографа Гитлера.
— Добро пожаловать, герр Гольдберг, — произнес парень вежливо и довольно приветливо, хоть и не улыбнулся.
Квартира рейхсюгендфюрера не поражала роскошью — это было заметно даже по прихожей. Приличная, очень приличная — но не более того. И никакой женой тут даже не пахло, зато сильно пахло из комнаты табачным дымом — Рональд был женат и знал, что есть огромная разница между домом, о котором заботится женщина, и пустой халупой холостяка… и понял, что сюда нога этой самой фрау Гофман, то есть фрау Ширах, даже не ступала…
— Отто? — раздался из комнат чуть сорванный низкий голос, — Кто там?.. Ронни, что ли? Тащи сюда.
Голос этот словно снял с паренька чары скованности.
— Есть, рейхсюгендфюрер, — весело отозвался он, — прошу вас, геноссе…
Опять «геноссе»…
В комнате, которая у нормальных людей была бы гостиной, стояли письменный стол, заваленный бумагами, книжный шкаф, готовый от переполненности плеваться книгами, и четыре стильных, но по виду удобных кресла вокруг приземистого журнального столика. По столешнице, словно по черному штилевому морю, дымящим пароходом плыла пепельница, нагруженная бычками.
А в одном из кресел, перекинув ногу через подлокотник, сидел рейхсюгендфюрер.
Ронни ожидал увидеть жирную тварь с газетных фотографий, ничуть не похожую на прежнего Бальдура, но обманулся. Видимо, рейхсюгендфюрер устал трясти брюхом и смешить поджарых мальчишек из рабочих семей и взялся за себя всерьез. Сейчас его уже нельзя было назвать жирным. Так, несколько упитанным — еще куда ни шло. И физиономия бывшего Бальдура, повзрослевшая, усталая, хранила прежнее, мальчишеское, чуть замкнутое выражение. Волосы у него, как сразу отметил Ронни, с возрастом потемнели, то-то на фотографиях выходили скорее темными, чем светлыми… но все же темными не были. Обрели какой-то непонятный пепельный цвет. И были коротко, почти по-военному подстрижены. Тогда, сто веков назад, они были длиннее — закрывали тонкую шею и нежные виски, густым пушистым чубом падали на лоб. Длинные волосы, наследство «Вандерфогель»… они остались в прошлом, как и его пижонские костюмчики, как и его скрипка… скорее всего.
Под глазами у него темнели круги.
Тщательно отглаженный, но все равно отвратительный коричневый китель криво висел на стуле у стола.
Коричневая рубашка, коричневые брюки, запыленные ботинки. На фотографиях он всегда был в сапогах, но, видно, чертовски не любил их носить…
Он легко вскочил из кресла, когда Рональд остановился на пороге.
— Черт, — произнес он, разулыбавшись во всю морду, — А я только приехал, даже переодеться не успел… Ронни! Здорово! Да где ж ты был столько времени?
Кажется, кто-то кого-то собирался убить, обалдело подумал Рональд… И кажется, я помню, кто и кого…
— Между прочим, один глаз у тебя смотрит во Францию, а второй в Сибирь, — справедливо заметил ему Ширах.
И что поделать? Если на одной чаше весов настоящее, а на другой — прошлое?
Впрочем, глупый вопрос. Прошлое… какое оно имеет значение.
Рональд, не будучи членом НСДАП, плохо представлял себе, как следует обращаться к партийным чинушам.
— Герр рейхсюгендфюрер… — начал он натянуто, и прозвучало это глупо.
Шираху словно оплеуху влепили — он слегка отшатнулся, порозовел и на миг прищурился, став в этот момент настолько похожим на себя прежнего… ну просто один в один…
— Ронни, — сказал он с глубоким недоумением, — ты что, рёхнулся, что ли? Или забыл, как меня зовут? Да садись же ты! Отто, притащи нам коньяк. И — Ронни, ты откуда? Есть хочешь?
— Да нет, спасибо, — ошеломленный этим радостным натиском Рональд неловко присел в ближайшее кресло.
Враг. Наци. Сука. Грубые слова отступили во тьму, ослепленные улыбкой Шираха — прежней улыбкой. Да что же это такое?!
— Прости, что тут такой бардак, — продолжал меж тем Ширах, — вообще-то я тут почти не живу… точней, прихожу сюда отдыхать… Нечасто, но что поделаешь — работы много. И потом, здесь можно и работать, дома неудобно. Хенни иногда бесится, когда приходят мои ребята и до трех утра обсуждают со мной все дела… Так что, я сегодня вроде как в Мюнхен поехал… Опять же, плохо, когда нельзя курить прямо за столом — а дома не покуришь… Хоть там и комнат десять штук, все равно, Хенни фырчит, что в обивку впитывается… и детям вредно…
Он и болтал с Ронни совершенно по-прежнему — хоть уже и о других вещах…
Отто принес коньяк, рюмки, тарелку с нарезанным лимоном, очистил пепельницу и уселся в свободное кресло. Все это он проделал совершенно непринужденно. Рональд заметил это краем глаза. Ему было не до того.
— У тебя есть дети? — тупо спросил он у Шираха.
— Дочке два года, сыну три месяца. А у тебя-то нет еще никого?
— Сын, — глухо откликнулся Рональд, — Пауль.
— Сколько ему?
— Десять.
— Ооо! Это когда ж ты женился?
— В двадцать.
— Так вот значит куда ты исчез?.. Встретил свою прекрасную леди, и стало не до дружбы с нациками?
Что значит «куда я исчез?» Вы меня послали, и я ушел…
— Давай за встречу, — сказал Ширах, разливая коньяк. Мальчишке он налил вдвое меньше — и вдруг заявил:
— Ну и невежей я стал… Отто, это Рональд, знакомься. Мой лучший друг… когда мне было пятнадцать, мы с ним не расставались ни на минуту… Ронни, а это Отто. Мой адъютант…
Отто благовоспитанно поднялся, Рональд тоже встал, они пожали друг другу руки. Рональд посмотрел в серые мальчишечьи глаза. Отто улыбался искренне.
Ронни не боялся пить с Ширахом, напиться и забыть, зачем приехал. Как-никак он был музыкантом из кабачка, который помнит свои мелодии даже тогда, когда по жилам течет наполовину кровь, наполовину шнапс.
Коньяк был такой, какого Рональд не пробовал еще никогда, но названия он так и не узнал — этикетки на бутылке не было.
Выпитое придало ему твердости, он собирался объяснить, почему оказался здесь — но ему кое-что мешало. Во-первых, Бальдур фон Ширах своими восторгами по поводу их встречи — и не фальшивыми, как с удивлением ощущал Рональд. А во-вторых, он сам мешал себе — тем, что в его душе проснулся прежний Ронни, который дорожил дружбой с Бальдуром…
— Нет, все же, Ронни, — от коньяка щеки Шираха зарозовели, а глаза тепло заблестели, — почему ты тогда так некрасиво исчез? Я так скучал по тебе… и даже не знал, где тебя искать. Разве я тебя в тот день чем-то обидел?
Рональд покосился на Отто — но мальчишка вряд ли знал, о чем Бальдур говорит, он просто смотрел на него и улыбался.
— Мне показалось, — медленно начал Ронни, — что вам с Хайнесом было о чем поговорить без меня.
Бальдур склонил голову, чему-то улыбнулся — и улыбнулся недобро. А потом поднял глаза на Рональда:
— Мы все были пьяны… Что, этот осел чем-то тебя обидел?.. Ну и наплевать, мало ли что спьяну бывает. Утром ты что, не мог прийти?! Мне-то он сказал, как я помню, что ты просто домой поехал…
Вопросы эти звучали так, что Рональд враз осознал всю ту дурь, какую придумал себе, ругая в душе своего единственного друга, оказавшегося предателем. И ему стало почти так же больно, как было тогда, в 19 лет.
Тут Ширах, наблюдавший за ним, наконец что-то понял и тревожно взглянул на Ронни.
— Что он тебе такого сказал-то?
Рональду было уже не 19. И потому он ответил:
— Неважно. Просто… я сам был дураком.
— Отто, — тихо сказал Бальдур, — разлей, пожалуйста.
Парнишка послушался.
— За то, чтоб никогда людям не мешало непонимание, — сказал Ширах, — вот уж утопический тост… Я так беспокоился, Ронни. Я не мог понять, чем так обидел тебя, что ты вот так сбежал…
— Я тоже скучал, — тихо отозвался Рональд.
— А почему сейчас-то вспомнил меня?..
— Не знаю. Может, потому, что 20 апреля, и наци кругом…
— Даа, — произнес Бальдур, — я понял, почему ты вспомнил. Ты ж сказал, твоему парню 10? Сегодня в Юнгфольк вступил, да ведь? Ты до сих пор в Мюнхене? — значит, твоего я даже видел сегодня. Я всегда хотел, чтоб ребят из Мюнхена принимали в Юнгфольк так, чтоб они это точно не забыли… Я даже удостоверения им подписываю в тот же день… раньше, чем берлинским, представляешь?!
Слушая эту тираду, Рональд все более мрачнел. И, перебив Бальдура, спросил:
— А ты помнишь мою фамилию?
— Твою? — удивленно отозвался тот, — Гольдберг, нет?
— Да. А ты подписывал сегодня удостоверение Пауля Гольдберга?
— Ты думаешь, я пом… Черрт! Я бы помнил, это же ТВОЯ фамилия, — растерянно отозвался Ширах.
— Ты не подписывал его.
— Э…
— Потому что его не приняли в Юнгфольк, — сказал Рональд, зная, что голос его дребезжит, как перенатянутая на колке струна, — Потому что вы не хотите, чтоб еврейские дети вступали в Юнгфольк. Его кретин-учитель не сам придумал, что ему не место рядом с другими детьми. Это придумали, я помню, те подонки, которых ты с восторгом слушал в 15 лет. А теперь ты делаешь так, как они сказали… В 15 ты еще говорил, что не всех евреев нужно уничтожить. В 17 ты уже был убежден, что всех. А сейчас ты и впрямь добиваешься этого!
Ширах с распахнутыми глазами и полуоткрытым ртом слушал Рональда, забыв о догорающей папиросе, огонек тлел уже почти у пальцев…
— Если можно, чуть поспокойнее, геноссе, — услышал вдруг Рональд.
Отто уже не сидел, а стоял, и голос его звучал не так, как прежде — юношеский баритон был холодным, почти металлическим, отстраненным.
Он же убьет меня, этот сопляк, подумал Рональд, он же и без Ширахова приказа может вцепиться в глотку, если сочтет, что я представляю угрозу его сокровищу.
— Я тебе… я вам не геноссе, — Рональд услышал свой голос тоже как бы со стороны, — А ты, мальчик, сядь. Я не боюсь ни тебя, ни трех таких, как ты. Потому что мне, к счастью, уже не десять лет. А ты, Бальдур, подумал бы, что делаешь, обучая своих крысенят стаей кидаться на маленького пацана. Помнится, у тебя были не такие понятия о чести. Но время меняет всё, правда, Бальдур?..
— Да о чем ты?! — рявкнул Бальдур, его брови приподнялись и застыли в обиженном изломе, — Отто, сядь ты, твою мать!.. Ничего не понимаю! Какая стая, какие крысы и при чем тут моя честь? Ты не можешь изъясняться по-немецки, Рональд Гольдберг?..
Ронни рассказал то, что знал.
Отто шумно вздохнул. Бальдур не глядя схватил папиросу и быстро, нервно затянулся. А потом коротко сказал:
— Фамилии.
— Чьи? — спросил Рональд.
— Твоя, моя и Отто, б… — криво усмехнулся рейхсюгендфюрер, — Этих… малолетних идиотов, наверное!
— Я не знаю их фамилий. И не пойму, почему тебе их надо знать… Рыба-то с головы тухнет, нет?
— Хм. Точно. Отто!
— Да?
— Ну-ка, набери мне Мюнхен…
Рональд в некотором столбняке наблюдал, как Отто разгреб бумаги на столе, вследствие чего обнаружился телефонный аппарат весьма измученного вида. Отто так старался выполнить приказ, что диск жалобно трещал… Да еще и связь, видимо, была плохая, потому что Отто битых три раза проорал в трубку: «Вольф!!! Слушай шефа!!!», и тут Бальдур, потеряв терпение, трубку у него отобрал.
И тут же — должно быть, это было некое волшебство, доступное лишь высшим руководителям НСДАП — связь, по всей видимости, пришла в порядок.
— Вольф? — рявкнул Бальдур, — Ширах. Что за чертовщина там у вас…
Он в весьма экспрессивных выражениях, которые и не снились Рональду, куда больше заинтересованному в этой истории, изложил происшедшее некоему Вольфу и выслушал его мнение на этот счет, после чего сказал «Хорошо» и швырнул трубку на рычаг.
— Короче, — сказал он Рональду, — с этим вопросом разберутся. Завтра же, черт бы меня взял. Нет, чтоб твоего парня не взяли в Юнгфольк!.. Ну болваны!!
Завтра, как понял Рональд, учитель географии Лейденсдорф при всем классе принесет извинения оскорбленному им Паулю Гольдбергу, после чего парня, возможно, в автомобиле привезут в Берлин, где сам Бальдур фон Ширах повяжет ему черный галстук возле могилы какого-нибудь убиенного мученика национал-социализма. И все будет замечательно. Через неделю Пауль вместе с классом поедет в Мариенбургский замок, а не будет потерянно шляться по школьному двору.
Кто бы знал, какой бес справедливости дернул его за язык — ведь все и впрямь могло быть замечательно… но тем не менее Рональд тихо произнес:
— Боюсь, ты не понял меня, Бальдур…
— Что?..
— Я думаю, — так же тихо продолжал Рональд, — что мой сын — сегодня не единственный мальчишка в Германии, которого унизили перед всем классом и в результате не приняли в Юнгфольк… Думаю, каждый десятилетний еврейский ребенок сегодня столкнулся с этим. Каждый мальчик. И каждая девочка… Нет? Скажи мне, что это не так. Просто скажи… Я просто не понимаю тебя. Только что ты звал меня своим другом. Вон, Отто слышал это. И в то же время твои крысы и крысенята по всей Германии сегодня травили таких же ребят, как мой Пауль. Я вижу, что моя история тебе не понравилась. Я видел, как тебе было неприятно, когда ты слушал о том, как трое подростков набросились на малыша, причем в тот момент ты и не думал о том, кто из них был немцем, а кто евреем. Тебе был отвратителен сам факт. А теперь скажи мне — как ты намереваешься в этом случае разделить свои личные предпочтения и твой гребаный национал-социалистический долг?
Ронни говорил как по-писаному, сам удивляясь, как сумбур в его душе породил столь разумную речь.
— Ты читал этот гнусный Фордовский пасквиль, — продолжал Рональд, — но ни на секунду не задумался о том, какую конкретную угрозу представляют евреи для Германии и лично для тебя. До тебя так и не дошло, что «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка. Ты веришь в розенберговский бред и слушаешь по радио Геббельса. Ты ни мига не потратил на то, чтоб подумать, как ваша нацистская ненависть ударит по живым людям… так?
— Может… и так, — после почти полуминутной паузы отозвался Бальдур, и Отто удивленно поднял светлые брови.
— Так вот что я хотел сказать тебе… Не нужно никому звонить и никому приказывать, чтоб Пауля приняли в Юнгфольк. Я этого не хочу… да и не хотел. А он сам не хочет теперь — и, думаю, уже не захочет. Думаю, он на всю жизнь запомнит эту прекрасную дату — 20 апреля — когда его одноклассников приняли в Юнгфольк, а ему наставили синяков и оставили заикой трое членов Гитлерюгенд… Мы уедем отсюда. Просто уедем. В Вену, хотя бы.
Ширах улыбнулся:
— Вена — хороший город. И там любят музыкантов…
— Пока, Ширах. Надеюсь, не встретимся больше.
Рональд ошибся — причем дважды. Он ничего не знал о планах фюрера насчет Австрии — и он думал о том, что германско-австрийская граница навсегда отсечет для него возможность встречи с Бальдуром фон Ширахом.
Но он не знал и того, что случится 21 апреля. Он вернулся домой ночью — и благополучно проспал до полудня, а потом убежал на работу.
И не узнал — вовремя — того, что его сын пришел из школы с черным галстуком и свастикой на локте, причем каким-то странным образом избавившись от благоприобретенного заикания. Где уж тут заикаться, когда вся школа с восхищением таращится на тебя!
Да, хорошо, что Рональд не увидел ненормального сияния в его глазах, когда он вернулся из школы, и стайки соседских светловолосых пацанов, которые, почтительно стуча в дверь, вежливо интересовались у Марии: «А Пауль сегодня гулять выйдет?»
Впрочем, Мария и так рассказала Рональду то, что Пауль счел нужным ей сообщить, а его недетский словарь был по-детски точным и образным. «Лейденсдорф сделал вид, что он дохлый — как некоторые жуки. Думаю, его уволят. Он так и не ожил потом — да мы от него этого и не ждали…»
Мы.
К парню снова вернулись заслуженные, а потом не по его вине утерянные любовь и преклонение сверстников — как еще может 10-летний мальчик воспринять это, если не как факт вышней справедливости?
Лейденсдорфа не заставили извиняться — да и что взять с дохлятины?
А вот галстук Паулю повязали. Прямо в классе, посреди прерванного урока географии — чистая случайность, конечно.
Пауль тряхнул головой, убирая короткий черный чубик со лба, и вытянулся в струнку, щелкнув каблуками — он видел, как тот, кто назвал его имя — рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах — вытаскивает из нагрудного кармана аккуратно сложенный черный галстук. Взлет тонких пальцев и порхнувший вслед за ними шелк… Это как сон. Пауль вдыхает запах табака и дорогого одеколона, Пауль ощущает нечаянное теплое прикосновение к шее, пальцы рейхсюгендфюрера застегивают дерзко расстегнутую последнюю пуговицу на его рубашке, быстро завязывают нетесный узел, поправляют воротничок…
Так в глазах Пауля Бальдур фон Ширах стал вершителем вышней справедливости. Рональд полжизни б отдал за то, чтоб объяснить сыну, что это был не его звездный час, а всего лишь широкий жест Бальдура фон Шираха. И нет в этом ничего хорошего, просто мальчишке пока не понять, как этот жест унизил его. Благородный рейхсюгендфюрер сподобился принять в ряды арийской молодежи обиженного Богом еврейчика…
Рональд и знать не знал о том, как за сей «широкий жест» влетит вершителю вышней справедливости.
— Может, телефон отключить? — спросил Отто в тот же день, в семь вечера.
— Еще чего не хватало! Надо, Отто, всегда отвечать за то, что делаешь… и не быть трусом.
Отто с уважением посмотрел на Бальдура. Он видел, что Бальдур весь на нервах — а ну как сейчас последует срочный вызов в рейхсканцелярию? Или из трубочки раздастся глухой невыразительный голос Гиммлера?..
Звонки. Звонки и звонки. Гебитсфюреры[7] со всей Германии заняли и обрывали линию, пытаясь узнать, правда ли то, что сегодня! Сам! Бальдур фон Ширах! Повязал галстук Юнгфольк! Еврейскому мальчику!
Их интересовал главным образом вопрос — следует ли и им делать то же или лучше не надо?
Не позвонил только Аксман из Берлина, и Бальдур фыркнул — единственный умник нашелся, однако.
Некоторое время все они слышали от Отто, что «его пока нет, а я ничего не могу сказать». Ближе к вечеру началось: «позвоните завтра». Особо настойчивые уже откровенно посылались Отто в неприличную сторону с непременной добавкой «Ширах сказал» — чтоб никто не подумал, что это сам Отто посылает всех куда подальше.
К вечеру пепельница в той квартире, где пил коньяк Рональд Гольдберг, превратилась уже не в пароход, а в трансатлантический лайнер — так отчаянно она дымила не затушенными от волнения бычками. Бальдур фон Ширах бродил по комнатам взад-вперед размеренными и вялыми шагами идущего на эшафот…
— Уффф… кажется, на этот раз обошлось, — сказал он в восемь вечера, — к фюреру не вызвали… Хайни не позвонил… Отто… иди ко мне.
Отто сел на подлокотник кресла и взъерошил Бальдуру волосы:
— Ну что ты… успокойся.
Нежная рука с длинными пальцами погладила парня по бедру, и он усмехнулся:
— Ну что, помочь тебе расслабиться?
— Если хочешь, — тихо ответил Бальдур.
— А то нет. Пойдем в спальню.
— Отто, ты всегда приводишь меня в порядок… — благодарно пробормотал Бальдур, и парень оторвался от его члена, который старательно облизывал, и подмигнул ему:
— Сейчас будет еще лучше, давай, перевернись.
Бальдур послушно перекатился на живот, Отто достал из-под подушки плоскую баночку с вазелином, смазал пальцы…
Вскоре Бальдур ткнулся лицом в подушку, но Отто все равно слышал его частое дыхание, прерываемое всхлипами. Парень сунул два пальца еще глубже, и Бальдур застонал и заерзал.
— Давай дальше, — попросил он тихо, — пожалуйста, давай.
Он приподнялся на локтях и коленях, Отто тут же пристроился сзади, неглубоко вошел в него несильным мягким толчком, Бальдур разочарованно охнул и сам дернулся ему навстречу, до упора насаживаясь на его член. Отто усмехнулся — и взял совершенно другой темп… Бальдур тихонько взвыл, вцепился зубами в уголок подушки и замер. Ему было мучительно трудно не двигаться, но наслаждение от этого стоило и не таких мук.
— Вам было неплохо, мой фюрер? — с комической серьезностью вопросил Отто.
Бальдур приоткрыл затуманенные глаза и величественно произнес несколько охрипшим голосом:
— Проси чего хочешь…
— Да? — улыбнулся Отто, — Бальдур, придется выполнить…
— Ладно, ладно, герр шантажист.
— Бальдур, — Отто стал серьезен, — Пожалуйста, не встречайся больше с этим типом из СС. С этим, со шрамом на морде, которого ты мне тоже выдал за друга детства. Ты не боишься, что он может стукнуть насчет тебя Хайни?
— У меня тоже найдется что рассказать про него Хайни, — отозвался Бальдур, — будто ты не знаешь. Ты просто ревнуешь, не так ли?
— Что я, не человек, что ли?
— Ладно, — Бальдур притянул к себе голову парня, ласково ероша короткие светлые волосы, — не буду я с ним встречаться. Никогда. К слову, насчет друга детства — правда.
Яльмар фон Гроф столкнулся с Бальдуром совершенно случайно — в пивной «Хофбройхауз».
Уличный хулиган был теперь высоким широкоплечим орлом с мужественной физиономией, на которой почти незаметна была белая ниточка старого шрама. Черная форма сидела на нем как влитая.
Как это часто случается, взрослые люди вспомнили свою детскую ссору со смехом. К тому времени было выпито изрядное количество пива, что, несомненно, располагало к взаимной откровенности.
— Слушай, Ширах, — Яльмар звал Бальдура по фамилии, как раньше, — а все-таки ты чертовски походил тогда на девчонку…
Бальдур навострил уши.
— Жаль, что тогда не вставил тебе, — со смехом заявил Яльмар, и Бальдуру стало все ясно насчет него. И он шепнул ему в ухо, которое после этого моментально вспыхнуло:
— Это можно исправить…
Спьяну Бальдура часто тянуло на такие приключения.
Яльмар помрачнел.
— Ты о чем это, Ширах?..
— Будто не знаешь, — тихо сказал Бальдур, — не строй из себя черт-те-что, ты остался таким же, как тогда.
— Э, нет. У меня баб полно. Но… — Яльмар ухмыльнулся и понизил голос, — с мужиками слаще. Да кому я об этом рассказываю… Сам небось знаешь.
— Знаю, конечно, — ответил Бальдур с улыбкой.
— А ты вырос в красивую бабу, — хмыкнул Яльмар, — Ширах. Ах ты сволочь такая.
— Поехали ко мне, — тихо предложил Бальдур.
… Он с облегчением увидел, что Отто, кажется, не было дома.
Яльмар взял его за подбородок и с усмешкой смотрел ему в глаза.
Он казался очень сильным. Форма не могла скрыть, какие мускулистые у него руки. У Бальдура екнуло сердце в предчувствии того, как эти руки коснутся его. Наверняка не нежно.
— Волнуешься, Ширах? — спросил Яльмар, — Правильно волнуешься. Готов всю ночь простоять раком?
— Непременно раком? — Бальдур нервно улыбнулся.
— Посмотрим. Но церемонии с тобой разводить я не собираюсь. Не любитель телячьих нежностей.
— Ясно.
Бальдур дрожал от возбуждения и страха.
— Начнем? — спросил Яльмар и, не собираясь выслушивать ответ, зарыл руку в его волосы и резко дернул его голову вниз. Бальдур охнул от боли, рухнув на колени, из его глаз брызнули слезы. Яльмар, продолжая держать его за волосы, другой рукой расстегнул ширинку.
— Давай, работай.
Бальдур нежно, осторожно взял в рот его здоровенный член. Вскоре его снова сильно дернули за волосы:
— Покрепче давай, что ты еле прикасаешься!
Бальдур послушался. Было понятно, что с Яльмаром шутки плохи…
— Хватит.
Бальдур постарался побыстрее подняться, не дожидаясь очередного рывка за волосы. Яльмар отпустил его и оглядел комнату.
— Где бы тебя завалить?
— Можно в спальне.
— Можно. А можно и прямо здесь.
Яльмар схватил его за плечо, подтащил к столу. Одним рывком он расстегнул ремень на брюках Бальдура, затем ширинку. Швырнув его на стол лицом вниз, стащил с него брюки и трусы. Ему почему-то нравилось делать все это, не раздеваясь и не раздевая партнера, просто обнажив нужные части тела.
Бальдур постарался расслабиться, но у него не получалось — лежать на столе было очень неудобно, и потом, он побаивался того, что должно было случиться.
Яльмар не торопился.
— Ширах, — сказал он, — скажи, ты верещишь, когда тебя ебут?
— Ну… иногда.
— Захочется — ори, не сдерживайся, мне нравится, когда те, кого я трахаю, орут.
— Хорошо… Ох!!
Яльмар резко, глубоко всунул в него два пальца. Нет, у Отто это получалось куда лучше… Бальдур поморщился.
— Мало тебя ебут, Ширах, дырка узкая. Ну, мне это не помешает.
Да уж не сомневаюсь, подумал Бальдур.
— Учти, драть буду сильно и долго.
Похоже, что именно «драть».
Яльмар грубо и широко развел ему ягодицы и проницательно заметил:
— Ох и горячо тебе придется, Ширах…
Он врубился в него смаху и до упора, Бальдур заорал от боли. Яльмар правильно выбрал место для такого секса — у лежащего на столе Бальдура почти не было возможности дернуться вперед и уберечь свою задницу от такого издевательства.
— Расслабься, Ширах, мне трудно.
— А мне легко, — со слезами в голосе отозвался Бальдур, — ну чуть-чуть поосторожнее можно?..
— Можно, — снизошел к ближнему Яльмар, — но только чуть-чуть.
А большего Бальдуру и не надо было… Стало чуть полегче, и Бальдур сосредоточился на том, чтоб все-таки расслабиться. Задницу здорово саднило от движений Яльмара, но главное, уже не было той резкой, зверской боли… Бальдур немного шире развел бедра, так стало еще лучше, и его напряженные ягодицы наконец чуть расслабились. Яльмар одобрительно хлопнул Бальдура по заду:
— Ну вот, хорошо…
Вскоре Бальдур окончательно притерпелся и разогрелся — он уже елозил животом по столу, его ягодицы стали сжиматься, стискивая член Яльмара, тот даже глупо усмехнулся, заметив это, и замер с членом в дырке:
— Ширах, ну ты даешь. Черт, заводит как…
А то, подумал Бальдур.
— Ага, стой… вставай… сними портки совсем. Ты меня завел дальше некуда, Ширах. Сейчас хочу ебать тебя, глядя на твою морду… Давай опять на стол, рылом вверх.
— На полу удобнее, Яльмар…
— Ладно, ладно, на полу. Ложись, черт окаянный.
Бальдур лег на пол, Яльмар дернул его лодыжки вверх, положил его ноги к себе на плечи. Бальдур зажмурился.
— Нет, смотри на меня…
— Не надо, Яльмар…
— Я сказал, смотри.
Бальдур нехотя открыл глаза.
Через полминуты он уже извивался, насколько это было возможно под весом Яльмара, и умолял о том, чтоб его трахали еще, еще, еще…
Вернувшийся Отто так и застыл на пороге, увидев своего Бальдура дергающимся под здоровенным эсэсовцем и издающим надрывный непотребный вой. Наморщенный нос, вздернутая верхняя губа, пустые глазищи….
Яльмар поднял на него пьяный от удовольствия взгляд. Он сразу понял, что это за парень, и произнес с кривой улыбкой:
— Уж прости, что дрючу твоего дружка, он сам хотел… А хочешь, присоединяйся. Такое чудо, как Ширах, нужно шпарить всю ночь без передышки.
— Спасибо, — ответил Отто, — я лучше пойду чайку попью.
Он сидел на кухне до тех пор, пока не услышал, как за эсэсовцем хлопнула дверь… но и после этого ему не хотелось заходить в комнату и видеть Бальдура.
Тот пришел к нему сам, по счастью, уже в брюках. Отто устало поднялся.
— Кофе у нас есть? — задал Бальдур глупый, неловкий, оскорбительный вопрос. Кофе был всегда, Отто всегда помнил об этом чертовом кофе, поглощаемом в этой квартире литрами, и заботился о том, чтоб его запасы не иссякали.
— Есть, рейхсюгендфюрер, — откликнулся юноша, глядя перед собою строгими глазами.
Бальдур свел брови. Он понял намек. Наедине Отто звал его «Бальдур», иногда — больше в шутку — «мой фюрер», а сейчас обратился строго официально.
— Налей, пожалуйста…
— Да, рейхсюгендфюрер.
— Отто, не надо.
— Не наливать, рейхсюгендфюрер?..
Двадцативосьмилетний мужчина растерянно и смущенно глядел в непроницаемое лицо восемнадцатилетнего юноши, ощущая свою вину, но не представляя, как можно сейчас хоть что-то объяснить… Ну как рассказать, что тень Эдди Хайнеса все еще маячит перед глазами. Эдди Хайнес, убитый в Ночь длинных ножей прямо в спальне, вместе со своим любовником-щенком. Яльмар был как раз до Эдди, кое-что добавил к Рольфу. А теперь — черт знает, почему я хочу, чтоб кто-то, как Эдди, иногда меня насиловал. Во всяком случае, не для твоих это ушей, Отто.
Уже три года Отто неотлучно и незаметно, как полуденная тень, был при Бальдуре — самодеятельно, нахально и отчаянно явившись к нему аж из Лика и до ваты в горле и коленках боясь, что Бальдур фон Ширах не вспомнит ни лица, ни имени мальчишки, с которым случайно сел выпить пива в Потсдаме… Отто ошибался — Бальдур прекрасно помнил покрасневшее резкое лицо, выгоревший чубик, перламутровые пуговицы — поглупевшие от счастья глаза мальчишки, прикосновение его немытых пальцев к своей щеке.
Бальдур сам не знал тогда, зачем ему понадобилось это нелепое знакомство — но он вообще очень часто делал что-то, движимый сердцем, а точней, несомый каким-то бесшабашным, прохладным, но приятным внутренним ветерком. Ошибался, не без того. Но не чаще, чем те, кто просчитывает все наперед. В этот раз, с Отто, получилось лучше некуда.
Юные адъютанты фон Шираха по младости-дурости нередко отлынивали от своих обязанностей, влипали в дурацкие истории, после чего их только и оставалось пристроить на какой-нибудь завод, либо просто уматывались и скисали под грузом дел. Последнее было характерно для мальчиков из хороших семей, не приученных ни к чему, кроме безделья да бахвальства. Но именно с ними Бальдуру было легко. А простые рабочие ребята, хоть и старались порой делать все, что от них зависело, кое-на-что просто не были способны. А именно, на то, чтоб хотя бы немного понять своего шефа и хоть два слова связать в разговоре с ним. При этом скисал уже Бальдур. Он просто дико уставал от постоянной необходимости донести до очередного простого парня свою мысль, выраженную, по его мнению, нормальным немецким языком.
Было и еще кое-что у Бальдура, связанное с сильными грубыми пареньками, изводящее не дух, а тело. У него ныло в паху и свербело в заднице, уже позабывшей о саднящей сладкой боли, которую причиняет крепкая елда. К тому же болела голова и вяли уши — от того, что слышал он от своего стареющего любовника…
Пуци было уже сорок восемь.
Внешне это почти на нем не сказалось — сам он шутил, что у него удачное в этом смысле лицо — красивее годы его уже не сделают, но и особенно изуродовать не смогут, ибо дальше вроде и некуда… Странная его физиономия по молодости отличалась живой мимикой, отчего первые глубокие морщины появились рано. С возрастом их почти не прибавилось — ибо лицо его все более походило на застывшую маску. Разве что волосы стали как кофе, в который дура-кухарка плеснула скисших сливок.
Бальдуру было плевать на внешность Пуци, но его все больней и глубже пронзало то, что это был не тот мужчина, которого он когда-то так сразу, так искренне и так по-хорошему захотел, лишь сыграв с ним в четыре руки да увидев, как тот яростно сжимает губы, чтоб не разразиться язвительной, беспомощной, ревнивою речью… И это был не тот человек, при взгляде на коего глаза фюрера возгорались теплыми, не обжигающими синеватыми огоньками. Не тот, чьих словечек, подобных грубым, но летящим в цель дротикам из «Илиады», опасался даже Геббельс-стреловержец, хромой покровитель неизящных искусств…
Сейчас любое слово могло стать для самого Пуци отравленною стрелой… и горько было видеть, как никем еще не забытый Пижончик — муж Жизни, любовник Фортуны, любимец Эрато, мечта ее смеющихся подруг — постепенно, нудно, как обычно (ладно бы — сразу, хоть как — но сразу, хоть золотой башкою об камни с крыши, хоть внезапно пораженный не пчелиным жалом стрелы, а крепким горячим ядром жестокой болезни) превращается в развалину.
Сам Пуци сравнивал себя когда-то с брошенным застуженным домом. Он помнил об этом и теперь, думая о том, что в брошенном доме может, конечно, заночевать пару-сотню ночей веселый бродяжка, что без горечи положит старинную мебель на алтарь теплого и голодного, ясного огня, но… потом он уйдет, а дом неумолимо продолжит ветшать, разваливаться тихонько, против воли своей заселяясь мелкими демонами — летучими мышами, пауками, тощими крысами. Равнодушные кроты пророют свои ходы под фундаментом, неживая прохладная плесень покроет стены, пустоголосые ветра засвистят меж пустыми рамами…
Его тело, по счастью, не было еще подвержено возрастным болезням, но это ничего, ничего не значило. Много о том, что сейчас творилось с ним, могла б рассказать не известная ему и никому учительница Анна Гольдберг, умершая от той же нарастающей, давящей, расплющивающей тяжести бытия. Но Анны уже давно не было на свете, да и была б — не спросил бы ее никто, о таких вещах все знают, в глубине души знают от рождения и раньше — и боятся этого хуже чумы и войны… потому на этих вещах и лежит тяжкое словесное табу, хоть и живем, прости Господи, в двадцатом, а не каменном веке, — все равно нельзя, да и без толку рассказывать кому-то, отчего ты, такой здоровый, благополучный, удачливый, умираешь. Люди мучаются от рака, морфий не усыпляет их страданий — зная это, о своих глупостях уже не заговоришь.
Бальдур с глубоким — таким глубоким, что слов оно было лишено, как рыба в самой тяжкой и черной глуби океана лишена зрения — состраданием смотрел на Пуци, но помочь уже не мог. Да и чем может помочь розовощекий разгоряченный странник, нечаянно наехавший в глуши на пещерку прокаженного?
Дать огня, дать еды, пообещать молиться за него.
Огнем были слова — Бальдур горячо и завораживающе, как умел только он, рассказывал Пуци о новом мире для новых, чудесных ребятишек. Едою — скудной — служили их редкие теперь ночи. А молитвы… Бальдур как-то чувствовал, что Пуци не забудет некоторых его слов, некоторых мгновений, проведенных с ним. Большего он не мог ему дать, больше ничего и не было у него, нынешнего Бальдура, для нынешнего Пуци.
Бальдур предпочитал не думать о том, что именно так подкосило его — того, кто казался вечным и вечно радующим, словно стихи Рильке… Просто Бальдур чувствовал — и сильно преувеличивал — свою вину. Он, всегда думающий о себе слишком много, и не подозревал о том, что Пуци обращал очень мало внимания — а если и обращал, то легко, без сердца — на его постоянные измены, дурацкие выходки, истеричные уходы и возвращения. Бальдур был слишком молод тогда для того, чтоб понять, что на самом деле может глубоко ранить мужчину — тем более что и мужчиной в полном смысле слова не уродился… Он ни секунды не думал о том, как Пуци ощущал и ощущает себя в среде, окутывающей Гитлера травящим туманом — в компании неполноценных-но-преданных и серых-но-хитрых. И еще кое-чего не знал Бальдур — по сей день не знал, потому что дети его были слишком малы — а именно, того, как это больно, невыносимо больно, какой это ожог, но не на коже, а на сердце, когда твой подросший сын глядит на тебя высокомерно и презрительно…
— Нет, удивительно. Я всю башку сломал, думая, в кого же он пошел… Я-то, ну ты видишь. А Хелен, что бы она там себе ни думала, на морду все равно чистая кобыла с тракененского завода… Ну в кого он?.. — недоумевал Пуци, когда сыну его было всего два годика, но уже и тогда было заметно, что все будут удивляться, глядя на него и его родителей… Ну откуда у зеленоглазой брюнетки и сероглазого шатена светловолосый, голубоглазый сын?
Все, кто видел его, думали одно и то же, и Пуци приходила в голову та же мысль, но он гнал ее от себя. Слишком горькой она была для него, он ведь малыша на руках таскал больше, чем Хелена. Не своего малыша. Кто его отец, он не знал и знать не хотел, и у Хелены не спрашивал — да сама, небось, забыла…
И сразу было ясно — этого паренька никто, никогда не назовет глупым прозвищем вроде «Пуци»… Хелена наряжала его, еще младенца, в коричневые рубашонки, а сейчас Эгон Ханфштенгль, высокий, стройный, как тростинка, светловолосый паренек с ясным и строгим лицом, носил ладно и красиво сидящую на нем форму гитлерюгенд… и недовольно приподнимал брови, когда отец звал его.
С Бальдуром Пуци теперь был уже не то чтобы нежен, а прямо-таки сентиментален, и это ему отчаянно не шло.
С остальными же он вел себя теперь настолько бесшабашно, что Бальдур часто думал: мы поменялись ролями. Когда-то он уговаривал меня не ссориться с Геббельсом… а теперь я то и дело стараюсь отвлечь его внимание на себя, когда он с совершенно библейской яростью кидается на своих. Впрочем, какие они ему свои теперь…
Было уже два случая, после которых Бальдур, едва оставшись с Пуци наедине, бормотал: «Ты что, смерти ищешь? Не надо, Пуци, не надо так…»
— Не учи меня, чудо сопливое!
Первой жертвою оказался Геббельс, всего-то разразившийся очередной антисемитской речью — причем во время обеда.
— У вас от евреев аппетит не пропадает, Пауль? — пошутил фюрер.
— У МЕНЯ пропадает, — вдруг сказал Пуци, — но не от евреев, а оттого, что я невесть почему должен сидеть за одним столом со свиньей. К тому же свиньей неостроумной, но отчего-то полагающей себя таковой…
Бальдур похолодел — Пуци нисколько не торопился, произнося каждую оскорбительную фразу весьма отчетливо.
Геббельс вскочил, побледнев и задрав брови до самых волос, хватая воздух ртом, как выкинутая на берег рыба… Ева Браун испуганно охнула. Фюрер захлопал глазами. Бальдур сам не заметил, как стиснул похолодевшей рукою край скатерти. Геринг невоспитанно присвистнул, да еще и пристукнул костяшками пальцев по столу, словно выражал восторг по поводу удачного циркового номера. Пуци брезгливо посмотрел на него. Геринг скорчил ему рожицу.
Рудольф Гесс резко поднялся.
— Геноссен, я попросил бы вас вести себя прилично! — рявкнул он. Бальдур был очень, очень благодарен ему за то, что у него хватило ума не обратиться к Пуци лично. Это «геноссен» делало виноватым и Геббельса, который, вообще говоря, провинился только лишь в том, что, как обычно, изображал из себя радио.
Пуци поднялся, холодно кивнул всем и вышел.
— Черт знает что, — выдохнул фюрер.
Геббельс казался настолько подавленным, что в кои-то веки не мог ни словечка сказать. Гитлер на него и не взглянул — обратился через его голову к Гессу.
— Руди, что скажешь?
Гесс спокойно посмотрел ему в глаза и тихо сказал:
— Он перерабатывается, Адольф. Его несдержанность — результат переутомления, я полагаю. Сам не понял, что сказал, я от Пуци в жизни такого не слышал. И, думаю, не услышу больше…
Бальдур знал, откуда-то знал, что Гесс постарается защитить старого друга.
— Да за такое на дуэль вызывают! — вдруг жалобно вякнул Геббельс — и тут же разрядил обстановку.
— Ой, сиди, дуэлянт, — еле слышно прошептал Геринг, — ты сам не больше пистолета, и потом, в слона с трех футов не попадешь…
— Но я что, должен это так оставить?..
— Он извинится, — отрубил Геринг.
Черта с два, подумал Бальдур. И оказался прав. Никаких извинений Геббельс так и не потребовал, хотя об унижении, конечно, не забыл. Бальдуру было плевать на Геббельса — помнит он это или нет. Главное, чтоб позабыл фюрер… а фюрер, как Бальдур уже знал, не забывает ничего и никогда.
— Слушай, — сказал он Пуци после этого случая, — я не пойму только одного…
— Ты, — улыбнулся тот, — вообще пока мало что понимаешь.
— Допустим. Но объясни ты мне, Пуци, я тебя умоляю — почему тебя так понесло? И почему ты пристал именно к Геббельсу?.. Только не говори, что просто потому, что он надоел тебе за столом своею болтовней.
— Но это так и есть. Он надоел мне своей, — Пуци сделал паузу, — антисемитской болтовней, Бальдур.
— Но…
— Если ты, — Пуци был совершенно, совершенно спокоен, но в глубине серых глаз зажглись нехорошие странные огоньки, — сейчас заведешь мне бодягу о мировом еврейском заговоре, я сильно-сильно в тебе разочаруюсь, Бальдур фон Ширах. Тебе, однако, уж не семнадцать лет, а, слава Богу, скоро тридцать. В этом возрасте уже однозначно пора отличать говно от чайной розы, тебе не кажется?.. И на столе держать Библию, а не, прости Господи, бред полоумного Розенберга…
— Какой еще там бред Розенберга?!
— У тебя на столе письменном «Миф» лежит.
— Мда? Не помню… Я не читал. Начал, но бросил.
— Ты не безнадежен…
— Мы говорим не обо мне, — напомнил Бальдур, — а ты — чудён же стал, ей-Богу! С чего тебя так повело на еврейский вопрос?
Пуци еле слышно засмеялся — умел он так смеяться, тихо, неоскорбительно.
— Бальдур, — сказал он, — я очень, очень тебя люблю. Но не могу тем не менее не признать, что такого клинического идиота, как ты, я давно не встречал… Почему, ты спрашиваешь, меня интересует еврейский вопрос?.. Неужели трудно догадаться?
Бальдур только в раздражении хлопнул ладонью по столу, словно стараясь заглушить слова Пуци:
— Потому, Бальдур, что я еврей… — и тут Пуци весело улыбнулся, — Соответственно, ты, когда спишь со мной, нарушаешь чистоту расы…
— Иди ты, с чистотой моей арийской расы! — улыбнулся Бальдур в ответ.
— Нннну… это уже радует. Однажды я сказал Рудольфу, что я еврей, и он в ответ пробурчал — «ага, а Хаусхофер, по-твоему, кто, китаец, что ли?»[8] Меж тем, в «Майн Кампф» полно хаусхоферовских идей. Потому как собственные идеи нашего фюрера глубиной и оригинальностью вовсе не отличаются. Да ему Рудольф грамматику со стилистикой правил, он на родном немецком так пишет, что его черт не разберет! Да и говорит иногда не лучше. Если б ты знал, каково иной раз его речения иностранцам переводить… Прирост объема текста в восемь раз, твою мать, как с английского на китайский! Ему-то хорошо, он ляпнул и стоит улыбается, а старый еврей Пуци переводи эту хренотень сначала на человеческий, а затем уж на английский… Сам-то он по-английски владеет разве что нобходимым минимумом[9], после изречения коего ему гарантированно набьют морду в любом баре — «бэйби, гоу», «сан оф зе битч» и «йес оф кос»… причем, по его мнению, это составляет связную фразу.
— «Старый еврей»… Осторожнее с этим, ладно?
— Тоже мне тайна, молодой человек, вы меня прямо-таки поражаете, — из вредности Пуци добавил в речь еврейские интонации, — Вообще-то говоря, я никогда не жалел, что я еврей. Но в последнее время жалею о том, что я не конкретный еврей.
— Это какой же конкретный еврей так поразил твое воображение?
— Да был такой рабби Лев. Ты, конечно, ни хрена ни о чем этом не знаешь…
— И что б ты сделал, если б им был?
— То же, что и он. Мудрый рабби сотворил голема.
— Кого?..
— Это, дитя мое, была такая глиняная волшебная дура, которая делала рабби всякую мелкую работу по дому — ну а заодно защищала еврейские поселения от несколько агрессивных соседей-чехов. Иногда я прямо-таки мечтаю о такой штуковине, да. Чтоб она разогнала всю нашу чертову шайку-лейку!
Бальдур улыбнулся, представив себе глиняное страховидло, пинками гоняющее штурмовиков.
— Но, видишь ли, Бальдур, зло никогда не становится добром, и рабби Лев дорого заплатил за свою агрессивную дурынду, которая в какой-то момент раздухарилась и начала гонять не только чехов, но и его соплеменников… Понимаешь, язычник мой, рабби-то согрешил. Взял себе право дарить жизнь, которое принадлежит только Адонаи[10] — вот и поплатился. Рабби с превеликим трудом исхитрился сделать так, чтоб штуковина успокоилась… навсегда. Когда он создавал ее, то написал на ее тупом глиняном лбу словечко «Эмет» — на иврите оно значит «Истина». И голем унялся только тогда, когда рабби сумел стереть первую букву этого слова. Осталось «Мет» — смерть.
— Надо же. Странная легенда…
— Обычная еврейская байка. Кстати, — глаза у Пуци хитро блеснули, — вообще говоря, рабби Лев не уничтожил своего голема, а закопал его в склеп под Староновой синагогой в Праге.
— Может, выкопаем? — с хулиганской улыбочкой предложил Бальдур, — мы б тут нашли, чем его занять… Получается, что его легко оживить, просто дописав недостающую букву?
— Э, нет, дружок, не все так просто, — Пуци уже откровенно ржал, — для этого требуются еще некоторые ритуалы. В частности, рекомендуется свистеть Мендельсона, поочередно поворачиваясь лицом ко всем сторонам света, за пазухой при этом держа Пятикнижие, а правой рукой — обязательно правой — держась за свой член. У тебя не получится, Ширах, ты необрезанный. И потом. Веришь ли, лично я абсолютно не представляю себе, где конкретно находится эта самая Старонова синагога…
— Мой Бог! — на пороге комнаты возник ухмыляющийся Гесс, — Геноссен мои, я, видите ль, стоял тут курил в конце коридора, а ты, Пуци, со своим чертовым басом… Одним словом, я теряюсь в догадках, что это за тема разговора для национал-социалистов — прыжки с хватанием себя за обрезанный член и местонахождение какой-то там синагоги…
— Раз не владеешь ценной информацией, то и вообще не совался б, — осадил его Пуци.
Им с Бальдуром определенно везло в этот день на подслушек, потому что в этот же момент мимо них с самым непосредственным и нечаянным видом продефилировал Борман с папкою под мышкой.
— Мартин, — окликнул его Пуци.
— Да?
— Ты же у нас специалист по редкой и ценной информации?
— В некотором роде, — бледно улыбнулся Борман, — В чем дело, геноссе Ханфштенгль?
— Ты случайно не знаешь, где находится Старонова синагога?..
Бальдур невежливо отвернулся к окну. Гесс сделал вид, что у него зачесался глаз. Дело было в том, что у Мартина Бормана вроде бы было всё, что человеку требуется, кроме одного — чувства юмора. Он решил, что спросили всерьез, и, честно глядя на Пуци, сообщил, что таковая синагога находится, судя по названию, возможно, на территории нынешней Чехии, но ему решительно непонятно, зачем столь редкая и ценная информация понадобилась геноссен.
— Там, — сказал Пуци, — в подвале спрятано очень эффективное оружие…
— Это к Герингу, — сказал Борман и ушел.
— А теперь, — сказал Пуци, — прошу пронаблюдать, сколь быстро и эффективно у нас распространяется информация после того, как ее узнал Мартин.
К вечеру о разговоре уже, разумеется, позабыли — да и не один был подобный разговор, из Пуци всегда так и сыпались дурацкие истории.
Геринг оказался в числе приглашенных фюрером к ужину, хотя обычно ел у него неохотно — все знали, какого он мнения об Адольфовом столе. Но, раз уж пришел, считал долгом производить побольше шуму.
Бальдур и Пуци курили на террасе, когда Геринг прошел мимо них с какими-то бумагами в руках, направляясь, очевидно, в кабинет фюрера — совсем уже было прошел, но вдруг приостановился. И с ухмылкой спросил:
— Так я заказываю билеты, Пуци?
— Герман, ты меня ни с кем не спутал по занятости? Какие еще билеты?
— Как же, — невинно отозвался Геринг, — до Праги. Так я не понял, мы едем откапывать голема рабби Лева?..
…Геббельса Пуци оказалось мало, и в следующий раз он умудрился взбесить уже не мелкую сошку вроде рейхсминистра пропаганды, а самого фюрера… О, он знал слабые места других, этот язва Пуци… знал, в частности, то, что Гитлер любит предаваться воспоминаниям о войне.
— Те солдаты, которых я помню, были полны героизма… — вдохновенно вещал Гитлер в какой уже раз, нетонко подразумевая героизм собственный.
— Что, безусловно, и привело к поражению в войне, — вдруг обронил Пуци.
Лицо фюрера начало наливаться темной кровью, глаза стеклянно заблестели, но, по счастью, Геринг не дал ему рта раскрыть и выразил то, что, несомненно, собирался сказать Гитлер, коротко и жестко:
— Говорил шпак про войну, да не верили ему… Пуци, ей-Богу, пока я жопу рвал в истребителе, ты в Штатах в кабаках сидел!
— Каждому свое, — тихо ответил Пуци.
— Слушай, да ты… — начал было Гитлер, но Гесс вовремя хлопнул его по плечу:
— Брось, Адольф, ну что возьмешь с этой полуамериканской штафирки! Да он мне в прошлый раз всю кабину в самолете заблевал!
— Се ля ви, — философски заметил Геринг, — кому блевать, кому убирать… Руди, отмыл кабину-то?
— Иди в жопу, Герман. И избавь нас от своего дурного французского прононса…
— Или ты тоже стравил свой обед с ним за компанию…
— В жопу, Герман, в жопу…
Гитлер рассмеялся. Бальдур же в очередной раз подумал о том, что простой, как топор, парень, каковым выглядел Рудольф Гесс, далеко-далеко не так прост, как кажется. Во всяком случае, он знает, как дергать фюрера за ниточки…
Пуци тоже знает — и, похоже, намеренно дергает сильно и зло. То-то же Геринг после того, как фюрер зачем-то вышел из комнаты, тихо сказал Пуци:
— Ты думай, что болтаешь, чертов мудозвон… В Дахау захотел? Или еще куда подальше?
— А то, — тут же отозвался Пуци, — Просто мечтаю о приличном обществе…
Геринг пожал плечами и возвел глаза к потолку, словно говоря — видали придурка?..
— В тебя как бес вселился, — с искренним сожалением заметил Гесс, — ты был совсем другим, когда приходил к нам в Ландсберг…
— Бес, говоришь? — недобро усмехнулся Пуци, — может, желаешь совершить обряд экзорцизма?.. Хочешь, расскажу, как он у вас будет выглядеть? Нужно проделать стократный «хайль», прочесть наизусть «Майн Кампф» и при этом постоянно сваститься.
— Что делать, прости? — переспросил Гесс.
— Сваститься. Ну, нормальные люди при этом крестятся, а вы будете сваститься.
— Будет тебе в Дахау экзорцизм, — проворчал Геринг, — мало не покажется…
Бог троицу любит, и Ширах уже испытывал хроническое волнение всякий раз, когда Пуци появлялся в обществе, так как подозревал, что третья выходка, вполне возможно, станет и последней.
Но тот вел себя тихо, в споры-свары не ввязывался, фирменных шуточек тоже не было слышно, и было совершенно непонятно — то ли устал и успокоился, то ли выжидает подходящий момент для наиболее эффектного выступления. Зная его натуру, Ширах склонялся к последнему.
… Это был чудесный, поистине чудесный вечер в Берхтесгадене — днем гуляли в горах, но никто не устал, даже Геббельс не хромал больше обычного.
Может быть, так умиротворяюще подействовала на всех сонная, величественная красота горной осени — но никто ни с кем не ссорился, даже спорить не было ни у кого охоты. Более того — смотрели друг на дружку странно: мол, почему мы не каждый вечер так любим друг друга?.. Даже вялый, меланхоличный, в последние дни совершенно погасший Рудольф Гесс несколько оживился и тихо беседовал о чем-то с Магдой Геббельс. Даже Борман, которого все терпеть не могли, казался сегодня не таким уж противным.
Исключеньем из общего настроя как обычно был фюрер, который говорил и говорил, словно ревнуя каждого из соратников и к горам, и друг к другу. Он словно и впрямь боялся, что о нем забудут — и потому тянул и тянул бесконечную шероховатую нить болтовни, серую и скучную. Остроумным Адольф бывал далеко не всегда, а сейчас его, видно, просто не хватало на это, и он бубнил и бубнил что-то всем давно известное, перескакивая с одной темы на другую. Честно говоря, утомлял он не менее надоедливо жужжащей перед лицом мухи, и за обедом все молчали, погрузившись в собственные мысли.
По счастью, после обеда Борман куда-то исчез.
— Можно дойти до чайного домика, — сказал фюрер, — но что-то я устал. Посидим здесь.
Он раздраженно побрел в музыкальный салон, и все покорно последовали за ним и расселись в креслах, продумывая способы борьбы с зевотой на случай нового двухчасового монолога. Магда уже взялась зачем-то разглядывать шов на юбке.
Но не угадали. Адольф капризно поморщился и вдруг сделал всем — ну, почти всем — приятный сюрприз.
— Пуци, сыграй что-нибудь.
Какое счастье, подумал Бальдур, у которого уже глаза слипались от монотонного Адольфова жужжанья.
— Что хочешь, Адольф?
— Даже не знаю. Пусть Руди выберет, — буркнул Гитлер.
Все поняли — да, он действительно раздражен. И пытается как-то выплеснуть это раздраженье — может, сам того не осознавая. Все знали, что Гесс вроде бы равнодушен к музыке.
Но Пуци сделал вид, что этого не знает, и спокойно спросил:
— Рудольф, что сыграть?
Гесс ответил ему серьезным взглядом и тихо попросил:
— «Лунную сонату».
Гитлер вскинулся:
— Ты любишь Бетховена, Руди?.. Не знал…
Но Пуци просто-напросто заткнул ему рот, начав играть.
«Лунной сонаты» хватило, чтоб настроение у всех — в том числе и у Адольфа — изменилось к лучшему. Скучно уже не было, хотелось послушать что-нибудь еще. Один лишь Геринг меланхолично закатил глаза и шевелил пальцами, словно неупокоенный утопленник, и после последних тактов буркнул:
— Ханф, ты нас всех похоронил. Не наводи тоску после обеда, давай поживее что-нибудь.
Губы Пуци дрогнули в улыбке, и рояль жизнерадостно взревел старинным прусским маршем. Адольф от неожиданности подскочил в кресле — и засиял. Всякие строевые-маршевые мажорные мелодии действовали на него вдохновляюще.
— А теперь имейте совесть, господа, — сказал Пуци после марша, — вы тут не одни.
Дамы наперебой заказывали любимые мелодии. Геринг так даже и станцевал с Магдою Геббельс венский вальс.
— Прошу прощения, мадам, — сказал он после, — что плохо вел, но пузо существенно мешает чувствовать партнершу. А вообще все претензии к нашему долговязому другу, ибо вальс танцевать меня учил он…
— Что-оо? — радостно взвыл Адольф, — Пуци тебя учил танцевать вальс?! Когда это было?!
— Давно, — коротко ответил Герман, — и, могу тебя заверить, без пуза у меня получалось лучше. Но нет. Конкурс на лучшего партнера мне сейчас не выиграть…
— А конкурс — это забавно, — сказала Магда, стрельнув ехидным взглядом в своего хромого мужа. Она злилась на него за какую-то очередную измену, — Давайте устроим!
Геббельс оскорбленно дернул бровью.
— Меня увольте! — замахал руками Адольф.
— Но почему, мой фюрер? — спросила Хенни, — Я уверена, что…
— К черту! Вон Гесс пусть танцует!
— Ни малейшего смысла в этом не вижу, — спокойно сказал Рудольф, — потому что результат ясен заранее. Выиграет либо Пуци, либо Ширах.
— Вот пусть друг с дружкой и танцуют тогда, — буркнул Адольф, и Бальдур слегка натянулся: намек, что ли? Да нет, непохоже. Просто очередной шедевр Адольфова юмора.
— Давайте просто еще послушаем, — мирно сказала Эльза Гесс, — Поиграй еще, Пуци, пожалуйста.
— Заказывайте.
— На твой вкус, — улыбнулась она.
Ох, фрау Эльза, думал после всего этого Бальдур, ну как так случилось, что вам отказала интуиция? Вы ведь всегда умели гасить любое напряжение в зародыше… Впрочем, сколько можно следить за психами.
… С полчаса все сидели молча и слушали, слушали — даже не глядя друг на друга. Незнакомая импровизация как-то враз захватила всех — тема развивалась так своеобразно и непредсказуемо, что хотелось, очень хотелось следить за ней дальше и дальше…
Бальдур понял, что это, мигом раньше того момента, когда разразился скандал.
Он понял бы и раньше, но эта музыка была так же невозможна в Берхтесгадене, как «Хорст Вессель» в синагоге, потому до Шираха и не доходило, где он раньше слышал подобное.
Джаз. Нью-орлеанский джаз. Господи!
И тут Геббельс взвизгнул:
— Да что это такое!
Пуци моментально бросил играть.
Глаза Адольфа горели. Он понял.
— Что это такое? — произнес он в полной тишине.
— Дикарская музыка дегенеративных негров, вот что это такое! — пролаял Геббельс, поднявшись и вытянувшись.
Адольф тоже поднялся — медленно, словно бы нехотя. Гесс и Геринг быстро и растерянно переглянулись.
— Как я понимаю, очередная шуточка, основанная на том, что нас здесьдержат за полных кретинов, да?! — крикнул Геббельс, заводя, разумеется, не столько себя, сколько Гитлера, по своей сохранившейся с детства привычке — не умеешь драться, умей стравить других.
— А ты, — спокойно сказал Пуци, — и есть полный кретин.
Он без стука закрыл рояльную крышку. И тоже встал.
Адольф как-то бочком, по-крабьи и с крабьей же скоростью (и грацией) пошел к нему, не отрывая от него горящего взгляда и сунув руку в карман брюк.
Сейчас их разделял рояль, но Ширах, как и все остальные, понял, что именно у Адольфа в кармане. А от пули рояль не спасет, если за ним не прятаться, разумеется.
Геббельс побледнел. Может, он уже и жалел о том, что сотворил. А может, и нет. Дамы молчали и следили за мужчинами огромными остановившимися глазами.
Сцена выходила безобразнейшая… и мало кто знал, что нужно делать…
Ширах заметил, как Гесс бесшумно тронулся с места. Он шел за Адольфом в том же точно темпе, только чуть более длинными шагами, и подбирался к нему все ближе. Геринг зорко следил за ним, удивительно собранный и напряженный.
Один Пуци казался спокойным. Он смотрел на приближающегося Адольфа с неким вежливым и чуть брезгливым интересом, как смотрят обычно на отвратительное насекомое. Зря. Адольф мог бы простить ему эту выходку, но никогда не простит такого взгляда… впрочем, кажется, это уже не имеет значения.
Гесс меж тем оказался у Гитлера за спиной и подмигнул Герингу. Тот еле заметно кивнул.
Мягким движеньем Гесс обхватил Гитлера сзади за плечи — низко, близко к локтям, чтобы парализовать возможное движенье правой руки, которая хваталась за револьвер в кармане. Гитлер был в таком состоянии, что, похоже, воспринял это как нападение. Он взревел и начал бешено вырываться, выражаясь при этом такими словами, что дамы заалели, но хватка длинных жилистых рук Гесса была сильной и цепкой… Тут же в дверном проеме замаячили черные силуэты эсэсовцев, но Геринг погрозил им кулаком и жестом приказал закрыть дверь с той стороны.
Может быть, именно в этот момент у Шираха зародилось подозренье, что фюрер не вполне нормален психически — известно ведь, что сила безумцев во время приступов удесятеряется. Рыхловатый, мешковатый фюрер рвался на волю так, что куда более сильный, тренированный Гесс не мог с ним управиться… а может, до смерти боялся причинить ему боль…
— Герман… — пропыхтел бедный Гесс, тараща глаза, — Мужики! Да заберите у него пушку чертову!
Геринг подошел. Его не мучили никакие сомнения — перед ним был человек, у которого опасно сейчас оставлять в руках оружие. И Геринг вытащил его руку из кармана вместе с намертво зажатым в ней револьвером и принялся по одному разжимать его пальцы. Адольф побагровел от усилий и изрыгал проклятия. Как-то извернувшись, он так въехал Гессу локтем в солнечное сплетенье, что тот охнул, задохнулся и закашлялся. Но хватку не разжал. Вдвоем с Герингом они потащили взбесившегося фюрера в кабинет.
— Еву позовите, — бросил Геринг остающимся, — или Блонди. Блонди лучше.
Но все — кроме Пуци — тревожно потянулись к дверям кабинета, в который самоотверженно вошел Гесс и запер двери. Некоторое время оттуда был слышен хрип Гитлера и тихий, спокойный, монотонный голос Гесса, потом послышался звон тяжелой оплеухи и дребезг разбитого стекла… Не иначе, жертвою раздражения фюрера пала ваза мейсенского фарфора со стола — хорошо еще, если не расколотил ее о голову Гесса.
— Идите вы все отсюда, — сказал Геринг, — Руди разберется.
Он первым вошел в музыкальный салон, бросил на крышку рояля изъятый у фюрера револьвер, предварительно глянув на барабан.
— Заряжен, — сказал он Пуци, — Счастлив твой бог, Ханф. Гессу бутылку купи.
— При встрече, — ответил тот.
— Уезжаешь?
— Глупый вопрос, Герман.
— Дурак ты.
— Что ж. Если вы тут все умные, то я, ясное дело, дурак… Только как, интересно, я поеду?
— Пил, что ли?
— Пил, конечно.
— Морис отвезет…
— Нет, — коротко сказал Пуци.
— Ну, куда-к тебе-с добром! Может, мне тебя везти?
— А лучше и ты, чем этот…
— Боишься его после этого?.. Правильно боишься. Но я тебе тоже не мальчик, — буркнул Герман, — вон, Ширах пусть отвезет.
— Да, да, конечно, — быстро сказал Бальдур.
— Ну, смотри, — Геринг недолго думал, прежде чем добавить гадость на прощанье, — Если он Руди сегодня убьет…
— … то я приду на похороны и сыграю музыку дегенеративных негров, — мягко огрызнулся Пуци.
Когда Бальдур поздним вечером вернулся в Берхтесгаден, то застал в каминном зале одного Геринга. Тот сидел, глядя в пламя, и курил трубку.
— Как фюрер? — спросил Ширах тихо, — Надеюсь, Гесс выжил?
— А иди посмотри. Они все еще в кабинете, но дверь открыта. Умилительная картина, ей-Богу.
Ширах как мог бесшумно отправился к кабинету фюрера и максимально осторожно сунул в двери свой длинный любопытный нос.
Гесс сидел — должно быть, уже несколько часов — на узком кожаном диване, а фюрер спал, положив голову ему на колени.
Рудольф не заметил Шираха — а заметил бы, наверняка отматерил бы шепотом.
Ширах вернулся и тоже подсел к камину.
— Хотел бы я, — сказал он, — чтоб у меня был такой друг, как Рудольф у фюрера…
— «Друг», — фыркнул Геринг, — иной раз мне сдается, что наша фройляйн Гесс испытывает к фюреру отнюдь не дружеские чувства…
— Да ладно вам… «Фройляйн Гесс», скажете тоже.
— Не знаешь ты его, Ширах. Это он с виду сфинкс египетский каменный, а внутри — нежный, как баба. Да вы все тут, — Геринг сплюнул в камин, — один лучше другого…
Бальдур много думал о Пуци, до слез его жалел, ему казалось, что Пуци идет по тончайшему, уже ломающемуся льду. Так это и было, и спасало его пока только то, что фюрер еще помнил его прежним. И наверняка уж помнил его виллу в Альпах, где скрывался от преследования властей. Кроме того, была ведь и такая прелестная, слегка влюбленная в фюрера и не стесняющаяся это показать Хелена Ханфштенгль, и этот прекрасный мальчик — Эгон…
— Слушай, — сказал однажды Бальдур, — я думаю — а отчего б тебе не уехать, а?
— В Штаты, что ли?
— Конечно.
— Бальдур, — Пуци неохотно улыбнулся, — не ты один у нас такой умник. Полагаешь, я не думал об этом? Даже с Хеленой говорил. Она не хочет никуда ехать.
— Что тебе Хелена.
— А парень?.. — тут же спросил Пуци. И отвел глаза. А потом тихо спросил:
— А ты не хотел бы поехать со мной?
— Ну куда ж я поеду, работать кто будет?.. — с искренним недоумением отозвался Бальдур, — И потом, у меня же семья.
— Ах да. У тебя ведь все отлично. Ты у нас молодец. Только вот… будь осторожен, ладно? Если живешь среди крыс, не может быть уверенности, что они не сожрут тебя… И если что — приезжай.
Про себя Пуци добавил: «И будь таким, как сейчас, будь таким всегда — пусть по-прежнему носит тебя твой языческий ветер из одних объятий в другие, ибо, как ни странно, а для многих станешь ты лучшим, что знали они на свете. Потому что, как ни удивительно — но есть у тебя странный дар: пробуждать в чужой душе любовь, нежность, доброту.»
…Пуци с удовольствием следил за потугами каждого американца, ломающего язык об его нелегкую фамилию. Здесь, в Штатах, ему доставляли удовольствие даже всякие мелочи — к примеру, он с наслаждением смыл в канализацию свой партийный значок. Попробовал сделать то же самое с членским билетом, но тот не хотел лезть в дыру, а когда наконец исчез, мстительно где-то там застрял, что и вызвало добротный засор отельного толчка. Услышав, как сантехник по-гарлемски матерится, Пуци заржал, как умственно отсталое дитя.
Если ему попадались в газетах фотографии бывших его геноссен, он жадно хватался за ручку и пририсовывал Гитлеру, Герингу, Лею некие лишние анатомические детали в самых неподходящих местах. Щадил только Гесса.
По вечерам он истязал радиоприемник, ловя Геббельса и радостно комментируя его пассажи, а то и осуществляя весьма вольный синхронный перевод. Иногда он выделывал это даже на балконе. Молодая пара из соседнего номера втихую приводила на его выступления своих друзей, и хихикающая белозубая молодежь скучивалась у открытой балконной двери, изо всех сил стараясь не выдать своего присутствия. Вскоре с соседнего балкона раздавался трескучий радиолай:
— Гутен таг, майн фюрер, майне камераден!
— Здравствуй, хер собачий, и вы, недоноски гребаные!..
Геббельс весьма удивился бы, услышав свою речь в Пуцином переводе, а юные американцы даже узнали несколько новых для себя забористых ругательств.
С Бальдуром фон Ширахом он не встречался больше никогда, хотя что там с ним, знал. Весь мир следил за Нюрнбергским процессом.
В 1954 году двое молодых журналистов горячо обсуждали в кафе недавно вышедшую книгу Джека Фишмэна «Семеро из Шпандау».
Они, дети свободной страны, не привыкли понижать голос и обращать внимание на сидящих за соседними столиками, а потому не замечали, что сидящий неподалеку от них взлохмаченный полуседой верзила прислушивается к ним — и глаза у него горят.
Они подробно обсудили каждого из семерки, начав с сумасшедшего Гесса. Имя Шираха у них прозвучало последним.
— Ты только посмотри, — говорил один другому, отчаянно шелестя страницами, — Убить 190 тысяч евреев — жуть!
Оба молодых человека разом вздрогнули от спокойного глубокого голоса:
— ЛОЖЬ.
— Ээээ, мистер?.. Вы хотите сказать, что этот самый Ширах не занимался убийством евреев?..
— Именно.
— А вам-то откуда знать, вот интересно? Джек Фишмэн…
— Джек Фишмэн — лживый бульварный поц, — на все кафе заявил Пуци, выпустив облако сигарного дыма, — Бальдур фон Ширах не мог убить столько евреев. Ведь он даже не читал книгу Розенберга «Миф двадцатого века»…
— Откуда вы знаете? Откуда вы вообще все это знаете?!
— Он сам мне говорил… А ваши дети, — вдруг мрачно предрек Пуци, — похоже, будут считать, что это Америка выиграла войну…
Он взглянул на часы, поднялся и направился к выходу. И даже не обернулся, услышав за спиной трусливое, но словно бы даже почтительное шипение: «нацист!..» Более того, его это весьма развеселило — насколько может развеселить еврея и к тому же гомосексуалиста подобное обвинение.
…Отто — очередной юный чурбанчик — появился как раз тогда, когда его столь же тонкой организации предшественник Вилли утомил Бальдура и сам утомился им, в результате чего и собрался послужить Рейху в СА, где никто, как он надеялся, не собирается читать ему стихи и истязать роялем. Чего-то подобного Бальдур со временем ожидал и от этого нового парнишки, но…
Отто был первым из адъютантов, кто искренне, по уши был влюблен в Бальдура и готов ради него на все. Ему даже карьера была не нужна. И он старался, честно старался учиться у Бальдура всему, что могло бы помочь говорить на одном с ним языке… Парень был словно глина, дождавшаяся скульптора и мягко поддающаяся его умным рукам.
Даже гомосексуализм югендфюрера он как-то сразу принял — спокойно и доверчиво. Бальдуру и до этого случалось спать кой-с-кем из своих адьютантов, но те просто отбывали с ним повинность, стараясь убедить самих себя, что лучше трахать в зад свое начальство, чем если б оно трахало тебя. А Отто был не таков — может, в нем дремало сильное гомосексуальное начало, но ночным забавам с Бальдуром он предавался с охотой и похвальным рвением.
Но никому из тех, кто видел Отто рядом с Бальдуром, ничего подобного и в голову б не пришло — такой уж всегда суровый, холодный вид был у юноши, такое строгое лицо с серьезными глазами. Его можно было принять за адъютанта или телохранителя, но никак уж не за любовника Бальдура. И это было замечательно. Фюрер не терпел гомосексуалистов, которым еще и не хватает ума скрывать свой порок.
Бальдур и Отто были вместе уже три года, но только теперь, когда Отто в очередной раз помог ему прийти в себя после случая с пацаном Гольдберга, Бальдур вдруг осознал, глядя на спящего рядом парнишку, что ужасно, просто ужасно не хочет его потерять. Во сне лицо Отто оставалось серьезным, и выглядело это трогательно.
Если б он открыл сейчас глаза, то поразился бы, с какой нежностью глядит на него Бальдур.
Я постараюсь больше тебе не изменять, подумал Бальдур, не обещаю, не могу, потому что трудно, ох как трудно идти против своей похотливой и ветреной природы, но… очень постараюсь.
Он всего лишь второй раз в жизни мысленно произносил это — в первый раз это было адресовано Пуци.
Хенни в счет не шла.
Бальдур обнял Отто и прижался к нему. Парнишка тихонько закряхтел во сне…
… И тут как полоумный попугай затрещал дверной звонок.
Отто подскочил и открыл глаза.
— Мой Бог, — сказал он, — кто это, Бальдур?..
— Не знаю, — тихо ответил тот, но предчувствие было нехорошее. Слишком мало было тех, кто знал этот его адрес… Может быть, зря он понадеялся, что история с Гольдбергом сошла ему с рук?
Бальдур поднялся, быстро натянул брюки.
— Я открою, — сказал он Отто, — А ты не высовывайся, пока не позову. Что бы ни случилось, понял? Приказ.
— Есть, — ответил Отто, блестя в темноте встревоженными глазами.
В гостиной Бальдур мимоходом глянул на настенные часы. Почти одиннадцать. Странное время для визитов…
Он зажег свет в прихожей, открыл замок, скинул цепочку… и сердце сразу неприятно трепыхнулось куда-то под горло.
За порогом посланцами ада маячили рослые черные тени в фуражках. Бальдур хорошо видел троих, но за их спинами был кто-то еще, стало быть, четверо или пятеро…
— Чем обязан, господа? — выскочило у него вместо обычного «геноссен».
Одна из теней шагнула ему навстречу. Бальдур увидел под тусклым козырьком фуражки незнакомое сухое лицо, молодое, с большими неприятно блестящими глазами и тонким сжатым ртом.
— Оберштурмфюрер Рихард Вагнер, — отрекомендовался вошедший. Голос у него был тоже какой-то сухой, высокого тембра. Таким голосом хорошо шпильки вставлять. Вагнер, Рихард. Просто какой-то дурной сон.
— Очень приятно, — ответил Бальдур растерянно, — Но это, кажется, какое-то недоразумение? Я рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах…
— Нам это известно, — кивнул эсэсовец — тезка композитора, — Вам сейчас следует поехать с нами.
Всё, подумал Бальдур. Эсэсовцы меня звать на прогулку по кабакам не станут. Допрыгался. Дахау? Тюрьма? Или… расход? Как хорошо, что я велел Отто не высовывать носа… его тут не хватало, еще глупостей наделает…
Он невольно отступил на шаг, прислонился спиной к стене, дышать стало трудно.
Вагнер глядел на него спокойно и с пониманием. Людям надо давать время переварить ситуацию, взять себя в руки…
— Что нужно брать с собой? — тихо спросил Бальдур, вытирая со лба внезапно выступившие капли пота.
— Абсолютно ничего. Одевайтесь и поехали.
Бальдур, обреченно кивнув, отправился в комнату. Нашел свежую сорочку, натянул китель, хотя сейчас не все ли равно, что надевать. Но… все же форма, все же свастика на рукаве.
Ему, поскольку он знал, почему за ним явились, даже не пришло в голову по-рейхсляйтерски качать права и требовать ордера на арест или звонка фюреру.
Интересно, подумал он, вообще фюреру об этом известно? А какая разница-то. Если известно, значит… понятно. А если нет — это просто еще страшнее… Это значит, что ведомство Гиммлера действует так, как считает нужным, а фюрер принимает это как должное.
Он с надеждой посмотрел на телефон. Может, все-таки позвонить?.. Господи, ну это же просто — набрать номер… и просто поинтересоваться, с какого перепою в одиннадцать вечера к рейхсляйтеру вламываются не пойми какие эсэсовцы… Бальдур покосился в сторону прихожей, откуда не доносилось ни звука, и в нем проснулась дикая, прямо-таки неконтролируемая злость. Рихард, бл…, Вагнер, да я же тебя к чертовой матери с лица земли сотру, подумал он. Ты же — никто, натуральное говно собачье, тебя по имени-то никто не знает, да стоит фюреру узнать, что ты вытворяешь, тебе не на чем будет фуражку носить!..
Да только вот не оставляла Бальдура та самая мысль — насчет того, что фюреру об этом визите распрекрасно известно… а пойди проверь!
Позвонить-не позвонить?..
А Вагнер оказался не столь терпеливым, как могло показаться сначала. Он появился на пороге и сходу заявил:
— Кажется, вам пришла в голову какая-то странная мысль, герр рейхсляйтер?
Мысли, что ли, читает? Он уже второй раз демонстрирует, что это никакое не недоразумение…
Злость начала уступать место страху.
— Да, пришла, — сказал он, — Я подумал, что неплохо бы…
— Позвонить куда-то? — Вагнер улыбнулся, улыбка у него была какая-то скудная, как будто подсохшая, — Но зачем же, герр рейхсляйтер, беспокоить геноссен среди ночи?
— А вам не кажется, что то же самое я мог бы спросить у вас?
Вагнер, пропустив это мимо ушей, продолжал:
— Все вопросы прекрасно можно выяснить и завтра утром…
Он вел себя просто невозможно, нереально нагло. И это было самое странное… и самое пугающее. И это полностью выбило Бальдура из колеи. С ним просто никогда еще не случалось подобного, и он даже не представлял, что подобное может быть. Слишком привык к доброму фюреру, очевидно… и действительно не допускал и мысли, что с ним, Бальдуром фон Ширахом, может случиться что-то, не укладывающееся ни в какие законы и не лезущее ни в какие ворота…
— Да послушайте, герр Вагнер… оберштурмфюрер Вагнер, извините… что это все значит?!
— Несомненно, ЧТО-ТО значит, — ответили ему. С ним разговаривали как с идиотом. И не считали нужным что-то объяснять.
— Ну вот что, — Бальдур уже здорово струсил, но сдаваться тем не менее не собирался, — С чего вы решили, что я куда-то с вами поеду? Это противозаконно… У вас есть ордер на арест?
— Есть, — спокойно ответили ему, — Вот.
В грудь ему смотрело дуло пистолета.
— Вы хотите сказать, — Вагнер уже откровенно посмеивался, — что ЭТОТ ордер не имеет законной силы? НЕ ИМЕЕТ?..
— Имеет, — тихо ответил Бальдур, поняв, что ехать придется. Хотя бы потому, что умирать еще не хотелось. Этот чокнутый эсэсовец мог оказаться посланцем хоть Гиммлера, хоть Бормана, хоть фюрера, а мог быть и простым ненормальным, но ни в том, ни в ином случае спорить с ним далее не имело смысла. В блестящих глазах Вагнера, стоило ему взяться за пистолет, не осталось ничего похожего на человеческое выражение. Они были пугающе бессмысленны, а сам Вагнер преобразился из человека в некое существо, которому то ли недоступны, то ли не нужны обычные человеческие переживания. Иными словами, он мог нажать на курок, не задумываясь.
К чести Бальдура, думал он в этот момент не столько о себе, сколько об Отто, который затаив дыхание сидел в соседней комнате. Стоило этим ребятам хотя бы увидеть его, все могло стать намного-намного хуже.
Какой же я идиот, думал Бальдур, что никогда не держал здесь оружия… Был бы здесь мой пистолет, мы б еще посмотрели, кто прав, Вагнер. Но пистолет остался дома… Ах, идиот…
— Долго же мне еще ждать тебя, Ширах? — спросил Вагнер. И вот это было уже через край.
— А ну оставь свой дурной цирк! — рявкнул Бальдур, — рейхсляйтерам не тыкают!
Как ни странно, Вагнер в ответ на это лишь улыбнулся и поглядел на него даже вроде бы с некоторым уважением.
Но надо заметить, что на этом Бальдурову самообладанию пришел конец. Фургон, в котором он должен был ехать неизвестно куда, выглядел зловеще — именно потому, что был совершенно безликим, на таком можно спокойно возить хоть мебель, хоть связки колбас, хоть… трупы.
В фургоне было темно, и Бальдур даже приблизительно не мог определить направление движения.
— Куда вы меня везете? — предпринял он попытку прояснить ситуацию.
— Куда надо, — ответили ему.
Бальдур съежился на лавке. Ему было стыдно за то, что он был не в силах скрыть свой страх. Но он действительно был не в силах. Он не хотел, страстно не хотел умирать.
— Приехали, выходим.
Бальдур выбрался из фургона. Кажется, это все еще Берлин, окраина какая-то, совершенно безликая в темноте…
— Идем.
Идти пришлось недолго, и Бальдур удивленно застыл перед каким-то странным строением наподобие склада. Лязгнули тяжелые двери. Вагнер мягко потянул его за рукав внутрь…
Это действительно было что-то вроде склада — но переделанного в спортивный зал. Тускло блестели маты, в углу неопрятною кучей лежали фехтовальные костюмы, грустной дынькой валялся баскетбольный мячик, хотя колец не было. У стены притулилась старенькая шведская стенка, а на стенке что-то вроде бы висело…
Бальдура подвели к ней поближе, и его брови надломились, а глаза округлились: предмет, нахально висящий на стенке, не имел никакого отношенья к спортивным снарядам. А к чему имел отношенье — лучше было и не думать.
Это был кнут.
Вагнер снова взял его за рукав, заставляя подойти к стенке еще ближе, но теперь Бальдур заартачился, не двинулся с места. Он ног не чувствовал от страха, и по его виду это было замечательно ясно. Лицо у него побелело.
— Ближе, ближе, — Вагнер снова дернул его, чуть грубей, и преодолел на этот раз его сопротивление, — Вот и хорошо, вот и умница. А теперь будьте умницей и дальше, китель и рубашку снимите…
Бальдур возился с пуговицами долго. У него дрожали пальцы. Вагнер и остальные терпеливо ждали, Бальдур при всем желании не мог бы расстегнуть пуговицы хоть чуть быстрей, в нем все просто обмирало при одной мысли о том, что сейчас его, по видимости, будут бить — да, лупить по голой спине этой отвратительной штукой, похожей на красивую змею, и как же это будет дико, непереносимо больно. И до чего унизительно. А еще более унизительно то, что Бальдур (он сам про себя это знал) не сможет терпеть такую боль молча… У него была не по-мужски нежная, чувствительная кожа, и боли он всегда боялся, хоть и тщательно это скрывал.
Вагнер забрал у него китель и рубашку, аккуратно повесил их на какой-то одинокий стул. Один из эсэсовцев сдернул кнут со стенки.
— А теперь возьмитесь за стеночку. Обеими руками.
Бальдур послушно положил ладони на прохладный деревянный брус.
— Отлично. А теперь послушайте, что от вас требуется.
От меня еще и что-то требуется?..
— Сейчас вы изложите нам, — тоном профессора на экзамене начал Вагнер, — национал-социалистические взгляды на еврейский вопрос…
Бальдур покрепче вцепился в брус — он чуть не упал, услышав это.
— Говорите все, что считаете нужным, — продолжал Вагнер, — но помните — стоит вам замолчать, и вас начнут бить. Бить будут до тех пор, пока не вспомните, что еще можете добавить по данному вопросу. Все ясно?
Господи, подумал Бальдур, кто ж учит вас, скотов, так издеваться над людьми?.. Это же придумать надо…
— Мы вас слушаем, — сказал Вагнер.
Бальдуру показалось, что он просто растерял все мысли, голова была совершенно пустой.
— Хельмут, — усмехнулся Вагнер, — помоги ему начать.
— Есть, — отозвался эсэсовец с кнутом, но одновременно с ним Бальдур испуганно ахнул:
— Нет, нет, пожалуйста, не надо, я сам, я буду говорить…
И он заговорил…
И чего только не наговорил, спасая свою нежную шкурку. Все содержание Геббельсовой пропаганды, кое-что из «Майн Кампф», все тексты антиеврейских стишков и песенок, этого оказалось недостаточно, хотя горло у Бальдура уже пересохло. Пришлось вспоминать близко к тексту пасквиль «Не верь лису на лужке», а потом даже и книгу Форда «Международное еврейство»… Он даже пожалел, что так и не осилил «Миф» Розенберга. После нескольких часов непрерывной болтовни горло заболело, голос Бальдура был еле слышен, голова у него болела тоже, он дрожал от страха и холода, нервное напряжение вымотало его так, что он еле стоял на ногах. Из глаз у него то и дело катились слезы — от унижения, от бессилия, от отвращения к самому себе.
— Евреи, как неполноценная и дегенеративная раса…
Господи, да кончится это когда-нибудь?..
— Повторяться не надо, — мягко сказал Вагнер, — не стоит халтурить. За это наказывают.
Бальдур чуть не взвыл от такого измывательства. «Повторяться»! Да вся эта дрянь повторяет одна другую!
— Простите, — прошептал он, — Я хотел сказать, что…
Его хватило еще ровно на полчаса. Больше он уж решительно не знал, что говорить, и даже придумать ничего был, естественно, не в силах.
— Почему молчим? — поинтересовался Вагнер.
— Я… не могу больше…
— Что ж.
Крепкий тычок в спину впечатал Бальдура в стенку, он здорово приложился к брусьям лицом, расквасив нос… и, уже не помня себя, отчаянно заверещал срывающимся голосом, насмешив своих мучителей:
— Не надо, не надо, не бейте меня пожалуйста, неееет, разве я рассказал недостаточно?!
— Вот какие герои воспитывают нашу молодежь, — серьезно заметил Вагнер, и под воющий гиений хохот, какой только в кошмаре и услышишь, бедняга Бальдур вдруг покачнулся, разжал руки… и мешком свалился под ноги эсэсовцев в глубоком обмороке.
Он очнулся уже не на полу, а на чем-то более мягком, от ледяного прикосновения к лицу, и поморщился. Кто-то вытирал его окровавленный нос, а потом положил на переносицу мокрый платок. Бальдур приоткрыл глаза.
Он лежал на одном из матов, а рядом, на краешке, пристроился этот чертов садист — тезка композитора. Бальдур снова опустил ресницы — меньше всего на свете ему сейчас хотелось видеть эту физиономию.
— С вами все в порядке? — очень тихо, очень мягко осведомился Вагнер.
— Конечно, нет, — тихо ответил Бальдур, голос ему почти не повиновался.
Вагнер принес ему его рубашку и китель.
— Одевайтесь. Замерзли, наверное?
Бальдур с трудом привстал, натянул рубашку, стало теплее.
— Шнапсу? — Вагнер протягивал ему фляжку, — Сигарету?.. Водички?..
— Благодарю, — устало сказал Бальдур, — не нужно.
— Мы отвезем вас домой.
— Да, пожалуйста.
Вагнер чуть ли не на руках готов был тащить его к фургону, во всяком случае, пытался поддерживать, словно тяжелобольного, только что вставшего на ноги. Какой контраст, подумал Бальдур. Какая забота, надо же. Ну, ничего удивительного: наказан — прощен.
Оказывается, уже начинало светать, и в сероватом апрельском свете Рихард Вагнер совершенно утратил свою инфернальность — обычный парень с какою-то несвежей, замученной, словно пеплом посыпанной физиономией, с прищуренными потускневшими глазами. Теперь казалось, что даже форма сидит на его высокой угловатой фигуре неладно. И теперь можно было приблизительно определить его возраст — Бальдур решил, что они с Вагнером почти ровесники, тому было лет 27–30.
А может, подумал Бальдур уже совершенно без страха, он просто что-то вроде нежити, боящейся солнца?
Фургон уже не казался зловещим — обычная ободранная колымага.
Они ехали, Бальдур курил предложенную Вагнером сигарету, ему уже не было так плохо и очень хотелось домой.
— Вот счастливая натура, — буркнул Вагнер.
— Вы что-то сказали?.. — с живым интересом откликнулся Бальдур.
— Я просто любуюсь на вас, герр рейхсляйтер, — с сухою усмешкой сообщил Вагнер, — Мне казалось, вы куда дольше будете приходить в себя. А вам стоило лишь увидеть, что солнце все же взошло, и вот вы уже чуть не улыбаетесь…Наверное, завтра будете вспоминать все это, как плохой сон?
— Мне уже сейчас кажется, что это был плохой сон, — ответил Бальдур.
— Думаю, если б вам действительно досталось, все было б хуже?
— Теперь я думаю, что и не досталось бы, ни при каких условиях. Вы предпочли бы побольше меня напугать, но сделать бы ничего не сделали.
— Откуда такая уверенность? — хмыкнул Вагнер.
— Вам этого не приказывали. И вы испугались, когда нечаянно разбили мне нос. Вы даже не оставили меня валяться на этом зачуханном полу.
— В следующий раз, — сухо откликнулся Вагнер, — все может быть по-другому. А вы меня удивляете… мне казалось, вы куда слабее и трусливее, если судить по поведению.
— Но ведь сейчас светит солнце, как вы справедливо заметили, — насмешливо откликнулся Бальдур, — и вы свое дело сделали. Какой смысл мне сейчас-то бояться вас?
— Думаю, несмотря ни на что, урок усвоен, не так ли? — холодно бросил Вагнер.
— О да. Да. Хоть вы и мало похожи на учителя.
— Верно, мало. Я просто делаю учительскую работу, — усмехнулся эсэсовец, — потому что пока этого достаточно. А тех, кого нельзя научить, приходится лечить, герр рейхсляйтер.
— И тогда вы преображаетесь в доктора?.. Доктор Вагнер. Звучит.
— Надо заметить, — процедил Вагнер, — что играть в доктора мне нравится куда больше. Может, потому, что лечение почти всегда оказывается эффективным.
— Почти?..
— Да-да. Но если и оно не помогает… угадайте, в кого я преображаюсь?
— В палача, я полагаю, — сказал Бальдур очень тихо.
— Верно. Но это случается редко. Обычно лечение… успешно.
— Не надо мне рассказывать об этом, — сказал Бальдур.
Вагнер с удовольствием наблюдал, как это засветившееся было лицо снова погасло — все же я не ошибся, ты жалкое, трусливое существо, Бальдур фон Ширах, и у меня НЕТ сомнений, что урок усвоен блестяще.
— Ну вот, сразу и «не надо рассказывать», — Вагнер наслаждался от души, — а может, мне хочется разделить с вами свою профессиональную радость и гордость. Знаете, одним из пациентов, — в фургоне было полутемно, и глаза Вагнера снова обрели страшноватую стеклянную блескучесть, — я искренне горжусь. Не думаю, что доктора с дипломами могли бы добиться такого успеха… вы меня слушаете, герр рейхсляйтер?
— Куда ж я тут денусь, — в голосе Бальдура против воли проскользнула жалобная нотка, и Вагнер чутким слухом прирожденного мучителя поймал ее, и она его раздразнила…
— Так вот. Мой любимый пациент — это один пидор. Представьте, я вылечил его от гомосексуализма, разве не чудо?..
Вагнер почти нежно посмотрел во враз помутневшие глаза Бальдура. Давай, мысленно подтолкнул он его, заори «Не надо, не надо, пожалуйста, не надо!!!», как ты уже орал сегодня. Заори — я не буду рассказывать…
Но Бальдур промолчал, и потому Вагнер спокойно закончил:
— Это оказалось так просто, герр рейхсляйтер, вы не поверите. Правда, понадобилось не пять, как сегодня, а двадцать… медбратьев и ассистентов. Зато хирургическое вмешательство прошло успешно. Насколько мне известно, он больше не пидор — после того, как мы всю ночь пускали его по кругу…
Больше Бальдур не произнес ни слова. И Вагнер прекрасно его понимал.
Разумеется, Бальдур не удержался от того, чтоб, встретившись как-то с Гиммлером, не передать привет его замечательно-профессиональному сотруднику Рихарду Вагнеру.
Куцые брови Гиммлера дернулись:
— Бальдур, — сказал он, — знаешь ли, это была бы огромная честь для СС — если б там служил Рихард Вагнер… Но вынужден тебя разочаровать — оберштурмфюрера СС с таким именем не существует в природе.
Ничего иного Бальдур и не ждал.
Но потом сел и, сжав ладонями виски, задумался о живых глазах Ронни — и мертвых дырках Рихарда Вагнера.
Рональд не сказал ни слова — просто ссутулился и ушел на кухню, когда сияющий Пауль приволок из своего штаба Юнгфольк нарядный красный барабан с белыми молниями «зиг» на боках.
Раньше Рональд уходил на работу вечером. Теперь старался убраться из дома пораньше — у него сил не было слышать, как его сын упражняется на этом дикарском инструменте. Раньше он мечтал, чтоб у Пауля прорезался музыкальный слух… Что там со слухом, было неизвестно, но вот чувство ритма у парня оказалось потрясающее. И вскоре у него начало получаться… палочки так и летали, рассыпая по дому и по улице звонкую, наглую, победительную дробь. А лицо Пауля-барабанщика становилось суровым и незнакомым.
Он участвовал теперь в любом параде. Рональд ни разу не приходил посмотреть на это, он знал, что сын обижается на него, но пересилить себя не мог. Его безмерно раздражали эти трубы и барабаны, эти марши и гимны.
Побыстрее бы уехать в Вену… но сбережения на переезд росли медленно. Слишком медленно. Да еще нужно было отдать долг Норе и Берштейну…
Рональд сознавал, что рискует сыном.
Пауля теперь было не застать дома — все свое время он проводил с товарищами из Юнгфольк. Они то репетировали очередной марш, то собирали пожертвования в партийную кассу, то распространяли «Фелькишер беобахтер» (хорошо еще, не «Штюрмер»), а по вечерам собирались на «беседы» в штабе, где при свечах кто-нибудь из молоденьких фюреров Гитлерюгенд знакомил малышей с биографиями великого художника и архитектора Адольфа Гитлера, великого поэта Бальдура фон Шираха и прочих крысиных гениев. Рональд недоумевал, как это Пауль, который любит Гете, может читать шираховские бредни, совершенно не замечая, что в них ни складу ни ладу. Впрочем, это ли самое странное…
Рональд с недоумением глядел на Марию — та словно и не замечала, что происходит.
Два года уже не замечала…
— Пауль, вечером будет пирог. Можешь пригласить своих товарищей.
— Здорово, мам, спасибо!
Пауль убежал в свой штаб — и тут Рональд позволил себе вопросительно взглянуть на жену. Она только плечами пожала и отправилась на кухню, где пышное, желтовато-белесое тесто дышало под крышкой старой кастрюли. Рональд потянулся за женой. Он ощущал легкую, но противную неловкость.
— Ронни, — сказала Мария, — они ведь дети, такие же, как наш Пауль.
— Дети наци. Еще неизвестно, станут ли есть твой пирог. А ну как подумают, что ты замешивала его с кровью христианских младенцев?
— Не говори глупостей, Рональд… И реши наконец, чего ты хочешь на самом деле.
— Я не хочу, чтоб Пауль стал нацистом. Я не хочу, чтоб он когда-нибудь плюнул мне в лицо по указке своего драгоценного Шираха. Я не хочу…
— Я спросила не о том, чего ты не хочешь.
— А хочу я…
Рональд снова словно в болоте увяз, ощущая, что краснеет. Что за женщина. Умеет же заставить тебя почувствовать себя идиотом! И без усилия, заметьте, без всяких бабских штучек…
— Ты хочешь, чтоб твой сын был счастливее тебя, — глуховато сказала Мария, раскатывая тесто. Ее тонкие смуглые руки тонули в нем, и оно отчаянно пыхтело, — Помоги мне, Ронни, вот скалка. И в то же время ты хочешь, чтоб он вел себя так же, как ты… Отчего ты тогда не назвал его… Исааком?
— Я не люблю это имя. Оно напоминает о… жертве. А я не такой ортодокс, чтоб понять, как можно принести в жертву своего ребенка…
— А ты не этим ли занимаешься?
— Что?..
— Рональд… не мешай ему. Он ведь теперь старается приходить домой попозже, когда ты уже уходишь на работу — чтоб не видеть твоего взгляда. Ты смотришь на него, как будто он не сын тебе, а враг…
— А ты — ты дальше своего носа — кстати, запачканного в муке, вытри, — ничего не видишь! Неужели не понимаешь… наш Пауль — исключение. Других еврейских ребят в Юнгфольк не берут! А из нашего Ширах сделал… шута горохового!
— А ты спроси у его товарищей, — сказала Мария, — считают ли они, что Пауль Гольдберг — шут гороховый. Спроси! И потом… может быть, наш Пауль… это — начало?
— Начало чего?..
Мария присела, попробовала убрать черную рассыпчатую прядь, выбившуюся из-под заколки и упавшую на глаза — но только испачкала ее в муке, усмехнулась, дунула на нее. Без толку. Рональд зачарованно наблюдал за женой. Сполоснув руки, он бережно отвел прядь с ее лба, смахнув муку.
— Как бы я хотел, чтоб у тебя была только такая седина…
— У нас в роду поздно седеют…
Оба говорили тихо, оба ни на миг не отвлеклись от темы.
— Рональд… Ты привык смотреть на этого своего Шираха как на врага…
Как на Крысолова.
— …И не замечаешь, что детям-то он не враг…
— Он делает из них нацистов.
— Было бы странно, если б он делал из них противников нацизма. Такое — сейчас — можно сделать только ненавидя этих детей… а он их любит.
О да.
— Ронни. Теперь, когда Пауль вырос и много помогает мне по дому, я иногда… могу ходить гулять. Когда он еще в своем штабе, а ты уже на работе. Я просто хожу по городу, Ронни. Однажды я видела, как уходит поезд… в этом поезде были одни дети. Матери с отцами толпились на перроне. Я сделала вид, что тоже чья-то мама…
— Ну и что?
— Эти родители. Понимаешь, по одежде видно — рабочие… Они так радовались. Оказывается, ребят везут на экскурсию в Мариенбург, а потом — поход по Восточной Пруссии.
— Ну и что?
— А то, что они говорили — «Слава Богу, наши-то дети хоть что-то увидят хорошее… Нас никто никуда не возил — знай себе полы мети, а потом на фабрику…
И бесплатно ведь! И как хорошо, что дети теперь по улицам не шатаются…»
Ну да, конечно. Бесплатные поездки по всей Германии, бесплатная возможность заниматься чем хочешь — хоть самолетики строй, хоть на флейте играй…
— Ронни, дети не отвечают любовью тому, кто только притворяется любящим…
Верно…
— А что до Пауля… Я надеюсь на то, что наш Пауль для него — что-то вроде моста.
— Не понял.
— Ты только о себе думаешь. Полагаешь, Шираху-то легко было объяснить Гитлеру свой поступок?.. Полагаешь, ему не попало за нашего мальчика?.. И тем не менее, никто не снял с Пауля его галстук… Ширах, — Мария отвела глаза, так она делала всегда, когда высказывала свои странные догадки, — пытается построить мост над пропастью. Мост, с одной стороны которого — немецкие, с другой — еврейские дети. Это очень опасно, Рональд. И для него, и для… моста… Но я его понимаю, и знаю, почему не понимаешь ты. Что для него, что для меня дети — это дети. А для тебя товарищи Пауля вроде… крысят.
Рональд в очередной раз поразился тому, что Мария читает его мысли.
И, разумеется, остался дома, как она просила. Уйти означало бы признать, что он просто «отворотил лицо свое к стене», как Езекия, и не хочет знать-видеть-слышать ничего, кроме того, что уже надумал и решил сам.
Они с Марией ушли на кухню, но слышали всё.
Поначалу главным действующим лицом в компании проголодавшихся с обеда мальчишек был пирог, и покончили с ним так быстро и жестоко, как он, того, несомненно, заслуживал. А потом…
Рональд искренне пожалел кое-о-чем. В частности, о том, что недооценивал своего сына… Да и кое-что новое довелось узнать.
На языке у мальчишек было только одно — новые школы-интернаты.
— Там живешь и учишься, и никаких тебе родителей, — возбужденно вещал Ули Вайнраух.
— Они в настоящих рыцарских замках!
— Там рядом озера!
— И лошади!
— И овчарки!
— И лес!
— И лыжи, и мотоциклы!!
— Я подал заявление.
— И я.
— И я.
— Тебе не светит — ты плохо учишься.
— А ты вообще хилый отказник, не умеешь даже в футбол!
— Вот Хайни туда возьмут…
— Ага, его возьмут. И Фрица.
— Фрица тоже возьмут.
— Пауль, а ты подал заявление? Тебя легко возьмут, ты и отличник, и кросс выиграл, и…
— Нет, — Рональд с удивлением услышал в этом восторженном гвалте хрипловатый, спокойный, взрослый голос своего двенадцатилетнего сына.
— А…
— Бэ. Я же еврей, что, забыли?
— А, да…
— Жалко…
Нет, не мог Рональд уловить в пацанских голосах какого-то особенногопренебрежения. Тебя не возьмут — ты плохо учишься, тебя — потому что слабак, а тебя потому, что еврей. Ну, обидно, конечно, но не страшно — и хуже бывает…
Бальдур фон Ширах был ужасно горд этой идеей о школах Адольфа Гитлера — и поддержкой со стороны Роберта Лея. Собственно, можно было сказать, что идея была общая — но Лей, как ни странно, задумал куда более фантастический проект. Он полагал, что молодых национал-социалистов нужно воспитывать непременно в новых зданиях «национал-социалистического образца» (которые пока что существовали только на бумаге).
— Это шпееровского, что ли, образца? — спросил Ширах. Шедевры монументальной скульптуры, все в орлах и свастиках, жутко удручали его своим безвкусным видом, и Ширах справедливо считал, что у фюрера, по видимости, началась мегаломания.
Лей положил перед ним проект.
Несмотря на усугубляющееся пьянство, он был и оставался натурой весьма практической.
— Нечто среднее между ночлежкой и казармой, — заявил Ширах, — только вид более пристойный. На бумаге, я имею в виду.
Лей вприщур поглядел на него своими красивыми глазами:
— Грамотно спроектированное и очень удобное для проживания большого числа школьников здание… я бы сказал.
— Безликое. Подавляющее.
— Они там учиться должны, а не пялить глаза на потолочную лепнину…
— Вы сами б захотели жить и учиться в таком здании, если б были ребенком?
— Я, Ширах, давно был ребенком… Впрочем, все это совершенно неважно. Что ты предлагаешь? Я всегда говорю — не нравится, предложи сам…
— Чем плох Зонтхофен?..
— Замок?..
— Именно.
— Романтическая у тебя натура. От детей набрался?.. Красиво, Ширах. Но только, видишь ли, совершенно бестолковая идея. Ты себе хотя бы приблизительно представляешь этот замок?
— Любой.
— А знаешь ли ты, сколько понадобится затрат, чтоб нормально отапливать эту каменную, построенную средневековыми кретинами махину? Зимой все кадеты будут кашлять… Летом там тоже прохладно. И, я бы сказал, что замок тоже производит подавляющее впечатление…
— Хм. А с отоплением — нельзя что-нибудь придумать, а, доктор Лей?
— Можно. Но сложно.
— Зато там прекрасные места… во всяком случае, есть где кататься на лыжах… И потом! Есть один, совершенно неопровержимый аргумент в пользу Зонтхофена…
— И Ширах, ни черта не понимающий ни в архитектуре, ни в строительстве, его, конечно, знает?
— Зонтхофен уже существует, доктор Лей. А ваши со Шпеером бараки — только на чертежах.
— Ну тебя к дьяволу, Ширах. Если сумеешь как-то найти дыру в графике Шпеера, чтоб я мог поговорить с ним на эту тему…
В результате было принято промежуточное решение. В каждом гау была выделена строительная площадка под школу Адольфа Гитлера. А до того, как школы будут построены, ученикам надлежало проживать в наскоро оборудованном для этой цели Зонтхофене. Наскоро, да — но не кое-как…
Начался отбор кандидатов. Шираховская канцелярия была завалена пухлыми конвертами, содержащими в себе заявления, фотографии, справки и характеристики, но и тут, разумеется, ему не позволили принимать решения самостоятельно, видно, памятуя о скандале с еврейским мальчиком. Да и не будь скандала — все одно судьбу каждого ребенка решала бы расологическая комиссия, Ширах решительно не мог считаться компетентным в этом вопросе. Сам он разве что на глаз мог отличить арийца от еврея, а уж разницы между нордическим и фальским типом черепа не видел никакой. Даже подозревал, что его собственная черепушка весьма далека от нордической.
Помимо расового типа, учитывалось общее состояние здоровья. Носящие очки отвергались сразу. Нежелательно было также иметь плохие зубы или плохую кожу. И никаких — никаких! — хронических заболеваний.
Ширах сильно опасался, что учеников в результате окажется ровно столько, сколько необходимо для комплектации одного-единственного класса. И это — еще до вступительных испытаний!
— Дело того стоит, — сказал Лей, махнув рукою. Они сидели у него дома, обложившись бумагами и обставившись пепельницами и бутылками. Жена от Лея в очередной раз ушла, и дома у него по сей причине царил куда больший бардак, чем мог бы быть, будь Лей закоренелым холостяком. Иногда позванивал телефон, Лей нехотя протягивал руку и бурчал в трубку нечто вроде:
— Хильда… а, прости, Инге… Я работаю, да. Занят, да. Нет, не с бабой. Нет, не с Хильдой. Хильда — это моя домработница. Да. Короче, Фрида, долго тебе объяснять — от-вле-ка-ешь!.. Чертовы бабы. Ширах, в другой раз возьми трубку.
— И что же я им скажу?
— Что хочешь. Скажи, что я ушел к тебе.
— Ох! Смотри, какой малец, — Ширах протянул ему выковырянную из какого-то конвертика фотографию.
Лей небрежно глянул:
— Не пойдет…
— Ну и мальчишка. Просто флорентиец!..
— Просто полуеврей какой-то… К слову, брось это. Мы для чего, вообще, собрались? — Лея не смущало, что «собрались» они вдвоем, он привык пользоваться лексикой, подходящей для собраний своего Рабочего фронта, — Мы собрались, чтоб определиться окончательно с вопросом вступительных экзаменов… Как договаривались? Твои — учебные предметы, мое дело — общая физическая подготовка.
Ширах кивнул и полез в свою папку.
Они обменялись бумагами.
Лей справился с Шираховой бумагой быстрее — просто сразу отчеркнув там что-то карандашом, некоторое время наблюдал, как Ширах смотрит в его бумагу, и наконец сказал:
— Почему ты, Ширах, очки не носишь?
— Они мне не идут.
— Дурак… долго еще ты там? Можно подумать, ты неграмотный.
— Можно подумать, столь разборчиво писал кто-то не совсем трезвый, — мягко отпарировал Ширах.
— Тебе что за разница, какой я писал? Ты смысл понял?
— П-послушайте, доктор Лей… — Ширах невольно поежился и сказал то, что Лей от него в данный момент не ожидал услышать, — Налейте и мне.
— «За работой не пью!» Ах ты… недоносок партийный…
Выпив, Ширах еще некоторое время искоса поглядывал в бумагу, словно надеясь, что стрезва не так понял смысл написанного. А потом сказал:
— Доктор Лей, а можно узнать, чьи рекомендации вы учитывали, когда это писали?..
— Опрашивал офицеров, само собой.
— Великолепно. И кое-что мне нравится… да, действительно, кросс, и прыжки в воду, это замечательно. Только вот все ли они умеют плавать?
— А какое это имеет значение?
— Э…
— Выловят. В том и суть. Умеешь-не умеешь, приказ — прыгай.
— А, да. Но вот это… Это… это…
— Ширах, а ты, оказывается, заика похуже меня, — добродушно усмехнулся Лей, — что с тобой такое?
Его невозмутимость сбила Шираха с толку — и тут он догадался…
— Доктор Лей! Посмотрите, пожалуйста, сюда. ВЫ ПОМНИТЕ, как писали вот это?
Лей некоторое время всматривался в прыгающие строки. А потом сказал:
— Нет. Не помню. Твою мать, не я же сам это придумал?.. А?
Он, как это с ним иногда бывало, от великой самоуверенности скатился в полную беспомощность — и глядел на Шираха странными, испуганными глазами. А тот только спросил:
— Фюреру уже показывали?..
— Б-ббл… хм. Показывал ведь!
— Одобрил?
— Ширах. Молчи. Мне тошно. У меня детей… четверо….
— Я думал, трое. Извините…
— Иди ты… однако, четверо, но это неважно. А может, даже больше. Не в этом дело. Вспомнить бы, кто из этих эсэсовских козлов такое посоветовал.
— Ах, доктор Лей. Что вы натворили. Я мог бы хоть сейчас пойти к фюреру и сказать: заставьте сделать такое взрослого, любого штатского взрослого человека. И если он не побоится… Я сам испугался б, я же шпак, вы знаете.
— А я — нет… Тем более, мог бы сообразить… Тьфу, Ширах, что теперь делать-то?
— Доктор Лей… танк может свернуть с курса так, что это будет не очень заметно?
— Ты что, дурак, что ли?.. Ладно, ладно. Что-нибудь придумаем. Поговорю я с ним…
— Только не пейте.
— Ладно, ладно. А вот еще бокс тут затесался… М-мать, какой же я был, что бокс какой-то всунул сюда?..
— Ну бокс, это ничего, это хорошо.
— Ты, может, в боксе понимаешь?..
— Понимаю. Что удивительно.
Лей то ли так и не поговорил с фюрером, то ли не убедил его.
— Ни одна нормальная мать, — сказал Ширах, — не согласится на то, чтоб ее ребенок участвовал в таких испытаниях.
К счастью, Лей обладал спасительным цинизмом.
— Матерей там не будет.
— Не знаю, но… говорю же, даже я не взялся бы за такое — за какие-то полминуты вырыть индивидуальный окоп!..
— Для тебя и впрямь рыть полчаса… Ладно, не дуйся, пуза у тебя уже нет. Я про твой рост.
Самым поразительным оказалось то, что самих детей это нисколько не пугало.
Они так хотели попасть в эту школу для избранных, что безо всяких колебаний рыли окопчик и ложились в него, побелев и закрыв глаза (некоторые, к слову, не вставали после того, как над ними прошли танки — их вытаскивали из окопчиков в глубоком обмороке), и без раздумий кидались в воду с десятиметровой вышки — в форме и каске. Наблюдали за этим тренированные эсэсовцы, которые не поняли, с чего вдруг вдоль бассейна прискакал, оскальзываясь подошвами штиблет на мокрой плитке, встрепанный и белый, как стенка, югендфюрер и принялся молча расстегивать у ребят подбородочные ремешки.
— Положено в каске, — пробубнил кто-то.
— Плевал я!!
Оказалось, что какого-то ребятенка только что выловили из воды в бессознательном состоянии и с кровоподтеком на подбородке. Слишком свободно сидящая каска… плохо пригнанный ремешок…. В результате пацану едва не оторвало голову при ударе о воду.
На бокс Ширах привез пару десятков парней из берлинской боксерской секции Гитлерюгенд. Все они были старше, чем кандидаты, и выглядели весьма внушительно. Все получили подробнейшие инструкции — ни в коем случае не терять контроля над ситуацией и не долбить со всей дури.
Лей только усмехнулся — не верил он в то, что все эти шестнадцатилетние дылды имеют голову на плечах. Тем более что кандидаты, только увидев, с кем им предстоит встретиться на ринге, разом заметно струхнули. И танков не боялись так. То — танк, а то — старший парень, ясно же, что страшнее.
Первого мальчика звали — Лей запомнил его имя навсегда — Рольф Шмидт. Его соперником на ринге выступил здоровенный малый, имя которого Лей моментально забыл.
И кончилось это, как он и предполагал, плохо. Чертов переросток не рассчитал силищу, и буквально на первой минуте Рольф рухнул навзничь, и его стриженый затылок, подпрыгнув, глухо стукнулся о мат. К мальчику сразу кинулся весьма опытный в таких делах врач.
— Ширах, — сказал Лей, — а он мог его и убить. По-моему.
— По-моему тоже, — процедил Ширах сквозь зубы и поднялся, зачем-то расстегивая китель.
Лей из чистого любопытства спустился за ним. И то, что он увидел, его удивило — и пришлось ему по душе. Ширах, как был, в рубашке и галстуке, попросил кого-то зашнуровать ему перчатки — и на первых тридцати секундах отправил провинившегося переростка в нокаут.
Те, кто прошел испытания, ощущали себя героями. Пожалуй, и справедливо.
На них стоило поглядеть. У всех без исключенья — светлые, золотистые, изжелта-рыжеватые волосы и голубые, серые, синие, светло-зеленые глаза. Всем — без исключенья — шла красивая, специально придуманная и пошитая форма. Мальчишки сбивали на ухо пилотки и фотографировались в обнимку на дорожках Зонтхофена.
Ширах запомнил мальчишку, который в тот день читал некую «благодарность фюреру» от имени всех поступивших. Рыжеватые волосы, зеленые глаза, а мордашка — как у ангела Вероккьо, проигравшего ученическому ангелу Леонардо[11] по мнению всезнаек-искусствоведов по всем статьям. Но Ширах никогда ничего не имел против этого ангела — ему очень нравилась рожица ребенка, скучающего на обыденной церемонии.
В тот день Лей с глубокомысленным видом бродил по дорожкам и интересовался у встреченных им взволнованных мальчиков, как им тут нравится. Ширах тенью следовал за ним, пытаясь утянуть куда-нибудь подальше — осмотреть спальни или гараж, например. В сей радостный день от Лея ощутимо тянуло старым перегаром в смеси со свежепринятым коньяком. Рассчитывать на то, что дети по малости лет не поймут, что это за амбре, Ширах не мог — половина ребят была из рабочих семей и регулярно внюхивала подобный (хоть и менее дорогостоящий) аромат от собственных отцов и старших братьев.
Но главное — дети были счастливы.
— Пожалуйста, югендфюрер… — засуетился директор, за которым бежал фотограф с орудием производства наперевес (фотографы официальные, засняв церемонию, уже отбыли), — Вы, рейхсляйтер Лей и ребята… Мы повесим эту фотографию в холле…
Но Лей как раз в этот момент словно сквозь землю провалился. Бальдур с сочувствием поглядел на растерянного фотографа — это был паренек в форме Гитлерюгенд лет шестнадцати на вид, не старше, который в некотором ступоре смотрел на Шираха — и если на ребят он еще мог прикрикнуть «пересядь!» или «улыбнулись все!», то с югендфюрером не знал как и обращаться.
— Не ссы, — почти шепотом, от которого паренек подскочил, подбодрил его Бальдур, — сейчас разберемся.
Он сел прямо на аккуратно подстриженный газон.
— Парни, а ну сюда!.. — гаркнул Бальдур на весь парк.
Мальчишки моментально сбежались, словно цыплята, которых созвала клуша, и засмеялись — югендфюрер сидел прямо в траве и ухмылялся. Они окружили его веселым кольцом, кто-то, замирая от нахальства, присел с ним рядом, кто-то остался стоять.
Юноша, как одержимый, щелкал фотоаппаратом. Бальдур вполголоса рассказывал анекдоты. Пацаны ржали.
Эти фотографии получились самыми лучшими — они просто искрились радостью. Когда у фотографа вышла пленка, ребята и не подумали разбежаться. Кто-то вынул блокнот и карандаш.
— Герр рейхсюгендфюрер, пожалуйста, распишитесь…
— Как зовут?
— Вальтер Вайль, — отчеканил высокий беловолосый мальчишка.
— Красивое имя, — обронил Бальдур.
Остальные, узрев в блокноте товарища «Вальтеру. Знамя значит больше, чем смерть. Бальдур фон Ширах» — чуть не взвыли в голос громко и завистливо — и тоже зашарили по карманам. Бальдур, улыбаясь, расписывался на самых невообразимых предметах, так-то: на промокашках, учебниках, сумках и даже, мама дорогая, на собственной физиономии с гитлерюгендского календарика. Один из пацанов не нашел у себя ни одной подходящей бумажки, зато нашел, вызвав всеобщий счастливый гогот, белейший, открахмаленный и отглаженный матерью носовой платок. Бальдур безо всяких расписался.
— Я его теперь не буду стирать, — глубокомысленно заявил паренек.
— А уж о том, чтоб сморкаться, и подумать страшно, — поддел его кто-то.
— Когда мне было семнадцать лет, — сказал Бальдур, — и я познакомился с нашим фюрером, он однажды — не помню уж, что я там такого сделал — одобрительно похлопал меня по щеке. Как думаешь, — это он адресовал владельцу исторического платка, — что бы было, если б я с тех пор не умывался?..
Мальчишки выли от смеха. Бальдур внимательно наблюдал за ними и заметил, что один из них, хоть и тоже смеется, стоит позади всех и не подходил за автографом.
Это был тот самый, с рожицей от Вероккьо.
Поймав на себе взгляд югендфюрера, он не смутился — спокойно и прямо посмотрел Шираху в глаза. И улыбнулся какой-то неуверенной улыбкой, которая вдруг потеплела и засияла.
«Вылитый я в этом возрасте. Наверно, много читает — умные глаза, очень умные.».
Ширах несколько раз приезжал в Зонтхофен.
Все помещения теперь были обжиты. В спальнях, хоть и тщательно убранных, витал запах, знакомый ему еще со времен собственной учебы в интернате в Бад Берка — узнаваемый запах комнат, где живут оставшиеся без матерей мальчишки, которым иногда лень проветривать постельное белье и стирать носки.
Постепенно белобрысики обрастали мускулами и твердым панцирем терпения. Наставники поблажек им не давали… Ширах наблюдал за их спортивными занятиями. Мда. Сам бы он в одиннадцать лет не вынес такого — они, надо отметить, тоже пыхтели отчаянно, скрипели зубами, иной раз и беззвучно плакали — но делали все, что скажут, а перейдя некий предел, возможно, открыв второе дыханье, добивались результатов — и с куражом, вызывающе смотрели на тренеров — я смог! Я МОГУ!
Они с гордостью носили врученные им на торжественной церемонии «посвящения» кинжалы — настоящие, острые, с гравировкой «Наша честь — верность».
Но как-то раз — с открытия школы уж с полгода прошло — Ширах в десять утра сам взял телефонную трубку и услышал:
— Хайль Гитлер. Рейхсюгендфюрер?..
Директор школы в Зонтхофене глухим голосом, прячущим растерянность, раздражение и страх, сообщил, что один из учеников совершил очень плохой поступок[12].
Мои извинения, югендфюрер, не телефонный разговор.
Пожалуйста. Только лично. Так будет лучше. Крупная, очень крупная неприятность, югендфюрер.
— Отто, — позвал Бальдур, — найди-ка дырку в графике…
Простите, югендфюрер, но дело не терпит отлагательства.
— Ох… к вечеру подъеду…
— Благодарю вас.
Школа встретила Шираха какою-то непривычной тишиной — не неслось криков со спортивной площадки, не слышно было и шума в классах. Директор молча провел его по коридору к лазарету, где ожидал печальный, с усталым лицом врач.
На покрытой клеенкой койке лежал мальчик, до подбородка укрытый простыней.
Ширах болезненно поморщился — это был тот самый зеленоглазый рыжик, он сразу узнал его, хотя глаза мальчика были сейчас закрыты бледными нежными веками…
Югендфюреру показалось, что мальчик без сознания — или спит.
— Что случилось? — спросил он так тихо, словно боясь потревожить спящего ребенка.
— Лотар Виллерс, одиннадцати лет, умер сегодня в девять утра, — сообщил врач нейтральным тоном.
— Да что, что случилось, я не понимаю?!
Врач сдернул простыню, обнажив бледную грудь мертвого мальчика, и показал на узкую темно-красную рану под левым соском.
— Кинжал был острый, — вздохнул он, — А пацан очень хотел умереть. Ударил сильно и точно.
Мой Бог, подумал Ширах, зачем, малыш? Одиннадцать лет!
— Почему так случилось, что ребенок совершил самоубийство? — спросил он у директора, и губы его нервно сжались.
— Прошу вас, пожалуйста, пройдите ко мне в кабинет, югендфюрер…
Директор достал личное дело Лотара Вилльерса.
— Понимаете ли, югендфюрер… Как выяснилось, мальчик не соответствовал нашим требованиям.
Ширах листал бумажки в папке.
— Какого черта, не соответствовал? — расстроенно и недоуменно вопросил он, — Да он один из лучших по всем предметам, как я вижу!
— Да. Ребенок одаренный, безусловно. Но, знаете ли… индивидуалист. Он даже обсуждал приказы. Бурчал, что не желает ходить строем даже в туалет, ну и так далее, знаете, какие иногда попадаются избалованные парши… хм, ребята. Он писал родителям слезливые письма о том, как ему тут плохо, но те, по счастью, не поддались на его причитания…
— По счастью?! — прошипел Ширах, глядя на директора совершенно белыми глазами, — ПО СЧАСТЬЮ? Вы соображаете, ЧТО говорите?! Какого черта, я спрашиваю, вы не исключили мальчика и не отправили домой, где бы он мог спокойно ходить в школу обычную? А?!
— Югендфюрер, я был намерен так поступить, но… не успел.
— Дальше.
— Кончилось тем, что коллектив от него отвернулся. Разумеется. Парни решили его расстрелять…
— ЧТО-ООО?!
— Мой югендфюрер! Да нет же, не то, что вы подумали… — засуетился директор, — просто тут у ребят «расстрелом» называется… ну, что-то вроде бойкота. С парнем никто не разговаривает, пока он не наберется ума. Надо отметить, средство весьма действенно — те, что позорят свой взвод, будучи «расстрелянными», быстро исправляются… Кто ж мог подумать, что мальчишка, вместо того чтоб подумать о своем поведении, пойдет утром в парк и воткнет там себе кинжал в сердце?..
— Вы сообщили родителям?
— Хотел бы уточнить, — осторожно произнес директор, — в какой именно форме…
Ширах глядел на него как на идиота и не скрывал этого.
— Ну, напишите, что ребенок пал смертью храбрых в борьбе с врагами, — презрительно сказал он, — Какой номер его взвода? Мне нужно поговорить с учащимися.
— Да, да, пожалуйста, югендфюрер… Они на занятиях, кажется, по истории…
Учитель истории под выразительным взглядом Шираха вышел, и югендфюрер сел не на его стул, а на краешек стола — невоспитанно, конечно, но Ширах об этом не задумывался, просто интуиция всегда подсказывала ему, как лучше вести себя. Сняв фуражку, он положил ее на лежавшие на столе учебники.
Он обвел взглядом взвод, в котором теперь не хватало одного мальчика — ребята стояли, вытянув руки в салюте.
— Садитесь.
Взвод напряженно сел. Мальчики внимательно смотрели на югендфюрера, кое-кто даже брови нахмурил, заметив, что югендфюрер глядит на пустое место за партой…
— Парни, — тихо сказал Ширах, — Лотар действительно был вам плохим товарищем?
Мальчики молчали. Опускали глаза. Кто-то заерзал, у кого-то с парты упал карандаш, Ширах заметил это.
— Подними карандаш, Вальтер.
— Есть, — Вальтер моментально поднял карандаш, и было заметно, что он польщен тем, что югендфюрер помнит его имя.
— Ты не хочешь ответить на мой вопрос, Вальтер?..
Мальчик сильно изменился за время пребывания в школе. Да и все они подросли, загорели, стали шире в плечах и выглядели взрослей своих одиннадцати…
Вальтер стоял за партой, не зная, как отвечать на столь неуставно заданный вопрос. Что значит «не хочешь ли ответить»?..
— Я… могу ответить, югендфюрер.
— Отлично. Слушаю.
— Я… — Вальтер смутился, — я… в общем, Лотар был… да нормальный он был, югендфюрер. Так, чуть странный, и все. Но он не был трусом, и плаксой не был, и не врал, и вообще. Я в общем с ним не дружил особенно, но нормально все было.
— А кто с ним дружил, есть такие здесь?
Поколебавшись с полминуты, поднялся русоволосый худой мальчишка с задней парты. Растрепанная челка, честные глаза.
— Я, югендфюрер. Мы с Лотаром оба с Вильгельмштрассе. Из Берлина.
Мальчишки заулыбались сдержанно, улыбнулся и Бальдур — ему ли не знать, что такое «мы с одной улицы»…
— Как тебя зовут?
— Рихард Линге, югендфюрер.
— Он был хорошим товарищем, Рихард?
— Для меня — да, югендфюрер. Он всегда помогал по математике — у меня, честно говоря, плохо с цифрами, югендфюрер.
Мальчишки теперь просто фыркали — видно было, что уж Рихарда-то они любят.
— А теперь объясните, за что вы устроили ему «расстрел», — вдруг сказал Бальдур совсем другим тоном.
Рихард опустил взгляд, остальные заерзали… Лишь Вальтер Вайль не растерялся.
— Нам приказал взводный командир, югендфюрер, — произнес он, — Мы же не знали, что Лотар написал что-то там в письме домой… откуда нам знать-то… мы же не читали его писем.
А взрослые здесь читают, подумал Ширах, читают чужие письма…
— Встаньте, — сказал он.
Мальчишки поднялись. Они теперь все смотрели на югендфюрера — без страха и с готовностью принять все, что от него услышат. Выполнить любой приказ. И даже понести любое наказанье — хотя виноватыми они себя не считали. Они выполняли приказ…
— Теперь, — сказал Ширах, — помолчите. Почтите память вашего трагически погибшего товарища, Лотара Вилльерса, и помните о том, что иногда нужно быть чуть внимательнее и добрее друг к другу, чем это возможно в самых жестких условиях…
Мальчики молчали. А Рихард Линге вдруг всхлипнул. И тут же глаза подозрительно заблестели у еще с полдесятка мальчишек.
— Когда я учился в школе в Тюрингии, — тихо, мягко заговорил Ширах, — у нас был там очень, очень противный пацан. Не буду говорить, как его звали — потому что он вырос вполне приличным человеком. Но тогда, в свои двенадцать, он был самым отвратительным маленьким плаксой и ябедой на свете. Мы не любили его, учителя тоже. Они видели, как он изводит нормальных ребят, и тогда один из учителей обронил — да не разговаривайте вы с ним, и все. И мы перестали с ним разговаривать. Все. А учитель сказал ему — ты сам виноват. Он ушел в лес и влез там на большое дерево. И долго там сидел. Сначала все думали, что он слезет сам, если не обращать на него никакого внимания, но он просидел на дереве до самой темноты, а когда учитель наконец решил пойти за ним — это был тот самый учитель — мы, конечно, увязались следом. Увидев учителя, пацан заревел в голос и крикнул, что он сейчас спрыгнет с дерева, да и все. Вот возьмет и спрыгнет…
Тот принялся уговаривать его, по-хорошему, потому что испугался, конечно — но пацан уже перелез на тонкую ветку на самой вершине… А мы, не сговариваясь даже, вдруг рванули к школе — весь класс. И притащили целых четыре одеяла, и растянули их под деревом. И когда пацан увидел это, он вдруг прекратил реветь и сам спустился вниз… С тех пор он ни на кого никогда не ябедничал. С него как скатило это…
Ширах поднялся, взял фуражку.
— Пока, ребята.
Родители Лотара приехали забрать тело сына этим же вечером, они были на машине, за ней следовал небольшой фургон с гробом внутри.
Взводный командир второго взвода, под началом которого парни в тот момент занимались строевой подготовкой на плацу, решительно не понял, с чего вдруг взвод промаршировал прочь с плаца — прямо ко входу в школьное здание, туда, где остановились машина и фургон.
— Взвод! Стой!..
Куда там. Мальчишки упрямо — шагом блестяще ровным и четким, будто на смотру — шли куда шли… и остановились возле машины, куда вносили закрытое простыней тело, и сняли пилотки.
Взводный сделал вид, что так и надо — пока машины не скрылись из виду, а потом его стек поднялся и опустился четырнадцать раз…
— ЭТО ЧТО ЗА ПАНИХИДА?! Это что за сопли по трусу?! А?! Кто приказал? Я спрашиваю, КТО ПРИКАЗАЛ?!
Вальтер Вайль, стоявший во главе строя, негромко ответил:
— Совесть.
— Что-ооооо?!
— Герр взводный, — раздался из дверей школы странно-тихий голос директора, — оставьте их… В казарму, взвод…
14 марта 1938 года Рональд пришел на работу, как обычно, но вместо того, чтоб играть, просто напился.
Не было теперь никакого смысла ехать в Вену — от наци не спрячешься и там. С этого дня Австрия — часть Великого рейха.
В газетах писали, что венцы забрасывали мерседес фюрера цветами.
И все равно Рональд продолжал откладывать деньги… уж очень не хотелось расставаться с мечтой об удивительном городе, в котором жила музыка.
А потом он понял, что непременно уедет… непременно. Это стало ясно ему после ночи с 9 на 10 ноября того же года…
Добрая тетка Лизбет Вайнраух прятала у себя в погребе Марию и Пауля, в то время как герр Вайнраух в своей коричневой рубашке лупил ломом по витринам еврейских лавок. Сам Ронни в это время сидел в кабачке Йозефа, там трясся за стойкой несчастный, до смерти перепуганный старик, а в руках у Ронни была не скрипка, а кочерга. Он неотрывно смотрел на Давидову звезду на стеклянной витрине и ждал только того, когда по ней с визгом поползут трещины. И тогда — тогда я вам тоже кое-что покажу, чертовы бурые крысы…
Но маленького кабачка, видимо, просто не заметили. К счастью для Рональда — он ведь был «нестарым мужчиной без физических недостатков», как охарактеризовал бы его вдохновитель погрома Геббельс. Таких отлавливали для трудовых лагерей.
Он слышал крики, и каждый женский крик казался ему криком Марии, а каждый детский — Пауля. Он с трудом удерживал себя от того, чтоб не выскочить из кабачка и не кинуться на помощь, и как молитву твердил про себя «они в погребе, в погребе, в погребе…» Никто не будет ломиться в дом старого нациста Вайнрауха. А рисковать жизнью для спасения — спасения ли? — чужих жен и детей он не мог. Смог бы, если б не было своей семьи.
— Ох, — прошептал старый Йозеф, — вот сегодня я счастлив, что нет у меня ни детей, ни внуков… Что ж это?..
Он вздрогнул, когда кто-то закребся в дверь, но Рональд без слова пошел открывать. Это не они. Они долбят кулаками и сапогами.
Это были две толстенькие девчушки в нарядных, но порванных и запачканных платьях, лица у них раскраснелись и блестели от пота и слез. Обе задыхались от плача и быстрого бега. На первый взгляд они показались Рональду похожими, словно двойняшки, и лишь потом он понял, что одна года на три старше другой. Старшая, с кровавой ссадиной на лбу, еще держалась, зато младшая, стоило Рональду запереть за ними дверь, разревелась навзрыд, повторяя «папа, папочка».
— Это портного девчонки, Валлерштайнера, — пояснил Йозеф, — вдовец он, один дочек растит. Хорошо шьет — у него Гозман костюм сшил, да ты видел…серый такой…
Валлерштайнера Рональд не знал — в кабачок он не приходил, должно быть, времени не было — раз один дочек растит. Рональд отчего-то представил себе этого незнакомого мужчину сидящим на столе по-турецки и сутулым. С шеи его свисал сантиметр, а пальцы были запачканы мелом.
А сейчас, наверное, лучше было и не спрашивать у девочек, что сталось с отцом. Старшая обняла младшую, а та покачивалась, как в трансе, прижимая к красным щекам пухлые ладошки, и плакала, плакала.
— Налей им выпить, Йозеф, — проворчал Рональд.
— Куда им, сопливым…
— Пусть.
— Разбавь им, Ронни. Валлерштайнер их строго держит, башку мне, старому, оторвет… — начал Йозеф и осекся.
Девочки посмотрели на Рональда блестящими, туманными от слез глазами, но послушно глотнули из бокалов и сморщили круглые носики.
— Дедушка Йозеф, — спросила старшая, голос у нее оказался на удивление низким, теплым, женским (при взгляде-то можно было подумать, что он у такой пышки писклявый и пронзительный), — Вы не знаете, куда они папу забрали?
— А, так его забрали? — неестественно обрадовался Йозеф, — Ну, это еще хорошо… Отпустят. Конечно.
Ничего хорошего, подумал Рональд, потому что он не вернется.
— А они все пьяные, — вдруг сказала младшая.
— Ленхен! — одернула старшая.
— Скажешь, нет? Пьяные… дураки… Пушка убили… — и тут младшая девочка опять залилась слезами.
— Кого, кого? — с недоумением переспросил Рональд.
— Кота! Смеялись еще — еврейская скотинка… И дубинкой его…
О расовой чистоте кошек заботятся, подумал Рональд. Серьезный подход…
Ронни, когда уже шел домой, видел нескольких длинноногих подростков в черных галстуках, которые бежали по разоренной улице и щелкали своими палками по самым крупным осколкам в витринах… Стекло, целое озеро стекла. И эти мальчишки в стеклянном озере — но не похоже было, что они тонут… В таких озерах, подумал Рональд, тонут только еврейские дети…
Дома было тихо.
Рональд заметил барабан, стоявший на тумбочке. И сразу понял, что сейчас сделает.
Перочинный нож — тот самый — все еще болтался в его кармане.
Он с удовольствием услышал треск, с которым разошлась под лезвием барабанная кожа. Хватит.
Пауль не сказал ни слова.
Рональд снова не знал многого. Ему хватило тех детей в стеклянном озере, чтоб обвинить и в этом того, кого он давно уже звал про себя Крысоловом. Он не слышал, как 9 ноября трещали телефоны и телетайпы в берлинской резиденции югендфюрера. И не видел, как молодые парни с нашивками гебитсфюреров в испуге вжались спинами в стену, когда у мягкого и интеллигентного югендфюрера молнии полетели из глаз, и он в ярости грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнула тяжелая печатная машинка…
— Я! Сказал! Не сметь! Участвовать! В этом! Вандализме!!![13]
Гебитсфюреры смотрели ясными глазами. Ты сказал? Будь по-твоему.
Звонок Бормана не заставил долго себя ждать. Бальдур словно почувствовал — и оказался у телефона прежде, чем это успел сделать Отто.
— Кажется, — Борман обошелся без приветствия, — мы снова собираемся ругаться?..
— Не понял.
Запал у Бальдура еще не прошел, и разговаривал с Борманом он не по-своему уверенно, даже грубо.
— Я хотел бы знать, — Мартин Борман не повысил голоса и на четверть тона, — какие указания получены сегодня фюрерами Гитлерюгенд.
— Я перед вами не отчитываюсь.
— Как ты сказал?..
— Можно подумать, вам неизвестно, что все рейхсляйтеры подчиняются только и непосредственно фюреру?
— Позвони фюреру, Бальдур.
Борман повесил трубку.
— Будешь звонить? — спросил Отто.
Не понадобилось. Телефон затрещал снова — а ведь минуты не прошло.
Глуховатый голос поинтересовался:
— Как дела, Ширах?
— Как сажа бела… мой фюрер.
— А что случилось?
— А то, что мне, черт побери, мешают работать, — Бальдур решил, что лучший способ защиты — это нападение.
— Кто же это у нас превышает свои полномочия? — позабавленно спросил Гитлер.
— Может быть, я чего-то просто не знаю, мой фюрер? Но не понимаю, почему у меня требуют отчета… другие рейхсляйтеры.
— Скажи другим рейхсляйтерам, чтоб занимались своим делом.
— Я так и сказал.
— Молодец. Но, собственно, что я хотел бы знать… Ты же знаешь о завтрашней акции?
— Знаю, конечно.
— Необходимость.
— Да… мой фюрер. Но, — Бальдур снова очертя голову бросился в атаку, — я действительно считаю, что Гитлерюгенд не должен иметь к этой… акции ни малейшего отношения. Это же дети, мой фюрер…
— Твоим старшим парням по 17…
— Что с того?
— Сам ты в семнадцать охранял меня в Веймаре и лупил красных на улицах. Помнишь?
— Это другое дело, мой фюрер…
— Не понимаю, отчего ты не хочешь позволить парням подраться с врагами… Сам ты в их возрасте не раздумывал, нет?
— Я говорю — это большая разница…
— Где ж она? Не вижу.
— Красные защищались, мой фюрер. А евреи… не будут.
— Рыцарь хренов.
Бальдур прекрасно знал, что кое-какие подростковые экземпляры все равно потянутся за отцами и братьями, несмотря на запрет.
Когда ночь с 9 на 10 ноября взорвалась первыми выстрелами, воплями и звоном битого стекла, югендфюрер сунул в карман револьвер и сказал:
— Пошли, Отто…
— Куда?!
— Погуляем…
Молодого парня пинками гнали по улице, он спотыкался и пытался оглянуться на свой дом — и рванулся назад, услышав пронзительный вопль. Но его так ударили по лицу кастетом, что он с полминуты шатался, повесив голову, едва не падая, а потом сплюнул кровью и осколками зубов. Губы его почернели.
Женщина — должно быть, это была его мать — слепо рвалась за ним, но смеющиеся коричневорубашечники раз за разом отбрасывали ее к порогу дома, по очереди, словно с мячом играли, и лупили по живому с той же бездушной яростью, как лупят по бессловесному кожаному мячу.
Отто крепко взял Бальдура за плечо, видя, что тот готов натворить глупостей. Сам Отто уже не смотрел в ту сторону — хватит. Нелегко смотреть на такое… Бальдур же — Отто ощущал это — затрясся и вздрагивал от каждого вопля, словно удары доставались ему. Он, для которого поднять руку на женщину было несмываемым позором, смотрел на все это так, как, может, смотрел бы на тех же парней, решивших поджарить человека на ужин. Ведь это женщина. Каждый волосатый кулак, ударяющий в мягкую грудь, способен убить ее — не сейчас, так чуть позже, когда поврежденная ткань тяжко нальется сизой мертвой кровью…
Да нет, нет. Она и не женщина для них. Женщин пьяные герои обычно насилуют — это страшно, но все же не так, как ЭТО.
Члены авиационной секции Гитлерюгенд, 16-летние Рольф и Ганс, безусловно, уже знали о том, что участвовать в погроме запрещено — и расценили это указание как идиотское. Ладно там, малышня — ей действительно тут делать нечего, но им-то, крепким тренированным ребятам, какого черта сидеть дома? Пархатых бояться?
— Правильно, — оценил их готовность к бою старший брат Рольфа, штурмовик Стефан. Он налил парням пива и похлопал их по плечам.
Пьяные от пива и собственной храбрости, они вооружились ломиками и выскользнули на улицу вслед за Стефаном. Хотелось что-нибудь разбить или кого-нибудь побить. Им было жарко, несмотря на ноябрьский холод, и они расстегнули куртки. Ветер играл с черными галстуками, овевал разгоряченные лица.
На улицах было светло от факелов. И были прекрасно видны шестиконечные звезды на витринах… каждая такая витрина должна была осыпаться осколками стекла.
Рольф и Ганс успели грохнуть парочку еврейских витрин, когда Ганс вдруг обернулся и опустил лом. Рольф непонятливо взглянул на него и обернулся в ту же сторону… и быстро переложил ломик в левую руку, а Ганс так и вовсе бросил свой, и правые ладони мальчишек вскинулись над головами:
— Хайль, югендфюрер!
Ширах стоял посреди улицы — узнать его можно было издалека, по пижонскому светлому плащу и длинному черному шарфу. Руки он держал в карманах. При нем не было ничего, напоминающего оружие погромщиков — ни ломика, ни дубинки. За его спиной маячил его адъютант.
Физиономия Рольфа расплылась в улыбке. Вот, он так и знал. Так и чувствовал, что этот запрет — формальность. Раз уж сам Ширах не удержался от того, чтоб попугать пархатых…
После первого его вопроса Рольф засомневался, правильно ли понял его. Голос Шираха был непривычно тихим, грустным.
— Что делаем здесь?..
Рольф и Ганс растерянно переглянулись. Что можно было ответить? Тем более что было прекрасно видно, что они тут делали…
— Из вас выйдут плохие солдаты, — печально произнес Ширах, — вы не понимаете, что такое приказ. Мне чертовски стыдно за вас перед фюрером.
Парни опустили глаза.
Но Ширах был бы не Ширах, если б не боялся наказать невиновных. И потому спросил:
— Вам было известно, что я запретил Гитлерюгенд участвовать в этом… безобразии?
Это был шанс. Соврать, что неизвестно?.. Но ведь тогда спросят с фюрера отряда… ох, нехорошо получится. Да и трусость это — врать.
— Ну, известно, — пробурчал Рольф.
— Не слышу.
— Известно!
— И что вас заставило все-таки делать это?
— Ну…
— Погеройствовать захотелось, да?.. Понимаю. Но простить не могу.
Ширах горько вздохнул. И произнес страшную фразу — Рольф и Ганс ушам не поверили, да пришлось…
— Снимите галстуки. С сегодняшнего дня… точней, с сегодняшней ночи в Гитлерюгенд вы не состоите.
Две пары глаз, полных отчаяния и ужаса, умоляюще уставились на него.
— Герр югендфюрер…
— Герр фон Ширах…
— Простите…
— Мы не будем…
— Пожалуйста… — бормотали кривящиеся мальчишеские губы.
— Снять галстуки!
Дрожащие пальцы затеребили черные узлы. Рольф еще держался, у Ганса слезы закапали на рубашку…
— О, еще одни, — вдруг сказал Отто.
Из-за поворота весело выбежали еще трое пацанов с дубинками в руках… Выбежали — и застыли. Мизансцена была слишком выразительной.
— Что стоим? — спросил у них Ширах, — Галстуки снимайте…
— Ну ты дал, — сказал Отто, когда они под утро возвращались домой, — Двадцать человек, Бальдур! 20 шестнадцатилетних пацанов! И ведь наверняка не худшие ребята…
— Плевать мне, худшие они или лучшие.
— Ну все. Теперь от их фюреров тут отбою не будет. Сегодня же прибегут за них просить… Шутка ли — куда им теперь, этим ребятам?
— Раньше надо было думать. И не дави мне на психику.
— «Они же дети, мой фюрер», — тихо сказал Отто, цитируя разговор Бальдура с фюрером.
— Ага. Как евреев бить, так они большие, а как за свои поступки отвечать — так дети… Дети, мать твою! Лоси выше меня! Да еще и пьяные были — чуть ли не половина… Позорище!
Бальдур рычал, но Отто не слышал в его голосе настоящей злости — югендфюрер успел уже подумать об этих пацанах и пожалеть их. Да так ли уж они виноваты — чего и ждать от детей, которых заразили взрослые. «Твои крысы и крысенята», вспоминал Бальдур гневный голос Рональда Гольдберга. Ох, Рональд. Тебя можно понять, но, тем не менее, ты так же жесток, как твои враги. «Крысенята»…
Отто был прав — приходили, просили… и выпрашивали-таки то, что хотели.
— Три месяца испытательного срока…
Бальдур не хотел оставлять глупых мальчишек без будущего.
После «Хрустальной ночи» перед Рональдом уже не стоял вопрос об отъезде из Мюнхена. Тем более что долг было теперь отдавать некому — старую Нору нашли на пороге ее дряхлой антикварной лавки с раскроенным черепом. Надо заметить, что уж она-то не сдалась просто так — и сама едва не разнесла молодому эсэсовцу гнилую тыкву брутальной бронзовой статуэткой, изображавшей пышную Венеру.
Ее поклонник, Берштейн, ушел в эту ночь следом за ней — кто-то из штурмовиков толкнул его так, что старик упал, ударился седым затылком о мостовую и не поднялся больше.
Глупость глупостью, думал Рональд, затаскивая в вагон чемоданы — ехать из одного нацистского города в другой. И все же… разница есть. Вена — это Вена… А Мюнхен — именно тот город, откуда расползлась по Германии вся эта зараза. Даром, что ли, хозяин каждой местной пивной готов любому рассказать, что «именно здесь в 192-черт-те-каком году наш фюрер…»
Пауль молча смотрел в окно вагона, заплывающее дождевыми каплями. Интересно, есть уже в Вене Гитлерюгенд? Должно быть, есть…
Есть ли работа для музыканта? — думал Рональд. Конечно же, есть. Ведь это Вена…
1942. Я знаю, жив Спаситель мой. Рейнхард, Рональд, Рихард
Было 5 мая 1942 года, уже совершенно по-летнему теплый день, правда, немного сумрачный… Работы было немного, и гауляйтер Вены болтал с адъютантом обо всем, что приходило в голову. Адъютантом — особенным, самым родным из всех — был все тот же Отто, повзрослевший и ставший еще серьезнее. Он уже был на войне и потерял на русском фронте правую руку — но это ему не мешало, все, что нужно, он выучился делать одною левой и по-прежнему блестяще исполнял свои обязанности.
— Да, Бальдур, — сказал Отто, — что бы ты хотел получить от меня на день рождения?
Через 4 дня Бальдуру фон Шираху должно было исполниться 35.
— Мой Бог, Отто, не говори глупостей. Бриллиантовую свастику.
— Но серьезно.
— Не знаю я…
— Хорошо, куплю тебе бутылку «Хенесси».
— И выпьем ее с тобою. Отлично. Только, наверное, не в тот день, потому что сам знаешь что тут будет. Понаедут, понимаешь, всякие-разные…
Отто усмехнулся. Иногда Бальдур, думая о чем-то своем, забывался и говорил с ним так, словно он все еще был тупеньким рабочим парнишкой. «Всякие-разные»… шишки Рейха, которые соберутся в салоне Хенни фон Ширах, Геринг с изумрудом на пузе, Лей в белоснежной манишке, дамы в мерцании вечерних нарядов. Всякие-разные, тоже мне. Со своими любимыми «всякими-разными» — парнями из Гитлерюгенд — Бальдур будет отмечать свой день рождения не там и не тогда.
Хенни, жена Бальдура, обещала приехать завтра и привезти детей — они проводили весну и лето то в Берхтесгадене, то в охотничьем домике в Урфельде. Бальдур полагал, что так лучше для детей, а Хенни — что так лучше для всех. Никто не мешал ей в Урфельде встречаться с мужчинами, и никто не мешал встречаться с мужчинами ее мужу в Вене… А что до детей — им все одно лучше было с матерью. У Бальдура в Вене свободное время имелось лишь по ночам. Теоретически. Если б не было Отто.
— А кого б ты хотел видеть на самом деле?
— Своих детей, Отто. И наших ребят. Инницера…
— Детей, ребят, этого попа, понятно. А из этих?
— Да черт знает. Геринга. С ним не соскучишься. Тех, кого нет — Пуци и Гесса. Ну, Райнхарда. Да, пожалуй, его б я хотел видеть… Ему и ехать близко.
Отто машинально посмотрел на карту. Да уж, чего тут ехать, из протектората Богемия и Моравия до гау Вена. Смешные расстояния, маленькие территории — лоскуты Великого Рейха.
Райнхард Гейдрих был один из немногих оставшихся членов старой НСДАП, кто был Шираху очень, очень по душе (хотя познакомились они куда позже, чем он был знаком со всеми остальными). И, насколько мог судить Отто, ничего удивительного в этом не было — у них было много общего, во всяком случае, оба очень любили музыку и обожали обсуждать книги. В общении Райнхард — во всяком случае, в общении с Бальдуром — казался очень мягким, интеллигентным человеком. Может, потому, что Ширах ему тоже нравился. Отто понять не мог, слушая их разговоры, за что Гейдриха прозвали «человеком с железным сердцем».
Роднила их и одна не слишком хорошая черта. Стоило загулять — и море было обоим по колено. Очевидно, то были неизбежные издержки интеллигентности и прекрасных манер.
Правда, случилось это у них всего раз, но Отто запомнил. Трудно было не запомнить.
Они как раз были в гостях у Гейдриха, когда к вечеру Райнхард и Бальдур вдруг взяли и провалились куда-то. Фрау Гейдрих, конечно, не собиралась просить чужого адъютанта о том, чтоб пошел вытащил ее мужа и его приятеля из кабака — да и незачем было, Райнхарда уже активно разыскивали адъютанты собственные. Бессонная фрау пила валерьянку и твердила — только не за руль, Райнхард, нет.
— Ложитесь спать, — вежливо сказал ей Отто, — если они явятся, я открою…
Явление случилось глухою ночью, часа так в три. Отто уже успел задремать, сидя на калошнице, и открывать дверь ему не понадобилось — они то ли легко открыли, то ли просто не заметили ее. В таком состоянии они, пожалуй, и сквозь стену прошли бы без потерь.
Голоса они понижать не трудились.
— Боже, — пробормотал Отто, притворяясь шинелью, — Райнхард и Бальдур играли в гестапо…
Вспыхнул тусклый свет.
— А, ммммать! — взревел Райнхард вдруг, — Почему я должен КАЖДЫЙ ДЕНЬ глядеть на эту рожу, а, Ширах, скажи мне, друг?!
— Какую р-рожу?!
— Вот эт. Блядь. Пархатый содомит какой-то.
— Э, Рейни[14]. Друг… Не путай… Пархатый, это может и ты, а содомит — эт я…
— Лучше быть… содомитом… чем…
И тут Отто оглох — раздалась жуткая пальба, сопровождаемая звоном разбитого стекла. Не иначе как Райнхард спьяну и сдуру палил в огромное антикварное зеркало в прихожей… Отто, нечаянно узнавший очень интересную подробность его биографии, затаил дыхание.
В доме уже начался переполох. Фрау Гейдрих сочла за лучшее не показываться. Два адъютанта толклись на лестнице и страдали — они боялись шефа с пистолетом. Один лишь мой дурачок ничего не боится, с досадою подумал Отто. И впрямь. Бальдур с пьяным бесстрашием приобнял Рейнхарда за плечи и промурлыкал совершенно непотребным голоском:
— Скажи, Р-рейни… а ты обрезанный?..
— Хочешь проверить, а?
— Н-нет. Я спать хочу. И ты тоже.
— Сгинь, дррруг!
— Не сгину, друг…
— Эт ты меня уважаешь? Я этот… как его… еврейская морда!
— Не… ты истинный… ариец…
— Ты на мой клюв… посмотри…
— Мой — больше…
— Меньше…
— Ну хочешь, я тебе дам в с-сопатку? Будет… другая форма…
Они уползли в гостиную и еще с полчасика обсуждали там расовые вопросы, после чего мирно вырубились на ковре…
Иногда Отто — ясно, когда они с Бальдуром были дома, без посторонних ушей — поддразнивал его Райнхардом.
— Нравится он тебе, не ври…
— Он мой друг, Отто.
— И ничего больше?
— Отстань.
Обычно Отто всегда удавалось расколоть Бальдура на то, чтоб выяснить, кто и как ему нравится. Но не в этом случае. То ли Бальдур не хотел говорить лишнего о Райнхарде, то ли сам очень хотел что-то скрыть. И лишь один раз обронил:
— Ты видел его с рапирой?
— Видел.
— С ума сойти.
Отто случилось вместе с Бальдуром наблюдать домашнюю тренировку Гейдриха с адъютантом на рапирах, и он был совершенно согласен с шефом — с ума сойти. Длинный, с длинными конечностями, светловолосый Райнхард и в танце, наверное, не выглядел бы более изящным, чем с тоненьким убийственным лучом рапиры в руке…
Разумеется, он приехал на день рождения Бальдура — и привез ему в подарок… как раз рапиру. Очень дорогую спортивную игрушку.
— Тебе же нравится этот вид спорта, мне кажется?
— Спасибо, Райнхард… Нравится. Но куда мне… я этим занимался только в молодости, да и то кое-как.
— Чушь, — Райнхард улыбнулся одними глазами, как обычно, — Вспомнишь легко. Помогает держать форму. Я всегда полагал, что этому легко учатся те, кто хорошо танцует. Я тебя поучу, дай выбрать время. Тебе это очень пойдет, Ширах. Кажется, тебе в любом случае холодное оружие идет больше, чем огнестрельное — ты сейчас похож на средневековую фреску. Дай подумать, скажу, на какую именно. А может быть, ты мне напоминаешь кого-то с картин раннего Ренессанса…
— Хм. Вспоминай, Райнхард… О. Позволь тебе представить герра Инницера… — Бальдур развернулся на каблуках, краем глаза поймав мягкий строгий взгляд, — Герр Инницер, позвольте представить вам…
Отто мучился с самого начала приема.
Присутствовать в обычном своем качестве адъютанта он собирался так или иначе, но вынужден был по настоянию Бальдура напялить смокинг. Чем плоха парадная форма — у него была шикарная форма, наподобие формы гебитсфюреров Гитлерюгенд, но с другими нашивками — Отто так и не понял, но смокинг послушно надел. Он не то чтобы презирал штатскую одежку — просто в нем глубоко-глубоко, но все же прятался рабочий паренек из Лика. Смокинг смущал его и мешал ему жить. Бальдуру хорошо, думал Отто, его с шестнадцати лет приучили надевать эту дрянь по вечерам…
Да, Отто мучился, но момент знакомства Гейдриха и кардинала Инницера не упустил.
И его ощущение подтведилось — они были похожи.
Отто заметил сходство давно, но никогда ничего не говорил Бальдуру. Тот много лет назад объяснил ему: каждый видит свое, смотрит своими глазами, в трупике вороны на снегу один увидит падаль, другой неплохой обед, а третий — центральный образ картины «Боярыня Морозова» (впрочем, добавил Бальдур, в том случае ворона была вроде живая, но ты меня понял, да?). Отто никогда не видел картины «Боярыня Морозова», ну не попадалась она ему, но мысль уловил. И потому даже не решился объяснять, в чем он находит сходство и родство между длинным белобрысым эсэсовцем и маленьким круглоголовым священником — боялся не найти нужных слов. Сейчас было заметно, что даже внешне есть нечто общее — сдержанная, чуть отстраненная по отношению к ближнему мягкость манер, лишенная, тем не менее, всякого желания нравиться (не то что у Бальдура, который мог и пококетничать, и попозировать), но не лишенная обаяния (опять же не бальдуровского — тот, когда был в порядке, обладал обаянием неотразимым, берущим за душу). А что до нутра… и тот, и другой были как стрелы, летящие в цель. Долгий взгляд такого человека выдержать трудно — стрела летит, летит и вот-вот пронзит тебя…
Отто не мог понять, с какою целью Бальдур познакомил гестаповца со священником.
— Из-за Бормана, — признался Бальдур потом, — Мне будет легче, если что. Если он привяжется, Райнхард мне поможет.
Ох, не факт, подумал Отто.
….Кардинал грустно улыбнулся, когда Бальдур лично приехал к нему, дабы пригласить на свой день рожденья.
— Кажется, ваше руководство не одобряет общения гауляйтеров с представителями церкви?
— О да, Борман не одобряет. Но его у меня не будет. А вы можете надеть штатское, — хулигански усмехнулся Бальдур.
— Мирское, Бальдур, — улыбнулся кардинал. Можно подумать, кого-то обманет этот маскарад… но инициатива Бальдура пришлась святому отцу по душе — ведь в первую очередь рисковал он, гауляйтер. Может, и глупый риск… а впрочем…
— Бальдур, мне нравится, что вы не боитесь действовать вопреки идиотскому запрету вашего начальства. Была ни была, приглашение я принимаю.
…Кардинал Инницер, само собою, был на традиционном приеме, устроенном в честь нового гауляйтера. Правда, явился туда с неохотой — он давно уже не ждал ничего хорошего от нацистов с их викингами, нибелунгами, сагами и рунами, прежний гауляйтер — Бюркель — был точь-в-точь все они, но из дурковатых, ему и до саг с рунами не было никакого дела.
Бывали среди них и неглупые, это Инницер признавал, но Бюркель к ним не относился. Серый (точней, хм, коричневый) и злобный наци, полусолдафон-получинуша, говорить с таким не о чем, все равно, что захочет, то и сворочает.
Бальдура фон Шираха до этого Инницер лично не знал, но газет, радио и «Триумфа воли» было более чем достаточно. Из дурковатых. Глупый щенок. В Вене известно было, что Ширах отозван фюрером с фронта — значит, подумал Инницер, это не просто глупый щенок, но уже и научившийся убивать. Бюркель номер два. Даром что сын театрального директора. А может, и благодаря этому. Инницер помнил его отца.
Инницер увидел то, чего никак не ожидал увидеть. То ли это не тот Ширах, подумал он тогда, то ли война и впрямь святое дело, коль так меняет человека, то ли…
Это «то ли…» и решило всё. Инницер не любил не знать и не понимать. А тот, кого он увидел вместо ожидаемого Шираха, стоил того, чтоб понять.
Он так рад всем нам, подумал кардинал, и действительно ведь рад — не ломается. Устал, бедолага, и от фюрера, и от войны?
Синие глазищи нового гауляйтера были странно-живыми и доброжелательными для нациста, да еще такого нациста (в НСДАП с 1924!), и глазами этими были побиты все прочие карты — и легкая высокомерная натянутость аристократа, и военная выправка офицера «Великой Германии», и привычная еще югендфюреру властность в голосе и манерах.
Наблюдая за ним, Инницер испытывал растущее желание взять этого потерявшегося в аду Орфея за руку и увести в более подобающее для него место. Впрочем, для Шираха таким местом теперь и была Вена…
Инницер пригласил его к себе на ужин — и нисколько потом не пожалел об этом. Может, потому, что о национал-социализме кардинал хотел поговорить с гауляйтером в последнюю очередь.
Когда разговор зашел о живописи, Инницер, увидев, как при мимолетно упомянутом им имени Ренуара лицо Шираха засияло, подошел к своим книжным полкам и осторожно вытянул толстую книгу. О Ренуаре, с отличными репродукциями, скорее альбом, чем книгу — текст там был неплох, но его было мало. Ну зачем много болтать о художнике, когда можно взглянуть на работы.
— Пожалуйста, не откажитесь принять от меня этот подарок, герр гауляйтер.
— Боже… благодарю.
Инницер увидел, как Ширах, по привычке всех тех, кому нравится читать книги, раскрыл ее, чтоб взглянуть на титульный лист — и не понял, почему гауляйтер вдруг заулыбался, неудержимо-счастливо, словно ребенок, потерявшийся на ярмарке и услышавший наконец, сквозь страх и усталость, оклик матери…
— Смотрите… — пробормотал Ширах, указывая кардиналу на имя издателя.
— Ну да, — сказал Инницер, — Всегда жалел, что Эрнст Ханфштенгль уехал — первоклассный издатель, что говорить…
— Он… был моим близким другом.
Ах, вот оно что. Случайная книга представляла из себя подарок куда более ценный, чем думал Инницер. Привет от друга… Надо же, подумал он, спасибо тебе, Господи, за то, что так точно направил руку мою. Кажется, Шираху это было нужно.
Вскоре герр гауляйтер стал для Инницера просто Бальдуром. А он для Бальдура…
— Меня вполне устроит «святой отец», — мягко сказал Инницер, — или, если это проблема…
— Нет, — быстро ответил Бальдур, — почему бы проблема?..
Потому, подумал Инницер, что Бог вас, язычников и идолопоклонников, разберет, что у вас и как в головах и душах.
— Вы крещены в католической вере? — спросил он.
— Да, как ни странно. Мой отец католик, мать протестантка.
— А как звучит полное ваше имя, простите праздное любопытство?
— Бальдур Бенедикт. А… какое это имеет значение?
— Да никакого.
Для вас, подумал Инницер, но не для меня. По мне, так хватило бы и Бенедикта. Вот уж эти богемные франтики-вертихвостки, обязательно надо выделиться еще и так — назвать свое дитя каким-нибудь таким-этаким имечком.
Он ничего не имел против старогерманских имен, но к откровенно языческим испытывал необъяснимую настороженную неприязнь, сам понимая, что в этом нет никакой логики — среди нацистов было достаточно носителей христианских имен, да что толку.
Новый гауляйтер Вены оказался тем, кого тут безнадежно ждали.
Концерты, спектакли, выставки и кабаре вновь расцвели и радовали отвыкших от этого под железной пятой Рейха венцев. В одном из кабаре — «Веркль» — его и сам гауляйтер не оставлял вниманьем — пели такие куплеты, за которые можно было влегкую загреметь в Дахау. В любом городе — но не в Вене, спасибо, фон Ширах.
Правда, Геббельс все же пронюхал, и приехал, и задал гауляйтеру трепку. Но венцы серьезно не верили, что хромая мартышка сможет утереть нос их стройному красивому гауляйтеру…
— Бальдур, — сказал однажды кардинал после концерта, где исполнялся Чайковский, в музыку которого, с ее некоторой сентиментальностью, гауляйтер был просто влюблен, — вы Пушкина знаете?
— Знаю… — хитро улыбнулся Бальдур. Прошли те времена, когда он спрашивал Эльзу Гесс, кто таков будет царь Кащей. Русский поэт арапского происхождения сразу заинтересовал его, и Бальдур долго тряс Пуци, чтоб тот раздобыл ему переводы.
Переводы стихов, на взгляд Бальдура, были не очень удачны (он пожалел, что не знает русского), но «Маленькие трагедии», написанные не в рифму и потому не очень стеснявшие переводчика, его потрясли. Его наповал убила эта МОЩЬ, эта способность сказать на десяти страничках то, из чего посредственный поэт сделал бы пятиактовую трагедию с толпой невнятных героев с дурацкими именами и заунывными монологами. Пушкин был так же божественно точен, как Шекспир, хоть и глупо, конечно, сравнивать.
Инницер удивился, но — чем черт не шутит с этим гауляйтером, иной раз удивишься…
— Знаете, Бальдур, вы очень напоминаете мне сейчас одного пушкинского героя. Угадаете?
Ширах задумался — смешно задумался, походил на школьника у доски под угрозой розги — морщил лоб, хмурил брови, прикрывал глаза. Словно бы изо всех сил старался показать строгому учителю, что учил, учил, честное слово, учил, а вот теперь забыл, черт… Но Инницер знал, что Ширах не ломается — просто у него вообще была очень живая мимика, что в голове — то и на морде, а в ответственные моменты он и вовсе терял над собою контроль…
Кардинал долго наслаждался мучениями гауляйтера.
— Меня уже в ту дивную славянскую поэму понесло, — пожаловался тот, — вот сейчас скажете — «За ним Фарлаф, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей»?
Инницер засмеялся:
— Ваш железный крест отменяет Фарлафа. Да и нет между вами вообще ни малейшего сходства.
— Не он? Значит, этот, который с душою прямо геттингенской?
— Упаси вас Бог от его судьбы.
— А что, меня тоже на дуэль вызывали, и не однажды.
— Дрались?
— Нет. Фюрер всегда узнавал — и давал мне по шее. Моя жизнь ему была важней моей чести, — ухмыльнулся Ширах, — Сдаюсь, святой отец.
— «Эй, Вальсингам»…
Ширах понял сразу.
— Да еще и святой отец тут рядом, — сказал Инницер, — но, в отличие от того служителя Господа, я ни секунды не собирался взывать к вашей совести, дабы вы не устраивали в Вене пир во время чумы.
Они все же поговорили о вере — потом, позже — и Инницер остался доволен. Не тем, что услышал от Шираха набор сверхъестественных глупостей, но тем, что тот безо всяких признался:
— Честно говоря, мое образование во всех этих вопросах — когда я говорю «во всех», это и значит «во всех» — я сам нахожу крайне поверхностным. Я всегда любил то, что поражало мое воображение, и только.
— Стало быть, — Инницер не мог не задать этого вопроса, — христианский миф не тронул ваше воображение? В отличие от мифов языческих?
— Вы сказали «христианский миф», — улыбнулся Бальдур, — Нет. Во всяком случае тогда. В тот момент, когда человек еще не знает, что станет его верой, но испытывает горячую потребность в ней.
— Я был бы очень рад, Бальдур, если б вы объяснили мне, почему. Я знаю, что вам трудно мысленно вернуться в тот возраст, но… попробуйте, порадуйте меня.
Ширах ненадолго задумался.
— Может, потому, что это было обыденно. Общепринято, понимаете ли, святой отец? Католическая обрядность была частью повседневной жизни. Я не почувствовал ничего особенного во время конфирмации.
«Да не ты один», — подумал Инницер, но вслух сказал:
— А если посмотреть глубже? Во время конфирмации вам было 13 лет. Но дальше-то? Вы никогда не интересовались ни библией, ни личностью Христа, ни вообще всем этим? Вспомните. Только не торопитесь.
Инницер был совершенно точно уверен, что момент временного отторжения Бога истинного — это именно момент. Есть миг, час, день, когда человек не находит ответа на свои вопросы — и говорит: нет, Ты мне не нужен, потому что нет на мои молитвы ответа.
Ширах честно вспоминал.
Инницер смотрел на него — и видел, что тот действительно старается — в полную меру возможностей взрослого человека — вспомнить, что же было тогда, когда Бог еще только слово в устах отца, молитва, поездка в церковь, нудятина полная.
— Никак? — тихо спросил кардинал.
— Никак, ничего. Абсолютно ничего.
— Вы и Бога никогда не поминали? Хотя бы по примеру взрослых? Не обращались к Нему — ни с какими просьбами, например?
— Бога я, по примеру взрослых, поминал только всуе. Сами знаете, как у нас. «Мой Бог!» — междометие, да? И Библию я читал, но… честно говоря, просто для ознакомления. Ради прозы.
— Ну надо же, — сказал Инницер, — Впрочем, я не поражен… Хорошо, подойдем с другой стороны. Вы музыку любите? — да, я знаю, любите. А какую?
— Полный список?
— Полный не нужно. Но то, что… вам наиболее близко.
— Эээ… Гендель…например, а еще…
— Простите, что перебил. А что у Генделя любите больше всего?
— «Я знаю, жив Спаситель мой», — ошарашенно ответил Бальдур, — ну, ария из «Мессии»…
Глаза Инницера вспыхнули кострами, голос — всегда ровный, всегда спокойный — перешел на низкое рычание, словно голос льва св. Иеронима, говорящий не слышимую никем правду, и не вопросы он задавал — звучали они утверждениями:
— Что? Дыхание замирало? Слезы выступали — под эту музыку, а?..
— Хуже, я под нее чуть не кончал, — зачарованным шепотом ответил Бальдур. Чем, в свою очередь, несколько ошарашил Инницера, но тот быстро взял себя в руки:
— И после этого вы говорите, что не христианин?.. Вы любите музыку, восславляющую Господа, вы — я знаю — любите искусство, восславляющее и Его, и лучшее из Его творений, и весь мир, Им созданный. И вы не верите в то, что Он послал сына Своего спасти этот мир?..
— Да верю. Только ничего не понимаю, — с наивной улыбочкой отозвался Бальдур.
— Чего не понимаете?..
— Ни-че-го.
После часа битого, потраченного на ненужные по мнению Инницера и несостоятельные по мнению Бальдура объяснения, Инницер уверился: во-первых, в том, что имеет дело с заблудшей в самом худшем смысле слова душою; во-вторых, в том, что душа эта стоит спасенья и жаждет его.
Да, Ширах не вдохновлялся христианской верой, которую Инницер назвалмифом только для того, чтоб наци попал на крючок, — но и языческими бреднями он, этот наци, не дышал. Он вообще жил без религии — и, кажется, без малейшей потребности в ней…
Что же до спасенья души — Инницер замечал, что Ширах очень часто не находит себе места на этом свете. Но к Богу обратиться ему и в голову не приходит.
— Скажите, Бальдур, правда ли, что вы не запрещали детям из Гитлерюгенд верить в Бога?
— Правда… Я подумал — жестоко отбирать веру у тех, кому она нужна.
Не было у Инницера ни желания, ни таланта вести глупые споры о том, есть Бог или нет, а если есть, то какой. Для него вера была стержнем жизни, христианская вера, прощение и милосердие; и ничего он не мог сообщить нового Шираху, не верящему ни в какое прощение-милосердие Божье, кроме того, что…
— Настанет момент, Бальдур, когда вы будете искать последний угол, куда приткнуть свою душу. И углом этим станет Бог.
Но тогда до последнего угла Бальдуру было еще далеко — хоть и ехал он в Вену с осадком на душе. Не было сомнений, что кто-то — скорей всего, Борман — помог рейхсюгендфюреру расстаться с должностью.
Странно, но Ширах никогда не узнавал Бормана на фотографиях таким, каким его знал. На фотках — даже отличных гофмановских — был небольшой, серьезный, крепкий человек, напоминающий ладненькую кадочку с маринованной селедкой. Но Ширах — стоило ему столкнуться с Борманом — ощущал его не как теплое, живое человеческое существо, а как нечто вроде травящего газа — удивительного, без запаха, цвета, вкуса, без режущей безысходности, которая вмиг скручивает отравленному желудок, слепит глаза и заливает разноцветными чернилами мозги. Мартин Борман был чудо-газом, который травил избирательно и постепенно.
Однажды Ширах спьяну сболтнул об этом пьяному же Роберту Лею. И тот отреагировал сообразно своему химическому образованию:
— А ты, — старые, первые члены НСДАП все поголовно «тыкали» Шираху, ибо считали, что это в их праве, раз уж они помнят его семнадцатилетним; некоторых из них Ширах удачно ставил на место; с Леем — ему было даже приятно это «ты», как с Гессом, — Ты, Ширах, наверняка представляешь из себя такое химическое соединение, которое не совмещается с Борманом?.. А что ты делаешь, когда вы смешиваетесь? Улетучиваешься или сгораешь?..
— Сгораю… со стыда за фюрера.
— А я предпочитаю улетучиваться… подобру-поздорову.
«Значит, фюрер теперь пребывает в полной уверенности, что я недостоин больше воспитывать немецкую молодежь, — с обидой думал Бальдур, глядя из окна купе на убегающие огни, — И это после всего, что я сделал…»
Он совершенно верно считал главным и лучшим своим достижением создание самой массовой молодежной организации в истории. А уж как нелегко далось соответствие организации все время декларируемому им принципу «молодежь должна руководить молодежью»! Кто только не пытался прибрать к рукам это автономное нахальное государство — и СА, и СС — но Ширах тут же превращался в красивого, синеглазого, но не принимающего подачек цербера у врат своей молодой страны, а воспитанные им югендфюреры — в целый взвод апостолов Петров в черных галстуках. Взрослые допускались лишь в качестве инструкторов — да и то до той поры, пока и эти обязанности не переходили к очередному юному фюреру, освоившему стрельбу из «воздушки», управление мотоциклеткой или парашютный спорт, английский язык для переписки с британскими птенчиками Баден-Пауэлла или курс лекций по скандинавской мифологии.
Бальдур догадывался, что это была не главная причина того, что его отстраняют. Главная — его неблагонадежность, да. А она — слагаемое из многих его поступков, которые фюрер с подачи Бормана звал не поступками и решеньями, а «выходками». Выкрутасами обнаглевшего, много воли взявшего, обретшего много гонору югендфюрера, отбившегося от рук — от волосатых мускулистых лап Партии. Совсем с глузду съехал — вязаться с попами (Борман не забыл соглашения Гитлерюгенд с католической церковью; кто это придумал? а кто разрешил соплякам, посещающим церковь, по воскресеньям манкировать службой в Гитлерюгенд? а кто трепался о пагубности неверия в Бога и призывал юных арийцев с уваженьем относиться к чужим религиозным убеждениям?!) и — а это уж ни в какие ворота не лезло, чистая измена — с евреями (Борман помнил и о Пауле Гольдберге, и о запрещении для сопляков участвовать в погромах, знал он и об уроке, который в 35-м пытался преподать югендфюреру Гиммлер — не пошел урок впрок, не пошел…).
Да, да, в 35-м — Рихард Вагнер (Бальдур и поныне вспоминал его с мурашками вдоль хребта), а в 37-м… В январе 37-го был заключен «веселенький конкордат» меж Церковью и Гитлерюгенд, так с иронией звал это соглашение сам Ширах, хотя веселого здесь оказалось мало. 12 января он велел своему пресс-секретарю Гюнтеру Кауфману (Гюнтер был «золотым пером» Гитлерюгенд) написать статью об этом, и паренек не подвел своего шефа — статья была написана полностью в шираховском, эффектном стиле, с броским заголовком «Можно ли построить мост через провал?». Там было и об уважении к религии, и о потребности в вере, и о подростках, которые должны, если так им велит сердце, посещать церковь… Гюнтер следил за лицом шефа, проглядывающего материал. Ширах не улыбнулся, но сказал:
— Тип-топ, Гюнтер. — это была высшая похвала из его уст, — Бобби!..
— Здесь, босс, — насупленно откликнулся слегка приревновавший шефа к Кауфману его адъютант Густав Хёпкен, которого Ширах по неведомой причине звал Бобби — и тогда Бобби по совету того же Кауфмана по-американски звал его «босс».
— Сейчас же отвезешь в редакцию «Берлинер Тагеблатт».
— Есть.
Статья вышла на следующий день. И в этот же день грянул гром.
Бобби Хёпкен сопровождал Шираха на совещание в контору Розенберга и должен был ожидать его в приемной, вместе с другими адъютантами и розенберговским секретарем. Секретарь был хмырем в эсэсовской форме. Он стучал на машинке и то и дело вполголоса подъелдыкивал знакомых адъютантов — но те были тоже парни не промах и за словом в карман не лезли, впрочем, стараясь не устраивать гвалт. Все они — подчиненные рейхсшишек — давно освоили еле слышный, исчезающий при малейшем риске, но донельзя выразительный шепот.
Зазвонил телефон.
— Управление внешней политики… Рейхсюгендфюрер? Да, здесь, на совещании… Есть, мой фюрер. Секунду, мой фюрер.
Адъютанты сразу стихли. А розенберговская сволочь, плотно зажав ладонью мембрану, гнусным шепотком спросила Бобби:
— У твоего шефа вазелин с собой?
— Что-что? — Бобби постарался вложить в голос как можно больше пренебрежения, хотя понял секретаря не так, как нужно — просто молодым подчиненным Шираха ОЧЕНЬ часто приходилось парировать мерзкие шуточки насчет его гомосексуальности.
— Если с собой, то пусть смажет… ушки. Это пока. А позже, возможно, придется намазать и кое-что пониже. Судя по голосу фюрера, Бобби, твоего шефа сегодня — чуть позже — поставят рачком и будут долго-долго…по очереди. Фюрер, Гиммлер, Борман… А тебя заставят его держать…
— Заткнись, а?!
— Фюрер просто РЕВЕТ, — с удовольствием сообщил эсэсовец и открыл двойные двери в кабинет Розенберга, и уже громко, четко и безлико отрапортовал:
— Герр рейхсюгендфюрер, фюрер на проводе.
Эти слова — «фюрер на проводе» — давали право и этой вошке ворваться в любой кабинет и прервать любое совещание любой важности.
Ширах тут же вышел. Адъютанты встали, как вставали в присутствии любого рейхсляйтера.
Неясно было, почему Розенберг не поставил прямой телефон к себе в кабинет — может, имперский философ не желал, чтоб его отрывали от гениальных раздумий — но тогда свидетелями разговора оказались бы не вшивые мальчики на побегушках, которых за лишнее словечко убирали щелчком — а другие рейхсляйтеры, и неизвестно, что лучше.
Как ни грустно было Бобби это признать, но процесс, обещанный секретарем, начался сразу после того, как Ширах прижал трубку к щеке и тихо сказал:
— Ширах, мой фюрер.
Через несколько секунд он побледнел и заморгал. Эсэсовец из-под ладони подмигнул Бобби — я тебе говорил?..
Шираху никогда не хватало важного для рейхсляйтера качества — большая часть остальных была, во-первых, старше, а во-вторых, проще, и потому умела хранить хотя бы видимое самообладание в неприятных обстоятельствах (Роберт Лей, к примеру, щурился и кривил ухмылку, если фюрер устраивал ему разнос, Гесс, и без того каменный, моментально воплощал на роже равнодушную к нам эпоху раннего палеолита, Розенберг чуть бледнел, но твердо смыкал тонкие губы — и это были самые интеллигентные экземпляры)… Шираху же никогда не удавалось толком скрыть мягкость, нежность, ранимость своей натуры. Он умел огрызаться, если дело не зашло слишком далеко и не очень его задело, но… на фюрера не ему было огрызаться даже и в шутку — а уж сейчас…
Он слушал, его губы приоткрывались, словно он хотел вставить хоть слово, но никак не получалось. Потом его плечи начали то и дело вздрагивать. Бобби, с тревогой наблюдавшему за ним, вдруг пришло в голову, что гаденыш эсэсовец все же не прав — это было похоже не на секс, даже и насильственный, а на порку. Каждое слово фюрера, должно быть, обжигало, как тяжкий удар кнута… Бобби, конечно, не знал о скорбном опыте близкого общения своего шефа с эсэсовцем Вагнером — Ширах никогда, никому, даже своему родному Отто, не рассказал об этом…
Борман давно уже тихо и нежно ненавидел фюрера — за то, что у фюрера, как ни странно, было обычное — жестокое, сентиментальное, неверное, глупое человеческое сердце. Такое не взлюбит — не простит, а если уж любит — то до дурного конца за дрянь-вранье-фальшь держится, словно кровотянущий клещ за уже подгрызенную, высосанную, лишь сукровицей сочащуюся плоть под кожей. А это было решительно недостойно того, кого Мартин Борман избрал предметом своего постоянного внимания и уважения.
Мартин уродился не таким, как все, и сам это знал — чуть не с младенчества. Не всегда, но порой его как-то необъяснимо сторонились все представители рода человеческого — то вдруг насупится на него, пятилетнего, ровесник — сосед по куче песка, то отвернется девочка, которая нравится — почему, он же слова ей не сказал, то учитель в школе как-то брезгливо произнесет его фамилию, вызывая к доске — это еще из-за чего?.. он ведь прилежный, и, между прочим, сообщил учителю, когда эти дураки Грюн и Целлер всадили гвоздь в сиденье его стула! Неблагодарность. Слабаки — всегда неблагодарны, это он усвоил прочно. Ты им хочешь как лучше, а они потом боятся это признать.
Мартин так и не понял, что в нем не терпят — чувствуют, ощущают, предугадывают — прирожденного предателя, да еще такого, которого ни одно его предательство никогда не будет мучить… потому, что он считает себя правым, а свой поступок — верным.
К чести Мартина, он действительно так считал, и в том не было его вины — просто он уродился не таким, как все. В нем просто не было способности, дара, сердечной склонности, душевной глупости — а именно, любви. Он никогда не поступил бы, как Том Сойер — не подставил бы спину под розги, соврав учителю, что это он разорвал книгу, — вот еще! Любой должен сам отвечать за свои поступки. Если не хватило ума не попасться…
Таким он был. И считал, что любви фюрера он-то уж достоин куда больше, чем этот долговязый красавчик с глупыми идеями и слабыми нервишками — чуть тронь, дергается, тьфу!
Но — несмотря на все усилия Мартина — фюрер продолжал ЛЮБИТЬ Шираха. Только так можно было объяснить то, что он его все еще щадил.
Борман уж сто раз подсовывал фюреру симпатичные материальчики на эту дрянь — в их числе были и фотографии Шираха, игриво улыбающегося какому-то щенку на Александерплатц — а толку не было и не было. Мартина утешало то, что в свое время фюрер и на гомосексуализм Рема не обращал внимания… до некоторого момента, пока тот был ему нужен.
Но вот Ширах-то зачем нужен?! Толку от него — мешок убытку разве что…
Мартин действительно не умел любить. Гитлер тоже почти не умел, но уж если любил…
Как нарочно, все компрометирующие фотографии предъявляли Гитлеру Шираха почти таким, каким он его в первый раз увидел. Высокий, тощий, с мягким сиянием в глазах…
Мартин имел по толстой папке материла на КАЖДОГО, кто когда-либо соприкасался с Гитлером, в том числе и на него самого.
И не знал только об одном.
Не всегда ночами фюрер звал к себе Еву.
Иногда он закрывался у себя в спальне — и постучаться туда мог только тот, кто искал себе быструю смерть. Исключениями были Гесс — и Ширах.
И ночи эти фюрер проводил с фотографиями Гесса — и Шираха. То с одной, то с другой. Фотографии не ссорились между собою в его сердце.
Все было исполнено безукоризненно — Шираху пытались не дать почувствовать, что мягко отодвигают его в стороночку. Фюрер даже осведомился, кого б он хотел увидеть своим преемником, и Бальдур назвал Артура Аксмана…
Семья его ехала в Вену с ним. В поезде, потому что «в машинах с детьми с ума сойдешь» (Хенни) и «хочу на паровозике!» (Клаус). Разумеется, ЭТОТ поезд был набит охранниками.
Хенни старалась лишний раз не заговаривать с мужем — он был странно-вялым, словно немного приболел. Сильный пол куда более трепетно, чем слабый, относится к мелким недомоганиям — это уж Хенни знала на примере собственного батюшки, который и легкой головной болью с похмелья страдал на весь дом. А Рудольф Гесс — Хенни своими ушами слышала раздраженную реплику фюрера: «Когда Гесс мне нужен, у него тут же начинается резь в желудке!»
Но в Бальдурову мигрень Хенни верила, ибо мигрень эта времени не выбирала — являлась иной раз в самые неподходящие моменты. Да и невозможно притворяться до такой степени — когда начинался приступ, у Бальдура бледнело лицо, выступала и трепетала жилка на виске. И Бальдур никогда на памяти Хенни не пытался сыграть на своей мигрени, дабы избавиться от каких-то обязанностей — он переносил ее так же безразлично-стоически, как женщина переносит тянущую боль в низу живота во время месячных. Поменьше внимания. И далеко не все женщины становятся от этого стервозными и истеричными — не становился таким и Бальдур от своей мигрени. Он просто потухал, уходил в себя и где-то там пережидал приступ.
— Иногда я вспоминаю музыку, — однажды сказал он Хенни, — кажется, что она заглушает боль.
— Уж не Вагнера ли? Этот заглушит что угодно…
— Нет, от Вагнера у меня только сильней башка трещит…
Сейчас, судя по всему, не помогала и музыка, и Хенни достала из сумки фляжку с коньяком.
— Если очень больно — выпей.
— Спасибо, Наташа.
— Как ты меня назвал?..
— Ты не читала «Войну и мир»? Там была девушка — очень милая — которая в конце книги стала отличной женой и так гордилась своими детьми, что трясла перед носами гостей их сраными пеленками…
Разадалось отчетливое «хи-хи!» от якобы спящей шестилетней Анжелики.
— Ну, — сказала Хенни, — это вовсе не я, это скорей уж Герда Борман… или Магда… Анжелика, спи. Нехорошо без спросу слушать, о чем говорят взрослые.
— Я б и не слушала, но куда же мне деваться, если мы едем? — вполне резонно отозвалась Анжелика, — А детям нельзя слушать потому, что взрослым хочется иногда говорить плохие слова? Да?
— Да, — сказал Бальдур, — конечно!
— Бальдур! — улыбнулась Хенни, — ну что ты говоришь.
Он усмехнулся:
— Но это же правда. Прости меня за нехорошее слово, Анжи. Я ведь только с фронта, а солдаты всегда так говорят.
— А почему, папа?
— А потому, что им очень грустно там, Анжи. Грустно без своих жен, детей, без всего того, что было дома. Им очень трудно там, вот они и ругаются — что еще делать, если ничего нельзя изменить…
— Бальдур, она не поймет.
— Я все поняла, мама… И я уже читала книжку про войну…
Бальдур поднял брови, но Анжелика, уже засыпая, все же объяснила:
— Мышек и лягушек. Смешная книжка…
— Вот бы все войны на земле происходили между мышами и лягушками, — пробормотал Бальдур.
Хенни достала сигареты и поднялась, он вышел следом, прихватив фляжку. Весьма разумно — надо было дать возможность Анжелике покрепче заснуть. Если разгуляется, то это на всю ночь (самое смешное, что и Бальдур, и Хенни считали эту особенность наследственной — и валили эту наследственность друг на дружку). Собственно, ничего страшного, но вот пятилетнему Клаусу и двухлетнему Роберту эти ночные бдения были явно вредны.
Оба глядели в окно — на темноту и уплывающие огоньки. Генриетта не любила путешествовать — ей, дочери фотографа с мировым именем, порой таскавшим за собой семью, это давно приелось. Бальдур, которому в детстве случалось разве что переехать из Вены в Веймар, а из Веймара в Берлин, путешествия любил.
27 мая того же года гауляйтера попросили к телефону из рейхсканцелярии, Отто передал трубку и потянулся за папиросами, мельком взглянув на часы (Бальдур никогда не помнил, во сколько ему звонили, а это могло оказаться важным). Половина четвертого.
— Мать твою, — произнес Отто одними губами, когда перевел взгляд на Бальдура.
Тот только что, ну вот только что был абсолютно нормальным — а сейчас прижимал трубку к уху так, словно это было необходимо для спасения его жизни, а лицо у него было белым. Как бумага на столе, с тем же тоскливым сероватым оттенком. На виске вылезла синяя жилка — и колотилась так, что не надо было и слушать пульс, чтоб понять, что Ширах близок к обмороку.
Бальдур положил трубку на рычаг. Промахнулся. Переложил. Отто уже торчал рядом с открытой фляжкой в руке.
— На. Коньяк.
— С-спасибо…
— Не заикайся, не Роберт Лей. Что там случилось?
— Д-да, Отто, черрт… Райнхард.
— Что с Райнхардом?
— Взорвали.
— Что-ооо?
— Что, что. В Праге, сегодня, говорят, в два часа. Машину взорвали.
— Жив?
— Лучше б не жил. Совсем, говорят, плох. Продолжают штопать… Ох, скоты поганые!
— Кто скоты поганые?
— Чехи! Ладно, ладно. Все. Ехать надо.
Райнхард Гейдрих оказался удивительным человеческим экземпляром.
Бальдур, сидя в закуренной комнате пражского отеля, с содроганием пересказывал Отто то, что доводилось узнать о его состоянии.
С разорванной селезенкой, поврежденным основанием позвоночника да еще и с килограммом грязи, набившимся в раны, с уже начинающей закипать от заражения кровью Рейнхард продолжал жить. Уже 7-й день жил. Доктора ходили как к расстрелу приговоренные — Гитлер в ярости всем его и пообещал, если Гейдриха не спасут. Вряд ли выполнил бы обещание — то, что спасти нельзя, было ясно с первого дня.
Бальдур постоянно курил и, кажется, готов был даже начать пить.
К вечеру седьмого дня Бальдур и Отто стояли в больничной приемной. Там же был Вальтер Шелленберг, который поддерживал под локоть зареванную фрау Гейдрих. Состояние Райнхарда ухудшилось, хотя хуже, вроде бы, было и особенно некуда.
Бальдур рассеянно смотрел по сторонам — и увидел вдруг, как два санитара вскинули руки в салюте. Вошел Гиммлер в сопровождении пяти эсэсовцев. Те очень старались не топать сапожищами. Вальтер вяло отдал ему честь, Отто и Бальдур так же вяло вскинули руки, Гиммлер только махнул в ответ, но оглядел их внимательно. Бальдур отвернулся — он был в штатском, и ему почему-то противно было глядеть на Хайни в форме.
Обрюзгшая физиономия Хайни была бледна и походила на комок теста. Он что-то глухо сказал фрау Гейдрих, она кивнула, а потом заявил тихо, но приказным тоном:
— Сходите же спросите кто-нибудь.
Бальдур был ближе всех к дверям в больничный коридор.
Он вернулся через пару минут, с взъерошенным видом и красными глазами. И прижал к груди свою шляпу.
— Слава тебе Господи, — еле слышно сказал он, — отмучился.
Эсэсовцы снимали фуражки.
6 июня гауляйтер Вены произнес в венском магистрате тусклую невротическую речь, посвященную необходимости депортировать из города всех лиц с чешским гражданством, от которых, после покушения на Гейдриха, ясно чего можно ожидать.
Речь появилась в газетах, ее передали по венскому радио.
На лицах венских наци появилось сосредоточенное выражение — такое, какое обычно появляется перед погромом.
На похоронах фюрер собственноручно возложил к гробу Райнхарда венок, и голос его звучал глухо, расстроенно:
— Лучший из защитников германского народа, наш человек с железным сердцем…
Железное сердце, думал Бальдур. — У него было обычное, человеческое сердце… да и зачем нужно человеку железное? Чтоб никогда никого не любить? Чтоб не знать жалости?
Он старался не смотреть на лицо Райнхарда в гробу и не думать о том, что он чувствовал перед своей ужасной смертью. Кто вообще может заслужить такое?
Они с Отто ехали домой.
Отто не разговаривал с Бальдуром, видя, как тот потрясен.
Но вскоре их ждало еще кое-что, уж совсем нехорошее. И это тоже касалось смерти Рейнхарда.
Они остановились на заправке. Рядом встал еще один автомобиль — «джип» с моравскими номерами. Бальдур уже собирался отъехать, когда услышал разговор между рабочим бензоколонки и шофером джипа. В темноте не было видно, что это за человек, но, похоже, рабочий знал его, потому что сказал:
— О, добрый вечер. Полный?
— Как обычно.
— Вы, часом, не с похорон?
— С похорон, — ответил из джипа невозмутимый, даже насмешливый, ясный голос, — Только глупо называть это похоронами. Это день великого чешского счастья, Роберт. Представляешь ли, сегодня мы обмывали это дело в кафе, а там висел календарь. И кто-то уже успел написать на нем жирным чернильным пером: «Прощай, Вешатель». Неосторожно, но зато искренне, ха-ха!
Бальдур поглядел на Отто, тот ответил пожатием плеч. Что он мог сказать?
Бальдур столь искренне посчитал услышанное клеветой и вражескою пропагандой, что ему стало еще больше жаль Райнхарда.
Результатом явился Малый Гауляйтерский Запой — так на языке Отто назывались два-три дня, в которые Ширах только и исключительно пил, а также, что совершенно естественно, порой делал и говорил глупости. За МГЗ, правда, нередко следовало отнюдь не маленькое похмелье, продолжавшееся столько же, сколько и запой. Бальдур не умел слишком много пить, в результате чего просто травился алкоголем и, протрезвев, еще три дня лежал, глядел в потолок мученическими глазами, иногда хныкал, прося Отто пристрелить его, дурака, и пил осторожными мелкими глотками чай, ибо ничего другого его умученный желудок просто не принимал.
Но в этот раз Малый Запой едва не перешел в Великий — после того, как венские чехи встали пикетом возле его резиденции, а напротив них встали ощетиненные эсэсовцы. Эсэсовцы ждали одного слова — не Бальдура, а Дельбрюгге (заместителя имперского руководителя по безопасности), чтоб разогнать пикет и начать погром.
По счастью, Дельбрюгге бездействовал. Он ждал информации. Дождался. Эсэсовцы, действуя очень мирно для эсэсовцев, разогнали с площади чехов, а Дельбрюгге передал гауляйтеру свежую новость от Гиммлера. По последним данным министерства внешней политики, покушение было подготовлено при содействии Великобритании.
Отто крутился, как живая рыба на сковороде, пытаясь всеми силами скрыть от Дельбрюгге тот факт, что гауляйтер мертвецки пьян в рабочее время.
А Бальдур сидел себе за столом (в ящике стола лежала недопитая бутылка) и вещал что-то насчет Англии, Гесса, диверсантов, чехов, Гейдриха и мировой несправедливости. Все слышанное им об Англии от Бормана, Гиммлера, Гитлера причудливо срослось в его бедной пьяной тыквушке со скорбью по Райнхарду, а заодно и по Гессу, который сидел сейчас в английской тюрьме.
— Англичане, — утверждал он, — ВСЕГДА держат за пазухой камень!
— Бальдур, Боже, заткнись.
— Не з-заткнусь!.. Я обо всем подумал!
Лучше б ты не думал, решил Отто. Однозначно. У нас с тобою политическое мышление на одном уровне, если считать уровнем нуль. И ты просто не представляешь, о чем вообще говоришь…
— Отто! Борррману телетайп…
— Что-что?..
— Нет, эти суки… англичане… они нас всех скоро перебьют, а тебе и дела нет!..
— Да какой телетайп? Текст где?
— Щаззз…
Пьяным Бальдур видел хуже, чем трезвым, поэтому разобрать нацарапанное Отто стоило большого труда. А когда разобрал, буркнул:
— Хочешь строить из себя дурака — строй.
У Отто и впрямь не было никакого политического мышления, зато была интуиция. И он справедливо оценил эту пьяную истерическую телеграмму как бред, и бред, возможно, опасный. Следовало рассчитывать на то, что трезвенник Борман окажется все же поразумнее пьяного Шираха и не примет всерьез его предложения в порядке мести за смерть Гейдриха разбомбить какой-нибудь из культурных центров Великобритании…
Отто как в воду глядел — но не слишком глубоко.
Самый глупый поступок Шираха во всей его жизни аукнулся ему уже после конца войны, на Суде народов в Нюрнберге.
Бальдур фон Ширах сидел как оплеванный, глядя своими близорукими глазищами в материалы дела, а над ним уже почти сытым коршуном парил английский прокурор Додд, которому очень интересно было узнать следующее:
— И какой же английский культурный центр вы имели в виду? Может быть, Оксфорд? Или Кембридж?!
Если бы Бальдур мог вспомнить, что он тогда вообще имел в виду… Не винить же было Отто за то, что, подчиняясь дурному приказу, все же отправил эту идиотическую телеграмму. Даже настоящие ангелы-хранители порой отворачиваются от нас, если мы, сами не ведая, что творим, творим откровенное зло. Что уж говорить об ангелах-хранителях в человеческом облике, каким был для Шираха Отто В.
Там же, на суде, Шираху пришлось узнать очень много нового — о том, что творил и на оккупированных, и на собственных территориях разбушевавшийся голем арийского рабби. Только вот остановить его рабби Адольф не мог. Не хотел. Ему было уже все равно, он и про Германию сказал — проиграла в войне? Нечего ей делать на свете.
Ширах болезненно поморщился, когда услышал такое от Шпеера.
— Не может такого быть! Вы должны показать мне, где это написано! Это же… ужасно!
— Ты слушай, слушай больше, — рявкнул Геринг. Шпеер брезгливо фыркнул и незаметно показал ему фигу.
— Ну, — сказал он. И принес свою приобщенную к делу переписку с фюрером. И сунул ее под нос Шираху.
— Если ничего не знаешь, нечего этим гордиться, — шепнул он так, чтоб его не услышал никто больше, даже и стоящий рядом тюремный психолог Гилберт, — Ширах, ты же не трус, так и придурком не будь. Читай…
После того, как Ширах дал показания, Геринг чуть не выл от ярости, сдерживая себя последними усилиями воли. Этот чертов придурок, думал он, устроил тут шоу со своей слишком честной истерической болтовней, зал гудит, судьи суетятся, как муравьи, подсудимые дергаются… Черт-те-что. Ни на кого, абсолютно ни на кого нельзя положиться, гнилушки, штафирки треклятые!
Лей повел себя как трусливый полудурок, удавившись полотенцем; Франк то и дело вещает о грехе и искуплении, словно сбрендивший пастор; Кальтенбруннер выставил себя лжецом, а Риббентроп — полнейшим идиотом, вся скамья подсудимых хихикала над его ответами. На Нейрата и Папена рассчитывать вообще не приходится, падла Шахт вообще не здоровается ни с кем, кроме них.
Штрайхер положительно одержим своей навязчивой идеей — вот только что сообщил, что умеет определять евреев по очертаниям задницы.
Вояки только и знают делать рыло кирпичом и твердить, что «мы жили честно, мы службу несли и выполняли приказы».
А эта геббельсова вошь захребетная, Фриче, еще смеет что-то там вякать. Да в хорошие времена Геринг его ни в лицо, ни по имени не знал! Да кто его вообще знал!!
Про Шпеера говорить нечего — так и чуется, что сотворит подлянку лично ему, Герингу, если не всем подсудимым. Гесс… с алюминиевой кастрюлей можно беседовать содержательней, чем с ним теперь.
Если ты еще и придуриваешься, гад, я тебя своими руками придушу еще до приговора, с обидой и злостью думал Геринг. Он ведь был первым, кому предложили «освежить память» Гесса.
И вышел из этого цирк. И главным клоуном был не Гесс.
Геринг битый час разорялся перед ним, рассказывая историю НСДАП, перечисляя имена Адольфовых женщин и собак и травя застольные байки, над которыми прежний Гесс смеялся… Толку — нуль. Гесс честно смотрел на Геринга — и даже чуть виновато: мол, старается ради меня человек, а я… Но твердил только одно:
— Простите, но все это ни о чем мне не говорит.
— Твою мать-то! — взорвался Геринг, — Руди! Ты что же, МЕНЯ не помнишь?!
— Мы где-то встречались? — искренне поинтересовался Гесс.
Геринг был совершенно уверен, что его коллега ломает дурочку, стараясь уйти от ответственности, и это так его взбесило, что стоило кому-то из обвиняемых на допросе сказать «Я не помню…», как Геринг заорал на весь зал:
— Еще один! У Гесса появился конкурент! Эй, мистер I Don't Remember, вы входите в моду!
Кто-то еле слышно засмеялся, лицо Гесса не выразило ровно ничего. Геринг привычно оглядел всю скамью — следовало, очень даже следовало учитывать каждую реакцию всех этих психов. Вот черт, еще тогда нужно было заметить, что сопливый поганец Ширах отбился от рук. Потому что Геринг увидел его широко раскрытые от удивления глаза и уловил еле слышную реплику:
— Мерзко же смеяться над больным человеком…
Герингу очень хотелось ответить, чем он считает эту «болезнь», но он счел за лучшее не удостоить Шираха вниманием.
И вот теперь эта дрянь, которая с самого начала сидела, как мышь под веником, внезапно осмелела, куда там. Великая смелость — облить говном того, кого уже нет. Геринг только усмехнулся, представив, как Ширах повел бы себя, если б после сказанного им в зал суда вошел фюрер…
В столовой Шпеер — они с Ширахом сидели за одним столом — хлопнул его по плечу:
— Браво!
Геринг давно уже обедал в одиночестве. И слава Богу. Если б он до сих пор сидел с Ширахом за одним столом, то вряд ли удержался бы от соблазна ткнуть его болтливым рылом в тарелку с горячей кашей.
Он глядел в эти, уже напечатанные, показания — и бесился все больше и больше.
— ШИРАХ!
Тот по привычке подошел.
— Не стыдно за полкилометра трусливой, предательской, антипатриотической болтовни? — ядовито поинтересовался Геринг. Раньше одной его фразы было достаточно, чтоб Ширах прикусил язык и убрался в уголок потемнее. Но сейчас… сейчас он только вспыхнул до корней волос и, поглядев в рысьи глаза Геринга, рявкнул:
— Не ваше дело!
Шпеер слышал это. И тихонько кивнул Гилберту.
— Все будет в порядке. Эта жирная свинья теряет аудиторию…
Гилберт уже вечером повторил эту фразу Шираху, тот кивнул.
— А как вы думаете, почему это произошло?
И Ширах, волнуясь, ответил:
— П-потому что он — лжец…
До него наконец-то дошло, и крепко дошло, что сидеть молча и выражать согласие кивками — есть оказывать помощь и содействие врущим в глаза всему миру подонкам, которым он по наивности верил раньше.
У Геринга была своя точка зрения. Как обычно.
— Я, — бушевал он перед тем единственным, кто теперь готов был подолгу слушать его — психологом Гилбертом, — давал — фюреру — клятву — верности! Про Шпеера я не говорю — пусть спасает свою подлую шею от петли, как может! А Ширах должен был поступить так же, как я! Тем более что он и жив-то до сих пор только по милости фюрера!.. Он же с сорок второго под петлей гулял!..
Аргумент о воинской чести казался ему неопровержимым. Ему очень хотелось думать, что это именно так. Но Гилберт спокойно возразил:
— Ширах был верен Гитлеру до самого конца, как вы знаете. Может быть, Гитлеру не следовало его обманывать? Думаю, после такого Бальдур фон Ширах может считать себя свободным от любых обязательств по отношению к нему…
Был вечер — почти ночь 11 июня — когда кардиналу Инницеру доложили, что его очень хотел бы видеть гауляйтер Вены, прямо сейчас.
Инницер знал, что Бальдур склонен к эксцентричным выходкам. Эта не лезла ни в какие ворота, но… это был Инницер, который настолько верил, что не затворял дверей от просящего.
Кардинал знал о том, что произошло, но, ясное дело, не видел Бальдура ни разу с момента покушения на Гейдриха.
Ширах был с виду обычным — да и не выпускали его адъютанты из дома неглаженым-нечищеным — но было ясно, что он слегка подшофе. И глаза — синие глазищи, так очаровавшие Инницера когда-то — были сейчас черны, абсолютно черны. Господи, подумал Инницер, только одержимые бесами могут менять даже свой облик.
Он с максимальною деликатностью усадил гауляйтера в кресло. Свет был ярким, и Инницер понял, что ничего общего с одержимостью Ширах пока не имеет. Просто зрачки у него были расширены так, что едва не зашкаливали за радужки. Не знай Инницер Шираха до этого, решил бы, что тот находится под действием каких-нибудь наркотиков. Но… Инницер давно знал, что Ширах плохо видит, и его зрачки часто беспомощно расширяются — особенно после рабочего дня, если ему приходилось прочитать много бумаг… Теперь они были шире, чем обычно, вот и всё. И тут еще вспомнилось — из какой-то книги — зрачки резко расширяются от боли.
Да при таких зрачках он вообще ничего не видит!
— Бальдур. С вами все в порядке?
— Неужели вы думаете, — сказал Ширах, качнув головой, — что когда со мною все в порядке, я наношу визиты без предупреждения?
Он ищет последний угол?
— Бальдур. Что с вами, скажите.
Из длиннейшей, путаной речи Инницер понял только то, что Ширах якобы успел совершить несколько преступлений и не поймет, что ему теперь с этим делать….
Такой отборной матерщины Инницер не слышал никогда — а уж от Шираха и не ожидал услышать. Притом что понять из его бредней было практически ничего невозможно. Но и назвать его совсем уж пьяным и не соображающим, что говорит, было никак нельзя.
Инницер просто не подозревал о благоприобретенной способности Бальдура пить много, пьянеть — и тем не менее держаться изо всех силенок, пока не срубит совсем. Эта самодрессировка началась еще тогда, когда Бальдур был рядом с фюрером, который не терпел пьяных — а не пить порою, объезжая праздничные митинги, было неприлично. Сейчас Бальдур, только успев отойти от предыдущего Малого Гауляйтерского Запоя, запил снова — на очередные три дня.
— Понимаете ли, святой отец… не понимаю я, святой отец!
— Бальдур, — тихо ответил Инницер, — я понимаю только одно. Что такая каша в душе, как у вас, бывает только тогда, когда человек не исповедуется.
— Э?…
— Хотите, приму у вас исповедь. Я не ваш духовник, но у вас его и нет. А кто подойдет на роль духовника гауляйтеру Вены лучше, чем кардинал?
— Какая ж от меня исповедь…
— А что мешает? Крещены вы католиком. Ну же, согласны?
— Я, — сказал Ширах, — не понимаю, зачем это.
— Как зачем. Облегчить душу. Бог слышит все, Бальдур.
— Облегчить душу, да? Я никогда не имел с этим проблем… по-моему, любой, кто хочет тебя послушать, все это выслушает…
— Но не утешит. Ибо любой — это любой. Первый встречный. Не служитель Господа Нашего.
— Да мне без разницы, святой отец, если честно.
— А Господу — не без разницы. Ну же, Бальдур. Сын мой.
— А здесь, — сказал Ширах с противною ухмылочкой, — не церковь.
— Господь видит, что не церковь. Так да или нет?
— Ну… ладно. И что?
О, если б он не ухмылялся. Инницер был согласен на все, что угодно, если знал, что это может быть угодно Господу, но не на такое.
— Сидя в кресле и куря, Бальдур, не исповедуются, чтоб вам было известно. Извольте потушить папиросу. А после этого опуститься на колени.
В исповедальне не встают на колени, но Инницер решил, что это в данном случае не повредит.
— Вам, святой отец, известно, для чего я обычно встаю на колени? — хмыкнул Бальдур.
— Да мне все равно, для чего. Но для Господа — хоть видимый акт смирения. Извольте уж.
— Что ж это за Господь, которому нужна видимость?.. Ладно, ладно, вовсе незачем делать такие глаза… Ну?
— Что ну?
— Что ну, я не знаю.
Инницер с ужасом осознал, что Ширах то ли не помнит, то ли вообще не знает элементарных вещей. А может, и дурачится. До сих пор-то!
— Бальдур, вам не кажется, что коли исповедуетесь — вы, и нужно это — вам, то и начать разговор с Господом должны вы?..
— А… Как же это там. А! Признаюсь Господу всемогущему и вам, святой отец, служителю Божьему… так, что ли?..
После этого Инницер даже и пожалел, что склонил Шираха к исповеди. Хотя жалеть было грехом.
— Святой отец, я убийца.
— Вы говорите о том, что убивали на войне?
— Если бы. Правда ли, святой отец, что преступление можно совершить не только делом, но и словом, и помыслом?
— Правда, Бальдур.
— Я убийца… Не знаю, скольких евреев я убил, когда сказал, что Вена станет чистым арийским городом… Я…я говорил это не для Вены. Для Бормана… думал, оставит меня в моем городе в покое наконец…
— В Вене пока не было погромов.
— Будут еще… кроме того, евреев высылают… чем не убийство?
— Вы можете этому помешать?
— Нет, нет… Мало того — я убивал еще и чехов. И англичан…
— Делом?
— Словом и помыслом.
— Вам хоть немного легче?
— Нет, нисколько… не забывайте, святой отец — я не верю в Бога. И ничего вы не можете мне посоветовать… — пробормотал нарушитель всех заповедей, опустив дурную голову.
Инницер улыбнулся. И ответил:
— Почему же. Могу.
Бальдур даже и не взглянул ему в лицо. Не верил.
— Убивали?.. Теперь — спасайте. Кого можете, когда можете. Всякий спасенный в Судный день будет молить Господа за вашу непутевую душу. Данной вам властью…
— НЕТ у меня никакой власти!
— Это вам так кажется. Следовало родителям крестить вас не Бальдуром, а Фомою, ибо когда Господь протягивает вам руку, вы прячете свою за спину… но это так, к слову…
Про себя Инницер подумал, что скорей уж обладателя непутевой, но любящей души простит Господь, чем равнодушного, а уж о таких блаженных и умом безмятежных, как ты, говорить нечего — кто б еще плакал по Гейдриху-Вешателю, любя в этом диком звере то человеческое, что в нем еще оставалось.
Но это Шираху знать вовсе необязательно. Пусть уж лучше искренне полагает себя грешником.
В тот летний вечер — Пауль запомнил его на всю жизнь, иначе и быть не могло — они слушали русского композитора Чайковского. Как называлось произведение, он забыл — помнил лишь, что даже его захватила и понесла куда-то эта странная музыка, полная грусти даже тогда, когда инструменты звучат вроде бы весело… И еще это было очень странно — что играют русскую музыку — во время войны с Россией, и не первый уж раз, как сказал отец. Впрочем, концертный зальчик был такой маленький.
Пауль не представлял себе, каким образом его недотепа-папаша раздобыл билеты на этот концерт. Впрочем, у него были кое-какие знакомства среди венских музыкантов.
Пауль вполне обошелся бы и без этого концерта. Ему не хотелось сидеть рядом с родителями в своей форме гитлерюгенд, которую он таскал постоянно — впрочем, у него не было ни одного приличного костюма.
Он хорошо помнил самое начало концерта. В убогом зальчике имелась, тем не менее, ложа. И вот за десять минут до начала в ней появилась высокая худая фигура в прекрасно сидящем смокинге.
Весь зал поднялся, по инерции вскочили и те, кто не понял, зачем вставать. Но зачем — стало ясно сразу же, когда в следующий миг несчастный зальчик сотрясся от единогласного вопля «ХАЙЛЬ!»
Человек в ложе как-то странно дернулся от этого рева и сел.
Пауль не сводил с него глаз весь концерт — и это неплохо сочеталось, музыка Чайковского и потерянное лицо человека, сидящего в ложе. Шесть лет прошло с тех пор, как этот человек осчастливил Пауля, как казалось, на веки вечные, повязав ему черный галстук.
Все позади. Краснобокий барабан умер и был похоронен без почестей, на смену мюнхенским ребятам пришел венский гитлерюгенд — в котором все было куда как проще и легче. Никто и не спросил, не еврей ли этот черноволосый пимпф Пауль Гольдберг. Одно то, что приехал он из Мюнхена, уже кое-что значило… а еще он рассказал новым приятелям, кто повязал ему галстук… А в 41, когда Паулю исполнилось 16, в Вене появился новый гауляйтер — Бальдур фон Ширах. И ребята опять взглянули на Пауля с восхищением…
И то, Бальдур фон Ширах ехал сюда, будучи отозванным фюрером с фронта, он и приехал в форме дивизии «Великая Германия», с лейтенантскими погонами на плечах и железным крестом на груди. А ведь ушел добровольцем в 39-м… Пацанам было вполне достаточно для восхищения и этого чина, и этого креста. Они словно бы так и не услышали, что еще в 40-м югендфюрером стал Артур Аксман. Не с Аксмана все начиналось, не Аксману кричали «хайль!» самые первые ребята, не Аксман был тем, к кому можно было сунуться с любым вопросом, прося защиты и справедливости. Аксман был просто солдафоном, Аксман умел только командовать строем. А фон Ширах уже давно стал чем-то вроде легенды. О нем рассказывали волшебные сказки — и его же высмеивали в похабных байках… Как же любить без того, чтоб не ударить, не подколоть?.. ни разу?..
Фон Ширах уже не имел — по должности — никакого особенного отношения к гитлерюгенд, но, тем не менее, скучал по своей прежней работе. И на любое сборище, объявленное им, ребята сбегались куда быстрей, чем на военную подготовку Аксмана. Пауль смутно надеялся, что Ширах, может, узнает его, если увидит — но этого так и не случилось. Паулю даже показалось, что у бывшего югендфюрера сильно село зрение — взгляд у него был рассеянный и невидящий, а если и случалось ему взглянуть на кого-то или на что-то пристально, он слегка щурился.
Ложа была невысоко, и Паулю не приходилось сильно задирать голову, чтоб смотреть на Шираха. Интересно, думал мальчик, он закрывает глаза, когда слушает музыку?
Нет, не закрывает.
Ну и лицо у него. Словно смертельно устал. От чего бы?
Пауль смутно догадывался, что нынешний Чайковский — это его идея. Ширах всегда выдумывал то, что никому больше в голову бы ни пришло — и во всем этом видна была его странная, смятенная душа. Чайковский! Не дали б ему в лоб за эту вражескую музыку…
Пауль дернулся, получив от отца локтем в бок. Это было неожиданностью — обычно отвлечь Рональда Гольдберга от музыки было не легче, чем оторвать голодного от лепешки.
— Чего тебе? — прошипел парень.
— Прекрати пялиться на эту тварь.
— Какого черта!..
— Пауль, — нет, Рональд и впрямь забыл о музыке, лицо у него было бледным, на скулах играли желваки, — ты кое-чего не знаешь. Тебе этого не скажут в твоем гитлерюгенде, это точно.
— Чего я не знаю?..
На них обернулись сидящие впереди, сделали большие глаза — «тише!» И Рональд одними губами прошептал сыну в ухо:
— Всем кажется — ах, какой милый у нас гауляйтер, у него лишь книжки да музыка на уме… А эта сволочь здесь занимается тем, что превращает Вену в «чистый арийский город». Это основной род его деятельности. Эсэсовцы каждый день сгоняют евреев на вокзал, словно скотину, и увозят… увозят туда, откуда никто не возвращается…
— Что?..
— Что слышал. Ты думаешь — зря я тебе говорю, чтоб ты поменьше шлялся по улицам? Ты думаешь, эта твоя коричневая рвань тебя спасет? — костлявые пальцы Рональда дернули сына за рукав форменной рубашки.
Он тоже поднял глаза, поглядел на Шираха.
— Крысолов чертов, — прошептал он нечто Паулю непонятное, — Почему я только не убил тебя тогда? Ведь мог. Да нет. Наверное, не мог… не все же, подобно вам, рождаются убийцами…
Пауль снова поднял взгляд на Бальдура фон Шираха. Тот сидел, прикрыв ладонью глаза.
Дельбрюгге, заместитель имперского руководителя по безопасности, назначенный Гиммлером, не слишком-то заботился о том, чтоб гауляйтер не видел кое-каких его документов. А иногда и нарочно подбрасывал их копии к нему на стол. Он имел совершенно конкретное задание, касающееся Бальдура фон Шираха — и в это задание не входило обеспечение душевного покоя гауляйтера. Скорее, наоборот.
— Слушать каждое слово, — приказал Гиммлер, — Каждое! Я не верю, что наша балаболка не ляпнет ничего ЭТАКОГО по простоте душевной, Дельбрюгге. И вот тогда…
Дельбрюгге усмехнулся, зная, что будет «тогда». Он терпеть не мог эту сентиментальную интеллигентную размазню с пидорскими манерами и неуверенной улыбочкой. И горячо надеялся, что офицерские погоны не спасут этого красавчика — и в конце пути его будет ждать не благородный расстрел, а петля…
Он следил за каждым шагом Шираха, словно хитрый кот за беспечными прыжками глупого воробья.
И в тот вечер, разумеется, присутствовал в зале — само собой, не для того, чтоб наслаждаться музыкой, но для того, чтоб убедиться в весьма прискорбном для Шираха факте.
Тем же вечером, но позже, Гиммлер уже знал, что в Вене по инициативе меломана-гауляйтера исполняли русскую музыку.
Дельбрюгге без опаски беседовал с ним по телефону в канцелярии — Ширах после концерта, само собою, закатился в кабак с какими-то своими никчемными приятелями из музыкантов.
— У вас готов следующий список чертовых жидов? — поинтересовался Гиммлер.
— Да.
— Проверьте, проживает ли сейчас в Вене семья еврея по имени Рональд Гольдберг. Сам он, жена и сын. В свое время наш красавчик наделал шороху, приняв еврейского щенка в Юнгфольк — потому, что его папаша, Гольдберг, дружил с ним, когда наш Бальдур еще не умел приставать к мужикам. Надеюсь, что не умел.
— Проверим.
— Если Гольдберги проживают в Вене — добавьте их в списочек. Всех троих.
— Будет сделано.
— И проследите за тем, чтоб этот списочек точно попался герру гауляйтеру на глаза… Поглядим, не отвык ли наш своевольный красавчик дружить с кем не надо. Если отвык — его счастье.
И списочек, само собой, попался — уже на следующее утро. С приказами Гиммлера не шутят, Дельбрюгге отлично это знал. Да ему и самому не терпелось поглядеть, что из этого выйдет.
— Почему на моем столе постоянно валяется ваш бумажный хлам? — раздраженно начал Ширах, едва вошел в кабинет.
— Мой референт чертов растяпа, — ответил Дельбрюгге, — что это он опять перепутал?.. Что это такое?
Он прямо-таки подталкивал Шираха заглянуть в бумагу, и тот, конечно, заглянул. Дельбрюгге, зная о причудах его зрения, не стал рассчитывать на то, что он сразу увидит знакомые фамилии, если вставить их в список по алфавиту, и потому, не мудрствуя лукаво, напечатал их самыми первыми.
Эффект превзошел все ожидания.
Ширах прищурился, а потом захлопал ресницами, словно глазам не верил. Лицо у него побледнело, на виске заколотилась жилка, рот приоткрылся.
Дельбрюгге молча ждал.
— П-послушайте, — сказал Ширах, он даже начал легонько заикаться от волнения, — вот эти т-трое…
— Что такое с этими тремя?
— Я… я не хотел бы видеть их в этом списке. Извольте сделать что-нибудь, чтоб их тут не было.
— Герр гауляйтер, — тихо, твердо сказал Дельбрюгге, — вы позабыли, что вы не мой шеф.
— Значит, позвоните своему. И решите этот вопрос.
— Позвольте. Я не понимаю, почему эта еврейская семейка должна находиться на особом положении, — усмехнулся Дельбрюгге, — и буду рад, если вы объясните мне то, чего я не понимаю.
— Я не намерен вам ничего объяснять! — рявкнул Ширах, — И выясню этот вопрос сам!
— Пожалуйста, герр гауляйтер, — невозмутимо отозвался Дельбрюгге. Звони, звони Гиммлеру, дурачок. Он ждет твоего звонка.
Самодовольная физиономия эсэсовца окончательно вывела гауляйтера из себя, и он сдавленно сказал:
— Дельбрюгге. Уйдите вы к черту отсюда.
Оставшись в кабинете один, Бальдур рухнул на стул и сжал ладонями виски.
Дельбрюгге совсем понапрасну держал его за полного идиота. Бальдур прекрасно понял, что фамилия «Гольдберг» угодила в список вовсе не случайным образом. Это был, разумеется, ответ Гиммлера на Чайковского.
Дельбрюгге, слава Господу, убрался, адъютанты не входили без зова, и Бальдур мог устроить небольшую истерику, чем и занялся. Уж очень ему было страшно, противно и больно.
Около пяти минут он глядел в никуда полными слез глазами и тихонько бормотал — если б кто-то увидел его, может, подумал бы, что он читает молитву. Но это была не молитва, ибо молить того, чье имя он бормотал, было бесполезно — хоть о милосердии, хоть о прощении.
— Хайни, Хайни… Оставь меня в покое, пожалуйста, Хайни, что я тебе сделал… Мы ведь когда-то ладили с тобою…
Бальдур отлично понимал, что все давным-давно изменилось самым поганым образом, и это придется принять.
Он сунул руку в ящик стола, отыскал там яблоко и принялся его сосредоточенно грызть. Так он уж был устроен — стоило испытать серьезное волнение, и на него нападал прямо-таки волчий голод. Привычка вечно что-то жевать была не из лучших, он это знал, но мало что мог с собою поделать — даже под угрозой снова набрать вес, как это с ним однажды уже случилось в молодости. Более-менее уберечь его от этого мог разве что верный Отто, который (по его же просьбе) всегда орал: «Опять ЖРЕШЬ, КАК СВИНЬЯ?!» и набивал ящик его стола яблоками и морковками, от которых хоть вреда не было.
— Господи, — пробормотал он, — еще утро, а я себя чувствую как водовозная кляча… Как мне все надоело. Как я чертовски устал от всех вас… Почему я, бестолковый идиот, не уехал, когда меня звали — меня ведь звали убраться отсюда к чертовой матери, Господи…
Он вспомнил о Пуци, и его брови напряженно сошлись. Он ощутил глубокую тоску по нему — раньше он предпочитал не думать о том, как ему не хватает этой физиономии с презрительным ртом и кроткими глазами, этого спокойного низкого голоса, да, и огромной теплой лапищи, которая обычно так ласково гладила его по волосам.
— Ах да. У тебя ведь все отлично. Ты у нас молодец. Только вот… будь осторожен, ладно? Если живешь среди крыс, не может быть уверенности, что они не сожрут тебя… И если что — приезжай.
О да, Пуци, у меня все отлично. Хоть пулю в лоб. Как ты был прав — нельзя жить среди крыс. Приехать? Как, мой Бог, у меня это теперь получится?!
Нет выхода. Нет.
Бальдур вспоминал лицо Пуци и его взгляд — тогда, когда он признался, что еврей… И Рональд Гольдберг еврей, и жена его, и пацан. И вот теперь я должен — ДОЛЖЕН позвонить Хайни, иначе мне не спасти их, их увезут из Вены в набитом вагоне, увезут туда, откуда не возвращаются.
А если я позвоню, меня, возможно, увезут вместе с ними. Прелестная перспектива, да.
Рука у Бальдура явственно дрожала, когда он потянулся за телефонной трубкой, и он с отвращением посмотрел на собственную руку. Трус. Надо ж быть таким трусом.
Прикусив губы, он быстро, чтоб решимость не растаяла, сунул в рот зажженную папиросу и набрал берлинский номер.
Он чуть не поседел за время этого недлинного разговора, но убедился в главном — Хайни пока еще не собирается расправляться с ним так, как он того заслуживает. Гиммлеру доставляло очевидное садистское удовольствие мучить его, держа в страхе, и ему блестяще это удавалось…
— Я слышал, — проворковал он, — что у тебя изменились музыкальные вкусы, Бальдур? Но я надеюсь, что ты по-прежнему не забываешь Рихарда Вагнера?
Да. Бальдур не забыл того Рихарда Вагнера, который не был автором «Валькирии» — и был уверен, что до смерти не забудет.
— Нет, Хайни, конечно, не забываю, — он изо всех сил старался говорить так, чтоб в голосе не было слышно позорной дрожи.
— Так чем обязан, герр гауляйтер? У меня работы по горло.
— Хайни, — Бальдур понял, что не приготовил нужных слов, но было поздно, — у меня к тебе… просьба личного порядка…
— Всегда рад помочь.
Бальдур так и видел, как тот ухмыляется на том конце провода, зная, что сейчас венский гауляйтер будет унижаться перед ним.
— Мне тут принесли список… подлежащих депортации…
— Не понял. Почему тебе? Дельбрюгге шею намылю.
— Хайни, нет, не надо… дело в том, что в этом списке есть семья, которая… предана национал-социализму… и оказалась там по ошибке…
— Бальдур, ну какого черта тебе заниматься такими вещами? Это, слава Богу, не входит в твои обязанности. Позволь разбираться с ошибками тем, кто должен это делать…
— Но, Хайни! Список УЖЕ есть! Депортация этой партии назначена на послезавтра! Вы успеете разобраться?
— Я свяжусь с Дельбрюгге. И, уверяю тебя, если среди этих семей отыщется преданная национал-социализму, с ее депортацией мы подождем.
Бальдур не назвал Гиммлеру фамилию Гольдберг. Было ясно, что она ему прекрасно известна. Но что было совершенно неясно — так это что теперь будет с Гольдбергами, ничего определенного Гиммлер не сказал.
— Ты меня с ума хочешь свести, — прошептал Бальдур, когда положил трубку на рычаг.
Знать бы хоть, где они живут. Предупредить, чтоб уезжали из Вены, удирали куда угодно… может, получится…
Бальдур хлопнул себя ладонью по лбу: черт, как до него сразу не дошло? Он снова схватил телефонную трубку, набрал номер венского штаба Гитлерюгенд — и уже через десять минут знал адрес Пауля Гольдберга.
Он не решился посылать по этому адресу своих адъютантов — мало ли что, подставлять парней не хотелось. Он решил, что вечером отпустит охрану, сделав вид, что поехал домой, и сам заглянет к Гольдбергам.
Почти успокоившийся, он по уши погрузился в работу — и даже умудрился к восьми вечера переделать все, что запланировал на день.
— Ну ты даешь, — проворчал Отто.
— Ты сегодня как с цепи сорвался, — сказал он, — сто лет не видел, чтоб ты так вкалывал, Бальдур. Что-то случилось?
— Да нет… нет. Наверное, просто рабочее настроение.
— Можно, я в календаре пометку сделаю? Для истории?
Бальдур улыбнулся — подковырка была по делу, гауляйтерские обязанности он исполнял с большою неохотой да и вообще от природы был созданьем скорее ленивым, чем наоборот.
— Слушай, Отто, — сказал он, — домой я тебя отвезу, а потом мне надо заехать в одно место. Ненадолго.
— Понял. В одно место. Но учти, Бальдур фон Ширах, если ты опять завел себе очередной амур, я тебя пристрелю. Ты мне надоел.
— Иди ты на хрен. До амуров тут… Я скоро от Дельбрюгге импотентом стану…
— Как, у тебя уже и с Дельбрюгге амур? Фу, Бальдур!
— А чернильницы у тебя над башкой давно не свистели?..
— Бальдур! Бальдур, оставь! — весело заорал Отто, но голову все же пригнул, и не зря. Чернильница пролетела над ней и выплеснула на стену страшенную кляксу.
На шум явилась секретарша Хельга. Она поглядела на изукрашенную стену и сурово сказала:
— Бальдур, пороть вас некому.
— Просто, — сказал Бальдур, — вы ничего не понимаете в абстрактном искусстве.
Произведение абстрактного искусства обтекло и представляло теперь из себя нечто продолговатое и до изумления противное.
— Ну как вы не видите, — сказал Бальдур, — вылитый Дельбрюгге…
Он отпустил шофера и сел за руль сам. Закинул Отто домой и полез в карман за бумажкой, на которой записал адрес Гольдбергов.
Ехать по вечернему городу, никуда особенно не торопясь, без эсэсовцев на заднем сиденье, оказалось очень приятно.
Черт, подумал он, а почему б не запихать Гольдбергов в машину — если они быстро соберут минимум самого необходимого барахла, это вполне возможно — и не вывезти их из Вены? Машину гауляйтера никто не остановит. Больше он все равно ничем не сможет им помочь… Да, везти их полночи — как можно дальше отсюда — а потом вернуться. Отто будет беспокоиться, ясное дело — но когда Бальдур все ему расскажет, он поймет, разумеется, поймет.
Конечно, все это безумно рискованно. И картинка та еще — венский гауляйтер с тремя евреями в машине, к тому же подлежащими депортации. Если об этом станет известно, точно поедем в одном вагоне и в одно и то же место…
Но это единственный шанс им помочь. Потому что сами они из города могут и не выйти. Такое ощущение, с брезгливостью подумал Бальдур, что эсэсовцы размножились почкованием и слоняются буквально повсюду — он то тут, то там замечал давно уже ненавистные ему черные фуражки с высокой тульей.
Потом он с тупым, обессиливающим отчаянием думал — разве я сделал не все, что мог? Не все? А было так страшно говорить с Хайни об этом.
Он даже сглотнул, словно только что по нежной коже шеи скользнула сверху вниз узкая колючая петля… В первый раз в жизни он по-настоящему рисковал своей буйной, а временами и откровенно дурной пепельноволосой головушкой — и то ради человека, который остался где-то там в его детстве, а сейчас… Бальдур не представлял себе, как Ронни относится к нему сейчас — и хорошо, что не представлял, иначе ему было бы очень больно.
И он ни в чем не был виноват — он счел совершенно логичным решением приехать к Гольдбергам вечером, когда уже начинает темнеть. И никак не мог знать того, что вечером будет поздно. Да и никто не мог этого знать.
Сам Ронни не знал — хотя ему, благодаря своей скрипке, случалось видеть многое из того, что случилось или только случится.
И само собою, не знали ни Мария, ни Пауль.
И даже обертштурмфюрер СС по имени Хорст Зауэр — кстати, Дельбрюгге присматривался к нему, всерьез думая о том, что парень вполне способен командовать личною охраной гауляйтера Вены — ничего не знал. Он просто пил с приятелями.
…А Рональд и его сын просто искали работу, потому что после того, как Рональда выгнали из ресторанчика, где он играл чуть ли не с первого дня в Вене, им не на что было жить. А выгнали Рональда потому, что «простите, герр Гольдберг, я не могу позволить себе музыканта-еврея, это опасно, а у меня семья, дети…»
И нигде — совершенно нигде никто не горел желанием взять на работу еврея. Рональд готов был на все. Хоть посудомойкой, хоть грузчиком, хоть чистить толчки в гостинице, но…
Пауль полагал, что если попытается поискать работу один, без отца с его еврейской шевелюрой, его попытки увенчаются успехом — но зря он так думал. Он и сам не звонил в двери тех, в чьих семьях сейчас жевали ужин его ровесники из венского гитлерюгенда — было стыдно. И ни единый венский горожанин не желал брать даже на временную работу хмурого подростка со свастикой на рукаве. Причем Паулю приходилось иной раз слышать такое… Он догадывался, что это его еврейский вид так располагал к откровенности, не иначе.
— Фюрер вас расплодил, пусть и кормит…
— Пшел вон, сопля, у меня свои дети голодные сидят!
— Чтоб я такого, как ты, на работу взял? Доносчики, стукачи малолетние…
— Ступай, сапоги чисть эсэсовцам — авось костью и поделятся…
— Пауль, — Рональд осторожно коснулся острого плеча, — что случилось? Что они тебе там сказали опять?..
Пауль пытался, изо всех сил пытался сдержаться — но не сумел, с него было достаточно унижений, и он, краснея и кусая губы, вывалил отцу все, что слышал. Он зажмурил глаза, словно в них плеснуло кипятком.
Рональд молча смотрел, как по лицу его мальчика струятся неудержимые слезы… как парень, словно жеребчик, на которого в первый раз надевают хомут, дергает головой, как прыгает короткая темная челка.
— Ладно, — сказал он, — пойдем домой. Мать ждет…
— Ты иди, — икая, выдавил Пауль, — я сейчас. Я догоню.
Он не хотел выходить из переулка — он был гордый парень. Сейчас, думал он, сейчас эти слезы наконец выльются до капли, я вытру лицо и пойду… Но только не вместе с ним, не рядом. Я не могу. Мне… стыдно…
— Пауль, — отец коснулся его плеча, — знаешь, что я тебе скажу? ВСЕ ЭТО скоро закончится.
— Откуда ты зна…
— Я видел.
Рональд действительно видел — у него была его скрипка.
В первый раз в жизни Пауля Гольдберга — раньше слишком маленького и избалованного, что там говорить, слишком занятого собою и друзьями — вдруг внезапно захлестнула выше горлышка страшная, сокрушительная, горячая, но такая удивительно сладкая на вкус волна любви к своему странному неудачливому отцу. Отец. Его скрипка. Его виноватый взгляд. Его сутулые плечи.
Рональд деликатно отвел глаза, хоть Пауль этого и не увидел, занятый тем, чтоб проморгаться от слез — и медленно пошел по переулку. Он знал, что парень догонит его. Чувствовал. И это было так радостно, словно никаких горестей уже и не было на свете — и войны не было, и плачущих на вокзальной платформе растерянных женщин не было тоже…
Рональд слишком сильно ждал, что вот, вот сейчас Пауль подбежит и пойдет рядом с ним — и потому не смотрел по сторонам, он сына ждал, сына, который наконец-то забудет о своей фальшивой коричневой форме и пойдет рядом с ним без стыда….
— Смотри, куда прешь.
Рональд остановился, как молнией Господней пораженный несправедливо…
Что значит «прешь» — он не толкнул никого…
Дух ада — долговязый и белокурый эсэсовец по имени Хорст Зауэр, но этого Гольдберг не знал, и никто не узнал — вырос перед Рональдом. За спиной его нетвердо маячили три тени. Тени были высоки и черны.
— Простите, — пробормотал Рональд.
До этой встречи он больше всего на свете хотел, чтоб его догнал сын.
После — только и думал о том, чтоб Пауль догадался не подойти, не встать рядом.
Пауль и догадался. Он увидел сгорбленный силуэт отца на фоне четырех прямых черных теней… и потом долго, очень долго ругал себя за трусость… хотя знал, что его вмешательство ничего б не дало.
Зато он слышал всё, абсолютно всё — стоя за выступом, каким-то очередным архитектурным излишеством случайного венского здания, его отец знал, как это все называется, Пауль — нет…
Он слышал, как эсэсовец — он и видел его хорошо, и узнал бы — два метра росту, светлый чуб — заговорил, громко, на всю улочку, красивым пьяным тенором:
— Не так давно гауляйтер Вены Бальдур фон Ширах заявил, что Вена превратится в чистый арийский город. Тем не менее, все еще на ее улицах попадаются под ноги всякие евреи… — и выстрелил в упор, рисуясь перед своими дружками.
Пауль не заметил, как эсэсовец вытащил свой пистолет — Хорст Зауэр приучен был делать это молниеносно — и увидел только, как его отец падает, падает — это не игра в войну — просто падает под ноги этим черным говорящим, смеющимся теням.
Пауль так и не посмотрел в лица двум невесть откуда взявшимся прохожим, которые помогли ему оттащить отца домой. Один из этих прохожих нес Рональдову скрипку — Рональд, хоть и не надеялся найти работу музыканта, все равно упорно таскал ее с собою.
А таскал потому, что за это время она будто бы срослась с ним, не столько став его частью, сколько превратив его в свою — в свой орган действия, способ выражения, в свою упрямую несчастную попытку хоть что-то спасти в стремительно распадающемся на кричащие атомы, объятом пламенем мире. Скрипка штопала и штопала расползающуюся и рвущуюся ткань мира, предупреждала о чем могла и как умела, но еще первый (а раз уж на то пошло, тысяча первый) беспомощный ее хозяин, Давид Гольдберг, отметил грустную парадоксальную суть правдивых предсказаний — либо не тем они даются, либо не вовремя, либо просто ничего не могут изменить. Какой недотепа-мастер сделал тебя, думал Рональд, и почему не понимал, что знание не даст ничего, кроме скорби, если нет у тебя силы?
Меж тем, все то, что Рональд благодаря скрипке видел и ощущал, а также режущее сознание своей никчемности разрушали его куда беспощадней и быстрей, чем это сделал бы рак. Он уже почти ненавидел этот инструмент — и без того, думал он, жить нельзя, ни воздуха, ни воды для нас, все отравлено — хуже, чем в той пустыне — а тут еще ты, подружка… Как и многим музыкантам, ему был свойствен полуироничный, полунаивный антропоморфизм, если дело касалось любимого инструмента — ну, как гитара всегда девица, а контрабас — друг.
Подружка, да уж. Спасибо тебе, папка, за то, что облагодетельствовал сынка девочкой, что тебе не подошла. Еще бы: девочка-то с приветом, с такой испугаешься ночь провести: глазки у нее блестят, но как-то уж слишком весело, слишком ярко, словно только отражая свет, а улыбочка миленькая, да уж больно взросленькая, а голосок неожиданно богатый, заслушаешься… так и кажется, что таким голосом хорошо выть и хохотать наидурнейшей дурниной, по-кликушески выкрикивая что-нибудь вроде «и имя той звезде будет полынь».
И имя той звезде по имени солнце было свастика. И дети в черных этих школах строем встречают ее восход. А Ули Вайнраух Паулю письмо написал, все же взяли его в эту школу — а письмо, о ужас, Пауль, как хорошо, что тебя в эту школу никогда не взяли б; не знаю, кем ты у меня будешь, когда вырастешь, но одна радость — что не гауляйтером Сибири, как Ули. А еще к ним приезжал отец-основатель, Роберт Лей, «немного странный», как пишет Ули — читай: пьяный в лиловую дымину, и обещал построить много-много пароходов, чтоб каждый стал капитаном… Ширах, Ширах, прием? Ты этого хотел? Детишек кормить бредом диким? Или им с этим бредом в светловолосых головках легче будет умирать, когда они, в свой срок, пойдут воевать за свое гау Москва?..
Эх, подружка моя долбанутая, и права ты, во всем права, а толку-то что. Что я могу… И потом, ты, головка твоя деревянная, не подозреваешь о том, что скоро некому тебе станет сказки рассказывать и страшилки показывать. Полбашки седины ты мне уже набила — в мои-то тридцать семь, и моторчик у меня уже сбоит, потому что то, что вижу я твоими молитвами, ни одно сердце не вытянет, если оно не железное. А главное — что впустую все это.
Может, расстаться нам? И кому б тебя подкинуть на подержание, девочка моя-кровопийца? По-хорошему б надо — тому, кто хоть что-то сможет выкроить из твоих показушек, что-то изменить, что-то предотвратить… Но я таких не знаю, я с хозяевами не дружу. Да и скрипачи из них как из мандавошки махаон.
Может, тебе, Ширах, девочку мою оставить? Ты ведь немножко умеешь играть. Этого будет достаточно. Тебе понравится. Ты ведь музыку любишь, все об этом знают — война идет, ваших бьют, а в Вене через день да каждый день то концерт, то опера. Здешним нравится — а ты славный малый, тебя и любят здесь за эту музыку, за то, что с тобой и войны как будто бы нет, и болтать можно все что угодно, никого ты за болтовню не повесишь, — ну, а что чехов да евреев из города вон, так они ж разве люди. Нечего им в арийском городе делать, пусть у себя дома живут да радуются — особенно последние. Впрочем, евреям и здесь есть чему порадоваться — хоть и тому, что ты, как Бюркель до тебя, не заставляешь их арийскую мостовую зубными щетками отдраивать. Добрый ты, хороший, милый. Зачем так унижать бедолаг на своих глазах — пусть в другом месте на карачках ползают, в Дахау, например…
Нет, действительно, это идея, Ширах. Это хороший подарок, Ширах, у тебя ведь не так давно был день рожденья — тридцать пять, отличный возраст, вспомни — «земную жизнь пройдя до половины..»[15] — а старый друг Ронни тебя даже не поздравил, ничего не подарил, нехорошо… Вот это будет подарочек. Ты с ним умный станешь, умней фюрера своего пристукнутого, всех умней. Правда, проживешь после этого недолго, но дело того стоит. При наличии определенного опыта и доверия скрипочка показывает даже то, что хочешь увидеть ты сам. И я уже насмотрелся, ох насмотрелся. Еще сто жизней проживу — не забуду. А теперь ты посмотри. Не на евреев — чего на них смотреть, они ж разве люди. Ты на СВОИХ посмотри…
Я ведь за тобой наблюдал, Ширах, дружочек. Видел, как ты любишь детишек, как больницу посещал в Берлине, как мордочка у тебя морщилась и на глазах слезы выступали, когда ты видел малыша, который родился слепым и глухим. А скрипочка тебе покажет, как твои приятели ребятишек — слепеньких, глухеньких и дебильненьких — в Хадамаре убивают, чтоб не мучились и нацию не позорили (не бойся, безногенький, это только лишь укол — укололся и пошел…) А как старшие пареньки малышей в твоих гитлер-школах долбят по ночам, ты тоже не видел? А как умирать все они будут?..
И себя ты тоже не видел… (на этом месте своих раздумий Ронни всегда криво улыбался — чертова скрипка показывала все что угодно, но только если это не касалось его самого, а он — в этих обстоятельствах — хотел бы заранее узнать, как умрет). Впрочем, и Ширахову смерть скрипка ему не показала, хоть он и просил.
Зато показала то, что доставило ему истинное удовольствие — так он и понял, что власти крыс скоро придет конец…
Рональд никогда в жизни не был во Дворце правосудия в Нюрнберге — если б бывал, то узнал бы, впрочем, это неважно — достаточно и того, что это явно зал суда. А это — явно скамья подсудимых, и вот он, наш друг, третий слева во втором ряду. Тьма. Блик. Кажется, собираются показывать фильм. Это суд или кинозал?..
Рональд видит фильм — словно сидит рядом с Ширахом на скамье подсудимых. Да. Это не кинозал. А после этого фильма будет уже и не суд. Остается рассчитывать только на то, что представители четырех держав постесняются порвать подсудимых прямо тут, на глазах друг у друга. Я бы — порвал в клочки. Медленно. Зал стонет. Слышно, как подвывают, утратив контроль над собой, адвокаты, как защитники вполголоса хнычут — Боже, Боже, ужас, ужас..
Заключенные концлагеря, сжигаемые заживо в сарае. Печь крематория в лагере Бухенвальд. Абажур из человеческой кожи. Белые, голые, истощенные женские трупы, сваливаемые в яму… бульдозер, сгребающий не землю, не грязь, а человеческие тела, уже не похожие на тела — ведь те состоят из плоти, а эти — из костей и кожи.
Рональд — скрипка часто выдает такое — действительно словно б находится на скамье, среди подсудимых. И ощущает, как от скамьи облаком поднимается смрад липкого холодного пота. Лица подсудимых достаточно освещены, и Рональд ощущает радость, когда видит, как один — со знакомым лицом — начинает давиться и прятать глаза, сдерживая рыдания, второй — кажется, он имеет отношение к Рейхсбанку, а может, и нет — откровенно плачет, сморкаясь в платок[16]. А как наш друг? А?!
Ширах напряженно уставился на экран[17]. Он ерзает на скамье и тяжко, очень тяжко дышит, словно только что пережил сердечный приступ. Но — не плачет и не пытается демонстративно отвернуться от экрана.
Дальше, просит скрипку Рональд, дальше.
А дальше он видит тюремную камеру, метра четыре на три, не больше[18]. И видит, как тот, кто в «кинозале» вроде бы держался, теперь ничком валяется на койке и рыдает, ткнувшись в подушку. Так тебе и надо.
Похоже, ночь. Тихо. Только всхлипы и скулеж заключенного и слышны некоторое время, а потом он приподнимается, кусая губы, словно принял некое решение — и сделал это не в здравом уме, потому что мокрые глаза его широко-широко раскрыты, но он, должно быть, ничегошеньки не видит, потому что взгляд не фиксируется ни на чем. Он даже садится мимо койки — на пол, но его это, похоже, не волнует. Не глядя, он нащупывает край простыни. Он в майке, и видно, как напрягаются мышцы на худых руках.
Трррак! — и от простыни оторвана длинная кривая полоска.
Лязгает ключ в замке, и в камере появляются два молодых парня в форме, которая в полутьме кажется черной.
— Вам позвать врача, — интересуется один из них, — или мы дадим вам успокоительного сами?
— Не надо врача, он только что к Штрайхеру ходил, — замечает второй, — врачам тоже спать надо. Сами.
— По морде не бей, — говорит первый, — ему завтра в суде сидеть…
Заключенный съеживается и бормочет что-то вроде «не имеете права».
Но первого, видно, уже не сбить с толку.
— В случае попытки побега, — он явно цитирует устав тюрьмы, — вы будете побиты или ранены, в обоих случаях ответственность ложится только на вас.
— Чтооо? «Побега»? — Ширах щурит глаза.
— В данном случае, — первый охранник тычет ему в нос оторванную от простыни полоску, — имеет место попытка побега от ответственности. Или от действительности, как вам больше нравится. Но — имеет.
— Вам бы прокурором быть… уууу!
Охранник дает сидящему на полу заключенному этакого короткого, на вид несильного пинка по бедру — но от этого элегантного тычка почти моментально начинает разливаться кровоподтек.
Рональду доставляет почти физическое удовольствие наблюдать, как этого засранца бьют — а бьют быстро и грамотно, не нанося серьезных увечий, но причиняя немалую боль, потому что Ширах (он не закрывает лицо, отлично поняв, что по лицу бить не будут — не идиоты же!) мучительно морщится и охает от каждого удара — да это и ударами не назовешь, так, тычки, иной раз затрещины, от которых у него мотается голова…
— Хватит… у меня мигрень, черт подери… по башке не бейте…
Он снова плачет, на этот раз от унижения и боли. И ясно, что не скажет обо всем этом даже своему адвокату. Ему страшно стыдно за сам факт. Возможно, стыдно оттого, что не оказывал ни малейшего сопротивления — а мог бы, меж тем, и сам сжать кулаки, да хоть и заорать, Штрайхеру подобно, на всю тюрьму, и ничего подобного б не случилось…
— Ну что, будем и дальше портить казенное имущество? А?!
— Ннет…
— Не пойму, какой в этом смысл, — смеется охранник, — Тебя так и так повесят… Не терпится, что ли?
Заключенный ревет. Охранники, должно быть, полагают — от страха…
— Поплачешь — перестанешь, — говорит охранник, — от тебя люди не так плакали, зверюга, убийца, тварь!
Мерседес гауляйтера Вены, тускло светящийся под заморосившим дождем, мягко подкатил к дому, где проживали Гольдберги и еще две такие же нищие семьи, приблизительно в девять вечера. В это время Рональд уже лежал на старом обшарпанном диване, но не был похож на спящего. Скрипка в забрызганном грязью футляре лежала на столе — теперь уж ее футляр и впрямь походил на гробик. А рядом с Рональдом сидели его жена и сын и смотрели ему в лицо.
Рональд уже не мог услышать шума подъехавшей машины, не мог открыть на стук, не мог выслушать своего бывшего приятеля и поверить ему.
Мария и Пауль, впрочем, тоже не услышали машины и одновременно вздрогнули от стука.
— Я открою, — сказала Мария.
— Я сам, — Пауль резко поднялся. Это те эсэсовцы, подумал он, они меня все-таки заметили и теперь пришли за мной.
Он ждал чего угодно — даже выстрела в упор прямо из открытой двери — но только не того, кого увидел за ней. Это явление было настолько невозможным на пороге крошечной еврейской квартирки, что Пауль как-то и не сразу узнал вошедшего, хотя видел его только вчера. Впрочем, один раз-то он уже являлся ему таким же непостижимым образом — прямо в класс посреди урока географии… но тогда у него не было такой неуверенной улыбки, а нос был по-королевски вздернут…
— Здравствуй, Пауль.
Нет, не поразительно ли, что он и имя помнит? Если б Пауль знал всё, он подумал бы, что не поразительно — даже совсем наоборот.
— Здравствуйте… герр гауляйтер.
— Отец дома?
— Дома, — усмехнулся Пауль, — и будет дома. Пока не вынесут.
Он сам не понял, как это у него выскочило, без страха, нахально так.
— Что?..
Надо же быть таким сукиным котом, думал Пауль, и ТАК разыгрывать недоумение… И надо же иметь такую… раздерганную душонку. Ну, выросли двое мальчишек, пожалели о своей дружбе. Ну, проникся еврей непреходящим презреньем к своему приятелю-баварцу. Ну, приказал этот самый приятель эсэсовцам убивать евреев прямо на улицах. Вражда — она и есть вражда, ненависть — это ненависть. А ты даже ненавидеть честно не умеешь, Бальдур фон Ширах. ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛ?
— Пауль, ты… что сейчас сказал?.. — Ширах хлопал глазами. Но хоть больше не улыбался, слава Богу.
— Я сказал, что моего отца больше нет. Его убили. Только что.
— Мой бог, — тихо ахнул Ширах, — Да кто?!
— Какой странный вопрос, — сказал мальчик, глаза его — карие, Рональдовы — горели такой ненавистью, что страшно было смотреть в них.
— Но Пауль, я же действительно ничего не знаю…
— Угадайте с трех раз, — Пауля окончательно понесло на волне ярости, словно на бешеном коне, ему плевать было на то, что он дерзит в лицо губернатору Вены да и просто взрослому человеку, — Те, кому велено превратить Вену в чистый арийский город…
— Эсэсовцы?.. — лучше б Бальдур этого вопроса не задавал, — какие эсэсовцы? Пауль?..
Он был совершенно растерян, но Пауль не верил ему, вот и все.
— Вам лучше знать ваших эсэсовцев, — выдал мальчишка очередную дерзость, — я их не знаю, откуда мне.
— Я их тоже не знаю, чтоб ты знал… — начал Бальдур — и смолк, поняв, какою ересью звучат его слова для мальчика. Какою ложью. Ну откуда людям-то знать, что эсэсовцы следят и за гауляйтером — и если даже подчиняются его приказам, то только тогда, когда они совпадают с требованиями их начальства? Ну объяснишь ли всю эту гнусную систему пацану, у которого только что убили отца?
— Пауль, — сказал он тихо, — мне очень жаль. Я никогда не отдавал этого приказа.
Мальчик пожал плечами.
— Пауль, — продолжал он, — я… я мог бы попытаться вывезти тебя и твою маму из Вены…
— В Дахау? Спасибо.
— Черт, Пауль, ну послушай же меня!..
— Не ругайтесь, пожалуйста, при покойных этого обычно… не делают.
— Извини…
И тут из комнаты вышла Мария. И спокойным голосом сказала:
— Пауль, не смей так разговаривать со взрослыми.
— Фрау Гольдберг? — Бальдур моргнул, — Я…
— Я знаю, кто вы. Простите, но я слышала ваш разговор с Паулем, он не закрыл дверь в комнату…
Пауль с недоумением и обидой уставился на мать. Он не понимал, как у нее это получается — СПОКОЙНО говорить с этим человеком.
— Однажды Ронни показал мне вас, — продолжала Мария, — после того, как у вас с ним случилась эта… ссора. У вас волосы тогда было светлее… а лет вам было, может быть, семнадцать-восемнадцать…
Какое это имеет значение, подумал Пауль.
— Знаете, эта ссора ваша так никогда и не давала ему покоя, — зачем-то рассказывала Мария, — он всегда много думал о вас, я же видела, как он смотрит на ваши фотографии в газетах. Ронни не считал, что вы хорошо сделали, приняв Пауля в Юнгфольк…
— Я хотел как лучше.
— А я это поняла. Потому что это помогло Паулю. Он… перестал заикаться.
Пауль отвернулся и едва не скрипнул зубами.
— У вас не было неприятностей по службе?
— А вы как думаете, — пробормотал Бальдур.
— Знаете, то, что вы сейчас сказали Паулю. По поводу эсэсовцев. Я вам верю.
— Спасибо.
— Каким образом вы собирались вывезти нас из Вены, герр фон Ширах?
— Никуда я с ним не поеду…
— Пауль, помолчи.
— Каким?.. Да в своей машине… — пожал плечами Бальдур, — не лучшая идея, далеко б я вас не увез, но главное — уехать… вам… теперь опасно тут оставаться. Я и приехал, чтоб сказать это Рональду…
— Врете…
— Пауль, помолчи. Герр фон Ширах, сейчас мы не можем ехать. Нам…нужно его похоронить, как вы понимаете… Спасибо вам.
И тогда Бальдур сделал единственное, что ему оставалось. Порылся в карманах плаща и отдал Марии Гольдберг свой неплохо набитый бумажник.
Дельбрюгге никогда не видел гауляйтера таким. Тот явился с утра в канцелярию, как, прости Господи, нибелунг, которому кто-то наплевал в брагу, и брюзгливо сообщил:
— Я собираюсь звонить Гиммлеру.
Вот чудеса-то. Да его силком не заставишь звонить Гиммлеру.
— А что, какие-то новости? — поинтересовался Дельбрюгге. Он никаких новостей не знал.
— Плохие. Кто-то из ваших парней вообразил себя таким героем, что нарушает приказы Хайни.
— Что-что?..
— Вот, — гауляйтер сунул ему под нос тот самый листок со списком, — тут написано, что первая по списку семья подлежит депортации на восток. Сегодня.
Бальдур не стал бы напоминать об этом Дельбрюгге, если б уже абсолютно точно не знал, что ранним утром Гольдберги покинули Вену.
— И что получается? — продолжал он, очень артистично разыгрывая высокомерную шишку, — А получается то, что депортация этой семьи в полном составе невозможна.
— Почему?
— Кто из ваших… хм, не вполне трезвых викингов вчера пристрелил на улице этого еврея? А?..
— Ничего об этом не знаю, — вздохнул Дельбрюгге, — но, думаю, узнаю. А, собственно, в чем вопрос-то, герр гауляйтер? Отправили на восток или зарыли здесь — какая уж существенная разница?
— А вопрос эсэсовской дисциплины? — нежно напомнил ему Бальдур, — Эсэсовец — это не просто руны «зиг» на вороте, фуражка и тупая башка. Эсэсовец — это верность приказу!
— Я решу вопрос с этим… случаем, — пробурчал Дельбрюгге, — и сам позвоню куда нужно…
Он был очень зол. Вся канцелярия слышала, как этот рохля ткнул его носом в некомпетентность его подчиненных — и заодно в его собственную. Он не привык узнавать о том, чем заняты подчиненные ему эсэсовцы, от гауляйтера. Как правило, дело всегда обстояло наоборот.
Бальдур едва досидел в своем кабинете до вечера, испытывая странную смесь радости и легкого страха. И еще у него снова возникло то ощущение, которое и делало его самим собою — а он-то думал, что тут, в Вене, в вечных стычках с СС и в вечном страхе перед Гиммлером и Борманом, навсегда утратил его.
Ветерок. Что-то вроде прохладного ветерка в груди, уносящего все выше и выше в небо его быстро бьющееся сердце. Предчувствие — нет, не черное предощущение близкой беды, а предвестие чего-то странного или необыкновенного. Так было перед появлением в его жизни и Пуци, и Отто.
Кстати об Отто…
— Герр адъютант, а не явились бы вы?..
— Что такое, Бальдур? Что-то имеешь мне сказать? — ухмыльнулся парень. Балаболка Бальдур, конечно, не удержался от того, чтоб не рассказать ему историю этой ночи, к тому же, Отто, как и все, наблюдал, как Бальдур сегодня вытирал сапоги об Дельбрюгге, и его это, как и всех, очень порадовало.
— Я, Отто, имею тебе сказать, что сегодня напьюсь.
— Господи, твоя воля! Дома.
— Нет.
— Куда собрался?..
— Куда-куда. Я уже одичал, Отто, в этом зоопарке. В ресторан при «Гранд-Отеле» пойду.
— Это без меня. Не нравятся мне рестораны эти… Опять же, костюм напяливать надо…
— Не хочешь, ну и не ходи.
— Бальдур, я только хотел сказать — можно же надеяться, что из ресторана ты приедешь вовремя? Все же ресторан… говорю же — сидел бы дома! Дома-то уж можешь наширахаться, как тебе взбредет.
— Что-оооо я могу дома сделать?!
— Наширахаться. Потому что так, как ты, не напивается абсолютно никто. Люди, когда выпьют, радуются жизни, поют «Хорст Вессель», танцуют с дамами. А ты сидишь мне стихи читаешь, слушаешь «Реквием» Моцарта и куришь по двадцать папирос за раз… — грустно улыбнулся Отто.
— Не сегодня. Сегодня у меня есть все основания радоваться жизни.
Отто внимательно посмотрел ему в лицо — и тут же ему поверил. Бальдур улыбался нормальной, а не дрожащей улыбкой, и у него светились глаза.
Между прочим, его крайне порадовало в том числе и изобретенное его адъютантом словечко. Оно напомнило ему о Пуци.
Столика он не заказывал — не хотел привлекать лишнего внимания к своей весьма заметной персоне, да и знал, что сейчас, во время войны, в ресторане при «Гранд-Отеле» не бывает слишком много посетителей. Слава Богу, никого в черном-с-серебром, с рунами «зиг» и в фуражках тут не наблюдалось. Сам Бальдур был в смокинге, плевать ему было на этих всех, а вот на правила хорошего тона — еще пока не плевать. Он вспомнил о том, как Пуци глядел на коричневорубашечников в театральной ложе. Нет, в самом деле, что за отвратные манеры у них у всех. Даже… у фюрера. Вот только некому ему, фюреру, указать на это. Особенно теперь, когда Пуци нет.
Но в свое время Бальдур собственными ушами слышал еле уловимое, но вполне язвительное его шипение: «Адольф!! Немедленно прекрати целовать руки всем этим пятнадцатилетним мокрощелкам и не смеши людей!» Впрочем, что Адольф, если даже Яльмар Шахт привел как-то раз на прием свою благоверную с огромнейшей бриллиантовой свастикой на груди. Остальные дамы и хотели бы, может, позавидовать этой свастике, да не вышло — уж весьма нетихими репликами перекинулись сразу двое как раз по этому поводу.
— Вот они где — сокровища Нибелунгов, — процедил Пуци.
— Там царь Кащей над златом чахнет, — бросила ему Эльза Гесс, и он радостно усмехнулся такому неожиданному взаимопониманию. Бальдур смущенно вполголоса поинтересовался у Пуци, а кто такой вообще царь Кащей, и тот буркнул:
— Русский народный Яльмар Шахт.
— Вы, Бальдур, что же, Пушкина не читали?.. — улыбнулась Эльза.
— Нет…
— Я скажу Рудольфу, он передаст вам книгу.
— Пушкина почитай, действительно, — заметил Пуци, — Его нужно знать, это тебе не Сухово-Кобылин…
Гесс передал книгу, притом усмехнулся — ты что, мол, своему Гитлерюгенду сказки Пушкина собрался читать?..
А почему бы и нет, подумал потом Бальдур. Они понравились ему даже в английском переводе.
Метрдотель ресторана, разумеется, его узнал, но Бальдур посмотрел на него умоляюще и подмигнул. Тот кивнул и особенно рядом с ним не вертелся. Официанты тоже не стремились бегать вокруг него стаями и приносить водку ведрами, дохлую крысу и говна на лопате.
С бутылки красного Бальдур поплыл. Знал, что поплывет. Слишком уж достала его компания в черном-с-серебром.
И тут-то официант передал ему записку.
Бальдур, сильно щурясь, посмотрел в нее — и поначалу вообще ничего не понял. Почерка он не узнавал. И вообще все это крайне, ну просто крайне походило на чью-то глупую шутку. Приличные люди вообще-то подписываются, подумал Бальдур.
«Вы еще помните меня, герр рейхсляйтер?» Кого это — тебя? И кто тут рейхсляйтер?..
Официант маячил рядом, Бальдур тихо спросил:
— От кого? Что за мадридские тайны?..
— Крайний столик справа у окна, герр гауляйтер.
Бальдур покосился в ту сторону. За столиком сидел некто, кого он не знал — или просто не узнавал в полумраке зала. При таком освещении зрение всегда подводило Бальдура — он мог кошки от фокстерьера не отличить. Он с минуту все же пытался разглядеть темную личность, но так у него и не вышло.
— Пожалуйста, пригласите господина за мой столик, — сказал он официанту. Все это было… непонятно.
— Вечер добрый, герр рейсхляйтер, — произнес абсолютно незнакомый голос, и к Бальдуру подсел абсолютно незнакомый человек. Официант поинтересовался у него заказом, он быстро заказал коньяк.
Бальдур самым неприличным образом свел брови, глядя на него и ни одной черточки не узнавая. Ежик русых волос, большие и блестящие зеленые глаза, тонкие губы. Или видел где-то?..
Бальдур мельком поглядел на одежду — он всегда очень хорошо запоминал, кто во что одет. Нет, и костюм совершенно незнакомый.
— Мы где-то встречались? — улыбнулся он, и улыбка опять стала неуверенной. Вообще говоря, Бальдур всегда слегка смущался из-за своего плохого зрения.
— Встречались, герр фон Ширах.
Этот экземпляр не блистал воспитанием, и Бальдур не счел нужным даже поинтересоваться, где они встречались. Ждал, пока до него дойдет представиться.
— Я специально послал вам записку без подписи, — сказал этот человек.
— Прошу меня извинить, но шутки не уловил.
— Мне не до шуток… Я боялся, что, если подпишусь, вы сделаете вид, что и не видели моей записки, а через некоторое время встанете и уйдете.
— Я никогда так не поступаю.
— Я мог догадаться. Вы воспитаны едва ли не лучше всех в Рейхе, — улыбнулся сей таинственный незнакомец, — Что ж. Я думаю, имя мое вы хорошо помните — я ведь тезка композитора.
Он насладился неописуемой гримаской, которую Бальдур бессознательно строил, если ему случалось сильно удивиться. Сам он о ней не знал, и она сразу сбегала с лица — но имела место. Это был очень забавный миг. Тезка композитора запомнил его навсегда. У Бальдура фон Шираха, которого что-то ужасно поразило, становилась совершенно невменяемая физия, он умудрялся буквально за секунду моргнуть раз десять.
— Вагнер?.. — неуверенно произнес Бальдур.
— Рихард Вагнер, да.
— Но… но это не вы!.. Ох, что это я сказал? Я имел в виду, что вы непохожи на того человека, которого я знал под этим именем.
— Вы тоже мало похожи на себя прежнего. Время… За шесть лет человек может сильно измениться. Очень сильно.
До Бальдура дошло, почему он не узнал Рихарда Вагнера. Потому что тогда толком и не разглядел его. А то, что увидел, постарался потом забыть как можно быстрее. И потом — форма. Вот уж что меняет человека. В штатском Вагнер был в прямом смысле другой личностью. И потом… действительно, шесть лет… Сейчас Вагнер производил намного лучшее впечатление — во всяком случае, не походил на ночную нежить с серыми щеками и мертвой пустотою в глазах.
— А где ваша форма, Вагнер?
— Я вам так нравился в ней, герр гауляйтер? Мне показалось — прямо наоборот…
— Наоборот, наоборот.
— Что ж. Думаю, вам будет интересно узнать, что в ней вы больше меня никогда не увидите…
— Я просто счастлив, — отозвался Бальдур.
— Только не нужно задавать вопросов, я вас прошу.
— А это жаль. Я теперь умру от любопытства.
— У вас богатая фантазия — придумайте сами что-нибудь. Может, и угадаете.
Они болтали как друзья.
Если подумать, ненормальная ситуация. Но факт оставался фактом — и Вагнер вел себя совершенно не так, как тогда, хоть все и же нагловато, и Бальдур ну никак не мог воспринимать его по-старому.
— Ну, Вы могли в чем-то проштрафиться перед Хайни… Впрочем, тогда б вы были не здесь…
— Герр фон Ширах, — шепотом, с улыбкой произнес Вагнер, — Вам никто никогда не говорил, какая вы непереносимая балаболка? Я просил — не задавайте вопросов.
— Господи, ну простите… а сейчас вы чем занимаетесь?
Вагнер возвел к потолку ресторана блестящие очи.
— Мои извинения, — сказал Бальдур, вид у него был уже слегка зазеркальный, — я, кажется, чуть перебрал сегодня…
— На радостях или, упаси Бог, неприятности?
— На радостях, можно сказать…
— А вот сейчас вы похожи на себя прежнего, — вдруг сказал Вагнер, — такого, каким я вас помню. И это приятно…
— Мне, в свою очередь, весьма приятно, что вы так не похожи на того себя.
— Походить нужно на то, чем являешься…
— Вы… больше не…
— Нет.
— Вы не хотели бы, все же, сказать мне свое настоящее имя? — Бальдур все-таки не мог сдержать любопытства, — Ведь Вагнер — ненастоящее?
— Разумеется. Но пусть будет Вагнер. Для нашей сегодняшней встречи.
— Она ведь неслучайная?
— Нет, — твердо ответил Вагнер, — я надеялся встретить вас в Вене, но мне нежелательно было являться к вам в резиденцию. Здесь слишком много моих… бывших коллег. Не могу сказать, что нахожу их слишком для себя опасными, но и лишний раз встречаться с ними не имею ни малейшего желания… Не подумайте, что я за вами следил — просто узнал, где вы бываете вечерами. В Опере и других концертных залах, дома. Иногда здесь. Вам интересно, почему я хотел с вами увидеться?
— Конечно.
— Я не хотел бы продолжать этот разговор здесь, в ресторане. Он слишком важен для меня… слишком личен. Вы позволите мне вас пригласить?..
— Почему нет… а куда?
— Снял тут квартиру. Только, не сочтите за праздное любопытство — вы нынче без охраны? Мне не очень хочется, чтоб меня этою ночью обвинили в похищении венского гауляйтера из ресторана, — усмехнулся Вагнер.
— Я без охраны, но это, может, ни о чем не говорит… ну как прицепится к нам какой человек-невидимка в невидимой фуражке… Напишите мне адрес и езжайте, я приеду следом.
— Отлично, герр фон Ширах.
Куда я еду, думал Бальдур. Ну куда меня несет? Он наплел всякой чуши, а я уши до полу развесил. А ну как это очередная эсэсовская штучка… он ведь тогда предупредил — в следующий раз будет хуже…
Да нет. Нет.
Он не мог бы объяснить, почему поверил Вагнеру — но его интуиция, по-женски тонкая, уверенно шептала — всё правда. Вагнер действительно больше не тот, кем был.
— Не хочу говорить о том, что там и как со мною было за эти годы, — тихо говорил Вагнер, сжимая рюмку с коньяком, — но кое-что я видел, кое-что узнал. А многие знания — многие скорби, так это звучит, герр фон Ширах?
— Так, герр Вагнер…
— Пожалуйста, зовите меня Рихардом, если нетрудно. Рихард — настоящее имя.
— И вы меня называйте по имени…
— Благодарю… А знаете ли, Бальдур, в тот раз, когда мы… познакомились с вами, я ведь просто старался вас напугать как можно сильнее. И… многое преувеличивал в своих россказнях. Неловко, конечно, признаваться вам в этом, но, может, так жесток я был с вами еще и потому, что завидовал вам. Мы ведь с вами ровесники — а я в те свои годы добился лишь того, что стал чьей-то верной собакой. Вас же — вот такого, какой вы есть — отчего-то Бог чем только не наградил. Что от рождения, а что просто легко досталось уже потом…
— Не совсем так, простите, Рихард. Я тоже был верной собакой — правда, другого хозяина. И рейсюгендфюрером стал не только потому, что Гитлеру нравились мои красивые глаза…вкалывать приходилось.
— Верю, верю. Но тогда я этого не знал, да и по вам это было не слишком заметно. Зато я знал о том — и дураку для зависти этого было достаточно — что Гитлер прощает вам все что угодно, прочит вас едва ли не на свое место, а еще — что вы богаты и женаты на красивой девушке, да еще и творите что хотите, являясь…
— Гомосексуалистом.
— Простите.
— Что есть, то есть.
— В общем, вы просто ужасно меня раздражали — одним существованием своим…
— Не вас одного, Рихард.
— Я чуть не прыгал от радости, когда получил то задание, и увидел в ту ночь, как вы дрожите от ужаса. Мне нравилось думать, что вы — жалкая баба в штанах, которой незаслуженно везет всю жизнь.
— Может, так оно и есть? — улыбнулся Бальдур.
— Вы даже не пытались скрыть, как вам страшно. Я думал — фу ты ну ты, надо же мужику испугаться простого кнута. Сам я, несомненно, в такой ситуации держался бы героем…
— А я действительно испугался, — Бальдур пожал плечами, — я знаю, что это очень стыдно, но я даже зубы лечить боюсь. Ну что поделаешь — натура такая, Рихард. Вы правы — баба бабой. Я столько раз пытался преодолеть этот страх — но нет, не выходит. Я могу со слезами заставить себя сесть в проклятое зубоврачебное кресло, но это не значит, что я не боюсь.
— А на войну отправились. А ранить ведь могут. Или убить.
— Нууу. Сравнили. Война — вопрос чести… хотя я и там здорово боялся.
— А я, — сказал Вагнер, — на войну ехал, как на праздник… Да только вы-то с вашим преодолеваемым страхом смелее меня с моим выпендрежем, потому как при первой бомбежке я, полагавший себя героем, едва не наложил в портки.
— А я шинель облевал…
Они посмотрели друг на друга с улыбками.
— Так вот. Я все никак не могу подойти к тому, ради чего я решил увидеться с вами. То, что я скажу дальше — это очень странно, но это мое решение.
— Говорите, — пробормотал Бальдур почти неслышно, но Вагнеру это помогло — чувствуя к себе интерес и внимание, легче говорить.
— Бальдур, я труп.
— Что?…
— Бальдур. Я дезертир, это раз. Я вообще мертвец, это два. Гиммлеру обо мне известно именно это, и разубеждать его я не собираюсь.
— Боже…
— И, Бальдур, я собираюсь подтвердить этот свой статус. На войне у тебя перед глазами иной раз проходит вся жизнь… и вот что-то не нравится мне моя жизнь.
— Как вы, действительно, ужасно изменились… вас… что-то сломало…
— Можно и так сказать. Но теперь мне не хочется жить, зная, скольких людей я убил и сколько из них умерли в мучениях. А жить по-иному — у меня может не получиться. Я привык выполнять ЕГО приказы — и если б не боялся вернуться к нему, вернулся бы… бездумный, как пес… так ведь проще. Но нет, решил я, к черту. Лучше прекратить это безумие. А безумием я зову это потому, что… это затягивает.
В его глазах всполохом мелькнул ТОТ, страшноватый блеск.
— Вам меня не понять, Бальдур, вы небось ни одной кошки в детстве не замучили…
— Н-нет. Я любил животных…
— Я не хочу рассказывать вам всю эту дрянь. Да и не затем я все это затеял. Вот, началась самая трудная часть разговора, — тонкие губы Вагнера дрогнули, — не струсить бы… Черт. Выпьем.
Да, он стал другим — но веяло, веяло от него прежней легкой жутью — и из-за рассказа его, и из-за того, что он был уже чуть подшофе. Он не поднимал глаз на Бальдура, зачем-то взял старую газету и огрызок карандаша, валяющийся на столе, и принялся что-то машинально рисовать. Бальдур слегка вытянул шею — ему было очень интересно, что же он такое рисует. У Шираха тоже была такая привычка, и рисовал он обычно какие-то карикатуры, которые Отто потом приходилось отыскивать и выбрасывать, чтоб, упаси Бог, не дошли до оригиналов.
Вагнер же — должно быть, сообразно своей эсэсовской фантазии — просто чертил все те же рунические знаки победы. Когда он сам заметил это, тут же оставил это занятие.
— Тех, кого уже нет, не вернуть, — в голосе Вагнера появилась хрипотца, — пусть их души меня преследуют, тут ничего не сделать. Но мне и те, кто жив еще — и кому из-за меня было страшно, больно — покоя не дают… ночами покойники, днем живые перед глазами. Даже вас вспоминал, хотя пальцем ведь не тронул… все равно, когда люди боятся, глаза у всех одинаковые… А помните, я вам про гомосексуалиста рассказывал… это правда.
Бальдур передернулся — в точности как тогда.
— И было нас пятнадцать, и продолжалось это всю ночь, — высоким злым голосом сказал Вагнер, — и…
Он вдруг накрыл руку Бальдура своей. Тот вздрогнул.
— Да НЕ БОЙТЕСЬ вы меня! — Вагнер скривился от отчаяния, и Бальдур отвел глаза. Вагнер тихонько погладил большим пальцем тыльную сторону его кисти.
— Вот и у него были такие руки, — прошептал он, — нежные, с длинными пальцами. А я ему пальцы каблуком переломал… Не бойтесь меня!
— Я… не боюсь… Мне страшно вас слушать.
— Я понимаю. Я простить себе не могу ни этого, ни того, что я это вам рассказал… Я хочу… сделать хоть что-то, о чем вы не будете вспоминать с омерзением. Для вас хочу сделать что-то, — прошептал Вагнер, он сильнее сжал руку Бальдура, тот отчего-то зажмурился. Вагнер склонил голову, коснулся его руки губами, потом по-собачьи поднял взгляд. Бальдур приоткрыл глаза и смотрел на него сверху вниз, губы у него подрагивали.
— Бальдур, мне… можно это сделать для вас?
— Что?..
— Я догадываюсь, что вам очень нравится. Я очень хочу, очень, это сделать для вас…Я, конечно, неумеха, но буду осторожным… и ничего не сделаю против вашей воли, — бормотал Вагнер, — или я внушаю вам такое отвращение, что…
— Нет… не сказал бы, что отвращение… Может, я и вправду вас боюсь… и п-потом, — Бальдур так разволновался, что начал легонько заикаться, словно Роберт Лей, — потом, Рихард… как-то это… с-совершенно случайная связь… во всяком случае, это так называется.
— Вот уж не думал, что это вас смутит…
— Хорошо же вы обо мне думали! — нервно отозвался Бальдур.
— Ну простите. Простите, — Вагнер теперь выбрался из своего кресла и опустился на колени возле кресла Бальдура, — Ну разрешите мне сделать это для вас. Вам понравится. Если нет — я… я сам себе яйца отгрызу!
— Боооже…
— Вот у меня и шутки-то зверские… просто я вижу, как вам не по себе, и мне от этого почти больно. И хочется, очень хочется сделать так, чтоб вам было хорошо. Здесь, сейчас. Со мной. Вас трясет, и меня тоже… Бальдур, пожалуйста… — он уронил голову Бальдуру на колени.
Бальдур не знал, куда деться от жалости, отвращения и… возбуждения. Последнее он ощутил потому, что всегда очень чутко отзывался на чужое желание, а Рихард сейчас очень, очень его хотел. Его дыханье было просто опаляющим, как у дракона, его и впрямь трясло, а пальцы на руках словно спазмом свело — таким мучительным усилием он сдерживал себя, чтоб не прикоснуться к Бальдуру без разрешения.
Бальдур погладил его по волосам, и тот даже обмяк от счастья.
— Рихард, — пробормотал Бальдур, — не надо так волноваться… не надо…. Ведь ничего… страшного в этом нет…
— Конечно, — ответил тот невменяемым голосом, — нет.
И поднял голову. Зеленые глаза были ясны, как у полного идиота. Он сжал руки Бальдура в своих.
— Пойдем, — сказал он, — Пожалуйста.
Он за руку привел Бальдура в спальню.
Бальдур взялся за галстук, но Вагнер мягко отстранил его руку:
— Давай я сам. Чем больше я к тебе прикасаюсь, тем скорей ты привыкнешь, что ты — со мной.
Верно, подумал Бальдур. И стоял без движенья, пока Рихард бережно возился с его галстуком, пиджаком, жилетом, сорочкой…
Рихард то и дело вздрагивал, словно под невидимыми ударами хлыста, и просил «не обращай вниманья, пожалуйста». Голос его звучал сдавленно из-за сильной ноющей боли в гортани — так бывает, если плачешь и не хочешь, чтоб это было слышно. Притом глаза у него были сухие.
Он сотни раз воображал себе эту минуту — и с горьким ожесточением думал, что фантазии — это одно, а по-настоящему оказаться наедине с тем, к кому ты до этого испытывал отвращение — совсем другое. Более жестокого способа наказать себя он не смог придумать.
Но фантазии помогли — теперь он ощущал не отвращение, а какое-то палящее, болезненное, зудящее, как заживающий ожог, любопытство с примесью страха. А боялся он того, что встанет, застрянет в горле тошнотный ватный комок, безвкусный, как армейская каша, жалко скривятся губы, блеснут презрением глаза… Он и возбуждения своего сейчас боялся, ибо не мог понять, почему это случилось. Почему он не может смотреть спокойно в эти испуганные синие глаза, видеть не может эту неуверенную улыбку… почему рука так и тянется к этому лицу — бережно убрать темную от пота прядку с высокого лба…
Но неважно это. Делай что должен, Рихард. Хотя бы одно прощение заслужи.
Эсэсовская невозмутимость канула вместе с формой — Бальдур видел, как несчастен этот бредущий по кромке жизни человек, как лупят и ломают его страх и боль, пересиливающие желание.
— Рихард…
Тот вдруг отдернул руки, сел на край постели, сжался и спросил:
— Ты христианин?
— Нет, — честно ответил Бальдур, — Не могу так сказать о себе.
— Зря. А может, и не зря. Я читал кое-что… Эти слова бьют, как молнии. Я и про себя нашел…
— Что же?
— «Ибо узки врата, ведущие в жизнь, и немногие находят их», — отозвался Рихард потерянно, — Я — не из тех, кто нашел.
— Наверно, я тоже.
— Нет… ты… ты — другой. Кое-кого я видел здесь, кое-с-кем говорил…. Так вот, я должен сказать тебе — если можешь, если есть хоть крошечная возможность, убирайся отсюда. Куда угодно. Ты под петлей гуляешь… знаешь об этом?
— Догадывался…
— Это совершенно точно. Они пока ждут. Но ждать будут недолго… Беги ты отсюда…
— У меня жена и дети.
— Тебе — петля, жене — концлагерь, детям — приют…
— Вот и я думаю…
— Как я хочу, чтоб ты остался жив…
— Я и сам этого хочу, — сказал Бальдур, — не хочу умирать, страшно… Но советом твоим не воспользуюсь. Куда мне бежать… И честь дорога, знаешь ли. Ох, извини…
— Да ничего. Не все же такие трусы и дезертиры, как я. Ну, отчего ушли, к тому и пришли. Я ж говорил, что у тебя храбрости побольше.
— Да ладно тебе… Хочешь, сказку расскажу?
— Э?
— Жил на свете рыцарь. Без страха и упрека. И за то, что был он честен и смел, дарованы ему были крылья — длинные белые крылья… но до поры до времени невидимые. Так этому рыцарю и было сказано — крылья есть, они всегда с тобою, но поднимут тебя над землей только один раз в жизни: тогда, когда ты примешь главное свое решение, когда на последнюю битву пойдешь. Но это решать лишь тебе — и если ошибешься, не явятся крылья второй раз… не промахнись, не ошибись, рыцарь.
Настало жестокое время, и верно служил рыцарь своему сеньору, а что был сеньор глуп да злобен — что поделаешь, не пойдешь против клятвы — если ты рыцарь, конечно.
И вот почуял рыцарь войну меж своею страной и соседями и понял, что не выиграть его стране эту войну — хоть и сражаться будет до последнего, теряя миллионы своих сынов. Не боялся рыцарь битвы — ибо много битв прошел. Боялся он — глупости, да властолюбия, да тщеславия сеньора своего, да бессмысленной гибели многих боялся… И понял, что некому остановить эту войну — хоть и понимал, быть может, что никто его не послушает… Но выхода иного не видел — и потому сказал: «Крылья, вы нужны мне». В тот же час отросли крылья… и полетел он, даже с женой не простившись, искренне веря, что не бессмыслен его полет…
Рихард сдвинул брови, когда Бальдур замолчал.
— Прости, горло пересохло…
Рихард рысью принес графин с водой.
— Спасибо. Так вот… Летел он, летел, и наконец увидел внизу чужую землю. И в тот миг исчезли, растаяли в воздухе его крылья… Высоко пришлось падать. А когда нашли его правители чужой страны, то ни одному его слову не поверили — и приказали заточить его в крепость и держать взаперти, словно безумного.
Рихард уже почти догадался. И спросил:
— А на его родине?
— А на его родине его тоже объявили безумным, ибо считалось, что война необходима… Так вот, Рихард. Я не столь честен и смел, не положено мне белых крыльев, и понял я это давно. А потому и ответ мне держать — как простому пленному солдату — за все, что натворил на земле придурочный мой сеньор, потому что я был под его знаменами.
— Как и я. Но мы же поняли — это неправильно, это… была наша ошибка….
— Скажи это тем, кто приходит к тебе по ночам.
Первую ночь из ста после своей «гибели» и дезертирства Рихард провел без призраков — и без молитв. Призраки смилостивились над погибающей, на один миг расцветшей душою, а молитв его и так никто никогда не слышал, ибо некому слышать их, пока ты в Него не поверишь (по той же причине Бальдур никогда не молился — но зато молился за него кардинал Инницер, и вот его-то молитвы было Кому услышать).
Рихард до утра пролежал без сна, боясь двинуться, чтоб не разбудить Бальдура, который отрубился, положив голову ему на грудь. Рихард сунул нос в его не по-армейски отросшие волосы, пахнущие сейчас диковато-сладкой смесью дорогого шампуня и пота — закрыл глаза и до утра нырял, и выныривал, и снова нырял в теплое море нежности. Море вздыхало, посапывало, было теплым — может, и жили там, в глубине его, чудища — да не всплыли…
Себя он почти не помнил, да и помнить не хотел таким, каким был до этой ночи. Без горечи, без стыда, с неслышным смехом вспоминал он свою душевную немощь — «я неумеха… но я постараюсь…» Стараться пришлось, конечно же, Бальдуру — но делал он это так, как мотыльком порхает, осыпая невидимо пыльцу-пудру, балерина, и ты никогда не заметишь за полетом — старанья, а в партере сидя — не почуешь тяжелого запаха пота и страха. Так и эсэсовец-недотыкомка не узнал, что с ним Бальдуру было трудно, как ни с кем и никогда в жизни — от непривычности всего происходящего нервы и мышцы Рихарда скручивались в морские узлы, а стараясь быть осторожным, он становился и вовсе никчемным…
Рихард-то, что с него взять, вообще ничего не понимал. В частности, даже того, почему у него все так получается, страхи не оправдались ни на грош, и его это нисколько почему-то не задело… Даже не удивило, почему он, ОН, всю жизнь топавший по извечной каменистой тропе на износ ради мужественности напоказ, презиравший в существах себе подобных некое «бабство», в эту ночь так с ума сходил по мужской, но такой обаятельнойженственности.
У Бальдура так славно выходили эти совершенно немужские охи-вздохи под весом чужого тела, такими короткими и пронзительными были стоны, так морщил он длинный свой нос — будто не на постели лежал, а на дыбе висел, так жмурил глаза и кусал белеющие от силы закуса губы… что почему-то очень-очень хотелось сделать ему побольнее, да было нельзя, не получалось никак… поневоле ослабишь хватку, поневоле смиришь свой вспотевший круп, прыгающий в жарком галопе, поневоле смягчишь рывки, перестанешь драть наживую то, что и без того растягивается, нежно-податливо-тепло… сладко. Не бери силой, подарю так. Не калечь — пожалеешь сам, ведь радости не получишь.
Никогда ни до того, ни потом не решился бы Рихард говорить с Бальдуром о таких вещах…
Они оба только что вынырнули, слепо и вяло побарахтались на поверхности ночи после своего глубинного, утопляющего объятья…
— Бальдур… я все о своем. О том…
— Да? — голос Бальдура, вообще низкий и мягкий, сейчас подсипывал — потому как за десять минут до этого пережил очередное над собой издевательство в виде высоких непотребных воплей.
— Тебя… когда-нибудь насиловали? Прости, что спра…
— Да, было дело. Давно, — беззаботно ответил Бальдур, — Молодой был. Мой первый меня, считай, изнасиловал. Да и потом как-то раз я спьяну на троих нарвался, сам виноват… — Бальдур приподнял руку, сжал в кулак, — Вот так меня зажало, когда первый из них… начал… Понимаешь, больно же очень, телу не прикажешь. Ну, им все равно было, может, завело только… Порвали здорово, испугался я — две недели из меня, прости за подробности, кровь лилась, сперва струйкой, потом каплями сочилась. Ни побежать, ни присесть, ни привстать — жгло как не знаю что, да и стыда натерпелся — ну как на брюки просочится? Как женщина с месячными…
Рихард только вздохнул, вспомнив, как его парни волочили в фургон истекающее кровью тело… Этот рассказывает про троих, нас было пятнадцать.
Вот у кого прощенья просить…да где его найдешь теперь…
— Рихард… Рихард?
Рассветало, и Рихард вспомнил свой первый рассвет с Бальдуром. Как хорошо, что этот рассвет не такой… а того, может, и вправду вообще не было, а?
Дурной сон.
Бальдур вдруг негромко, но вполне слышно чавкнул. Наверно, ему снился какой-нибудь фуршет.
— Есть хочешь, — прошептал Рихард дурацким веселым шепотом и тут же сам почему-то захлебнулся слюной. Ну конечно, в том «Гранд Отеле» они оба не ели, только пили… Тут у него было что поесть, но и будить Бальдура, который после неприличного чавка начал что-то бесшумно, воспитанно жевать, не хотелось. А впрочем…
Рихард сунул руку под одеяло, погладил ему спину, почесал обросшую невидимым светлым пушком поясницу и почти против воли сунул ладонь дальше, еле коснулся теплого округлого зада — и, перестав контролировать себя, пощекотал пальцами ложбинку меж ягодиц.
Бальдур все так же безмятежно дрых — тем удивительней было то, что он вдруг отчетливо произнес:
— А еще?..
— Ах ты! С утра-то!..
— А у тебя… с утра… не стоит, что ли? — Бальдур мучительно сражался со сном, и лучше б ему было при этом не морщить носа, потому что у Рихарда от этого и впрямь встало, как на заказ…
— Бальдур, теперь я не хочу умирать.
— Я рад.
— Я хотел после того, как увижу тебя, пойти ночью в Пратер…
— И застрелиться на клумбе с розами.
— Можно с астрами.
— Розы — это красивее. Но уж очень пошло. Если ты этого не понимаешь, ты натуральный эсэсовский гиббон без вкуса и фантазии. И потом, там нельзя стреляться, дурак. Там мамы с детьми гуляют…
— Бальдур, не надо смеяться, — попросил Рихард, хоть и чувствовал, что готов слушать шираховскую болтовню бесконечно, — Умирать я не хочу теперь, да, но и как жить — не знаю.
— Я не смеюсь, Рихард. Дам тебе записку к одному человеку. Расскажешь ему про узкие врата… Но лучше не рассказывай о том, что делал ночью. К твоему сведению, это называется содомский грех. А этому святому отцу хватит одного знакомого пидораса.
Кардинал Инницер принял у себя дома исповедь от взъерошенного молодого человека, сунувшего ему записку от гауляйтера Вены, ужаснулся… но и обрадовался.
— Сын мой Рихард, если вам так уж нужно кому-то служить, отчего вы не хотите послужить Господу?
Бывший эсэсовец Рихард Вагнер, при рождении записанный в приходской книге как Рихард Фридрих Шлотц, поднял на него свои дикие зеленые глаза так, как поднял, возможно, на Христа свои засохшие в могиле очи Лазарь.
— Святой отец, а это…это… это возможно для меня?..
— Сами же сказали, что умерли. Отчего б не воскреснуть — для Господа?
Мысленно кардинал добавил: «Это первый, кого ты спас, Бальдур… или уже не первый?.. Ты правильно понял…»
1945. Dies irae[19]
В ночь с 1 на 2 мая 1945 года возле городка Швац под Инсбруком трое мужчин в форме дивизии «Великая Германия» с безнадежной руганью пытались вытолкнуть из грязи престарелый армейский «Фольксваген». Когда машина наконец выползла из тягучего месива, водитель закурил, испачкав сигарету грязными пальцами, и произнес:
— Похоже, передача полетела, я сразу так и понял. Приехали.
— О Господи, — простонал второй мужчина, бессильно валясь на сиденье и с глубоким отвращением разглядывая голенища сапог, вымазанные рыжей глиной, — Франц, скажи, что это была шутка.
— Те, кто так шутит во время боевых действий, долго не живут, — отозвался водитель.
Третий мужчина молчал — он не особенно помогал выталкивать машину, потому что у него была всего одна рука.
— А как же поручение Дитриха? — пробурчал второй, — Вот что теперь делать? Я же не могу на него наплевать?
— Вы же не виноваты в том, что машина сломалась, — водитель о чем-то подумал и произнес:
— Ладно. Доставайте спальники и отдыхайте здесь. Отгоню этот гроб на колесах в Швац — там, как я помню, есть автомастерская. Ну и узнаю, как там и что. Ну и вернусь к вам. Тут идти-то с километр будет, не больше… Отто, — тихо обратился он к однорукому, — ты бы о костре подумал, смотри, как твой шеф трясется…
— Неудивительно, что трясется, он мокрый весь, как и мы оба. Под дождь-то попали? Да еще и грязища эта…
Тот действительно трясся, а выбравшись из фольксвагена, уселся прямо в мокрую траву.
Водитель кивнул и полез в машину, в которой что-то глухо застучало, когда он еле-еле тронул с места.
Отто, с двумя спальниками под мышкой, произнес:
— Хватит сидеть и дрожать, вставай, Бальдур. И давай поищем место посуше.
— Да тут все и везде мокрое!
— Не капризничай, не позорь «Великую Германию». Командира на тебя нет.
— А то что?
— А то заставил бы бегать по кругу, чтоб форма высохла. И чтоб не хандрил. Постой, подержи спальники, костер разведу.
В этом Ширах был весь — если на людях держал себя прилично и по-мужски, то при Отто не стеснялся поныть-похныкать по любому поводу. Отто необидно подкалывал его, взывая к его совести и мужественности.
У теплого костра, который Отто, хоть и с превеликим трудом, но ухитрился разжечь, настроение у Бальдура фон Шираха слегка улучшилось. Отто поглядел, как он сидит, кутаясь в шинель, подтянув колени к подбородку и поблескивая в темноте скорбными глазами, и засмеялся:
— Чучелко ты! Посмотри, на кого похож!
— А что такое?
— Нечего было грязной перчаткой нос чесать, вот что. Морда полосатая, вся в глине… Чингачгук-то! Утрись!
— Правда, что ли? — Ширах полез в карман за платком.
— Жрать хочется, — сказал Отто, — да кто ж знал, что так случится. Интересно, Рам догадается из Шваца пожрать захватить?..
И тут же понял, что про еду завел зря. Ширах опять помрачнел.
— Устал ты, — сказал Отто ласково, подсев к нему и обняв левой рукой, прижав к себе, — Плохо тебе совсем. Ну, ничего, война почти кончилась… сам понимаешь — всё, каюк. Будет все по-другому. Чем будешь после войны заниматься?
— А ты?
— Мне все равно, чем смогу, лишь бы с тобой.
— Спасибо. Только ты об этом больше не говори, Отто, беду себе накаркаешь…
— Какую еще беду?
— Это тебе, Отто, можно будет еще чем-то после войны заниматься — если вовремя от меня отделаешься и в лагерь для пленных не попадешь. А я конец войны не переживу. Я же не ты, Отто, я же шишка, хоть и бывшая. Поймают — к стенке без разговоров.
— Не трусь, ну. Откуда ты знаешь?..
— Чувствую — будет так. А может, и хуже еще… — пробормотал Бальдур, еще тесней прижавшись к Отто.
— Давай спать. Чего сидеть мучиться. Утро вечера мудренее.
Утром оба одновременно приподнялись и уставились друг на дружку ошалелыми глазами.
— Я видел такой поганый сон… — сказал Отто.
— Это был не сон, — сказал Бальдур.
А Франц Рам утром не появился. Не появился и днем. Отто и Бальдур совсем извелись от тревоги и голода.
Они расстелили один спальник, улеглись на него и прикрылись вторым. Так было не то что теплее — днем не было холодно, солнце быстро высушило траву — так просто было лучше. Они обнялись — это создавало иллюзию, что не все, не все еще потеряно. Пусть ты один остался у меня — но остался же, пусть и голодный, грязный, несчастный, с щетиной на подбородке и глазами, полными глухой тоски, все равно ты здесь, ты мой, и это не то чтобы хорошо — это просто последнее, что держит меня на свете.
Объятия эти были делом опасным — Отто почувствовал, как Бальдур заерзал, и не стерпел, засмеялся:
— Нет, Бальдур, ты феномен. Устал, голоден как черт, не выспался, а все равно тебе надо…
Тот ничего не ответил, спрятав голову под спальник. И Отто подумал — черт, а ведь он ночью всерьез говорил о том, что нам, возможно, придется расстаться. И так спокойно говорил. Наплевать ему, что ли, на меня?.. Или уже отпереживал свое и действительно спокойно, достойно солдата готовится к смерти?
Да что ж удивительного, что ему хочется… Этого. Сейчас. Вдруг потом уже не будет возможности такой… Ах, Бальдур…
Его присутствие, его близость стала вдруг такой раздражающей, болезненной, что у Отто екнуло сердце. Ну невозможно было сейчас думать о ночных безнадежных словах Бальдура. Вот, уже хоронит себя, придурок, можно ведь что-то придумать, раньше смерть не нашла, хотя рядом бродила, лысая невидимка, на Гиммлера похожая, — а сейчас что, найдет? Слабак, трус. Уже и лапки кверху? Я отдам иванам шлем и сапоги? И жизнь?..
Не дело. Нет. Это не дело, и вывести его из этого состояния горького спокойствия приговоренного некому, кроме меня. А у меня только один способ это сделать. Пусть простит меня, если сможет, но я хочу, чтоб он понял, что еще жив.
Отто за волосы вытянул голову Бальдура из-под спальника — не медленным садистским движеньем, а резким рывком, тот взвизгнул от боли и неожиданности, вытаращил на Отто ошалевшие глаза:
— Ты что?!
— Замолчи. Молчи.
Отто смотрел в его лицо — бледное, мятое, небритое. Волосы надо лбом торчат, уже грязные после всего этого, противный цвет у них, когда салятся. Под глазами круги с колесо от фольксвагена, нос мокрый от промозглой ночи, обветренные губы потеряли цвет и потрескались.
— На тебя смотреть противно, — полушепотом сообщил Отто, — ты на черта драного похож.
— Не смотри, — так же, шепотом, ответил Бальдур.
— А я тебе в лицо смотреть и не собираюсь.
Отто быстро огляделся. Надо что-то придумать. Только не на спальнике — не хочу я, чтоб ему было, как обычно, хорошо и удобно. Это не поможет — он только рассиропится и еще больше будет жалеть себя. Пусть будет необычно, пусть даже скверно будет. Зато оживет сразу. А то войну проиграли, а он все страдает, что жизнь не малина, как мозгляк последний.
— Вставай, — приказал Отто вполголоса.
— Куда?.. Зачем?! Здесь плохо, что ли?
Рывком откинув спальник, Отто поднялся и дал Бальдуру пинка — точней, просто ткнул носком сапога в бедро.
— Ты что творишь? — рявкнул тот, — Больно!
— А ты делай, что говорят. Делай, Бальдур. Я прошу, — голос Отто звучал отнюдь не просительно.
Ширах сидел на спальнике, щеки у него горели, глаза смотрели мимо адъютанта. Он ничего не мог понять, ему было больно и обидно, он ждал от Отто, как обычно, лишь ласки и утешенья, а тот так вел себя с ним, словно они успели стать врагами.
— Ты еще «вальтер» вынь. И заставь меня делать то, что ты хочешь, под дулом. Что это такое, а? Что?! — спросил Бальдур с отчаянием, по-прежнему не глядя на Отто.
— Бальдур. Встань. Вставай. Я просто хочу тебя трахнуть.
— Дулом «вальтера»?..
— Неплохая идея…
Бальдур поднялся, Отто схватил его за шиворот, подвел — с трудом, надо отметить, тот вяло упирался — к толстой рябой березе.
— Ты меня трахать собрался или вешать?..
— Вешать. Дулом «вальтера». Замолчи ты, трепло… — голос Отто зазвенел аж как-то по-мальчишески, молодо и жестоко, — Давай штаны лучше снимай. И нагнись. Подержись за березку. Будем поближе к природе…
— Неудобно же так!
— Нормально. Для меня чуть-чуть потерпишь, правда?
Бальдур издал сдавленное пыхтенье, когда Отто вошел в него — без смазки и в такой дурацкой позе ему было тяжело, очень тяжело. Стоять, держась за дерево вытянутыми руками, было неудобно, непривычно, и Бальдур сунулся вперед и окончательно обнялся со стволом, прижался щекой к твердой коре, тихонько охая, хотя хотелось ему, честно говоря, завыть от обиды. Отто ведь не церемонился с ним — он сам удивился, как возбудила его, прямо-таки вздернула, нелепая, некрасивая, беззащитная поза, в которую он поставил своего любимого; в таком виде на Бальдура было невозможно смотреть — он выглядел жалким, а смешно оттопырившаяся задница так и просила всадить покрепче, чем Отто и занялся. Бальдур кусал губы — орать он из гордости не хотел, даже когда стало больно, а боли от этого он ведь давно уже не испытывал, если не вспоминать о всяких приключениях. Но ведь это был Отто, Отто, не Яльмар из СС, не Рихард Вагнер! Отто только раз в жизни намеренно сделал ему больно — хотел наказать за случайную связь. И это было понятно, Бальдур не сопротивлялся нисколько, хотя сама идея, что его наказывают таким способом, была ему отвратительна, а задница потом два дня болела.
Но сейчас-то — за что он мне делает больно, можно узнать?..
— Отто, — пробормотал он, — зачем же так?..
— Тебе… плохо?..
— Да!
— Потерпи немножко…
Просьба прозвучала странно в контрасте с безжалостным размашистым движеньем, от которого Бальдур, крякнув, даже стукнулся головой о ствол.
Выхода не было, и, зажмурясь от униженья (никогда он такого не делал!) Бальдур отодрал от ствола руку и сунул ее себе под живот. Вовремя — его член, фигурально выражаясь, уже переставал понимать, что такое происходит и почему нет удовольствия…
…Отто отдернулся, и в тот же момент Бальдур, плаксиво взвыв, рухнул на колени, поливая семенем ствол злосчастной березки и больно стукнувшись коленкой о ее толстый корень.
Отто смотрел на него странными глазами. Он так привык любоваться на Бальдура — в последние годы и впрямь было на что полюбоваться. Так привык наблюдать за тем, какой мягкой, ослепительно-соблазнительной жизнью живет в постели это тело, лениво-грациозной, сладко-расслабленной… только в постели, да, ибо обычно Бальдур двигался резковато. А сейчас — ни намека на это постельное совершенство, наоборот. Сидит красавец под березкой в дурацкой позе, со спущенными штанами, забрызганными семенем, в руке пучок жухлой травы, вырванной в какой-то особенно сложный момент, на лице — выражение полнейшего недоуменья, а губы кривятся брезгливо, и бровки домиком стоят, словно обидел кто до смерти.
На глазах у Отто — он сам не знал, почему — показались слезы. Он рванулся к Бальдуру, как с цепи спущенный кобель на улицу, разве что без лая… свалился рядом и обнял крепко-крепко, насколько мог, единственной рукой. Ткнулся носом в колючую морду.
Посидели так с минутку. Ожили. Бальдур отпихнул парня в траву, принялся портки застегивать, даже от семени не обтеревшись. Улыбается еще…
Отто подумал — слава тебе Господи, улыбается он, как раньше, только вот улыбка не неуверенная. Ухмылка какая-то вредноватая, редко-редко у него в последние годы такая.
— Что, Бальдур, скажешь? Ведь понравилось.
— Да меня жизнь моя так не ебла, как ты.
— Твоя жизнь тебе только хуй сосала. А я-то трахал.
— Это не трах. Это массаж простаты в исполнении врача-гестаповца посредством ржавого шомпола, используемый для допроса третьей степени.
— Фу ты ну ты! Другой раз вот запросишь моего ржавого шомпола…
— Если у нас с тобой будет какой-то другой раз.
Франц Рам явился, только когда стемнело. На плечах у него был армейский рюкзак, и он то и дело нервно ухмылялся. Где-то он уже переоделся в штатское — мятые коричневые брюки и охотничью куртку.
— Все, — сказал он, — можете быть спокойны насчет Дитрихова поручения. Выполнять не придется. Из Вены по радио только и слышно: австрийцы, снимайте немецкую форму! Временное правительство там теперь. Фольксштурм на сторону союзников перебежал, флаги белые из окон народ выкидывает… А в Инсбрук американцы входят…
— Вот как, — сказал Ширах.
— Да, так. А, что это я. Держите, ешьте. Слава Богу, у меня в Шваце сестра двоюродная живет, а то и не знал бы, где пожрать найти.
В рюкзаке оказалось истинное чудо для голодных и продрогших мужчин — два еще теплых жареных цыпленка, хлеб и полбутылки шнапса… Франц Рам сочувственно наблюдал, как они набросились на еду — сам, ночью, у сестры на кухне жрал точно так же, только за ушами хрустело. Он подождал, пока они дожуют, чтоб сообщить самое — для него — важное.
— Гроб наш починят, сказали, ночью можно забирать, но вот только я на нем больше никуда не поеду. Я не самоубийца — на машине «Великой Германии» теперь тут разъезжать, у джонни под носом. Все, навоевался. Хотите, сами катайтесь. Вы же, фон Ширах, машину прилично водите, я знаю. Что, скажете, дезертир я, да?..
— Нет, — сказал Ширах, — не скажем.
— Да? Так?
— Франц, — сказал Ширах, — я тоже жить хочу. Понимаешь?..
— Чего непонятного. И что теперь делать будете? Попробуйте, правду вам говорю, на машине уехать…
— Куда, Франц, я поеду? Куда, скажи?.. Ладно, одна только просьба к тебе.
— Что? — напрягся Рам. Вот, вот сейчас попросит помочь скрыться — а до него ли тут.
— Вот этому, — Ширах кивнул на Отто, — найди штатское тряпье тоже. А дальше — хорошо с вами было, но идти на нам на разные три стороны…
— Подожди… — начал Отто.
— Зат-кнись. Приказов не понимаешь?!
Рам остро поглядел на Шираха, которого вообще и знал плохо, и уважал мало — за все за то же, за что его обычно не уважали нормальные мужчины. Надо же. Об адъютанте заботится, кто бы ожидал, а ведь шагу без него ступить, кажется, не может, аристократишка.
— Ладно, — сказал он, — пойдемте в город. Ночью неопасно. Посмотрим, что там с машиной, да и вообще…
Машина каким-то загадочным образом осталась без колес и лобового стекла. Она беспомощно стояла на улице перед гаражом, в котором, должно быть, и была автомастерская, но сам гараж был заперт на замок.
— Ё-мое! — рявкнул Рам, он, как и всякий хороший водитель, воспринял это как надругательство над живым существом, — Ворье проклятое!.. Кто, интересно, на наших колесах уехал?
— Какое это имеет значение, — тихо сказал Бальдур фон Ширах. Рам покосился на него и поразился, как странно смотрит на него же Отто — встревоженно и с жалостью. А тот так побледнел, поняв, что героизм героизмом, а без машины он влип.
Эх, черт. Не бросать же их обоих на улице. Сводить к сестре, подобрать штатскую одежку (у нее много осталось от убитого мужа) — и тогда уж пусть катятся оба куда глаза глядят.
— Идемте, — буркнул Рам.
— Удобно ли… — начал Бальдур, но Отто сильно пихнул его в бок.
А увидев высокую медноволосую женщину на пороге опрятного домика, он сразу понял: удобно, Бальдур.
Маргарита была не та женщина, что может выразить недовольство ночным явлением кузена из «Великой Германии» с двумя чумазыми замотанными товарищами.
Она очень любила своего мужа — а вообще мужчин всегда жалела, была у нее такая материнская черточка, она любила заботиться, помогать, успокаивать. А сейчас, может, в каждом несчастном молодом солдате из проигравшей армии видела что-то от собственного мужа… какой-то привет от него в их затравленных глазах, а может, не привет, а просьбу — помоги, Грета. Иногда ей казалось, что ее Хайни не лег навсегда, укрытый белой шубой русского снега, что это случайность, ошибка, и он в плену, может быть, точно так же ловит в лицах чужих женщин крошечные лучики сходства с ней, а может быть, надеется на то, что они будут добры к нему. Он был простым солдатом Ваффен-СС, не то что Франц и эти двое — элита вермахта, «Великая Германия».
Впрочем, Маргарита помогала чем могла — едой, одеждой — даже военнопленным, русским, французским и прочим, которые проходили через Швац и словно по какому-то наитию стучались в ее маленький опрятный дом, уцелевший от бомб. Она помнила о своем Хайни, который, быть может, еще жив в России. А эти иностранцы были такими же солдатами, как и он.
— Грета, — Франц был явно чем-то недоволен, — не подберешь этим двум парням штатское из Хайниного тряпья? В таком виде им не стоит показываться американцам…
— Прежде всего, этим двум парням нужно вымыться, поесть и успокоиться, — улыбнулась она, — Я Грета, господа.
— Я Бальдур.
— Я Отто.
Бальдур нимало не беспокоился, называя свое имя — признать его в таком виде было трудно, да и с чего бы признавать. Бальдур и Бальдур, редкое имя, но не из ряда вон. Да и, тем более, завтра его тут все равно уже не будет — нельзя подводить хорошего человека, эту замечательную женщину. А где я буду, подумал он, где? И как поступить с Отто — сам ведь ни за что не откажется от меня.
Маргарита глядела на них и думала: кажется, парням досталось за эту войну. Младший без правой руки, но бойко выщелкнул из пачки сигарету, прикурил одной левой. Небось и пишет ею. Старший, с погонами лейтенанта, будет красив, после того как вымоется и, возможно, глотнет шнапсу — может, тогда с его лица исчезнет выражение постоянной высокомерной настороженности. Своим длинным носом и пронзительными глазами он немного напоминал хищную птицу, которые всегда настороже, но всегда сидят с гордым видом.
Поговорить бы с ними, кто такие, откуда, ждет ли кто дома.
И такой случай ей представился.
Франц ушел спать, Отто, поколебавшись, сообщил, что совершенно не выспался в мокром спальнике и тоже убрел. Бальдур не торопился — знал, что не уснет, только и будет всю ночь кататься с боку на бок из-за завтрашней неопределенности. Посидеть бы, подумать…
На кухне горел свет. Маргарита, судя по виду, ложиться пока не собиралась…
Он только собрался поделикатней втереться к ней в компанию, как она сама тихонько позвала его:
— Бальдур! Чаю хотите?
— Не откажусь.
Она с удовольствием покосилась на него. Оставшись без шинели и кителя, обряженный ею в старую клетчатую рубашку Хайни, он потерял все свое кажущееся высокомерие. Вид у него был усталый, мягкий, домашний — а вдвоем они выглядели на кухне точь-в-точь муж с женой после рабочего дня.
— Или, хотите, шнапсу плесну. Лучше заснете.
— Благодарю, но лучше не стоит. Шнапс на меня плохо действует. Я всегда коньяк пил.
— А вот его и нет.
— А и не надо. Чай тоже прекрасная вещь.
Через некоторое время она осторожно заметила:
— Отпустило чуть-чуть? А то вид у вас был — не подходи! Глаза прозрачные, злющие, острые, как у сокола.
— Это кажется так, — усмехнулся он, — Не сокол, а курица слепая… Мне сорока нет, а вижу хуже старого деда. Вот, видите? — он вытащил из кармана брюк футляр с очками, — газету прочесть толком не могу. А от нервов еще больше зрение садится…
— Как же вы воевали-то?
— Вот так…
Маргарита смотрела на него и думала о том, что уже видела где-то это худое красивое лицо с длинным носом и грустными глазами… но вот где?
— А жена ваша где, Бальдур?
— Откуда вы знаете, что я женат?
Она с улыбкой указала на его обручальное кольцо.
— В Тироле моя жена (если еще в Тироле, подумал Бальдур).
— Дети есть?
— Четверо. (если они… еще живы. О, чертов я идиот!!!)
— Ох! Какой вы молодец!
— Голубая вата, — произнес вдруг Бальдур, съежившись.
— Что, что?..
Маргарита встревоженно приподнялась — секунду назад совершенно спокойный мужчина с милой улыбкой и сдержанными манерами на глазах преобразился в нечто белое и мелко дрожащее, полуслепые глаза широко-широко открылись… словно провалился из мирной кухни в пыточную яму.
— Да… да, точно, так и будет, точно, — бормотал он, — понял… Теперь она ис-ис-использует эту к-коробочку. Эт-то б-бббудет справедливо, и вот это б-будет достойное нн-наказание для идиота… Ох, Хенни…
Маргарита бесшумно поднялась. Она все поняла. Ее кухня с домашним запахом теплой еды, впитавшимся в стены, ее неразумные расспросы о семье… ведь зареклась же расспрашивать бедных вояк, которых привечала у себя в доме, обо всем этом — ибо не раз видела, как крепкие, чего только не повидавшие мужики с волчьими мордами внезапно заливались слезами, огрубевшие от оружия и работы пальцы по-детски стискивали бахрому скатерти, и они вот так же бормотали самые разные имена — Катрин, Сара, Мадлен, Валька — а иногда — и на это было куда больней смотреть — имена эти принадлежали не женам, а детям — Лотти, Йосечка, Коко, Алька, Володечка, я хочу к вам, где вы теперь, где…
Бальдура она стала расспрашивать, кажется, только лишь потому, что ей казалось, что она где-то его уже видела — и все равно, не стоило. Тот уже съехал в проложенную колею. Имя Божье — и четыре коротеньких ласковых имени подряд, Анжи (Анжелика, скорее всего), Клаус, Робс (Роберт, наверное), Ричи (Рихард?)
Маргарита обняла скулящего тощего белого щенка, только что упавшего в прорубь, долго гладила по голове. Но этот не мог успокоиться дольше, чем все его предшественники, она ощущала, как ходят его скулы и челюсти, как со свистом срывается с губ горячее, влажное дыхание, он изо всех сил сдерживался, стыдясь своего срыва, но получалось у него плохо. И это была не обычная тоска по семье, не жгучий страх не застать их всех, вернувшись, дома, живыми и здоровыми — а что-то еще, обжигающее больней. Мужик дергался так, словно уже знал, что его семьи нет в живых.
— Ну, говорите, милый, говорите, — Маргарита все гладила его по волосам, таким мягким и пушистым после ванны, по гладкой после бритья мордахе, — не надо это держать в себе.
— Черртова коробочка…
— Какая коробочка?
— С голубой ватой коробочка. С секретом, б… коробочка… Аккуратная такая, знаете, медицинская коробочка. Как подарочная. А внутри шесть смертей. Чтоб… на всю семью хватило. Пять таких… ампулочек. С цианидом. Знаете, что это?
— Яд?
— Смертельный. М-мгновенный. И я… ее… жене отдал, идиот!! Пять штук там осталось — свою забрал…
— Мой Бог, Бальдур!! Да где вы ее, эту коробочку, взяли?!
— Р-раздали нам их…
— ГДЕ такое раздают?!
— В Рейхс…в Рейхсканцелярии, — Бальдур всхлипывал, уже не пытаясь сдержать слезы.
Маргарита вдруг отстранилась, негрубо сгребла его за виски и поглядела в лицо, Бальдур морщился и жмурился в неописуемой гримасе ревущего навзрыд, но ей это уже не мешало. Картинка сложилась.
— Вы Бальдур фон Ширах, да? Губернатор Вены?
Тот кивнул.
— Платка… не найдется? Извините…
Его полное имя из чужих, да еще и женских уст словно б напомнило ему, что надо, все же, держаться.
— Ну все, милый, — тихо сказала Маргарита, — теперь шнапсу. Хоть глоток.
— Да, да.
— А теперь давайте подумаем. Ну что вас заставляет думать, что ваша жена убьет себя — и ваших ребятишек? Ну что она, глупей собаки, что ли? Идиотка полная?! За что ж вы так ее не уважаете?..
— К-кто знает, что Хенни в голову придет. А ну как решит, что жить им всем — без Рейха, побежденными и униженными — уже незачем?
— Вот для того, чтоб такое решить, и надо быть идиоткой, — с полной убежденностью произнесла Маргарита, — И ни одна женщина, уж поверьте мне, женщине, никогда так не решит и уж тем более не поступит. Не могу себе даже представить подобную женщину. Мужчина, еще куда ни шло. Кстати, а ваша собственная ампула с вами?
Тогда еще семья Геббельс была жива, и время показало, что прав был Бальдур, а не Маргарита… Можно представить себе такую женщину.
— Нет, — ответил Бальдур, краснея и отворачиваясь, — Не мог я… ее с собой таскать, трус поганый… Это все равно что… кофе готовить, держа у виска заряженный револьвер… Выбросил я ее на асфальт и каблуком растер… дурак…
— Вы умница, Бальдур. Вы просто молодец.
— Ой, вам судить-то? — беспомощно-зло обронил он, — Вы как сидели тут, так и будете. А если меня поймают, я о той ампуле, может, сто раз пожалею…
Он тут же устыдился своей вспышки и пробормотал доверчиво:
— Я трус, понимаете? ТРУС. Я со страху помру, если меня хотя бы отловят. Я боюсь абсолютно всего, что может меня ожидать ТАМ. Я боюсь, что меня будут бить. Боюсь, что будут просто смотреть на меня, как на крысу. Боюсь, что повесят. Что расстреляют. Я боюсь боли, я боюсь смерти, я не мужик, а собачье говно…
— Да нет же. Вы просто… излишне искренни для мужчины.
— Не надо меня утешать.
— И не думала. Правду говорю — уж что-что, а боль мужчины переносят хуже женщин. И оставить ампулу при себе, а потом в случае опасности ее разгрызть — как раз и есть трусость. А смелость — это принять все, что получишь, и попробовать вынести.
— Кто знает, что мне придется вынести…
— Вынесете, куда денетесь. Вы сильней, чем о себе думаете, милый. Одно это ваше желание жить уже говорит о силе… Так что давайте-ка жить. Мне кажется, вы еще услышите о своей семье и встретитесь с ней.
— У вас тут я не останусь, — глухо сказал Бальдур, — и вы меня не убедите.
Она поняла, что спорить бесполезно. После всего, что она от него слышала — и ему сказала — он скорее выйдет на улицу и ляжет под гусеницы первого же американского танка, чем рискнет ее жизнью — жизнью укрывательницы нацистского лидера.
Они тихо разговаривали до двух ночи. Бальдур казался совершенно успокоившимся. Вместе они придумали неплохой (во всяком случае, годный на первое время) план дальнейших действий.
— Кстати, — сказала Маргарита, — а если представить, что все опасности миновали — кем бы вы, Бальдур, стали в мирной жизни? Без Рейха? Ведь не политиком же снова?
— Из меня, душа моя, политик — как из фюрера Моцарт.
— Ну, а кем же?
— Не знаю. А хотел бы — писателем. С детства мечтал.
Отто, который дрых без задних ног, почему-то проснулся, когда Бальдур осторожно лег рядом.
— Все будет хорошо, — сказал ему Бальдур. — Спи.
Он принял решение. Если уж ему теперь никак не повлиять на то, что случится с его семьей, значит, он сделает все, чтоб хоть Отто остался в живых. Бальдур не умел быть совсем один на свете. Не представлял, как будет жить, если не будет знать, что где-то кто-то любит его и ждет.
Наутро — к превеликому удовольствию Франца Рама — Маргарита отыскала для этой опасной парочки другое жилище. Причем не сказала брату, где. Она словно в сговоре с ними, подумал Рам, и все трое мне не доверяют. Ну и пожалуйста. Меньше знаешь — крепче спишь.
Все втроем вышли на улицу, и Маргарита сказала:
— Провожу. Это дом Хуберов. Они согласны сдать комнату, но только, разумеется, не нацистам… Так что теперь вы, Бальдур, писатель. По происхождению австриец, конечно. Говорите вы так, что немца в вас не узнаешь — все же сколько в Вене прожили…
— А я тогда кто? — спросил Отто.
— Муза, — засмеялся Бальдур, — точней, муз. Да ладно тебе! Друг писателя, и все.
— Что-то я не слышал о профессии «друг писателя», — может, Отто не верил в успех этой затеи, потому и брюзжал.
— Да ладно тебе!
— Вам, Отто, — сказала Маргарита, — даже фамилию можно не менять. В Австрии она встречается. А вот вам, Бальдур, лучше б для пущей надежности поменять и имя — ваше лицо в сочетании с именем покажется знакомым любому австрийцу, даже отроду не бывавшему в Вене — как показалось мне этой ночью. И как же вас будут звать, сокол вы мой?..
Отто подозрительно посмотрел на Маргариту, потом на Бальдура — что за нежности?..
— Сейчас вы опять похожи на хищную птичку, — сообщила Маргарита.
— Сокол, говорите? — хмыкнул Бальдур, — А что. Фальк — неплохая фамилия для писателя. Коротко и звучно.
— А имя?
— Пусть будет Рихард, — лицо Бальдура на миг омрачилось, — в честь моего сына, которому всего год…
— Отлично. Только вот ваши документы…
— Господи, мало ли что тут можно придумать! Какие в войну документы! — усмехнулся непрактичный и наивный Ширах, который даже за годы бумажной гауляйтерской работы не понял, сколько могут значить бумаги.
Комната оказалась прекрасной, а хозяева милыми — точней, милыми они были с Отто, он напоминал им сына, который пропал без вести в 43-м. К Бальдуру они относились с тем осторожным и несколько недоуменным почтеньем, с каким порой люди простые относятся к странным птицам вроде писателей. Вроде бездельники — но ведь поди-ка, попиши целый день, голова распухнет!
Бальдур просто сиял, играя в новую игру. Кроме всего, это помогало ему меньше думать о том, о чем он говорил Маргарите на кухне. У Рихарда Фалька не было семьи.
Отто снова подумал о том, что Бальдуру, по-хорошему, следовало бы податься в актеры. Это была самая вдохновенная игра в Шираховой жизни, потому что от достоверности этой игры зависело его спасенье.
Бальдур сразу поинтересовался у хозяев, нет ли у них пишущей машинки. Машинка мастеру токарного дела Хуберу была ни к чему.
— Как жаль, — сказал Бальдур, — у меня как раз родился сюжет для нового романа… Ну ничего, я привык работать в любых условиях… Купи бумаги, Отто.
Отто покорно раздобыл писчей бумаги и плюхнул ее на стол перед Бальдуром.
— Давай, пиши… писатель.
— Ну вот, как всегда! — вещал Бальдур, — Вечно ты не веришь в то, что мне пришел хороший сюжет!
— А про что вы пишете, герр Фальк? — почтительно спросила фрау Хубер.
— В основном детективы. Отличный жанр — помимо стремительно развивающейся фабулы, в них можно вместить и психологизм…
— О, — сказала фрау Хубер, — я люблю детективы. Но, кажется, ваших не читала.
— Я писал под псевдонимом, — скромно заявил Бальдур.
— Под каким же?
— Пусть это останется моим маленьким секретом, милейшая сударыня.
После чего тетушка была уж совершенно уверена, что перед ней один из ее любимых писателей.
Дабы предаться творческому процессу, автор удалился в свою комнату. Там сидел и гнусно хихикал Отто.
— Первое дело — это название, — Бальдур, казалось, говорил на полном серьезе, — А у хорошего детектива название обязательно должно начинаться со слова «тайна» или «секрет».
Он размашисто написал сверху первого листа слово «Тайна».
Отто откровенно рассмеялся, поняв, что «хороший детектив» будет пародией.
— Тайна старого замка или там рыжего чемодана — это как-то не захватывает, и потом, напоминает Эдгара По. Почему-то. Итак, должна быть чья-то тайна. Какого-то мужчины. А лучше женщины — это куда оригинальнее. Отто, назови мне какое-нибудь дурацкое женское имя.
— Анна-Августа Штюбен-Кессерлинг.
— Идиот. Нормальный детектив должен иметь американский привкус. Не из-за преступника, а из-за полицейского. А у нас в Германии всегда была такая тупая полиция, что на успешное расследование надеяться не приходится. Не про Гиммлера ж мне писать.
— Не порть мне с утра настроение… Ну, Бальдур, по американской части у нас ты, вообще-то. Я не знаю, какие там дурацкие женские имена.
— Не знаешь — назови свое любимое.
— Ну… Майра.
— Тип-топ. А теперь любую фамилию, но дурацкую.
— Лоу.
— Что в ней дурацкого? Обычная фамилия.
— Тогда Лой.
— Это что за ужас?! Что это значит?
— Понятия не имею, но звучит глупо.
— Точно. Нечто среднее между «Лоу» и «Лей», вот откуда ты это взял, наверное. Тип-топ названьице получилось: «Тайна Майры Лой».
— И в чем ее тайна?
— А я знаю? В процессе поймем. Но уже ясно, что она будет спивающейся учительницей музыки.
— Почему??
— Потому что Лоу, Фредерик — это такой музыкант. А почему спивающейся, можно не объяснять?
Работа в столь бурном темпе уже к вечеру принесла достойные плоды: смущенной и крайне польщенной фрау Хубер была зачитана первая глава детективного шедевра. Глава леденила кровь во всех смыслах этого слова. Во всяком случае, в ней, по законам жанра, фигурировал труп — точней, одна его голова, кою и обнаружил под крышкой рояля настройщик. Разумеется, рояль принадлежал учительнице музыки госпоже Лой, с которой этот самый настройщик порой предавался любви — разумеется, на крышке этого самого рояля, отчего тот расстраивался снова, и у настройщика появлялся достойный предлог прийти завтра.
По стилистике это представляло из себя коктейль из не в добрый час помянутого Эдгара По, порнографической газеты «Штюрмер» и журнала «Панч». Кончалась глава многообещающей фразой «Ее странно бледные ноги показались ему подозрительными».
Но более всего радовало то, что фрау Хубер с волнением спросила:
— Что же будет дальше?..
Утром следующего дня Рихард Фальк заметил фрау Хубер:
— Загнали б вы кур в курятник, если не хотите, чтоб они умерли мученической смертью…
Американцы входили в Швац. Стучались в каждый дом. И небольшой, аккуратный белый домик с ухоженным садом встретил их очень мило — в садовой калитке появился какой-то улыбающийся мозгляк с растрепанной шевелюрой, в клетчатой рубашке (точь-в-точь преподаватель колледжа на отдыхе) и на чистейшем американском английском сообщил:
— Нет тут никаких нацистов, что вы, и оружия у нас тоже нет…
Отто только подивился — Бальдур настолько вошел в роль писателя, не имеющего никакого отношения к войне, что в одно мгновение рослый, с отличной выправкой офицер «Великой Германии» преобразился в сутуловатого, тощего интеллигента, взгляд которого был близоруким даже в очках.
Дом даже не обыскали.
Авангард части расквартировался здесь, остальные были пока еще в Инсбруке.
Рихард, Отто и фрау Хубер тихонько слушали радио. Вещали по большей части англичане.
А радио в те дни слушали все — и многие женщины после прослушивания коротких сводок — зависело от ситуации — или плакали открыто, или изо всех сил скрывали слезы.
«Бывший имперский наместник Вены и бывший имперский руководитель молодежи Бальдур фон Ширах мертв…»
Хенни, подумал Бальдур, если ты слышишь это — вдруг тебе приходится скрывать слезы? Ты сможешь. Только не верь. Не верь. Не верь.
Он повторял это как молитву.
Фрау Хубер горестно вздохнула.
— Теперь будут убивать всех, — сказала она, — всех, кто попался на их пути. И чем им мешал этот гауляйтер…
— А вам он не мешал? — осведомился Бальдур.
— Нам?! Бог с Вами, герр Фальк, вон у соседки дочка живет в Вене с мужем — так те говорят, что за такого гауляйтера молиться надо… Тихо, спокойно, никаких тебе выстрелов, никаких судов…
— Тихо, — сказал Отто.
И они услышали, что Геринг, Лей, Риббентроп, Функ, Заукель, Кальтенбруннер, Шпеер, Кейтель, Йодль, Дёниц, Редер арестованы и вскоре предстанут перед международным судом.
Ночью Отто стиснул ладонями свою любимую мордаху и прошептал:
— Тебя больше не ищут, Рихард Фальк… слышишь?
И щеки под пальцами Отто стали мокрыми.
Это было, как вспоминал потом Отто, вечером 4 июня… что б он ни отдал за то, чтоб Рихард Фальк увлекся творческим процессом настолько, чтоб не слушать чертово радио…
«Все бывшие руководители молодежной организации Гитлерюгенд, по причине отсутствия высших руководителей организации, будут арестованы и преданы суду, так как Гитлерюгенд объявляется преступной организацией…»
В одном предложении три «организации», подумал Отто. А через некоторое время они услышали о гибели Артура Аксмана.
Бальдур поднялся и ушел в их с Отто комнату.
— Извините, — сказал Отто фрау Хубер и тоже вышел.
Бальдур лежал на кровати, вытянувшись и положив руки по швам.
Это был его способ нервничать. Если все остальные сжимались в комок, защищая уязвимые места, словно их поведение диктовал древний инстинкт самосохранения, то Бальдур, наоборот, словно бы подставлял физиономию, грудь, брюшко под удары судьбы, ложась на спину и замирая с закрытыми глазами. Так делают, знал Отто, маленькие щенки — опрокидываются на спинку, подставляя пузо и даже иногда пуская струйку… и, как правило, даже злые-презлые псы не трогают их.
На щенка Бальдур не походил — впрочем, на взрослого зверя тоже.
Отто сел рядом и коснулся его щеки, пытаясь вернуть его в человеческое состояние. Тот от прикосновения только свернулся — на этот раз как гусеница — и некоторое время лежал так, а потом вдруг разом очеловечился. Сел. И произнес:
— Отто, вставь чистый лист.
К этому времени они нашли — за бесценок — старенькую пишущую машинку, и в данный момент из нее торчала уже десятая глава «Тайны Майры Лой».
Отто быстро выполнил приказ и положил растопыренные пальцы левой руки на клавиши — он одной рукой умел печатать быстрей, чем Бальдур двумя, потому что тот плохо видел.
— Слушаю, Рихард…
— К чертям Рихарда… поехали. Дата. «Сегодня я, Бальдур Бенедикт фон Ширах, добровольно сдаюсь оккупационным властям, дабы иметь возможность предстать перед международным судом…»
— БАЛЬДУР!!! НО…
— МОЛЧАТЬ!.. Никто не должен — слышишь, никто — отвечать за то, что сделал я!
Отто послушно, как выполнял все приказы, допечатал это сумасбродное, непонятно зачем нужное — живи, Рихард Фальк, ведь была же возможность, ведь в этом послевоенном раздрае сейчас каждый будет за себя — письмо и вытянул лист из машинки. Бальдур не глядя подписал его.
— Бальдур… подумай, я прошу тебя. У тебя жена и четверо детей, которым ты нужен живой, а не мертвый! Хорошо им будет, если тебя осудят и поставят к стенке, а?!
— А хорошо будет, если вместо меня к стенке встанут другие? Фриц, Харт, Ганс[20]? Я жить-то смогу после этого?.. — тихо, голосом редкостно спокойным спросил Бальдур. И на это Отто ничего не смог возразить. Всех этих парней он знал.
— Слушай, Бальдур — это нечестно! — выпалил Отто, — Имперский руководитель молодежи сейчас все же Артур, а не ты! Почему ТЫ должен отвечать за…
— Артура больше нет. И это, я бы сказал, совершенно неважно. То, чем он руководил, создал я.
И потом, вспомнил Отто, был тот сон в лесу под Швацем, о котором лично я никогда никому не расскажу, потому что у меня язык не повернется — и Бальдур тоже видел этот сон — и говорит, что это был не сон. Вот еще и поэтому…
Отто посмотрел на Бальдура и понял, что, скорее всего, видит его в последний раз. Но никогда, никогда не забудет этого вечера. И всю свою дальнейшую жизнь будет вспоминать это нежное, нервное, трусливое существо, которое вот так легко, так просто собралось пожертвовать за других сначала свободой, а потом, возможно, и жизнью. И пожертвовать, возможно, безо всякого смысла. Отто чувствовал неким извечным чутьем солдата, что в воздухе пахнет не просто поражением, но местью — смертью, все машущей и машущей своею косой, и люди еще долго, долго будут падать и падать, и кровь их будет пахнуть так же резко, но куда менее приятно, чем сок свежескошенной травы. И не спасти то, что спасти нельзя. От чего ты собрался уберечь парней, Бальдур? От суда и расстрела?.. Да ведь от этого не превратятся они в невинных детишек из церковного хора, так и останутся парнями с сорванными погонами, и поди-ка убереги их от тюрем и лагерей для пленных — ты же не Господь Бог, чтоб спасти их от этого? Отто не осознал, что задал этот вопрос вслух.
— Не от этого, — ответил Бальдур.
— А от чего?
— От позора…
— Стыд не дым — глаза не ест, — совсем не по-солдатски буркнул Отто.
— Американская комендатура — в гостинице «Пост». Живо, Отто. Уже четверть восьмого.
— Ну и что? — пробормотал тот.
— А то, что с восьми — комендантский час. Я приказываю — сделай все, чтоб тебя не арестовали. ВСЁ сделай.
— Чтоб не арестовали сегодня?..
— Не строй дурачка, Отто. Не сегодня, а ВООБЩЕ.
Отто все было ясно — и уж как было больно…
В полвосьмого он был в гостинице «Пост» — и вручил письмо первому попавшемуся американскому солдату, но тот счел свои полномочия слишком ограниченными.
— Майор разберется, — сказал он и жестом позвал Отто с собой.
Майор выглядел усталым, печальным человеком с красными глазами. Он прочел машинописный лист и встряхнул головой…
— Хм, — сказал он, — но, позвольте… Вообще говоря, Ширах мертв…
— Двадцать минут назад был жив, — ответил Отто. И вышел. Его никто не остановил. Выходя, он столкнулся с Бальдуром — но тот сделал вид, что его не знает.
Отто спокойно вернулся в дом фрау Хубер. Никто не задержал его и ни о чем не спросил.
Оказавшись в Германии, майор в полной мере ощутил тоску по дому. По отцу с его лошадьми, по маме с «Верой, которая жулит в бридж», по сестренке Айрин, по песням Кола Портера и невесть по чему еще — да хоть по нормальному завтраку, когда ты ешь его у себя дома. Что и придает ему нормальность.
Он устал.
И сюрпризы ему были ни к чему.
Он, сощурив тяжелеющие от усталости веки, поглядел на высокого худого человека в штатском, что маячил в дверях. Тот еще типчик, видно сразу. Нос кверху, глаза как у психа…
— Действительно, Ширах? — спросил майор, не трудясь переходить на немецкий, который знал плохо — настолько плохо, что фамилия прозвучала как «Ширак».
— Да, я Ширах, — ответил тот на хорошем английском. И полушепотом добавил нечто забавное вроде «незваный гость хуже Шираха или все-таки лучше?» Вид у него был виноватый — вот, мол, человек собирался отдохнуть, а тут я доставляю неприятности. Майор внимательно посмотрел на него, и тот неуверенно ему улыбнулся.
— Сядьте, мистер Ширах, — проворчал майор, ощущая себя как-то неловко — и вдруг неожиданно для себя добавил нечто совсем уж нелепое, обращаясь к солдату:
— Джейк, принесите нам кофе…
Через некоторое время майор уже вовсю названивал в ближайший лагерь для военнопленных под Инсбруком.
— Что-оо? — орал комендант лагеря, — Какой Ширах? Откуда Ширах?! Нет, правда — Ширах?!!
— Нет, неправда, — буркнул майор, — У меня привычка такая — пить кофе с призраками.
Джип из лагеря прибыл так быстро, словно шофер всю дорогу летел на предельной скорости.
Ширах, вытянув шею, попытался выглянуть во двор, откуда донесся шум подъехавшего авто. Вид у него был, как показалось майору, слегка испуганный.
— Это только лагерь для пленных, — сказал он Шираху, сам не понимая, какого черта успокаивает нацистского преступника, — Идемте.
У солдата, выскочившего из джипа, на поясе болтались наручники, он принялся отстегивать их.
Ширах тихо спросил:
— Ну зачем это? Куда я денусь? Я же сам пришел…
— В самом деле, — буркнул майор, — солдат! Не нужно этого.
24 мая 1946 года. Нюрнбергский Международный трибунал.[21]
Прокурор. Признавая свою вину, вы были под впечатлением, что продолжатель вашего дела, нынешний руководитель молодежи Рейха, этот Аксман мертв?
Свидетель. Да.
Прокурор. Вы думали, что он погиб в последних боях войны?
Свидетель. Да, я был убежден, что он погиб в Берлине.
Прокурор. Между тем, свидетель, здесь вы узнали из газет, что Аксман жив. Это так?
Свидетель. Да.
Прокурор. Хотите ли вы теперь, сегодня, подтвердить под присягой свою персональную ответственность как лидера молодежи Рейха во всей ее полноте — или хотели бы разделить ее с Аксманом, принимая во внимание все новости?
Свидетель. Я не собираюсь менять показания ни в каком случае. В последние годы своей жизни Гитлер отдавал немецкой молодежи приказы, о которых я не имею никакого представления, и мой преемник Аксман отдавал такие приказы, с которыми я не был знаком, потому что связи между нами нарушились, что было обусловлено ходом войны. Я намерен держаться уже сделанного мной заявления, в надежде на то, что Трибунал посчитается с моим мнением. Только один человек отвечает за все молодежное руководство Рейха, и никакой другой лидер молодежи не должен предстать перед судом. Я беру всю ответственность на себя.
1946. Lacrimosa[22]
Эрнст Ханфштенгль отложил газету и решил на радостях напиться.
Живой… Пуци не сомневался, что Нюрнбергский трибунал приговорит его к петле. Живой.
И как хорош сейчас, судя по этим фотографиям. «Держись, Бальдур», — подумал Пуци. Только одно тревожило его — да, не казнили, но как бы он не сделал это сам. Пуци еще помнил, как сильно в Бальдуре чувство вины.
Пауль Гольдберг, освобожденный из лагеря Маутхаузен, прочитал в газетах то, что утвердило его в давешнем недоверии к Бальдуру фон Шираху: одобрение антисемитизма и расовой политики, депортация евреев из Вены.
Пауль так радовался, когда они с мамой уехали тогда из Вены… но радовался зря. Их выловили в Гмундене и тычками прикладов вбили в суетящуюся орущую толпу, погнали до вокзала, затолкали в вагоны. И вот тогда шестнадцатилетний Пауль сошел с ума.
Он воспринял все это, как пакость, которой он ожидал от Бальдура фон Шираха. Эта тварь врала им, утверждая, что вне Вены безопаснее. Пауль не подумал о том, что евреям теперь опасно — везде. Он думал только о том, что, останься они в Вене, этого бы не случилось… возможно. Он считал, что их с мамой, как зверей, просто загнали в ловушку. Правильно, правильно я не хотел ему верить…
Пауль замкнулся в молчании — да все равно никто, кроме мамы, не стал бы говорить с ним в этом вагоне. На Пауле была форма Гитлерюгенд — коричневая рубашка, галстук, куртка. Сейчас он содрал бы ее с себя и сжег — но голым ходить как-то не принято, а вещи всем, кто садился в вагоны, велено было оставить на вокзале.
На станции, названия которой Пауль не видел из своего угла, женщин отделили от мужчин, вызвав их из вагонов. Больше Пауль никогда не видел своей матери.
Пауль развеселил эсэсовцев своими коричневыми лохмотьями.
Сиди свои двадцать лет, думал Пауль, потом я найду тебя. У него до сих пор болели переломанные в лагере ребра — и до сих пор кипела в нем ненависть… Кровью умою, сволочь, пожалеешь о том, что не повесили в Нюрнберге… Двадцать лет? Я проживу двадцать лет ради этого.
Он сдержал обещание — не до конца, но сдержал. Но это уже совсем другая история…
Отто выполнил последний приказ Бальдура — жить.
Кардинал Инницер негромко позвал: «Фриц!»
Фридрих Шлотц вошел, негромко шелестя рясой.
— Мы не зря молились за него.
— Да.
— И будем молиться далее.
— Да, отец мой.
Рональд Гольдберг вынул из футляра свою скрипку и заиграл. И радостно усмехнулся, когда Хорст Зауэр пригласил на танец Марию Гольдберг. А старый Берштейн, выпрямившись, церемонно подошел к Гели Раубаль. Нора Кац улыбалась, и улыбался маленький Лотар Вилльерс.
Не было здесь полутемно, не было и шумно, и Рональду стало смешно: всегда мечтал, хоть и себе не признавался, стать оркестрантом для избранного общества. Домечтался — вот же оно… вон они какие все нарядные — в белом… Старенькая юбка Марии теперь почему-то белая… и оттого нарядная. А с формы Хорста Зауэра, которая тоже стала белой, исчезли руны «зиг»…
Примечания
1
Пуци — Putzi («Пацанчик») — семейное прозвище Эрнста Ханфштенгля, прилипшее на всю жизнь.
(обратно)2
SA — Штурмовые отряды, Sturmabteilungen, военизированные формирования НСДАП, их формирование начато 3.8.1921 на базе некоторых подразделений «Добровольческого корпуса». В период расцвета под руководством Э.Рема SA стали напоминать легальные бандформирования.
(обратно)3
Россбах, Герхард — офицер, руководитель военизированного подразделения «Добровольческий корпус».
(обратно)4
«Кнаппеншафт» — приблизительный перевод «Содружество оруженосцев» — добровольческая молодежная организация национал-социалистического толка, действительно существовавшая в Веймаре. И Ширах действительно стал ее членом в 12-летнем возрасте.
(обратно)5
Гессик — собственно, Hesserl, Гитлер действительно называл Гесса так, переживая по поводу его затянувшегося заключения в Ландсберге.
(обратно)6
Отто — читатели уже знакомы с этим персонажем, адъютантом Шираха из «Б.м.в.» Могу поклясться, что в момент написания «Б.м.в.» я придумал Отто потому, что считал, что должен же быть у Шираха адъютант. Несколько позже, когда я ознакомился с историческими фактами, стало ясно, что Отто не просто «имел место быть» в жизни Шираха, но и является некой составной фигурой из его реально существовавших адъютантов! Самый «явный» из прототипов Отто — Фриц Висхофер. Я не заменил Отто Фрицем только потому, что Бальдур и Отто, по сюжету, состоят в любовных отношениях, а я уже понял, что к истории столь НЕДАВНЕЙ нужно прикасаться БЕРЕЖНО. И до сих пор думаю о том, что было бы, прочти «Бога моей весны» ныне здравствующий Клаус Бальдурович фон Ширах. Юрист по профессии.
(обратно)7
Гебитсфюреры — руководители областных подразделений организации Гитлерюгенд, в принципе, аналогом было бы «гауфюреры».
(обратно)8
«ага, а Хаусхофер, по-твоему, кто, китаец, что ли?» — на самом деле геополитик Карл Хаусхофер, чьи идеи оказали значительное влияние на «Майн Кампф», евреем не был, но был женат на еврейке.
(обратно)9
Сам-то он по-английски владеет разве что нобходимым минимумом… — Пуци очевидно преувеличивает лингвистическую бездарность Гитлера, но, можно предполагать, ненамного.
(обратно)10
Право дарить жизнь, которое принадлежит только Адонаи — если б Ширах разбирался в иудаизме получше — скажем, как Вы, мой дорогой читатель — он по одной этой фразе понял бы, что Пуци — весьма неправоверный еврей, ибо те Имя Господне не произносят вообще.
(обратно)11
как у ангела Вероккьо, проигравшего ангелу Леонардо. — имеется в виду первая работа Леонардо — ангел на картине Вероккьо «Крещение Христа». Работа примечательна тем, что ангел да Винчи — тогдашнего ученика Андреа Вероккьо — заинтересованно наблюдает за обрядом крещения, меж тем как ангел мастера совершенно отрешен от происходящего.
(обратно)12
Плохой поступок — это случилось в школе Адольфа Гитлера в Плене. Кажется, это был не единичный случай.
(обратно)13
— Я! Сказал! Не сметь! Участвовать! В этом! Вандализме!!! — не сочтите за выдумку, обеляющую образ Шираха. Этот запрет — реальный исторический факт.
(обратно)14
— Э, Рейни. Друг… Не путай… — На самом деле уменьшительным от имени «Райнхард» по-немецки должно быть «Райни». Ширах называет Гейдриха «Рейни» в шутку, производя это словечко от английского «дождь».
(обратно)15
«Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу…» — первый катрен «Божественной комедии» Данте.
(обратно)16
как один — со знакомым лицом — начинает давиться и прятать глаза, сдерживая рыдания, второй — кажется, он имеет отношение к Рейхсбанку, а может, и нет — откровенно плачет, сморкаясь в платок- Ганс Фриче и Вальтер Функ.
(обратно)17
Ширах напряженно уставился на экран. — реакция Шираха на упомянутый фильм приводится со слов непосредственного наблюдателя психолога Г. Гилберта.
(обратно)18
А дальше он видит тюремную камеру, метра четыре на три. — Имеется в виду камера Нюрнберга, а не Шпандау.
(обратно)19
Dies irae — «День гнева», Lacrimosa — «Плач», вообще, 2 и 7 части «Реквиема» Моцарта.
(обратно)20
Артур, Фриц, Харт, Ганс — Артур Аксман (на тот момент занимавший должность имперского руководителя молодежи — прежнюю должность Шираха — соответственно, на Суде Народов за Гитлерюгенд пришлось бы отвечать ему), Фриц Висхофер, Хартман Лаутербахер — адъютанты Шираха, занимавшие высокие должности в Гитлерюгенд. Ганс Лаутербахер — командир добровольческого батальона Гитлерюгенд, сформированного Ширахом исключительно в целях спасения подростков, которым надлежало быть призванными в Фольксштурм и безнадежно защищать Вену. Батальон Гитлерюгенд Ширах то и дело перемещал так, что он с противником не соприкасался.
(обратно)21
24 мая 1946 года. Нюрнбергский Международный трибунал. — подлинный фрагмент допроса Шираха представителем английского обвинения Томасом Доддом.
(обратно)22
Dies irae — «День гнева», Lacrimosa — «Плач», вообще, 2 и 7 части «Реквиема» Моцарта.
(обратно)




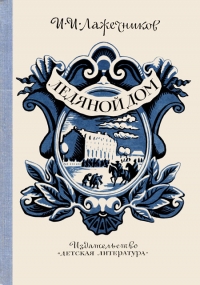



Комментарии к книге «Концерт для Крысолова», Мелф
Всего 0 комментариев