Нормандский гость
От автора
Времена, о которых я хочу поведать, многие историки называют тёмными, иные — смутными. Третьи и вовсе утверждают, что X века попросту не существовало в истории Франции, настолько он не представляет никакого интереса. Прочитав кое-какие материалы по этому вопросу, я стал в оппозицию, и мне захотелось рассказать о воцарении новой династии франкских королей, которая сменила Каролингов. Тут я подумал: коли историки такого предосудительного мнения об этом столетии, то сколь же ничтожными должны быть представления о нём у читателя? Поэтому я решил дать совсем краткую оценку событиям, предшествовавшим вступлению на престол династии Капетингов, последняя ветвь которой погибла под ударом гильотины 1793 года.
После Верденского договора 843 года империя Карла Великого была поделена между сыновьями Людовика Благочестивого на три части — Западно-Франкское королевство, Восточно-Франкское королевство и Италия. Первая часть досталась Карлу Лысому, внуку Карла Великого. Эта доля, в отличие от других, никогда не делилась, хотя отдельные княжества и не признавали власти над ними короля.
Правление Карла Лысого ознаменовалось бесконечными войнами с маврами, норманнами и бретонцами. Императором — мечта всей его жизни — ему удалось побыть всего два года, и после его смерти во Франкии замелькал калейдоскоп королей, которых называли корольками и не без оснований давали этим вырождающимся монархам уничижительные прозвища: Толстый, Лысый, Заика, Горбатый, Простоватый. А ведь были у франков и иные: Великий, Благочестивый, Смелый. Причина проста: короли были припадочными и дебилами. Как могли такие управлять государством?
Людовик Заика, сын Карла Лысого, первым сошёл в мир иной через два года после коронования. Как и отец, он продолжал противостоять набегам норманнов и сарацин, но династия уже шла к вырождению, о чём и было сказано в своё время Людовику Третьему, сыну Заики: «Посмотри на тех, кто был до тебя! Каждый из них жил всё меньше. Отец твой и вовсе умер в расцвете сил, а ты умрёшь, будучи моложе его». Так и вышло. Людовик умер в двадцатилетием возрасте, за ним — Карломан, второй сын Заики. На этого смотрели как на дебила и ждали: сколько ему ещё — год, два?.. Получилось — два. Бедняга погиб на охоте. Следующий — Карл, сразу же получивший прозвище Толстяк. Он был эпилептиком. И тоже стали ожидать, когда же этот... и что дальше? «Этот» правил только три года и был свергнут феодалами за неспособность к правлению, неумение противостоять норманнам, всё чаще осаждавшим Францию — герцогство в сердце Западно-Франкского королевства со столицей Париж.
Итак, за восемь лет — четыре Каролинга! Есть повод к прогнозам.
На поприще защитника королевства выдвинулся граф Эд, сын Роберта Сильного, первого графа Парижского. Он и стал королём — первым Робертином — и был им ни много ни мало десять лет. Едва он умер, на престоле снова Каролинг по прозвищу Простак. Ни любви, ни уважения в народе и среди знати этот не снискал, хотя и пробыл королём целых двадцать четыре года. В стране царил голод, разруха, досаждали норманны. Устав откупаться от них, король заключил договор с вождём Хрольфом Пешеходом и выдал за него свою дочь. Вождь был крещён, переименован в Роллона и стал первым герцогом огромного края к западу от Парижа — Нормандии.
После очередного поражения в битве Карл Простак был смещён. На престоле снова Робертин — Роберт, младший брат Эда. Этого любили, как и первого. Но Каролинги, не желая уступать, устроили заговор и убили беднягу ровно через год. Следующим на трон сел, выбранный знатью, герцог Бургундский Рауль. Все тринадцать лет правления он боролся с феодалами, которым не смог угодить всем сразу, и умер от заразной болезни в 936 году.
Из Англии привезли нового короля — Людовика, сына Карла Простоватого. Его правление тоже можно назвать фиктивным, ибо главной фигурой был Гуго Великий, сын Роберта и первый герцог франков. Вот кому надлежало быть королём по власти, уму, по праву рождения, наконец. Однако реальные полномочия больше устраивали герцога. Людовик в союзе с Оттоном начал войну против Гуго за Лан, Реймс, земли от Сены до Луары. Вскоре герцог франков под угрозой анафемы изъявил покорность королю, а четыре года спустя Людовик, погнавшись на охоте за волком, упал с лошади и получил сильное сотрясение мозга, приведшее к смерти. Ему наследовал сын Лотарь. Этот король довольно долго воевал с нормандским герцогом Ричардом, потом с графом Фландрским и, наконец, с Оттоном. Последний должен был вернуть франкскому королю родовые земли его предков. Война затянулась. Оттон внезапно умер, и Лотарь мечтал уже владеть всей Лотарингией, но этому помешала его скоропостижная смерть.
На престол взошёл сын Лотаря — Людовик Пятый.
Глава 1. Встреча на Брюссельской дороге
В апреле 987 года по дороге из Санлиса в Брюссель, близ границы Лотарингии с графством Вермандуа, шёл человек. Было не жарко, порывами налетал пронизывающий ветер. Не мешало бы путнику надеть плащ или куртку, хотя бы верхнюю тунику да ещё штаны. Ничего этого путник не имел, лишь башмаки с повязками на ногах были на нём да лёгкая, тонкого полотна, нижняя туника до колен.
Должно быть, прохожий был нищим: какой-нибудь крестьянин, разорившийся вконец, и притом телом тощ и духом слаб, так что еле ноги волочил. Но приглядимся к нему и тотчас поймём, что это не так. Человек оказался вовсе не тщедушным, напротив, этот крепкий, широкоплечий мужчина двадцати трёх лет отроду выглядел вполне бодрым и упитанным и был высок: любой смертный едва доставал бы ему до плеча. Одним словом, облик путника выдавал в нём уверенного в себе человека, великана и силача.
Однако временами брови этого странника грозно сходились к переносице, лоб бороздили морщины. Чувствовалось, он на что-то зол. Видимо, продрог на ветру. Оно и немудрено в нижнем белье. Одно хорошо, хоть не босой, потому и шагал быстро, согреваясь на ходу.
У этого гиганта были светлые волосы, голубые глаза, крупные черты лица. Ни усов, ни бороды. Шагая, он неотрывно смотрел перед собой; взгляд недобрый, губы плотно сжаты, кажется, вот-вот с них сорвётся проклятие.
Неожиданно путник замедлил шаги. Ноздри его широко раздулись, в глазах заплясали огоньки, рот искривила недобрая усмешка. Он повёл плечами и остановился.
Причиной тому был всадник, скачущий ему навстречу. Расстояние быстро сокращалось. Вот уже между ними каких-нибудь десять-двенадцать туазов[1]! Казалось бы, путнику тотчас следует отойти в сторону, иначе налетит на него воин в кожаных доспехах и с мечом, раздавит конём. Но не тут-то было. Словно издеваясь над судьбой либо совсем уже ни в грош не ставя свою жизнь, странник упрямо, набычившись, стоял прямо посреди дороги, глядя исподлобья и уперев одну руку в бок. И не объехать его стороной, слишком узок тракт.
— Прочь, деревенщина! — ещё издали закричал всадник. — Убирайся, раздавлю!
— Кого? Меня? — и великан, не двинувшись с места, громко захохотал, будто гром загремел.
— Болван! Не видишь разве, сеньор едет и ему нужна дорога!
— А мне нужен его конь!
— Что-о?! — всадник потащил из ножен меч. — Ты, виллан, смеешь дерзить мне? Прощайся же с жизнью!
Шагов пять уже оставалось от одного до другого. И всадник в предвкушении хорошего удара уже оскалил в улыбке рот, блеснув зубами. Но тут случилось невероятное. Едва он поднял руку с мечом, как путник, зорко следивший за каждым его движением, быстро подошёл и своим громадным телом навалился на коня, упёршись руками, будто двумя таранами, в шею и круп. Конь испуганно заржал и в следующее мгновение, не в силах устоять на ногах, рухнул вместе с седоком на бок, в придорожную грязь. Воздух сотрясли проклятия. Не понимая, как такое могло произойти, всадник, лёжа на боку и барахтаясь в чёрной жиже, проклинал всё на свете и в бессилии махал мечом, кроша слякоть вокруг себя.
Путник, не мешкая, обогнул лошадь, наступил ногой на руку поверженного врага и выхватил у него меч.
— Ну, вот и всё, приятель, — удовлетворённо пробасил он и приставил клинок остриём к груди седока. — Читай молитву, коли ты христианин. А сарацин — умрёшь без покаяния, клянусь щитом моего прадеда!
— Разве я похож на неверного? — без тени страха спросил воин.
— И в самом деле, по речи ты как будто франк, — отозвался великан. — Или слуга империи. Тогда молись скорее, вручай свою душу Господу, пока она ещё не покинула твоё тело. Да поживее, не видишь, я спешу!
— Неужто ты убьёшь безоружного? Да к тому же беспомощного? Ведь я повержен. Дай же мне подняться на ноги и умереть, как подобает мужчине и воину.
— Пожалуй, ты прав, — поколебавшись, произнёс путник, — и эту последнюю услугу я тебе, так и быть, окажу.
Он высвободил свободную ногу всадника из стремени, положил на землю меч и, обхватив обеими руками лошадь, поднял её и поставил на ноги. Затем взял в одну руку поводья, в другую — меч. Его враг, потирая ушибленную ногу, стоял рядом и уныло глядел на свою шляпу с меховой опушкой, валяющуюся в грязи.
— Ну! — воскликнул гигант, снова приставив клинок к груди всадника. — Поторапливайся, и умрёшь по-человечески, как христианин. А станешь перечить, так я твоим же мечом развалю тебя надвое, можешь не сомневаться, силой господь меня не обидел.
— В этом я уже убедился, — пробормотал всадник. — Одного не пойму: ведь тебе нужна моя лошадь?
— Ещё бы! Я ведь уже говорил.
— Так бери её, она твоя. Зачем тебе ещё моя жизнь?
— Боишься умереть? — губы путника тронула кривая усмешка. — Какой же ты франк! Разве ты воин? Тебе поучиться бы у норманнов. Будь хоть один из них похож на тебя, и нам не удержаться бы в устье Сены. И не было бы нынче герцогства Нормандского, клянусь топором Роллона!
— Так ты один из них? — с любопытством спросил всадник. — Тогда я ничему не удивляюсь, даже твоему чужому языку. Наш король Карл был прав, выдав за вашего вождя свою дочь. С таким народом надо жить в мире. Об этом не мешало бы помнить моему брату, а он вместо этого питал к вам вражду. Не ополчись он против меня, я дал бы ему братский совет. Но теперь слишком поздно. Жаль, я не успею дать этот совет племяннику Людовику... Но мой брат умер как воин, как франк, и я не опозорю славного рода Каролингов, униженно вымаливая себе на коленях жизнь. Такова моя молитва. А теперь бей! — Он смело взглянул врагу в глаза и скинул кожаный панцирь. — Ты увидишь, как умеют умирать потомки Карла Великого. Бей сразу, без промаха! Не хочу мучиться. Я и так страдал всю жизнь, довольно с меня... Ну! Чего же медлишь? Ведь я не прошу пощады.
И он опустил голову, подставляя её под удар.
Но великан медлил. Брови его сошлись на переносице. Опершись одной рукой на меч, он подбоченился другой и пробасил:
— Подними голову. Вот так. А теперь запомни: Можер Нормандский воюет только с врагами своего народа, но даже с ними он никогда не поднимал руки на безоружного. Тем более, если подумать хорошенько, никакой ненависти у меня к тебе нет. Даже появилась жалость. Ну да, ведь ты теперь пойдёшь пешком, а я — верхом на твоей лошади.
— Ты оказался сильнее, и я смиряюсь, — вздохнул всадник. — Франк, как и церковник, всегда уважал силу. И никогда не оставался в долгу. Сегодня ты подарил мне жизнь, хоть и отнял коня. Когда-нибудь я верну тебе долг. Помни, это сказал брат короля. А теперь прощай.
И он повернулся, собираясь уходить.
— Брат короля? — будто гром за его спиной прогрохотал.
— Что тебя удивляет? — послышалось в ответ. — Я ведь говорил, что являюсь потомком Карла Великого.
— Так ты брат короля? — повторил нормандец. Казалось, его удивлению не будет границ. — Какого же именно? Уж не Лотаря ли? Ну да, ведь ты говорил: Людовик — твой племянник!
— А я его дядя, сын короля Людовика Четвёртого.
— И тебя зовут?.. Постой... Уж не Карл ли Лотарингский? Ведь у Лотаря больше нет братьев.
— Я герцог Нижней Лотарингии Карл, ты угадал верно. Но что из того?
— Клянусь шлемом моего славного прадеда! — вскричал нормандец и, подойдя к герцогу, от души хлопнул его по плечу, отчего тот, охнув, присел. — Хорошая же встреча произошла у нас с тобой! Кто бы мог подумать! Вот и не верь после этого в силы небесные!.. А знаешь ли, кто я?
— Да ведь ты говорил — норманн. Не пойму только, что ты здесь делаешь, на границе Вермандуа, да ещё в таком одеянии.
— Сейчас поймёшь. Я граф Можер, сын Ричарда Первого, герцога Нормандского!
— Судя по одежде, ты такой же сын Ричарда, как я — папа римский Иоанн, — скептически протянул Карл.
— Не веришь? Так знай же, что я прибыл сюда из Нормандии, чтобы повидаться с тобой и предложить свои услуги. Отец послал меня. «Довольно, — сказал, — бездельничать в замке, отправляйся в помощь Карлу Лотарингскому. Я его должник. Однажды он спас мне жизнь». Ты должен помнить, герцог, это происходило где-то здесь.
— Помню, словно это было вчера, — кивнул Карл. — Ренье и Ламбера, потомков могущественного лотарингского властелина, лишили прав на наследство — владения в Эно. Император Оттон — вот зло всему. Лотарь, узнав об этом, вызвался помочь братьям и отправился в поход на Лотарингию. Я не отговаривал его, понимая бессмысленность своих попыток. Он не стал бы меня слушать. Он вообще не считался со мной как с братом и смотрел на меня свысока. К тому же Лотарингия была для него лакомым кусочком, ведь это родина Пипина Короткого, нашего предка, основателя династии. Как было упустить возможность отобрать у Арденнов, сторонников Оттона, родовые владения Каролингов? Лотарь и меня, как брата, пригласил в поход, хотя для всех я был никто — король без королевства, без поста, без епископского благословения. Даже без места и определённого рода занятий. Лотарь один забрал себе всё, я же остался нищим. Непонятно, на что он надеялся, ведь Оттон был силён, его не свалить. И всё же он попросил помощи у Ричарда Нормандского.
— Какого чёрта было моему отцу ввязываться в эту свару? — недовольно проговорил Можер. — Пусть бы сами ломали друг другу шеи.
— Видимо, потому что Лотарь постоянно с ним враждовал. Ричарду представилась возможность поквитаться за нападки на его земли. На это и рассчитывал Оттон. Армии встретились под стенами Монса, в Эно. Сражение было жестоким, норманны дрались как львы, и нам не удалось захватить город. Тогда-то и ранили твоего отца. Его уже хотели взять в плен, но я вырвал Ричарда из рук союзников Лотаря и передал норманнам. Они увезли его домой, в Руан. Узнав об этом, брат выгнал меня прочь. Причину к тому нашёл ещё одну: обвинил меня в оскорблении его жены, когда я уличил её в любовной связи с ланским епископом. Так я стал изгоем, хуже самого недостойного воина. Но история с твоим отцом дошла и до императора, и он, извечный враг Лотаря, сделал меня герцогом Нижней Лотарингии.
— Именно так мне и рассказывал отец, — подтвердил Можер, — а потому и отправил к тебе развеять грусть-тоску и помочь, коли у тебя нужда. Только в чём же она, если твой братец в прошлом году умер, а с его сыном Людовиком у вас тёплые отношения?
— К нему-то в Лан я и направляюсь, — Карл устремил взгляд на юг.
— Тогда поедем вместе, — воскликнул нормандец. — Ведь я ехал к тебе, а значит, направляюсь теперь туда же, куда и ты.
— Что ж, согласен, — улыбнулся Карл, протягивая руку Можеру, — с таким попутчиком мне не то что армия неприятеля, сам чёрт не страшен. Однако что же нам делать, граф, ведь нас двое, а лошадь одна?
— Садись в седло, герцог, а я пойду рядом. Лошадь ведь твоя. К тому же ты, кажется, ушибся при падении, всё ногу потираешь.
— Нет, так не годится, сидеть тебе, ведь ты мой гость, — возразил дядя короля. — И коня завоевал по праву, да ещё и без оружия. Я же пойду пешком. А нога — ничего, скоро пройдёт, не сломана и то хорошо.
— Я не могу, ведь ты сын франкского короля.
— А ты — могущественного герцога.
— Но ты герцог!
— А ты — граф.
Оба уставились друг на друга, потом на лошадь. Она повернула голову, повела глазом на одного, потом на другого, будто спрашивая обоих: «Долго вы ещё будете спорить, высокородные господа? Пора бы уже и ехать».
— В таком случае поедем оба: один в седле, другой позади, — предложил Карл.
— Милая получится картина, клянусь пятками моего прадеда! — усмехнулся Можер. — Герцог и граф вдвоём на лошади торжественно въезжают в город Лан под звуки двойных флейт и кифар! К тому же бедному животному не вынести такого груза. Боюсь, я и один окажусь тяжеловат.
— Что ж, тогда поведём лошадь в поводу.
— А сами явимся для неё пешим эскортом? — нормандец рассмеялся. — Полотно выйдет ещё нелепее. Нас поднимут на смех. Такой финал устраивает тебя, герцог?
— Чёрт возьми, презабавная ситуация, — ответил Карл Лотарингский. — Любопытно, что сказал бы по этому поводу Соломон?
— Тебе хочется знать? Так вот его решение: верховым быть хозяину, к тому же он стал хром. Его спутнику быть пешим, с него не убудет. Он прошагал уж порядком от самого Шарбоньерского леса, с таким же успехом проделает и обратный путь. Возражать не стоит, герцог, ибо решение это соломоново, а значит, мудрое, и не нам с тобой этому противиться. По пути увидим воду, почистим немного твою одежду, не то нас примут за разбойников.
Можер помог Карлу, всё ещё потиравшему ушибленную ногу, взобраться на коня, и они направились в Лан, где жил король.
Глава 2. Певунья на камне
— Почему ты без охраны, герцог? — спросил нормандец дорогой. — Нынче небезопасно путешествовать одному.
— Лишний повод для размышлений у любопытных. На одного кто обратит внимание? Отряд же вызовет нежелательные толки. Ну а ты? Почему тоже один? Впрочем, — улыбнулся Карл, — ты и один стоишь двух десятков.
— То же сказал мне отец. Но кто мог знать, что так случится. Слава богу, хоть оставили в живых.
— Тебя ограбили? Должно быть, их было не меньше полусотни.
— Человек десять. Обычные разбойники по виду. Один из них вдруг преградил мне дорогу и сказал, что я не двинусь дальше, пока не отдам им коня, деньги и одежду. Я сшиб наглеца с ног, наехав на него конём, но появился другой, справа, и замахнулся дубиной. Я рассёк его мечом надвое, и тут меня сзади багром стащили с седла. Я свалился с лошади и обронил меч. Гляжу — а их уж как пальцев на руках. Один совсем близко, с коротким мечом. Я перехватил его удар, да и обрушил свой кулак ему на голову. Аж череп треснул у бедняги да глаза повылезли. Схватил другого — и об дерево. Чую — все кости ему переломал, будто соломинки в пальцах. А тут ещё двое: вцепились, кинжалы к горлу приставили. Взял я их за шиворот, приподнял, да и стукнул друг о друга. Потом отпустил — и свалились оба грудой костей и мяса у моих ног. За тем и настал конец моим подвигам: подкрался кто-то сзади и нанёс удар дубиной по голове. Должен тебе сказать: череп у меня крепкий, любой на моём месте тут же растерял бы свои мозги. Но удар был силён. Я ничего не смог поделать и без сознания повалился замертво. Когда очнулся, голова гудела, будто колокол церкви Святой Магдалины возвещал жителям Руана конец света. Подумалось тогда: не рано ли? Церковники подводят сей факт под тысячный год. Ну а когда огляделся вокруг, никого уж не было. Решили, что убили, и одежду с меня сняли. Прихватили коня и меч. Кинулся было искать негодяев, да где же найдёшь в лесу? Так и побрёл, скрипя зубами, к тебе в Брюссель. Дорогой думал: как же примет меня Карл Лотарингский? В худшем случае не поверит ни одному моему слову и прикажет избить палками. В лучшем, усмехнувшись, скажет: «Вот так помощника выслал герцог Нормандский! Ни коня, ни меча, да и сам едва не голый».
— Так и подумал вначале, признаюсь, — рассмеялся герцог Карл, — но как стал рассказывать об отце, понял: не врёшь.
— Когда-нибудь доберусь до этих воров, — погрозил кулаком нормандец в сторону Камбре. — Вот только обзаведусь конём и мечом. Вмиг разорю это разбойничье гнездо, а этих мерзавцев передавлю собственными руками, как цыплят, а потом буду по очереди отрывать им головы.
— Не жестоко ли? — покосился герцог. — Христиане всё же, не мавры.
— Христиане, — ответил Можер, — да только не поверишь, герцог, как жаль мне меча. Ведь его ковал для меня лучший кузнец Руана! А конь? Мой Буцефал! Едва ли найдётся в конюшне твоего племянника достойная ему замена. Лишь он способен был безропотно нести меня.
— Не печалься, граф, мы ещё вернёмся сюда и найдём твоего коня и меч.
— Да услышат тебя небеса, герцог Карл. Но скажи, зачем ты едешь к королю Людовику? Он звал тебя?
— Он и не позовёт, зная, сколь несправедливо обошёлся со мной его отец. Но я не хочу помнить зла. К тому же Лотарь теперь уж мёртв. Его сын делает жалкие потуги править королевством и совершает одну ошибку за другой. Причиной тому — одиночество. Кто поможет ему, вразумит, направит? Советники — герцоги и графы? Каждый смотрит лишь в свою сторону, до королевства никому нет дела. И никто не хочет думать, что империя приберёт Франкию к рукам, она станет её придатком, провинцией. Разве к этому стремился наш предок Карл Великий? Его столицей был Ахен — город, где сидит нынче Оттон, император. Но он не Каролинг. Людольфинг, германец. Его отец основал империю, которая норовит сделать своей провинцией Западно-Франкское королевство, великую державу Каролингов. Ныне она на краю гибели.
— Ты прав, — кивнул Можер, — негоже ходить под германцем. Мой отец думает так же.
— Любой трон слаб, коли на нём дитя. Людовик юн, наследника у него нет. Силы властвовать не больше, чем у младенца. Он последний. Случись беда — и конец Каролингам. Оттон крепко сомкнёт челюсти, слишком много у него сторонников. Один реймский архиепископ Адальберон чего стоит.
— Но разве Людовик последний? Ведь ты его дядя! Каролинг!
— Я? — Карл горько усмехнулся. — Меня они сметут.
— Кто же посмеет пресечь род Карла Великого?
Карл Лотарингский долго молчал, глядя вдаль, на смутно вырисовывавшиеся в дымке башни и стены далёкого города Лана.
— Есть такой человек, — наконец глухо проговорил он. — И его изберут королём — богатого, знатного, могущественного.
— Это сделают вассалы короны?
— И прежде всего Церковь. Вот институт, уважающий власть.
— Кто же этот человек?
— Граф Парижский, первый герцог Франкии. Друг твоего отца.
— Гуго? Сын великого герцога?
— И племянник Оттона Первого, императора Священной Римской империи.
— Да ведь он Робертин!
— Они изберут уже третьего.
— Но он франк! Его вотчина — Париж, сердце Франкии. Станет ли он ходить под германцем?
— Одно я точно знаю: Людовик не отдаст империи родину своих предков. И надо ему в этом помочь. Ты со мной, граф?
— Если я правильно тебя понимаю, сокрушив Каролингов, император возьмётся и за остальные княжества? Тулуза, Аквитания, Анжу... дойдёт очередь и до Нормандии?
— И этот враг будет посильнее, нежели прежний Людовик и его сын Лотарь.
— На кой чёрт Нормандии власть германца? Мой отец добился независимости своей земли. Его сын также свободен и всё же будет служить Каролингам, а значит, защищать землю их прадедов. И этим отец платит тебе свой долг. Я с тобой, Карл. Дальнейшее — лишь Богу ведомо. Но одно скажу: я, сын герцога Ричарда Нормандского, до последнего вздоха буду защищать свою землю и служить франкскому королю, ибо он — твой племянник и воюет с империей.
— Ты славный воин, Можер, и мне нравишься, — повернулся в седле Карл. — А потому скажу: либо я совсем уже не разбираюсь в людях, либо нам с тобой быть друзьями.
— А разве мы уже не друзья? — приподнял брови нормандец и оглушительно захохотал. Потом прибавил: — А ведь этот Гуго, о котором ты говорил, — мой родственник. Он зять и шурин моего отца. А отец — шурин и зять Гуго.
Карл Лотарингский ничего не ответил на это, лишь сдвинул брови.
Вскоре они остановились перед стенами города. Они опоясывали Лан огромным зубчатым кольцом из камня и были высотой около тридцати футов. Похожие на зубья королевской короны, зорко стоят на страже города по всей длине стены круглые деревянные башни, увенчанные крышами, издали напоминающими шляпки грибов. Одна от другой на полёт стрелы. Стены окружает глубокий ров со стоячей водой, далее — вал. За версту-две, если смотреть с равнины, самого города почти не видно, но если взобраться на холм, то взгляд выхватывает из синей дали остроконечные крыши высоких домов, шпили церквей, колоколен и королевский дворец, по углам которого ещё две башни, увенчанные каждая зубцами.
И, наконец, городские ворота — как правило, самое слабое место в обороне. Они из дерева, окованы железом, образующим на створках орнамент. Сейчас они раскрыты, и там, в глубине, виден сторож — массивная двустенная надвратная башня.
Над городом низко ползли хмурые серые тучи. В одной из них на какое-то время спрятался самый высокий шпиль.
Путникам осталось уже пройти до ворот около двухсот туазов, как вдруг впереди послышалась унылая мелодия. Оба переглянулись, на лицах удивление. С чего бы это здесь, у дороги, кому-то вздумалось перебирать струны? Две-три, не больше, по слуху. Они подошли ближе и остановились. В высокой придорожной траве, за которой начинались заросли болотного камыша, сидела на камне юная музыкантша и играла на ротте[2], уперев её в бедро и тихо напевая что-то. Одета она была в разноцветную рубашку из домотканого холста с длинными и узкими рукавами, закрывающую всё тело от шеи до ступней ног. Талию охватывал синий пояс, тёмные волосы свободно распущены, голову венчала круглая, цвета маслины, шапочка.
Завидев всадника и его спутника, девушка оживилась, пальцы её проворнее забегали по струнам; из пяти ни одна не осталась в покое.
Закончив игру, незнакомка положила ротту в траву и поднялась с камня.
— Понравилась тебе, всадник, моя мелодия? — спросила она у Карла, озорно вскинув голову и убрав пальцем прядь волос со лба.
— Хорошо играешь, красавица, — похвалил герцог, протягивая горсть мелких монет. — Этим зарабатываешь на жизнь?
— Ремесло не хуже другого.
— Почему же сидишь здесь, а не в городе? Ведь народу там больше.
— Потому что пение одинокого щегла услаждает слух, а стаи — рассеивает внимание.
— Выходит, ты не одна там такая?
— Птиц много. Умна та, что сумеет заставить слушать лишь себя. Но твой спутник, господин, похоже, не доволен моей игрой?
— Куда более привлекательна ты сама, прелестница, — громко проговорил нормандец. — Тебе следовало бы взимать плату ещё и за просмотр.
— За это денег не беру. Но слова твои, путник, вижу, расходятся с делом. Или ты ещё не налюбовался?
— А ты посчитай свой заработок.
Певунья разжала кулак, поглядела на монеты, заулыбалась.
— Ну, что скажешь? Достаточна ли плата с обоих?
— Твой приятель оказался щедр, я не рассчитывала. А может быть, ты его слуга? Но не похоже. Взгляд прямой, осанка гордая, поза господина... Не пойму только, почему в тунике? Не жара.
— Решила, стало быть, что я знатен по рождению?
— Да уж видно. Слуга стоял бы у стремени да держал меч господина. И не открыл бы рта без его позволения.
Можер расхохотался. Засмеялся и Карл.
Кто ты? Вещунья? Фурия? — снова спросил нормандец. — А может, цыганка? Волосы твои темны. Говоришь как бургунды; не оттуда ли?
— Любопытен же ты, граф. Не знаю, что и отвечать.
— Ба! Ты слышал, Карл? — вскричал Можер. — Она назвала меня графом! Может, и имя моё скажешь?
— Попробую угадать, коли хочешь.
— Назови сначала своё.
— Вия. Что же до твоего... Ты не франк, это видно. Как ты — говорят норманны. Держишь себя как герцог. Но будь так, сидел бы в седле. Значит, граф, а верхом на лошади — герцог. Остаётся узнать твоё имя. Лишь сам Ричард Нормандский может сопровождать Каролинга, либо его граф, либо сын. Но ты не Ричард, а статью в Роллона Великана, я слышала о нём. Стало быть, ты его потомок. А если судить по возрасту — один из сыновей герцога Ричарда. Вот только не знаю имён, говорят, у него много детей.
Нормандец усмехнулся, подошёл к девушке поближе.
— А ведь ты, красотка, будто пророк Илия иль Дельфийский оракул, клянусь секирой Роллона. Угадала всё в точности. А зовут меня Можер. Но как узнала, что в седле герцог, да ещё один из Каролингов?
— Скажу даже, кто он, — Вия подошла к Карлу, внимательно вгляделась в его лицо и вдруг предложила: — Сойди с лошади, всадник.
Карл спешился.
— Дай твою руку.
— Зачем? Хочешь предсказать судьбу? — герцог повернулся к нормандцу. — А ведь ты был прав, цыганская у неё кровь. — Вие же сказал: — Не желаю узнавать будущее. Говорят, дурная примета — знать заранее судьбу.
— Не за этим прошу твою руку.
— Зачем же тогда?
— Дай — увидишь.
Карл протянул ладонь.
Вия схватила её и благоговейно поцеловала:
— Не удивляйся, всадник, ведь я узнала тебя. Ты герцог Лотарингский, брат покойного короля.
— Как же ты смогла?.. — опешил Карл, убирая руку.
— Карл — королевское имя. Кто же может носить его, если не брат или сын короля? Других детей мужского пола у Людовика Заморского нет, а для сына Лотаря ты слишком стар. Идёте же вы из Брюсселя, там Нижняя Лотарингия. Это ещё больше укрепило меня в мысли, что на коне брат Лотаря и дядя нынешнего короля.
— Кажется, это я выдал тебя, герцог, назвав по имени, — проговорил Можер.
— Иначе я могла бы ошибиться, — кивнула Вия. — Но не смущайся, герцог, — внезапно улыбнулась она, заметив, как Карл покачал головой, — просто мне однажды довелось видеть вас с братом. Правда, мельком, да и прошло уже лет десять, я тогда маленькой была. А вы с королём пошли на Лотарингию, в графство Эно, так в народе говорили.
— Теперь всё стало понятным, — переглянулся с Карлом Можер. — Но отчего ты поцеловала руку? Разве герцог твой господин, а ты его раба?
— Когда-то, более трёх столетий назад, графиня Плектруда так же целовала руку Пипину Геристальскому, мажордому Австразии. От него пошёл род Каролингов, и ты, герцог, — его потомок.
— Но при чём здесь графиня Плектруда? Какое ты имеешь право уподобляться ей?
— Потому что она была моим пращуром. Но ты, герцог, пошёл по королевской линии, а моя ветвь, от одного из сыновей Пипина — по другой, никому уже не известной. В роду же у Плектруды, богатой графини Северо-Франкского королевства, были цыгане. Потому и даром предвидения она обладала, умной была. Её внучатая племянница Бертрада унаследовала острый ум царственной тётки. Правда, едва не оказалась в безвестности, как вот я сейчас. Спасибо Пипину Короткому, нашёл её и взял в жёны. Так что не удивляйтесь, высокородные господа, но перед вами знатная дама, в роду у которой были королевы и короли.
— Чёрт возьми, — вскричал Можер, — вот уж никак не думал, что однажды у ворот города Лана меня будет встречать сама королева, сидя на камне у болота и играя на ротте!
— Так уж сложилось, граф, — с любопытством взглянула не него Вия. — Занедужила одна из ветвей королевского рода, да и сохнуть стала. Потом отпала и легла под ноги прохожим. Я последняя в этом роду, так, умирая, сказала и умрёт эта ветвь, ставшая мне мать. Не станет меня — лишней.
— Вот так история, — задумчиво протянул Карл, — коль ты не соврала, с цыган ведь станется.
— Повторяю, триста лет уж, как в роду нашем был кто-то из цыган. Суди теперь, много ли во мне этой крови? Что же до правды, то клянусь в этом поясом Пресвятой Богородицы, пеленами Иисуса и крестом Его мученическим.
С этими словами Вия извлекла из-под туники нательный крестик с распятым Христом и трепетно поцеловала его. Затем водворила на место. Карл Лотарингский с любовью взял её за руку и заглянул в глаза.
— Выходит, ты, как и наши с тобой далёкие прапрабабушки, умеешь разгадывать загадки и заглядывать в будущее?
— Могу, — коротко ответила Вия. — Разве не убедился сам? Да только быть столь мудрой, как Плектруда или Бертрада, мне уж не дано. Гибнет ручей, оторвавшись от русла. Устаёт и немеет рука, поначалу крепко державшая меч.
— Не печалься, красавица, найдётся ещё работа для твоего ума, — обнял её за плечи Можер. — Я не столь суеверен, как брат короля, а потому вот моя рука! Прочти, что на ней написано. Может, стану императором? — и он громко захохотал.
Вия, чуть склонив голову набок, долго глядела в его лицо.
— Зубы у тебя белые, крепкие...
— О чём это говорит?
— О хорошем здоровье.
— В этом ты права, клянусь бородой моего прадеда! Ну а дальше?
Она взяла обеими руками его ладонь, огромную, будто сковороду, и, взметнув ещё раз взгляд кверху, улыбнувшись, покачала головой. Потом стала разглядывать линии на ладони. Наконец, удовлетворённо кивнув, объявила:
— Ох и счастливый ты, граф Можер! Женщин у тебя, что камыша в этом болоте. Столько же будет ещё. А жизни тебе отмерено — позавидовать. Всё у тебя: богатство, почести, знатность, впереди семья и... любовница. Да надолго, не как с другими.
— Кто же она, это можешь сказать? — с любопытством спросил Можер. — Уж не королева ли?
— Не пойму. Род знатный, что пересекается с твоим, в двух местах...
— Две любовницы?
— Первая связь мимолётная и вызвана интересом одной из сторон. Она скоро обрывается.
— Жаль, — вздохнул Можер. — И почему этот интерес так быстро угаснет?.. Ну а другая?
— Здесь никакого расчёта. Но связь долгая, и стоит она... на любви.
— Ну, — разочарованно протянул Можер, — это мне вовсе не надобно. Ни в кого ещё не влюблялся и не хочу. Не думаю, чтобы какая-нибудь влюбилась и в меня.
— Не пробуя блюдо, уже заявляешь, что оно горчит?
— Что же, сладким будет?
— Увидишь сам. Вспомнишь ещё наш разговор. Тогда и поблагодаришь меня.
— Условились, Вия. Только где я тебя найду?
— Живу я меж воротами и дворцом короля, как раз посередине. Там улочка отходит от дороги, под углом к ней. В конце её маленький домик. Искать не сложно, спросишь у любого. Главное, чтобы не забыл.
— Кто ещё там живёт?
— Я одна. Матери нет уже два года, а отец погиб на войне.
— Как же ты живёшь? Чем кормишься?
— Играю, пою песни, пляшу, гадаю по руке. Ещё вышиваю, обучена грамоте.
— Неплохо. Где же обучалась?
— При монастырской школе, у каноника. Отец был жив, вносил плату за обучение.
— Значит, на жизнь хватает?
— Много ли мне надо.
— А хотелось бы больше?
— К чему? Богатство ведёт к жадности.
— Это верно. Вот Карл, брат короля — совсем не богат, потому и щедр.
Вия изумилась, поглядев на Карла:
— Герцог Лотарингский — и живёт в нужде?
— Не совсем так, конечно, — несколько смутившись, проговорил Карл, — но и не подобающе царственным особам.
— За этим и едешь к племяннику? — искоса взглянула на него Вия. — Понимаю. С братом вы жили будто два медведя в одной берлоге.
— А что, герцог, — воскликнул Можер, — не взять ли нам эту певунью с собой? Пусть живёт во дворце, при Людовике. Он молод и она тоже. Будет рассказывать ему сказки, петь песни да писать за него письма. Сам он, отец сказывал, не особо силён в грамоте.
— Честно говоря, и я подумал о том же, — ответил Карл. — Уж больно ты говоришь ладно, Вия, да и собою мила, не стыдно будет привести к королю.
— Никак понравилась тебе?
— Отчего же такая, как ты, может не понравиться? — улыбнулся в ответ герцог. — Только, боюсь, мне уж перешли дорогу, — и он выразительно посмотрел на Можера. — Да и ты всё больше на нормандца поглядываешь. Где уж мне, старику, стяжать лавры на полях любви. Стрелы Амура часто не разбирают возрастов, а нынче они ударили строго по цели.
Можер при этих словах лишь хмыкнул и пожал плечами. Вия же, опустив взгляд, слегка покраснела.
— Однако альковные дела оставим на потом! — воскликнул Карл, вскакивая в седло. — А сейчас — в город! Впереди благая цель. К тому же ещё неизвестно, как примет нас король. Не забудь, Вия, свою ротту.
И все трое — всадник и двое пеших слева от лошади — направились в сторону городских ворот.
Глава 3. Дядя и племянник
Королевский дворец с виду оказался мрачным, тёмным, будто логово Вельзевула. Стражники у входа с застывшими, будто под гипсовыми масками, лицами тоже не отличались приветливостью. Имя дяди короля не возымело на них должного действия, и гостям довольно долго пришлось ожидать у дверей, пока один из стражей, ушедший с сообщением, не вернулся обратно. Можер недовольно оглядел вооружённых копьями, секирами и мечами франков и тут же окрестил их «приспешниками сатаны».
Внутри дворец также не блистал великолепием: всё массивное, угрюмое, из потемневшего дерева и мёртвого камня — не отшлифованного, не разукрашенного, без орнамента. Лишь потолок сверкал разноцветной лепниной; рисунок на библейский сюжет тянулся по всему залу и уходил вглубь галереи.
Король принял гостей в своём кабинете на втором этаже, справа от парадной лестницы. Обстановка его апартаментов тоже не прибавляла бодрости духа: громоздкий тёмный стол с кривыми ножками, словно паук в центре паутины; рядом — трон в виде продолговатого ящика со спинками сзади и с боков; слева и справа две мраморные колонны. Подлокотникам трона придана форма причудливых животных с разинутой пастью и высунутым языком; на сиденье — подушка. Вдоль стены тянется длинная деревянная скамья, над ней — два узких окна.
Король Людовик молод, ему всего двадцать лет. Он одет в короткую тунику, поверх неё — порфира с золотой застёжкой, на икрах ног — повязки лентами, выглядывающие из кожаных полусапожек, голову венчает шляпа. Корона с убрусом[3] и драгоценными камнями лежит на столе, рядом со скипетром.
Увидев вошедших, Людовик, заулыбавшись, с восторгом воскликнул:
— Дядя! — и бросился навстречу Карлу Лотарингскому.
Карл обнял его, заглянул в глаза:
— Вот мы и встретились, племянник.
— Ах, почему же вы раньше не приезжали?.. Впрочем, похоже, я сам тому виной.
— Ты, я вижу, рад моему приезду, — улыбнулся Карл.
— Ещё бы, чёрт возьми! — ответил юный монарх. — Но вы, значит, сомневались во мне, потому и не появлялись раньше?
— Признаюсь, я был в нерешительности. Она и удерживала меня от нашего свидания.
— Вы о моём отце? — король нахмурился. — Да, я помню, что между вами произошло. Он жаждал обладать всем и оттого невзлюбил вас, лишив всего, что положено брату, такому же королю. Вы были оскорблены, унижены, и я искренне огорчён этим. Грех ненависти тяжёлым грузом лежал на его сердце, он и свёл его в могилу. Бог наказал моего отца за несправедливый поступок. А ведь даже я советовал ему вернуть вас ко двору, раскрыв объятия родному брату.
— Ты и вправду говорил об этом, мой мальчик?
— Да, дядя. Но он не послушал меня. И остался один. Думал, справится с империей. Но в одиночку даже волки не нападают. А ведь перед ним был сильный враг: император Запада и глава Христианства, помазанный самим папой, защитник церкви, опекун королей!.. Но... — тут Людовик с любопытством поглядел на спутников Карла, — мы, кажется, не одни? Я всё хочу спросить: кто это с вами?
— Очень хорошие люди, племянник, и мои друзья. Надеюсь, они станут и твоими.
Людовик уставился на Можера.
— Этот вот, огромный, похож на бродягу. Прямо разбойник с большой дороги. Где вы его нашли?
— Этот великан, этот бродяга, разбойник, как ты его назвал, не кто иной, как Можер, сын Ричарда Нормандского.
Можер вышел вперёд, чуть склонил голову, пробормотав про себя: «Вот так приветили! Слышал бы это мой достославный предок...»
— Сын герцога Ричарда? — вскричал в удивлении король. — О небеса! Как же можно ошибиться...
Всему виной мой необычный наряд, ваше величество, — подал голос нормандец, будто взревела басом на низкой ноте труба музыканта. — Это и ввело вас в заблуждение, как некогда вашего дядю, а меня — в смущение, и уже вторично. Я и пришёл сюда, чтобы сказать вам об этом.
— С тобой произошла неприятная история, верно? — обратился к нему король. — Как иначе объяснить твой вид? Ты расскажешь её королю? Очень хочу послушать, это меня развлечёт в моей тюрьме, которая зовётся королевским дворцом.
— С удовольствием, — ответил нормандец, — хотя, считаю, интересного здесь мало, скорее, от моего рассказа повеет грустью.
И он поведал королю о том, что с ним приключилось.
— Так вот оно что, — протянул Людовик, когда Можер умолк. — Король норманнов желает помочь королю франков?
— Герцог Ричард и король Лотарь были не дружны. Первому не нравились набеги на границы Нормандии, второму не давала покоя её независимость. Но она признана актом вашего деда, и, хотя провозглашена была им скрепя сердце, вашему отцу надлежало бы помнить об этом и жить в мире с правителем Нормандии. Имея такого союзника, можно было свалить Оттона.
— Твоя правда, граф, — ответил король. — Это было ещё одной его ошибкой. Стремление к единовластию привело к тому, что они стали наслаиваться одна на другую. Но я не стану действовать как отец, чьи ошибки мне приходится исправлять. И если герцог Нормандский посылает мне в помощь сына, протягивая таким образом руку дружбы королю франков, то я готов ответить ему на это.
И он с чувством протянул руку гиганту, которую тот с радостью пожал.
— Пусть герцог Ричард едет в гости к франкскому королю, — добавил Людовик. — Клянусь Создателем, я приму его как родного отца и мы станем добрыми соседями.
— Ей-богу, лучше не сказала бы и родная мать! — вскричал Можер. — Вы молоды, ваше величество, я всего года на три старше, но разрази меня гром, если ваши поступки уже сейчас не выдают в вас дальновидного политика и мудрого правителя.
— Ах, если бы ещё не моя мать, — неожиданно вздохнул король. — Её политика разнится с моей, она трётся ласковой кошечкой о ноги Оттона... Но, чёрт возьми, граф, — Людовик пригнулся и, сощурившись, попытался заглянуть за спину собеседника, — кто это прячется там от моих глаз и трётся не у германских, а у нормандских ног?
Вия, пунцовая от смущения, вышла из-за Можера, будто из-за крепостной стены, и низко поклонилась королю.
— Кто это, Можер? — спросил монарх, с удивлением разглядывая юную певунью. — Ты пришла с графом? — обратился он к ней. — Почему же я тебя не увидел?
— Ваше величество, за такой спиной, — Вия выразительно скосила глаза, — мог бы укрыться добрый десяток таких, как я, вы бы и не заметили.
Людовик рассмеялся:
— И в самом деле. Но кто же ты? Подойди, не бойся, короли не кусаются, и если ты пришла с миром, то я готов дружить с тобой, как и Можер. Ведь это так, я угадал? — Людовик бросил взгляд на нормандца.
— Истинно, государь, — ответил тот. — Мы встретили Вию у дороги, она играла на ротте, а услышав от неё грустную историю, решили взять её с собой. Не поверите, ваше величество, но эта музыкантша из рода Пипинидов. Она сирота, живёт в бедности. Нам с вашим дядей девчонка пришлась по нраву, клянусь преисподней, а потому мы решили... нам показалось это несправедливым и... — Можер взглянул на дядю короля.
— Эта девушка скрасит твоё одиночество, племянник, — произнёс Карл Лотарингский. — Она хорошо играет, поёт, танцует, вышивает, даже обучена грамоте. К тому же умеет предсказывать судьбу. Так ей ли жить в бедной лачуге? Что скажешь на это?
— Быть тому, станешь жить во дворце, рядом с моими покоями, — сразу же решил Людовик. — Ты будешь одета, обута и сыта. Согласна?
— Птице лучше петь на воле, нежели сидеть в клетке, ваше величество, — ответила Вия. — Но коли она будет всегда сыта, да к тому же с родичами, то она готова рискнуть.
Людовик просиял и взял её ладонь:
— Я приставлю к тебе служанку, она обучит дворцовому этикету. Без этого, увы, нельзя.
— Я прилежная ученица и, думаю, очень скоро пойму, что к чему.
— Мы будем встречаться каждый день, Вия, — пообещал король. — Поверь, видеть твоё приятное лицо после кислой физиономии моей матушки будет для меня отдушиной. Мы скоро подружимся и будем мило беседовать. Знаешь, это всё же лучше, нежели, выслушав очередные матушкины наставления, оставаться одному в этой комнате в обществе мрачных стен и этого трона, похожего на гроб.
— Думаю, смогу вас немного развлечь, — заулыбалась Вия. — Я знаю много интересных историй о наших с вами предках, мне рассказывала моя мать, а она слышала об этом от своей.
— Вот и прекрасно, — воскликнул Людовик и хлопнул в ладоши.
Вошёл дежурный стражник.
— Отведи эту женщину к Одроаде, одной из камеристок королевы-матери, — приказал ему король, — пусть она позаботится о сироте. Её покои будут рядом с моими. Ступай. Нет, постой! Я дам ещё одно поручение. С тобой пойдёт граф Можер. Отведёшь его к Эсхару. Передашь: пусть оденут графа соответственно его титулу. Ты, Можер, после этого приходи ко мне, — добавил Людовик, обращаясь к нормандцу. — Мы с дядей будем тебя ожидать.
Поклонившись, все трое вышли.
Людовик и Карл уселись на скамью.
— Ах, дядя, мне так тяжело, — вздохнул юный король. — Моё правление никому не приносит радости, а мать постоянно вмешивается; она хочет править сама.
— Первые же твои шаги должны были показать всем твою состоятельность и здравый ум, — ответил герцог Лотарингский. — Надо было немедленно оказать помощь графу Барселоны в борьбе против сарацин. Лотарь не успел этого сделать, обуреваемый навязчивой идеей захвата Лотарингии. Этот шаг снискал бы его сыну уважение всех епископов королевства. Узрев в бездействии короля нежелание поддерживать духовенство в борьбе за христианскую веру, они назвали тебя слабым. Тебе надлежало бы помнить, что правление надо начинать, опираясь на Церковь.
— Я не знал, что мне делать. Мать советовала с этим повременить и без конца твердила о Вердене. Ей не давали покоя лотарингские узники, и я послушал её: выпустил всех, кроме одного.
— Этим ты, во-первых, погубил дело отца, а во-вторых, возобновил лотарингское сопротивление власти Каролингов. Теперь о повторном походе на земли предков нечего и думать. Бреши нет, империя воспрянула духом. И это было твоей второй ошибкой.
— Мне трудно бороться с матерью и архиепископом Адальбероном. Этот служит императрице, исполняет всё, что скажет ему Феофано. Вероломный лжец и германский прихвостень! Ведёт двойную игру: хочет угодить и Каролингам и империи. А ведь он давал вассальную присягу моему отцу! И нарушил её самым бессовестным образом, без конца предавая его. А теперь они оба заставляют меня признать над собой власть Оттона... А вы, дядя? Не с тем ли и приехали ко мне? Всем известно, что вы служили ему. Ведь это он сделал вас герцогом Нижней Лотарингии, и вы дали ему клятву верности. Более того, когда Оттон в ответ на разорение Ахена выступил ответным маршем и загнал отца в Этамп, то в Лане он провозгласил вас королём.
— Что ж, племянник, — невесело ответил Карл, — я и есть король. Только без короны и королевства. Монарх по рождению, праву, но не по очереди. Однако ждать мне её ни к чему, не имеет смысла, ведь у тебя будут дети, наследники престола.
— Что же тогда вами руководит?
— Лотарь сделал меня изгоем, а ведь я его брат и имею такое же право на корону. Но он лишил меня его. Теперь, когда твоего отца нет, мною движет единственно восстановление справедливости. Я хочу жить как дядя короля, а не как жалкий родственник правящей династии, ждущий очередной подачки от императора и всецело зависящий от него. Я хочу, чтобы все знали: ты не один, у тебя есть дядя, который приехал в Лан для того, чтобы у его племянника всегда был под рукой верный друг и советник. Пусть знают все: мне больше не по пути с империей, я такой же Каролинг, как и ты. Но если я и поступал в своё время неподобающим образом, то вызвано это было не предательством к памяти моих предков, как ты, наверное, думаешь.
— Мой отец — вот причина всему! — воскликнул Людовик. — Но я не желаю его проклинать, как не советую этого делать и вам. Я всегда уважал отца и был с ним рядом. Но я никогда не одобрял его незаконного поступка по отношению к своему брату. Он прямо-таки вас ненавидел. Что тому причиной, для меня всегда было загадкой. Быть может, вы её разрешите, дядя? Теперь ни к чему секреты, нам нечего таить друг от друга, ведь нас осталось всего двое из великой династии. Два последних Каролинга!
— И в этом ты прав, — Карл хлопнул рукой по колену Людовика, — поэтому мы должны держаться друг друга: ты — меня, а я — тебя. Потому я и здесь.
— Мне остаётся только радоваться этому, — растроганно произнёс юный король. — Хоть одна родственная душа будет рядом. Я не имею в виду мать. Но вы, дядя?.. Сказали, вам надо держаться меня. Только ли для того, чтобы я своей властью заставил почитать вас и говорить как о моём любящем дяде, а не о герцоге Лотарингском, вассале Оттона?
— Не только, — молвил Карл, сжимая племяннику запястье. — Я здесь ещё и потому, мой мальчик, что обязан защищать тебя. Наши судьбы отныне сплелись воедино; погибнешь ты — и тотчас не станет меня. А со мною умрёт последний Каролинг.
— Вы опасаетесь за мою жизнь, дядя?
— И у меня есть к тому основания. Я вижу недовольство, слышу ропот и улавливаю витающую в воздухе перемену...
— Перемену? — в страхе округлил глаза Людовик. — О чём вы?.. О, бог мой, кажется, я догадываюсь. Боитесь... меня могут убить?
— Само провидение уготовило мне встречу с Можером, так я отвечу тебе. Ричард словно видит всё наперёд! Даже там, у себя в Нормандии, он почуял ветер перемен. Его сын станет теперь твоим телохранителем, мой юный король, лучшего не найти. А его отцу мы напишем письмо. Помнишь ли времена, когда герцог Нормандский был злейшим врагом франкского короля? Нынче же нет у тебя друга умнее и могущественнее герцога Ричарда.
— А Гуго? Ведь у него больше власти, чем у короля. И он силён. Он добр и мне нравится, отец верил ему и завещал опеку надо мной.
— Буду предельно откровенен с тобой. Гуго не предаст, он франк; Париж и всё, что вокруг от Орлеана до Санлиса, — его владения. И на него ты также смело можешь опереться в своей борьбе. Но знай: он — тот, кто сядет на трон после тебя.
— Выходит, он готовит заговор? — Людовик в испуге отшатнулся. — Но ведь вы только что говорили о надёжном друге и опоре, соратнике в борьбе...
Карл успокоил его:
— Он и пальцем не шевельнёт, чтобы занять твоё место. За него это сделают другие.
— Кто же? Его вассалы?
— Те, кто любит силу и власть.
— Церковь! — вырвалось у короля.
— Тсс! — приложил палец к губам Карл. — Помни, у этого монстра, что ты сейчас назвал, могут быть уши, которые совсем рядом.
— Даже здесь, во дворце, в моих покоях?
— Здесь более чем где бы то ни было. Церковь ныне вовсе не духовный институт, как о том принято думать и говорить. Белое духовенство вершит политику, направляя власть, сжимая или разводя её пружины в нужное время и направляя их усилия в требуемую сторону. Епископы заводят любовниц, устраивают заговоры, ходят в мирском, воюют, охотятся наравне с герцогами и графами. Сам папа частенько надевает светскую одежду и не отказывает себе в удовольствиях: бражничает за одним столом с князьями, не чуждается оргий, охотится, ходит на рыбную ловлю. Но не об этом сейчас речь. Ты молод, неопытен, вокруг уйма советчиков. К примеру, твоя мать...
— Она в тесной дружбе с реймским архиепископом, а он, как известно, пёс у ног Аделаиды, моей бабки, которую зовут «матерью всех королевств». Только не моего, — возвысил голос Людовик, — ибо мать рода нашего, отныне и вовек, — королева Бертрада, жена Пипина Короткого, и от неё пошли все монархи, которые зовутся Каролингами, а не Людольфингами! Я уже говорил, дядя, поэтому повторяю: они оба нападают на меня, заставляя вылизывать чашу с похлёбкой для империи. Но я король этой страны, и это моя родина! Эту землю оставил мне в наследство отец! Всю жизнь он воевал с Оттонами, не желая имперской опеки над страной. Так почему я не должен идти по его стопам? Почему франк должен ходить под германцем? Разве Верденский договор не упорядочил империю Карла Великого, поделив её на Франкию, Германию и Италию? Отец совершал ошибки, — кто их не делал? — но в одном был прав: франкам не ходить в слугах у Оттона! Я готов с ним дружить, могу даже выслушать его совет, но подчиняться, быть его вассалом — никогда! Мой народ свободен, и я не позволю ему гнуть спину перед Людольфингом и его византийской роднёй. А если этот паук протянет свои лапы к Франкии, я пойду на него войной, как мой отец. Он ходил на Ахен к праху Карла Великого и взял этот город, повернув бронзового орла на верхушке крыши на восток, согласно желанию нашего великого предка. Я же возьму в плен самого Оттона вместе с его мамочкой Феофано, а потом стану диктовать свою волю папе. Заупрямится — пойду на Рим, не испугавшись его проклятий и отлучений. У меня будет надёжная опора — Церковь. Помешает Адальберон вместе с его питомцем Гербертом, я знаю это. Но я подниму против него всех епископов и архиепископов Фландрии, Нормандии и Вермандуа, и он падёт, раздавленный мною.
— А мать? Королева Эмма? Как поступишь ты с нею?
— Её, чтобы не совала нос, сошлю подальше. Пусть плетёт свою паутину в одном из замков, её сеть уже никому не сможет причинить вреда.
— Выходит, ты не гнёшься под нажимом этих двоих? Что ж, неплохо, отец остался бы довольным тобой. Но что советуют тебе другие, вассалы герцога франков, например?
— Быть послушным Гуго, следовать его велениям — вот чего они хотят.
— Ты согласен с ними в этом?
— Отчасти — да, ведь так завещал отец. Но Гуго хочет, чтобы я вывел из Вердена свои войска. А мой отец захватил этот город! Жители приветствовали его. Они и по сей день не желают признавать над собой власть Оттона. Новый епископ Вердена, племянник реймского архиепископа, тоже Адальберон, пытался войти в город, но не был впущен. Тогда Герберт — тот ещё лис, продажная шкура — ну да вам он знаком, дядя...
— Ещё бы! — отозвался Карл. — Помощник Адальберона Реймского, его правая рука. Как и учитель, предаст любого, кто воюет с империей и кого выгодно предать.
— Так вот, он пригрозил жителям Вердена анафемой, если те не откроют ворота. Но его не послушали. Тогда он проник в город и упросил графов Эда и Герберта, лучших друзей отца, разрешить ему свидание с пленной лотарингской знатью. И с кем же? С братом Адальберона, Годфридом! Да и как упросил? Он попросту купил их!.. Ах, дядя, кругом меня одни враги и сплошь предатели. И в этом кольце стоит, то исчезая, то появляясь, вот-вот готовый навсегда скрыться в пучине наводнения, маленький островок — трон короля франков.
— Я всегда подозревал Адальберона в измене, — произнёс Карл. — Я был свидетелем множества его предательств по отношению к королю Лотарю, которому он присягал в верности. Удивлён, как твой отец терпел этого Иуду и не предал его смерти.
— Нами с отцом были перехвачены письма Герберта. Он писал их в прошлом году. Кому, как вы думаете?
— Либо родственникам, либо таким же изменникам, как и сам.
— Они были адресованы императрице Феофано! Знаете, что в них было? Он называет византийку своей госпожой! Клянётся ей в верности, готов повиноваться во всём! А меня и отца они с Адальбероном считают врагами, нашу власть Каролингов — тиранией, от которой им всем, епископам и архиепископам семейства Арденн, единственное спасение — убежище подле германского трона под византийской юбкой. Таковы они все, среди них епископы Льежа, Трира, другие. Я уже не говорю о брате Адальберона и его племянниках. Все они призывают, причём открыто, оставаться верными своей государыне Феофано и её сыну и по мере сил сопротивляться франкам. Чуете, дядя, что за ветер и куда дует?
— Архиепископ Реймский глава всему мятежу, верно ли я понял тебя, племянник? Именно его следует судить за измену.
— И двуличие! Нет, этому хорьку не откажешь в изворотливости, он старается угодить всем, не боясь попасть меж двух жерновов. Он пишет архиепископу Трирскому, что всегда будет хранить верность обоим королям. Это он обо мне и отце. И тут же вспоминает, что он облачён-таки духовным саном и в этом должен смотреть на вещи с позиций слуги Господа. А посему тут же упоминает о Божьих велениях, которые ставит выше вассальной присяги. Намекая этим на явную измену, он берёт Господа в свидетели и взывает к его мести в случае своей погибели.
— Похоже, этого святошу надлежит взять под стражу, — заявил герцог Лотарингский.
— Мой отец не поверил его уверениям в верности. Он знал его лживую натуру и не ошибся. При штурме Вердена Адальберон, как вассал короны, к тому же получивший письмо Лотаря, обязан был выслать подмогу. Вместо этого хитрый лис ответил, что не узнает почерка короля, а посему указ считает подложным. Это вынуждает его отказаться от подчинения королю.
— Сколь же терпелив был твой отец, — обронил Карл.
— На этот раз терпение его лопнуло, и он предал этого монаха суду.
— Дальше можешь не продолжать, — прервал его Карл. — Я присутствовал на этом суде, слышал обвинения, но был далёк от подробностей. Его обвиняли в том, что он собирался просить у Оттона епископство для своего племянника. Причём в наследственных владениях Лотаря. Второе обвинение — по поводу духовного сана: он не имел права посвящать своего племянника в епископы без согласия сеньора, твоего отца.
— Да, дядя, это было совсем недавно, и вы, наверное, помните, что он ответил?
— Разумеется. По его словам, мой брат вовсе не собирался возвращать себе Лотарингию, во всяком случае, ему ничего об этом не известно. Что до остального, то дядя попросту не желал, чтобы племянник, выйдя из-под его власти, подпал под влияние другого.
— Весьма неубедительно, как вы полагаете? — спросил Людовик.
— В это мало кто поверил. Но, похоже, его это не особо заботило. У него был сильный союзник, на чью помощь он рассчитывал. Догадываешься, о ком я?
— Император?..
— Гуго!
Король вздрогнул:
— Как только упоминают это имя, мне становится не по себе. Всевластный герцог, могущественный правитель, самая сильная фигура на шахматной доске, до поры до времени скрытая другими... Он — волк, его глаз зорок, он изготовился к прыжку и ждёт лишь удобного момента для нападения.
— И всё же он не пойдёт против законной власти. Риск велик, а герцог осторожен. Да и вряд ли, если вдуматься, ему нужно больше, чем сейчас.
— Согласен с вами, дядя. Тем не менее я чую в нём соперника, хотя и не вижу явной измены.
— И не увидишь. Никто не может угадать, когда змея сделает бросок.
— И всё же она попыталась укусить.
Людовик намекал на явный контакт герцога франков с Адальбероном. Это было и немудрено. Герберт, этот маленький златоуст, учёный клюнийский монах (обучался в Галлии, Испании и Риме), бывший каноник, аббат в Орильяке, активный политик, ближайший помощник Адальберона Реймского, епископ, а впоследствии папа Сильвестр, был наставником сына Гуго и не раз жаловался воспитаннику на несправедливость, учиняемую над Адальбероном.
И герцог франков принял свои меры. Собрав немногочисленное войско, он двинулся на Компьень, где происходил суд. Это было угрозой и приравнивалось к неподчинению королю. Лотарь уступил, испугавшись возмущения знати во главе с тем же Гуго. Адальберон был освобождён, судить его вновь никто больше не собирался.
Это был шах Лотарю. И он ушёл из-под угрозы, почуяв в Гуго соперника более сильного, нежели сам Оттон. Результатом этого демарша явилась вражда первого герцога с королём франков. Последний, впрочем, оказался не настолько глуп, чтобы затевать опасную игру со столь сильной фигурой, какой был Гуго — его вассал и союзник, который встал на пути у Оттона во время его вторжения во Франкию в ответ на ахенскую кампанию Лотаря 979 года и заставил того повернуть вспять. Гуго повторил подвиг своих предков, приняв на себя миссию спасителя королевства. Это принесло славу Каролингам и озарило величием Франкское королевство.
Свято помня об этом и не желая вражды по такому пустяку (так и сказал Лотарь, в сердцах махнув рукой на Адальберона), король через какие-нибудь полмесяца помирился с герцогом франков. Партия императора в ответ на это заскрежетала зубами, а Лотарь в радости доверил Гуго опеку над своим племянником Тьерри.
И всё же вновь меж этими двумя пролегла чёрная тень. Причиной тому — неуёмное желание Лотаря овладеть Лотарингией, столь дорогой его династии. Он стал готовить поход, однако не позвал с собой Гуго. Но не потому, что последнему нечего было делать в Лотарингии (его владения находились в Вермандуа) и у короля без того хватало войск, если принять во внимание огромную сеть королевских епископств от Нуайона до Лангра — главное его достояние — и помощь вассалов его и герцога франков. Но Гуго — и об этом стали уже поговаривать открыто — стал склоняться в сторону империи. Атака на него была предпринята двоими: Эммой, женой Лотаря, и Гербертом, который, выслушав сообщение своих шпионов, немедленно известил письмом императрицу о готовящемся на неё нападении. И Лотарь, не получив от герцога франков в этом отношении никакого вразумительного ответа, желал теперь только одного: невмешательства Гуго. Пусть сидит в своём Париже и не сует нос в его дела. Планы же короля были таковы: от Вердена начать поход на Нижнюю Лотарингию. Цель — два важных города: Льеж и Камбре. Получив донесение о готовящемся марше франкского короля, епископ Ротхард немедленно выразил покорность франкам, оговорив, правда, условия: безоговорочная сдача Камбре после того, как все лотарингские князья сдадутся на милость победителя.
Едва Лотарь собрался выступить в поход, как прискакал гонец из Барселоны. Граф Борель просил помощи у франкского короля против чумы в тюрбанах. Мусульмане, те же сарацины, злейшие враги христианства, осадили Барселону, поставив под угрозу Испанскую марку. Лотарь попал в затруднительное положение, впору разорваться надвое. Его лотарингские планы были грандиозны, он горел жаждой деятельности. Но и просьбу графа Барселонского нельзя было оставлять без внимания. Франкский король ненавидел сарацин, разбить их наголову, потопив нашествие неверных в крови, считал делом чести. Решение пришло незамедлительно: основное войско он сам поведёт на Льеж, другая часть, возглавляемая графами Анжу, Шартра и Труа, поспешит на помощь христианам.
Но добиться похвалы от папы и звания рьяного защитника христианства Лотарю было не суждено. Внезапная смерть от простуды скосила франкского короля в первых числах марта 986 года. Поговаривали, будто здесь не обошлось без Эммы, его супруги, на которую определённым образом воздействовало семейство Арденн, однако доказательств этому не имелось.
Карл Лотарингский, наблюдавший из Брюсселя за ходом событий, понял, что его племянник остался один. И стал ждать. Но Людовик не звал его, боясь ослушаться отца, хотя тот и не давал ему в отношении брата никаких указаний. Тогда Карл, видя, что племянник совершает ошибки одну за другой, и догадываясь, что это дело рук членов императорской партии, замышляющей убрать (почему бы и нет?) последнего потомка Карла Лысого, поспешил к нему на помощь, прекрасно понимая, что со смертью племянника вскорости падёт и он сам.
Понял Карл и намёк Людовика на попытку сближения Гуго с империей. И ответил, сразу же расставив фигуры по своим местам:
— Ты — последний, а Гуго дальновиден. Иметь друзей среди наиболее влиятельных членов императорской партии — это ли не ближайший и самый верный путь к престолу?
Людовик вздрогнул, схватил Карла Лотарингского за руку:
— Выходит, дядя, он наш враг?
Улыбнувшись, герцог похлопал его по ладони:
— Никоим образом, мой мальчик. Ни наш, ни Франкского королевства, ибо в этой земле его родовые корни.
— Да, но ведь вы только что сказали... Как же мне вас понять?
— Ты уже понял, что я сказал раньше, повторяться не буду.
— Каков же вывод, дядя? Я спрашиваю вас как человека, не желающего зла. Как мне быть? Пойти по стопам отца и взять силой Лотарингию?
— Тебе это не удастся, никто с тобой не пойдёт. Ты слаб, а Оттон силён. Пешке не устоять против слона.
— Но что же делать? Оставаться в своих владениях, отказавшись от замыслов отца, и править, опираясь на знать, как советуют мне, полагаю, мои недруги?
— Это и будет самым мудрым решением, мой юный король. И слова эти, поверь, исходят из уст не льстецов, а преданных тебе людей.
— Я сделаю по-своему и пойду на Оттона, как отец, — упрямо возразил Людовик.
— Глупость никогда не приводила к добру.
— Глупа та птица, которой не мило своё гнездо.
— Наделать ошибок легко, исправить потом трудно.
— Ошибки не будет, и я уничтожу Адальберона! Ведь он искал мира между Франкией и Германией! Как же можно жить в мире с соседом, который отнял родовые земли твоих предков и не хочет отдавать! Искать мира с империей!.. Этот реймский ренегат хочет меня погубить, я вижу это. Но я снесу ему голову вместе с митрой! Однако, чую, одному не под силу будет свалить такого быка. Мне нужен союзник — влиятельный, сильный. Где его взять?
— Далеко ходить не нужно, он совсем рядом.
— Это вы, дядя?
— Это Гуго.
Король нахмурился.
— Снова вы о нём. Впрочем, вы правы. Да так оно и было.
— Значит, ты подчинился ему? Отдал себя под его власть?
— Во всяком случае, попытался это сделать. Я наговорил ему кучу любезностей, припомнив при этом наставления покойного отца. Ненависть к Адальберону всецело завладела мною, и я сказал герцогу, что готов полностью предоставить себя в его распоряжение. Он спросил, что меня тревожит в данный момент, чего я хочу, и от него в частности? И тогда я посвятил его в свои планы, обрисовав Адальберона как самого презренного негодяя, какого когда-либо носила земля. Он всегда помогал Оттону, злейшему врагу франков, переписывался с ним и Аделаидой, а когда герцог едва не разбил Оттона при отступлении от стен Парижа, этот Иуда дал германцу войско, чтобы поддержать его. Воображаете, дядя, до какой степени подлости и вероломства дошёл этот имперский лизоблюд! Я сказал Гуго, что мечтаю покарать его.
— Реакцию герцога нетрудно было предугадать, — задумчиво произнёс Карл Лотарингский. — Твоя речь не вызвала у него бурного восторга.
— Почему вы так решили? — с интересом спросил Людовик.
— Вряд ли Гуго мог планировать натянутость отношений между ним и Церковью, откуда один шаг до папы.
— Вы словно сами присутствовали при этом разговоре. Так оно и было. Я заметил, что герцог помрачнел. Теперь я понял причину этого. Но непонятным было его дальнейшее поведение: он с готовностью пошёл со мной осаждать Реймс.
— Он не посмел перечить воле короля, вот мотивы его действий. Ведь он всего лишь твой вассал. В случае чего вина ляжет не на него. Тонкий политик, хитрый и осторожный, продумывает каждый свой шаг. Однако что же дальше? Вы осадили Реймс?
— Но не взяли его, потеряв много людей.
— И ты снял осаду?
— Вначале я отправил к Адальберону гонца с предложением добровольно сдать город, пока дело не дошло до штурма, а потом позорного изгнания архиепископа из королевства. Далее ему предписывалось принести клятву верности франкскому королю и разрушить имперские замки в его епархии.
— Архиепископ, конечно же, стал уверять тебя, что наветы на него ложны, он всегда был предан своему королю, а посему не понимает, что происходит: почему осада, чего от него хотят?
— Клянусь, вы меня удивляете, дядя! — воскликнул король. — Что заставило вас так подумать?
— Я почти в два раза старше тебя, племянник, и немало повидал в жизни. Будь это воин, он вышел бы на битву, а поскольку он духовное лицо, то, как и всякий церковник, стал изворачиваться, пожимая плечами и делая удивлённые глаза. Хитрость и лицемерие — обычное оружие церкви.
— Ах, дядя, как мне не хватало всегда вас и ваших советов, — сокрушённо вздохнул Людовик. — Вероятно, тогда всё сложилось бы иначе... Но я продолжу. Мой посланник прибавил, что архиепископ согласен, как я того требую, держать оправдательную речь и для этого готов встретиться со мной в Компьене. Это меня устраивало, тем более, что погода не благоприятствовала длительной осаде: стоял март, люди мёрзли. Я снял осаду и отошёл в Санлис.
Остальное мне известно, — сказал Карл. Архиепископ, конечно же, не выполнил твоих условий и не разрушил имперские замки.
— Мало того, — поспешно добавил Людовик, — он послал туда сильные гарнизоны, будто бы кто-то уведомил его о моих планах захватить эти замки. Но я догадываюсь: это Герберт, больше некому. А тут ещё епископ Ланский Асцелин...
— Ты получил моё письмо в начале этого года? Понял, наконец, что он любовник твоей матери? Он был им и тогда, при твоём отце. Я знал об этом и пытался раскрыть Лотарю глаза на измену жены... а он изгнал меня. Не зная, какой найти предлог, он использовал первый подвернувшийся под руку, обвинив брата в клевете.
— Этот Асцелин тоже имперский прислужник, как и моя мать. Ну да с волком дружить — по-волчьи выть. Я выгнал обоих, приказал им убираться из королевства. А они нашли приют... у Гуго.
— Они упали в ноги сильного, моля его о защите, — мрачно изрёк Карл.
— Теперь вы видите, дядя, все ополчились против меня. Даже Эд и Герберт, верные слуги отца, замурлыкали у ляжек толстухи Аделаиды. Впрочем, после смерти своего сеньора они продолжали также верно служить и его жене. И вот теперь, когда все отвернулись от меня, лаская преданными взглядами красные сапожки на ногах Феофано и тройной подбородок её свекрови, мамочка Оттона шлёт мне предостерегающее письмо. Она угрожает войной, если я не прекращу нападок на Адальберона.
— Высоко же она ценит жизнь реймского ренегата, коли решилась на такое, — обронил герцог. — Тебе стоит призадуматься, племянник: слишком велики у империи шансы на выигрыш.
— Я не отступлюсь от своего! — решительно отрезал Людовик. — И я избавлюсь от реймского волка, мечтающего напиться франкской крови. Суд назначен на двадцать седьмое марта. Осталось ровно два дня.
— Кто же будет судить архиепископа помимо тебя? — усмехнулся дядя. — Его сторонники, такие же слуги империи?
— Мои вассалы, вся франкская знать!
— Не боишься последствий необдуманного шага?
— Кто посмеет подать голос против франкского короля?
— Римский папа и император Оттон.
— Меня поддержат герцоги и графы.
— Голос одного из этих двоих будет весомее.
— В своих владениях я — король, и архиепископ Адальберон — мой вассал.
— Это не понравится империи, тебе не стоит наживать в её лице врага. Резолюция суда не должна вызвать недовольство. Феофано уже косится на тебя из-за Вердена; неугодный ей вердикт заставит её двинуть на Лан свои войска.
— Но я не могу оставить безнаказанным этого реймского плута!
— Ты стоишь на зыбкой почве, тебе следует свернуть на грунт.
— Искать мира с империей?!
— Только тогда она закроет глаза на этот суд.
— И отдать ей Верден? Одно из двух главных епископств! Ворота Лотарингии!
— Если хочешь, поставь условие.
— Никогда! — воскликнул король, вскочил и принялся мерить комнату шагами от стены к стене. — Ведь мой отец завоевал этот город! Отдать его — значит предать отца! Склонить шею перед трясущейся от старости жирной германской свиньёй!
— Тогда готовься к войне.
— Пусть так! Я первым пойду на Оттона!
— И будешь разбит.
— Ещё посмотрим, как я сверну ему шею.
— Королевство франков велико, тебе не успеть собрать войско. К тому же не все пойдут. Каждый граф и герцог — сам себе король. Чего ради ему встревать в твои распри с империей?
Людовик остановился близ дяди, лоб прорезали морщины.
— Думаете, мне не одолеть германца?
— Как ястреб ни быстр, орёл всё же сильнее.
— По-вашему, надлежит искать с ним мира?
— Сделай хотя бы вид, научись фальшивить. Тебе надо набраться сил, а дальше посмотрим. Нынче ты – лишь волчонок, Оттон — матёрый волк. Только равный по силе сможет победить его. Эту силу даст тебе время. И запомни твёрдо ещё одно: худой мир лучше доброй ссоры. Хорошо ли, когда кругом тебя враги? Намного лучше, если они становятся друзьями.
— А вдруг Оттон, усыпив меня, нападёт?
— С какой стати волку нападать на собрата, коли тот не отнимает у него кусок?
— Значит, мне надлежит подчиняться империи?
— Франкия станет лишь её частью, а ты — другом императора, но не его вассалом. Как Ричард Нормандский по отношению к франкскому королю. Он — твой друг, тем не менее ничем тебе не обязан. Он король своей земли, ты — своей. Вы всего лишь добрые соседи, не связанные вассальными присягами. Постарайся, чтобы на тех же позициях стояли Римская империя и Франкское королевство. Хотя бы временно, пока ты не войдёшь в силу. Её даст твой авторитет и знать — мощный кулак, против которого Оттону не устоять. Там, в Ахене, знают это и опасаются. Вот почему к тебе подсылают дурных советчиков. И вот причина, в силу которой империя, помявшись немного для приличия, протянет тебе в ответ руку. Не говоря уже ещё об одном: ты найдёшь самого сильного союзника в лице герцога франков. Увидев, сколь крепка власть короля и велико к нему уважение, он поможет тебе свалить Людольфингов, навсегда избавившись от их опеки, если, конечно, к тому времени ты останешься верен своей мечте и делу жизни отца.
Людовик молчал. И вновь, заложив руки за спину, зашагал по кабинету, теперь из угла в угол. Карл Лотарингский, откинувшись на спинку скамьи, наблюдал за игрой чувств, отражавшихся попеременно на лице племянника. Если Людовик даст согласие — окажется в выигрыше. Угроза ему, а с ним и династии отпадёт. А значит, Каролингам ещё долго править, и он, дядя последнего из них, всегда будет добрым советником и помощником юному Людовику. И для этого готов не пожалеть ни сил, ни средств, а возможно, и самой жизни. Ибо он, как никто другой понимал: Людовик — последнее, что осталось от Карла Великого. Не станет его, оборвётся и династия. На смену придёт другая, где ни ему, ни сестре Матильде уже не будет места. И от Каролингов останется лишь память.
И Карл напряжённо ждал. Что выберет племянник — жизнь или смерть? Последняя неминуема, стоит юному королю ответить «нет». С византийской кровью шутки плохи, об этом Карл знал, тому было немало свидетельств. И как ни охраняй сына Лотаря, Феофано найдёт способ избавиться от него, подослав убийцу.
Но Карл не отступится от своего. Он приехал в Лан, чтобы вытащить племянника из лап смерти. Это стало целью его жизни, ради этого он пойдёт на всё. И он уже приготовился повторять всё сначала, прокручивая в уме варианты новых аргументов в пользу мира, как вдруг Людовик подошёл, вновь сел рядом, пытливо и доверчиво посмотрел герцогу в глаза и сказал:
— Пусть будет так, дядя. Я верю вам, потому что знаю и вижу: вы не желаете мне зла. Ведь мы Каролинги и нас осталось только двое...
— Я рад твоему разумному решению, сынок, — растроганно ответил Карл и заключил племянника в объятия.
На некоторое время они замолчали. Неожиданно Людовик поднял голову:
— Каковы же будут наши действия?
— Во-первых, забыть на время об архиепископе. Пусть сидит в своём Реймсе, твоя охрана не даст ему высунуться оттуда. Суд над ним отложи на месяц или два. Это время мы посвятим заключению мира, сейчас это важнее. Здесь тебе нужен будет посредник — тот, кто устроит переговоры.
— Герцогиня Беатриса, сестра Гуго, подойдёт для этой цели. Весьма ловкая особа. Она уже занималась этим одно время в Вормсе и Франкфурте. Она же — активная участница в деле заключения мира между Оттоном и его дядей Генрихом Баварским. Кстати, на днях у меня был её посланник. Она приглашала меня к себе. Но я не поехал, подозревая какую-нибудь каверзу с её стороны, она мастерица на всякие штучки.
При этих словах герцог чуть заметно улыбнулся:
— Она женщина умная и, уверен, не желает тебе зла.
— Надеюсь на это. Однако прежде я всё же буду судить Адальберона.
— Так-таки не даёт он тебе покоя, — с укором покачал головой Карл.
— Это будет моим условием: сначала суд, потом мир. Думаю, возражений не последует. Игра для империи стоит свеч.
— Что ж, пусть будет по-твоему, коли уж ты настаиваешь, — немного подумав, ответил герцог Лотарингский.
— Так мне будет спокойнее. Иначе лис улизнёт. Сославшись на мир, Оттон выпросит его, либо архиепископа попросту выкрадут.
— Ты король, тебе решать, — согласился Карл. И улыбнулся: — Тут я не советчик. Но выступлю твоим посланником в Верхнюю Лотарингию к герцогине Беатрисе. Денёк отдохну, осмотрюсь, а послезавтра еду к ней в Мец.
— Решено, дядя!
Вдруг в коридоре послышался тяжёлый топот ног, стук об пол древка алебарды и чей-то громкий голос:
— Клянусь бородой моего прадеда Роллона, либо я вышибу тебе мозги, каналья, либо воткну вместо факела в стену!
Вслед за этим началась возня, кто-то сдавленно закричал, взывая о помощи.
Король в страхе уставился на дверь, потом перевёл беспокойный взгляд на Карла:
— Что это, дядя? Уж не убивают ли кого? Что там происходит?
Карл рассмеялся:
— Ничего особенного, племянник. Это вернулся Можер.
Людовик, сразу расслабившись, перевёл дух:
— А я уж подумал, не убийцы ли за мной?..
Глава 4. Кое-что о нормандце
В это время дверь широко распахнулась, и в комнату вошёл нормандец. Но не один. В вытянутой руке он держал за шиворот стражника. Бедняга, покраснев от удушья, сучил ногами в воздухе.
— Государь, прикажи повесить этого мерзавца! — взревел Можер. — А хочешь, я сделаю это сам, сей же миг! Вот только отпущу его куртку и ухвачу за горло.
— Что он натворил, Можер? За что ты его так? — с любопытством спросил король. — Только опусти его сначала... впрочем, не поздно ли, уж он обмяк...
Можер отпустил беднягу, и вовремя. Тот, рухнув на пол безжизненной грудой костей и мяса, вскоре пришёл в себя и, пошатываясь и потирая шею, кое-как поднялся на ноги.
— Негодяй посмел преградить мне дорогу! — стал объяснять Можер. — Я говорю: «Король мне велел тотчас быть у него», а он в ответ: «Ничего не знаю, не пропущу и всё тут». Я повторил, а он опять за своё. Тут я и не выдержал.
Людовик от души рассмеялся:
— Он не виноват: стража недавно сменилась, откуда ему было знать о тебе?
— Чёрт знает что у вас тут за порядки, — пробурчал нормандец. — Разве один другого не предупреждает, что к королю будет знатный гость? В замке моего отца совсем не так. Там всегда известно, кто и к кому должен прийти. — Он повернулся к стражнику, участливо посмотрел на него сверху вниз: — Я не слишком зашиб тебя, приятель?
И положил руку ему на плечо. Тот охнул и, вероятно, снова упал бы, но Можер вовремя его поддержал.
— Что за хлипкие у тебя слуги, король! — воскликнул он. — Как же ты поведёшь их в бой, если они даже от лёгкого удара по плечу едва не падают замертво? У моего отца таких нет. Мы, норманны, таких держим на конюшнях при лошадях.
Карл от души смеялся, качая головой. Людовик, нахмурившийся было во время речи нормандца, поглядев на дядю, тоже заулыбался.
Можер снова повернулся к стражнику:
— Не сердись, солдат, я же не знал ваших порядков. Но впредь, когда увидишь меня ещё раз, знай, что перед тобой граф Можер Нормандский, сын Ричарда, герцога Нормандии... и друг твоего короля. Ну, надеюсь, запомнил? В следующий раз не дашь промаха?
Стражник, задрав голову и со страхом глядя на грозного сына герцога Ричарда, пролепетал:
— Да, господин... Прошу простить, ваша светлость...
— Ладно, ступай, — Можер махнул рукой, — король отпускает тебя. Ведь так, ваше величество? — он бросил взгляд на Людовика.
— Разумеется, — кивнул монарх. И стражнику: — Ты хорошо несёшь службу, воин, король доволен тобой. Ступай и займи своё место.
Стражник откланялся и вышел.
— Вижу, тебя одели, как подобает князю, — сказал Людовик, подходя к Можеру и оглядывая его с головы до ног.
— Всё, как у вас, франков, — пожал плечами нормандец, — рубашка, короткая туника, штаны в обтяжку, прямоугольный плащ с застёжкой на груди и полусапожки с повязками у колен. Вообще норманны многое у вас переняли, мы даже говорить стали на вашем языке. Скоро перестанем жениться при живой жене и заведём, как у вас принято, обряд венчания.
— С выбором одежды не возникло трудностей? — улыбнулся король.
— Чёрта с два! Им там изрядно пришлось попыхтеть, прежде чем нашли что надо. Да и то только после моих угроз.
— Можер! Ты посмел угрожать моим слугам?
— Я пообещал выпороть всех до одного. И они зашевелились. Что же мне было делать, государь, не мог же я прийти к тебе без штанов!
Король рассмеялся, затем подошёл к нормандцу и с любопытством спросил:
— Скажи, отчего ты столь силён? И почему огромного роста? Ведь таких людей не бывает. Я не встречал. А вы, дядя?
Карл Лотарингский сознался в том же.
— Такого как Роллон Великан тоже никто не видел, государь, — ответил нормандец. — А ведь он мой прадед. Его ещё прозвали Пешеход.
— Почему это?
— Потому что его не выдерживала ни одна лошадь. Проковыляв кое-как с четверть мили, она падала на колени. Вот он и вынужден был ходить пешком, за что и получил своё прозвище. А когда он впервые высадился на берег Нормандии и взмахнул мечом, местные жители попадали на колени. Они решили, что настал конец света и им предстал сам архангел Гавриил, чтобы судить их за грехи.
— Любопытно... Этого я не знал. А ты, верно, ростом в него? И силой?
— Похоже, что так, государь... ваше величество... Ты уж прости меня, я тебя зову то так, то этак... Не пойму, как у вас, франков, принято.
— Обращайся ко мне по-простому, — весело воскликнул Людовик, — как самому нравится. И будто бы я не король, а всего лишь равный тебе. Да и мне будет легче говорить с тобой, словно с приятелем. Ведь мы почти одногодки, ты старше всего на несколько лет.
— Что ж, коли так... — Можер бросил взгляд на Карла. — Ей-богу, вот славный король, другой бы держал себя этаким петухом. — Людовику: — Что до моего прадеда, государь, то он был викингом, одним из сыновей Ренгвальда, и звали его Хрольф, это по-вашему он Роллон. Так вот, этот Хрольф до того досадил своими набегами вашему королю Карлу, что тот заключил с ним договор. Ей-богу, умное решение, иначе мой предок разорил бы всё Франкское королевство. Ну да, ведь он доходил до Парижа и даже дальше...
— Постой, я вспомнил, — перебил его Людовик. — Ведь меня обучали монахи, кому как не им известны все тайны истории? Король Карл — тоже, кстати, мой прадед — отдал Роллону в жёны свою дочь, кроме того, подарил Бретань и Руан с Каном. Взамен твой знаменитый викинг принял христианство и принёс вассальную присягу. Так образовалось герцогство Нормандское, северо-западный щит Франкского королевства. А при крещении Хрольф поменял имя.
— Неплохой обмен, надо сказать, — добавил Можер, — и провалиться мне на месте, если кто-нибудь об этом жалеет. Нормандия нынче — самостоятельное герцогство, и это теперь наша земля, родина потомков викингов!
— Выходит, статью ты в своего прадеда. А его жена?
— Моя прабабка? Её звали Поппа де Байе.
— Поппа? — король был удивлён. — Что за странное имя?
— По-латинскому оно звучит как Поппея, что значит перестанем жениться при живой жене и заведём, как у вас принято, обряд венчания.
— С выбором одежды не возникло трудностей? — улыбнулся король.
— Чёрта с два! Им там изрядно пришлось попыхтеть, прежде чем нашли что надо. Да и то только после моих угроз.
— Можер! Ты посмел угрожать моим слугам?
— Я пообещал выпороть всех до одного. И они зашевелились. Что же мне было делать, государь, не мог же я прийти к тебе без штанов!
Король рассмеялся, затем подошёл к нормандцу и с любопытством спросил:
— Скажи, отчего ты столь силён? И почему огромного роста? Ведь таких людей не бывает. Я не встречал. А вы, дядя?
Карл Лотарингский сознался в том же.
— Такого как Роллон Великан тоже никто не видел, государь, — ответил нормандец. — А ведь он мой прадед. Его ещё прозвали Пешеход.
— Почему это?
— Потому что его не выдерживала ни одна лошадь. Проковыляв кое-как с четверть мили, она падала на колени. Вот он и вынужден был ходить пешком, за что и получил своё прозвище. А когда он впервые высадился на берег Нормандии и взмахнул мечом, местные жители попадали на колени. Они решили, что настал конец света и им предстал сам архангел Гавриил, чтобы судить их за грехи.
— Любопытно... Этого я не знал. А ты, верно, ростом в него? И силой?
— Похоже, что так, государь... ваше величество... Ты уж прости меня, я тебя зову то так, то этак... Не пойму, как у вас, франков, принято.
— Обращайся ко мне по-простому, — весело воскликнул Людовик, — как самому нравится. И будто бы я не король, а всего лишь равный тебе. Да и мне будет легче говорить с тобой, словно с приятелем. Ведь мы почти одногодки, ты старше всего на несколько лет.
— Что ж, коли так... — Можер бросил взгляд на Карла. — Ей-богу, вот славный король, другой бы держал себя этаким петухом. — Людовику: — Что до моего прадеда, государь, то он был викингом, одним из сыновей Ренгвальда, и звали его Хрольф, это по-вашему он Роллон. Так вот, этот Хрольф до того досадил своими набегами вашему королю Карлу, что тот заключил с ним договор. Ей-богу, умное решение, иначе мой предок разорил бы всё Франкское королевство. Ну да, ведь он доходил до Парижа и даже дальше...
— Постой, я вспомнил, — перебил его Людовик. — Ведь меня обучали монахи, кому как не им известны все тайны истории? Король Карл — тоже, кстати, мой прадед — отдал Роллону в жёны свою дочь, кроме того, подарил Бретань и Руан с Каном. Взамен твой знаменитый викинг принял христианство и принёс вассальную присягу. Так образовалось герцогство Нормандское, северо-западный щит Франкского королевства. А при крещении Хрольф поменял имя.
— Неплохой обмен, надо сказать, — добавил Можер, — и провалиться мне на месте, если кто-нибудь об этом жалеет. Нормандия нынче — самостоятельное герцогство, и это теперь наша земля, родина потомков викингов!
— Выходит, статью ты в своего прадеда. А его жена?
— Моя прабабка? Её звали Поппа де Байе.
— Поппа? — король был удивлён. — Что за странное имя?
— По-латинскому оно звучит как Поппея, что значит «бабочка». Однако она была крупной и крепкого здоровья, — словом, не хилого десятка.
— В вашем роду кто-нибудь ещё похож на тебя? Из твоих братьев, сестёр? Из детей Роллона?
— Ни один. Да и прадед мой рожал почему-то всё больше баб. А сын был единственный — Гийом по прозвищу Длинный Меч. Однако и он не вышел в отца. Замечу мимоходом, что у него была сестра... Впрочем, почему была? Она и сейчас жива, моя двоюродная бабка, проще — тётка, ведь я её внучатый племянник. Любопытно, помнит ли она ещё меня? Отец говорил, души во мне не чаяла, когда я был мал.
— Сколько же ей теперь может быть? И где она сейчас?
— Настоятельница какого-то женского монастыря, не помню названия. В миру её звали Кадлин, ныне же она — мать Анна. А лет ей... — Можер подумал, — семьдесят, не больше.
— Тебе надо навестить её, — посоветовал Людовик. — Представь, как она будет рада увидеть внучатого племянника.
— Как-нибудь при случае, — согласно кивнул Можер, — вот только узнаю у отца, где этот монастырь. Впрочем, спрошу у герцога франков, эта обитель в его владениях. Сестра Гуго много лет назад устроила это.
— Беатриса? — удивлённо спросил Карл. — Герцогиня Верхней Лотарингии?
— Ну да, что ж тут удивительного, ведь мой отец дружит с герцогом, они часто встречаются.
— Удивительно то, что мы заговорили о сестре Гуго, ведь я послезавтра отправляюсь к ней.
— Какого чёрта, герцог! Что ты забыл в Верхней Лотарингии?
— Герцогиня нужна королю франков как посредница при заключении мира.
— Так ты хочешь заключить мир с империей? — обратился Можер к королю. Потом почесал в затылке: — Что-то мне не нравится это. Лучше всё же самому быть сувереном, нежели отдать себя под власть другого.
— Под опеку, — поправил Карл.
— Королевство франков не нуждается в опеке германца. Как и Нормандия в опеке франка. Такой мне видится власть короля. Но коли уж ты так решил, государь... что ж, тебе виднее.
— Так нужно, Можер, — произнёс король, — этого требует моя политика.
— Значит, нечего мне совать нос в это дело.
— Ты предпочитаешь другие занятия? — спросил Людовик. — Какие же?
— Любить женщин и убивать врагов! Это мне больше подходит. Во всяком случае, здесь не требуется ломать мозги.
— Как раз то, чего не хватает вашему посольству, дядя, — воскликнул Людовик. — Ум в соединении с силой — это ли не залог успеха вашего путешествия?
— Согласен составить мне компанию, граф? — спросил Карл. — По дороге вдоволь наболтаемся, и мне, ей-богу, не будет так скучно.
— И ты ещё спрашиваешь, герцог! — вскричал Можер. — Я приехал сюда, чтобы помогать тебе. Какого чёрта мне торчать в этом городе, если ты отправляешься в путешествие? Ведь я и сам жуть как люблю странствовать. А это далеко?
— Мец. Чуть дальше Вердена. Мы быстро туда доберёмся. Впрочем, торопиться не будем, в пути можно заночевать.
— Вот и прекрасно! — сказал король. — А мы с Вией будем терпеливо дожидаться вашего возвращения.
При этих словах Карл Лотарингский бросил на Можера испытующий взгляд. Тот даже и ухом не повёл. Карл осторожно произнёс:
— Признаться, граф, не думал, что ты останешься невозмутим.
Можер шевельнул плечом:
— А с чего бы мне подымать бурю? Ну-ка выкладывай, герцог.
— Да ведь она глаз с тебя не сводила. Или ты не заметил?
— Пусть себе таращится, это её дело, — махнул рукой нормандец. — Моё время любить ещё не пришло. Пока, должен признаться, я обуреваем лишь пороком, хоть и не служу Ваалу.
— А если она в тебя влюблена?
— Мой отец всегда говорит: в любви теряют рассудок. Не хотелось бы мне потерять то, чего у меня, ворчит мать, не слишком-то много. А когда я её спрашиваю, она отвечает: «Бог даёт человеку всего поровну, но уж если где-то переборщил, то в другом месте обязательно отымет». Отец по этому поводу приводит в пример дочерей Евы: вид спереди — выше пояса, и сзади... ниже спины.
Беседа закончилась дружным хохотом.
Глава 5. Пророчество
Через день утром, едва Людовик позавтракал, к нему вошла Вия.
— А, это ты, певунья? — сразу же оживился король. — Очень хорошо, что пришла. Я собирался сесть за Плутарха и подумал о тебе. Ты ведь говорила, что знакома с его сочинениями? Ну, что же молчишь?
— Государь, я пришла к вам...
— Так вот, — не слушая её, продолжал король, — не разрешишь ли ты мои сомнения: сколько же подвигов совершил Тесей, во всём старавшийся подражать Гераклу? И каков, как думаешь, правдивый конец Ариадны? К тому же Плутарх утверждает, что их было две: одна старшая, другая младшая.
— Государь, — занятая совсем другими мыслями, вновь начала Вия, — вы, наверное, помните, как я приходила вчера вечером...
— Ну конечно, мы ещё поспорили по поводу того, был ли Фемистокл[4] скуп, либо щедр?
— И вы, конечно, не забыли, о чём я спросила тогда?
— Когда я заметил твой потухший взгляд? На мой вопрос, не случилось ли с тобой чего-нибудь, ты ответила, что не можешь увидеться ни с Карлом Лотарингским, ни с его приятелем, хотя весь вечер разыскивала их по дворцу.
— И вы сказали тогда, что оба недавно от вас ушли, но утром придут снова...
— Я ещё добавил, чтобы ты поторопилась, потому что я отправляю их с миссией мира в Верхнюю Лотарингию.
— И... что же? — в глазах Вии заиграл луч надежды. — Надеюсь, я успела?
— Напротив, ты опоздала.
Луч потух, ресницы опустились. Забывшись, Вия рухнула на скамью.
— Он... уже уехал? — негромко проговорила она. — Вместе с ним?
Людовик подошёл, присел рядом.
— Кто «он»? О ком ты?
Она подняла взгляд; его омрачало облако грусти.
— Ах, ваше величество, разве так уж трудно догадаться?
Людовик улыбнулся, взял её руки в свои. Луч солнца упал на его лицо. Чуть склонив голову и тоже улыбнувшись в ответ, Вия залюбовалась им.
— Он скоро вернётся, — ласково сказал король. — Мец не так уж далеко. Но вот что я хочу спросить, Вия: уверена ли ты, что нравишься ему?
В ответ Вия пожала плечами. Улыбка предательски сползла с алых губ.
— Тебе придётся немало потрудиться, — продолжал Людовик. — Такого завоевать совсем непросто. Однако на скорое и он скор, но охладевает ещё быстрее, нежели загорается. Любовным же чарам этот великан не подвержен.
— Откуда вы об этом знаете, государь? — изумилась Вия. — Неужто он сам говорил?
— Ни слова, — мотнул головой король. — Но я догадываюсь. Что-то подсказывает мне.
— Это чувство или, я бы сказала, дар угадывать подводит вас иногда?
— Я никогда не пользуюсь им и не думаю о нём.
— Почему?
— Да потому что у меня его нет, чёрт побери!
— Все Пипиниды обладают способностью видеть наперёд.
— Когда-то в действительности так и было, — ответил Людовик, — но с тех пор прошло много времени, в течение которого дар ворожбы угас, попросту растворился, то и дело смешиваясь с чужой кровью. К тому же он гораздо больше присущ женщинам, нежели мужчинам. Согласна?.. Но что это с тобой? — вдруг с интересом спросил монарх. — Почему ты так пристально смотришь мне в глаза? Объясни! Почему не отводишь взгляда?.. И взор твой холоден, будто ветром северным дохнуло.
Король не ошибся. Вия действительно уже довольно долго неотрывно глядела ему в лицо, словно изучая его черты, пытаясь прочесть на нём какие-то каббалистические знаки, начертанные самим Господом или Провидением и видимые только ей одной, как посланнице небес.
— Ещё раз к солнцу, — широко раскрыв глаза, словно в беспамятстве пробормотала Вия, не сводя взгляда с лица короля.
— Что? — не понял Людовик.
— Не отворачивайтесь, повернитесь снова к солнцу и смотрите прямо на меня!
Король испуганно уставился на неё.
— Да что случилось? — глухо проговорил он. — Можешь объяснить?
И в наступившей внезапно тишине Вия негромко произнесла:
— Холодом могильным повеяло от твоих глаз, король... будто из-под земли глянули они на меня.
— Хм, вот ещё... — проронил Людовик, отводя взгляд, — что это тебе вдруг взбрело в голову? Уж не гибель ли мне пророчишь?
Вия покачала головой:
— Этого угадать не сумею, лишь колдуны смогут.
— Откуда же холод взяла? — повернулся к ней Людовик. — Или привиделось нечто этой ночью, вот ты и вспомнила? A-а, догадался! — внезапно воскликнул он и сразу расцвёл лицом. — Верно, это из окна потянуло холодным воздухом, тебе и померещилось невесть что.
— Может быть, и так, — хмурясь, ответила Вия. — Только вспомнила я, что говорят люди, коли случается такое... Ошибочным бывает первое суждение, ложным. Но есть способ проверить, и если это повторится, то тогда...
— Тогда что?.. — весь напрягся Людовик.
— Позвольте, государь, убедиться, что я оказалась неправа и мне лишь почудилось...
— Что же для этого надо сделать?
— Ничего особенного, просто мы должны отвести взгляды и помолчать какое-то время.
— Хм, вот странная игра! Ну а потом?
— Потом я снова загляну в ваши глаза. На этот раз, надеюсь, уже ничего в них не увижу.
— Что ж, давай попробуем.
Они отвернулись в разные стороны. Король воззрился на потолок, разглядывая узорный орнамент из цветов и листьев; Вия стала глядеть в окно на лениво проплывающие в синеве неба белые хлопья облаков.
Наконец Людовику надоело созерцать узоры на потолке. Он повернулся. Юная певунья по-прежнему смотрела в небо.
— Я готов, — сказал король.
Вия стала медленно поворачиваться к нему. Но едва глаза их встретились, как она испуганно вскрикнула и вскочила со скамьи.
— Что с тобой? — воскликнул Людовик, тоже вставая на ноги.
— Да ведь смерть витает над твоей головой, — трясущимися губами пролепетала Вия и вытянула руку, указывая куда-то поверх головы короля.
Людовик поглядел туда. Потом обвёл взглядом полусферу вокруг. И вдруг, бросившись к Вие, стал трясти её за плечи:
— Ты с ума сошла! Какая смерть? Где? Покажи! Ведь я молод, мне только двадцать лет, а ты уж о могиле!
Вия перевела дух, тряхнула головой, внезапно поёжилась. И медленно, негромко проговорила:
— Должно быть, я и в самом деле обезумела.
— Здесь холодно, — внезапно оживился Людовик. — Хочешь, прикажу, чтобы затопили? Тогда будет теплее. Впрочем, не будем никого звать, я и сам могу, не раз уж так делал.
И он бросился к очагу, напротив окна. Рядом, слева, лежала охапка дров. Одно полено надо было разбить на щепы, иначе не развести огня. Людовик сноровисто взял в одну руку полено, в другую топор и, размахнувшись, отщепил лучину. Потом другую. Взмахнул в третий раз, но лезвие вдруг скользнуло мимо, звякнув о камень. От неожиданности король сделал неловкое движение и вдруг вскрикнул, уставившись на свою ладонь.
— Чёрт возьми! — пробормотал он и, виновато улыбнувшись, поглядел на Вию. — Кажется, я занозил палец...
Вия подбежала к нему и схватила за руку. В последней фаланге среднего пальца и в самом деле торчала большая заноза. Она вошла глубоко под кожу, но кончик торчал снаружи, так что извлечь её, ухватив ногтями, не составляло труда.
Девушка сразу поняла это.
— Сейчас мы её вытащим, ваше величество. Вам придётся потерпеть.
— Пустяки, — беспечно передёрнул плечами Людовик. — От этого не умирают.
— Как знать... — пробормотала Вия и, ухватив занозу, выдернула её.
Король вскрикнул. Из ранки вытекла капелька крови. Вия выдавила ещё одну, потом уставилась на занозу, острую, как копьё, обагрённую кровью Каролинга.
Людовик молча смотрел, переводя взгляд с Вии на её пальцы, в которых мелко подрагивала заноза. И вдруг девушка вздрогнула и подняла взгляд на короля; глаза её были широко раскрыты, в них читался страх.
— Отсюда грозит тебе гибель, государь, — произнесла, почти прошептала Вия, поднимая свою руку на уровень глаз.
— От этой занозы? — рассмеялся юный монарх. — Да полно тебе. Событие какое... Всего лишь — укол, словно комар укусил.
Помолчав, не меняя позы, Вия добавила — будто оракул подал свой неумолимый глас:
— Дерево стоит на твоём пути, король франков, и оно погубит тебя.
— Дерево? — нахмурился Людовик, отступая на шаг. — Как можно видеть это? Кто тебе сказал? Да и что за дерево? Стрела? Быть может, копьё? Но это возможно только на войне, а я решил заключить мир с империей. Для того и отправился Карл Лотарингский к герцогине Беатрисе.
— Мир? — переспросила Вия, задумавшись. И добавила немного погодя: — Значит, это не копьё... и не стрела. Да только тучи-то, король... собираются не над домом твоим. И не в этих стенах поджидает тебя беда.
— Значит, не дома? Но где же: в поле, на реке? В лесу?..
Вия вздрогнула. Выбросила занозу.
— Не знаю... Только будь осторожен, государь. Не делай необдуманных шагов. И не оставайся один, пусть рядом всегда будет верный человек... Возможно, именно он и сумеет уберечь тебя от опасности.
Король улыбнулся:
— Что ж, послушаю совета, моя Сивилла, хоть и не очень верю твоему предсказанию. Да и не пойму, с чего вдруг тебе вздумалось нагнать на меня страху? Признайся, ты видела дурной сон и пришла, чтобы омрачить мою душу?
— Мне и в самом деле плохо спалось ночью, — вздохнув, призналась Вия.
— Ну вот, что я говорил! — весело воскликнул Людовик. — Я так и знал, что твоё дурное настроение объясняется весьма просто. Поэтому давай забудем о страхах и предадимся веселью, а тоску отгоним подальше, например в Реймс, к Адальберону. Спутника вернее я ему не пожелаю. А пока вот что: спой-ка песню, да повеселей, а потом мы побеседуем о Плутархе. Ну как, нравится тебе мой план?
— Да, государь, — ответила Вия, — только ротту я оставила в комнате.
— Так ступай скорей и принеси её. Я подожду.
Вия вышла. Людовик посмотрел ей вслед, потом тяжело уселся в кресло и, обхватив рукой подбородок, хмуро уставился на лежащее у очага полено.
Глава 6. Две принцессы
В Меце, епископской резиденции уже около шести веков, в своём дворце близ монастырской церкви Сен-Пьер-о-Ноннен жила сорокасемилетняя герцогиня Верхней Лотарингии Беатриса, сестра Гуго, вдова. Ей пришёлся по нраву город мужа, Фридриха Барского, и она — правда, уже после его смерти — объявила, что отныне здесь будет резиденция графов Лотарингских.
Дворец был построен в романском стиле около двух веков тому назад. Вид его, с полукруглыми арками над дверьми, узкими невысокими окнами и строгой орнаментовкой выказывал этакую массивность и угрюмость, хотя внешне всё выглядело фундаментально, без неуклюжести и соразмерно.
В левом крыле здания, если подняться по скрипучей, плохо оструганной, освещённой лишь факелами на стене деревянной лестнице, находились покои самой герцогини; рядом — комнаты для прислуги и гостей. В правом крыле располагался общий зал, молельня и комнаты, в одной из которых жили две юные принцессы, обе — дочери Конрада Первого, короля Бургундии. Это был второй правитель объединённого королевства. Слияние Верхней и Нижней Бургундии произошло в 933 году при его отце Рудольфе, которому активную помощь оказали сестра Гуго Великого Эмма и вторая жена Эдхильда, английская принцесса. Свято помня об этом, семьи герцога франков и бургундских правителей поддерживали дружеские отношения, и члены этих семей время от времени навещали друг друга. Такими гостями и оказались во дворце герцогини Беатрисы обе принцессы.
Одну из них — от первого брака Конрада с графиней Аделаидой — звали Гизелой. Ей двадцать семь лет. Она была замужем за Генрихом Строптивым (Сварливым), герцогом Баварии. Брак устроила её тётка Адельгейда (Аделаида), супруга Оттона Великого и мать Эммы, жены покойного короля франков, которая величала её, как мы помним, «матерью всех королевств». Муж Гизелы долгое время находился в Утрехте в качестве пленника. Всему виной заговор, который он устроил против Оттона Рыжего, сына Адельгейды. Ссылка грозила превратиться в пожизненную, империя не прощала нападок на неё. Детей Гизелы — их было трое, и среди них будущий император Генрих (вот ведь ирония судьбы!) — отобрали у матери и перевели в другое место, подальше. Но в начале 987 года герцог был прощён и восстановлен в своих правах. Имущество возвращено. До 995 года он вновь — герцог Баварский.
Другая принцесса — от второго брака Конрада с Матильдой — звалась Гербергой. Её мать — ныне здравствующая сестра покойного Лотаря, короля франков. Муж Герберги, граф Верльский Герман, недавно умер при загадочных обстоятельствах, и молодая двадцатидвухлетняя вдова, несмотря на траур с вожделением поглядывающая на мужчин, с восторгом приняла предложение сестры погостить у герцогини Беатрисы. Это устраивало её, тем более что она избавлялась от постоянной опеки со стороны отца и матери. Не говоря уже о том, что в лице Гизелы она тут же нашла единомышленницу во взглядах на порок.
Приняв решение о путешествии, обе искательницы приключений сели на мулов и отправились в Мец. Они гостили здесь уже около трёх дней и едва освоились в кругу местной придворной молодёжи. Жажда деятельности толкала сестёр на частые прогулки, не приносившие, впрочем, желаемого результата. Приходилось завязывать новые знакомства или просто ждать какого-нибудь непредвиденного события, попросту — случая. А в ожидании такого обеим приходилось скучать, вспоминая прошлое, рассуждая о настоящем и заглядывая в будущее.
В такую минуту мы и застаём сестёр: старшую за шитьём, младшую за чтением. Они казались похожими одна на другую, отличались только одеянием. Наряд одной состоял из короткой верхней одежды с широкими рукавами различной длины и отделанной широкой же обшивкой по низу, на шее и на плечах. Талию охватывал дорогой пояс, на запястьях красовались спиральные браслеты, на пальцах — кольца с дорогими камнями, в ушах золотые серьги, голову с зашпиленными волосами венчала круглая шапочка. Наряд младшей сестры по отношению к старшей зависти не вызывал, если не считать ожерелья и свободно распущенных золотистых волос. Кроме того, Гизела отличалась вытянутым лицом и ростом: была чуть выше сестры.
Обе сидели за столом; в середине его — ваза с цветами, рядом лежит маленькая корона с восемью небольшими рубинами.
— Ты не знаешь, зачем мы сюда приехали? — спросила Герберта, отрываясь от книги.
— Что за вопрос, ведь нас пригласила герцогиня, — отозвалась Гизела, не поднимая глаз от шитья.
— Да, но для чего мы ей? Не находишь, что она строит какие-то планы в отношении нас?
— Вовсе нет. Она стара, одинока, ей скучно, захотелось поболтать с кем-нибудь. Видимо, таким образом она пытается воскресить в памяти дни своей молодости.
— Я уже порядком устала от её бесконечных воспоминаний и вопросов. Спрашивает, не скучаю ли я по мужчинам, а если так, то не собираюсь ли замуж? Может быть, она присмотрела мне жениха?
— О, это она умеет. Посмотришь, подыщет тебе подходящую партию как дочери короля Конрада и двоюродной сестре Людовика Каролинга.
— Коли так, могла бы сказать об этом.
— Может быть, хочет сделать сюрприз.
— А ты, Гизела? Зачем она позвала тебя, как думаешь? Ведь твой муж целых шесть лет был в плену! Потом вернулся и тут же с лёгким сердцем отпустил жену к старой герцогине якобы погостить! Не кажется ли тебе это странным?
— Её желание для него нечто вроде приказа. Ведь это она упросила императрицу выпустить Генриха, а потом заставила его принести клятву верности империи. Быть бы мне и по сей день вдовой при живом муже. Так что мы оба ей благодарны. И я не стала ни о чём расспрашивать, когда она выразила желание видеть меня. Думаю, чтобы тебе не было скучно, ничем иным объяснить её прихоть не могу.
— Какая странная особа: сидим здесь вот уже сколько дней, а она всё ходит вокруг да около, говорит намёками, но никак не скажет прямо, чего она от меня хочет. Если выдать замуж, то я раздумывать долго не буду.
— Ещё бы! Твоя постель уж год как холодна.
— Да, дорогая! — воскликнула Герберга, швыряя книгу на стол. — Целый год, ты права. Но дело, если хочешь знать, вовсе не в этом.
— Хм, в чём же ещё? — передёрнула плечами Гизела, откладывая шитьё. — Или ты завела любовника?
— Это для тела. А для души? Для жизни? Мне пора иметь детей, вот чего я хочу! Теперь тебе ясно?
— Не торопись, милочка, с этим ещё успеешь. Будут и дети.
— Тебе хорошо рассуждать, у тебя уже трое. У нашей сестры Берты тоже трое. А у меня? Ни одного! А ведь Берта всего на год старше меня.
— Кого ты винишь? Никто не виноват, что умер твой муж.
— Ах, мы не пожили с ним даже года. И ничего не успели... Я даже не насладилась в полной мере радостями любви.
— Этот недостаток обычно устраняют с любовником.
— Мне не везёт на Венериных полях, и ты об этом хорошо знаешь, — вздохнула Герберга и, встав, принялась ходить по комнате, поминутно выглядывая в окно. — А между тем я так страдаю... Смеёшься? Хороша сестра, нечего сказать! Тебе-то что беспокоиться, вильнула хвостом — и вот ты снова в объятиях любимого муженька.
— Перестань кричать, Герберга! Ты же знаешь, я тоже долго страдала, ожидая возвращения мужа из Утрехтской тюрьмы...
— Сам виноват! Вздумал претендовать на трон! И без того было ясно, что рыжего братца ему не обойти.
— Генрих горд, любит власть. Но, как кузену Оттона Рыжего, ему не стоило соваться туда, где прочно обосновалась со своим выводком византийская принцесса.
— Которая нарожала одних баб! Если бы не Оттон, последний из её детей, твой муж, мог бы стать императором.
— Если бы ты знала, дорогая, сколько проклятий посылает он на головы Феофано и её сынка, ставшего императором в трёхлетнем возрасте. Но такое положение её устраивает. Могла ли она, племянница Иоанна Цимисхия, мечтать о том, чтобы стать королевой, быть главой Священной Римской империи, перед которой пасует сам папа! Потому она и упрятала Генриха в тюрьму. Но теперь всё в прошлом. Он смирился и принёс клятву верности новому императору.
— Интересно узнать, есть ли у неё любовник?
— Говорят, их даже несколько. Да и что ты хочешь, ведь она молода, мы одногодки, а муж её четыре года как умер.
— А у тебя? — Герберга подошла к сестре, уселась ей на колени. — Скажи, есть у тебя любимый?
Гизела заулыбалась, погладила волосы сестры:
— Нелегко целых шесть лет обходиться без мужчины. А ведь я ещё не старуха.
— А сейчас, когда Генрих вернулся? Любовник получил отставку?
— Мы почти что расстались. Встречи крайне редки, да и холодком от них потянуло.
— А другого найти не пробовала? Или, кроме Генриха, тебе никто не нужен?
— Ах, Герберга, сестрёнка моя дорогая, — произнесла Гизела со вздохом и сладко потянувшись, — если бы ты знала, в чём отличие между любовником и мужем, то не задавала бы таких вопросов. Ведь с супругом не позволишь в постели такого, что позволяешь своему милому. О таких свиданиях, поверь, остаются самые сладкие воспоминания.
Раскрыв рот, Герберга благоговейно внимала увещаниям сестры.
— Должно быть, это здорово, — мечтательно произнесла она.
Гизела провела пальцем по кончику её носа:
— Это наивысшее счастье для женщины, моя милая.
Герберга вскочила и вновь принялась метаться по комнате — с развевающимися золотистыми волосами, ломая пальцы на руках.
— Ах, ну почему это у всех есть любовники, а у меня нет?
Даже Берта кого-то ублажает. А мне некого. Что за несчастная у меня доля, — причитала она, бессознательно шагая в сторону окна. — А тут ещё старая герцогиня водит меня за нос. И я, вместо того, чтобы услышать от неё какое-нибудь радостное известие, сижу здесь, в этой клетке, и не вижу ничего, кроме пола, стен и этого окна, из которого видно только дорогу, на которой...
Она внезапно осеклась, разглядывая что-то внизу, у стен замка, и тут же закричала, махая рукой:
— Иди скорее сюда, Гизела! Гляди, ты такого ещё не видела!
Сестра подошла и с любопытством уставилась в окно.
— Кажется, к Беатрисе пожаловали гости, — сказала она и совсем тихо прибавила: — Уж не их ли она ждёт, а потому и держит нас здесь?
— Смотри, их всего двое! — продолжала между тем возбуждённо верещать Герберга. — Да ведь и нас двое! А один, тот, что слева, просто великан! Боже мой, да это же настоящий Самсон! Даже лошадь под ним спотыкается. Его спутник, если сравнить обоих, просто жалкий гном.
Слушая её, Гизела внимательно вглядывалась во всадников, уже подъезжавших к воротам замка. Потом проговорила:
— Этого огромного я не знаю.
— А второй мне совсем не интересен, — отозвалась Герберга, не сводя глаз с нормандца.
— Ну и напрасно, — ответила сестра. — Этот второй — весьма примечательная и знакомая тебе личность.
— В самом деле? Кто же он такой?
— Твой дядя герцог Карл Лотарингский.
— Мой дядя?.. — с оттенком разочарования воскликнула Герберга. — Боже милосердный, этого ещё недоставало! И чего ему здесь надо?
— Думаю, он приехал от короля, — рассудительно молвила Гизела.
— Моего кузена Людовика? Что навело тебя на эту мысль?
— Он единственный, кто нуждается в услугах бывшего опального брата Лотаря. Вряд ли, не побывав у Людовика, его дядя рискнул бы сунуться сюда. Вопрос в том, с чем он приехал? Как бы там ни было, что-то затевается, коли понадобилась помощь герцогини Беатрисы. Но потерпи, думаю, ты скоро об этом узнаешь.
— Я? Почему только я?
— Потому что герцогиня скажет твоему дяде о том, кто гостит у неё в замке, и тот непременно захочет повидать племянницу. Тут ты и узнаешь причину его приезда.
— А тебя разве не будет со мной?
— Разумеется, нет. Он и твоя мать — родные брат и сестра, мы же всего лишь сводные сёстры. В твоих жилах течёт кровь Каролингов, а в моих — Вельфов. Хотя в роду нашего отца и была королева франков.
— Кто теперь об этом помнит, все живут нынешним днём. А это значит...
— Что именно? Договаривай же, коли начала.
— Это значит, Гизела, — воскликнула Герберга, всплеснув руками, — что мне весь вечер придётся болтать с дядей Карлом, в то время как тебе достанется его спутник.
— Что ж, — пожав плечами, улыбнулась сестра, — не откажусь от такого воина, коли на то будет воля Господа.
— И снова я в проигрыше! — захныкала Герберга, надув губки. — Нет, положительно, счастье всегда отворачивается от меня.
— Не скули, быть может, этот Геркулес тоже Каролинг.
Впрочем, вряд ли: откуда в вашем роду такие гиганты?
— Это правда, — вздохнув, согласилась Герберта.
— А сейчас нам надо запастись терпением и ждать. Вот увидишь, герцогиня очень скоро позовёт тебя. Но пойду и я: хочу узнать, кто он, этот Самсон.
Глава 7. Хозяйка верхней Лотарингии
Герцогиня Беатриса приняла гостей в своём кабинете. Тот же романский стиль: массивные стены, узкие окна, тяжеловесная мебель с орнаментом из пугающих взор мифических животных — полуптиц, полузверей. И та же мрачная, удушающая атмосфера тяжести, неповоротливости, что и повсюду. На столе свечи, на стенах факелы; правда, не горят пока ни те ни другие: ждут темноты.
— Рада видеть вас у себя, — так начала разговор, вставая из-за стола, сестра герцога франков, нестареющая женщина в длинной просторной лиловой одежде западноримского стиля. Чувствовалось, её не застали врасплох: всадников увидели издалека. — Нечасты у меня такие визитёры, — продолжала она. — Оно и понятно: Мец — не Реймс и не Верден, здесь не кипят страсти. Да и кому есть дело до старой герцогини? Поэтому я, вполне естественно, удивлена. С вами, герцог, мы не виделись уже бог знает сколько лет. Думала, вы совсем меня позабыли, а ведь мы соседи. Ну да видно, я ошибалась.
— А вы всё та же, герцогиня, что и много лет назад, — ответил с улыбкой Карл. — Время не властно над вами. Надеюсь, вам не изменили с тех пор ни цепкая память, ни острый ум. При дворе часто говорят о герцогине Беатрисе. Герцогу, разумеется, это льстит, и он гордится сестрой.
— Как поживает Гуго? Я давно не была у него.
— Я не встречался с ним, потому что из Лана сразу отправился к вам. Знаю только, что он в добром здравии и живёт в Париже в королевском дворце.
— Красивый город. Брат не мог сделать более удачного выбора для столицы своих владений.
— Это город графов Парижских со времён Роберта Сильного. Сам Хлодвиг любил Париж.
Герцогиня перевела любопытный взгляд на Можера.
— Вы представите мне вашего спутника, герцог, или он скажет о себе сам?
Можер сделал шаг вперёд.
— Я сын Ричарда Нормандского, герцогиня. Второй по счёту. Зовут меня граф Можер.
Беатриса внезапно рассмеялась:
— Когда вы входили, мне показалось, вы разобьёте головой дверной косяк. Проем явно не для такого роста.
Чуть улыбнувшись, нормандец ответил:
— Если бы это было не у вас в доме, я бы вышиб этот косяк кулаком, чтобы можно было войти, не сгибаясь. Мне это не впервой.
— «Не впервой»? — весело спросила герцогиня. — Любопытно. Вы, значит, не любите сгибаться? Не расскажете ли нам об этом случае? Я страсть как люблю истории, не укладывающиеся в рамки обыденности.
— Собственно, и рассказывать почти нечего, — пожал плечами Можер. — Один каноник как-то пригласил меня в гости. Я попробовал войти в его крысиную нору, но верхний косяк дверной рамы оказался чуть ли не на уровне моих плеч. Я спросил у каноника, как мне войти? Он ответил, что надо нагнуть голову. Для меня это было равносильно поклону. И кому? Какой-то церковной крысе, члену капитула при епископе! Я никогда никому не кланялся, это не в моих привычках, а тут какой-то червяк предлагал мне склонить перед ним голову! Недолго думая, я ударом кулака вышиб косяк, и он улетел в комнату, чуть не угодив хозяину между глаз. Но высота всё же оказалась мала, и мне пришлось разбить ещё и кладку, чтобы прошла моя голова.
Герцогиня от души рассмеялась.
— Что же каноник? — спросила она. — Как ему понравилось такое вторжение?
— Он завопил так, будто бы я развалил половину его дома, и пообещал пожаловаться на меня епископу. Я ответил, мол, это его дело, но чтобы жалоба не показалась его преосвященству слишком пустячной, принялся довершать разгром логова каноника. Тогда он упал на колени, умоляя прекратить крушить его бедное жилище. Взамен пообещал не жаловаться. Больше он меня в гости не звал.
Бедный каноник, — смеясь, качала головой герцогиня, — какой, должно быть, был у него обескураженный вид после вашего ухода. Но вы что же, граф, работали при этом одними руками?
— Конечно, вот этими самыми! — и Можер выставил вперёд два огромных, увесистых кулака.
— Боже правый! — всплеснула руками Беатриса. — Да ведь таким кулаком можно убить человека!
— Истинная правда, герцогиня, так оно и случилось однажды. Один негодяй посмел при мне оскорбить женщину, да ещё и ударить её. Я отшвырнул наглеца в угол, и он захотел драться со мной на мечах. Но после нескольких хороших ударов мой меч сломался. Что было делать? Не сражаться же одной рукоятью! А враг тем временем продолжал наступать. Его нисколько не трогало, что противник оказался безоружным! Это было нечестно, а меня учили уважать порядочность. Я улучил момент, когда этот рубака промахнулся, взял его одной рукой за ворот, а другой убил ударом кулака в лоб. Он даже не пикнул, мгновенно рухнув замертво. Наверное, я вышиб ему мозги.
Герцогиня ласково глядела на нормандца и качала головой, перемежая возгласы беспокойства и восхищения.
— Ах, граф, верите ли, но я будто знала вас всю жизнь, так с вами просто и легко. И уж, чего греха таить, слушала бы целую вечность рассказы о ваших приключениях. Уверена, не ошибусь, — она игриво посмотрела на нормандца, — что женщины от вас без ума и сами вешаются на шею.
— Ответить утвердительно — означало бы выказать нескромность, граничащую с хвастовством, — с достоинством ответил Можер, — а я не привык хвастать любовными победами, этому учил меня отец.
— Браво, граф! — восхищённо воскликнула герцогиня Беатриса. — Воистину я слышу слова пусть немного бесшабашного и легкомысленного, но, несомненно, благородного человека. Достоин зависти отец, имеющий такого сына.
— Благодарю, герцогиня, за тёплые слова, — приложил руку к груди нормандец. — Лучшей похвалы и награды мне не нужно, ибо единственный человек, которого я люблю и почитаю выше всех святых и даже Господа Бога, — мой отец!
— Приятно слышать такие слова, пусть они адресованы и не мне, — произнесла герцогиня. — Герцогу Ричарду впору гордиться вами, и я рада, что Карл Лотарингский выбрал себе такого спутника. Теперь я не удивляюсь, что вы прибыли без эскорта.
— Лишние хлопоты, — махнул рукой Карл, выразительно глядя на нормандца.
— Однако и я могу доставить хлопоты, — возразил Можер и перевёл взгляд на Беатрису. — Но я не посмел бы причинять беспокойство хозяйке дома, если бы не печальная необходимость.
Герцогиня подошла к нормандцу и взяла его за руку.
— Говорите, граф. Догадываюсь, вы чего-то хотите. Я сделаю всё, что в моих силах.
— Верите ли, герцогиня, — начал Можер, — но мой вес не выдерживает ни одна лошадь. Когда я сказал об этом королю, он повелел выбрать для меня ту, на которую смело можно было бы взвалить колокольню Сен-Дени. Такую отыскали, и поначалу я поверил в её выносливость, однако к концу пути она выглядела не лучше деревенской клячи. Едва показались стены Меца, как она начала спотыкаться на каждом шагу. Я уж было подумал, не взвалить ли мне эту лошадь на плечи, но тогда нам с герцогом пришлось бы слишком долго добираться до вас. Боюсь, мы подошли бы к стенам города глубокой ночью, и нас не пустила бы стража.
— Почему же вы не бросили её на дороге? — смеясь, спросила Беатриса. — Тогда вы добрались бы гораздо быстрее.
— Ах, герцогиня, мог ли я так поступить с подарком короля? — возразил Можер. — Вряд ли его величеству пришлось бы по вкусу такое отношение нормандского гостя к лошадям его конюшни.
— Кажется, я поняла, граф. Вас одолевают сомнения по поводу обратного пути? К тому же вы опасаетесь, что бедное животное падёт где-нибудь посреди дороги?
— У короля франков, конечно, лучшие скакуны в королевстве, но, думаю, у герцогини Беатрисы они могут оказаться ничуть не хуже. Мне хотелось бы убедить вас в этом. Полагаю, это вам немало польстит. Но окажусь в выигрыше также и я, коли найду доброго скакуна.
— Вам незачем утруждать себя, граф. Я тотчас отдам приказание, и найдут самого подходящего коня.
— В таких вещах, герцогиня, я не привык доверять никому. Ни один конюх не справится с той задачей, которую я легко решаю сам. Только мне ведомо, как проверить лошадь на выносливость.
— Что ж, коли так, не стану возражать, — ответила герцогиня и хлопнула в ладоши.
В дверях появился стражник.
— Отведи господина графа в конюшню, — приказала Беатриса. — Пусть он выберет себе ту лошадь, какую захочет. И скажи, что это мой приказ, всякие возражения неприемлемы. Понял меня? Ступай!
— Благодарю вас, герцогиня. Надеюсь, лотарингские кони не уступят франкским, — произнёс Можер и вышел вместе со стражником.
— Итак, — сразу же приступила к делу Беатриса, едва они остались с Карлом одни, — вам удалось уговорить короля, коли вы приехали без него?
— Это было нелегко, герцогиня, — ответил Карл Лотарингский, — и я уже начал было подумывать о второй части вашего замысла...
— ...как сработала первая?
— Людовик неуравновешен, к тому же одинок. Мой внезапный приезд обрадовал его. Он поверил в мою искренность и обещал сделать так, как я ему советую.
— Прекрасно, — улыбнулась Беатриса. — Так я и думала: одиночество и безысходность всегда делают человека покладистым.
— Я не сомневался в племяннике.
— Значит, мой план удался. Завтра же я отправляюсь к Феофано.
Теперь несколько слов о том, в чём заключался план старой герцогини и что несколько прольёт свет на предыдущие события.
Первый герцог франков в письмах не раз намекал сестре, что не прочь помирить Каролингов с Людольфингами, уж больно ему не по нутру воевать на стороне короля, дружески пожимая при этом руку его врагу. Того же хотела и империя, уставшая от бесконечных войн франкских королей за Лотарингию, где Ахен — столица Карла Великого; там покоится его прах. Едва умер Лотарь, мысль о примирении всё чаще стала посещать умы сильных мира сего. И как всегда, когда речь шла о дипломатии, обратились за помощью к герцогине Беатрисе. В случае удачи брат подарит ей одно из графств, а Феофано — имперский город меж Франконией и Саксонией.
Беатриса задумалась. Предложения были заманчивыми. Но не столько это, сколько собственные мечты о мире подстегнули её к решительным действиям. Она стала перебирать в уме варианты. Брат для этой цели не годился: Людовик слушал его, обещал подумать, но время шло, а он ничего не предпринимал. Друзья короля тоже не могли помочь: их он вообще не слушал, по большей части отмахиваясь от их советов. Что касается епископов и аббатов, то Людовик им попросту не доверял, считая предателями и шпионами империи. Хорошо бы воздействовать через супругу короля, но они уже больше трёх лет как в разводе с Азалаидой Аквитанской. Оставалась любовница — сильный козырь в любой игре. Однако её не было. Многократные усилия в этом направлении ни к чему не привели, а матримониальные планы рассыпались прахом один за другим.
И тут герцогиня подумала о Карле Лотарингском. Как она могла упустить из виду такую фигуру! Ведь он родной дядя Людовика! Кому же, как не ему, повлиять на недоверчивого, неуравновешенного франкского короля!
И Беатриса отправилась в Брюссель. Карла должно устроить её предложение, он и сам не прочь вернуться во Франкию. А Людовик слаб и одинок; как нужен ему сейчас верный помощник и наставник, да ещё и в лице родного дяди! А последнему — завидное положение при дворе.
Она не ошиблась. Карл Лотарингский сразу же подхватил идею, но выразил сомнение в успехе предприятия. Тогда Беатриса предложила другой вариант: если Людовик заупрямится, пусть герцог привезёт его к ней в Мец якобы для того, чтобы уладить давно уже осточертевшие всем вопросы о Вердене, Реймсе и архиепископе Адальбероне. В случае взрыва негодования можно сослаться на то, что герцогиня серьёзно больна и не может приехать сама. А к тому времени Беатриса позовёт к себе во дворец двух принцесс — дочерей короля Конрада. Особы не слишком строгих нравов, они сумеют уговорить Людовика, коли тот и на этот раз выкажет упрямство. Постель творила и не такие чудеса. Что же до путешествия самого Людовика, то герцогиня в этом не сомневалась, поскольку припомнила, как тот не раз выражал желание посетить Мец, столь любимый Хлодвигом, отслужить поминальные молебны в его соборах и церквах и преклонить колена у гробницы Арнульфа, родоначальника династии Каролингов.
Таков был план герцогини Беатрисы. Из тактических соображений она не стала до прибытия Людовика посвящать обеих принцесс во все тонкости задуманного ею предприятия. Теперь же, когда Карлу Лотарингскому удалось это и без её помощи, она облегчённо вздохнула: вовсе незачем всему свету в лице двух принцесс знать о том, каким образом удалось вырвать согласие на мир у франкского короля.
— Но вы уверены в успехе? Людовик не передумает? — всё же с беспокойством спросила Беатриса.
— Он верит мне так же, как и я ему. Его согласие явилось следствием именно этого. Вас же, герцогиня, коли вы замышляете недоброе против моего племянника, я спешу заверить, что не намерен ни в коей мере обманывать его. В противном случае, едва узнав о вероломстве со стороны вашей или Феофано, король франкский пойдёт войной на империю, и в первых рядах его защитников будет дядя Карл Лотарингский.
— Ни к чему нам запугивать друг друга, герцог, — ответила на это Беатриса. — Ваши корни и мои в одной земле. Мой брат — Робертин, и он предан королю не только как сеньору, но и как всякий франк — своей родине. Могу ли я, его сестра, думать иначе и замышлять измену против короля, а значит, против Гуго! Поступи я так — и нет мне оправдания. Даже смерть не смоет с меня вину. Что же до остального, то вы и сами знаете, сколько бедствий нашему народу принесли изнурительные войны между двумя державами — Франкией и Германией. И я согласна с Гуго и Феофано, что пора положить этому конец, клянусь кровью Христа! О мире между двумя державами радеет и папа. Клюнийская реформа[5] затрагивает не только жизнь монастырей, «чёрные монахи» Иоанна ратуют за всеобщий мир. Провоцируя войну с империей, Людовик рискует подвергнуться отлучению. Заметьте себе, речь идёт не о междоусобных войнах, истребить которые, увы, не представляется возможным.
— Я напомнил франкскому королю о клюнийских монахах. Это был мощный козырь.
— Значит, вы согласны со мной, иначе вам не удалось бы уговорить Людовика. Понимаете теперь, что я вполне искренна?
— Я рад, что не ошибаюсь в вас и между нами нет ни лукавства, ни вражды, — сказал Карл и поцеловал руку герцогине. Она улыбнулась.
— А ведь вы даже не знаете, герцог, кому я собиралась отвести роль обольстительниц юного короля, коли ваша миссия провалилась бы.
— Вы говорили о двух дочерях короля Бургундского Конрада.
— Одна из них — племянница императрицы Адельгейды.
— Недурная партия. Его величество был бы польщён.
— А во втором случае, думаю, поначалу обескуражен.
— Ваша избранница столь безобразна? Лицом — вылитая фурия?
— Ничуть. Она даже превосходит красотой первую.
— Что же тогда могло бы смутить Людовика?
— Только то, что она его двоюродная сестра и ваша племянница.
— Как! Младшая дочь Матильды? — обрадованно воскликнул Карл. — И она здесь, в этом замке? Так зовите её скорее сюда, ведь мы не виделись столько лет!
Герцогиня тотчас велела привести к ней обеих сестёр.
Глава 8. В плену родства
Первой вошла Герберта, следом Гизела. И уже по одному этому стало ясно, которая из них кузина короля франков. Карл Лотарингский сразу же понял это, хотя не узнал племянницу и стоял растерянный, глядя на неё и не зная, с чего начать разговор. Но она сама пришла ему на выручку, с любезной улыбкой шагнув навстречу:
— Боже мой, дядя Карл! Вы что же, не узнаете меня? — и, подойдя, поцеловала его в щёку, чуть привстав на цыпочках.
— Да и не мудрено, племянница, — оправдываясь, заговорил герцог, — прошло, наверное, лет десять...
— Одиннадцать, дядя, — уточнила Герберга. — Это было, когда вы с братом, Ренье и Ламбером отправились в Лотарингию отвоёвывать Эно у графа Годфруа. И мне тогда тоже было одиннадцать. Больше мы не виделись. Поэтому я от всей души прощаю вас.
— И какая же ты стала теперь! — восхищённо протянул Карл, разглядывая племянницу. — Вытянулась, похорошела, красавица хоть куда, не устоять ни одному мужчине.
Он выразительно взглянул на Беатрису.
— А вот вы совсем не изменились, — с улыбкой продолжала Герберга, — наверное, поэтому я сразу и узнала вас. Впрочем, всё же постарели: на висках несколько седых волосков.
— Это от забот, моя дорогая, — ласково ущипнул её за щёку Карл. — Но ты не одна, Герберга? — и он перевёл взгляд на Гизелу, безучастно наблюдавшую сцену свидания родственников. — Не ошибусь, если скажу, что это твоя сводная сестра?
— Ну конечно же! — бойко подтвердила Герберга. — Ведь герцогиня Беатриса сказала вам, не правда ли? Гизела старшая дочь короля Бургундского и, между прочим, племянница самой императрицы.
Гизела подошла и вежливо поздоровалась с герцогом.
— Я слышал о вас и вашем муже, — сказал ей Карл Лотарингский. — Мне очень жаль, что Генрих отсидел столько лет в заточении. Я рад, что он наконец на свободе и вы снова вместе.
— И я рада, герцог, поверьте, что и вам удалось выбраться из темницы, которая зовётся Брюсселем. Честное слово, при дворе франкского короля вы будете в большем почёте и окружены вниманием знатнейших женщин королевства. Тогда станет ощутимой разница между Брюсселем и Ланом.
— Я её уже ощутил, герцогиня; выводы явно не в пользу Нижней Лотарингии.
— Скажите, дядя, а где же ваш спутник? — задала наконец Герберга давно вертевшийся у неё на языке вопрос.
— Мой спутник?
— Ну да, мы видели вас из окна с каким-то Голиафом.
Карл рассмеялся, переглянувшись с Беатрисой.
— Этот человек совсем недавно стал моим другом, — сказал он племяннице, — поэтому рассказывать о нём я ничего не буду. Скажу только, что он норманн. Викинг. Ты ещё успеешь познакомиться с ним.
— А куда он подевался?
— Ушёл на конюшню выбирать себе лошадь.
— Ах, так...
— А теперь мы оставим герцогиню Беатрису, ведь ей вовсе не интересно слушать наши семейные тайны... — Карл взглянул на хозяйку дома, словно надеясь на её согласие с таким решением, — ... и ты расскажешь мне, как жила всё это время, — продолжал он, взяв племянницу под руку, — а потом я расскажу о себе.
— С вашего позволения, герцог, а также с вашего, герцогиня, я покину вас, — неожиданно заявила Гизела. — Нынче такой погожий день... я, пожалуй, прогуляюсь по двору.
И сёстры многозначительно переглянулись. Гизела торжествовала; Герберга, закусив губу, уныло опустила взгляд.
— Быть может, составить вам компанию? — предложила старая герцогиня, обращаясь к молодой. — Посидим в беседке и мило поболтаем, если вы не против, конечно.
— Нет, нет! — остановила её жестом руки Гизела. — Вам не стоит беспокоиться. Я люблю гулять одна.
Этот бурный протест не удивил Беатрису. Женщина умная, она сразу же догадалась о цели прогулки старшей дочери короля Конрада, едва вспомнила упоминание Карла Лотарингского о конюшне. Загадочно улыбнувшись, она сказала:
— Что ж, не стану вам мешать, тем более, что я и сама большая любительница таких прогулок. А вы, герцог, — добавила она, обращаясь к Карлу, — берите с собой племянницу и идёмте со мной. Я покажу вашу комнату. Там вы и будете ожидать моего возвращения из поездки.
— Вы уезжаете? — спросила Гизела.
— Да, ненадолго.
Глава 9. Принцесса на конюшне
Гизела вышла из покоев герцогини, вернулась к себе в комнату, надела корону и вышла во двор. Конюшня находилась близ левого крыла замка; чтобы попасть туда, надо было миновать прачечную и иные хозяйственные постройки. Гизела глубоко вздохнула и, перекрестившись и вручая себя Богу, неторопливо пошла по двору.
Можер тем временем, не без помощи конюха, уже выбрал подходящую лошадь и теперь топтался возле неё, то пробуя на прочность узду и стремена, то разглядывая лошадиные зубы и похлопывая животное по крупу и спине. Наконец он вскочил в седло, причём не пользуясь стременем; лошадь стояла неколебимо, как утёс, и только пофыркивала, прядая ушами.
Убедившись, что такой скакун ему подойдёт, Можер спешился и, склонившись, принялся подтягивать подпругу.
— Какое красивое животное, — вдруг послышался рядом восхищенный женский голос. — Верно, и всадник под стать такому коню. Хотелось бы мне увидеть...
Голос внезапно осёкся: из-за ушей лошади показалась голова нормандца.
— Это ещё кто? — недовольно пробасил он, глядя на непрошеную гостью. — Ты что тут делаешь?
— Ничего особенного, — вся съёжилась Гизела от этого громового голоса, — просто я проходила мимо и... дай, думаю, посмотрю. Ведь вы приехали с герцогом, да?
— А ну марш отсюда, пока я не задал тебе трёпку!
Гизела уставилась на нормандца, вытаращив глаза.
— Трёпку? Мне?.. — от негодования кровь бросилась ей в лицо. — Да как вы смеете! А знаете, из какого я рода?
— Плевать мне, какого ты роду, — бросил Можер. — Я спрашиваю, кто ты? И что это у тебя на голове?
— Корона...
— В самом деле? Сними, тебе не идёт.
— Но я принцесса и имею право носить корону, только маленькую.
— Принцесса? Ты? Ха-ха-ха! Не скажи этого ещё раз, не то захохочут все лошади этой конюшни.
— Вы не верите мне?
— Я не верю никому, даже самому папе, тебе тем более.
— Бог мой! А ещё говорят, что норманны перестали быть грубыми, переняв у франков такт... и вежливость.
Можер вышел из-за лошади, в руках его был кнут.
— Что ты там такое лопочешь про норманнов, глупая девчонка? Хочешь меня оскорбить? — он похлопал кнутовищем по руке. — Что ж, валяй, но знай, скажешь ещё дурное слово о викингах, я посажу тебя в карман моих штанов, и ты будешь сидеть там до тех пор, пока мне не придёт охота вытащить тебя оттуда.
Гизела побледнела:
— Меня?.. В карман ваших штанов?!
— Вижу, тебя это не очень устраивает, — нормандец почесал в затылке, поглядел по сторонам. — Что ж, тогда я насажу тебя на оглоблю; будешь висеть на ней, пока король не решит, что с тобой делать.
От возмущения Гизела поперхнулась и, не найдя что сказать, в страхе уставилась на оглоблю, лежавшую на земле шагах в пяти.
— Что, испугалась короля? (Гизела вздрогнула, будто от раската грома). То-то же! Знай, что шутить с нормандцем имеет право лишь тот, кто заслуживает его доверие, клянусь башмаком Роллона! А теперь говори, кто ты и чего тебе здесь надо.
— Но я же сказала — принцесса.
— Тогда я — папа римский Иоанн!
— Но... но...
— Что ты там ещё бормочешь?
— Но у меня корона!
— А вот я сниму её с твоей головы и надену на свою, тогда я — король! Что скажешь на это?
— Но я в самом деле принцесса и зовут меня Гизелой.
— Её зовут Гизелой! А меня графом Можером, если тебе хочется знать.
— Я дочь короля Конрада Бургундского!
— А я сын герцога Ричарда Нормандского, чтоб мне лопнуть!
— Я племянница императрицы Адельгейды!
— А я правнук Роллона Великого, слышала о таком?
Гизела выдохлась. Не зная, как ещё возразить, она печально вздохнула и попробовала улыбнуться.
— Ах, граф, как вы грубы и непочтительны к женщине. И кто вас только воспитывал?..
И тут же она вся съёжилась от громового голоса нормандца:
— Что ты там несёшь о воспитании? Кто тебя надоумил учить меня?
Гизела ответила мягким голоском:
— Думаю, никогда не помешает поучить человека хорошим манерам, коли он с этим не знаком.
И тут же пожалела о сказанном. Можер сделал вперёд шаг, другой и навис над дочерью короля Конрада всем своим громадным телом, едва не заслонив собою весь свет божий.
— Слушай-ка, Гизела, или как тебя там, — произнёс он, будто лев прорычал, — не советую выводить меня из терпения, а потому подбирай-ка свои платья да живо улепётывай отсюда, пока я не надрал тебе задницу вот этим кнутом. Поняла? А теперь убирайся!
Гизела почувствовала, как в ней закипает злость и на этого неотёсанного викинга, и на саму себя. А ведь она полагала, что ей без труда удастся покорить гостя. Раздосадованная, она зло пробурчала:
— Что ж, я уйду, только как бы вам не пожалеть потом...
— Что?! — взревел Можер, быстро шагнул ещё вперёд, обхватил Гизелу поперёк туловища и, сунув под мышку, будто полено для растопки очага, пошёл с нею к выходу из конюшни.
— Отпусти меня! — завизжала Гизела, вся извиваясь в бесплодных попытках вырваться на свободу. — Слышишь, немедленно отпусти!
— Чёрта с два! — раздалось в ответ. — Сейчас я выдеру тебя этим кнутом. Вот только привяжу покрепче. Там, во дворе, я видел верёвку.
И вдруг нормандец остановился. К ним направлялись слуги и впереди — гофмейстерина, первая дама двора. Увидев необычную сцену, все будто остолбенели и, раскрыв рты, уставились на Можера и принцессу. Первой опомнилась гофмейстерина:
— Госпожа герцогиня! Святые небеса! Что это с вами, куда вас несут?
Гизела бросила на них взгляд Медузы и закричала:
— Нет, это вас куда принесло?! Чего вам всем здесь нужно?
— Мы вас повсюду ищем по приказу госпожи Беатрисы. Нам сказали, что вы где-то тут...
— Убирайтесь отсюда! — снова крикнула Гизела. Потом Можеру: — Да отпусти же меня, вот привязался!
Можер опустил её на землю, поставив на ноги.
Она быстро повернулась к слугам:
— Что стоите, олухи! Не слышали разве, что я приказала?
Слуги, раскланиваясь, стали пятиться.
— Простите, ваша светлость...
— Скажите госпоже Беатрисе, что я скоро приду.
— Хорошо, ваше высочество.
— Убирайтесь же!
Слуги, и гофмейстерина первая, заторопились и исчезли, будто рой комаров ветром сдуло.
— Выходит, ты и в самом деле принцесса? — воскликнул Можер и расхохотался. — Забавно, чёрт возьми, вот уж никогда бы не подумал.
Гизела в это время с ужасом разглядывала свою помятую одежду.
— Боже мой! Вот так познакомились... Что я скажу Беатрисе?
— Скажешь ей, что побывала в объятиях графа Можера. Она сразу поймёт в чём дело и простит тебя.
Гизела покосилась на нормандца, потом внезапно громко рассмеялась и посмотрела на него одним из тех взглядов, которые ясно дают понять о полном прощении, переходящем в дружеское расположение.
— Ты уж прости, что я чуть было не посадил тебя в карман, — тоже заулыбался Можер.
— Полагаешь, тебе бы это удалось? — игриво спросила принцесса.
— Ещё бы, ведь ты поместишься у меня на ладони. Хочешь, попробуем?
И нормандец протянул руку.
— Нет, нет! — замахала руками Гизела, с ужасом глядя на его ладонь величиной с крышку ведра. — И без того я уж натерпелась страху.
— А почему ты такая маленькая и тощая? Тебя плохо кормят? Впрочем, что это я... — со скрытой насмешкой свысока посмотрел на неё Можер, — к тебе, наверное, надо обращаться как к дочери короля, со всем почтением и в надлежащей форме? Не привыкла ведь, чтобы тебе «тыкали».
— Пустяки, — махнула рукой Гизела. — Тебе я прощаю.
— Отчего же?
Она пожала плечами.
— Знаешь... — и, чуть помолчав и немного смутившись, добавила, глядя в сторону: — Поначалу я так осердилась... Я ведь и в самом деле не привыкла к такому обращению.
— А потом?
Она перевела на него взгляд. Её глаза искрились теплотой, на губах играла лёгкая улыбка.
— Меня стало это забавлять. Со мной никогда так бесцеремонно не говорили.
— А, ты привыкла, чтобы тебе кланялись и угодливо улыбались, как совсем недавно эта, похожая на подушку, дочь Арахны, что приходила за тобой? Но Можер Нормандский никому ещё не кланялся и не улыбался по заказу.
— Это я уже поняла, — сказала Гизела, не сводя завораживающего взгляда с нормандца. — И всё же иногда волей-неволей приходится нагнуться, если проход низок?
— Если так, то я остаюсь у дверей. Пусть сами выходят ко мне те, кому я нужен. А нет — значит, в этом жилище не уважают гостя, и я ухожу прочь.
— А когда очень-очень надо войти? — не отставала Гизела. — И мешает верхний косяк?
— Тогда я выбиваю его кулаком.
— Такой сильный у тебя кулак?
— Однажды на меня налетел всадник и пытался зарубить мечом. На мою беду, я был безоружен. Я увернулся от него один раз, потом другой. В третий раз он, вероятно, уложил бы меня наповал, если бы я, оказавшись прямо перед мордой его лошади, не ударил её кулаком в лоб.
— Боже мой, бедное животное!.. Что же было дальше?
— Она упала на передние ноги, а потом завалилась набок и тут же издохла. Пока всадник барахтался под нею, я отобрал у него меч и одним ударом разрубил пополам.
— Святые небеса! — всплеснула руками Гизела и вдруг вся замерла, не сводя с нормандца влюблённых глаз. Потом прибавила, усиливая эффект чарующей улыбкой: — Мне никогда и слышать не приходилось о таком, а уж видеть и подавно...
Можер хмыкнул и, слегка нахмурившись, искоса посмотрел на неё:
— Что ты так вытаращилась на меня, будто хочешь сожрать живьём? Мне приходилось ловить на себе такие взгляды, от которых мужчина теряет голову. Но я не из той породы, тебе ясно, принцесса?
Её взгляд потух и упал вниз, уткнувшись в землю. Она слегка покраснела. Потом негромко произнесла:
— Тебе просто показалось.
— Может быть. Вам, бабам, виднее. А скажи-ка мне, зачем ты сюда пришла? Разве конюшня — подходящее место для дочери короля?
— Не хочу говорить тебе неправду...
— Тогда говори правду, чёрт возьми!
— Хотелось посмотреть на тебя поближе.
— Значит, до этого видела издалека?
— Да, мы с сестрой заметили вас двоих, когда вы подъезжали к воротам замка.
— Теперь я понимаю... Но вот что странно: ты почему-то всё не уходишь, хотя я уже, наверное, раз сто сумел тебе надерзить. Ага, закивала, значит, это так. Так почему всё же не уходишь?
— Хочешь знать? — спросила Гизела игриво.
— Конечно, чёрт побери! — воскликнул нормандец. — Мне даже стало интересно.
— Потому что я хочу с тобой дружить.
— В самом деле? — рассмеялся Можер. — Да ведь мы уже подружились, разве не так?
Гизела вся засветилась улыбкой.
— И ещё я хотела сказать... — она снова с любовью взглянула нормандцу в глаза, — что ты начинаешь мне нравиться.
— Провалиться мне на этом месте! — вскричал Можер. — Скажи мне эти слова другая, похуже тебя, ей-богу, прихлопнул бы как муху! Но тебе я готов простить. Ты славная принцесса, чёрт подери, в замке моего отца я повидал таких предостаточно.
— Значит, я тоже нравлюсь тебе? — с плохо скрываемой надеждой утвердительного ответа спросила Гизела.
— Конечно! Мне нравится любая, которая не корчит из себя недотрогу.
— Вот даже как? Ну а если... корчит?
— Тогда я посылаю её ко всем чертям!
— А если, несмотря ни на что, ты всё же хочешь обладать ею?
— Тогда я легко добиваюсь, чего хочу.
— Тебе приходится держать её, чтобы она не вырывалась?
— Я держу её, всего лишь одним пальцем прижимая к постели.
— Со мной тебе не придётся утруждать себя.
— Я знал, что мы быстро договоримся.
— Хочешь, пойдём в замок? Мы продолжим разговор у меня в покоях. Нам принесут хорошего вина.
— А как же герцогиня Беатриса? Ведь она посылала за тобой.
— Пустяки, — махнула Гизела рукой. — Вероятно, она хочет дать кое-какие наставления перед своей поездкой.
— И всё же загляни к ней.
— Загляну.
Можер отвёл лошадь в стойло, задвинул засов, и они вдвоём с Гизелой направились во дворец.
Герцогиня вернулась из поездки сердитая и усталая, но всё же торжество светилось в её глазах.
— Я так и знала, что этим всё кончится, — падая в кресло, ответила она на вопрос Карла Лотарингского об успехе её миссии.
— Вам не удалось добиться их согласия? — искренне удивился герцог.
— Мне не удалось их помирить.
— Разве они в ссоре?
— Вечная война свекрови с невесткой, такая же старая, как этот мир. Я думала, может, эти умнее, ведь обе императрицы. Казалось бы, чего им делить!
— Чёрт бы побрал этих женщин! — выругался Карл и, вскочив с места, принялся шагать по комнате. — Вот что значит нет сильной мужской руки. Что же им мешает спокойно править империей? Генрих Строптивый усмирён, их извечный враг Лотарь умер, так чего им теперь недостаёт?
— А вы ещё не догадались?
Карл остановился, будто взгляд герцогини заставил его сделать это, и повернулся к ней:
— Борьба за власть?
— Именно Карл! Им мало своей женской войны, так они дерутся за Оттона! Кто будет управлять империей: Аделаида или Феофано? Кто станет воспитывать юного императора: родная мать или свекровь? Момент удобный, он должен привыкнуть и далее подчиняться только одной из них, ведь ему всего семь лет.
— Чем же кончилось? Которая стала регентшей?
— Мать. Конечно же, Феофано. Но свекровь не сдаётся, внук всегда при ней. Льнёт к тому, кто добрее. Феофано сурова, её беседы с сыном лишь о том, как управлять. А ребёнка тянет к детским играм. Бабка умна и хорошо это понимает. Императрица скрипит зубами и грозится отослать её подальше. Но свекровь не робкого десятка. Мать короля франков — её дочь, Людовик — внук; вот козырь! Сильнее его нет. В ответ на выпады невестки она грозится уехать на запад, чтобы заставить франкского короля пойти войной на Феофано и отобрать у неё внука. Невестка обещает выставить против неё византийскую армию. Дело пахнет скандалом. А тут я с предложением мира с франками!
— Надо думать, Феофано была не против, — заметил герцог.
— Ещё бы! Она сразу вцепилась в это мёртвой хваткой. Правда, помог делу Герберт Орильякский. Пока свекровь раздумывала, он уведомил обо всём невестку. Та поначалу повела себя вызывающе, негодуя, что не она узнала первой. Но где бы я стала её искать, ведь её не было, когда я приехала. Знал о том, где она, один Герберт. Он и посоветовал иметь дело лишь с Феофано как с законной императрицей. Однако на встречу поедут обе: без свекрови никак нельзя. Ни Эмма, ни Людовик не простят этого Феофано.
— Что же Аделаида? Дала согласие?
— Мне стоило немалых трудов добиться этого. Упор делался на одно: место ли семейным распрям перед актом заключения мира между двумя соседними и, заметьте себе, герцог, родственными державами! В конце концов я её добила. Затем условились о встрече: двадцать пятого мая в Монфокон-ан-Аргонн.
— Участники? — коротко спросил Карл.
— Кроме нас с вами — король Людовик, Эмма, обе императрицы и Гуго. Как только вернётесь в Лан, пусть король немедленно известит об этом мать и герцога франков. Вслед за вами, чуть позднее, я сама прибуду в Лан. Сейчас меня задерживают кое-какие дела, не то я отправилась бы вместе с вами.
— Непременно приезжайте, герцогиня, ведь на среду восемнадцатого мая назначено заседание в Компьене: король будет судить Адальберона.
— Сдался ему этот святоша! Будто без него не хватает забот.
— Это дело чести. Людовик будет судить его как предателя.
— Много шуму, да мало толку, — повела бровью герцогиня. — Попробуй заставить лису есть яблоки, коли ей милее воровать кур.
— Архиепископа осудят и сошлют, это послужит наглядным примером для других. Так полагает король, но не ошибусь, если скажу, что так не думаем мы с вами.
— Что же сделали бы вы на месте племянника?
— То же, что и вы, — уклончиво ответил Карл.
— Хотите, чтобы я первой раскрыла карты? — усмехнулась Беатриса. — Что ж, пожалуйста, раз вам этого так хочется. Что делали римляне с неугодными правителями или консулами? Судили? Ссылали? Как бы не так! Возня, да и только. Яд, меч, кинжал или стрела — вот орудие власти. Пусть это грубо и подло, но только это порою спасает от смерти тебя самого. К тому же у других вызывает страх, тот, в свою очередь, — раболепие.
— Однако такого правителя очень скоро начинали ненавидеть, и заканчивал он так же, как и его жертва.
— Кто посмеет обвинять короля в смерти какого-то попа, к тому же предателя! Мало ли куда он подевался? Был — и нет его. Исчез! При чём же здесь король? Какой суд докажет его вину?
— Не старайтесь доказывать мне прописных истин, герцогиня. Я вовсе не спорю с вами.
— Значит, согласны?
— Нашего согласия король не спросит, а поэтому нам останется лишь подчиниться его решению.
— Что ж, пусть будет как будет, — махнула рукой Беатриса. — В конце концов, мне нет до этого Адальберона никакого дела. Скажите лучше, как развлекалась молодёжь в моё отсутствие? Вряд ли сёстры обошли вниманием вашего спутника.
— Нормандцу не приходилось скучать, — ответил Карл улыбаясь. — К таким, как он, всегда льнут женщины. Удивляюсь, как они делили его между собой.
— Природное влечение самки к самцу, — обронила герцогиня. И прибавила: — Извечное стремление женщины иметь здоровое потомство, а не хилых котят, умирающих через месяц или год после рождения.
— Если моя племянница родит, никто не удивится, пусть даже ребёнок будет не похож на её покойного мужа. По срокам выйдет, что дитя — законное. Она этого хотела, я это видел и не мог запретить. В конце концов, это её дело. Но вот что скажет другая своему мужу?
— Ничего, — сказала Беатриса. — У неё трое от Генриха. Зачем ей ребёнок от нормандца? А вот Герберга поступила мудро: ей и в самом деле пора рожать. И в этом ребёнке будет кровь нормандских герцогов и франкских королей.
Глава 10. Реймский пленник
Архиепископ Реймский Адальберон, словно зверь в клетке, метался от стены к стене в своих покоях. Предстоящий суд страшил его. Изгнание — не лёгкая кара; это было позором, провалом его планов. И всё же не самым худшим. Юный король был настолько предубеждён против главы Арденн, что архиепископ не без оснований уже видел свою голову под топором палача. Измена королю и своему народу — такого Людовик простить не мог, не имел права. Покойный Лотарь не раз указывал сыну: этого Иуду необходимо судить, а затем предать казни. Неожиданная смерть короля не спасла Адальберона, а лишь отсрочила приговор. Людовик пошёл по стопам отца, это было ясно; советчики, которых науськивал Герберт, не могли поколебать его решения довести задуманное прежним королём до конца. Даже Гуго, которому умирающий Лотарь завещал довериться, был бессилен что-либо сделать. Говорят, юный монарх теперь подпал под влияние своего дяди, так сообщили шпионы.
Архиепископ остановился, задумался, уставившись в окно. Зачем герцог Лотарингский прибыл в Лан? Казалось, этому легко найти объяснение: смерть брата, и вот он — путь ко двору, к власти, трону... К трону? Узник усмехнулся. Ну, нет, не бывать этому, покуда он ещё жив, покуда не было суда. Но, впрочем, о чём это он? Людовик ведь молод, куда Карлу до трона! Но что если... Кто знает, что на уме у братца Лотаря? Дорогу к престолу нетрудно освободить, способов предостаточно.
Это одна сторона вопроса. Но есть и другая. Быть может, ему милее быть всего лишь дядей любимого племянника, франкского короля? Чем это плохо, хуже самого трона? Карл Лотарингский не столь честолюбив, как иные, об этом архиепископ хорошо знал. Коли так, не золото короны слепило ему глаза и выманило из Брюсселя. Что-то другое. Что именно — он начал догадываться: та же власть, тот же король при живом короле. Только этот неопытен и юн, Карл же умудрён годами и всегда подаст племяннику совет, которому тот, лишённый ласки и любви матери и видящий вокруг себя одних врагов, конечно же, последует. Но вот вопрос, какой совет? Что именно нашёптывает некогда опальный дядя юного монарха своему племяннику? Нет ли злого умысла против него, архиепископа, что подстегнёт Людовика к более решительным действиям и ускорит приговор?
И Адальберон принялся вспоминать, не было ли у них с Карлом вражды. Долго смотрел в окно; тень от деревьев с одной стороны улицы уже переползла на другую, когда он удовлетворённо кивнул. Значит, удара отсюда не будет. И архиепископ с радостью подумал о правильности своей жизненной позиции: жить со всеми в мире, несмотря на антипатии королей.
Оставалось главное: найти контакт с Карлом, прибрать его к рукам, сделать всё, что он захочет, а тем временем направлять его в нужную сторону. Отсюда соответствующее воздействие на юного монарха. И первый такой шаг должно предпринять в отношении смягчения приговора, коли уж нельзя будет обойтись без суда. Главное — остаться в живых, вот что заботило сейчас архиепископа больше всего. И Карл Лотарингский — это его последний козырь, спасительная нить, что поможет сохранить жизнь. Во что бы то ни стало необходимо снискать его дружеское расположение. Но он — архиепископ одного из двух первых городов королевства, дававший благословение королям и совершавший их миропомазание; он — глава влиятельного рода Арденнов, стоявшего в первых рядах защитников империи против франкских смутьянов — он всего лишь узник, а его тюремщик — юнец, плохо понимающий в делах управления королевством. Но Адальберон мечтает отдать Лотарингию германцам — вот что гложет сознание Людовика, затуманенное обещаниями отцу, не дающими покоя мыслями о родовых землях Пипинидов и о столице Карла Великого с его прахом. И никто не напомнит ему, что именно он, Адальберон Реймский, был инициатором церковных реформ во Франкии и всю жизнь трудился над улучшением и очищением церквей, борясь с нравственным упадком монахов и монахинь и укрепляя уровень образования в монастырских школах. Да разве только это?..
Пленник тряхнул головой: не те мысли обуревают, не в то русло потекли. Он снова подумал о Карле Лотарингском. И тотчас нахмурился: что-то долго не видно Герберта. Уж не под стражей ли? Или дал течь канал сообщения, что работал до сих пор? Ах, ему бы выбраться отсюда. Но как?
Дворец строго охранялся. У входа и дверей покоев архиепископа денно и нощно дежурила стража, это было вменено в обязанность городскому старшине. Король запретил всякие посещения, отрезав таким образом пленника от всего мира. Впрочем, тот мог выйти и прогуляться по саду, полюбоваться фонтаном и посидеть на скамейке. Кроме того, Адальберону не возбранялось служить литургии в соборе, где ждала послушная паства. Этим и ограничивалась его свобода. Ему запрещалось выезжать из города, принимать визитёров и наносить визиты самому. И за всеми его действиями неусыпно следили два цербера — кузены графы Эд и Герберт, которых приставил к нему король. К пленнику могли беспрепятственно войти, да и то после досмотра, лишь слуги, дворцовая челядь да соборный клирик со священником. Тем по долгу службы необходимо было общение с его преосвященством.
И ещё один человек мог беспрепятственно войти к Адальберону — его ученик епископ Герберт Орильякский. И это невзирая на строжайший запрет короля. Однако всё зависело от того, сколь набиты были золотом карманы епископа. Увы, алчность всегда затмевает верноподданнические чувства. На этом Герберт и играл. И именно он доставлял бывшему наставнику интересующие того сведения. Он же был посыльным: приносил архиепископу письма от других прелатов, его племянника и обеих императриц, затем доставлял им ответы через своих посланцев.
Архиепископ думал о Герберте и нервничал, ожидая новостей. В том, что они были и исходили от короля, он не сомневался.
И вновь лоб избороздили морщины. Людовик его страшил. Людовик ему мешал. Мешает многим. И империя не поскупилась бы для того, кто избавит её от досадливой занозы. К этой мысли архиепископ возвращался уже не раз. Он пытался гнать её, но она настойчиво, как оса, кружила над ним, заставляя мозг усиленно работать в поисках верного решения.
И Адальберон, весь в плену этой мысли, заворожённо глядя вдаль и уже не отдавая себе отчёта в том, что говорит вслух, пробормотал:
— Что, как это случится?.. Но тогда... только один сможет стать королём.
В это время скрипнула дверь. Архиепископ вздрогнул и порывисто обернулся.
На пороге стоял Герберт.
Они шагнули навстречу друг другу.
— Есть новости? — быстро спросил Адальберон.
— Зачем бы мне иначе тревожить покой вашего преосвященства? — ответил епископ.
— Говори!
— Король Людовик выразил желание заключить мир с империей, он сам мне сказал. Договор будет подписан в Монфокон-ан-Аргонне двадцать пятого мая.
Архиепископ сел на стул, вытер пот со лба.
— Слава богу! Наконец-то всё это закончится.
— Война Каролингов с Людольфингами?
— Моё заточение! Мой позор, епископ, коему подверг меня этот юнец. Но мир!.. Как он мог решиться? Вряд ли у него хватило бы на это ума.
— Ему подали этот совет, и он последовал ему. Советчик — наш добрый гений, незаслуженно обиженный братом, изгнанный и забытый всеми.
— Карл Лотарингский? — сразу же догадался пленник.
В ответ епископ коротко кивнул.
— Так я и знал, — проговорил Адальберон.
— Герцогиня Беатриса приняла деятельное участие в организации переговоров. Впрочем, как всегда. Ей-богу, такого искусного дипломата франки не знали со времён Дагобера...
— Что же руководило Карлом? — перебил архиепископ. — Как думаешь? Зачем лично ему нужен этот мир?
— Вы же знаете, по вине брата он оказался всеми забыт и никому не нужен. Смерть Лотаря развязала ему руки. Теперь он в почёте: ближе дяди у Людовика никого нет, слушает он теперь только его. Но Карл не враг империи. Он прибыл в Лан не для того, чтобы под знамёнами короля идти войной на Оттона. Людовик слаб, ему не свалить этого Голиафа. Карл увидел это и понял, что ни к чему накалять страсти. Да и плохо ли ему нынче? Зачем Лотарингия, если племянник сделал его первым министром королевства.
— Вот даже как, — задумчиво произнёс архиепископ, глядя мимо собеседника и поглаживая ладонью пурпурную скатерть стола. — Что ж, всё, казалось бы, складывается к лучшему, если бы не одно обстоятельство, которого Людовик не учёл, попросту о нём не догадавшись.
— Бесспорно, опыта у юного монарха ещё мало, — ответил на это Герберт. — Да и в каких недобрых намерениях мог бы он заподозрить собственного дядю?
Архиепископ снисходительно посмотрел на гостя.
— Всё очень просто, Герберт, если вспомнить, кем по рождению является герцог Лотарингский.
— Кем же, как не братом покойного Лотаря...
— Королём, епископ! Карл Лотарингский — король, наследующий престол в случае смерти брата! Таков издавна закон у франков: делить королевство меж сыновьями, выделяя каждому равную долю, делая каждого властелином!
— Однако, как мы помним, Людовик Заморский не смог оставить завещания, а Лотарь не пошёл по этому пути, решив всё забрать себе одному. Этим он лишил Карла королевского трона.
— Тщеславный глупец, возомнивший себя единовластным монархом! Вот почему он поторопился короновать Людовика.
— Причина не в этом, ваше преосвященство. Всем известно, что таким образом Лотарь отомстил брату за клевету в адрес его жены.
— Дважды глупец! Ему надлежало изобличить и наказать её, а он обрушился на Карла. Но всем понятно было, что он просто нашёл удобный повод.
— Карлу надлежало держать язык за зубами.
— Сам того не понимая, Лотарь подвёл черту под династией, — отвечая скорее своим мыслям, нежели Герберта, медленно, нажимая на каждое слово, произнёс Адальберон. — С двумя королями пришлось бы потягаться, один же — всего лишь пациент Фортуны.
— Понимаю, Карлу уже не быть королём, но ведь Людовик ещё столь юн, — возразил Герберт, — поэтому стоит ли сгущать краски? Впрочем, — добавил он немного погодя, пристально глядя на наставника, — возможно, вы и правы, ваше преосвященство. Я исхожу из решения, которое Людовик принял в отношении вас.
Архиепископ отвернулся. Взгляд его словно остекленел.
— Он не остынет, даже несмотря на мир. Я знал это, поэтому не жду ничего хорошего. Суд на время отложен, но всё же состоится.
— Да, в Компьене, восемнадцатого мая. Таково решение короля.
Адальберон повернулся: лицо бледное, взгляд потухший:
— Что оно сулит мне, как думаешь, Герберт?
— Он по-прежнему считает вас предателем и настроен весьма решительно. Хорошо, если обойдётся изгнанием. Но я опасаюсь худшего. Замечаю, на меня он тоже косится. Упаси бог, узнает о наших свиданиях, не миновать тогда и мне кары.
— Непременно узнает. Оба графа, мои стражи, желая выслужиться, донесут ему. Ты ходишь по краю обрыва, Герберт, вот-вот сорвёшься. Но к тебе он будет более милостив, если только до этого ты не исчезнешь сам, найдя убежище либо под платьем Феофано, либо под далматикой папы[6].
— Я не покину вас, ваше преосвященство!
— Даже под угрозой топора? — криво усмехнулся Адальберон. — Можешь не отвечать. Человек слаб, самосохранение — его первейший долг.
— Я всё же возлагаю большие надежды на переговоры в Монфоконе. Протянув один другому руку дружбы, вряд ли император и король франков не пойдут при этом на некоторые уступки. Скажем, Оттон закроет глаза на захват Вердена, а Людовик не станет лютовать по отношению к реймскому архиепископу.
— Всё это так, если бы суд не состоялся раньше. И не дороже ли для империи Верден, нежели моя голова?
— Я говорю лишь «предположим»... — слабо возразил епископ.
— Что касается мира, то я в это не верю, — твёрдо сказал Адальберон. — Достаточно знать неуравновешенный характер Людовика, как, впрочем, и его отца. Сегодня для них мир, а завтра снова война. Таковы франки: любят нарушать ими же подписанные договоры.
— Полагаете, соглашение обернётся всего лишь пустым звуком? Эхом в горах или усыпляющим воем сирен?
— Верь мне, Герберт, этот мир будет шит белыми нитками, пока... — архиепископ замолчал, сжал губы, сощурил глаза.
— Пока что? — осторожно спросил наперсник.
Адальберон кольнул взглядом и склонился ближе, тихо выдавив сквозь тонкие губы:
— Пока не исчезнет один из двоих, подписавших этот договор. Ты понимаешь, о ком я.
Герберт отшатнулся, глаза его округлились. Дрожащим голосом он пробормотал, не сводя взгляда с наставника:
— Но ведь это означает... Дьявол забери мою душу... — Герберт, поперхнувшись, осенил себя крестом. — Ведь он последний! Другого Каролинга нет!
— Только так мы сможем уберечь наши с тобой головы от безжалостного приговора Немезиды, — жёстко ответил архиепископ. — Дело зашло слишком далеко, ты не можешь этого не понимать.
— А его дядя? — вспомнил Герберт. — Ведь именно ему будет на руку это... — он запнулся, подбирая слово, — этот переворот! Кто как не он сядет на трон? Ведь его провозгласили королём! Это было в Лане во время ответной акции Оттона на поход Лотаря.
— Провозгласить — не значит помазать, — назидательно молвил Адальберон. И добавил: — Карл Лотарингский никогда не станет королём.
— Значит, и он тоже... наш враг?
— Напротив, первый друг! Именно с его помощью надлежит устранить Людовика.
— Но ведь тот — его племянник, причём любимый! Как же Карл сможет пойти на такое?
— Дорога к трону испокон веков застила глаза и не таким, как герцог Лотарингский. Надо пообещать ему корону, тем более, что первые шаги к этому уже были сделаны.
— Но ведь вы сами говорили, что ему не быть королём.
— Я же сказал — только пообещать. Однако действовать надо тонко, чтобы не наломать дров. Прощупать его, обнюхать со всех сторон, узнать, чем он дышит, — вот отныне твоя задача, Герберт. Посули ему одобрение и защиту папы и империи, а также всё, о чём он попросит.
Посулы твои всё одно унесёт ветер. И помни, времени у тебя в обрез: до суда уже недолго осталось.
— Но что, как он мыслит иначе? И не удастся мне нащупать нужную жилу?
— Тогда сам принимайся за дело. Помощников у тебя будет предостаточно: епископы Ланский, Льежский, Рейнский, Камбре, мой брат, племянник... назвать ещё? И торопись, Герберт, не медли.
— Однако как же всё это устроить? — терялся в догадках Герберт. — Людовик никуда не выходит из дворца, а охраняет его сам Геркулес!
— Это ещё кто?
— Гигант из Нормандии, сын герцога Ричарда. Ловок, как Гермес, и силён, как Антей. Ударом кулака пробивает дыру в заборе.
— Неожиданное препятствие, — озадаченно протянул архиепископ. — Выходит, к Людовику не подобраться.
— Можно, конечно, поразить этого Голиафа стрелой... — неуверенно проговорил Герберт, — да он всегда в кольчуге, поверх неё панцирь. Так доложили мне верные слуги. К тому же одному богу известно, сколько стрел надо для этакой громады...
— Ни одной! — остановил его жестом и властным взглядом Адальберон. — В своём ли ты уме, епископ? Не хватало нам войны с норманнами! За убийство сына Ричард уничтожит всё королевство заодно с империей, коли та воспротивится, а нас с тобой порубят на куски и скормят собакам.
— Ужели викинги столь сильны, сколь о них говорят?
— Герцогу стоит только бросить клич, как все скандинавские племена, включая сюда датчан и шведов, лавиной обрушатся на Франкию. Думаешь, напрасно король Карл в 911 году заключил с Роллоном мирный договор и отдал ему в жёны свою дочь? Сын же Карла Людовик провозгласил независимость Нормандии, а Лотарь, пробовавший было покорить викингов, в 969 году вынужден был подписать с ними мирный договор. Или ты забыл об этом, епископ?
— Но что же тогда предпринять? — проговорил Герберт. — Я теряюсь в догадках. Как успеть за такой короткий срок?..
— Людовик, как и все короли, любит охоту, — подсказал Адальберон. — Помнишь об этом?
— Причём страстно любит! — сразу же ухватился за эту мысль верный ученик. — Охота — весёлое занятие, но оно же и опасное. Всякое возможно: один может провалиться в болото, другого смертельно ранит загнанный зверь, в третьего угодит по ошибке пущенная кем-то стрела...
— Я вижу, к тебе возвращается сметливость, — сказал Адальберон. — Это будет уже не первый король, кто падёт жертвой своей страсти. Подай Людовику мысль об охоте накануне суда, коли не выйдет с Карлом. Что до остального, то не мне тебя учить, как устроить несчастный случай, да ты и сам только что предложил варианты. А людей у тебя хватит, в крайнем случае, переодень монахов. Но не забудь прикончить их, как только...
— Об этом я уже догадался, — остановил архиепископа Герберт, подняв ладонь.
— Вот и хорошо, — зловеще улыбаясь, ответил Адальберон. — Посоветуйся, с кем нужно. Продумайте, как лучше всё устроить. И сразу же — ко мне, с радостной вестью. Но предупреждаю: никакого насилия, иначе вместо тела короля земле предадут наши с тобой обезглавленные трупы.
— А дальше? — угрюмо покосился на собеседника епископ. — Что будет с королевством, вот вопрос! Кто сядет на трон?
— А ты ещё не догадался? — сощурил глаза архиепископ. — Я считал тебя более прозорливым. Не хмурь лоб, я помогу тебе. Кто самый могущественный во Франкии, сильнее Людовика? Кто не пойдёт войной на Оттона, а, напротив, постарается установить мир с империей? Наконец, кому нечего делать в Лотарингии, потому что его земли западнее Лана, а его город — Париж?
— Герцог Гуго! — воскликнул Герберт и впился глазами в непроницаемое лицо архиепископа.
Адальберон тяжело поднялся, медленно прошёл по комнате, стал у окна и, скрестив руки на груди, задумчиво уставился вдаль на пламенеющие в закате верхушки сосен далёкого Санлисского леса.
— Думается, однако, он слишком робок для этого, — послышался голос собеседника за его спиной.
— Нет! — твёрдо ответил архиепископ. — Просто чересчур осторожен. Он оспорит корону у Карла Лотарингского, коли к тому зайдёт дело, и отымет её... но у законного, коронованного монарха — никогда.
И спустя некоторое время, в течение которого Герберт напряжённо ждал последнего слова мудрого наставника, тяжело и зловеще прозвучал в тишине глухой голос Адальберона:
— Он не желает быть королём. Зато другие этого хотят.
Глава 11. В бесплодной надежде
Первым, кто увидел обоих всадников, подъезжающих к Лану по Реймской дороге, была Вия. С самого первого дня их встречи у ворот нормандец запал ей в душу, да так, что не выходил у неё из головы. С этого дня она, не переставая себе удивляться, думала о нём даже тогда, когда читала королю Гомера и Вергилия, пела ему старинные песни франков и когда, лёжа в постели, заворожённо глядела на холодный диск луны, висящий высоко в небе. Конечно же, она понимала, что не пара Можеру. Кто она? — всего лишь бедная танцовщица и певунья, ни отца, ни матери. А он — сиятельный граф, сын герцога Ричарда! Ему ли думать о ней? Верно, лишь графини да принцессы окружают его, такого сильного, смелого и знатного. Но что они все могут сделать для него, чем заслужить его любовь: знатным происхождением, кокетством, богатством, да тем, что сами вешаются ему на шею? Нормандцу всего этого не нужно, она поняла это сразу, не закончился ещё и тот первый день. Он из той породы, которая оценит лишь жертву. Именно! — так решила Вия, мысленно беседуя сама с собой. Но какую? Что может она подарить ему? Причём такое, что затмило бы всех этих разряженных аристократок и заставило бы его понять, что десяток, сотня их сердец не стоит и одного, того, что бьётся в груди обыкновенной девчонки, играющей на ротте.
Мысль эта не давала ей покоя. Едва уйдя, не воплощённая ни во что, она вновь возвращалась, начиная подсказывать то один, то другой вариант. Но ничто не годилось, и мысль снова исчезала, чтобы через мгновение вернуться опять и в который уже раз предложить одно единственное и, как ни отбивалась от этого Вия, самое верное — объясниться в любви. Вот её жертва ему! И тут же она вздрагивала, представляя себя на самой низшей ступени, стоя по щиколотку в грязи, и его, стоящего неизмеримо высоко над нею, над людьми её круга.
Она боялась его непонимания, страшилась насмешки, едва произнесёт заветное слово. Это пугало её, заставляло стыдливо краснеть, сковывало уста, всю её саму. И всё же она сделает это, пусть даже он рассмеётся ей в лицо. Больше пытать саму себя у неё не было сил. Наверное, так будет лучше. Пусть скажет, что плевать ему на неё, — это будет честно с его стороны и охладит её сердце. Не будь этого, оно так и будет пылать, пока не сгорит дотла. А позор — что ж, она стерпит его, мало ли в жизни она видела этого? Зато не стыдно самой: в графа влюбилась! Не сразу: день прошёл, за ним другой, потом он уехал, и она начала считать дни... Много насчитала, пальцев на руках не стало хватать. И вот теперь, стоя у окна и глядя вдаль на дорогу, по которой он должен вернуться, она решила, что, как только они встретятся, скажет ему обо всём. Случай сам просится в руки, когда ещё представится другой?
С улыбкой думая об этом, Вия, тем не менее, спрашивала себя, имеет ли она право? Чем заслужила такую вольность? Оправданно ли будет такое её поведение? Ведь он ничем не выказал ей своих чувств. Да и не зарождались они. Она видела это и всё же не сводила с него глаз с того самого дня, когда они встретились у дороги... Но взгляды её были безответны. И улыбка медленно, словно укусившая уже змея, сползала с губ, а вместо неё меж бровей — вертикальные складки.
Наконец наступил долгожданный миг. Вия затрепетала. Ноги сделались вдруг будто ватными, её качнуло. Но надо взять себя в руки и скорее бежать вниз. Он должен увидеть её первой среди всех и понять, как она его ждала.
И она помчалась по коридору, потом по лестнице, мимо колонн — и вот она уже у дверей. И вдруг шаги за её спиной — по той же дороге, где шла она. Неторопливые, тяжёлые. А рядом ещё чьи-то. Вот ведь нелёгкая кого-то несёт. А ей надо, чтобы поблизости никого, только он и она.
Тряхнув головой, Вия раскрыла двери и выбежала во двор. Нормандец уже спешился и отдавал поводья слуге, как вдруг, повернувшись, увидел её.
— Вот ты и вернулся, — произнесла Вия, несмело глядя на него. — Мне показалось, тебя не было целую вечность...
— Какого чёрта ты здесь делаешь? — грубо оборвал её Можер. — Разве я приказывал тебе ждать меня?
— Нет, но я... Ведь ты уехал, не попрощавшись, и я подумала, что ты, наверное, забыл обо мне.
— Забыл? С чего ты это взяла? Не попрощался — и всё тут. Не на войну же я отправился!
— Это так, но ты мог хотя бы... — запиналась Вия. — Мне было плохо без тебя.
— Ещё чего! Ей было плохо! — усмехнулся нормандец. — Мне-то что до этого? И вообще, чего ты вздумала распускать сопли? Ты потомок Пипинидов, разве они такие?
Вия вздрогнула. В её душе тотчас произошёл перелом; чувство обиды от растоптанной любви вмиг поглотило её. Кровь бросилась ей в лицо, закипело в душе возмущение и глаза гневно сверкнули. Почему он с ней так?
— А ты — норманн! — зло ответила она. — Есть ли у тебя сердце, коли не имеешь глаз? Вы все там такие?
— Какие? — нахмурился Можер.
— Без души, без чувств! — почти выкрикнула она.
— Эй, Можер, чего ты там застрял? — послышался голос Карла Лотарингского. — Идём скорее, нас ждёт король!
Нормандец поспешил на зов. Но неожиданно обернулся. Вия стояла там же, где он оставил её, и, опустив голову, глядела себе под ноги. Хмыкнув, Можер догнал Карла, и они стали подниматься по лестнице.
Вдруг оба остановились. Перед ними стоял знатный франк в красной тунике и лиловом плаще с золотой застёжкой на груди. Голову его покрывала овальная шляпа с невысокой тульёй, лицо от висков до подбородка обрамляла окладистая борода цвета сосновой коры.
— Можер! — радостно воскликнул этот человек, раскрывая объятия. — Мальчик мой! Вот мы и встретились.
— Герцог Гуго! — обрадовался нормандец, обнимая его. — Вы, значит, вернулись? Король говорил, будто неладно что-то в ваших владениях, вилланы подняли бунт, так?
— Пустяки. Слухи, как всегда, раздуты. Но вот и герцог Лотарингский с тобой. — Гуго повернулся к Карлу. — Король мне все уши прожужжал о своём дяде: сетовал, что не приехал раньше, скажем, полгода назад.
— Нелегко было решиться на это, — уклончиво ответил Карл. — Не мне вам объяснять причины. Но теперь всё позади.
— Я рад, что вы решились приехать, Карл. Теперь Людовик почувствует поддержку и станет увереннее в словах и поступках.
— Вы говорите так, сознательно умаляя значение своей особы при юном короле? Известно ведь, что Лотарь, умирая, указал сыну на вас как на единственную опору.
— Людовик молод и вспыльчив, его решения не всегда согласованы с моими, — ответил герцог франков. — Нынче же он станет прислушиваться к советам старших, один из которых его дядя, другой — сын Гуго Великого.
— Советы эти, надо полагать, будут направлены единственно на процветание и независимость великой франкской державы, а также на благосостояние матери нашей святой Римской церкви?
— Безусловно, герцог, — улыбнулся Гуго, — коли два таких мудрых мужа смогут прийти к взаимному согласию во всех вопросах, касающихся этого.
— Не сомневаюсь в единстве наших целей, — также с улыбкой ответил Карл.
— Однако что же мы стоим, — спохватился Гуго, — идёмте скорее, друзья мои, королю уже доложили о вашем прибытии, и он с нетерпением ждёт вас. Как здоровье отца? — спросил он у Можера, когда они втроём направились по освещённому факелами коридору к покоям Людовика. — Когда я навещал его с пару месяцев назад, он жаловался на лихорадку.
— Некая знахарка помогла ему избавиться от этого недуга, — отвечал нормандец. — Она натирала его мазью из ивовой коры и готовила настои из цветков полыни. Кроме того, он весь теперь увешан агатом, даже рубины убрал из перстней. Старуха уверяла, будто именно это станет хранить его в дальнейшем от такой напасти.
— Что ж, не вижу причин не верить этому, — отозвался Гуго. — Один мой родственник одно время долго страдал от запоров, но после того, как некая целительница указала ему на укроп как на единственное верное средство, он забыл о своём недуге и возрадовался жизни.
— Воистину чудеса творят эти старухи. Иным придворным лекарям не мешало бы поучиться у них.
— Помнишь, как мы с тобой во время охоты у вас в Нормандии чуть не затоптали копытами лошадей одну такую знахарку? — засмеялся Гуго. — Твой отец тогда ещё накричал на нас.
— Вздумалось же ей оказаться на нашем пути, да ещё и в ложбине, где дальше носа не видно. Правда, она была моложе той, что с лихорадкой, однако тоже собирала какие-то травы.
— Ах, Можер, неплохо бы и мне иметь такую же, — вздохнул Гуго. — Возраст уже немал, иной раз в груди кольнёт или заноет рука.
— Вы герцог франков, вам стоит только шевельнуть плечом, как тысячи старух со своими травами и корешками сочтут за счастье врачевать вас.
— Совсем недавно я обмолвился об этом с королём, и он порекомендовал мне некую юную плясунью, говоря, что она в травах знает толк. Её зовут Вия, ты подобрал её у ворот. Людовик сказал, она сохнет по тебе.
Можер остановился. И только что произошедшая между ним и Вией сцена отчётливо встала у него перед глазами. Он вспомнил, что был груб с ней, и нахмурился. Подумал, что обидел её, и переступил с ноги на ногу. Увидел вновь, как она стояла одна, в пыли, отверженная им, глядя на следы от его сапог, — и в задумчивости потёр рукою подбородок.
Гуго переглянулся с Карлом, потом взял Можера под руку, увлекая за собой.
— Знай, мальчик мой, — сказал он ему, — не всё то золото, что блестит. Внимательно вглядевшись, ты в куче навоза можешь найти настоящее сокровище. Оно не на одежде, не на короне и гербе, оно там, где у человека душа и где бьётся его чистое сердце.
— Ерунда, — ухмыльнулся нормандец. — Я не ищу никакого сокровища, оно мне не нужно.
— Оно нужно всем и каждый его ищет, но человек порою и сам не знает, что топчет золото собственной ногой.
Можер повернулся и уже хотел ответить, но тут они остановились. Перед ними были двери королевских покоев.
Глава 12. Мудрый опекун
Король был не один. У очага, протянув руки к огню, стояла женщина в тёмно-красной узорчатой мантии, отороченной золотом и мехом и с застёжкой на груди из драгоценных камней. Русые волосы её свободно спадали до плеч, голову венчала корона с убрусом. Глаза цвета бирюзы под овальными дугами бровей в раздумье смотрели на огонь, в них время от времени отражались отблески пламени; нос у неё узкий, ровный; алые губы сомкнуты, глядя на них, ловишь себя на мысли, что раскрываются они лишь тогда, когда есть что сказать. Вот женщина шевельнулась, переступив с ноги на ногу, потёрла ладонями, приблизив руки к груди, и, глубоко вздохнув, снова протянула их к огню.
Едва все трое вошли в комнату, она обернулась. Губы тотчас сложились в лёгкую улыбку, в глазах засветился неподдельный интерес. Они скользнули по фигуре герцога, чуть дольше задержались на Карле Лотарингском и остановились, широко раскрывшись, на нормандце. Теперь им была работа. Никуда не торопясь, они принялись изучать гостя.
— Слава Господу, вот и вы, дядя! — воскликнул Людовик, вставая из-за стола и шагая навстречу. — Я прямо-таки заждался вас. Ну вот, матушка, — он повернулся к женщине, — я же говорил, что они очень скоро вернутся.
Королева-мать лёгкой, грациозной поступью шагнула от камина, подошла совсем близко и протянула руку для поцелуя Карлу Лотарингскому.
— Я рада, что ваша миссия увенчалась успехом, герцог, — сказала она приятным голосом, — а также тому, что вы теперь с нами: со мной, вашей невесткой, и своим племянником.
— Ваше величество, как вы догадались? — вскинул брови Карл. — Ведь я не произнёс ещё ни единого слова о поездке. Что, если Беатриса Лотарингская отказалась вести переговоры?
— Тогда это было бы написано у вас на лице, Карл. Иной, возможно, и вызвал бы у меня сомнения, но вы мой деверь, и я давно научилась читать по вашему лицу.
Вам придётся отныне надевать маску непроницаемости, Карл, — рассмеялся Гуго. — В противном случае вы всегда окажетесь обезоруженным как перед собеседником, так и в глазах женщин. Отличный пример для подражания — викинги. Взгляните на Можера — ни один мускул не дрогнет на его лице. Бьюсь об заклад, радость или горе — ни единым жестом норманн не выкажет этого.
— Кажется, речь идёт о нашем госте? — Эмма приблизилась к нормандцу.
Можер вздрогнул. Впервые столь обаятельная женщина, да к тому же королева, стояла так близко к нему. И никогда ещё такие красивые глаза с интересом не разглядывали его. Он потянул носом воздух: от неё пахло ландышем и сиренью.
— Сын мой, что же ты не представишь мне нашего Голиафа? — спросила Эмма, не оборачиваясь. — О нём столько говорят, превознося его силу и стать, что это не может не вызвать интереса у женщины.
— Матушка, это Можер, о котором я вам говорил, — отозвался Людовик. — Он сын Ричарда Нормандского.
— И мой родственник, — вставил герцог Гуго.
— В самом деле? — поглядела на него королева-мать. — Кто же он вам?
— Сын шурина и двоюродный племянник моей жены.
— Вот даже как? — протянула королева и с улыбкой вновь повернулась к нормандцу. — Я рада, граф, что вы теперь будете жить у нас. Король рассказал мне о вашей встрече с Карлом Лотарингским у границы с Вермандуа. Скажите, — она ещё ярче заулыбалась, слепя белизной зубов, — вы и в самом деле свалили лошадь герцога вместе с ним самим?
— Государыня, поверьте, если бы я знал, что передо мною брат короля, я никогда не решился бы на такое, — ответил Можер.
— Но как же это можно? Ведь для этого надо обладать силой Геркулеса.
— Пустяки. Вы не поверите, ваше величество, но я проделал это всего лишь одной рукой.
— Неужели? — и Эмма звонко рассмеялась. — Ну а если двумя? Вероятно, тогда вы подняли бы лошадь вместе со всадником и забросили в ближайшие кусты?
— Признаюсь, именно такое желание и возникло у меня поначалу.
— Что же вас остановило?
— Только то, что мне пришлось бы при этом покалечить бедное животное. А ведь мне так нужен был конь!
Присутствующие дружно рассмеялись. Королева же лишь цвела улыбкой, источая глазами безграничное любопытство, смешанное с восхищением.
Можер не знал уже, куда от неё прятать взгляд. Ему казалось, что Эмма буквально пожирает его глазами, и он молил бога, чтобы кто-нибудь разрядил обстановку, сказав что-либо, не относящееся лично к нему. Вероятно, уловив это желание в его взгляде, королева-мать сама пришла ему на помощь:
— У нас с вами ещё будет время побеседовать, не так ли?
Вы расскажете о вашей родине, вашем дворе и славном отце герцоге Ричарде, с которым мой сын и герцог франков большие друзья.
Можер, едва наклонив голову, прижал руку к груди.
— Теперь вы, — королева обратила взгляд на Карла Лотарингского. — Расскажите нам о вашем путешествии. Если забудете что-то, ваш спутник поможет вам вспомнить, — она улыбнулась нормандцу. — Но давайте присядем, не стоять же нам всё время. Диван достаточно широк.
Они уселись все вчетвером (в те времена это ни у кого не вызывало удивления), и герцог поведал о том, как прошло путешествие и чем закончилась их миссия.
По окончании рассказа королева-мать поднялась с места, за ней остальные.
— Что ж, всё к лучшему, не правда ли, сын мой? — Эмма, попытавшись искренне улыбнуться, бросила взгляд на Людовика. Однако улыбка получилась жалкой. Слишком хорошо помнила ещё королева-мать гнев юного короля, когда тот обрушился на неё, уличив в близких отношениях с императорским двором и подозревая в любовной связи с епископом Асцелином. И это при живом-то муже! Изгнанная, она нашла приют у Гуго. Тот, узнав о предстоящих мирных переговорах от сестры, сразу же отправившей к нему гонца, немедленно примирил мать с сыном. Примирение состоялось, но на лицах участников обеих сторон всё ещё читалась недавняя вражда.
— Во всяком случае, не ваша в этом заслуга, — дерзко бросил матери в лицо Людовик. — Улыбнитесь лучше вашему деверю. «И герцогине Беатрисе» — добавил бы он, но не знал, что нити инициативы исходят от неё.
Лицо Эммы пошло пятнами. Она попыталась спрятать от всех — в любом направлении — свои глаза. На помощь ей пришёл Карл.
— Не сердитесь на короля, государыня, — проговорил он, подходя к ней, чтобы перехватить её взгляд и заставить улыбнуться естественнее. — Всему виной наша давнишняя вражда с Германией. Брат продолжил дело нашего отца; ничего удивительного, что сын пошёл по тому же пути. — Он повернулся к Людовику. — Будь я на его месте, поступил бы так же. Предать дело отца — это ли не низость, не позор для франка?
— Благодарю вас, дядя, — растроганно проговорил юный король, — кажется, вы один понимаете меня и целиком на моей стороне.
— Однако времена меняются, и то, что годилось совсем недавно, сегодня способно вызвать лишь недоумение, — и Карл выразительно посмотрел на герцога франков.
— Его величество прекрасно понимает это, — с лёгким поворотом головы в сторону Людовика продолжил за Карла Гуго. — Руководствуясь наставлениями мудрого советника, — он бросил взгляд на Карла, — а также сообразуясь с мнениями знатных людей королевства, он будет проводить мирную политику, направленную на благо и процветание Франкии.
— Смею надеяться также, что он будет впредь слушать свою мать, почитать её и любить как прежде, — добавила Эмма, пользуясь случаем.
Людовик поморщился. Потом хмуро поглядел на всех из-под бровей и пробурчал:
— Кажется, в дальнейшем я буду править, сообразуясь с мнением нынешнего триумвирата? Но я король, — повысил он голос, — и должен всё решать сам!
— На то вы и правитель, помазанник божий, — успокоил его Гуго. — Наша же роль сводится лишь к исполнению ваших указов и помощи мудрым советом, коли явится тому необходимость.
— Так вот, я решил казнить Адальберона в назидание другим, дабы не смели идти против воли короля. Что скажете на это? Я спрашиваю вас троих, нормандец не в счёт.
Никто не проронил ни звука. Однако украдкой все трое переглянулись. Эмма не смела подать голос, боясь обострения и без того не слишком тёплых отношений с сыном. Карл молчал, помня о своём пока ещё не сильном влиянии на племянника и о первом их разговоре, когда уже велась об этом речь. Оставался Гуго. Он и попробовал возразить:
— Адальберон — архиепископ, влиятельнейшее лицо в королевстве, и на его измену вашему отцу можно было бы закрыть глаза, помня о его былых заслугах во славу Церкви и государства. Казнь столь сильной фигуры, которой благоволит Рим, может взбудоражить умы и вызвать недовольство папы, что приведёт к бунту Церкви против вас, государь.
— Ах, так! — король в ярости топнул ногой. — Тогда к чёрту это мирное соглашение, раз вы сразу суете мне палки в колеса! Выбирайте: либо Адальберон, либо империя! Или я срублю ему голову, или миру не быть!
Это было одно из проявлений вспыльчивого характера Людовика. Молодость толкала его на это, хотя по натуре он был слабым, неспособным, тщательно всё взвесив, прийти к мудрому решению. Всё это понимали, как и то, что возразить — значило обострить отношения с юным монархом.
— Ну! Что же вы молчите, герцог? Отвечайте! — потребовал король.
И Гуго ответил:
— Королевству не нужны больше войны, франки устали убивать соседей, не зная за что. Полагаю, в Германии думают так же. Довольно проливать безвинную кровь наших солдат, без того уж земля пропитана ею, и женщины не успевают рожать будущих воинов. Нам ничего не нужно, у нас хватает своих земель. Империя же хочет, чтобы франки оставили её в покое, сама не претендуя ни на что. Власть её и без того слабеет. Она обескровлена итальянскими походами и уже не имеет сил для борьбы со славянскими племенами на востоке. В этих условиях полагаю, что не ошибусь, выразив общее мнение. Надеюсь, оно отвечает и вашим стремлениям, государь, как единого короля франков: быть миру меж нашими державами!
— А Адальберон? — сощурил глаза Людовик.
— Судьбу мятежника определит суд в Компьене, который состоится, согласно вашему желанию, в воскресенье двадцать седьмого марта.
Король подошёл к Гуго и вперил в него немигающий взгляд. Его гнев прошёл, это было видно.
— Благодарю, герцог, — сказал он. — Недаром мой отец рекомендовал мне вас как мудрого наставника. Я сделаю так, как вы сказали. Войн больше не будет.
— Я не сомневался, что ваше величество правильно меня поймёт, — с поклоном ответил Гуго.
— До суда осталось несколько дней, и мне хотелось бы развлечься, — объявил король. — Ко мне приходил Герберт, предложил поохотиться. Мы выезжаем завтра же! Герцог и вы, дядя, отдайте необходимые распоряжения. Пусть доезжачие, егеря и псари будут готовы. Можер, ты будешь рядом со мной, посмотришь, как метко я пускаю стрелы и бросаю копьё!
— С удовольствием приму участие в этом развлечении, государь, — ответил сын Ричарда. — Отец страстный любитель охоты, мне ли не быть похожим на него?
— Вот и превосходно! А сейчас все свободны. Кстати, дядя, вы с Можером можете сходить на конюшни: на днях доставили новых скакунов. Я говорю это, зная вас обоих как знатоков лошадей.
— Чёрт возьми, милее занятия и придумать нельзя, клянусь мечом Роллона! — воскликнул нормандец.
— Потом приди, я что-то тебе скажу, — добавил Людовик.
Можер кивнул, и они с Карлом первыми покинули кабинет короля.
И не видел нормандец, каким взглядом, полным томления, провожала его до самых дверей королева-мать.
Глава 13. Вестник смерти из Санлисского леса
Расстроенная и подавленная, Вия развернулась и побрела по двору, сама не зная куда, вся во власти оскорблённых чувств. То, что ей представлялось простым, оказалось невыполнимым: тот, кого она любила, презирал её. Было от чего прийти в отчаяние. Подойди кто к ней с утешением, она огрызнулась бы, спроси её о чём-то — она не знала бы, что ответить.
С ней здоровались, пробовали вести беседу; иные, уступая дорогу, наклоняли голову, уже зная в лицо королевскую фаворитку. Она вяло отвечала на приветствия, говорила невпопад и не обращала внимания на встречных.
Любовь впервые зародилась в её душе, доселе она не испытывала к мужчинам ничего, кроме мимолётного интереса или безразличия, а порою ненависти или насмешки. Ничто из этого к нормандцу было неприменимо. Здесь крылось другое. Она знала, что это, понимала своим женским существом и решила сгоряча, что коли так, значит, влюблены и в неё. А разве может быть иначе? Ведь она любит, неужели не понятно? Почему же он ей нагрубил, насмеялся и ушёл? За что он растоптал то нежное и незабвенное, что впервые родилось в ней? Ведь так можно и убить!.. Не её саму, но то, что пришло к ней наконец и чего она так долго и бессознательно ждала...
Она прошла мимо прачечных, и оттуда повеяло теплом, мылом и свежим бельём. Дальше — псарня, оттуда бесконечно доносится лай. За ней конюшня, длинная, потом поворачивает под углом, — и снова стойла.
Вия остановилась. Меж парапетом и кучей сена стоял конюх и перебирал в руках вожжи. Поглядел на неё.
— Что ходишь, как неприкаянная, Вия?
— Сама не знаю, Гийом, — пожала она плечами в ответ. — Дошла сюда и вдруг — ни с места... будто ноги сковало.
— Ноги, говоришь? — усмехнулся Гийом, бросив взгляд в ту сторону, откуда Вия пришла. Потом покачал головой. — Только я-то знаю, отчего ты застыла.
У неё ёкнуло сердце. Неужто всё видел? Она оглянулась: ещё бы, до ворот всё просматривается как на ладони.
Она исподлобья взглянула на конюха. Тот вытирал сеном руки и вполне дружелюбно, без насмешки, глядел на неё.
— Знаешь, что я тебе предложу? — неожиданно сказал он. — Хорошую прогулку, вот что!
Вия встрепенулась. А что, если и вправду? Отдавшись ветру и коню, разогнать мысли, лететь бог знает куда, глядеть вперёд, дышать полной грудью... и не думать об этом!
— Садись-ка на Баярда и поезжай, — проговорил Гийом и, видя улыбку в ответ, скрылся в конюшне, потом вывел из стойла коня. — Самый быстрый, быстрее нет! — и похлопал лошадь по загривку. Потом перевёл взгляд на Вию: — Э-э, да у тебя одежда-то явно не для прогулки: туника, платье поверх... Как же ты?..
— Ничего, — бодро ответила Вия и, вскочив в седло, взяла в руки поводья.
— Смотри-ка, справно сидишь, — довольно улыбнулся конюх. — Похоже, не впервой тебе.
— Да уж не впервой.
— Что ж, тогда поезжай, — хлопнул Гийом ладонью по крупу коня. И вдруг добавил, взявшись за узду: — А на него не сердись. Нам, мужикам, иной раз на дороге не вставай: своё на уме, не до баб. Хорошо ещё не угодила под горячую руку, лежала бы сейчас в одной из канав, что поблизости. А вообще, если хочешь, скажу тебе: оставь ты, пустое это всё у тебя. Он, видишь, какой вельможа — норманн, сиятельный граф, земля под ним дрожит! А ты — только что с виду, а так беднячка...
Вопль отчаяния вырвался у Вии, как ни держалась. Рванула поводья, пятки — коню в бока, и с места карьером понеслась к воротам. Издали завидел стражник, поспешил открыть. И вовремя: лишь створка распахнулась, вихрем промчалась мимо всадница на коне, и зацокали дробно копыта по дороге, ведущей к Санлисскому лесу...
Сколько она уже мчалась, лишь богу известно. Мелькали мимо деревья, кусты, поляны и снова деревья, а конь всё летел, сам выбирая дорогу. Наконец Вия опомнилась, натянула поводья. Баярд сразу же, будто давно этого ждал, пошёл шагом — всхрапывая, раздувая бока. Всадница пожалела его, погладила по холке, зашептала что-то, склоняясь. Конь слушал и, изредка встряхивая головой снизу вверх, прядал ушами.
Так они медленно продвигались вглубь леса по тропе, пока она не кончилась. Впереди светлела в лучах заходящего солнца поляна, за нею уходила вдаль под углом широкая просека. И оттуда, издалека, куда путь устилали лежащие на земле великаны-дубы и мачтовые сосны, послышался шум, будто рубили топором дерево.
Не зная, куда и зачем ехать дальше, Вия повернула коня на петляющую средь высокого кустарника новую тропу, и Баярд послушно пошёл туда, где стучали сначала один, теперь уже два топора.
Два человека в куртках, шапках и башмаках из кожи при появлении девчонки верхом на коне лишь мельком взглянули на неё, продолжая свою работу. Она залюбовалась, глядя, как топоры один за другим, будто рычаги какого-то диковинного механизма, ритмично вгрызаются в ствол и как щепки от него, похожие на лепестки огромного белого цветка, разлетаются вокруг, устилая собою холодную землю с прошлогодней листвой.
Наконец дерево жалобно заскрипело, затрещало в том месте, где рубили, и, цепляясь ветвями за соседние, ломая те и свои, тяжело и с шумом рухнуло туда, куда, видимо, и наметили лесорубы. Поглядев на него и удовлетворённо кивнув, оба, воткнув топоры в пень, шумно передохнули, сняли шапки, утёрлись ими и только тогда повернулись к Вие.
— Что, красавица, испугалась? — усмехнулся один. — Конь твой так шарахнулся, думали, унесёт тебя отсюда.
— Не каждый день перед ним деревья падают, — ответила Вия, оставаясь в седле. — И ты дрогнешь, коли рядом с тобой рухнет башня.
— А сама? Гляжу — и ухом не повела. Да, похоже, ты и небарского покроя.
— Угадал. Доводилось мне бывать на лесоповале. Сам мог бы догадаться: стояли мы с конём в стороне, знала я, куда дерево упадёт. Туда и упало.
Оба лесоруба засмеялись.
— А чего ты забрела сюда? — спросил другой. — Ищешь кого?
— Никого не ищу, — повела бровью Вия. — Ехала себе вперёд, не зная куда, не разбирая дороги. Да вот услышала топоры.
— Заплутала, значит, потому и подъехала? А коли не мы, что бы стала делать?
— А ничего. Отпущу поводья — конь сам отвезёт домой. Он умный.
— Откуда же ты?
— Из Лана. В королевском дворце живу.
— Ого! Далековато... Кто ж ты во дворце: прачка или кухарка? Может, швея? Шьёшь господам простыни да одежду?
— При короле я. Стихи ему читаю, песни пою. Играем с ним в кольца, ходим рыбу ловить.
— Смотри-ка, — почесал в затылке один, — при короле... Не шутка. Только мы с Жаном тоже при короле. Для него деревья валим. Для войны, для построек.
— И для того, чтобы королю тепло было в его дворце, — со смехом добавил Жан. — Дрова-то, что горят у него в печи, из этого леса. Вот обрубим с Арно ветки да сучья — и во дворец королю с епископом. Такая у нас, девонька, работа. И ослушаться нельзя, сам герцог франков приказал, ему подчиняемся. Все подчиняются, на то он и главный над всеми.
— Над кем это «всеми»? — заинтересовалась Вия. — И над королём тоже?
— А то как же! Сидит себе король, воюет да указы подписывает. А за всем доглядывает герцог, хоть и земли его, говорят, не близко отсюда.
— Не обижает ли? — спросила Вия. — Кормит? В достатке живете?
— Хороший герцог, — улыбнулся Арно, — не злой, добрый человек. Не гордец, поговорить с тобою может. Не то что епископ: земли огромные, и без конца поборы с народа, и всё ему, во дворец. А чуть не по его — так плетьми, а то и того хуже. Хоть бы герцог, что ли, сказал ему.
— Как же, скажет, — отозвался Жан. — Говорю же, не его здесь земли. И лес тоже. Только там, в Санлисе, где его город, лес принадлежит ему, да и то часть.
— А тебе откуда знать?
— Так говорят. А ты что скажешь, красавица? Слезай с коня-то, не бойся, не тронем ведь, или мы разбойники какие?
— Ты, верно, есть хочешь? — спросил Арно. — Ведь вон как далеко отмахала от Лана. Здесь, почитай, никто не бывает, лишь король иногда выезжает на охоту.
— Что же, тут и охотится? В этом лесу? — спешиваясь, спросила Вия.
— А то где же? Здесь удобно: и не очень далеко, и дичи хватает, да и зверя тоже: кабан, лисица. За оленем, правда, едут много дальше, там его тропы.
— А вода у вас есть? — спросила Вия, подходя к лесорубам. — Я пить хочу.
— Найдётся. Вон в бурдюке. Ключевая. Испей. Потом поедим — и снова воды. Так мой дед всегда делал: сначала воду. Никогда хвори не знал. Если бы не война, долго ещё жил бы.
Тем временем Жан развязывал холщовую котомку с нехитрой снедью: овсяные лепёшки, варёный горох, морковь, яйца.
— Вовремя ты к нам, девонька, — проговорил он, вытаскивая всё это, — как раз трапезничать собирались. Решили: вот свалим этого великана, тогда уж.
— Чего ж на земле-то? — кивнул на еду Арно. — Гляди, пень какой получился оттого дерева, чем не стол? Давай-ка всё туда. Нет, погоди, подчищу сначала топором-то.
Они оба взялись за дело, и вскоре вправду из пня вышел недурной стол. Полюбовавшись на него и сделав зарубку с краю, дабы запомнить место, где обедали когда-то, оба отошли. Полтора-два десятка шагов от пня этого до бугорка, где стояла Вия и подле неё лежала на земле котомка. Здесь же — конь привязан за сук рябины. И только было, взяв провизию и воду, собрались все втроём идти к месту, уготовленному для трапезы, как встали, раскрыв рты, да так и застыли. Огромный чёрный ворон, неизвестно откуда взявшийся, захлопав крыльями, опустился на пень и уставился сердитым глазом своим на людей.
— Вот те на, — протянул Жан и на всякий случай возвёл перед собой крест. — Гляди-ка, чёрта принесло! Сидит, нахохлился, будто для него стол готовили. Или другого ему места нет?
— Поживу чует, — промолвил Арно. — Просто так не сядет. Бабка моя, жива была, сказывала: не к добру, коли ворон сел, а ты его сгонишь и, упаси бог, сам потом встанешь на то место, где чёрный дьявол сидел, либо пройдёшь близ него...
— Что же случится? — повернулась к нему Вия.
— Беда, девонька, вот что, — хмуро отозвался лесоруб. — А коли он ещё и каркнет...
— Тогда что?..
— Значит, смерть вокруг этого места ходит, кровь чья-то прольётся здесь. Не зря Асмодея этого вестником смерти зовут.
— Неужто правда? — в страхе глянула на птицу Вия.
— Истинный крест!
— Что же теперь делать?
— Уходить надо отсюда. Не слетит, черноголовый, теперь с пня этого, крови чьей-то ждёт.
— Хорошо, не каркает ещё. Так-то будет ли беда, нет ли, да и когда — богу ведомо, — произнёс Жан, не сводя с ворона испуганных глаз. — Не Христос ли сомкнул рот этому чёрту?.. Да и рано нам помирать с тобой, дружище Арно, верно ведь?.. Девчушке и подавно. Вот он и молчит. Знать, не по нашу душу Вельзевул...
Едва он произнёс это слово, ворон встрепенулся, вытянул шею и, кося на людей блестящим чёрным глазом, громко каркнул.
— Матерь Божья, Отче наш и святые угодники! — торопливо закрестились лесорубы. — Господи, да будет свято имя Твоё и да будет воля Твоя на земле... Избавь нас от лукавого! Сгинь! Сгинь, нечистая сила!
И вновь, не сводя глаз с посланца Люцифера, замахали руками перед собой лесорубы — вверх-вниз, справа-налево. И Вия с ними.
Но ворон не улетал. Опять покосился на троицу, повертел головой влево, вправо и снова протяжно каркнул.
Лесорубы попятились. Вия быстро отвязала повод и встала у стремени. Ворон понаблюдал за ними, выждал некоторое время, потом взбух весь, шевельнул чёрными крыльями и оглушительно закаркал вновь — раз, другой, третий.
Лесорубы в ужасе, позабыв про топоры, бросились бежать. Вия мигом взлетела в седло и схватила поводья. Но не успела ударить пятками в бока. Баярд и без того, почуяв неладное, резво рванул с места и скрылся в чаще, неся на спине еле живую от страха, дрожащую всадницу.
Глава 14. Геракл в рабстве у Омфалы
Взяв повод из рук Вии и, поглаживая Баярда по шее, старый Гийом заметил:
— Похоже, не на пользу пошла тебе прогулка, девонька, — и повёл коня.
— Почему, Гийом? — остановила его Вия. — Баярд устал, да?
— Не в этом дело, — повернулся к ней конюх. — Только вид твой негож. Уехала мрачной, а приехала взволнованной, будто страх гнал тебя. Уж не случилось ли чего? Не повстречала ли разбойников, нынче их шайки помногу бродят окрест?
— Нет, ничего не случилось. Тебе показалось. Спасибо за коня. Баярд просто умница, — и повернулась, чтобы уходить. Сделала шаг, но остановилась, поглядела на старика. — Ты прости меня, Гийом...
— Вот ещё, — пробурчал конюх, пряча взгляд. — Чего бы это?..
— Что грубой с тобой была. Знаешь, ты, наверное, прав... — Вия невесело улыбнулась. — Не по моим плечам такая ноша.
Гийом молчал. Глядел в землю и коротко покачивал головой. Потом промолвил:
— Да ведь сердцу разве прикажешь?.. Справишься с ним?
— Орлу не бегать по земле, а мыши не подняться в воздух, — ответила она ему.
Старик только тяжело вздохнул в ответ.
Вия подошла и поцеловала его в щёку.
Гийом неловко улыбнулся; старые, в морщинах глаза заволокло пеленой.
— Я зайду ещё к тебе, Гийом, — пообещала она ему на прощание, — ты хороший...
Старик отвернулся и, смахнув ладонью слезу, повёл Баярда в стойло.
Вия направилась к себе. Но, едва коснувшись ногой ступени, ведущей к дверям, остановилась. Видимо, что-то вспомнила, потому что пошла обратно, но, не дойдя до конюшен, повернула к прачкам. Вскоре вышла от них, неся в руках белоснежное бельё.
— Заходи к нам почаще, девочка! — закричали они ей вслед. — Хотим послушать твои песни. Не всё же королю!
Она улыбнулась им в ответ и помахала рукой.
Навстречу попался поварёнок, лет примерно одних с нею.
— И куда же это ты торопишься, Вия? — преградил он ей дорогу. — А, верно, постель застилать? Уж не королю ли?
— Не твоё дело, Моршан, — огрызнулась она.
— Оно, конечно, не моё, — осклабился тот, — да только всё хочу спросить тебя: не слаб ли государь?
— Что-о? — нахмурилась Вия. — Ты о чём это?
— Будто не понимаешь. Всем известно, что у короля нет жены. А если её нет, то с кем же он проводит ночи, а? Ведь не с кривой на один глаз Одофледой и не с хромой Лоранс!
— Что ты хочешь этим сказать, негодяй? — грозно шагнула на него Вия. — Может, ты думаешь, что я стелю ему постель? Будто у него нет собственной камеристки!
— Как знать, как знать, — попятился Моршан. — Такой красотке, как ты, ничего не стоит ближе к ночи состроить глазки королю.
— Ах ты, пёс! Пользуешься тем, что руки у меня заняты, и я не могу отвесить тебе оплеуху?
— Да ты не кипятись, а лучше послушай, заговорщически подмигнул поварёнок. — Король, конечно, мужчина, это я понимаю, но всякое может случиться, короли из того же теста. Так вот, если выйдет промах, знай, что мои двери всю ночь открыты для тебя, и уж со мной-то промаха не будет...
— А ну, убирайся прочь, скотина! — вскричала Вия, продолжая наступать на него. — Думаешь, не брошу бельё, потому и хамишь? Ошибаешься, брошу! Пусть его вновь потом придётся стирать, но я расцарапаю твою рожу и отхожу тебя любой дубиной, что подвернётся под руку!
— Да что ты, что ты, — лепетал, отступая от неё, Моршан. — Я же пошутил. Вот ненормальная! Шуток не понимаешь?
— Я с тобой не шучу! Не исчезнешь сейчас же с моих глаз — пожалуюсь королю!
— Ну и жалуйся, дурёха, — криво усмехнулся поварёнок. — Только не сделаешь этого, стыдно будет пересказывать ему такой разговор.
Не слушая его больше, Вия заторопилась к себе. Вдогонку ей послышалось:
— Дура! Так и состаришься в девах! Лучше приходи — не пожалеешь!
Обогнув крыльцо башни, Вия передохнула, прислонясь к её стене, той, которую совсем недавно ласкало солнце. Камень нагрелся, и Вия спиной ощущала его тепло. Ах, постоять бы так подольше, не слыша мерзостей, не думая ни о чём! Но надо ещё застелить свою постель, а потом подшить накидку и тунику: и ту и другую разодрали сучья в лесу. Могла себя и не утруждать, ей стоит только сказать, но всё это — дело чисто женских рук, и она считала низким для себя заставлять других делать то, что может и, в конце концов, просто обязана делать сама.
Вздохнув, Вия миновала парадное крыльцо, покосилась на стражника у дверей, молчаливого и застывшего гипсовой фигурой, и стала подниматься к себе. Впереди — площадка на самом верху, шагов десять в диаметре, потом поворот — и коридор. В конце — её комната. И тут, едва выйдя на эту площадку, она услышала из коридора:
— Будь оно проклято! Клянусь башмаком Роллона, когда-нибудь я разрушу эту колонну!
Она обмерла. Быстро огляделась, мечтая спрятаться куда-нибудь, дабы нормандец прошёл мимо... Но нет, нигде ни малейшего укрытия. А шаги уже совсем рядом, ближе, ближе... Пол дрожит под этими шагами... Так и осталась Вия на месте — растерянная, будто её поймали на месте преступления, и с бельём в руках.
И снова услышала:
— Будь прокляты эти коридоры! Темно, как в царстве Аида! Всё плечо себе рассадил! Нет, ей-богу, сейчас вернусь и...
И тут он вышел из-за угла... и стал, будто бы перед ним внезапно разверзся Тартар.
— Вия?..
Она уже приготовилась услышать что-то вроде «Какого чёрта ты здесь делаешь?» или «Убирайся вон!», но произошло иное. Неловко улыбнувшись, словно раскаиваясь в недавнем поступке или обдумывая, что сказать, Можер негромко проговорил, потирая плечо:
— А я вот шёл коридором — и снова эта колонна! И кому это вздумалось поставить её чуть не на пути?.. Опять моё плечо наткнулось на неё.
Глядя мимо него, Вия молчала. Этого нормандец не ожидал, обычно она всегда была приветливой.
— А куда это ты с бельём?
Тут надо было ответить, и Вия, не поворачивая головы, выдавила:
— К себе.
— A-а, ну да, чтобы застлать свою постель?
— Ну не твою же! — огрызнулась она.
— Ты могла бы быть поласковее...
— Скажи это самому себе.
— Какая муха тебя укусила?
— Дай мне пройти. Встал тут...
Она попыталась обойти нормандца, но он загородил ей путь рукой:
— Постой... Мне надо сказать тебе... Почему ты всё отворачиваешься?
— Не хочу задирать голову.
Можер присел на корточки.
— Говорят, ты в меня влюблена.
Вия улыбнулась, потом рассмеялась. Только такой увалень, как он, мог сказать такое. Она взглянула ему в глаза:
— А ты и уши развесил.
Можер глупо улыбнулся:
— Все кругом говорят. Даже король...
— А у тебя уже и глаз своих нет? Все зрячие, один ты слепой.
— Так это правда?
— И не надейся. Больно ты мне нужен.
И тут же пожалела о своих словах. Зная нормандца, тотчас представила, как он крикнет: «А ты-то мне!
Подумаешь, принцесса! Проваливай, знать тебя не желаю!» И уже нахмурилась, готовясь услышать нечто подобное.
Но Можер произнёс:
— Знаю, злишься на меня. В тебе говорит оскорблённое самолюбие. Тогда, во дворе, я был несколько груб... Прости, но я не привык к сантиментам, поэтому не понял тебя. Мне следовало догадаться...
— О чём?
— Что ты и вправду ждала меня и... — он замолчал и, подыскивая нужные слова, уставился на бельё. — Но я никак не ожидал, что понравлюсь тебе...
— Хм, — хмыкнула Вия и нарочно отвернулась в сторону. Потом тихо прибавила, словно для самой себя: — С чего бы это?..
Он нежно взял за подбородок и повернул к себе её лицо:
— Да вижу. И хотя я никогда не был влюблён, считая, что это не для меня... но тут, понимаешь... Ты не вела бы себя так, как сейчас, если бы твоё сердце не было ранено. Просто прошла бы, мимоходом поздоровавшись или рассмеявшись. Так поступают знакомые, друзья или вовсе безразличные друг другу люди.
— Тебе показалось.
— Нет, девочка, на этот раз нет. Ты и вправду влюблена... тебя выдаёт смущение.
— Значит, убедился? Поверил? — в ней закипела злость, голос задрожал. — Что же ты не накричишь на меня? Не прогонишь? Не вспылишь, заглушая трубы Иерихона: «Наплевать! Влюбляйся на здоровье, мне-то что! Ни одна стрела Амура не посмела ещё коснуться сына Ричарда Нормандского и правнука великого Роллона, и не коснётся никогда, клянусь левым сапогом моего славного предка, который... который...»
И Вия заплакала.
Можер привлёк её к себе. И она, не сопротивляясь, прильнула к нему, продолжая лить слёзы, капающие ему на плечо.
— Так ты простила меня? Тогда, во дворе?.. — спросил нормандец, нежно держа в своих огромных руках её маленькое трепещущее тело.
Вместо ответа она часто закивала. Потом, сунув бельё под мышку, полезла в рукав, достала оттуда платок, стала утирать слёзы.
Можер отстранился и, всё ещё держа девушку на расстоянии вытянутых рук, улыбаясь, смотрел на неё. Она хлюпнула носом. Ещё раз. Этого только недоставало. Придётся высморкаться. Так и сделала. Потом глянула на его смеющуюся физиономию и сама рассмеялась.
Смеялись оба, глядя друг на друга, и в их глазах искрилась радость, а на губах надолго застыли улыбки.
— А куда ты шёл? — с интересом спросила Вия.
— На живодёрню.
— Зачем? — её брови высоко взметнулись кверху.
— Они просили завалить быка. Он огромный, с рогами и кого-то из них ранил.
— А ты? — она оглядела его всего, отойдя на шаг. — Что станешь делать? Без оружия! Где твой меч?
— Зачем он мне? — пожал плечами Можер. — Разве я иду на войну?
— А бык? Да ведь он убьёт тебя!
— Чёрта с два! Возьму за оба рога, поверну и свалю на землю. Так и буду держать, пока ему не выпустят кровь.
Вия в страхе округлила глаза:
— А вдруг не получится? Что, если этот бык сильнее?..
Можер расхохотался:
— Сильнее только Минотавр, но того уж нет. А с этим мне не впервой. Знаешь, когда в нашем замке в Нормандии устраивали состязания в стрельбе из лука, отец говорил мне: «Сынок, довольно тебе уже ломать луки и рвать тетивы, ступай на живодёрню и вали быков. Это лучшее занятие для твоих рук».
— Неужто правда? — всплеснула руками Вия, не роняя, однако, белья. — А ты не врёшь?
— Что? — грозно спросил нормандец. — Не веришь? Тогда пойдём, убедишься сама.
— А потом мясники зарежут бедное животное и выпустят из него кровь? Нет, я не пойду. Такие зрелища меня не радуют, ведь ты будешь в роли палача.
— Но что в этом такого? — Можер поднялся с корточек. — Человек должен есть мясо. Где же он его возьмёт, если не будет убивать животных?
— Для этого есть охота, и там — кто кого, — попробовала возразить Вия, — а тут — нож в горло... просто убийство какое-то.
— Наверное, поэтому король и любит охоту. Все короли таковы. Людовик говорит, что любит риск, азарт погони его возбуждает, горячит кровь. Предстоящая охота захватила его целиком, ни о чём другом он уже и говорить не может. Хотел отправиться завтра утром. Еле уговорили его с Карлом подождать несколько дней: оказалось, главный ловчий нездоров, к тому же недостаёт трёх собак, которые пострадали в прошлый раз.
Вия нахмурилась. Какие-то воспоминания вдруг пронеслись у неё в памяти.
— Король собирается охотиться?
— Ну да, я же сказал. Но ты огорчена. Почему это тебя тревожит?
— И где же?.. Куда он помчится?
— Куда? Конечно же, в Санлисский лес.
Вия вскрикнула и поднесла руки к груди. Бельё стопкой упало на пол, она и бровью не повела. Можер нагнулся, поднял бельё, недоумённо уставился на неё:
— Что с тобой? Ты будто побледнела даже.
Она торопливо шагнула к нему; подняв руки, положила их ему на грудь, а в глазах — мольба, вопль души:
— Королю нельзя ехать в лес!
— Нельзя? — удивился Можер. — Что за новости! Почему это?
— Не пускай короля в Санлисский лес! И сам не езди! — твердила своё Вия, глядя на него умоляющими глазами. — Можер, я прошу тебя!
— Да что происходит, в конце концов? Можешь объяснить?
— Как бы сказать, чтобы ты понял... — Вия стала подыскивать слова. — Понимаешь, этот пень, и ворон на нём... я сама видела. А тут ещё он закаркал...
— Какой пень? Какой ворон? — совсем растерялся нормандец. — Что ты несёшь?
— Сегодня я была в Санлисском лесу, там срубили дерево, остался пень, — заторопилась Вия. — Мы хотели на нём пообедать, как вдруг...
— Кто это «мы»?
— Я и лесорубы. Их было двое. Как вдруг на пень уселся чёрный ворон.
— Ну и что?
— И он закаркал, Можер!
— Было бы удивительно, если бы он заржал, как лошадь.
— Не смейся и не перебивай меня! Королю грозит опасность, совсем недавно я предостерегала его. Сказала, что его погубит... дерево!
— При чём тут король и какое-то дерево?
— Боже мой, ну какой же ты бестолковый! Король занозил палец, я вытащила занозу, пошла кровь, и я...
— Можер! Это он! — вдруг послышался голос из коридора, совсем близко. — Я же говорил, что успеем.
Вслед за этим из-за поворота показался Карл Лотарингский, рядом — герцог франков.
— На бойне уже заждались тебя, Можер! — воскликнул дядя короля. — Мы торопимся, боясь опоздать, а ты, оказывается, здесь. Ого, да ты, никак, нашёл другую работу? — кивнул герцог на стопку белья в руках нормандца. — А как же бык?
— А, чёрт! — выругался сын Ричарда. — Сейчас же иду вслед за вами.
Миновав лестничный марш, оба вышли во двор.
— Прелюбопытную картину нам пришлось только что наблюдать, не правда ли, герцог? — усмехнулся Гуго.
— Я назвал бы её «Голиаф обратился в Давида», — отозвался Карл Лотарингский.
— А я — «Геракл в рабстве у Омфалы»[7].
— Одно несомненно: Можер попал в плен.
Рассмеявшись, они отправились на живодёрню.
Нормандец тем временем, вернув бельё Вие, сказал ей:
— Отправляйся к себе и жди меня. Я приду, когда выполню работу.
И он ушёл.
Как только Вия застелила постель и закончила мыть пол, он вернулся. От него пахло кровью и ещё чем-то смрадным, характерным для живодёрен.
— Бог мой, от тебя несёт мертвечиной, — скорчив гримасу, замахала Вия ладонью у себя перед лицом.
— Так и должно быть, ведь я был не на балу, — развёл руками Можер.
— Удалось тебе свалить быка?
— Ещё бы! На это стоило посмотреть, чёрт побери! Этот дьявол — впору Минотавр, только что не стоял во весь рост и не столь кровожаден. Пришлось потягаться. Видела бы ты, как я ухватил его за оба рога, и он стал теснить меня к стене, собираясь продырявить мою грудь, как бурдюк с вином!
— А ты?.. О, боже мой! Что сделал ты, Можер?
— Не ступил ни пяди назад, слава богу, ноги у меня крепкие. А потом взял да и скрутил ему башку — один рог вверх, другой вниз. Не упади он на бок, клянусь чревом папы, я отвернул бы ему голову! Но он свалился, и его тут же прикончили.
У Вии вырвался вздох облегчения. Она подошла к нормандцу, положила руки ему на грудь, подняла голову и, прикрыв глаза, тихо произнесла:
— Богатырь ты мой!..
Он чуть склонился, и Вия, обвив его шею руками, подарила ему долгий и нежный поцелуй. Не раздумывая, Можер легко поднял её и понёс к постели, которую она только что застелила белоснежной простыней.
Глава 15. Умонастроения нормандца
— Так что ты говорила про лесорубов, дерево, какого-то ворона? — спросил Можер, заложив руки под голову и глядя в потолок. — Признаюсь, я ни черта не понял. Да тут ещё король с занозой...
Вия привстала с подушки и, облокотившись на локоть, уставилась на его широкую грудь с редкой растительностью. Чтобы внимательно всё осмотреть до самого живота, да ещё любовно гладя при этом мощный торс нормандца, ей пришлось немало повертеть головой. Устав, она, откинув руку, прильнула к этой груди, закрыв глаза и вдыхая его запах. Можер улыбался. Её волосы разметались у него на ключицах, и он блаженно вдыхал их аромат, воображая себя в поле среди моря благоухающих цветов.
— Как хорошо, — проворковала Вия, лаская губами его тело. — Я так счастлива, Можер... и ни о чём не хочется думать.
— Даже о смерти короля?
Она встрепенулась, приподнялась и, глядя в его глаза, торопливо заговорила:
— Теперь я всё расскажу, и ты наконец поймёшь.
И Вия поведала о сцене в кабинете короля, когда тот расщеплял полено для топки, и о том, как она умчалась в лес, где повстречалась с лесорубами.
— Этого ворона надо было попросту убить, — изрёк Можер, широко зевая и прикрывая рот ладонью, когда рассказ был закончен. — Эти дровосеки настоящие болваны. На их месте я швырнул бы в него камнем.
— Откуда же в лесу камни?
— Ну, тогда палкой. Тоже мне, провозвестник несчастья.
Да эти вороны целыми днями сидят на шпилях церквей и крышах домов, выводя свои дьявольские мелодии. И что же? Да ничего, кроме того что там, где они сидели, остаются неизгладимые следы их пребывания.
— Значит, ты не веришь во всё это?
— Чепуха! Наслушался народ поповских бредней в церквах — вот и верит сказкам. Я бы этих святош вместе с епископами и папой собрал всех вместе да выгнал в поле пахать землю — толку было бы больше. Глядишь — и похудели бы, да и рожами стали 6 похожи на людей, а то ведь как посмотришь на их физиономии — то хорёк перед тобой, то лиса, а то и вовсе хомяк — глазки маленькие, плутоватые, а щёки из-за спины видны.
— Грешно так наговаривать на монахов, — наставительно молвила Вия. — Ведь они божьи люди, слуги Господа. Гляди, накажет он тебя за своего слугу.
— Накажет, говоришь? — нормандец усмехнулся. — Может, два медведя из лесу выйдут для этого? Так я их лбами друг о друга — и дух вон!
— Какие два медведя? — не поняла Вия.
— А те, что из Библии. Не помнишь? Так расскажу. В замке моего отца был священник. Когда мне было лет... ну, скажем, вдвое меньше, нежели сейчас, он стращал нас — меня и братьев Ричарда и Роберта — всякими баснями. Например, был такой пророк Илия, а за ним другой, его ученик, не помню имя. Оба — слуги божьи и жили в Палестине, есть такая страна. Так вот, этого ученика дети всегда дразнили, когда он проходил мимо них. «Плешивый, плешивый» — кричали они ему. В ответ он проклял их именем господним. Вслед за этим вышли из лесу два медведя и растерзали детей.
— Вот, видишь! Значит, божья кара постигла их.
— Какая к чёрту кара! Мы тогда тоже верили в эту выдумку и с почтением относились к монахам. Только много позже я узнал, в чём тут дело. А в том, что нет в этой самой Палестине никаких лесов и никогда не было. И медведи там не водятся. Сказка, одним словом. Или вот: помнишь про Адама и Еву?
— А как же! У них ещё были сыновья: Каин и Авель.
— Так вот, в Библии говорится, что один из них убил другого. Кажется, первый второго, не поделили что-то. Этот первый пошёл в какую-то землю и, собрав всех жителей, построил там город. И вот теперь, спустя много лет, я спрашиваю себя: откуда взялись там жители, если Адам, как говорится в этой самой Библии, был первым человеком на земле? Может, ты мне ответишь?
— Я не знаю, — чистосердечно призналась Вия, — но если там сказано, что они были, значит... они там были.
Можер расхохотался:
— Ни один святоша не ответит на этот вопрос, Вия, потому что всё это — сплошные враки. Одна книга, другая... в одной так, в другой этак — может ли такое быть? Потому и недоступна для людей эта Библия, ведь прочитав её, народ сразу поймёт, что его попросту одурачивают.
— Можер, ты богохульник, а церковь осуждает это, — вздохнула Вия. — Гляди, достанется тебе от папы.
— А я спрошу его: «Скажи мне, преемник святого Петра, сколько человек взял в плен царь Давид согласно Слову Божьему: тысячу семьсот, как написано в одной из церковных книг, или семь тысяч, как указывается в другой?» Думаешь, он ответит? Как бы не так!
— Он отлучит тебя от церкви.
— Да, от бессилия. Но мне на это ровным счётом наплевать, если бы потом меня не стали считать изгоем. В одном случае. А в другом — папа и пикнуть бы не успел, как я свернул бы ему шею. Подумаешь, фигура! Они ещё будут благодарны мне: я слышал, будто местные епископы недовольны понтификом. Но знаю и другое: не очень-то папы охочи до занятий небесными делами, земные им заманчивее. Если бы не клюнийские монахи — так и оставались бы папы пьяницами и развратниками.
— Ты хорошо знаешь Библию, — не без зависти сказала Вия. — Должно быть, часто и подолгу читал?
— Да сдалась она мне! — скривил лицо Можер. — Говорю же, обучался в школе при монастыре. Нельзя иначе. Сын герцога Нормандского не может не быть обученным грамоте и Слову Божьему. Но это было тогда, давно, а сейчас...
— ...сейчас ты стал еретиком, — улыбнулась Вия.
— Да, потому что научился думать. В Библии много глупостей, и попы знают об этом. И не только в Библии. Вот, например, крест. Ты носишь его, и я ношу. А должны ли мы поклоняться ему?
— А как же! — убеждённо воскликнула Вия. — Ведь Христос принял на нём муки, искупая грехи людей.
— И Он же сказал: «Кто хочет идти за мною, пусть возьмёт крест свой и последует за мной». И ни слова более. Те, кто молится кресту, могут так же молиться на любую деревяшку, имеющую форму креста. Разве не так? А Дева Мария? Вдумайся в это слово: дева! Люди поклоняются ей. Так давайте уж тогда кланяться всем девам, а заодно всем яслям, потому что Христос в них лежал. Что касается Марии... Ведь она была непорочной, да? Как же тогда она могла родить? И от кого? От Святого Духа? Как это он мог забраться в её чрево? Ведь он дух, у него ничего нет! Да и при живом-то муже! Но ещё говорят, что Христос — сын плотника. А плотник кто? Обычный батрак, такой, как все.
Кто же тогда Иисус?
— Можер, ты плохо кончишь, — покачала головой Вия. — Тебя распнут, как и Его, и никакая сила тебя не убережёт.
— Поэтому я и помалкиваю, — согласно кивнул нормандец, крепко обнимая Вию. — Делаю вид, что верю, но в душе смеюсь. Мне жаль запуганный народ, и всегда чешутся руки намять бока фанатикам в монашеских и епископских рясах. Людовик мечтает судить Адальберона, и я приветствую это. Прикажет казнить — обойдёмся без палача. Я сам откручу этому святоше голову и брошу её собакам.
— Можер! Да ведь он архиепископ! — округлила глаза Вия.
— Наплевать мне на это. Голова у попа отрывается так же хорошо, как и у мельника.
— Но суд может и не состояться! Не к добру сел тот ворон на пень и каркнул три раза. А тут ещё заноза в пальце у короля... А на руке у него... я видела на ней знак смерти!
— Как ты можешь это видеть? И какой он?
— В виде креста. И линии все обрываются на нём. Я смотрела и чувствовала это! Будто сама смерть дохнула на меня тогда. Я взглянула в лицо короля и увидела...
— Что же ты увидела?
— Мертвеца!
Можер бросил на Вию сердитый взгляд и проворчал:
— Самая подходящая тема для разговора на ложе любви.
— Но что поделаешь, если мне дано видеть то, чего не видят другие? И ведь что я предскажу — всегда сбывалось. Одному странствующему жонглёру, бедному и голодному, я посоветовала подойти к дворцу Лотаря, утверждая, что это принесёт ему счастье. Он так и сделал. И король взял его к себе и сделал богатым. А однажды на берегу реки я увидела женщину с ребёнком. Глядя на него, я подумала: сейчас он полезет в воду и станет тонуть, но мать бросится и спасёт его. Всё так и вышло. А ведь я стояла далеко, и им было меня не видно.
— Ты просто колдунья, клянусь шлемом своего прадеда! — со смехом изрёк Можер. — От тебя надо либо подальше, либо быть к тебе поближе.
— Лучше последнее, — и Вия впилась поцелуем в губы нормандца. — Ну а помнишь, — сказала она, отстраняясь, — что предсказывала тебе? Любовницу знатного рода. И надолго.
— Похоже, вышло по-твоему?
— А разве нет? Ведь я из Пипинидов.
Подумав немного, Можер проговорил:
— Стало быть, утверждаешь, опасность грозит королю? Тогда пойду скажу ему, — и попытался встать.
— Куда ты? Вот сумасшедший! Ведь темно уж, ночь спустилась. Или завтра не будет дня?
Можер поглядел в окно.
— В самом деле. Что ж, пойду завтра. — И он опять было лёг, но снова вскочил: — Что, как король станет разыскивать меня? Или Карл? Не найдут!
Вия, улыбаясь, вновь водворила его на подушки:
— Думаю, они догадаются, где искать.
— А если король позовёт тебя? Ведь читаете вы с ним по вечерам Плутарха, Гомера...
— Не позовёт. Я сказала ему, что сегодня мне надо быть свободной.
— Хитра же, плутовка, — хмыкнул нормандец, покачав головой и устраиваясь поудобнее. — Теперь скажи, как получилось, что ты затащила меня в постель?
— Ну, это было нетрудно.
— Что же тобой руководило: похоть или любовь?
— А разве я не говорила, что люблю тебя?
— Чёрт возьми, и в самом деле, — пробормотал Можер, почёсывая лоб. — Но ведь так не бывает, Вия! Мы знакомы лишь несколько дней...
— Полагаешь, для любви нужны годы?
— Мой отец был знаком с матерью целых три месяца и только потом влюбился.
— А мой пращур Пипин сразу влюбился в Плектруду, едва увидев её.
— Ты последовала его примеру?
— Я нашла то, что искала. Теперь не выпущу.
— Посадишь в клетку?
— Буду любить так, что сам не захочешь другую.
— А если захочу? — усмехнулся нормандец.
— Тогда убью.
— Кого же, меня или её?
— Её. С тобой разве справишься!
— Ну а коли в меня влюбится королева и потащит в постель?
— Здесь нет королев.
Можер вспомнил многообещающий взгляд Эммы во время их разговора.
— А Эмма? Мать Людовика?
— Да ведь она стара! В матери тебе годится.
— По-моему, она ещё на что-то годна кроме этого.
— Ах, так! Тогда убью и королеву, если увижу в ней врага.
— Твоего?
— Того, который вредит. Но не мне одной. Всему. Сразу распознаю фальшь.
— Да ты просто фурия! Дай тебе волю — всех отправишь на небеса.
— Оставлю одного.
— Любопытно, кого же?
— Того, кого люблю, — поставила точку в разговоре Вия.
И прильнула к Можеру, слившись с ним в поцелуе.
Успела ещё сказать:
— Не ходи к королю. Сама ему скажу. Лучше получится...
Глава 16. Что принесла Можеру прогулка по галерее
Утро выдалось жарким. Никто этому не удивлялся: пекло немилосердно не первый день, будто не середина мая — середина лета!
Можер, скучая и откровенно зевая во весь рот, бесцельно слонялся по дворцу. У него нашлась бы работа, будь он телохранителем короля, но он отказался, как ни упрашивал его Карл. Тогда герцог возвёл в эту должность франка Нивена — человека неразговорчивого, мрачного, относящегося с подозрением ко всему. Ныне его место — двери кабинета короля, если тот был один. Когда к Людовику кто-то входил, Нивен тотчас становился рядом; строгий взгляд — на посетителя, а ладонь — на рукояти меча. Ночью он ложился на коврике у дверей спальни короля, так что войти можно было, лишь разбудив бдительного стража. Можер об этом знал и был рад: слишком уж скучная должность и никакой свободы. Этого он не любил. Его деятельная натура заставляла его искать приключения, и если их не предвиделось, его начинала одолевать меланхолия. Борясь с этой мрачной гостьей, он и направился куда глаза глядят.
Вию с утра позвала гофмейстерина: она обучала свою подопечную, а также ещё нескольких юных дев придворным танцам и этикету. Карла Лотарингского нигде не было, куда он подевался — никто не знал. Нормандец направился было к королю, но тот принимал послов из Готии; тогда он решил развлечься на фехтовальной площадке, что тянулась вдоль правого крыла дворца, но и там никого не было. Можер вернулся к фасаду, постоял у дверей, наблюдая за поварятами, носившими продукты из склада на дворцовую кухню, и, снова поднявшись по ступенькам к главному входу, вошёл в здание. Здесь ноги сами понесли его на половину королевы-матери.
Он шёл по коридору и с любопытством поглядывал на фрейлин, мелькавших перед глазами, словно бабочки, и тут же исчезавших в разных направлениях. Они приветливо улыбались ему; иные, завидев нормандца, замедляли шаг, другие вовсе не трогались с места. И все молча, кто украдкой, кто не таясь, поглядывали на него, казалось, ожидая, что он подойдёт и начнёт разговор. Но Можер, не зная о чём с ними заговаривать, только хмыкал, пожимал плечами и шёл себе дальше. Вот если бы громко выругаться, упомянув при этом всех чертей ада или, шутки ради, схватить кого-нибудь за ноги да потрясти в опасной близости от пола и ещё при этом от души похохотать, то здесь ему не найти равного. Но нормандец, и нам это давно стало понятно, по природе своей был груб и не признавал никаких правил этикета, хотя, надо признаться, был человеком открытым, честным и благородным. Но без некоторых галантных манер не подойти было ни к этим фрейлинам, со вздохами сожаления провожающим великана томными взглядами, ни к группам придворных, кучками стоявших вдоль галереи, по которой он шёл. Можер был с ними незнаком и решительно не знал, что им сказать.
Но вдруг все взоры разом метнулись в другом направлении, на него никто уже не смотрел. Потом мужчины начали склонять головы, а женщины приседать в неглубоких реверансах. Можер поглядел туда и улыбнулся. Хоть одно знакомое лицо: королева-мать. Но не одна, рядом мальчик — Роберт, сын Гуго. Ему четырнадцать. Стоя справа и созерцая подобострастные поклоны и улыбки, он проговорил:
— Как все трепещут перед вами! Вот что значит быть королевой. У отца в Париже тоже двор, где вечно роями жужжат такие же... и так же раболепно глядят.
— В Лане — король франков, а в Париже — герцог франков. Две самые сильные фигуры. Уважение придворных, их трепет и страх — знак власти.
— Но почему вы не глядите на них, ваше величество?
— В этом зале есть нечто, более достойное внимания, мой благородный юноша.
— Что же это? Или, быть может, кто?
— Взгляни, сам увидишь, — и королева-мать кивком головы указала на Можера.
— Боже правый, — пробормотал Роберт, — вот так гигант! Разве среди франков бывают такие?
— А он и не франк, — ответила Эмма, с чарующей улыбкой глядя на нормандца. — Он сын герцога Ричарда, нашего друга. Он викинг, мой мальчик! Правнук Хрольфа Пешехода, завоевателя и покорителя севера Франкии со столицей Руан. Он тот, с кем тебе давно уже пора познакомиться и быть ему другом, ведь он к тому же твой троюродный брат.
— Так пойдёмте к нему, государыня.
— Не видишь разве, он сам идёт сюда.
— Но ведь вы не подзывали его, разве правила этикета такое дозволяют?
— Он норманн, мой друг. Он из тех, кто не признает никаких правил. Эта вольность в его поведении не вызывает гнева... она очаровывает. А потому всегда прощается. Вот увидишь, он первым начнёт разговор, хотя это надлежит сделать мне.
Можер тем временем с улыбкой подошёл и, по обыкновению, лишь слегка наклонил голову, держа руку на груди.
— Ей-богу, государыня, — загремел его голос, — вы первая за сегодняшний день, кто от души улыбается мне. Остальные лишь пялятся, как на полено, из которого надлежало бы вытесать что-нибудь поприличнее. Так и чешутся руки двинуть одного, другого по физиономии. Но кто это с вами? — он перевёл взгляд на Роберта.
Юный герцог, и без того испытывавший неловкость от такого вступления незнакомца и оттого, что приходилось, глядя на него, задирать голову, тут и вовсе стушевался. Но, не желая ронять достоинства, с вызовом произнёс:
— Я Роберт, сын герцога франков!
— Да? То-то я подумал, будто где-то тебя видел, — весело воскликнул нормандец. — А ты, оказывается, здорово похож на своего отца. А я граф Можер, сын герцога норманнов, слышал о таких?
— Ещё бы! — Роберт слегка нахмурился. — Когда-то норманны причинили много бедствий нашему народу...
— Ну, брат, это было давно, и негоже нам с тобой ломать над этим голову и хмурить брови. Нынче наши отцы большие друзья, верно ведь? А потому давай и мы дружить. Клянусь прахом моего прадеда, как нашим отцам, так и нам с тобой как братьям это пойдёт на пользу. Согласен? Тогда вот тебе моя рука!
И Можер протянул ладонь. Роберт посмотрел на неё и раскрыл рот. Королева рассмеялась. Юный герцог снова вскинул глаза и, увидев добродушную улыбку и весёлый взгляд, широко улыбнулся и протянул руку.
— Ну вот, — сказал нормандец, — необходимый контакт установлен. И не хмурь больше брови, мой друг, клянусь сандалиями Иисуса, тебе это не идёт.
— А ты любишь играть в мяч? — неожиданно с теплотой спросил Роберт.
— Ещё бы, чёрт подери! Никто так не любит играть в мяч, как я.
— А в шахматы?
— И в шахматы, чтоб мне провалиться на этом месте!
— А сможешь ли ты, например...
— Смогу, малыш, будь уверен. Только знаешь что? Не будем забывать, что с нами женщина, да не простая, а сама королева! Удивляюсь, и как это она до сих пор рты нам не заткнула.
— Но для этого надо перекричать вас, Можер, — всё ещё не гасила приветливую улыбку королева-мать, — а дело это представляется мне безнадёжным.
— Вовсе нет, — возразил Роберт. — Когда вы останетесь вдвоём, графу незачем будет сотрясать своды галереи громовым голосом.
— Ты покидаешь нас? — повернулась к нему Эмма.
— И с большой неохотой, должен признаться, — вздохнул юный герцог. — Сюда идёт мой учитель. Он преподаёт мне Слово Божье и рассказывает о деяниях Иисуса, — и он глазами указал на Герберта, уже подходившего к ним.
— Сын мой, вы не забыли о сегодняшних уроках? — обменявшись короткими приветствиями с королевой и нормандцем, обратился епископ к Роберту. — Теперь самое время.
— Ах, как это некстати, — поморщился сын Гуго. — Что, если отложить наш урок до вечера, когда спадёт зной? Стены дворца пышут жаром, словно печь Навуходоносора, гоже ли в такой духоте внимать вам, ваше преосвященство, ведь вы, по обыкновению, заведётесь надолго.
Герберт неодобрительно поглядел на ученика и со всей важностью произнёс:
— Отец приставил меня к вам для укрепления веры в Господа, дабы помыслы ваши устремлены были к спасению на этом свете и жизни райской на том.
Роберт поник головой.
— А не может ли спасение и в самом деле подождать немного, святой отец? — выпалил Можер. — Ей-богу, в такую погоду полезнее обливаться водой из ручья, нежели слушать нравоучения из катехизиса.
Герберт кольнул нормандца недовольным взглядом исподлобья:
— По-видимому, норманны столь мало почитают Бога, что готовы пренебречь законами Божьими ради мирских удовольствий. Не за тем ли прибыл к нам гость от некогда мятежных викингов, дабы пошатнуть веру франков в силу и могущество Творца?
— Послушай ты, твоё преосвященство, — воскликнул Можер, побагровев и насупив брови, — норманны давно уже не враги франкам и также исповедуют христианство, как и они! Тебе об этом надлежало бы знать, святоша! А если ты изречёшь ещё хоть слово в адрес моего народа, то я не погляжу на твой духовный сан, а возьму да и вышвырну тебя в окно! Только не белым голубем, а чёрной вороной полетишь ты отсюда! Останешься жив — долго будешь помнить встречу с викингом!
Роберт побледнел, у него затряслись губы, он не смел поднять глаз. Эмма, молитвенно сложив руки на груди, без кровинки в лице, мятущимся взглядом окидывала придворных — застывших, притихших, со страхом в глазах. Герберт же и вовсе потерял дар речи. Оскорбление было вопиющим, неслыханным! И кого же? Божьего слуги, епископа, духовного наставника короля и юного герцога Роберта! Того, перед кем почтительно расступались, кому целовали руку и кого, трепеща и считая это высочайшей милостью, молили дать благословение или принять исповедь!..
И лишь нормандец невозмутимо глядел сверху вниз на Герберта, словно на муху, которую, едва сядет, надлежит прихлопнуть. Покосившись на его шевелящиеся пальцы, вот-вот готовые, будто клешни рака, вцепиться в него, дабы исполнить угрозу, Герберт ответил, не сводя, однако, глаз с ладоней Можера:
— Бог прощает неразумным их нападки на слуг своих, ибо считает это не чем иным, как временным помрачением ума. И сказал Господь: «Возлюби ближнего как самого себя и прости врагам твоим, ибо не ведают, что творят».
И закрестился. За ним — королева, Роберт и остальные, исключая нормандца. Тот, сложив руки на груди, с презрением глядел на епископа, размышляя, не следует ли прямо теперь же дать волю рукам. И решил, что не стоит. Поползут ядовитые слухи, дойдёт до отца и Гуго. Не вышло бы скандала. По-хорошему, прощения бы попросить у отца церкви. Подумав об этом, Можер хмыкнул: ещё чего! Никогда! А эти, — так он подумал о духовенстве, — впредь осмотрительнее будут в речах. Не виллан и не араб перед ними. Норманн! Помнить должны.
И тут откуда ни возьмись — Гуго! Подошёл, оглядел каждого по очереди, задержав взгляд на Можере, и сказал Герберту:
— Не сердись, епископ, на нормандца, не со зла он. Что касается уроков, то и в самом деле, отложим их на вечер. А нынче... — он оглядел придворных и уже громче продолжил: — Дабы не свариться живьём в этих стенах — всем на берег реки! Таков приказ. Возражения неприемлемы. Сбор у часовни, близ ворот.
Что сказал герцог франков — не подлежало обсуждению. Власть его была едва ли не выше королевской. Ослушания он не терпел. Людовик мог простить, Гуго — никогда. Он был государем при живом короле.
Епископ, изобразив что-то вроде лёгкого поклона в сторону герцога, отошёл. Ныне он — лишь слуга Адальберона. Его время ещё не пришло.
— Отец, как ты вовремя! — обрадовался Роберт. — Ведь этот Герберт — разве с ним сладишь? А здорово Можер поставил его на место!..
Гуго строго посмотрел на сына, и тот умолк.
— Отправляйся к себе и готовься к купанию, а потом спускайся вниз, — сказал герцог.
— А мой брат пойдёт с нами?
— Ну конечно же, — улыбнулся отец. — Тебе, я вижу, понравилось его общество?
— Он настоящий воин! Таким и я хочу быть!
— Не сомневаюсь, что граф Нормандский преподаст тебе уроки не одной лишь христианской добродетели и смирения.
И герцог выразительно посмотрел на нормандца. Тот кивнул.
Роберт убежал. Гуго взял Можера за руку:
— Епископ тебе не простит. Он такой же государь, только в духовной сфере, и он призовёт гнев божий на твою голову.
— Плевать мне на него, — последовал ответ. — Он мне не господин, а я ему не слуга. Ни один церковник не смеет указывать нормандцу или дурно отзываться о его народе! Пусть этот святоша ещё вознесёт молитву Господу, что я не зарубил его на месте.
— Всё же будь с ним осторожен, он злопамятен. Ныне наше родство удержало его от возмущения, но кто знает, что он уготовит тебе в будущем? Но довольно об этом, поговорим о моём сыне. Роберт уже почти мужчина, но плохо владеет мечом, хотя и любит верховую езду. Он не выказал своих истинных умонастроений в твоём присутствии, зато я скажу: мозг его одурманен богословскими рассуждениями и церковными догматами, но мой наследник должен быть воином, а не святошей. Понимаешь меня, Можер? Попробуй воздействовать на него в этом смысле, быть может, твой авторитет окажется сильнее моего?
— В этом и я согласна с вами, герцог, — проговорила Эмма. — Под оком такого наставника, как епископ, из Роберта выйдет всего лишь монах.
— Вот именно, государыня. Он мой сын, и я не хочу, чтобы он стал богословом. Но мне пора, и я оставляю вас. Поторопись, Можер, сдаётся мне, юный герцог будет без тебя скучать; первый же урок, я заметил это, стоя поодаль, весьма расположил его к тебе.
— Не нравится мне этот Герберт, — произнесла королева-мать, когда Гуго ушёл. — Есть в нём что-то отталкивающее: кислая физиономия, недружелюбный взгляд, неестественная улыбка... последнее, впрочем, явление редкое. С удовольствием избавилась бы от него.
— Так в чём же дело, государыня? Хотите, я подниму его за ноги и тресну башкой об пол! — воскликнул нормандец. — Не быть мне потомком славного прадеда, если его голова после этого не окажется у него в желудке!
Королева от души рассмеялась.
— Что вы, граф, как можно! Ведь он духовный наставник юного Роберта, сам герцог так пожелал. К тому же он ученик Адальберона.
— Должно быть, поэтому король и недолюбливает его.
— Однако с восторгом согласился поохотиться. А ведь это Герберт посоветовал ему.
— Чего вы хотите от вашего сына, Эмма? — беспечно продолжал нормандец, не замечая, как вспыхнули щёки королевы-матери и загорелся взгляд, едва он назвал её по имени. — Охота во все времена была и остаётся страстью королей, и Людовик — не исключение.
Он ещё что-то говорил, этого она уже не слышала. У неё в ушах звучало собственное имя, невзначай произнесённое им, и оно эхом блаженно разливалось по всему её телу, уже что-то обещая, куда-то маня. Зачарованная, забывшая на мгновение кто она и где, страстно глядя на нормандца, Эмма готова была задушить его в объятиях любви, столь сладкой музыкой прозвучало её имя, которого она ни от кого не слышала со дня смерти мужа. Тому уж год...
Внезапно Можер почуял неловкость положения в связи с затянувшимся молчанием. И тут вспомнил:
— О, простите, государыня, кажется я, нарушив ваш этикет, допустил бестактность. Я назвал вас по имени, в то время как должен был...
— Молчите... — приложила она свои пахнущие лавандой пальчики к его губам. — Не говорите ничего.
А во взгляде — страсть, томление, обещание неземного блаженства... Лишь слепой не мог бы этого прочесть в её глазах, горящих углями, готовых испепелить.
Можер всё понял. Ему и не надо было ничего говорить. Он взял её ладонь и страстно припал к ней поцелуем.
И тут Эмма опомнилась.
— Ах, боже мой!.. — и испуганно огляделась по сторонам.
Но в галерее уже никого не было, только они вдвоём.
Облегчённо вздохнув, королева-мать вновь расцвела улыбкой.
— Ах, я так испугалась... А вы, Можер?
— Я? Мне незнакомо это слово, Эмма. Да и о чём вы? Испытывать страх наедине с такой прекрасной женщиной, как вы?
Сама не замечая, она снова протянула ему ладонь. И безотчётно, теряя рассудок, потянулась туда же губами. Не видя их, Можер вновь страстно поцеловал руку королеве.
— Как хорошо, что никого нет, — прошептала она, привстав на цыпочки и подставляя для поцелуя теперь уже не руку, а губы — алые, влажные, зовущие... И, увидев, как нормандец склоняется над ней, закрыла глаза.
Он обнял её и привлёк к себе. В ответ она томно вздохнула и, обвив руками шею нормандца, тотчас забыла обо всём, что надлежало бы помнить: и о рассудке, и о стыде. Вывел её из состояния отрешённости голос Можера:
— Не пора ли нам выходить, королева?
Она открыла глаза, в которых читалось непонимание. И тут же вспомнила:
— Ой, и в самом деле... — попробовала высвободиться. Улыбнулась: — Но ты, похоже, меня не отпускаешь?
Можер разжал объятия.
— Быть может, мы останемся? — негромко произнесла Эмма с тою же страстью, с мольбой в глазах.
— Забыла, что сказал Гуго? — улыбнулся нормандец.
— Тогда подожди, подожди... — она порхнула от него. Потом обернулась: — Впрочем, нет... так нельзя. Ступай вниз, там тебя, наверное, уже ждут. А я сейчас...
И, игриво помахав ручкой, Эмма побежала в свои апартаменты.
Глава 17. Жара как способ заставить говорить о себе
Река Уаза, впадающая в Сену близ Парижа, немногим уже её, но шире сестры Сер. Обе встречаются северо-западнее Лана. Течение Уазы не сильное, всё же вода прогревается нескоро. Но есть залив, глубоко вдающийся в сушу, как раз близ слияния сестёр. Здесь всего теплее, и местные жители начинают купание с первых чисел мая. Иногда с конца, если запоздала весна. В этом году она была ранней, лёд сошёл быстро, и вода к первой декаде мая уже достаточно прогрелась. Правда, ближе к дну, на глубине, ноги сковывало холодом. Но кто задумывается над этим, когда донимает одуряющий зной?..
Придворное общество франкского короля добралось до места, когда солнце почти уже подтянулось к зениту. Пришли шумной толпой и застыли у песчаного пляжа в восхищении. По обе стороны — лес с недвижимой листвой, в её недрах прячутся, на все лады приветствуя наступающее лето, редкие птицы. Зеркальная гладь залива манит, слепя глаза, заставляя щуриться; кажется, будто раскалённый диск висит не над головой, а живёт где-то в глубине. По ту сторону реки залива нет, кусты ивы да ольховые деревья тянутся вдоль берега — глазом не объять, а поодаль, на возвышении, за могучими дубами стелятся зеленеющие поля. Но не далеко, до деревни; чуть дальше — до другой.
Первым подошёл к воде пожилой монах из церкви Святого Павла. Епископ Асцелин, пронюхав о вылазке, тотчас выслал вдогонку своего подопечного, дабы освятить воду, вознести молитвы, отогнать бесов и т. д. Монах в коричневой рясе, шевеля губами, долго рисовал в воздухе крест другим крестом, что держал в руке.
Можер толкнул в бок Карла Лотарингского, который догнал их по дороге, уже в виду залива:
— Вершит крестное знамение. Будто в церкви. Навязался же нам на голову. Долго он ещё будет воздымать очи к небу?
— Благодари ещё бога, что не затянул заупокойную службу по тем двум, что утонули здесь в прошлом году. Тогда, как бог свят, прождали бы до заката.
Наконец монах угомонился. Но не утерпел: отойдя от берега уже порядочно, обернулся и снова замахал распятием.
Но на него уже не обращали внимания. Первым плюхнулся в воду Можер и, фыркая, поплыл на глубину, резко рассекая мирную серебристую гладь перед собой.
Им залюбовались. Послышались возгласы восхищения. Завидуя и испытывая нечто вроде ревности, мужчины один за другим тут же понеслись вслед за нормандцем, кто мечтая догнать его, а кто просто покрасоваться — хоть на миг, но переключить на себя внимание женщин. И, конечно же, удостоился его, ибо все взоры были устремлены на воду. Пловцы оборачивались, махали руками и возвращались под шумные рукоплескания, шутки и смех. Женщины не купались, лишь обмахивались веерами, скинув с себя по возможности всё лишнее и сидя на стульчиках, которые принесли сюда слуги. Монах, глянув в ту сторону, проворно отвернулся, бухнулся коленями в песок и сложил руки лодочкой на груди. Потом опустил голову и забормотал. Что — неизвестно, должно быть, просил небеса простить ему грех такого лицезрения, а также уберечь его от искушения взглянуть туда ещё раз.
Видимо, ни одна из женщин так и не решилась бы войти в воду, если бы не нормандец. Выйдя на берег последним, он некоторое время постоял, обсыхая и с любопытством разглядывая полуобнажённых фрейлин в коротких, с раскрытым донельзя воротом туниках. Вия была там же, среди них, и весело махала ему рукой. Можер улыбнулся ей. И тут слева, шагах в десяти, увидел Эмму. Она не раздевалась, не позволял титул. Однако одета была легко и тоже улыбалась, как и все. Но глядела, в отличие от остальных, только на нормандца — на его мощный торс, широкие плечи, грудь, которой, кажется, можно было пробить брешь в стене. Глядела — и не могла оторвать взгляда, не в силах была, обуреваемая нахлынувшим чувством, похожим на обожествление. Аполлон стоял перед ней во всей красе, играя мышцами, блестя на солнце каплями воды, и она поймала себя на мысли, что стоит рядом и пьёт эти капли, слизывая их с его горячего и такого манящего тела.
Она приветливо помахала ему ладошкой в перстнях. В ответ — сдержанный поклон с рукой, прижатой к груди. Среди женщин пробежал шепоток. Почти все скосили глаза на королеву-мать. Заметив это, она пригасила улыбку и замахала веером, пряча взгляд.
И тут Можер, выкрикнув что-то на своём, нормандском, языке, внезапно бросился в самую гущу фрейлин. Они вначале ничего не поняли, вопросительно уставившись на него. Но потом, когда дошло, завизжав, бросились кто куда. Однако поздно. Нормандец быстро сунул двоих себе под мышки и, хохоча, тут же устремился к воде. Обе кричали, вырывались, взывали даже к силам небесным, но тщетно. Можер вошёл в воду по пояс и только тогда выпустил из рук свою добычу. И стал наблюдать, не пойдут ли ко дну. Не пошли. Напротив, обрадовавшись даже, проплыли несколько вперёд, потом вернулись, нащупали ногами песок и, стоя в воде по грудь, оживлённо принялись болтать с нормандцем. Благодарили, видимо, что оказались в центре внимания. Нелёгкая штука, иные из кожи вон лезут. А тут — так просто, и делать-то ничего не надо.
Постояв так, обе купальщицы с вызовом поглядели на берег. И зарделись от счастья. Женщины опять сидели на своих местах и не сводили с них любопытных глаз. И они обе тотчас, широко улыбаясь, развернулись и вновь поплыли от берега — плавно, не торопясь, зная, что на них с завистью смотрят и теперь весь вечер будут о них говорить.
Можер проводил их взглядом и, повернувшись, вновь устремил взор в гущу амазонок, как сразу же окрестил придворных красавиц. Фрейлины, опасаясь повторного вторжения в их ряды, снова завизжали и бросились врассыпную. Но нормандец не стал их преследовать. Выйдя из воды и скрестив руки на груди, он стоял и смотрел на трёх юных дев, идущих к нему. Эти не стали дожидаться, пока их бросят в воду. Или жара подействовала на них? Здраво рассудив, можно сказать иное: зависть клокотала в троице, ревность к первой паре, желание стяжать те же лавры и на том же поприще.
Подойдя ближе, все трое остановились, пробуя воду пальчиками ног. И тут с реки донеслось:
— Смелее! Альбурда! Магелона! Вода тёплая, вам не захочется вылезать.
Да пусть бы кричали, что холодная, разве за тем они шли, чтобы бесславно, заслуживая насмешки, повернуть назад? Никогда! Столь малая жертва для женщины ничто, они идут и не на такое. И, решительно войдя в воду по пояс, троица грациозно поплыла вперёд, будто трио белых лебедей заскользило по глади залива. А с берега им вслед — вновь завистливые взгляды. Но пример заразителен, особенно у женщин. И вот они уже почти все — в лёгких полупрозрачных туниках, едва доходящих до колен, — устремились к воде и загалдели оживлённо, забрызгали друг дружку, а потом сразу, без раздумий, кинулись в воду и поплыли кто как умел, фыркая и оживлённо болтая меж собой.
А бедный монах вдали от берега, не сняв рясы, всё так же стоял на коленях и возносил молитвы о даровании Господом прощения сим грешникам и ему, смиренному, что ненароком выхватил глазом женское бедро выше колена и обнажённые до бесстыдности плечи.
Накупавшись вволю, фрейлины одна за другой стали выходить из воды. Людовик закричал им:
— Или вы замёрзли уже? Не стыдно вам? Имперские женщины выносливее. Я видел Феофано, она выходила из воды последней.
— Ах, ваше величество, нельзя же, в самом деле, сразу и так подолгу, — отвечали ему юные жеманницы. — Нам надо согреться, чтобы повторить заплыв.
— Ну-ну, я пошутил, — заулыбался король. — Вода, конечно, не слишком тепла, а солнце так ласково греет. К тому же, если хорошенько припомнить, императрица водила своих немок не в середине мая, а в июле.
— Вот видите, государь, франки и тут оказались выше их. Заставь-ка Оттона нырнуть в глубину в конце весны, он в ответ лишь глубже нырнёт под одеяло.
И весь берег разразился хохотом. Острой на словечко оказалась юная Гизоберга, дочь графа Эда из Блуа. Как выяснилось позже — любимица Людовика. Она тотчас уселась рядом с королём на песке, и вокруг них белыми бабочками запорхали фрейлины. Побегали, попрыгали, уселись кружком вокруг государя и загалдели, рассказывая истории, анекдоты, шутя и хохоча.
— Все ли германцы хорошо плавают, государь? — спросила вдруг одна. — Вы видели, скажите нам.
— Не все, мои прелестницы. Ни один не заплывёт дальше Можера, половина дойдёт лишь до полпути.
— А остальные?
— Те и вовсе пойдут камнем ко дну, потому и заходят в воду лишь по грудь.
Фрейлины засмеялись.
— А наших вы видели, государь? — гордо подняла голову другая. — Все устремились за нормандцем, ни один не остался на мелководье. Герцоги, графы, бароны — все за ним.
— Исключая одного, — подала голос Магелона, младшая дочь графа Шалонского.
— Ты говоришь о Роберте, сыне Гуго? — спросила Альбурда, баронесса из Труа. — Но ведь он ещё мальчик.
— Ему скоро пятнадцать! На его месте я бы...
— Осторожнее, мои юные красавицы, — приложил палец к губам Людовик, — герцог Гуго где-то рядом. Боюсь, ему не слишком понравится критика в адрес сына.
— Сам виноват, — сказала Гизоберга. — Вместо того чтобы приставить к наследнику попа, лучше отдал бы его нормандцу, тот живо сделал бы из него настоящего воина и научил плавать.
— А что, и в самом деле этот граф из Нормандии так хорош, как о нём говорят? — полюбопытствовала ещё одна из фрейлин.
— Идеал мужчины, — авторитетно заявила Магелона. — Или у тебя самой нет глаз? Только ты, милочка, сомкни губки и погаси восторженный взгляд: такие, как мы с тобой, лишь мимолётные мгновения для него.
— Откуда тебе известно?
— Да уж известно. У меня гостит тётка из Меца, так вот она... — и тут Магелона вспомнила о родственных связях Людовика и Герберги. Она ещё могла бы упомянуть о королеве-матери, ведь сцена в галерее не осталась незамеченной многими, но... рядом сидел Людовик. И у неё тотчас отнялся язык, которым она едва не сболтнула лишнее. Поэтому, махнув рукой, она продолжила: — Но не будем об этом, тема скучная. А тётке моей иногда вообще чёрт знает что кажется. Поговорим лучше о Роберте, ведь мы начали о нём. Что, если нам подзадорить его, попросить залезть в воду? Любопытно — поплывёт?
— А не боишься, что папочка прикажет высечь тебя плетьми за твой язычок? — попыталась образумить её Гизоберга.
— А что в этом такого? Гм, подумаешь, и спросить уже нельзя, — передёрнула плечами Магелона. — Кого он, в самом деле, собирается вырастить из сына, — монаха? Только те боятся женщин как огня. А этот не должен, не имеет права, ведь он сын герцога франков! Что скажете, ваше величество, или я не права? — поглядела она на короля.
— Что ж, попробуй, но без меня, — ответил Людовик. — Наши отношения с его отцом и без того натянутые.
Магелона поднялась с места, собираясь подойти к Роберту, но вдруг остановилась, услышав голос:
— Не стоит этого делать.
Все обернулись. Туда же, левее от фрейлин, посмотрела и Магелона.
— Почему? Скажи нам, Вия! Ведь так, кажется, тебя зовут? — И королю: — Простите, государь, но мы почти незнакомы с вашей певуньей и музыкантшей. Она всё больше среди народа. Говорят, она образованна, умеет читать и писать, ведь так?
В ответ Вия кивнула.
— Может быть, ты княжеского роду?
— Бери выше, — сказал Людовик, — в ней королевская кровь. Её далёкий предок — сам Пипин Геристальский, от которого, как тебе известно, пошла ветвь Каролингов. А Карл Великий — его правнук.
— Недурно! Выходит, Вия, ты знатнее всех нас? — воскликнула Гизоберга. Потом прибавила: — Только жизнь твоя вовсе не королевская... ветвь угасла, так я понимаю?
Робко улыбнувшись, Вия снова кивнула.
— Да ты садись поближе, что в стороне-то?
Вия поднялась, села ближе.
— Почему же, говоришь, нельзя подойти к Роберту с такой просьбой? Рассердится отец?
— Нет. Но случится другое.
— Что же? И откуда тебе знать?
— Так... чувствую нехорошее что-то за этим.
— Вздор! — фыркнула Магелона. — Альбурда, пойдём со мной, одной как-то неловко. Да не бойся, не съест же нас герцог!
И они вдвоём пошли к берегу.
Мужчины тем временем, образовав круг в тени раскидистого дуба, занялись борьбой. Позвали Можера. Играючи он поднял одного и швырнул на песок. Вышли двое. Он зажал их под мышками и слегка напряг мускулы. Когда увидел побагровевшие лица — отпустил. Оба кулями свалились к его ногам.
— Ты ведь чуть не задушил нас! — закричали.
— И не думал, — рассмеялся нормандец. — Я всего лишь держал вас, даже не прилагая сил.
Мужчины повздыхали, почесали в затылках. Состязаться с Можером никто больше не захотел, а один сказал:
— Этот воин непобедим; вероятно, он, как Иаков, всю ночь боролся с Богом[8].
Оставив борцов и выкупавшись, Можер направился к Вие. Она увидела его и тотчас отошла в сторону от фрейлин. Усевшись на траве, они стали беседовать.
Королева-мать, посмотрев на парочку отнюдь не доброжелательным взглядом, нахмурилась и отвернулась, прикусив губу. Игла ревности, подкравшись к сердцу, замерла в ожидании. Эмма стала наблюдать за борцами, но поймала себя на мысли, что это её вовсе не интересует. Тогда она уставилась на реку, но поняла, что не видит её. Наконец она не выдержала и снова повернула голову. Беседа продолжалась: нормандец что-то рассказывал, жестикулируя, Вия не сводила с него глаз. Королева-мать почувствовала, как остриё иглы царапнуло сердце. Она стала глядеть себе под ноги, потом подняла голову кверху, затем посмотрела на короля, фрейлин, на юного Роберта, заходящего в воду... и снова взгляд устремился в направлении тех двоих. Игла, осознав своё предназначение, решила действовать и больно кольнула: Эмма увидела их сплетённые вместе ладони.
— Лоранс! — крикнула она.
К ней тут же, прихрамывая, заторопилась статс-дама.
— Слушаю, ваше величество.
— Ступай и немедленно приведи ко мне нормандца! Скажи, я хочу поговорить с ним.
Лоранс ушла. Уставившись отсутствующим взглядом на прибрежный кустарник, Эмма часто замахала веером. Как быстро они сошлись, будто только и ждали оба... Тут ещё рукопожатие. Случайное? Или нет?.. Но если вдуматься, сопоставить возраст, то чего она от него хочет? Она стареющая королева, которой скоро сорок... Легко ли выиграть партию? Ведь эта юная музыкантша... сколько ей? Похоже, они одногодки.
Погруженная в эти размышления, Эмма и не заметила, как подошёл нормандец.
— Звали, государыня? — негромко спросил он. — Я вам нужен?
Вздрогнув, она подняла голову и сразу зажмурилась. Ведь надо как встал — солнце прямо в глаза. Из-под веера она взглянула на Вию. Та с любопытством смотрела в их сторону.
— Не более чем всегда, граф, — вся ещё во власти противоречивых мыслей, сказала королева-мать. — Сядьте, я позволяю. Ваша фигура привлекает к нам излишнее внимание.
Можер уселся на песок прямо у её ног.
— Всем и без того стало известно желание королевы-матери. И никто не удивлён.
Вспомнив про веер, Эмма снова замахала им.
— Полагаете, сцена в галерее не осталась незамеченной?
— Конечно, — просто ответил Можер.
— Вы говорите так, будто это вас нисколько не касается, — упрекнула Эмма, — даже самый конец... Думаете, они всё видели, до последнего?..
— Даже викинг, государыня, грубый и неотёсанный норманн, как нас всё ещё называют франки, поспешил бы уйти. Что уж говорить о ваших придворных, воспитанных этикетом?
— Значит, король, мой сын... он ничего не подозревает?
— Что вас так беспокоит? Почему вы должны отчитываться перед ним?
— Потому что причина нашей недавней размолвки кроется именно в этом. Кто-то пустил слух, будто я в любовной связи с епископом Асцелином.
— Ну и что же? Нынче мирское не возбраняется духовенству, будь он каноник или епископ. Сам папа, я слышал, имеет несколько любовниц.
— Речь не о епископе, а обо мне.
— Кто смеет вам запрещать любить?
— Король, мой сын.
— Чудно у вас, франков. Разве мать короля приняла постриг?
— Клевету пустили ещё при живом Лотаре. Когда-нибудь вы узнаете правду...
— Представляю, как вам пришлось страдать, ваше величество. Но я на стороне короля. Фи, как это безнравственно: влюбиться в епископа!
— Можер! Как вы смеете! Мало того, что вы мне не поверили, но ещё имеете наглость столь дерзко говорить с королевой!
— Вы ставите мне это в упрёк? Зачем тогда влюбились в норманна?
Это охладило её. Помолчав, она бросила косой взгляд на Вию. Та, опустив голову, чертила что-то прутиком на песке.
Можер поглядел туда же. Эмма повернулась к нему:
— Скажи, что у тебя с ней?
— То, о чём ты подумала.
Она уронила веер. Взгляд с лица Можера потянулся вниз: пополз по его телу, по песку, траве у ног и застыл, упёршись в колени.
— Считаешь, мне следует оставаться монахом, ожидая твоих объятий? — спросил нормандец, не поднимая веера. — А ей? Монастырь — не её стезя. Что ж удивительного, если она влюблена?
— А ты? — быстро спросила Эмма и уставилась в его зрачки. — Тоже любишь её? Скажи, я хочу знать!
— Сердце норманна уже не принадлежит ему только у алтаря. Что касается меня, то мне любовь неведома.
У неё отлегло от сердца. Сколь она ни противилась, сколь ни крепилась, почувствовала всё же, как, помимо воли, губы растягиваются в улыбке.
— Это правда? Ты не обманываешь?
— Мыслью и словом норманн всегда прям, как полёт стрелы.
— Но ведь, — Эмма приглушила голос, — ты спишь с нею?
— С ней ли, ещё с кем, с двумя ли сразу — велика беда? — усмехнулся Можер.
— Но она любит тебя!
— Пусть себе влюбляется, и остальные за нею — мне не жалко, — пожал плечами нормандец. — В моего отца Ричарда, когда он был примерно в таком же возрасте, влюблялось по нескольку женщин сразу. Помню, у него их было аж четыре!
— И что же? — с интересом спросила Эмма. — Любил он кого-нибудь из них? Или...
— Правильно, всех четверых, — подхватил Можер. — Но не любил, хотя в постель к нему они прыгали по очереди.
— Боже правый, — обняв щёки ладонями, рассмеялась Эмма. — Ну а у тебя? Было такое?
— Мне не хотелось бы на это отвечать...
— Ну я прошу тебя!
— Норманны всегда и во всём подражают отцам, которых любят и почитают. Мне ли отступать от наших обычаев? Сам великий Хрольф Пешеход завещал норманнам свято чтить традиции, во всём слушаться отцов и брать с них пример... если, конечно, он не дурной.
— И ты считаешь, сей пример достоин подражания?
— А почему бы и нет, чёрт побери, если он показывает мужскую силу, а заодно даёт понять, насколько тебя этаким манером хватит.
— Насколько же хватало тебя? — не сводила с него глаз Эмма.
— Ни одна из трёх, что я оставил, когда уезжал сюда, не жаловалась.
— Боже мой!.. И что же, все трое ждут твоего возвращения? Что, если им надоест ждать?
— Уйдут эти, появятся другие. В замке у отца женщин столько же, сколько камней на дне Ла-Манша.
— А здесь? — Эмма пытливо заглянула ему в глаза. — Кроме этой Вии... ты понимаешь меня?
— Хочешь спросить, правильно ли я тебя понимаю, Эмма? Желаешь знать, не помешает ли она? А если я скажу «да», прикажешь её удавить?
— Глупый... Зачем мне это? Скажи лишь, будешь со мной? Не отвергнешь? — она взяла его руку, крепко сжала. — Я знаю, что немолода, но ведь не старуха, и мне ещё хочется любить! Но я королева, и никто не смеет... да и никому я не нужна. А ты... ведь я вижу, что нравлюсь, что желаешь меня. Наверное, потому и влюблена, ночей не сплю, мечтаю о тебе...
— И я о тебе, — улыбнулся нормандец, припадая губами к её руке.
— Это правда? — она вся засветилась счастьем. — Боже, как хорошо, что ты это сказал. А я всё думала... Но ведь тогда, наверное, и не случилось бы того, что было меж нами в галерее?
— Не случилось бы, моя королева, — вновь поцеловал её пальчики Можер.
И вдруг с реки послышался крик. Потом громкий, испуганный голос:
— Помогите! Юный герцог утонул! Скорее же, кто-нибудь!!!
Все бросились к воде. На берегу Магелона с перекошенным от страха лицом вопила, вытягивая руку в сторону реки:
— Он заплыл далеко и вдруг исчез! Потом пошли пузыри, пузыри!..
Ближе всех к воде стоял отец. Он и побежал на крик первым и уже готов был спасать Роберта, как вдруг перед ним вырос монах с распятием в руке.
— Ни шагу дальше! Дьявол сидит в глубине! Это он забрал к себе несчастного. Но Господь сильнее, Он победит!
Гуго застыл, безмолвно уставившись на воду. А монах продолжал, потрясая распятием:
— Молитесь! Господь услышит и вызволит утопленника из лап бесовских!
— А если не вызволит? — выкрикнул кто-то.
— Значит, молитвы наши до Бога не дошли. Молитесь же Ему! Креститесь, отгоняйте злых духов сатаны, они держат тело несчастного, не давая ему выплыть.
Гуго, обезумев от горя, вновь сделал попытку броситься в воду, но монах опять загородил ему дорогу и закричал:
— Кто коснётся утопленника, сам станет пособником дьявола, ибо тот когтями своими заразит дух и тело его! Добыча сатаны не подвластна ни уму человека, ни силе его!
— Но что же делать?! — накинулся на него Гуго. — Отвечай, монах, ведь это мой сын!
— Ждать чуда, — ответил монах и возвёл очи горе. — Всё в руках Божьих. Молитесь, и Господь явит своё чудо!
Застыли франки на берегу, не смея перечить, закрестились торопливо, шевеля губами в молитвенном экстазе.
И тут, расталкивая всех, торопливо вошёл в воду нормандец. Уже по щиколотку стоял, когда потянул его за руку монах:
— Опомнись, сын мой! Сам к дьяволу в пасть идёшь! Церковь не простит тебе!
— Может, хочешь со мной? — побагровел от злости Можер, сбрасывая с себя его руку.
Монах попятился, крест ходуном заходил у него в ладони.
— Господи, прости ему! Господи, прости всех нас! Велика Твоя сила и помыслы Твои! — И снова Можеру: — Опомнись! Дьявол глядит из глубины и сейчас выйдет оттуда! Выйдет!! Выйдет!!!
Все в страхе сделали шаг-другой назад от залива.
— Остановись! — снова крикнул монах.
— Прочь, каналья! — взревел нормандец и так поглядел на него, что тот, сделав пару шагов назад, оступился и упал на песок.
А Можер, зайдя в воду по пояс, набрал в лёгкие воздуха и скрылся в глубине...
Берег замер. Никто, кроме монаха, уже не крестился. Только губы шевелились у людей, застывших в молчании и тупо глядящих на воду. Да поп бегал взад-вперёд, без умолку вещая:
— Дьяволово знамение! Козни сатаны! Добыча дьявола! Проклятье ждёт того, кто вступит в сделку с Вельзевулом!
И тут Можер вынырнул. Поглядел на берег. Там — разинутые рты, вытянутые лица, широко раскрытые глаза, уставившиеся на него.
Глубоко вдохнув, он снова нырнул.
— Ага, я же говорил! Дьявол цепко держит добычу и не желает её отдавать! — затрещал монах, бегая по берегу. — Лишь Богу по силам борьба с чёртом, лишь Он может поднять утопленника, но не человек! Никто не в силах тягаться с дьяволом, лишь молитвы да святой крест могут бороться с силами зла!
Он поднял над головой распятие и собрался было обрушить на головы слушателей ещё какое-то страшное проклятие, но лишь раскрыл рот, как берег восторженно заревел голосами, приветствуя нормандца. Тот показался из воды и быстро погреб одной рукой к берегу. Рядом с его головой видна была другая — маленькая, беззащитная. Нащупав дно и взяв мальчика обеими руками, Можер стал выходить из воды. И не дошёл ещё до берега, как к нему бросились все, и первый — Гуго. Но монах снова загудел:
— Не подходите! Не трогайте его! Бесы!! Надо сотворить обряд изгнания бесов!
— Что это ещё такое? Отвечай, монах! — вскричал Гуго.
— Надо положить утопленника на песок лицом вверх, к Господу, а затем молиться! Бог услышит мольбы и изгонит бесов, вселившихся в твоего сына.
Не слушая его, нормандец вышел со своей ношей на берег, опустился на песок и положил Роберта животом себе на колено. Потом надавил раз, другой, третий — и из горла юного герцога хлынула мутная вода. Можер повторил операцию, воды стало меньше. В третий раз её и вовсе не было. Тогда нормандец перевернул Роберта на спину и, уложив на песок, принялся надавливать ему на грудь, где сердце.
Его обступили, вытаращив глаза. Гуго упал на колени и склонился над сыном.
— Роберт! Роберт!! Сын мой!.. — слёзы хлынули у него из глаз при виде того, как голова Роберта при каждом движении нормандца шевелится, перекатываясь с боку на бок. Но лицо мальчика, отдающее голубизной, было безжизненным, а синие губы оставались неподвижными.
— Бесы не выходят! И не выйдут! — вырос рядом монах. — Надо молиться Господу!
— Прочь отсюда, поп! — крикнул на него Можер и вновь продолжал давить на грудь Роберта.
А его отец, без кровинки в лице, всё так же тупо глядел в мёртвое лицо сына и не мог вымолвить ни слова, обливаясь слезами. Наконец спросил, вперив в нормандца безумный взгляд:
— Что это ты делаешь?..
— Так норманны возвращают к жизни тех, кто не смог справиться с волной, — ответил Можер, не прерывая своего занятия. — Так моя бабка Спрота Бретонская спасла жизнь брату Готфриду, когда он утонул на её глазах.
— Значит, ты думаешь, что... — впился глазами Гуго в нормандца, — сможешь оживить моего мальчика?.. Ты это сможешь, Можер?!
— Я делаю то, что видел своими глазами.
Гуго вновь уставился на синее лицо Роберта, ища подтверждения, ожидая чуда... Но губы юного герцога по-прежнему оставались недвижны. Тогда нормандец склонился, зажал утопленнику ноздри и принялся вдыхать ему воздух через рот, который с трудом удалось раскрыть. После трёх таких попыток он остановился, выжидая.
— Дьявол не отпускает его! Бесы не выходит! — надоедливо визжал монах над ухом Можера. — То, что ты делаешь, — сатанинский обряд! Посмотрите, их уста слились!
Дьявол вселился в нормандца, и сейчас бесы утащат его в ад!
Можер быстро поднялся, сгрёб в охапку монаха и швырнул его в воду. Оттуда послышались вопли, раздались проклятия.
— Сейчас мне некогда тобою заниматься, — крикнул нормандец, — но когда-нибудь я тебя утоплю.
И, не обращая больше внимания на монаха, вновь склонился над Робертом. И так же — уста в уста, а рукой на рёбра, с нажимом на сердце. Вдох, нажим, вдох, нажим, вдох...
— Смотрите, — вдруг радостно вскричал кто-то, — его щёки стали розоветь!
Можер приподнялся, посмотрел. И впервые перевёл дух, выдохнув так, что у Гуго, склонившегося над сыном, зашевелились волосы на голове. Нормандец поднёс руку к самому рту Роберта, подержал, убрал, поглядел на начавшие пунцоветь губы мальчика, увидел, как синева стремительно улетучивается с его лица, и улыбнулся. Потом похлопал юного герцога по щекам.
— Ну вот и всё, — произнёс он, вставая с колен и садясь на песок.
Гуго молчал. Все вопросы потом, а сейчас — сын! Взгляд на него! Внимание сосредоточено на нём одном!
И тут губы у Роберта шевельнулись. Герцог вздрогнул и радостно вскрикнул. Услышав это, мальчик открыл глаза.
— Отец... это ты?..
Гуго упал на колени и принялся целовать лицо Роберта, перемежая поцелуи восклицаниями, задыхаясь от счастья. Фрейлины, наблюдая эту сцену, утирали слёзы.
Увидев склонённые над ним головы людей, юный герцог сделал попытку приподняться. Отец помог ему. Сев, мальчик удивлённо посмотрел на него:
— Слёзы?.. Отец, я никогда не видел, как ты плачешь. Что случилось?
— Да ведь ты утонул, сынок! Не помнишь?..
— Я? — Роберт помолчал, вспоминая. — Кажется, и в самом деле... Ноги мои стали опускаться, как вдруг, будто льдом сковало их и стало выворачивать... я пробовал сопротивляться руками, но до берега было далеко, и у меня не было сил. И тогда... я помню только, как вода сомкнулась надо мной, потом открыл глаза... но кругом была тьма. Я стал задыхаться и хотел вдохнуть... а больше я ничего не помню.
— И никогда бы уже не вспомнить тебе этого, если бы не спасли, — сказал Карл Лотарингский.
— Значит, я пошёл ко дну, но мне помогли спастись? Это всё Господь Бог, я знаю. Наверное, вы молились ему, вот он и вытащил меня. Правда ведь, Можер? — поглядел Роберт на нормандца.
— Ещё немного, и было бы поздно, — сказал Можер, обращаясь к Гуго. — Когда свернётся кровь, сердцу её не погнать. Всё решали мгновения.
— Хорошо, что ты не послушал монаха, — сказал Гуго, кладя ему руку на плечо. Потом нахмурился, убрал руку. — А я... и мы все... ведь я чуть было не потерял своего мальчика.
Глаза его увлажнились, и он вновь стал глядеть на сына.
— О чём вы таком говорите, я ничего не пойму, — пробормотал юный герцог. Потом потрогал руками грудь. — И здесь у меня ноет... кажется, будто кто-то хотел переломать мне рёбра.
Гуго красноречиво посмотрел на Можера.
— Это я ломал тебе грудь, мой юный друг, — ответил тот.
— Зачем?
— Чтобы запустить сердце, ведь оно у тебя остановилось.
— И ты его запустил?
— Как видишь, — с улыбкой ответил нормандец, — а потом вдохнул в лёгкие воздух, ведь в них была вода. Так делали мои предки.
— Это молитва спасла, — сладко заверещал рядом монах. — Господь Бог услышал её и даровал тебе жизнь. Если бы не это, бесы одолели бы твою душу и утащили тело. Святая церковь учит...
— Замолчи, монах! — вскричал Гуго, вставая. — Клянусь прахом отца, если ты скажешь ещё слово, я сам затащу тебя на глубину и буду держать в воде до тех пор, пока дьявол не заберёт тебя к себе. И тогда уже ни один бог не поможет.
— Это святотатство, я пожалуюсь епископу, — пролепетал монах.
— Епископу? Любовнику? — выступил вперёд Людовик, грозно сдвинув брови. — Не много ли на себя берёшь, монах? Или хочешь, чтобы твоя и его головы лежали в одной корзине, как и голова архиепископа Адальберона, которую я прикажу отрубить!
Монах побледнел, сжался и больше уже не вымолвил ни слова.
— Зачем же ты заплыл так далеко? — спросил Гуго сына. — Ведь ещё не слишком хорошо плаваешь. Кто тебя надоумил?
— Никто, я сам, — потупил взгляд Роберт.
— Всему виной фрейлины, — сказал Карл. — Я был неподалёку и всё видел. Когда ваш сын стал уже возвращаться, они закричали, что, наверное, он совсем плохо умеет держаться на воде, коли проплыл так мало. Вот он и повернул снова от берега.
Гуго, нахмурившись, недобро поглядел на Альбурду и Магелону. Те взмолились, едва не плача:
— Простите, ваша светлость! Мы ведь не думали, всё это в шутку. Если бы знали... Но мы больше никогда... клянёмся!
— Прочь с глаз моих, негодные!
Обе мигом исчезли, притаившись за спинами подруг.
Роберт, пошатываясь, поднялся, за ним Можер.
— Скажи, отец, — спросил мальчик, — как вышло, что я оказался на берегу? Бог вытащил меня из воды?
Гуго улыбнулся, подойдя к нормандцу, обнял его:
— Спроси об этом у своего брата, мой мальчик. Лучше него никто не объяснит.
Роберт перевёл взгляд на Можера.
— Я нашёл тебя на дне, малыш, холодного, как душа у этого монаха, — стал рассказывать тот. — Признаюсь, нелегко было бороться с водорослями, которые уже крепко опутали твои ноги. Пришлось для этого нырнуть во второй раз. Потом я тебя поднял, мы выплыли на поверхность и очутились на берегу. Вот, собственно, и всё.
— Значит, — мальчик, казалось, никак не мог поверить в такое невнимание к нему небесных сил, — это не Бог спас меня?
— По-моему, ему было на это ровным счётом наплевать, — усмехнулся Можер.
Роберт долго молчал, то ли пытаясь осознать случившееся, то ли не находя слов. Наконец спросил:
— Ты так хорошо умеешь плавать? Ведь тебе пришлось грести одной рукой!
— Я норманн, сынок. Наша родина — берег моря. Едва начав говорить, мы сразу же лезем в воду. Викинг без моря — что зверь без леса. Ну, теперь тебе понятно?
— Выходит, это ты спас мне жизнь?
— Пустяки, малыш, — махнул рукой Можер, чуть улыбнувшись. — На моём месте так поступил бы каждый.
— Но ведь никто не стал нырять! Один ты.
Нормандец пожал плечами. Хотел ответить, но замялся: слов не находилось. Но нашёл-таки, проговорил негромко:
— Ты жив, вот и слава богу. Значит, всё хорошо. А теперь обними отца, видишь, он ждёт не дождётся, чтобы прижать тебя к сердцу.
Но Роберт не двигался с места. Он подошёл к Можеру и долго смотрел в его глаза. Окружающие, глядя на них, не проронили ни звука. Фрейлины захлюпали носами.
И в наступившей тишине, которую не посмел нарушить даже король, Роберт громко и отчётливо произнёс:
— Граф Нормандский, сын герцога Ричарда, друга нашей семьи! Ты спас жизнь Роберту, сыну герцога франков, и он готов сказать тебе, что он, то есть я... — мальчик внезапно смутился, но тотчас продолжил: — Я никогда не забуду этого, славный Можер! И помни отныне, я у тебя в долгу.
Потом подошёл Гуго и протянул нормандцу руку:
— Знай также, храбрый норманн, что и я у тебя в долгу, ведь ты вернул мне сына. Помни, где и что бы с тобой ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на моё покровительство и искреннюю дружбу. Это сказал герцог франков, сын великого Гуго. Пока же в знак благодарности позволь мне тебя поцеловать.
И они расцеловались на виду у всех.
И никто при этом не видел выражения лица королевы-матери. Прислонясь к дереву и держа в руке платок, она смотрела на Можера глазами матери, к которой только что, после долгого отсутствия, вернулся её горячо любимый сын.
Нормандец поглядел на неё и хотел уже подойти, как его взял за руку король:
— Я счастлив, граф, что имею друга в лице Ричарда Нормандского, у которого такой храбрый и замечательный сын!
Можер прижал руку к груди.
Людовик внезапно рассмеялся:
— Но как ловко ты швырнул в воду этого монаха! Вот бы и Адальберона так же!
— С удовольствием, но ведь он выплывет.
— Повесим ему на шею огромный камень.
— Есть более верный способ, король, избавиться от врага: оторвать ему голову.
— Неплохо, чёрт возьми! — воскликнул Людовик.
— Клянусь, я так и сделаю, государь, лишь пожелай!
— Да, но он всё же архиепископ, влиятельное лицо... А впрочем, посмотрим. Возможно, другого выхода уже не останется.
И Людовик пошёл к фрейлинам.
И снова Можеру помешали подойти к королеве-матери. На этот раз Карл Лотарингский.
— Ну вот, мой друг, ты и в ореоле славы, — сердечно пожал он руку нормандцу. — Теперь тебя станут любить, уважать и бояться. Не понимаешь? Поясню. Любить будут женщины, уважать все, а вот бояться — мужчины. Почему? Потому что отныне ты в числе друзей самого герцога франков, мало того, он твой должник. Одно лишь слово — и не поздоровится любому, на кого укажешь. Помни об этом, но не забывайся.
— Хорошо, Карл, буду свято помнить, что ты сказал.
— Ещё бы, забудешь тут, — усмехнулся Карл, хлопнув нормандца по плечу, — коли твой покровитель сам Гуго!
И, подмигнув, отошёл.
Наконец они остались вдвоём, Можер и Эмма. Она долго глядела на него, улыбаясь и блестя зрачками, потом поймала его ладонь, крепко сжала и прошептала:
— Я люблю тебя, мой норманн!
Обменявшись ещё несколькими тёплыми словами, они расстались («До вечера», — шепнула Эмма), и Можер направился к полянке, окаймлённой среди песка травой, откуда за ним наблюдала Вия. Она слышала всё, сказанное в адрес нормандца, ибо стояла рядом, но тотчас отошла, едва увидела, как её возлюбленный направляется к королеве-матери.
— Ты молодец! — повернулась Вия к Можеру, когда он уселся рядом. — Знаешь, я тебе даже завидую. И себе.
— Вот так-так! — рассмеялся нормандец. — Что за двойная зависть?
— Да ведь ты теперь первый человек при дворе! Сам Гуго пожал тебе руку и поцеловал при всех. Это что-нибудь да значит.
— Знаешь, Вийка (иногда так, по-детски, Можер называл её), но мне даже как-то неловко от того, что произошло. Все вдруг закрутились вокруг меня, я стал героем дня! Аполлон, да и только, но без крыльев. А что я, собственно, сделал? Чем заслужил? Вытащил из воды утопленника. Знаешь, сколько я их уже видел?..
— Вопрос в том, какого утопленника, — перебила Вия. — Ведь не простого смертного спас.
— Подумаешь, сына герцога, — передёрнул плечами Можер. — А будь на его месте другой: конюх или, к примеру, плотник? Думаешь, тогда я бы не полез за ним?.. — он попытался заглянуть ей в глаза. — Но ты меня не слушаешь, Вия? Смотришь куда-то вдаль. Что там увидела?
— То, что доступно лишь мне, — коротко бросила она.
— Опять твои чудачества?
— Одно только что сбылось, я предупреждала.
— А другое?
— Я вижу там, где не видит никто.
Она всё так же глядела на дорогу, петляющую меж деревьев и кустов и ведущую к городу. Можер проследил за её взглядом и, хмыкнув, пожал плечами.
Вия повернулась к нему и, без тени улыбки на лице, сказала:
— Не простого смертного спас ты сегодня от гибели, граф Можер.
— Это уже было. Может, объяснишь? Кого же именно?
— Короля! — воскликнула Вия и, рассмеявшись, вскочила на ноги.
— Ну, знаешь, — поднялся он вслед за ней, — это уже не смешно. Ты начинаешь плести невесть что. Короля... Может, ещё скажешь, императора?
— Нет, — серьёзно поглядела на него Вия. — Лев тогда оставляет свою территорию, когда ему нечего есть.
Можер только махнул рукой:
— Свои загадки оставь для других. Скажи лучше другое: говорила ведь, что завидуешь себе; почему?
Она подошла к нормандцу и, положив руки ему на грудь, заглянула в глаза:
— Потому что ты мой... потому что я люблю...
Глава 18. Кассандра
Вечером того же дня в кабинете у короля, а затем и по всему дворцу заговорили о предстоящей охоте. Вия снова напомнила Можеру о встрече с дровосеками и своих опасениях:
— Ты говорил ему? Пробовал заставить его отказаться?
Но он только отмахнулся:
— Всё это не более чем твои фантазии. Охота — любимое занятие королей. Он не откажется.
— Он может умереть.
— Ты с ума сошла!
Она пошла к королю.
— Странная ты какая... Да что может случиться? — ответил тот. — Рядом всегда мои оруженосцы, егерь, придворные...
— Государь, кругом будет лес: деревья, пни... А у людей стрелы, копья, рогатины — всё из дерева... Помните, я предупреждала тогда ещё?..
— Помню. Буду осторожен, обещаю тебе.
— И не станете попусту рисковать? Гнать лошадь с победным криком, завидев впереди оленя, лису или кабана и не думая об опасности?
— Какая же опасность, коли я сижу в седле?
— Из седла можно вылететь.
— Пустяки, — и Людовик так же, как и Можер, махнул рукой, — я хорошо держусь на лошади, отец учил меня.
Удручённая, Вия вышла от короля и направилась по коридору. Её приветствовали, мужчины отпускали комплименты, женщины пытались увлечь разговором; всем было известно об их близкой дружбе с нормандцем. Она останавливалась, отвечала на поклоны, улыбки, вопросы фрейлин, беседовала о пустяках и торопилась уйти. Впереди у неё была цель — покои королевы. Последняя инстанция, дальше идти было некуда. Если мать окажется бессильной уговорить сына — что ж, останется уповать на волю провидения. Со своей стороны она сделала всё, что могла.
И вдруг, прямо у дверей покоев Эммы, Вия остановилась. Подумала: не бред ли? Не вздор ли, в самом деле, туманит голову? Что вдруг на неё нашло? Отчего померещилась ей в той занозе гибель короля?.. Быть может, и вправду фантазии, плод воображения, как говорил Можер? И она носится со своей бредовой идеей, предупреждая об опасности, а ей вслед лишь смеются, считая сумасшедшей?
Она постояла немного в раздумье, стражник у дверей недоумённо глядел на неё. Она уже развернулась, собираясь уходить, ибо сама себе переставала уже верить, как вдруг перед глазами возник пень с зарубкой на краю леса, а на пне — огромный чёрный ворон. Посмотрел этот ворон на неё агатовым глазом, встрепенулся, взмахнул крыльями чернее ночи, да и каркнул человеческим голосом: «Иди, куда шла! А не пойдёшь — смерть ему! И кровь эта на тебя ляжет!» И расхохотался — раскатисто, зловеще.
Вия вздрогнула, по телу прошёл озноб. Привидится же такое! Но то был знак, она знала об этом и, больше уже не раздумывая, вошла к королеве.
Эмма сидела в кресле, держа в руках раскрытой «Кантилену о святой Евлалии».
Вия молча склонилась в поклоне, ожидая, пока с ней заговорят. Так требовал этикет.
Королева-мать подняла на неё глаза, в них читалось недоумение:
— Вия? — книга раскрытой легла на колени. Пристально глядя на гостью, Эмма холодно произнесла: — Я тебя не звала. Зачем ты здесь?
— Ваше величество, мне надо с вами поговорить.
«О Можере, — сразу же подумала королева-мать. — Она пришла именно за этим. Но какая наглость! Кто дал ей право? Как смеет она обсуждать мои действия? Девчонка! Шлюха подзаборная! Понимает ли, что творит? Соображает ли, к кому пришла и зачем? Ведь мне стоит лишь шевельнуть пальцем — и об этой певунье никто больше не вспомнит! Она знает об этом, но уязвлённое женское самолюбие заставило её, потеряв голову от любви, прийти сюда, чтобы защитить свою любовь, требовать вернуть возлюбленного. Требовать? Ещё чего! Просить — вот на что лишь имеет право эта хрупкая музыкантша. Но не имеет и его, ибо должна склоняться перед ударами судьбы, а не бросать им вызов! Я поставлю её на место. И тотчас же! Не поймёт — пусть пеняет на себя!»
Она сощурила глаза, губы тронула снисходительная улыбка:
— О чём же пойдёт беседа, дитя моё?
И вся внутренне напряглась, ожидая ответа и готовясь дать волю гневу.
— О вашем сыне, — сказала Вия.
Брови королевы-матери медленно поползли вверх. Вот чего она и в самом деле не ожидала. Она незаметно вздохнула: значит, не об этом. И успокоилась. Морщины на лбу разгладились. Захлопнула книгу, положила на стол. Не меняя позы, с любопытством глядя на гостью, милостиво позволила:
— Что ж, говори, с чем пришла.
— Государыня, прошу вас, не отпускайте короля на охоту, — чуть не молящим голосом проговорила Вия, устремив жалобно-просящий взгляд на королеву-мать.
— Не отпускать? — у Эммы вырвался смешок. — Что ещё за новости! Почему это?
— Позвольте я всё вам расскажу.
— Рассказывай, милая, ты для этого и пришла, так ведь?
— Да, ваше величество.
— Я слушаю.
И уставилась на девушку. Потом сжалилась, предложила стул.
Вия уселась, по знаку королевы пододвинулась ближе. И, собравшись с духом, поведала обо всех своих опасениях, начиная с необычайных способностей, унаследованных от далёких предков, и кончая печально известным фактом, когда ей почудилось, будто не вода в заливе, а бездна, и юный герцог, подзадориваемый фрейлинами, готовится идти прямо в пасть к дьяволу.
— Что же, предполагаешь ты, может случиться с королём во время охоты? — недоверчиво спросила королева-мать, когда рассказ был закончен. — Видишь что-то воочию или только кажется? Сопоставляя карканье ворона с занозой в пальце, ты делаешь выводы о грозящей королю гибели?
— Я ничего не могу утверждать, ваше величество, — ответила Вия, — лишь хочу предостеречь. На охоте всякое может случиться. И если вы не можете запретить вашему сыну устраивать охоту, тогда... пусть короля надёжно охраняют, не оставляя одного.
— Иначе и быть не может, моя милая, — улыбнулась королева-мать, в душе считая всё это не заслуживающим внимания. — Короля охраняют всегда и везде, его всюду сопровождает многочисленная охрана и придворные.
Глядя себе под ноги, Вия промолвила:
Случай не станет спрашивать разрешения у придворных.
— Случай? — насторожилась Эмма. — Что ты хочешь сказать? Быть может, имеет место заговор, но ты не решаешься назвать имена участников? Говори, не бойся. Клянусь, мятежников тотчас арестуют, а на тебя и тени подозрения не упадёт.
Вия тяжело вздохнула:
— Не знаю я никаких мятежников. Я всего лишь поведала о своих страхах. А теперь позвольте мне уйти, — и она поднялась со стула.
— Что ж, если тебе больше нечего сказать, тогда ступай.
— Я и так сказала много, ваше величество. Как дальше поступить — вам решать. Хочу только добавить: этот день охоты может быть последним...
— Для кого? — быстро спросила королева-мать.
— Если он закончится благополучно, вам незачем будет думать об этом, если нет, то мне не придётся ничего объяснять.
И Вия, поклонившись, вышла, оставив королеву в тягостных размышлениях. Вспомнив услышанный рассказ и сопоставив его с произошедшими событиями, Эмма не могла не поверить в способности девушки и в самом деле кое-что предугадывать, но, заглянув в будущее, она не увидела там сгущавшихся туч. Над головой юного Людовика сияло безоблачное небо: вскоре будет подписан мир с империей, а потом она найдёт знатную невесту для сына. О чём тут толкует эта девчонка? Что ей такое мерещится, что может ему угрожать? Вздор! Попросту околесицу несла здесь эта сумасшедшая. Если только... — и Эмма нахмурилась, — это не ловкий ход. Какой же? Чей? И для чего? Уж не хотят ли те, кто за спиной певуньи, заставить короля не покидать замок в этот день? Готовят покушение? А тут — охота! И эта девица у них — в роли Кассандры, предостерегающей короля о якобы нелепой случайности, которая может с ним произойти в лесу! Недаром у неё возникло сомнение по поводу искренности рассказчицы. Уж больно ловко, как по писаному, всё изложила, будто заранее заучивала текст. Да и как она вдруг оказалась в любимицах у Людовика, стала пропадать у него в покоях? Карл Лотарингский привёл... и Можер... Не отсюда ли тянутся нити заговора? Неспроста деверь оставил Лотарингию и примчался в Лан якобы из любви к племяннику. Уж не хочет ли сам занять его место, для чего и подсунул девчонку с целью выведать планы короля и узнать таким образом, когда и как нанести удар? И день, похоже, уже выбрали — тот, на который назначена охота!
Эмма побледнела. Можер! И он в этой шайке. Кто ещё? Непонятно... А эта сцена на заливе? Не подстроено ли всё нарочно, дабы нормандцу войти в доверие герцога франков? Дабы тот одобрил планы заговорщиков и помог свержению короля?..
Так, размышляя, Эмма пришла к выводу о необходимости схватить певунью и под пытками выведать, что ей известно. И она уже вскочила с места, готовясь отдать приказание привести палача, как вдруг передумала. Планы на нынешнюю ночь — вот что спутало ей карты. Вначале она пойдёт к Можеру и у него, ласкаясь кошечкой, попытается выведать кое-что и о Вие, и о Карле Лотарингском. За девчонкой же она установит надзор и будет следить сама. Подвергнув же её пыткам, можно наломать дров: Людовик этого не простит, и без того мать с сыном не ладят. К тому же, — и Эмма глубоко вздохнула, — всё это ей лишь представляется и ничем пока не подтверждено. Плод разыгравшегося воображения. Дай бог, чтобы так и оказалось. Ну а если нет... Она первой доложит обо всём Людовику, это их окончательно помирит.
И в том, и в другом случае выигрыш доставался ей, и Эмма, успокоившись, решила пока ничего не предпринимать, исключая, впрочем, грядущую ночь и надзор за новоявленной королевской фавориткой.
А Вия, не подозревая о том, какие мысли породил в голове королевы-матери её визит, тем временем пришла к Карлу Лотарингскому, о котором совсем забыла. Выслушав её внимательно, Карл некоторое время молчал, затем с улыбкой обнял девушку за плечи:
— А не померещилось ли тебе всё это, девочка? Занозы, вороны... Да и кому несчастье предрекаешь? Самому королю!
— Да не предрекаю я! — надула губы Вия, раздосадованная нежеланием воспринимать её слова всерьёз. — Просто говорю что думаю, что кажется... сердце чует. А случится несчастье? Ведь сбывалось же, как предсказывала...
— Не всегда пророчества сбываются, милая, знай это, — убрал Карл с её лба непослушные волосы. — Кассандра — и та ошибалась. Да и Плектруда тоже. Так что успокойся, ничего худого не произойдёт с нашим королём.
— Дай-то бог, — вздохнула Вия и, улыбнувшись на прощание, ушла к себе.
Некоторое время спустя, когда залы, галереи и коридоры дворца опустели, королева-мать вышла из своих покоев и, неслышно ступая по холодным плитам пола красными полусапожками, крадучись направилась на половину короля. Миновав длинную галерею с окнами, сквозь которые луна рисовала на полу светлые прямоугольники, она вышла на площадку перед лестницей, огляделась, прислушалась и повернула влево. Здесь, освещённые факелами, — двери покоев короля и тех, кто удостоен высокой милости жить рядом с монархом. Стены неровные, перемежаются выступами и нишами, последние уставлены статуями античных богов и франкских королей. Ниши эти освещены неравномерно, оттого лица статуй — чуть не все в профиль. Там, где тень — идеальное место для убийцы.
Эмме осталось совсем немного, несколько шагов. Она уже видела дверь, над которой красовался гипсовый лев с ланью в зубах. Покои Можера. Сюда она шла; к нему стремилась с того самого дня, когда впервые увидела нормандца. Час настал. Её час. И она вся трепетала, воображая, какой будет их встреча и как она будет дарить ему свою любовь, своё тело — исстрадавшееся, истосковавшееся, дрожащее от одной только мысли, что ещё немного — и она упадёт в объятия, которых так долго, так мучительно ждала...
Внезапно она вздрогнула. Застыла лиловая мантия, замерли полусапожки. Вблизи послышался звук шагов, крадущихся, но всё же слышимых. Ещё миг — и человек покажется из-за угла, где окно и где коридор обрывается. Здесь, направо — лестница, ведущая вниз. Именно по этой лестнице и стучали шаги. А рядом, под углом к покоям нормандца, другая дверь — в комнату Вии. Не она ли это торопится к себе?
Желая избежать встречи, Эмма укрылась в нише. И решила: появится девчонка — пусть пройдёт. А она выждет немного — и в другую дверь, что со львом.
Женщина — а это была она, королева-мать безошибочно умела узнавать по звуку шагов — показалась из-за угла и, на этот раз не крадучись, смело пошла вперёд. Эмма угадала, это и в самом деле оказалась Вия, которая, как могло показаться, шла к себе. Но не к себе. У Эммы упало сердце, когда Вия прошла мимо своих покоев и остановилась подо львом. Потом постучала. Из-за двери послышался шум, чей-то громкий недовольный голос, и она открылась. Голос тут же изменился на приветливый. Вия быстро юркнула внутрь, дверь закрылась, и всё стихло.
Скрипнув зубами, королева-мать развернулась и торопливо пошла прочь. Придя к себе, позвала камеристку.
— Лоранс ко мне! Быстро! — приказала ей.
Та исчезла. Вскоре появилась Лоранс.
— Скажи, — обратилась к ней Эмма, — хорошая ли я королева?
— О да, ваше величество, — в удивлении захлопала глазами статс-дама.
— Обижала ли я тебя когда-нибудь? Только честно, не лги, не обижусь.
— Никогда, государыня...
— Делала для тебя что захочешь, не спрашивая — зачем, для чего?
— Конечно же, спору нет и я, право, удивлена...
— Значит, ты предана мне и любишь меня?
— Как можно сомневаться в этом, ваше величество? Ведь вы знаете, я по первому зову явлюсь и выполню любой ваш приказ.
— Что бы ты сделала с человеком, оскорбившим меня, посмевшим насмеяться надо мной, наплевать в душу?
— Господи, да разве есть такой?
— Да, моя милая. Так ответь, я жду.
— За ответом ходить недалеко. Ваше величество прекрасно знает, мне незачем говорить. Назовите лишь имя.
— Юная музыкантша, любимица моего сына.
— Вия! — воскликнула Лоранс.
— Ты смущена? В нерешительности? Страх закрался тебе в душу?
— Перед королём. Если он узнает, с меня живой сдерут кожу.
— Ему не узнать. Тайной владеем ты и я. Главное — держать язык за зубами, а в остальном я твоя заступница перед Богом и королём. Всё понятно? Ты готова действовать?
Я сделаю всё, что прикажете, государыня. Повелевайте.
— Уничтожь эту девчонку. Ты знаешь как, у тебя есть яды.
Лоранс поразмыслила, покачала головой:
— Дело сорвётся: она знахарка и знает противоядия.
— Тогда — кинжал! Но не сама, скажешь Эсхару. За горсть золота он проберётся к самому папе и перережет ему горло.
— Я поняла, — кивнула статс-дама и коротко спросила: — Когда?
— После охоты. Не хочу раньше времени расстраивать короля. Теперь ступай. Завтра у тебя будет целый день, чтобы разыскать в городе твоего Брута.
— Покойной ночи, ваше величество, — поклонилась Лоранс и исчезла.
— Мерзавка, — размышляла вслух королева-мать, — так ты посмела переступить мне дорогу? Ведь знала, что я люблю нормандца, тем не менее не сделала для себя вывода. Решила пойти мне наперекор? Так пожалеешь об этом. Но я не стану тебя пытать, к тому же сын может разнюхать. Я просто убью тебя. И считай это милостью, потому что умрёшь без мучений. Что до заговорщиков, то, полагаю, тревогу бить рано. Но я возьмусь за них, когда факты будут налицо.
Глава 19. Санлисский лес
Утром 20 мая замковый двор шевелился и гудел будто потревоженный улей: конское ржание, лай собак, перебранка, шутки, чьи-то приказания... Сверху поглядеть — настоящий муравейник, его обитатели копошатся, мечутся, бегут куда-то. И повсюду слышится одно, как разгадка всему — псовая охота! Любимое развлечение Людовика. Питал он слабость и к соколиной охоте, но устраивал её чаще по просьбе фрейлин — любительниц скакать по полям с соколом или ястребом на руке. Ныне же было иное: вместо полей — леса, вместо ловчих птиц — своры собак, которых псари уже держали на поводках. Один из них, доезжачий, держал борзую ищейку, она-то и должна была по следу отыскать лежбище вепря либо место его кормёжки.
Но что-то долго нет короля, мешкают Гуго и Карл Лотарингский, а между тем солнце уже поднялось из-за леса, длинной полосой темнеющего на горизонте. Те, что внизу, уже волнуются. Одеты все подобающе случаю: облегающие ноги шоссы[9], башмаки или полусапожки из кожи, рубахи с узкими рукавами, поверх — куртки. У каждого рогатина, меч, лук со стрелами на левом плече, с правого боку — рог и кинжал в ножнах, висящие на ремне. Все с непокрытыми головами, исключая женщин, а также псарей, ловчего и доезжачего; последние в круглых кожаных шапках.
Можер и Вия давно уже во дворе, их лошади рядом, бьют копытами.
— Знаешь, вчера мне почудилось, будто за мной следят, — сказала Вия.
— Что ещё за новости? — повернулся к ней нормандец. — Кому это надо?
— Не знаю, но ночью, подходя к твоей двери, я уловила запах другой женщины. Мне показалось даже, что она вот-вот выйдет из ниши и встанет передо мной. Ты никого не ждал?
— Вот ещё! С чего ты взяла? Да и кто бы это мог быть?
— Королева-мать, — исподлобья бросила Вия испытующий взгляд. — В воздухе витал запах её румян.
— В самом деле? — усмехнулся Можер, вспомнив многообещающее «До вечера!». — Что ж, возможно. Наверное, она кралась ночью по коридору с кинжалом в руке, мечтая убить соперницу, но не успела: ты пришла раньше неё.
— Она что-то затевает, Можер! Быть может, и в самом деле жаждет моей погибели?
— Чушь! Кто тебе сказал?
— Никто. Но мне показалось... Смертью пахло в воздухе, когда я выходила от тебя.
— Опять догадки и предчувствия? Боже, как я от них устал. Тебе бы жить при римлянах, среди авгуров[10]; они — по птицам, ты — по запахам. Но оставим это. К нам идёт Роберт. Смотри, как весел. Ты его просто очаровала вчера вечером своими рассказами, он зовёт тебя подружкой.
Роберт подошёл, поздоровался, и они втроём оживлённо заговорили о предстоящей охоте.
Неподалёку от них обменивались новостями вблизи своих скакунов фрейлины.
— Говорят, скоро конец войнам. Будет мир с империей, — сообщила Магелона.
— Откуда тебе известно? — уставились на неё Гизоберга и Альбурда.
— Тётка поведала, та, что из Меца.
— Которая рассказывала о Можере? Ты так и не закончила в тот раз...
— Ах, да! Так вот, оказывается, пока герцогиня ездила к Феофано, нормандец...
И она пересказала в точности любовные приключения Можера, услышанные от тётки. Гофмейстерина герцогини Беатрисы, оказалось, доводилась ей родственницей.
Но тут двери раскрылись, и на площадке показался король — весь в зелёном, только шапочка красная. Рядом — мать, Гуго, Карл, графы Эд и Герберт, маркиз Готии, герцог Бургундский и кто-то ещё, за их спинами не видно.
К королю тотчас поспешил ловчий.
— Ну что? — живо спросил Людовик. — Добыча в кругу?
— Кабан там, — указал ловчий на лес. — Матёрый. Совсем недавно выходил, рыл корни, жевал прошлогодний жёлудь. Ищейка возьмёт след, нагоним быстро.
— Своры готовы?
— Две, по десять в каждой, как обычно.
— Отлично! Едем! — и король, вскочив в седло, дал знак рукой.
Ворота скрипнули и разъехались в стороны, пропуская кавалькаду.
Вия легко вскочила на коня, но не успела тронуть с места: кто-то ухватил за уздечку. Она поглядела — Гийом.
— Будь осторожна, дочка, — вполголоса проговорил старый конюх, когда она, повинуясь его жесту, наклонилась с седла.
— Ну что ты, Гийом, — улыбнулась она, — разве тронет меня зверь? Да и не стану лезть на рожон, мужчины рядом.
— Не зверя бойся, человека, — продолжал старик. — Очень уж мне не понравились двое, обе женщины. Стоя у конюшни, я хорошо видел, как одна вышла из дверей, к ней подошла другая, и обе зашептались, поглядывая в твою сторону.
Вия нахмурилась, вспомнив вчерашнюю ночь.
— Кто же первая, Гийом? — также вполголоса спросила она. — Королева-мать?
Старик испуганно огляделся по сторонам, потом кивнул.
— А вторая? Скажи, не знаю её.
— Статс-дама...
— Орта нс!
Старик приложил палец к губам, снова кивнул:
— Берегись их, девочка.
Вия склонилась ниже, поцеловала старика в лоб и дала шпоры коню.
Вскоре въехали в лес. Доезжачий впереди, он и указывал направление. Маршрут тот же, какой выбрал Баярд несколько дней назад. Он и сейчас шёл под Вией и время от времени поворачивал голову, кивая вверх-вниз, словно спрашивая, помнит ли наездница этот путь. Да, она помнила всё в точности, ничего не упуская. Вот ряд сосен, выставивших в небо стволы-мачты и подпиравших его своими кронами; вот дуб, расщеплённый пополам ударом молнии, за ним густая, непролазная чаща, в недрах которой вьётся тропа; потом поляна, перелесок, смешанный лес, ельник, снова лес, за ним тропа поворачивала. Так же тогда пробиралась и Вия верхом на Баярде. И только подумала: свернут ли или прямо путь лежит, как доезжачий остановился и указал рукою вниз. Все поглядели. Земля разрыта, разбросана, на ней видны остатки пиршества.
Король подозвал псаря:
— Спускай ищейку! Ату его! Ату!
Ищейка покрутилась, понюхала и, раздув ноздри, бросилась в чащу леса, как раз туда, куда сворачивала тропа и где Вия повстречалась с дровосеками...
У неё тревожно заныло сердце. Нет, только не туда, ведь там... Она в ужасе схватилась за голову. Тот самый пень, огромный, а на нём чёрный ворон... ведь он прямо на пути, она побожиться может! И бросилась вперёд, к королю, собираясь упредить его... но не успела. Людовик протрубил в рог, дал шпоры коню и вмиг помчался за борзой. Охотники, фрейлины и выжлятники со сворами — за ним. Помчался и Можер, оглянувшись на Вию и недоумевая, почему она осталась на месте. А она, уже осознав своё бессилие, слушала стук собственного сердца и гадала, на каком же ударе...
...На пятнадцатом. Именно столько раз гулко бухнуло сердце в её груди, как только король сорвался с места. И, чуть не доходя до этого счета, споткнулся вдруг конь Людовика и на всём скаку пал на передние ноги. Вылетел всадник из седла, перевернулся в воздухе и на пятнадцатом ударе упал спиной на пень, тот самый. И тотчас дико вскричал от боли. Услыхав этот крик, Карл Лотарингский резко осадил коня, повернул, помчался к племяннику. Ещё не доехав, спешился на ходу, и — бегом, на колени упал перед пнём:
— Людовик! Мальчик мой! Что?.. Что с тобой?
— Дядя... дядя... — простонал юный король, — спина... голова... — и, закрыв глаза, сразу обмяк.
Карл повернулся.
— Врача!! — закричал не своим голосом. — Скорее врача!
Но вот и лекарь; подъехал тотчас вместе с Вией, торопливо спешился, подбежал, склонился... и застыл. Оглядел короля. Тот так и лежал спиной на пне, голова свесилась с одного краю, ноги с другого. Лежал, уже не глядя в голубое небо над ним с редкими белыми облаками, и с лицом, схожим цветом с ними.
Лекарь взял его за руку — она была безжизненна. Он приподнял ногу, отпустил — та упала плетью. Потом так же поднял голову, ощупал затылок, шею сзади и убрал руки. Голова безвольно повисла. Сознание не возвращалось к королю, хотя сердце билось.
И лекарь всё понял. Подобное видел не раз, не на охоте, правда, — на войне. И ещё знал, что есть у каких-то далёких восточных народов такой вид казни — перелом позвоночника. После удара по спине дубиной осуждённый медленно умирал. Сколько ему ещё отмерено было, лекарь не знал, но догадывался, что не много, полдня от силы, может — меньше.
Так и сказал, когда поднялся и все уставились ему в рот:
— Перелом позвонков... Та же казнь.
Карл не понял, попросил повторить.
— Король казнил сам себя, — пояснил лекарь. — Всему виной этот пень. Не будь его... — и выразительно посмотрел на Карла.
— Король умрёт? — воскликнул тот. — И нет спасенья?!
— На всё воля божья, — ответил лекарь, опустив руки.
— Но что-то надо сделать! Сейчас! Сей миг! — бросился Карл на лекаря и вцепился ему в одежду. — Ведь это невозможно... этого не может быть!!! Скажи же что-нибудь!
— Я должен осмотреть, — промолвил врач. — Но не здесь. Раненого надо раздеть, необходимо видеть тело... Выход один: на носилки — и во дворец. Конечно, лучше бы этого не делать, может стать ещё хуже. Каждое движение сейчас для него — удар бичом по живому... Но иного выхода нет. Кладите ветки поперёк, ложе должно быть жёстким.
Карл дал знак. Поднесли носилки, предназначавшиеся для зверя или для человека, коли поранят на охоте. Людовика осторожно подняли и уложили, обмякшего, на то, что наспех соорудили для него. Теперь не везти, только пешим ходом, как указал врач, да и то соблюдая осторожность, ибо при каждом неверном шаге могла наступить мгновенная смерть.
Так и понесли. Но не кабана, а короля. И не радость, а горе было у людей; не улыбки, а скорбь застыла маской на всех лицах.
Лишь к вечеру добрались до Лана и в молчании, медленно двинулись ко дворцу. Едва стали подниматься по ступенькам, как двери распахнулись, вся в слезах выбежала королева-мать и бросилась к носилкам. На них — её сын с лицом уже мертвеца.
— Сын мой, Людовик!.. Что... Что с тобой сделали? Кто посмел?! Боже! Господь милосердный! Да как же это! За что мне?!
Ноги её подкосились, она упала на колени. Обняла руками носилки, впилась безумными глазами в лицо сына и вновь заголосила. Потом повалилась замертво, распластавшись на ступеньках. Гуго дал знак. К ней тотчас бросились, подняли, понесли. И за ней — носилки с телом её сына, чуть живого, с восковым лицом, с начавшими синеть пальцами рук.
Двери закрылись за шествием, и всё стихло. Но ещё долго не расходились те, кто не пошёл за королём, а остался внизу. Послышались реплики, восклицания, предположения. Делались выводы, давались прогнозы на будущее. Но что бы ни говорили эти люди, как ни пытались ободрить себя и других, уверяя, что всё обойдётся, — чувствовался страх. Постепенно, в одного за другим, он уже вселялся в умы и вызывал безотчётно, но вполне резонно, вопрос, на который никто не мог дать ответа: «Последний... кто же следующий?..»
Людовика принесли, раздели и, по требованию врача, уложили в постель ничком. Затем начался осмотр. Лекарь ощупывал, поглаживал, надавливал то тут, то там, хмурил лоб, думал сосредоточенно и снова принимался щупать позвоночник от шеи до крестца. Наконец объявил, что должен посоветоваться с коллегой, есть сомнения. Того привели, вкратце объяснили суть и оставили обоих колдовать над безжизненным телом короля. Вышли все, кроме Эммы и Карла. Эти — ближайшие по родству и первыми должны знать всё.
Они смотрели, ни во что не вмешиваясь, слышали непонятные слова, видели, как оба врача перевернули Людовика на спину, вновь начав обследования, и думали каждый о своём. В сущности — об одном и том же: гибели! Сначала династии, потом своей. Эмма, бледная, сидя в кресле, глядела на серые квадраты мраморных половых плит и чувствовала, как дрожат пальцы и стучит в висках. Если Людовик умрёт — она станет никем и будет никому не нужна. Тем более, Карлу, которому, догадывалась, никогда не стать королём. Не говоря о вражде меж ними.
А Карл думал: если племянник умрёт, предстоит тяжёлая борьба за трон. Шансы ничтожно малы, он знал об этом. Всему виной Лотарь. Короновав сына, когда тому едва исполнилось тринадцать лет, он окончательно убрал с дороги младшего брата, а потом и вовсе выгнал. Эмма постаралась. Кто теперь признает его королём? Чтобы этого добиться, нужна сила. У Карла её не было. Он был беден, без связей, без друзей.
В невесёлых думах оба сидели, не глядя друг на друга.
Родственники в прошлом, ставшие жертвами козней Лотаря, ныне лишь знакомые, в будущем они и вовсе станут врагами. Если, конечно, не изменится обстановка. В противном случае Эмма попросту уйдёт в забвение, коли не протянет деверю руку дружбы. Но не похоже, что так случится, слишком зол Карл на неё. Другому кому-то суждено сблизить этих людей, постороннему, не имеющему отношения к их династии, но нужному одновременно и тому, и другому. Найдётся ли такой человек? Станет ли возможным этот союз и не будет ли уже поздно?.. Вопрос будущего. А пока жив ещё последний король.
И оба, хмуря брови, затаив дыхание, ждали приговора суда. Судьи — двое, те, что склонились над телом короля. Те, в чьих руках ныне судьба династии, кто одним лишь словом может изменить ход истории. И кому это дано? Простому лекарю. Неисповедимы, воистину, пути человеческие и господни на этом свете. А двое родичей, под одним из которых горела скамья, под другой кресло, оба без кровинки в лице, с надеждой и страхом глядя на судей, уже чувствовали, что впереди их ждёт нечто не менее страшное, чем сама смерть — забвение!
И приговор прозвучал. Врачи повернулись, посмотрели на Эмму, потом на Карла. Один из них сказал:
— Положение безнадёжное: перелом позвоночника у основания черепа. Выбиты первый и второй шейные позвонки. Паралич тела, конечностей и расстройство дыхания как следствие разрыва спинномозгового столба. Кроме того, перелом спинных позвонков и разрыв седалищного нерва. И последнее: мочеиспускание нарушено, мочевой пузырь переполнен. Больной ещё может прийти в сознание, но ненадолго.
— Ненадолго? — вскричала Эмма, вскочив с места. – А потом?..
Врач посмотрел ей в глаза и опустил голову.
— Неужели ничего нельзя сделать? — бросился к нему Карл. — Нет никакого выхода?.. Пусть малейшего!..
— Для этого надо вскрывать тело короля и отводить мочу...
— Так вскрывайте!
— Церковь запрещает это. Без позволения епископа нельзя производить такие операции над помазанником божьим.
Карл поглядел на королеву-мать.
— Вскрывайте! — закричала она. — Некогда ждать епископа! Я даю разрешение!
— Только опытный хирург смог бы взяться за это. Нам не под силу, — развёл руками врач. — Больной очнётся... Нужен наркоз, ведь резать придётся по живому... Смерть от болевого шока — не лучший выход.
Тут он обернулся. Коллега тянул его за рукав, указывая другой рукой на лицо короля. У Людовика были открыты глаза...
Увидев это, врач покачал головой:
— Да и поздно уже. Открытые глаза — признак скорой смерти. Моча, кажется, вырвалась наружу и затопила...
Не слушая его дальше, Карл и Эмма бросились к Людовику и склонились над ним, глядя в его лицо. И оба отшатнулись. На них смотрела с подушек восковая маска мертвеца. Но глаза ещё жили, шевелились и губы. Однако они не произносили ни звука, а глаза уже заволакивала мутная пелена.
Карл, с лицом едва ли краше, чем у короля, поглядел на врача.
— Ему нужен священник, — сказал тот.
Карл бросился к дверям, раскрыв их, закричал:
— Священника! Скорее!
— Он уже здесь, — сказал рядом Гуго. — Я знал.
И они торопливо вошли: святой отец, герцог франков, за ним придворные, с ними Можер и Вия.
Но Людовик уже не мог покаяться. Зрачки его вспыхнули на миг, увидев распятие в протянутой руке, губы шевельнулись и потянулись кверху, к кресту — последнему, что он успел увидеть в жизни. Священник торопливо забормотал отходную молитву и поднёс распятие к самым губам короля. Они коснулись его, прошептали что-то... и застыли навечно вместе с потухшими глазами.
Убрав распятие, священник взглянул на врача. Тот кивнул раз, другой и закрыл королю глаза. Эмма вскрикнула и в беспамятстве упала на начинающее уже остывать тело сына. Карлу стало трудно дышать, он рванул ворот рубахи. Нормандец, скрестив руки на груди, нахмурился. Вия, впившись зубами в пальцы на кулаке, не сводила глаз с мёртвого лица короля. Придворные шептались, выглядывали из-за спин впереди стоящих, вставали на цыпочки, пытаясь увидеть, что делается там, на смертном одре. И лишь один Гуго невозмутимо стоял близ изголовья, безучастно глядя на труп. Рядом с ним Роберт. Долго смотрел на неподвижное лицо Людовика, потом поднял глаза на отца... И взгляд сына застыл на холодном, с плотно сжатыми губами, лице герцога франков.
Все ждали. Молча. В страхе. И в тишине раздался скорбный голос герольда, стоявшего в изножье:
— Король умер!
— Хвала небесам, он успел вручить свою душу Господу, — произнёс священник и затянул заупокойную молитву.
Королева-мать прервала его: подняв голову, закричала не своим голосом, зацарапала, стоя на коленях, безжизненное тело сына и вновь упала мокрым лицом на белые простыни, поверх которых лежали восковые руки юного короля.
Придворные, обнажив головы, закрестились, уткнув взгляды в пол. В покои молча, в лиловой мантии, вошёл епископ Герберт. Его пропустили, расступившись, к Людовику. Он подошёл, медленно описал в воздухе крест и проговорил негромко:
— На всё воля Господа на этом свете. Да упокоится с миром душа помазанника божьего, короля франков Людовика.
Эмма вдруг подняла голову и уставилась на Герберта невидящим взором. Потом скользнула глазами по толпе придворных, оглядывая их, но ничего не говоря, лишь приоткрыв рот. Казалось, эти глаза искали кого-то, но не могли найти. И вдруг они широко раскрылись, остановившись на Вие.
— Ведьма! Ведьма! — закричала королева-мать, брызгая слюной, испепеляя ненавистным взором бедную девушку. — Это ты наслала порчу на короля! Ты во всём виновата! — она поднялась, вытянула руку, указывая пальцем. — Смотрите на неё, она и не дрогнет, и не шелохнётся, будто это не её рук дело!
Гуго, нахмурившись, бросил на королеву тяжёлый взгляд.
— Убейте её! Убейте! — бесновалась Эмма, всё так же указывая на Вию рукой. — Это она убила короля! Больше некому! Будь проклята, ведьма! Я сама тебя убью! — и пошла вперёд с растопыренными пальцами, готовыми рвать жертву на части.
Гуго посмотрел на людей, стоящих поодаль. Двое из них поймали его взгляд. Он кивнул на Эмму и в сторону дверей. Ни слова не говоря, они вышли вперёд, взяли королеву-мать под руки и, невзирая на её сопротивление и крики, увели.
Карл Лотарингский не произнёс ни звука, лишь проводил её взглядом.
Он был уже никем.
Отныне здесь властвовал Гуго. Но тот — всего лишь герцог франков, не правитель. И не хотел им быть. Что ни говори, Карл однажды был коронован, и Гуго не желал, чтобы думали, будто он вырвал корону у брата Лотаря. Однако Церковь воспротивится воцарению на престоле Карла Лотарингского, ибо Лотарь лишил брата наследства. Гуго знал об этом, а также о многом другом и решил дать Церкви самой разобраться в этом вопросе. Пусть она вынесет решение, он подчинится, каким бы оно ни было. Но Церковь — это прежде всего архиепископ Адальберон, самая сильная фигура у франкского духовенства, и дабы вопрос о престолонаследии разрешился возможно скорее, его необходимо освободить. Но кто же отдаст приказ? Кого послушают? Королеву-мать? Увы, она уже не королева. Пусть даже и прикажет что-то, но придут к Гуго — спросить: так ли делать, как приказано. Оставался Карл Лотарингский — фигура слабая, без опоры, без поддержки Церкви. Его приказы даже не станут обсуждать, их попросту пропустят мимо ушей. Значит, он — Гуго! Тот, кому доверил опекунство над молодым Людовиком умирающий Лотарь. Тот, кого все слушали и боялись. Наконец, тот, кто был угоден Церкви, ибо обладал силой — оружием, которое она единственно уважала.
И Гуго решился. Так надо было для королевства, которому требовался монарх. Однако сам он не видел никого на эту роль, тем более братьев покойного Людовика, Арнульфа и Ричарда. Оба — племянники Карла Лотарингского, и оба бастарды.
Он подошёл к Герберту, взяв за руку, отвёл в сторону:
— Ступай, епископ, к своему наставнику, поведай обо всём и скажи, что он свободен. Но пусть остаётся в Реймсе.
Герберт не трогался с места, не сводя глаз с герцога. Тот уточнил:
— Тебе нужно подтверждение? Может быть, желаешь, чтобы спросили мать покойного короля или его дядю, а заодно и сводных братьев? Чуешь, откуда повеет запахом междоусобицы? Франкам не нужны беспорядки, довольно их было при потомках Карла Великого. Им нужен король!
— И он у них уже есть, великий герцог, — хитро улыбнулся Герберт. — Церковь умеет благодарить тех, кто оказывает ей неоценимые услуги. Приказ герцога франков не обсуждается, ибо ни один из Каролингов уже не может ничего приказать. То, что сказал сын великого Гуго, равносильно тому, что сказал король.
— Так добавь ещё своему Силену, чтобы не плясал от радости: я не отменяю королевского суда над ним.
— Значит, суд всё же состоится? — погасил улыбку Герберт.
— Такова была воля короля.
— Что же ожидает архиепископа? Ведь главный обвинитель мёртв...
— Решение по делу пленника вынесут знатные люди королевства.
— Но... — Герберт замялся, — за кем же останется решающее слово? Кто будет председателем суда?
— Тот, кому покойный король Лотарь доверил королевство франков и опеку над сыном.
— Значит, вы, герцог?
— Скажи ещё учителю, пусть рассчитывает на мою поддержку, — еле слышно добавил Гуго. — Я не желаю ему зла.
— Я так и передам. Адальберон не забудет...
— Ступай, епископ, не мозоль глаза! И без тебя забот немало.
Герберт повернулся и вышел.
К Гуго подошёл Карл Лотарингский.
— Вы отправили Герберта в Реймс? — спросил, нахмурившись.
— Вопрос о престолонаследии должен решаться не без участия Церкви, глава которой сидит взаперти. Несчастный случай на охоте отворил врата его тюрьмы. Так уж вышло, — сухо ответил герцог.
— Значит, скоро ассамблея, съедутся знатные люди королевства выбирать монарха?
— Некоторые уже в Компьене. Или вы полагаете, со смертью короля исчезнет всё то, что он думал претворить в жизнь?
— Архиепископу всё же не избежать суда?
— Он состоится послезавтра, как и хотел король. Сразу же — выборы. Ваше присутствие, Карл, сами понимаете, необходимо.
В качестве кого? — скривил губы герцог Лотарингский. — Дяди покойного Людовика или опального брата Лотаря?
— В качестве будущего государя.
— Это я-то? Лишённый братом наследства и права на корону?
— Вы уже коронованы императором восемь лет назад.
— Но вслед за этим архиепископ совершил помазание Людовика! Это ли не устраняло меня с пути?
— Никто не мог предполагать, что так случится, — и Гуго выразительно посмотрел в сторону мёртвого короля.
— Однако меня короновал германский император! Чужеземный государь!
— Церковь в лице франкского епископа Тьерри одобрила этот шаг.
Тьерри — родственник Оттона, мог ли он воспротивиться?
— Мне кажется, вы отказываетесь от короны?
— Нет! Но Адальберон, ненавидящий Каролингов, сделает всё, чтобы она досталась не мне.
— Напротив, у него, кажется, нет причин желать вам зла. Известно, что вы с братом были врагами, и архиепископ так же посылал проклятия на голову Лотаря, как Бог на змея-искусителя. Поэтому постарайтесь на ассамблее доказать своё право.
— А вы, герцог? — с надеждой посмотрел ему в глаза Карл. — Поможете мне?
— Я не Помпей, мне не нужна корона, но я не желаю также иметь своим врагом архиепископа.
— Одним словом, вы за него?
— Мой голос на ассамблеях — всего лишь один из многих.
— Но вы властвуете над всеми!
— Я господин лишь в своих владениях. Поэтому готовьтесь к борьбе, герцог.
— И мой главный противник?..
— Архиепископ Адальберон.
Карл медленно отошёл, стал кого-то искать в толпе. Единственным его другом был сейчас Можер. К нему он и направился. Рядом, бледная, стояла Вия.
— Гуго уже примеряет корону, — негромко произнёс Карл.
— Ты и не должен удивляться, — ответил нормандец. — Сам, помнится, говорил: тебе не сидеть на троне.
— Но я король! Я младший сын Людовика Четвёртого и последний из Каролингов! Разве корона не моя?
— Ах, Карл, почему ты не послушал совета этой девочки? — Можер обнял Вию за плечи. — Ведь она предупреждала, и не одного тебя, а и самого короля, потом его мать! Но вы все будто ослепли и оглохли! Никто не послушал! Посчитали предчувствие девчонки бредом сумасшедшей. Забыли, как она предупреждала Роберта на заливе Уазы? А ты, ты, Карл! Ведь тебе известно, Вия слов на ветер не бросает. Говорила ведь, дерево погубит короля! Почему ты её не послушал?
Карл молчал, опустив голову. Потом проронил:
— Ты прав, мой друг. Мы и в самом деле все ослепли.
Можер притянул Вию к себе. Она спрятала лицо у него на груди.
— Девчонка — настоящий клад! Теперь она при мне, и я голову оторву любому, кто посмеет даже искоса взглянуть на неё!
— Что же делать? — поднял голову Карл. — Ведь теперь они все против меня, а я один...
— А что сказал Гуго?
— Мне предстоит борьба.
— Значит, он считает возможным твоё царствование?
— Это зависит не только от него. Франки будут выбирать себе короля, главный в этом — Адальберон.
— Но ведь он в тюрьме!
— Герцог приказал освободить его.
— Так, так, любопытно, — и Можер принялся размышлять. Потом спросил у Вии: — Что скажешь, девочка? Как тебе такой поворот?
Вия подняла глаза на Карла:
— Коли герцог освободил архиепископа, значит, тот ему нужен. Адальберон сумеет отблагодарить человека, снявшего с него оковы.
— Помажет его на царство?.. — побледнел Карл.
— Осуждённый становится другом тому, кто вынул его голову из петли.
— Но ведь я Каролинг! Последний! Никто не имеет больше прав на корону, чем я!
— Архиепископ знает об этом, ваша светлость, и поверьте, лишит вас этих прав. А если его ещё поддержит герцог Гуго, а за ним другие... — Вия вздохнула, потом добавила: — Власть даётся тому, у кого уже есть власть. Так сказано в «Записках о Галльской войне» Юлия Цезаря. Яркий пример тому — история двух Пипинов, Второго и Третьего.
— Выходит, прав был герцог: Адальберон — мой главный враг, — мрачно изрёк Карл.
— Позволь дать тебе совет, — подал голос нормандец. — Я, конечно, не политик и мне глубоко наплевать на все эти ваши распри, но скажу по дружбе: уезжай-ка ты к себе в Лотарингию, пока тебе здесь не свернули шею. Дело идёт к этому. Ты для них только пень на дороге. Возвращайся к жене и детям, это будет самым лучшим для тебя, клянусь шлемом моего славного предка.
— А ты? — спросил Карл. — Что будет с тобой, Можер?
— Да ничего особенного, — усмехнулся нормандец. — Вернусь на родину и захвачу с собой Вийку. Ей-богу, отец обрадуется такой невестке, хоть и прочил мне в жёны кого-то из родни графов Блуа.
Карл Лотарингский, поглядев на обоих, мрачно улыбнулся:
— Значит, мы расстаёмся? И теперь уже навсегда?
— Кто знал, что так получится, — Можер бросил взгляд на восковое лицо юного короля, тело которого уже понесли к выходу. — Ты станешь бороться против архиепископа, а значит, против Гуго, которого не сможешь одолеть. Пойми, Карл, в воздухе уже пролегла незримая черта, отделяющая тебя от него.
— Он пригласил меня на суд...
— Там он нанесёт первый удар.
— А потом и на выборы нового короля.
— Этим самым он объявил тебя своим врагом. Это будет второй удар, и последний. Тебе нечего делать на этой ассамблее. Вийка права, благодарность архиепископа герцогу не заставит себя ждать.
— Полагаешь, всё сложится именно так?
— Для чего же тогда Гуго приказал освободить его? Отныне, Карл, это два вола, которым предстоит идти в одной упряжке. А нынешний день был последним днём вашей дружеской или, я бы сказал, обыкновенной беседы с герцогом франков. Однако не вешай носа, герцог! Хочешь, подскажу выход из положения?
— Ты что-то придумал? — с любопытством спросил Карл. — Говори же, и если дело стоящее, клянусь, я пойду на это ради спасения рода Карла Великого.
— Да очень просто! — воскликнул нормандец. — Тебе мешает Адальберон? Так я пойду и задушу его, тем более что обещал уже это твоему племяннику.
Карл горестно покачал головой:
— Нет, Можер, ни к чему, это ничего не даст. Убей вожака стаи — всё одно волки бросятся на тебя и съедят. К тому же за убийство ты сядешь в тюрьму.
— Кто же узнает, если всё проделать ловко?
— Не станут даже искать, а возьмут того, кому это выгодно. Тебя и меня — обоих.
— И это мудрое решение, — сказала Вия, ещё теснее прижимаясь к нормандцу.
Когда они, оставив Карла, вышли в коридор, она промолвила:
— Меня хотят убить.
— Кто? — резко остановился Можер.
— Королева-мать.
— A-а, эта выброшенная на берег щепка от затонувшего корабля? Пойду и вышибу ей мозги!
— Нет! — возразила Вия. — Найди сначала убийцу, пока он не нашёл меня.
— Прекрасно, девочка, теперь я не отпущу тебя ни на шаг. Но кто тебе сказал?
— Гийом, конюх, мой хороший друг.
— Пойдём к нему на конюшню. Ей-богу, там воздух чище, да и люди милее, нежели в этом дворце.
Этой же ночью Можер проводил Вию до дверей её спальни и, пожелав спокойной ночи, громко добавил, что отправляется по важному делу к герцогу франков, который звал его. И, действительно, развернувшись, он пошёл по коридору, гулко топая башмаками. Потом неслышно вернулся и укрылся в одной из ниш, ближней к дверям. Именно сегодня должен прийти убийца, так сказал старый Гийом. Он весь день не сводил глаз с ворот и видел, как Ортанс привела из города незнакомого человека в тёмном плаще...
Прошло немного времени, но нормандец уже порядком устал: ему приходилось ждать убийцу в полусогнутом положении. Иначе никак нельзя было: встань он во весь рост, как тотчас факел осветил бы его фигуру.
Но вот послышались осторожно крадущиеся боковым коридором шаги. Можер замер. Ему хорошо было видно из своего укрытия двух человек, приближавшихся к спальне Вии. Впереди шла женщина, за ней — мужчина. Можер сразу же узнал хромую Ортанс. Кто её спутник, он не видел, лицо его было скрыто под капюшоном. Двоих нормандец не ждал, но, поскольку так уж случилось, выбора у него не было. Усмехнувшись, он вышел из своего убежища и вырос перед двумя фигурами, будто Самсон перед жителями Газы.
Ортанс вскрикнула и, вытаращив глаза, отшатнулась к стене. Её спутник вытащил кинжал и бросился на Можера. Нормандец дал ему время замахнуться, потом поймал его руку и переломил её, будто хворостину. Убийца взвыл от боли, а Можер, взяв одной рукой за шиворот его, другой Ортанс, развёл их в стороны, будто котят, и с силой столкнул лбами. Ортанс, захрипев, повалилась на пол, изо рта у неё потекла кровь. Мужчина, оглушённый, ещё постоял некоторое время, точно раздумывая, падать или подождать ещё. Можер не дал ему времени на раздумья, повернул к себе и ударом кулака в темя прекратил его размышления. Потом отряхнул руки, хмыкнул и, как ни в чём не бывало, вошёл к Вие.
Она бросилась навстречу:
— Где же убийца? Ты видел его? Он не пришёл?
Вместо ответа Можер, раскрыв двери, вывел её в коридор и указал на два тела, распростёртые на полу.
— Только не кричи, — шепнул он Вие, — не то переполошишь весь дворец.
Вовремя предостерёг, она уже открыла было рот. Теперь лишь смотрела, немея от ужаса. Наконец спросила, указывая на один труп:
— Женщина?..
— Ортанс.
— Боже мой, Можер, что ты наделал? Ведь её станут искать!.. А второй?
— Убийца. По виду — монах.
Вия оторопело уставилась на него:
— Как же это?.. Ведь ты даже без меча!
— Мечом я убиваю на поле битвы, а здесь — руками, — с улыбкой ответил нормандец.
— Можер... — и, заплакав от радости, Вия упала в его объятия.
Немного погодя нормандец поднял оба тела и, спустившись с ними по боковой лестнице, выбросил во двор.
Утром их обнаружили слуги, подняли было шум, но никто на это не обратил внимания, были дела важнее. Впрочем, дошло до Гуго. Нахмурившись, он задумался о чём-то, потом посмотрел на Можера. Их взгляды встретились. Можер хмыкнул и повёл плечом. Герцог подошёл и, ни слова не говоря, стал напротив нормандца.
— Они пришли, чтобы убить Вию, — ответил тот на немой вопрос.
— Королева-мать? — коротко спросил герцог.
Вместо ответа нормандец кивнул.
Гуго едва заметно улыбнулся и приказал слугам закопать трупы.
Глава 20. Из обвиняемого — во главу ассамблеи
Вечером того же дня Герберт предстал перед наставником с радостной и одновременно печальной вестью.
— Значит, тебе удалось? — не смог сдержать ликования архиепископ. — Я так и знал, что получится, ты способный ученик. Теперь расскажи всё по порядку. Никто не заподозрил?
— План не сработал, хотя всё было готово: мои люди поджидали короля в засаде, как раз у логова зверя.
— Но ведь ты говоришь, Людовик умер! Как же так?
— Он погиб не от моей руки.
И Герберт рассказал, что произошло на охоте.
Адальберон внимательно слушал. Когда рассказ закончился, он встал и медленно заходил по комнате. Новость была потрясающей, узник никак не мог собраться с мыслями, хотя, казалось, и был готов к этому. Наконец он остановился и, вперив взгляд в собеседника, проговорил, растягивая губы в улыбке:
— Господь услышал мои мольбы, Герберт, и воздвиг на пути врага преграду смерти. После похорон я освящу храм свечами во славу Господа. Да и ты чист перед Небом.
— Мои руки не запятнаны кровью Каролингов. В дело вмешался случай.
— На всё воля Божья на этом свете, — осенил себя архиепископ крестным знамением. Потом проговорил, глядя в окно: — Что ж, коли так, пора действовать. Говоришь, Гуго приказал меня освободить? Отлично, значит, выше его никого нет. И он же добавил, что суд состоится? Тоже неплохо.
— Что же в этом хорошего, коли вас будут судить? — не понимал Герберт.
Архиепископ повернулся к нему:
— На этом суде герцог явит свою власть. Вот для чего он ему нужен. Потом, когда дойдёт очередь до выборов короля, мнение будет уже единогласным. Пусть попробует кто-нибудь возразить реймскому архиепископу.
— Значит... — многозначительно протянул Герберт, — Гуго?..
— Церковь умеет помнить добро, — подошёл к нему Адальберон. — Сегодняшний день был последним для династии Каролингов. Они хотели уничтожить меня? А я уничтожил их.
— Но остался ещё один — Карл! — напомнил Герберт. — Вы не забыли? Брат Лотаря...
— А не забыл ли ты о письме, что приносил недавно? — зловеще блеснул глазами архиепископ. — Ты ведь ознакомился с ним. Императрицы сообщают, что Карл намеревается увеличить свою территорию, захватив Верхнюю Лотарингию, где хозяйкой герцогиня Беатриса, сестра Гуго! Скажи, мало ли страдала империя от нападений последних Каролингов? А тут ещё и этот!.. Понимаешь теперь, сколь опасен такой сосед и как желает она от него избавиться? Представь, он станет королём! Что скажу я Аделаиде и Феофано, чьими советами всегда руководствуюсь? Что Карл имеет право занять трон на правах сына короля Людовика, как и Лотарь? Что он законный правитель, и я ничего не смог с этим поделать? Нет, Герберт, не для того я служу империи, чтобы предавать её интересы, не зная, как выпутаться из создавшегося положения. Каролинги сами выкопали себе могилу. Начал рыть Людовик Заморский, а закончил Лотарь. Первый не дал Карлу никакого королевства, мало того, никакого видного поста не досталось младшему сыну. Даже епископ его не благословил как законнорождённое королевское дитя. Всё досталось одному Лотарю, который не захотел делиться с младшим братом и изгнал его из королевства. Но кто мог знать тогда, что пройдёт совсем немного времени, и он отдаст богу душу, а затем и его сын? Это и свело Каролингов в могилу. Я усматриваю в этом волю Всевышнего и потому не намерен, дабы не брать греха на душу, перечить этому, поэтому я столкну брата Лотаря в могилу его предков. Ныне он всего лишь восковая фигура в моих руках. Я обрушу на него такие обвинения, после которых изгнание покажется ему раем.
— Но он может начать борьбу!
— Это уже дело Гуго. И Церкви. Я подвергну его отлучению. Эта кара заставит его образумиться.
— Но мотив?..
— Протест против законной власти короля!
— Да ведь он от рождения король!
— Посмотрим, перевесит ли это чашу весов в его сторону. И знай, Герберт, у меня два сильных козыря, которые, случись в том нужда, побьют его карты: первый — герцог франков и второй — папа Иоанн!
— Есть и ещё один, третий, ваше преосвященство, — растянул губы в улыбке Герберт. — Пустив его в ход, думаю, не понадобится прибегать к первым двум.
— У тебя есть план, касающийся выборов нового короля?
— Именно об этом я и хочу сказать. По-моему, он неплохо сработает.
— Ну, ну, говори, обсудим твой замысел.
И Герберт принялся излагать наставнику свой хитро задуманный план.
Людовика поначалу хотели похоронить в Сен-Реми де Реймсе, где покоились останки его отца, однако путь туда был неблизкий, а между тем на ассамблею съехались уже все участники. Опасаясь, в силу этих причин, что после похорон на обратном пути можно не досчитаться как минимум половины приглашённых, Гуго приказал местом упокоения короля избрать аббатство Сен-Корнель, располагавшееся неподалёку. Адальберон во время церемонии выглядел весьма опечаленным, чем мог ввести в заблуждение людей непосвящённых, однако таких не было; все хорошо знали о состоянии дел при дворе франкского короля и понимали, что это показное горе ненадолго, до следующего дня. Так и оказалось.
На суде, который состоялся в Компьене, архиепископ одно за другим отметал обвинения, выдвинутые против него покойным монархом и его отцом, убеждая присутствующих, что его деяния были всегда направлены на благосостояние королевства, а его дружбу с империей объяснял не чем иным, как желанием способствовать миру между двумя державами. Ему попробовали возразить, уличив в предательстве интересов короны, направленных на возвращение под её власть городов Нижней Лотарингии, завоёванных в своё время Карлом Великим. Но тут выступил Гуго, председательствующий на этой ассамблее:
— Требую обвинителей более подробно изложить жалобы на архиепископа города Реймса, которые, полагаю, окажутся недостаточно мотивированными для рассмотрения дела и вынесения приговора. Если эти жалобы окажутся к тому же лживыми, направленными единственно на то, чтобы очернить архиепископа, а в его лице франкскую Церковь, то обвинитель тотчас впадёт в немилость и на него будет наложено проклятие.
После такого выступления жалобщики сомкнули рты. Речь Гуго яснее ясного явила расстановку сил в аппарате власти. Отныне ни у кого уже не оставалось сомнений, что ассамблея созвана лишь для видимости: фикция, не больше. И каждый, кто присутствовал, уже знал или догадывался о результатах выбора короля, которые состоятся если и не сейчас, то в самом ближайшем времени.
Закончив выступление, Гуго внимательно оглядел зал. Собравшиеся недоумённо переглядывались. Герцог, казалось, кого-то искал. Неожиданно раздался его громкий голос:
— А где брат Лотаря? Почему я не вижу Карла Лотарингского?
Аудитория хранила молчание. Ответа на этот вопрос не знал никто. И тут с места поднялся Герберт; ему не надо было громко говорить, он сидел ближе всех.
— С вашего позволения, герцог, сообщаю вам и всему собранию следующее: прибыл нарочный из Брюсселя с известием о серьёзной болезни жены Карла Лотарингского. Я передал ему сообщение, и он ускакал.
В зале зашумели; пользуясь этим, Герберт бросил быстрый взгляд на наставника. Тот в ответ кивнул.
Гуго властно поднял руку, призывая к молчанию:
— Поскольку больше нет желающих выступить в качестве обвинителя архиепископа Реймского, то я беру на себя смелость отметить несомненные заслуги последнего в деле преобразования Церкви, а также укрепления мира между государством франков и Священной Римской империей. Иными словами — между Западно-Франкским и Восточно-Франкским королевствами, разделяет которые Лотарингия, вечный камень преткновения. Хочу указать на архиепископа Адальберона как на человека высоких моральных качеств, называемых добродетелью, и на рьяного слугу Господа. Это он заменил повсюду распутных, алчных, а порою и вовсе безграмотных и далёких от духовного понимания мира каноников на грамотных и умных монахов. Благодаря им, всем хорошо известная фраза «Церковь на службе мирян» перестала быть таковой, ибо Церковь должна служить Господу. Причислим сюда его борьбу с упадком нравов, наблюдаемым среди монахов и монахинь; те и другие, выряжаясь в бесовские одежды, донельзя обтягивающие талии, ляжки и ягодицы, похожи были сзади на проституток. И это монахи? Слуги Господа, ведущие аскетическую жизнь?.. Но теперь всё по-иному, и заслуга в этом архиепископа Реймского, которого наша ассамблея, к стыду своему признаюсь, собралась судить!
Гуго ещё некоторое время говорил в защиту Адальберона, наконец умолк. В зале висело тяжёлое молчание. Никто не посмел раскрыть рот, собираясь перечить вице-королю, как звали герцога многие.
Бывший реймский пленник ждал кульминации момента, когда на сцену выйдет он сам. Он уже знал, что сказать, и видел себя не обвиняемым, а тем, кем должен быть на выборах будущего короля — главой Церкви, за которым оставалось последнее слово. Единственное, что его смущало — малочисленность присутствующих, но и тут он знал уже как поступить. Их с Гербертом план предусматривал и это.
Герцог сказал ещё несколько слов, поставивших точку на этом собрании:
— Господин архиепископ, вина ваша не доказана и вы должным образом выпадаете из числа подозреваемых и обвиняемых, ибо присутствующие здесь знатные люди королевства усматривают несправедливые гонения на вашу особу. В связи с этим я объявляю вас невиновным и предлагаю занять место во главе ассамблеи.
Это был триумф Адальберона. Так осуществилось выполнение одного из пунктов плана, разработанного Гербертом и согласованного с наставником и герцогом франков.
Дальше надлежало действовать архиепископу, ибо следующим пунктом значились выборы короля.
И Адальберон, степенно взойдя на кафедру, во всеуслышание объявил:
— Облечённый властью главы Церкви, пользующегося всеобщим почитанием и доверием, на правах возглавляющего нынешнее заседание, я заявляю, что в виду отсутствия многих членов форума не представляется возможным провести успешные выборы помазанника божия на престол. Предлагаю перенести избрание кандидата на пост главы государства на более поздний срок. Однако время не терпит, и ассамблея соберётся вновь уже через несколько дней в Санлисе. К тому времени туда подъедут остальные участники. Однако прежде чем разойтись, сеньоры, предлагаю каждому принести клятву великому герцогу и регенту королевства в том, что он не предпримет и не замыслит ничего предосудительного по поводу выбора нового короля до следующего собрания ассамблеи.
И архиепископ поклялся в этом Гуго, за ним остальные.
Это был первый выпад Адальберона против Карла Лотарингского, прямой намёк на то, кому именно достанется корона. Кто-то понял это, до иных не дошло. Но так и нужно было. Никто не должен был заранее знать, чем всё кончится и за кого следует подать голос: за дядю покойного короля или за кого-то другого. Но голоса можно перетянуть в нужную сторону, для этого существуют подачки в виде земель, титулов и должностей. В остальном решающую роль должно сыграть красноречие архиепископа, его убедительные отводы нежелательного для империи кандидата.
Это был ещё один пункт плана, тщательно разработанного Гербертом и Адальбероном. Они втянули в свою аферу и Гуго, хотя тот изо всех сил сопротивлялся. Он не хотел быть королём, оба святых отца чувствовали это, но продолжали всё сильнее давить на него. Слишком уж благоволила империя к Гуго и боялась, выказывая свою ненависть в письмах к архиепископу, Карла Лотарингского. Она не желала отдавать ему земли, которые считала своими. Такой огромный кусок! И кому? Младшему брату Лотаря! Да и то потому только, что его далёкий предок сделал Ахен своей столицей и стал императором Священной Римской империи! Но тому уж двести лет, империя давно распалась и хозяевами здесь теперь Людольфинги, а не Каролинги, это их земля! Но Карл упрям и прёт уже в открытую, как бык на ворота. Будь он поскромнее, стал бы королём. Гуго — тот совсем другое дело. Этот ничего не хотел, никуда не стремился, на Лотарингию ему было наплевать и он жил в дружбе с императорским двором. Чем не король? Так решили императрица Феофано и её свекровь Аделаида, «мать королевств». О чём и известили в письме Адальберона, приказав убрать неугодного кандидата. Не зная об этом, но, уже догадываясь, что партия герцога франков по каким-то причинам берёт верх, Карл, едва прибыв из Брюсселя, где супруга его — вот ведь ирония судьбы! — и в самом деле два дня тому как страдала от изнурительной болезни, тотчас отправился в Реймс к Адальберону. Отсюда тянулись нити заговора против него, он был уверен.
Но какой прок волку-одиночке заявлять о себе как о достойнейшем, если стая уже выбрала вожака? Карл понял это, когда увидел холодные, немигающие глаза, в упор смотрящие на него. Всё же он попытался найти в лице архиепископа надёжного союзника, рассчитывая на помощь Церкви. Видя равнодушие, он стал даже молить, взывая к чувству сострадания гонимому и обездоленному, отринутому по непонятной причине собственным отцом, а потом и братом. В ответ Карл выслушал упрёки в дружбе с сектантами и еретиками с их гностическими заблуждениями, заключающимися в критике Священного Писания, открытом покушении на Церковь и проповедовании тезисов о римской церковной политике, которая, по их мнению, всегда была агрессивного и насильственного характера, что противоречит идеям религиозно-воспитательным. Карл сказал, что не разделяет их убеждений, поскольку держится прямо противоположного мнения. Он ещё раз попытался воздействовать на архиепископа через своё королевское происхождение, на что собеседник лишь покачал головой и сослался на знатных людей королевства, которые и вынесут решение. Карл догадался, что апеллировать следовало к герцогам и графам, но на это требовалось время, а его уже не было.
Так ничего и не добившись, герцог Лотарингский вернулся в Лан. По дороге решил, что ему теперь уже нечего здесь делать, ибо выборы предопределены, и не в его пользу. Оставаться в королевском дворце было бессмысленно и небезопасно. С ним никто не разговаривал, на него попросту не обращали внимания, он был для всех чужим. И ему подумалось, что чужим становился не только он, вся королевская династия. Кажется, дело идёт к перевороту. Карл последний, Карла уже нет — эта мысль превалировала в умах знати, и не выбить её уже оттуда.
Оставалась другая знать — его, герцога Лотарингского, вассалы, и коли сумеет он их задобрить ли, разжалобить, так или иначе расположить к себе, то на её плечах он и попытается вернуть трон.
Так думал герцог Карл, пока ещё смутно представляя себе этапы будущей борьбы, но понимая, что для настоящей у него нет сил.
Во дворе он встретил нормандца.
— В чём дело, Карл? — вскричал тот, подходя к нему. — Где ты был?
— Разве меня кто-нибудь искал? — невесело усмехнулся герцог.
— Я, чёрт возьми! Тебе этого мало?
— Вполне достаточно, мой друг, ведь ты единственный здесь, кому я ещё не противен.
— Понял, наконец, что тебя окружают враги? Прежде их не было, покуда был жив твой племянник, а нынче архиепископ набирает силу.
— Немудрено: ветер дует с востока.
— Вот оно что, — нахмурился Можер. — Империя... А Адальберон — её верный слуга. Но скажи, Карл, чем это ты не угодил этой бургундской развалине и её лопоухой невестке? Ведь ты, помнится, давал вассальную присягу Оттону.
— Никого это сейчас не трогает. А дело вот в чём. Однажды, беседуя с Людовиком, я высказал мысль о намерении в будущем захватить Верхнюю Лотарингию. Как понимаешь, мамочку Оттона и её свекровь это не привело в восторг.
— Чёрт бы побрал этих двух германских потаскух! Но откуда им стало известно?
— Разве мало способов подслушать чужой разговор? — вздохнул Карл. — Мне следовало подумать об этом тогда. Нынче мои замыслы отозвались эхом. Всему виной смерть короля...
— И наши с тобой пустые головы, Карл! Ведь Вия предупреждала!
— Береги её, Можер... Но я ещё вернусь и, отряхнув от пыли ветвь старинного рода, вдохну в неё жизнь.
— Стало быть, уезжаешь?
— Здесь мне больше нечего делать. Гнилое яблоко никто не станет поднимать, если над головой висит спелое.
— Я поеду с тобой!
— Нет, ты останешься. Девчонка одинока, а Эмма глаз с тебя не сводит... А ведь это по её навету Лотарь изгнал меня.
— Старая крыса! — вскричал нормандец. — И она ещё посмела оскорбить Вийку!
— Ну, она ещё не совсем стара. Лет пятнадцать всего между вами... Что касается Вии... — Карл помедлил, затем продолжил: — Королева-мать в последнее время грустна, мечется, что-то не даёт ей покоя. Как ни увижу — складка меж бровей и следы от слёз на щеках.
— Чему удивляться, ведь только что умер её сын.
— Причина ещё и в другом. Я видел её глаза, когда она смотрела на вас обоих, ломая пальцы на руках. Помяни моё слово, не сегодня завтра она пойдёт на мировую и ради этого попросит прощения...
— У Вии?! Она, королева-мать?! В своём ли ты уме, Карл?
— Или я ничего не понимаю в женщинах. Что до тебя, то либо ты станешь начальником дворцовой стражи у нового короля, либо... Впрочем, наверное, Гуго уедет в Париж, это его город.
— Бог с ним, с Гуго, — махнул рукой Можер. — Я задал вопрос, ты так и не ответил. Почему не берёшь меня с собой, ведь я обещал отцу служить тебе!
— Твой отец не мог тогда знать, как изменится расстановка сил на шахматной доске. Он посылал сына к дяде короля, а не к изгою. Что касается слова, то я освобождаю тебя от него, а Ричарду при встрече скажу, что ты был мне самым преданным другом.
— Но ты говорил, что ещё вернёшься, Карл! Выходит, мы снова увидимся, если я повременю с отъездом?
— Возможно, кто может знать будущее? — ответил герцог. — Так или иначе, ты волен выбирать путь в жизни, Можер. Хочешь, возвращайся в Нормандию, тебя, наверное, уже заждались. А нет — ступай с Гуго, станешь маршалом и будешь жить в Париже. Решай сам. А теперь прощай. Мне осталось поцеловать Вию.
И Карл Лотарингский, оставив Можера озадаченно глядящим ему вслед, быстро пошёл во дворец.
Глава 21. Выборы в Санлисе
На ассамблее в Санлисе по поводу выборов короля собрались все или почти все епископы и знатные люди королевства. Среди сеньоров: герцог Ричард Нормандский, шурин Гуго (они с сыном ещё не виделись); Генрих, герцог Бургундский, брат Гуго; герцог Аквитанский, зять Гуго; Беатриса, сестра; графы Шартрский, Анжуйский, Жильбер де Руси, Обри ле Макон, Одебер Перигорский, Бушар Вандомский, Фулк Анжерский, Гуго де Понтье, Годфрид Верденский, Ренье де Эно и другие. Едва ли не все графы и виконты — вассалы Гуго. Среди духовенства: архиепископ реймский Адальберон, епископы Асцелин Ланский, Ноткер Льежский, Брюнон Лангрский, Экберт Трирский, Ротхард Камбрейский, Герберт Осерский, Арнуль Орлеанский, Ги Суассонский, Герберт Орильякский — в большинстве сторонники Гуго.
Руководил собранием, как и полагалось ему, Адальберон. Он сидел на возвышении, слева и справа — епископы, за ними викарии, потом монахи с перьями в руках; каждый записывает — что делается, что говорится. Говорили многие, в основном все — за Гуго. Остальные защищали династию Карла Великого и высказывались в пользу брата Лотаря. Однако их доводы если и были в чём-то убедительными, то звучали коротко и слабо, словно бы нехотя пыталась вырваться наружу правда, да решила не тратить попусту сил, чуя заранее своё поражение. Говорили все, никто не молчал, за тем и были позваны. Но, подавая голос в пользу того или другого, знали, чем всё кончится и глядели на архиепископа, ожидая, когда даст знак к окончанию дебатов и скажет то, что всё, собственно, и ожидали услышать. А выступали так, для проформы, ибо всякое собрание, тем более такое, должно идти законным путём. Да и монахам работу надо дать, вон они, склонившись, скрипят перьями на своих пергаментах. Для истории. Таков порядок.
Наконец архиепископ встал. И тотчас всё стихло. Все ждали, — кто зная уже наперёд, кто с неподдельным интересом, а иные нахмурившись и опустив головы, — что скажет Адальберон в пользу Гуго? Какие приведёт доводы, закрывающие путь к престолу законному королю?
И архиепископ Реймский начал свою речь:
— Франкское государство понесло огромную утрату: умер последний король из династии Каролингов, у истоков которой стоит благословенной памяти Карл Великий. Покинув этот бренный мир, покойный монарх не оставил наследника, поэтому мы, его слуги, должны со всем вниманием и осторожностью подойти к выбору нового короля, ибо государство, трон которого пуст, не может чувствовать себя в безопасности. Теперь всем ясно, что мы отложили это заседание на несколько дней для того, чтобы каждый из вас пришёл к определённому суждению, продиктованному ему гласом Божьим, дабы мы потом смогли вынести на голосование единственно верное решение. Ваши мнения, смею надеяться, будут продиктованы вам разумом и истиной, а не ненавистью и любовью, коим здесь не место.
Мы слышали голоса о том, что престол надлежит отдать Карлу, младшему брату Лотаря, ибо все царствующие Каролинги были его предками. Но, взглянув внимательно на обстоятельства дела, мы приходим к выводу, что Карл не имеет права царствовать, ибо не только принадлежность к королевскому роду делает человека королём, но, помимо знатности, он обязан быть мудрым, и честь его должна быть достойна уважения.
История Рима гласит о том, как неугодные народу императоры из-за малодушия и в силу порочных наклонностей или неоправданных жестокостей были свергнуты со своих пьедесталов. Рвение в пустяках, но медлительность, бездействие, малодушие и страх в главном способствовали этому. Какими же способностями обладает Карл, чью голову, по мнению некоторых, надлежит увенчать короной? Разве он правил с честью, как того требовалось? Разве подал, став уже взрослым, свой возмущённый голос против неправедного дележа, устроенного отцом Людовиком? Или затеял тяжбу со старшим братом за пост, за королевство? Вместо этого он оставался безвольным и бездеятельным, ибо его вовсе не заботила судьба королевства. Мало того, он имел наглость служить чужому королю, и был настолько глуп, что женился на женщине из низшего сословия, дочери незнатного воина, своего вассала и подвассала герцога Гуго. Сможем ли мы стерпеть, если служанка станет королевой и будет властвовать над нами?
Среди сеньоров тотчас послышались возмущённые голоса, гневные протесты. Насладившись этим, Адальберон вновь поднял руку, призывая к молчанию.
— Далее я начну по пунктам излагать обвинения против Карла, — продолжал он. — Всем вам известна его уже десятилетняя ленная зависимость от германского императора, которому он давал клятву верности. Это делает герцога Лотарингского вассалом империи, а значит, преграждает путь к трону. Кроме того, он беден и не имеет влияния в кругу франкской знати. Постоянное отсутствие Карла во Франкии также говорит не в его пользу, ибо он король без королевства, подаренного ему отцом. Брат Лотаря бессилен, опирается не на знатных людей, а лишь на своё наследственное право, и это есть угроза государству, поскольку позволяет Германии вмешиваться в дела Франкского королевства и может привести к перевороту, ибо интересы немецких феодалов станут выше франкских. Повторяю, Карл не имеет во Франкии ни состояния, ни союзников; что может, в таком случае, предложить он вам, от которых зависит его избрание королём? Помимо этого Карл, стремящийся расширить свои владения, может по примеру отца и брата возобновить нападки на города империи, что приведёт к новым войнам, которые и без того уже на протяжении многих лет обескровливали франкскую нацию. Или вам хочется новых войн? Так знайте, они будут длиться столько, сколько франками будут править Каролинги.
Кто-то из вас, вероятно, попытается возразить мне, мол, франкские короли были издавна покровителями прирейнских областей, здесь их родовые владения, к тому же в Ахене находится могила Карла Великого. Отвечу, и это охладит умы, ибо непреложно: Оттоны не отдадут ни куска Лотарингии, здесь земли Людольфингов! Корни этого надо искать в Верденском договоре, который теперь никто уже не исправит. Неуёмные притязания последних Каролингов на Ахен, не приведшие ни к чему, свежи ещё у вас в памяти. И они возобновятся, если нам избрать Карла. Войнам потомков Карла Лысого за Ахен не будет конца. Но он наступит, если мы с вами примем правильное решение. Смена династии положит этому конец!
Все зашевелились, закивали головами, стали обмениваться мнениями, уже приготовившись к голосованию. Архиепископ вновь призвал к вниманию и продолжил, заканчивая своё выступление теперь уже не с мирских позиций:
— Королевская власть даётся человеку, обладающему высокими духовными добродетелями. Почему пали Каролинги? Потому что не видели в Церкви института нравственного воспитания и общения человека с Богом. Отсутствие должного внимания к христианскому религиозному культу выражалось в их пренебрежении к строительству новых храмов, что явило их неблагодарность милости Божьей. В своём завещании святой Реми ясно указывал, что сгинет династия, угнетающая Церковь. Покойный король Лотарь оставлял без внимания Церковь: не исповедовался, не посещал службы, не просил помощи у Господа. Его брат, о котором мы с вами говорим, поступает так же, если не хуже. Тем самым он не признает власти Господа над миром и бренной оболочкой человека и недостоин королевского скипетра, несмотря на благородство происхождения. Такой монарх способен принести лишь беды. Так решите, что вам больше по душе: благо государства либо его трагедия? Коли вы не хотите последнего, то коронуйте великого герцога, руководствуясь не чувствами, а лишь общей пользой, ибо хуля правого, вы похвалите дурного, а превознося дурного, вы укорите правого. Ибо сказал Господь: «Горе вам, называющим зло добром, а добро злом, тьму светом, а свет тьмою». Посему прошу вас избрать герцога, человека знатного, потомка королей, уже восседавших на престоле, и известного своими деяниями и военной мощью. Этот человек на протяжении многих лет являл собою защитника интересов ваших, нашего народа и государства в целом, таковым он и останется, оказывая нуждающимся своё покровительство и помощь.
Так закончил своё эпохальное выступление архиепископ Реймский Адальберон на ассамблее в Санлисе 31 мая 987 года.
Что можно сказать об этой речи? На всех она произвела отрадное впечатление, никто не пытался возражать, даже когда Адальберон сослался на историю римских императоров. Однако тогда были иные времена, а нынче у франков основным условием для царствования являлось... происхождение. И этот пункт, самый главный и неоспоримый, архиепископ ловко отмёл, не дав слушателям сообразить, что античные времена, а с ними их обычаи и верования ушли в прошлое с тех пор, как появилось христианство. Началась сия речь также хитро. Причина собрания ассамблеи та, что Людовик умер бездетным. Именно на этом сконцентрировано было внимание. Гуго — перед самым выступлением архиепископа — напомнил собравшимся, что герцог Лотарингский не мог быть наследником Людовика по прямой линии, ибо приходился ему всего лишь дядей. Как же объяснить, что месяц спустя во время коронации он публично заявил: «Если бы у Людовика остался потомок, то он стал бы королём»? Ведь этим самым он признал передачу прав по наследству, а это значит, что Карл по праву уже был королём. Людовик Четвёртый оставил после себя двух сыновей, и оба они — короли по праву рождения. Лотарь же поступил совершенно незаконно, забрав всё себе. Об этом высказывались и ждали ответа, но Адальберон ловко избегнул скользкой темы, тотчас же после выступления объявив кратковременный перерыв.
Однако пока приглашённые разминают члены и тихо переговариваются между собой, у нас есть время для рассуждений.
Вряд ли епископы и знатные люди королевства не знали о том, что непременным, самым важным условием для коронования было происхождение. Также всем было хорошо известно об отсутствии права первородства у франков со времён Хлодвига: все законные — я подчёркиваю это слово — сыновья ныне здравствующего либо умершего монарха считались по праву королями, как о том значится в грамотах Дагобера. Следовательно, Карл — единственный оставшийся в живых король, ибо он сын Людовика Заморского, невзирая ни на явное попрание отцом прав младшего сына, ни на презрение старшего брата к младшему, продиктованное, быть может, даже скупостью. Этими критериями всегда руководствовались франки, поэтому ничто не могло лишить Карла его прав, он был королём от рождения. Отсюда вывод: избрание Гуго королём было незаконным.
И, конечно же, легко можно догадаться, что присутствующие усмотрели в речи Адальберона явный цинизм. В самом деле, обвиняя Карла в том, что тот стал вассалом Оттона, сам он разве не был всецело предан империи, не выполнял ли безропотно того, что предписано ему было «матерью королевств» и её невесткой? А эта речь? Можно ли сомневаться в том, что она навеяна указаниями с востока, от которых за сто галльских лиг веет авантюризмом и изменой?
А герцог франков! У меня нет к нему предубеждения. И всё же, как это ни печально, приходится признать, что Гуго всегда содействовал империи в ущерб интересам франкских королей, а будучи уже сам монархом, будет писать угодливые письма обеим императрицам. Так кто же в действительности был истинным вассалом империи: тот, кого обвинял в этом Адальберон, или тот, кого он сажал на престол Франкского королевства? Однако не стану судить Гуго слишком строго. То, что его усадили на трон, вызывает двоякость суждений. Ему могли предложить, а могли и угрожать. Кто может сказать, какими мотивами он руководствовался?
Что же касается настоящих выборов, то легко догадаться: после перерыва общим количеством голосов королём был избран Гуго. И ассамблея эта — что не вызывает удивления — прошла на редкость спокойно. Почему же? Ведь решался столь важный вопрос! Ответ очевиден: да не столь. Во всяком случае, для доброй половины участников — графов и герцогов Западно-Франкских и Южных земель. Королевская власть, о чём ныне идёт речь, считалась номинальной, монарху не подчинялся ни один сеньор, не дававший вассальной присяги. А не давал её почти никто, ибо каждый был королём на своей территории и мог точно так же, как и монарх, объявлять войну, захватывать земли, судить, чеканить собственные деньги. Так что этим было всё равно, кого изберут: того или этого. Всё решала предопределённость, которую столь явно обозначил архиепископ Адальберон. Что до другой половины, то здесь и вовсе яснее ясного, ибо она состояла из друзей и родственников Гуго. И тех и других ему не занимать. Так за кого же им было подавать голос?
К тому же, если говорить о согласии одной из половин, то нельзя не иметь в виду серьёзности самого тяжкого обвинения, выдвинутого против Карла — его женитьбы на неровне. Именно это сыграло решающую роль, ибо аристократы, люди высшего общества, всегда смотрели на неровню свысока, даже в далёком десятом веке. Да и как смог бы, скажем, герцог Нормандии или Бургундии смириться с тем, что трон занят королевой из низшего сословия, дочерью какого-то неизвестного воина, подвассала Гуго! Именно этим Карл сам себе и навредил, оказавшись в результате такой женитьбы почти без средств и друзей. Гуго же состоял в родстве со многими знатными семействами, в том числе и с императорским: он был племянником Оттона Первого, кузеном Оттона Второго и двоюродным дядей Оттона Третьего.
Добавить к сказанному осталось последнее: 1 июня в Нуайоне Гуго был провозглашён королём. И помчались тотчас гонцы во все уголки Франкского королевства с важной вестью: через месяц в Реймсе будет коронован герцог франков!
Глава 22. От ненависти к любви
Мы в покоях королевы-матери. Она неторопливо ходит от стены к стене, не находя себе места и не глядя по сторонам.
Она всех удалила и осталась одна. Опустилась в кресло, но не сиделось. Воспоминания, одно другого тяжелее, теснились в мозгу, заставляя, нахмурив лоб, погружаться в них с головой. Она думала о сыне. О первом. Боль от потери второго, умершего в прошлом году, уже притупилась. И вот теперь Людовик... Последний. За что же Бог её так наказал, ведь ему было всего двадцать. Всего! Что смог он повидать в жизни, чему сумел научиться?.. Был, правда, женат, да неудачно, хоть и партия выгодная. Но ей тридцать пять, а ему пятнадцать! Юноша, почти ещё мальчик. О каких общих интересах могла идти речь? У неё взгляд на жизнь зрелой женщины, у него на уме юношеские игры. Да и то сказать — супруга старше собственной матери! Видимо, поэтому их династическое ложе так никогда и не нагрелось. Развод последовал через два года, детьми они не обзавелись. Забирая сына из Аквитании, отец сокрушённо качал головой: их первенец исхудал и занемог. А мать, увидев сына, прижимая его, трясущегося от рыданий, к груди, причитала: «Сыночек, что она с тобой сделала! Да как же ты терпел всё это?» А он отвечал ей: «Ах, мама, да ведь она старше тебя! Зачем мне такая жена? Ведь она уже два раза была замужем. Разве я ей пара?» Эмма согласно кивнула в ответ: «Забудем об этом, сынок. Бог с ней, с этой Аквитанией, обойдёмся и без неё». «Ах, мамочка, ты одна меня любишь, — отвечал ей Людовик, — для отца важнее брак по расчёту».
Теперь она вспомнила об этом, будто только что этими вот руками прижимала к себе голову сына, а он жаловался ей на горькую судьбу. Вспомнила — и не могла удержаться: слёзы заструились по щекам. И тут же она представила сына мёртвым в гробу, увидела его восковое лицо; снова всплыло в памяти, как прижимала его к себе три года назад, а он, плача от счастья, обнимал её — и она дико вскричала, обхватив голову руками.
Нет, не помогает ходьба, не уходит душевная боль. Эмма остановилась. Устремила взгляд перед собой, но не видела ничего. Образ сына так и стоял перед глазами и напоминал то сцену охоты вместе с отцом, то его воинские упражнения, которые она иногда наблюдала, а то и просто задушевную беседу, в которых они с Людовиком часто проводили время.
Эмма уже не плакала, она рыдала. Остановиться не было сил. Один мокрый платок она отшвырнула, за ним полетел другой. Она подумала, что успокоилась, но перед глазами тотчас возникла гробница, кругом факелы, монахи, свита и — гроб с телом её сына, уже остывшим, окаменевшим. Телом, которое никогда и никуда уже не двинется, не сядет, не встанет, не пойдёт навстречу ей или от неё... и лицом, губы на котором теперь уже никогда не произнесут: «Ах, матушка, ну почему вы мешаете мне править? Разве я не могу один? А вы всё меня опекаете, будто я маленький». А ей так хотелось всякий раз сказать ему при этом: «Не сердись, сыночек, ведь я мать и хочу тебе помочь. Тебе трудно, я это вижу. Почему же ты всегда гонишь меня, разве я желаю тебе зла? Почему мы перестали разговаривать; помнишь, как нам хорошо было вдвоём? Почему же сейчас?.. Понимаю, ты король. Но я твоя мать, и я люблю тебя по-прежнему, ведь ты моё дитя! Так почему же?.. Почему?..»
И Эмма вновь забилась в рыданиях. Почувствовала — ноги уже не держат, и прислонилась к стене. Полезла за платком. Вспомнила, что его нет, и уткнулась лицом в полу мантии. Подождала, пошмыгав носом, пока пройдёт. И успокоилась было, пошла опять. Но лишь сделала шаг, как увидела Людовика. Вот он бежит к ней, раскинув руки — маленький, ему нет ещё и восьми. «Мамочка, мамочка, а меня кошка оцарапала. Я хотел с ней поиграть, а она мне когтем по руке... смотри!» И показывает ей руку повыше кисти с длинной красной царапиной, потом с гордостью добавляет: «Но я не заплакал, потому что я мужчина и мне нельзя плакать. Верно ведь, мама?»
Эмма вскрикнула и бегом устремилась к креслу. Упала в него и дала волю слезам, поняв, что их уже не унять. Сколько ещё дней будет рваться пополам её сердце, она не знала, сколько при этом выплачет слёз — догадывалась, но бороться с тем и другим она не могла. Людовик — последнее, что оставалось у неё в жизни, что доставляло ей радость и вызывало желание жить. Уже не ради себя, а ради него, ведь он всегда был и останется для неё самым дорогим сокровищем, которого только может желать женщина, о котором мечтает каждая мать.
Эмма горестно вздохнула, вспомнив недавние события. Между ними всё-таки пролегла тень отчуждения. Сыну и невдомёк было, какая боль тогда терзала сердце его матери. Всему виной Лотарь с притязаниями на Лотарингию. И она не смела подать голос против. Когда его не стало, она приняла сторону Адальберона и сблизилась с империей. Да и могла ли иначе, ведь императрица была её матерью. Людовик не хотел этого понимать и пошёл по стопам отца, следуя его заветам и совершенно забывая, что Аделаида всё же его бабка. Однако Бог упорно не желал нападок франкского короля на империю. Людовику говорили, что глас божий вещает об ошибочности его планов, но он не слушал. Однако осознал свою ошибку, одумался и протянул-таки руку дружбы бабке своей, да видно поздно. Летел уж меч божьей кары на него, и не остановить его было. Так расплачивался за свои грехи Лотарь, так расплатился за грехи отца его двадцатилетний сын.
Мысли, обгоняя одна другую, стрелами проносились в голове Эммы, каждая выхватывая какой-то эпизод из прошлого и тут же унося его прочь, чтобы дать место другому. Закрыв глаза, она сжимала ладонями виски и пыталась унестись в мыслях за этими стрелами воспоминаний, но не могла, их было слишком много и они были быстры. Одна вдруг задержалась в пути, повисла в воздухе, будто вонзившись в дерево, мимо которого со свистом пролетали её сёстры, и Эмма подумала, что сын был бы жив, не случись той злосчастной охоты. И кто его только надоумил! Кто же, как не Герберт, Людовик говорил об этом. А ведь мог бы отказаться, да и она хотела было запретить ему, но разве он послушал бы после их недавней размолвки? Кто смог бы его остановить? Никто, пожалуй. Да никому это и в голову не приходило, кроме...
Эмма вздрогнула, схватилась рукой за сердце. Эта девушка!.. Вия!.. Ведь она предупреждала его тогда, оберегала, заклинала не ехать, чувствуя грозящую ему беду! Она умеет предвидеть, угадывать, Людовик сколько раз говорил об этом. И тогда, в этот день... О, небеса! Ведь она, эта девочка-провидица, посланная, быть может, ангелом-хранителем из заоблачных высей, высказывала опасения и умоляла не отпускать сына на охоту! А она? Что же она в ответ? Лишь рассмеялась в душе, приписав её предостережения неуёмной фантазии взбалмошной девчонки, которой неизвестно что взбрело в голову! Святой Боже! Что она наделала! Почему не послушала тогда эту маленькую вещунью, которая хотела уберечь её сына от смерти?! Почему не бросилась тогда в его покои, не упала ему в ноги и не закричала, закрывая путь своим телом: «Не пущу!!! Вели изрубить свою мать мечами, только тогда ты сможешь выйти отсюда!» Но не сделала этого, не послушала совета, пренебрегла! Значит, это она виновата?.. Выходит, отпустив сына, она посылала его на смерть! Но ведь знала об этом, её предупреждала Вия! Так почему же воспротивилась, почему не послушала?! Кто она после этого?.. И острой иглой больно кольнуло в мозгу: убийца!
Эмма вскричала и, уронив лицо в ладони, снова зарыдала. Но вдруг замерла, мокрые пальцы медленно поползли вниз, остановились на губах и прилипли к ним, сдерживая готовый вырваться вопль отчаяния и стыда. Пресвятая Дева Мария! Как же она обошлась с Вией? Как отблагодарила за её тревогу, которая не ранила ни одно сердце, не всколыхнула ни одно сознание?.. Назвала ведьмой! И это публично, при всех! Матерь Божья! Как же разрывалось тогда сердце этой девочки, кто может сказать! Как больно было ей слышать такое о себе! Ведь она хотела добра, мечтала спасти жизнь королю, её сыну, а вместо этого... Эмма до боли закусила палец. Как не поразил её тогда на месте гром небесный за эти слова: она, его мать, назвала её убийцей! Её! А надо бы себя!!! Мало того, увидев в ней соперницу, она настолько перестала владеть собой, столь обезумела, что, презрев свой высокий пост и опустившись до неё, бедной музыкантши, приказала её убить! А ведь эту девочку любил сын, говорил, что умная, грамотная, добрая — настоящее сокровище... А она к ней — убийцу!..
Эмма вскочила с места, резко повернулась к дверям:
— Ко мне! Скорее! Кто-нибудь!
Вошла перепуганная камеристка, открыла было рот, но Эмма опередила:
— Немедленно приведи сюда Вию! Разыщи, где хочешь! Ступай же, не медли!
Камеристка побежала по коридорам, а Эмма так и осталась стоять возле кресла, глядя воспалёнными, мокрыми глазами на дверь...
Вия вошла, бледная, и, сделав два шага, остановилась в растерянности. Думала увидеть львицу, а встретилась с раненой ланью, у которой от боли слёзы в глазах. Всё же, следуя этикету, подошла ближе, сдержанно поклонилась и застыла с поднятой головой, но глазами, устремлёнными на рыжие квадраты пола под ногами. Между ними шагов пять, меньше нельзя. Обе знают это. Но королева-мать неожиданно пошла навстречу и остановилась совсем рядом, рукой достать.
— Я помешала тебе? — мягко и участливо спросила Эмма, ломая пальцы на руках. — Ты, наверное, была занята?
— Пусть это вас не беспокоит, ваше величество, — сдержанно ответила Вия, не поднимая глаз.
— Я понимаю, ты удивлена... и вправе ненавидеть меня.
— Я не имею такого права, — был холодный ответ.
Эмма взяла руки Вии, подняла их и стиснула в своих горячих ладонях.
— Прости меня, девочка, если сможешь, — тихо проговорила она и добавила, чувствуя, как задрожали губы: — Я несправедливо обидела тебя тогда... Я была не права...
И замолчала. Вия подняла глаза и обомлела: стоя прямо против неё, королева-мать плакала, не стыдясь своих слёз.
— Что вы, ваше величество, — Вия попробовала высвободить руки, — разве могу я сердиться, ведь вы королева.
— Была королевой, — грустно улыбнулась Эмма. — Теперь уже никто. Я потеряла всех, осталась одна на этом свете, и мне больно, что я оскорбила тебя своим недоверием и грубым словом... — Она ещё крепче сжала ладони Вии и неотрывно глядела в её глаза, словно стараясь взглядом проникнуть в самую душу. — Я совершила глупость. Это было низко и подло. Мой сын так любил тебя, души не чаял, а я... предала его, сделала тебе больно, а ведь ты хотела ему добра, спасти от гибели... а я не поверила, да ещё и стала подозревать в измене... Видишь, какая я нехорошая... Этот грех гнетёт меня, точит душу, и я прошу тебя, освободи меня от него! Может быть, мне осталось уже немного, и я скоро предстану пред вратами обители небесной, так не дай же мне нести за собой тяжкий крест греха, сними его с меня! Прощения у тебя прошу как блудница у исповедальни, как женщина у женщины, как мать у дочери своей... Прости же, Вия, меня, свою бывшую королеву, ведь я замышляла убить тебя!..
— Боже мой, государыня, да вы сейчас упадёте, — Вия торопливо поддержала королеву-мать под локти. — К чему так изводить себя, или я вам ровня? Как можете вы просить меня о чём-то или умолять, если вам надлежит лишь приказывать и требовать?..
— Ты не хочешь прощать меня, — упавшим голосом произнесла Эмма, и слёзы вновь заструились у неё по щекам. — Мне осталось пасть перед тобой на колени...
И она в самом деле начала оседать.
— Святые небеса! — вскрикнула Вия и, оставив руки Эммы, обняла её саму, стараясь удержать. — Не хватало только, чтобы вы упали у моих ног! Ну, скажите, гоже ли это?
Королева не отвечала, и Вия поняла, что она ждёт ответа.
— Ах, боже мой, да я простила уже вас, ваше величество, — улыбнулась она.
— Правда? — Эмма в ответ тоже засияла улыбкой. — Ты и в самом деле простила?..
Вместо ответа Вия улыбнулась ещё шире и кивнула.
Эмма, радостная, протянула к ней руки:
— Разреши тогда мне тебя поцеловать.
И, обняв девушку, приникла губами к её щеке.
Немного отстраняясь, Вия, покраснев, проговорила:
— Ах, ваше величество, я, право, смущена... Если бы вы были моей подругой, я ответила бы тем же, но вы...
— А ты забудь, что я королева, — ласково глядя на неё, сказала Эмма, — вернее, что я была ею когда-то, и поцелуй меня тоже. Вот мы и подружимся с тобой, и сгинут отныне в Тартар чёрные тени, что пролегли меж нами.
Вия осмелилась и, приблизившись, поцеловала королеву-мать в щёку. Потом со смехом сказала:
— Теперь мы навеки стали подругами.
— В самом деле? — тоже засмеялась Эмма. — Что ж, я не против.
— Мне говорил Можер, так принято у них в Нормандии: коли поцелует один другого, а потом наоборот, то становятся эти двое друзьями.
Лёгкое облачко грусти омрачило при этих словах лицо Эммы. Никак не связывая это с нормандцем, а полагая, что королева-мать вновь предалась тягостным воспоминаниям, Вия тихо произнесла:
— Вы подумали о сыне? Не отвечайте; разве мне не понятно чувство матери?.. Но и я думаю о Людовике... Он был такой славный, и мы любили друг друга как брат и сестра.
— Не поверишь, как стыдно мне за тот случай, — промолвила Эмма, опуская взгляд. — Ведь ты пришла проститься с ним, как с другом, а я такое сказала...
— Вы были не в себе, только слепой мог не видеть этого. Что ж удивительного, если, обезумев от горя, вы накричали на меня? Конечно, мне было обидно, но...
— Я действительно тогда ничего не соображала, — глубоко вздохнула Эмма, не поднимая глаз. — Разум вернулся потом, когда уж поздно было... Ну, да что теперь говорить, всё в прошлом. А сейчас, когда ты простила меня, — она поглядела на Вию глазами любящей матери, — я скажу тебе... — она замялась, неловко улыбнувшись. — Хочешь знать правду?
— Конечно, говорите, государыня, я вас слушаю.
— Ты сама не знаешь, какую радость мне доставила, — разоткровенничалась вдруг Эмма и всхлипнула, — ведь теперь у меня есть ты, а я думала, что осталась совсем одна... И, глядя на тебя, я буду вспоминать любимого сына... Но душа его уже на небесах, а тело в склепе под мраморной плитой, и я не смогу обнять его и сказать «мой сыночек». Но ты, Вия, здесь, со мной, ты часть Людовика, и я вместо него обниму тебя и скажу: «доченька моя»...
Она заключила девушку в объятия и расплакалась у неё на плече. Не выдержала и Вия: уж очень трогательной оказалась сцена, совсем как её мать обнимала когда-то дочь, будучи живой.
А Эмма, гладя Вию по волосам, добавила, вконец расчувствовавшись:
— Вот видишь, как потянулись одно к другому наши сердца. Но ничего нет тут удивительного, правда ведь? Ты сирота, одна-одинёшенька на этом свете... такою стала и я.
Никого у меня больше нет... И некому поплакаться и душу излить, кроме тебя... — Она отстранилась, глядя Вие в глаза, ласково гладила её по щеке, вытирая бежавшие слёзы. Потом прибавила: — ...Потому что ты мне теперь как дочь, которой у меня никогда не было, а я тебе...
— ...как мать, которая была у меня когда-то, — закончила за неё Вия, и обе вновь разревелись, одна у другой на плече.
Наконец слёзы иссякли. Они, радостно улыбаясь, поглядели друг на друга.
— Боже, какие у нас с тобой сейчас лица, — покачала головой Эмма. — Мокрые и опухшие от слёз. А у меня так... — она обречённо махнула рукой. — Жаль, платка нет. Были, да я выбросила оба: мокрые насквозь.
— У меня есть, — обрадовалась Вия.
— Правда? Вот умница! Давай, я вытру тебе лицо.
Так и сделав, она протянула платок Вие.
— А теперь ты — моё, — и, пока любимица Людовика вытирала её лицо, убирая остатки слёз, добавила: — Можно, конечно, и самой, но со стороны всегда виднее, правда же?
— Ну ещё бы! — ответила Вия, и обе улыбнулись. Немного погодя, Вия удручённо вздохнула: — Увы, но этот платок уже весь сырой, а другого у нас нет.
— Вот бы архиепископа сюда с его длинной туникой до пят, что он обычно носит, — весело подмигнула Эмма, — мы бы задрали её и нарвали из неё платков, а заодно... — она склонилась и что-то горячо зашептала Вие на ухо. И тотчас обе залились неудержимым хохотом, так что вновь пришлось вытирать слёзы, но уже не платком, а мантией Эммы, да и слёзы те были уже совсем иными.
Немного погодя, Эмма предложила:
— Хочешь, пойдём гулять? Будем бродить по парку и говорить, говорить... Я буду тебя слушать; Людовик говорил, ты такая мастерица рассказывать всякие забавные истории.
— Но, ваше величество, как истолкуют наше появление вдвоём придворные? — последовало резонное возражение.
— Не называй меня больше «ваше величество», хорошо, моя девочка?
— Тогда — «государыня»?
— И так не зови, не хочу. Ты не служанка мне.
— Но как же тогда? — растерялась Вия.
— Скоро мы перейдём на «ты»... Не возражай! Я знаю, так будет. А пока зови меня... зови меня... ах, я не знаю как.
— Вам надо надеть чёрное, — напомнила Вия. — Мы не можем так выйти.
— Да, девочка, так и сделаем, — вздохнула Эмма и взяла её за руку. — Пойдём, я покажу тебе мою одежду, поможешь мне облачиться в траур.
Придворных в галерее было немного; увидев королеву-мать и Вию вдвоём, они раскрыли рты. Новоиспечённые подруги прошли мимо них, изредка обмениваясь короткими фразами, и, когда скрылись в конце галереи, двор загалдел на все лады, увидев в этом необъяснимом примирении знак непонятных грядущих перемен.
Идя по коридору, Эмма вдруг остановилась, оглянулась по сторонам и, убедившись, что они одни, поцеловала спутницу в губы. Вия улыбнулась.
— Знаешь, чему я безумно рада, хоть и не понимаю, как это произошло? — спросила Эмма.
— У вас осталось так мало радостей, что я горю желанием узнать, в чём заключается одна из них.
— Только не обижайся на меня, хорошо? Так вот, я счастлива, что покушение на твою жизнь не удалось и убийца сам пал вместе с Ортанс.
— Хотите знать причину? Это нормандец. Если бы не он... Эмма вздёрнула бровь, потом грустно улыбнулась. И сказала:
— Я могла бы догадаться. Воистину, этот человек — добрый ангел-хранитель. Он всегда появляется тогда, когда надо появиться. Но теперь я знаю. Однако герцогу ничего не скажу.
— Какому герцогу?
— Нашему Гуго, конечно.
— Разве он спрашивал вас об этом?
— Не только меня. И учинил следствие по этому делу.
Вия приблизилась к королеве-матери и негромко проговорила:
— Это следствие затянется на долгие годы.
— Думаешь? Дай-то бог. Но почему?
Бросив на собеседницу загадочный взгляд, Вия пояснила:
— Вы забыли, королева Эмма, чем обязан герцог Можеру? А то, что они к тому же родственники, ни о чём вам не говорит?
Эмма обрадованно стиснула Вию в объятиях:
— Всеблагий господь! Как ты меня успокоила, моя милая! Ведь чуть сердце не выпрыгнуло из груди, как узнала. Ах, Можер, ах он, проказник!
И они отправились дальше.
Во дворе, едва ступив на площадку перед дверьми, их внимание привлекла группа людей неподалёку, человек десять. Четверо держались особняком.
Эмма приостановилась.
— Смотри, — кивнула она на эту четвёрку, — узнаешь?
— Один из них — Можер, — сразу же угадала Вия, — другой — герцог Гуго, третий — его сын... а вот четвёртого не знаю.
— Герцог Ричард Нормандский.
— Отец Можера?
— Он приехал на выборы короля.
— Я так и знала, что они изберут Капета.
— Интересно, кто его так прозвал.
— Монахи. Но трудно сказать, почему: то ли из-за его капюшона, то ли из-за мантии. Говорят и другое: в его турском аббатстве хранится плащ святого Мартина, отсюда — прозвище[11].
Все четверо тем временем тоже повернули головы в сторону лестницы, по которой неторопливо спускались королева-мать с Вией.
— С удовольствием прошла бы мимо, — обронила вполголоса Эмма с маской скорби на лице. — Терпеть не могу триумфаторов.
Они подошли и остановились. На губах королевы-матери ни тени улыбки. Тусклый взгляд безучастно скользит по лицам. Вия разглядывала герцога Ричарда, которого видела впервые. Бесспорно, они с сыном похожи, только отец пониже ростом. И в кого Можер вымахал такой?
На Ричарде башмаки с подвязками крест-накрест до колен, короткие штаны, лёгкая рубашка, плащ до бёдер, на одном боку меч, на другом кинжал, головного убора нет.
— Приветствую вас, герцог, — чуть заметно растянула губы в подобие улыбки Эмма. — Признаться, я думала, мы встретимся раньше. Вам следовало бы навестить больную несчастную королеву.
— Я прибыл поздно, Эмма, к самой ассамблее. Меня задержали дела. Но, видит бог, я спешил в Лан, чтобы выразить вам соболезнование, — и герцог низко склонил голову. — Мне очень жаль, я любил Людовика как сына.
— Мы давно не виделись с вами, Ричард, — промолвила королева-мать, выдержав паузу. — Вы всё такой же сильный телом и духом, это заметно, только слегка посыпало серебром голову.
— Старость не спрашивает человека, чего ему хочется, чего нет, Эмма, — ответил герцог Нормандский. — Когда вся моя голова будет убелена сединами, а рука не сможет удержать меч, я стану мудрецом.
— Мне бы хотелось, чтобы вы не торопились с этим. Государству нужны не мудрецы, а такие сильные воины, как вы.
Герцог молча склонил голову.
— Вам понравился мой сын? — переглянулся он с Можером. — Я отправил его к франкскому королю, чтобы он при его дворе научился хорошим манерам и помог в чём-либо, коли случится нужда. И что же я услышал, когда приехал? Он не выучился ничему, зато, как порассказал мне герцог франков, за ним уже числится немало подвигов. Говорят, он побывал даже в Бургундии. Я спросил его, что он там делал, но он молчит. Может, вы знаете?
— Что бы это ни было, Ричард, я уверена, граф Можер нигде и никогда не запятнал ни своей чести, ни рода. Вам следует гордиться сыном и ставить его в пример, как и он гордится своими славными предками и всегда ставит в пример вас, вашего отца Вильгельма и достославного деда Роллона.
— Клянусь мечом моего отца, приятнее этих слов я не слышал даже от родной матери, — с чувством произнёс Ричард.
Эмма, с улыбкой чуть кивнув ему, обратила взгляд на герцога франков.
— Как вас теперь величать, Гуго? — спросила она, не проявляя ни волнения, ни интереса. — Не удивляйтесь, до нас уже дошли слухи о выборах в Компьене. Говорят, архиепископ в красноречии превзошёл самого Демосфена[12], а Латро[13] впору брать у него уроки. Так как же? Вы уже государь?
— Для Церкви ещё нет. Миропомазание через месяц.
— Значит, вы пока ещё герцог?
— Не будет большой ошибкой называть меня как прежде. Но, думаю, было бы лучше, если бы ко мне обращались, как к королю. Так я быстрее привыкну к новой роли и не буду чувствовать себя скованным на коронации.
Не опуская головы, Эмма устремила взгляд вниз и застыла в молчании. Она подумала о сыне. Год тому назад он так же, с гордостью и волнением, говорил ей, что завтра сядет на трон...
Гуго догадался о ходе её мыслей:
— Прошу простить, ваше величество, но я никого не хотел обидеть, тем более вас.
Эмма промолчала. Хотела уже уйти, но решила выяснить всё до конца. Прямо сейчас, здесь, на людях, посреди этого двора. Ей стали ненавистны кабинеты и утомительные визиты с бесконечными поклонами и дежурными улыбками.
— А что вы скажете в отношении меня? — спросила она. — Кто я теперь и как меня величать? Где мне жить? Быть может, мне грозит изгнание, ведь я оказалась не у дел — мать без сына, королева без короля... Вот Вия, — Эмма взяла девушку за руку и тепло улыбнулась ей, — круглая сирота, родных никого, они все умерли. Но она везде желанна и у неё кругом друзья, куда ни кинь взор, потому что она из народа, проста и все любят её. А я? Кому я тут нужна теперь в своём пурпуре, с болтающейся короной на голове и в траурных одеждах? Кто придёт на помощь, если мне станет плохо? Кто захочет говорить со мной, когда я буду в одиночестве сходить с ума? Вспомнят ли на другой же день после вашей коронации, кто я такая, что я здесь делаю и кто такие вообще были Каролинги?..
Не глядя на неё, герцог молчал. Молчали все. И не знали, что сказать. Один Гуго знал, но ему как раз и было тяжелее всех говорить с королевой-матерью.
И тут обстановку разрядил Роберт, стоящий рядом с отцом. Сделав шаг вперёд, он громко сказал:
— Мы все вас любим, ваше величество, как любили вашего сына, и всегда будем помнить, что вы — мать последнего короля из династии, которого звали Людовиком. А если вам будет плохо, то приходите ко мне, я всегда помогу вам.
Эмма, улыбаясь, подошла к Роберту и погладила его по голове:
— Спасибо тебе, мой мальчик, ты хорошо сказал. Когда вырастешь, станешь королём, как твой отец.
И отошла. Вновь встала рядом с Вией.
— Так что вы ответите, герцог? Не бойтесь, говорите смело, среди нас нет врагов, а о моей участи так или иначе всем будет известно. Говорите прямо здесь — без кабинетов, банальностей, визитов, факелов, слуг и кресел.
— Что ж, коли вам так угодно, извольте, — ответил Гуго. — Желание ваше вполне объяснимо, я сам не терплю неопределённости, хотя, видит бог, как не хотелось бы мне ставить вам какие-либо условия. Однако разговор этот неизбежен, и я не вижу причин откладывать его. Какая, в самом деле, разница, произойдёт он до помазания или после него, во дворце либо за его пределами? Никто не вправе не считать вас матерью последнего короля великой династии, оборвавшейся столь трагично, однако вы не можете оставаться в статусе королевы, ибо ею станет супруга избранного на ассамблее главы монархического государства. Отныне вас будут величать «мадам». Таков ваш титул. За вами сохраняются все ваши привилегии и родовые земли во Франции, Бургундии и Италии. Они будут приносить надёжный доход, который даст вам возможность безбедно жить в этом королевском дворце на правах его хозяйки, имея собственный двор и необходимый штат прислуги. Ваше положение в обществе и титулы герцогини Италийской и принцессы Французского и Германского домов, несомненно, будут привлекать к вам внимание и, поскольку вы ещё молоды, не исключается брачный союз. Что касается меня, то после коронации я отбываю в Париж, который намереваюсь сделать столицей Франции. Лан станет королевской резиденцией, а вы — хозяйкой города и этого дворца. Надеюсь, мадам, вас вполне устраивает такое решение монарха, который всегда чувствовал к вам истинно дружеское расположение и надеется его сохранить.
Эмме надлежало как-то ответить на эту речь: выразить восхищение или возмущение, либо просто явить согласие хотя бы кивком головы, но она лишь отвела взгляд в сторону и, не сводя глаз с тёмной полосы далёкого санлисского леса, хорошо видной сквозь раскрытые дворцовые ворота, медленно, с ноткой обречённости в голосе, проговорила:
— Вот я и осталась одна.
— Но до коронации ещё месяц, государыня! — воскликнул Ричард Нормандский, желая подбодрить Эмму. — И мы ещё с вами, чёрт возьми! К тому же, как мне кажется, — он кивнул на Вию, — вы обзавелись хорошими друзьями, которые, уверен, не оставят вас.
— Вы правы, герцог, друзья — это единственное, что у меня остаётся, — Эмма с любовью поглядела на Вию и взяла её за руку повыше локтя. — Правда, у меня их совсем немного, но эта девочка останется со мной, и это с лихвой окупит их недостаток. Если, конечно, — Эмма помедлила, — она не выразит желания уехать вместе с королём и всем двором в Париж. Что ты скажешь на это? — и она замерла в ожидании ответа.
Вия повернулась и с улыбкой прижала руку королевы к груди:
— Я не покину вас, мадам, знайте это, если, конечно, вам самой не захочется со мной расстаться. К тому же Лан для меня — родной город, и, хотя я не родилась тут, но здесь жили отец и мать и здесь мой дом.
— Я ожидала такого ответа, дитя моё, — одарила её благодарным взглядом Эмма. Потом повернулась ко всем: — Но я вижу удивление на лицах присутствующих, похожее на то, какое было у них при известии о браке моего деверя Карла с неровней. Оно тотчас пройдёт, едва эта девушка станет графиней; я дам ей этот титул.
У Вии задрожали губы. Затем увлажнились глаза. Не желая показывать волнения, она опустила голову.
— Ну вот, чёрт побери, — со своей обычной прямотой воскликнул Можер, — теперь ты, Вийка, будешь знатной особой и иметь вассалов! Чем не невеста? Скоро к тебе станут свататься графы!
Вия приподняла голову, исподлобья покосилась на него и внезапно рассмеялась.
— Скажите, Гуго, — обратилась Эмма к герцогу, — вы не обмолвились, назвав королевство по имени своего герцогства? Или вправду таково ваше решение?
— Именно, мадам, — кивнул Гуго. — Отныне наше государство станет называться Францией, так я решил. Именно под этим словом оно будет значиться в анналах истории, которые ведут наши монахи. Они дали мне прозвище Капет. Пусть так! Такою и станет новая династия. Сие неколебимо, непреложно и не подлежит ни отмене, ни изменению.
Помолчали. Солнце клонилось к закату. Поднялся лёгкий ветерок.
— Не мешало бы, чёрт возьми, отметить это событие за праздничным столом! — воскликнул Можер. — Да и то сказать, время позднее, мы изрядно проголодались. Что до меня, то, ей-богу, съем дюжину уток и выпью разом кувшин вина! Прав ли я, государь, — обратился он к Гуго, — или время ещё не пришло?
— Пожалуй, и в самом деле ты прав, — улыбнулся Гуго. Потом перевёл взгляд на Эмму. — Распорядитесь, мадам, ведь этот дворец ваш, вы в нём хозяйка.
— Я предоставляю это право вам, — мрачно ответила Эмма, — ибо ваши приказы, полагаю, ныне исполняться будут рьянее, нежели мои. Мы же вдвоём отправимся побродить по парку. Вечером так хорошо и свободно дышится, и запах молодой листвы столь упоителен и свеж...
— Как вам будет угодно, — с поклоном ответил Гуго, тонко уловивший намёк Эммы на её печальное настроение в связи с потерей сына.
Королеве-матери сдержанно поклонились и остальные. Ответив тем же, Эмма, взяв за руку Вию, лёгкой, величавой поступью направилась к парку.
Все четверо молча глядели им вслед.
— А всё же она ещё чертовски хороша, не правда ли, Гуго? — негромко обратился к герцогу Ричард. — Завидная партия для искателей богатых невест.
Тот, не сводя глаз с удалявшейся Эммы, лишь кивнул в ответ.
— Что скажешь, сынок? — повернулся Ричард к Можеру. — Думал ли увидеть такое? Девчонка под рукой королевы-матери! А говорил, будто она убийцу подсылала к ней!
— Сам ничего не пойму, — озадаченно пробормотал Можер. — Из фурии в одночасье превратилась в Венеру!
— Одиночество толкнуло её на этот шаг, — рассудительно молвил Гуго, — и запоздалое сознание вины перед девушкой. Ведь та и в самом деле хотела уберечь Людовика. Одно скажу — читал у кого-то из древних: коли от ненависти внезапно переходят к любви, то лишь смерть способна разбить такую любовь.
Ричард с улыбкой вновь поглядел на сына:
— Как поступишь теперь? Ведь они обе твои.
— Откуда тебе известно, отец?
— Отвечай, когда тебя спрашивают! — и Ричард перемигнулся с Гуго.
Но Можер ничего не смог ответить, лишь глубоко вздохнул и, хмуро поглядев в сторону парка, задумчиво потёр рукою подбородок.
— Где же твой брат, Можер? — внезапно спросил Роберт, теребя нормандца за рукав. — Ты сказал, он тоже прибудет, а его всё не видно.
— Скоро вы с ним встретитесь, — ответил за сына Ричард Нормандский. — Они с женой Юдит слегка запаздывают, но, полагаю, либо сегодня поздно вечером, либо к утру будут здесь. Тебе, верно, не терпится поболтать с Ричардом?
— Нет, герцог, с его женой, — не моргнув глазом, ответил Роберт. — С нею мы почти одногодки, а ваш сын на десять лет старше меня. Надеюсь, он не станет ревновать?
— Ого, — рассмеялся Ричард, — да ты уже рассуждаешь как настоящий мужчина, хотя тебе всего пятнадцать.
— Отец воспитал меня и был прав. Лучше смолоду стать зрелым, нежели в зрелости гоняться за бабочками и лепить снежных человечков.
Гуго с гордостью поглядел на сына.
— А знаете ли вы, герцог, что я обязан жизнью Можеру? — продолжал Роберт и, увидев, как у Ричарда округлились глаза, с увлечением стал рассказывать нормандскому герцогу историю на заливе, которую закончил, когда они уже были во дворце.
Глава 23. Родственники из Нормандии
Ближе к ночи во дворец приехал во главе целого эскорта грозных норманнов молодой герцог Ричард с супругой Юдит Бретонской — голубоглазой блондинкой с чуть вздёрнутым носом, бледными щеками и бесчувственными губами, не знающими улыбки. Её муж, напротив, отличался живостью: светло-карие глаза излучали тепло, на щеках алел румянец, а с губ не сходила приветливая улыбка. Едва прибыв, оба тотчас сняли дорожные одежды и надели праздничные: Ричард — лёгкий светло-лиловый плащ из шёлка поверх голубой рубашки до бёдер и с рубиновой застёжкой на груди; Юдит — разноцветное шёлковое платье с длинными и узкими рукавами, закрывающее тело до пальцев ног и отделанное богатой обшивкой. Талию охватывал синий пояс, голову украшал венец из живых цветов.
После обмена приветствиями и лёгкого ужина из вина с оливками Вия решила поболтать с Юдит. Ещё раньше она обратила внимание на неоднократные попытки Роберта, заговорив с женою, развеселить её, но увидела, что у того ничего не выходит. И сразу же догадалась в чём дело, когда поймала на себе несколько раз любопытные взгляды юной супруги Ричарда. Той нужна была подружка, в обществе мужчин она чувствовала себя скованной, ещё не привыкнув к роли жены и оставаясь, в сущности, ребёнком. Вия спросила Юдит, откуда та родом, с интересом послушала о Бретани, которая не подчиняется никому, и тут же стала рассказывать о себе, а потом, взяв на вооружение Плутарха, Светония и Страбона, ввела собеседницу в удивительный мир Античности и её героев с их любовными похождениями и подвигами. Беседуя таким образом, она вспоминала о Людовике: как часто они вдвоём читали об этом, а потом делились впечатлениями! Юдит слушала Вию, раскрыв рот и широко распахнув голубые глаза, сиявшие живейшим интересом и восторгом. Изредка она перебивала рассказчицу, вставляя какие-нибудь замечания или задавая вопросы в тему, но в целом оказалась незаурядной слушательницей: то тяжело вздыхала, то в ужасе обхватывала руками голову, то счастливо улыбалась, как того требовалось по ходу рассказа. В конце концов случилось нечто, что заставило её мужа удивлённо вскинуть брови, а присутствующих дружно повернуть головы: собеседницы безудержно хохотали, промокая платками глаза и не обращая внимания на окружающих.
— Юдит! — прикрикнул на жену Ричард.
Она озорно поглядела в его сторону, перевела взгляд на Вию и прыснула со смеху. Потом сказала что-то новой подружке, и обе захихикали. Наконец, поняв, что общее внимание чересчур уж поглощено ими обеими, они встали, нашли укромный уголок и продолжали там делиться какими-то своими женскими тайнами, то вновь хохоча, то замолкая в тех местах, где требовалось уже нахмурить брови.
Ричард, поглядев в ту сторону, покачал головой.
— Что, весело при франкском дворе? — спросил его Можер. — То-то же, а ты не хотел брать с собой Юдит.
— Я просто не узнаю её, — развёл руками старший брат. — Она никогда столько не смеялась. Я забыл, как она улыбается!
— Франки такие, с ними не соскучишься, — налил ему вина в опустевший бокал Можер, — вежливы, стоят на молитвах, чтут память всех святых и неукоснительно соблюдают дворцовый этикет; бывают грустны, а то и важны, случается — плачут, но чаще хохочут.
— Кто эта девушка, что так развеселила Юдит? Похоже, не из знати. Впрочем, поскольку она среди нас...
— Эта девица настоящее сокровище, брат, — не без гордости заявил Можер, — умеет гадать, собирает травы и может изготовлять снадобья. Мало того, образованна, читает, пишет, знает античность, историю римлян. Кроме того, слагает стихи, хорошо поёт, играет на ротте и... гадать, конечно, можно по-разному, но ты не поверишь: может сказать любому, когда и какой смертью он умрёт. Она была при Людовике, и он очень дорожил ею, ну а теперь...
— ...осталась без хозяина? — подхватил Ричард. И тут же загорелся: — Отдай мне эту гадалку, брат! Я увезу её с собой! Она будет жить как королева! Ведь погляди, что сделалось с Юдит! Я не узнаю собственной жены! Как бы мне хотелось, чтобы она всегда оставалась такой, как рад я видеть улыбку на её лице, слышать смех!.. Отдай, брат, богом молю!
— Что значит «отдай»? Разве это вещь? Рабыня, которую можно подарить, купить?.. Да и с чего ты взял, что она моя? A-а, верно, кто-то уже успел нашептать.
— Пусть так, но зачем тебе?.. Ведь есть другая...
— Норманны никогда не были болтунами! — побагровел Можер. — Кто тебе сказал? Но если укажешь на отца!..
— Это был поварёнок, что принёс вино. Узнав, что мы братья, он тут же сообщил, что королева-мать...
Можер с силой обрушил кулак на стол. Вмиг наступило молчание. Все с недоумением уставились на братьев: Гуго, Ричард, Роберт, графы, фрейлины и даже Вия с Юдит из своего угла. Но Можер не обратил на это никакого внимания.
— Скажешь ещё дурное слово в адрес королевы-матери, и мы скрестим с тобой мечи! — вскричал он, вставая. – Прямо здесь же, в этом зале!
Ричард нахмурился. И дёрнуло же его заговорить об этом... Но кто мог знать?.. Можер, конечно, всегда отличался вспыльчивостью, но старший брат никогда не замечал за младшим такого взрыва негодования, вызванного упоминанием о женщине, которая, по-видимому, была ему дорога. Ведь он норманн, они грубы и бесцеремонны, им незнакомо такое понятие, как женская честь. Но тут!.. Не напрасно говорили: хочешь научиться любить и уважать женщину — поживи у франков.
Всё это за какое-то мгновение пронеслось в голове у Ричарда, и он примирительно сказал:
— Не сердись, брат, я не знал здешних обычаев, потому как не бывал при франкском дворе.
Можер сел, и волнение за столом тотчас улеглось. Гнев нормандца утих. И всё же он промолвил назидательно:
— Знай на будущее: никто не смеет отозваться дурно о женщине в моём присутствии. Услышу — тотчас задушу любого, будь то хоть сам папа римский!
— Сколь, оказывается, здесь утончённые нравы, — заметил Ричард. — Но я рад, Можер, что ты этому научился. Из грубого варвара ты превратился в благородного человека с возвышенными чувствами. Это мне хороший урок, и я уже кое-что понял, — он посмотрел в уголок на юных собеседниц. — Может быть, поэтому жена и не улыбчива всегда?
— Женщине надо дарить любовь, — молвил Можер, — но и силу тоже, брат, когда это бывает необходимо. Она потому и слаба, что ищет эту силу у нас и, когда находит, платит за это своей любовью, которую никогда не стоит отвергать, дабы не прослыть в её глазах бесчувственным истуканом.
— Этому учат во Франции?
— Ты научишься этому, пожив при дворе франкского короля.
— Ты не сказал о гадалке. Поедет она со мной?
— Спроси об этом у матери покойного Людовика. Но это всё равно что попытаться увезти её дочь.
— Столь она к ней благоволит?
— Не будь этого юного создания, королева утонула бы в собственных слезах. Теперь их не разлучить, даже не пытайся.
— Жаль, — Ричард с сожалением поглядел в сторону новых подружек. — Ну да ладно, до коронации ещё месяц, пусть хоть сейчас побудут вдвоём. Скажи, а почему не видно королевы Эммы?
— Траур не позволяет ей веселиться, Церковь осуждает это.
— Какие странные эти франки. Разве у нас так?
— Норманнам не грех поучиться у них.
— Возьмёшь на себя эту роль? Ведь после помазания мы отправляемся домой.
— С чего ты взял, что я поеду с вами?
— Но что тебе здесь делать, ведь Карл уехал! Не собираешься же остаться при дворе нового короля. Впрочем, сердце норманна ранено стрелой Амура... Чёрт возьми, Можер, как смогли женские чары сокрушить неколебимую твердыню в твоей груди? Неужто здешние женщины милее наших?
— Брось, кто сказал, что я влюблён? Ничуть не бывало. Здесь это называется любовной интригой, не больше. И никаких обязательств ни у одной из сторон! Так что, как видишь, меня здесь ничто удержать не может.
— И всё же ты остаёшься. Что же держит?..
— Не знаю, Ричард. Может быть, Карл...
— Но ведь он отказался от борьбы, уехав в Лотарингию. Собираешься к нему?
— Он вернётся, так сказала Вия. Как уж она разглядела это в его глазах — не скажет ни один оракул, даже Даниил. Не знаю, обманет ли предчувствие, нет ли, но я верю ей. Она сильнее меня, понимаешь? Есть в ней какой-то могучий дух, с которым даже я не в силах сладить. Вот скажет что-то, да при этом ещё посмотрит выразительно — и, ей-богу, будто ангел спустился с небес и оповестил тебя о чём-то неизбежном. И уж тут думай сам — послушать ли его или поступить по-своему. Махнули на ангела рукой — и сын герцога едва не утонул; махнули второй раз — и потеряли короля. Тут и кончились отмашки. Поэтому, брат, я останусь. Подожду Карла, посмотрю, чем закончится. Это волнует меня, вселяет какой-то задор, дух авантюризма. Мне предстоит что-то делать, с кем-то драться, кого-то спасать! Клянусь, мне это больше по душе, нежели целыми днями мотаться по равнинам Нормандии с соколом на руке, играть в карты или слушать нудную болтовню наших придворных. Теперь ты понимаешь меня?
— И даже завидую, — грустно промолвил Ричард. — С удовольствием составил бы тебе компанию. Хочется сесть на боевого коня, ощутить вкус битвы, разить мечом врага от плеча до низа живота и упиваться видом его дымящейся крови, а потом с победным кличем ворваться в его замок и объявить, что отныне он твой, поскольку сдался, и ты теперь — его хозяин! Но, сам понимаешь, остаться не могу. Против отца не пойдёшь, а такая затея для наследника придётся ему не по вкусу.
— Без сомнения, — ответил Можер. И тут выразительно повёл глазами: — Но вот к нам идёт юный Роберт, сын Гуго. Кажется, мальчику надоело общество взрослых. Не хочешь ли с ним поболтать?
— Не составишь нам компанию?
— Пойду к женщинам, — Можер кивнул в сторону Вии и Юдит, по-прежнему увлечённых беседой. — Вино добралось до извилин мозга, и они тоже хотят похохотать.
И он направился в укромный уголок.
— Куда ты, Можер? — остановил его Роберт, заметно разочарованный. — А я как раз иду к вам; беседы взрослых не для юношей.
— Я скоро вернусь, малыш, — улыбнулся нормандец, хлопнув его слегка по плечу. — Иди к Ричарду, видишь, он уже ждёт. Впрочем, может быть, пойдёшь со мной? Ты уже достаточно взрослый, пора привыкать к обществу прелестных фей.
Роберт покосился на укромный уголок, откуда с любопытством уже наблюдали за ними две пары глаз, и покраснел.
— Нет, я... как-нибудь потом, — запинаясь, ответил мальчик.
И они разошлись в разные стороны.
Едва нормандец приблизился, новоиспечённые подруги поднялись с места.
— Можер, ты словно угадал, мы только что говорили о тебе, — на ломаном франкском языке вперемежку с кельтским запросто заговорила Юдит со своим деверем, которого давно знала.
— Я так и думал, — пробасил нормандец, усаживая обеих вновь на скамью и, бесцеремонно растолкав их, втиснулся между ними. — В последнее время обо мне повсюду говорят — одни хвалят, другие ругают, что я не собираюсь покидать Францию. Что же вы приготовили, мои юные хариты[14]?
— Мы сравнивали тебя с отцом, а потом братом.
— Будто не о чем больше поболтать, — буркнул нормандец. Потом дугой изогнул брови: — И к чему же привело такое сравнение?
— К недоумению.
— Очень мило. А тебя? — повернулся Можер к Вие.
— Я и завела этот разговор, а Юдит так и не смогла мне ответить. В самом деле, глядя на вас с отцом, диву даёшься: ведь он на голову ниже тебя! А брат — и вовсе по грудь. Ответь нам, в чём тут дело? Мы сгораем от любопытства.
— И ты сгораешь, синеглазая? — посмотрел нормандец на невестку.
— Только не от любопытства, а от стыда, — ответила Юдит. — Вие простительно не знать, а вот мне — нет. Мы так давно знакомы, а ты никогда об этом не говорил.
— Да я-то откуда знаю! — развёл руки в стороны Можер и, ничуть не смущаясь, бросил их на колени собеседницам, будто два полена фунтов этак по двадцать каждое. — Клянусь посохом прадеда, мне об этом ничего не известно. Хотя припоминается одна деталь, о которой как-то поведал отец: когда мать носила меня в чреве, лекарь сказал ей, указывая на живот, что там как минимум пятеро! По этому поводу есть у меня одно соображение, которым я с вами охотно поделюсь.
Он убрал руки, будто только что вспомнил о них, и положил их себе на колени. Юдит и Вия облегчённо вздохнули, а нормандец продолжил:
— Поглядел как-то Хрольф Пешеход с высоты Царства Небесного на нас двоих — брата и меня — и сказал: «Почему это одному достанется в наследство вся Нормандия и титул герцога, а другому всего лишь захудалое графство Корбейль близ Дрё?» Решив, что это несправедливо, он попросил Господа, чтобы тот дал мне такие же рост и силу, как и у него. Бог согласился, но спросил: «А первому тогда что же?» На что мой прадед ответил: «Этот и без того не обижен».
— Ой, как замечательно и, главное, правдоподобно! — захлопала в ладоши Юдит.
— Признайся, Можер, ты, конечно, это выдумал? — снисходительно улыбнулась Вия.
— Чёрта с два! — воскликнул нормандец. — Если хочешь знать, об этом поведала мне тётка Кадлин.
— Но ведь ты сказал, это только соображение...
— Я сказал? Пустяки, я обмолвился. Это воспоминание, вот что это такое. Моя замечательная тётушка! А как она меня любит! Нет, решено, в самое ближайшее время навещу её, говорят, она настоятельница какого-то монастыря близ Парижа, я забыл какого, у франков такие мудреные названия. Сейчас пойду спрошу у отца.
— Успеешь, лучше расскажи о Роллоне, ведь тебе наверняка известно что-то, чего не знает никто. Недаром же ты повсюду клянёшься громким именем своего достославного предка.
— Он и в Руане клялся так же, как и в Лане, — махнула рукой Юдит.
— В самом деле? — всплеснула руками Вия, и обе рассмеялись.
— Во всяком случае, это лучше, нежели клясться мощами святого, которого никто и никогда в глаза не видел, или иконой Божьей Матери, которую неизвестный живописец писал лет двадцать тому назад со своей беременной жены!
— Можер! — вцепилась Вия в рукав нормандца, испуганно поглядев по сторонам. — Ты что, с ума сошёл? Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Слава богу, нас не слышала святая Церковь.
— Он у нас безбожник, — доверительно шепнула Юдит подружке, перегнувшись через ноги нормандца. — Однажды осенью, возвращаясь с охоты, мы заблудились. Спустилась ночь, и никто не знал, куда ехать дальше. Тогда мы решили заночевать прямо в поле. Хотели развести костёр, чтобы зажарить дичь, но не было дров. Зато близ дороги, которая вела по полю неизвестно куда, мы увидели большой деревянный крест. Кто его сюда поставил и с какой целью — одному богу ведомо. Можер тут же вырвал этот крест из земли и порубил мечом на части, потом развёл костёр. Мы поужинали и улеглись спать, а огонь горел всю ночь, согревая землю и отгоняя волков. На следующий день, когда мы уже отдыхали в замке, один монах, каким-то чудом узнавший о святотатстве, принялся стращать Можера геенной огненной и всякими муками в аду. Оказалось, это было распятие в честь одного из мучеников, которое одновременно являлось крестом в знак вечного мира. Можер махнул рукой и сказал, что мы должны презирать и проклинать эту деревяшку, которая причинила Иисусу столько страданий, а мы ей поклоняемся. Тогда монах пообещал донести об этом случае и этих богохульных словах епископу. Недолго думая, мой деверь взял монаха за шиворот, поднял и сказал ему: «Ага, святоша, я вижу, как ты задыхаешься, ворот сдавил тебе кадык. Не волнуйся, осталось недолго. Когда твоя рожа посинеет, закатятся глаза и вывалится язык изо рта, я отпущу тебя, а потом, ночью брошу твоё тело вниз со стены голодным псам». Монах взмолился о пощаде. Можер предложил ему следующее: «Поклянись всеми святыми, которые тебе известны, что рта не раскроешь об этом кресте». Монах в испуге стал что-то бормотать, но, внезапно побледнев, обмяк. Мы с Розой, моей сестрой, закричали, что бедняга, кажется, отдал богу душу.
«В самом деле? — спросил мой деверь. — Ну что ж, ему же хуже, мог бы назвать всего двух-трёх и остался бы в живых». И отпустил его одежду. Монах грохнулся на пол. Пока мы втроём стояли и думали, как нам поступить с телом, монах зашевелился, открыл глаза и поднялся. «Ну как, приятель, сладко ли на том свете? — захохотал Можер. — Может быть, желаешь туда вернуться? Тогда продолжай считать своих великомучеников, но знай, ты уже стоишь к ним в очередь». Монах испуганно закрестился и забормотал молитвы. Тогда Можер сгрёб его в охапку и выкрикнул в самое лицо: «Довольно басен! Я от них устал. И запомни: нарушишь клятву — отправишься туда же, куда воздеваешь глаза, только на этот раз я возьму тебя не за одежду, а за шкуру, потом приподниму и вытряхну тебя из неё. А если возникнут затруднения, я надрежу её кинжалом в тех местах, где она плохо будет отходить от мяса. И уж после этого, святоша, тебе не очнуться, как нынче». Он не успел ещё договорить, как бедный монах, закатив глаза, грохнулся в обморок прямо у наших ног. Но не умер, мы видели его потом. Епископу он, конечно же, не пожаловался, а, увидев Можера, всякий раз бледнел до смерти и дрожал, как лист на ветру.
Вия смотрела на нормандца и, вздыхая, качала головой. Когда рассказ закончился, сказала:
— Местное духовенство тоже не жалует твоего деверя. Епископ пеняет ему, что он редко ходит в церковь, а монахи вообще считают исчадием ада.
Можер повёл плечами:
— Я не держу на них зла, пусть тешатся. Пока же у меня есть счёт лишь к двум святошам, в чём я дал клятву покойному королю. Настанет время, доберусь до них.
— Ну, это будет ещё не скоро, а сейчас мы хотим послушать тебя, — напомнила Юдит. — Расскажи о своём славном предке, ты обещал. Как вышло, что он высадился на берег Франции?
— Хрольф был одним из трёх сыновей норвежского ярла, вассала короля Харольда. Один сын погиб в битве с викингами, другой подался в Британию, а Хрольф с такими же охотниками за приключениями, как и он сам, отправился завоёвывать новые территории на юго-запад. Возможно, норманны и проплыли бы мимо земли, которую однажды увидели на горизонте, как вдруг их драккар, царапнув обо что-то днищем, дал течь. Норманны тотчас повернули в сторону суши. И всё обошлось бы, если бы течь с каждым мгновением не увеличивалась. В конце концов в днище разверзлась дыра, и корабль стал тонуть, когда до берега оставалось уже недалеко. Воду пробовали выгребать, но не успевали, отверстие было столь велико, что в него смог бы пролезть человек. Норманны стали молиться своим богам, моля, чтобы усилился ветер и их судно поскорее выбросило на сушу, но ничто не помогало. Драккар погружался всё глубже, и норманны, облачённые в тяжёлые доспехи, затянули уже прощальную песню. И тут Роллон бросился к этой пробоине и, упав навзничь, закрыл её своим телом, только лицо его выглядывало из воды. И он крикнул тогда, чтобы быстрее откачивали воду, а гребцы дружнее работали вёслами. К радости норманнов, шлемы которых то и дело мелькали в воздухе, вода остановилась, а потом стала уменьшаться. Наконец показалась и вся голова Роллона в шлеме с рогами, а потом и его тело, и драккар пошёл быстрее. В конце концов лодка ткнулась носом в песчаный берег и замерла. Люди были спасены! Они подняли вождя и отнесли на сушу, где тотчас развели костёр, чтобы он мог согреться и обсушить одежду. Затем они вернулись к лодке, поглядели на отверстие и ужаснулись. И возблагодарили Одина за то, что он дал их вождю такой огромный рост и ширину в плечах. Будь он таким, как все, — и им не избежать смерти. А Роллон, когда согрелся и вновь надел кожаный панцирь с металлическими бляшками, вынул меч из ножен, вонзил его в землю и сказал: «Отныне это будет наша земля и отсюда пойдёт наш род!» Этот меч потом вытаскивали втроём. Вот каков был мой прадед, от которого пошли герцоги Нормандские! И я, сын Ричарда, горжусь, что являюсь потомком славного воина Хрольфа Великана.
Слушательницы, раскрыв рты и затаив дыхание, во все глаза глядели на рассказчика и, когда он умолк, потребовали ещё. Можер, покопавшись в памяти, стал рассказывать о битве норманнов с франками во времена правления короля Карла, произошедшей в 910 году на излучине Сены, близ Руана. Этот город Карл отдал Хрольфу, заключив с ним мирный договор. Так датско-норвежские викинги получили во владение большую область в устье Сены, а сами стали вассалами франкской короны и перешли в христианство. Хрольф, крестившись, принял имя Роллон и получил в жёны дочь короля Гизелу.
Неизвестно, сколь затянулась бы ещё эта беседа, если бы Можер не зевнул. Да тут ещё к ним подошла Эдвига, одна из трёх дочерей Гуго, и обратилась к Юдит:
— Пора читать вечернюю молитву перед сном. Все уже разошлись, торопись и ты.
И, мило улыбнувшись на прощание Можеру и Вие, тотчас упорхнула.
— О чём с тобой беседовала королева-мать? — сразу же спросил нормандец, едва они с Вией остались одни.
— Так... мало ли о чём, — пожала плечами Вия.
— С чего это вдруг ты так понравилась ей? Совсем недавно она мечтала тебя погубить.
— Она попросила у меня прощения. За всё. Чуть не упала на колени, хорошо, удержала.
— Не играет ли с тобой? Не пытается ли пустить пыль в глаза?
— Нет, зачем ей это? Я наблюдала за ней, старалась понять, ты ведь знаешь, я это умею.
— Что же увидела?
— Она искренна. Мы горевали о смерти её сына и вместе плакали, обнявшись, как две сестры. Я простила ей. От радости она расцеловала меня.
— Значит, в её душе произошёл... как бы это точнее выразиться... душевный перелом?
— Именно, Можер. Она несчастна. Она осталась одна и потянулась ко мне, как утопающий к ветви дерева, склонившейся над водой. Я должна была её утешить, горе совсем надломило её.
— И тебе это удалось?
— Впервые со дня похорон я увидела, как она улыбается. Это был подарок мне. Таким взглядом мать ласкает своё дитя. Чуть ли не весь день мы провели вдвоём. Я увидела в ней глубоко скорбящую женщину с ранимой душой, способную беззаветно любить. При этом — ни тени фальши в её голосе и поведении. Так не сыграет ни один актёр. На это способно лишь трепетное женское сердце, восставшее из праха и забившееся не для того, чтобы вновь похоронить себя, а чтобы сгореть в огне любви, которую оно готово отдать тому, кто ответит на его призыв.
Можер немного поразмышлял, слегка нахмурив брови.
— Ты подошёл, чтобы спросить меня об этом? — сказала Вия.
— Не только. Юдит устала с дороги, я хотел напомнить, что ей пора отдохнуть.
— Ты так и не сумел. Эдвига сделала это за тебя.
— Скажи, Эмма смирилась? — вновь вернулся Можер к прерванному разговору. — Она не говорила о своём девере как о последней надежде?
— Она спросила, как я думаю, победит ли Карл, если вернётся?
— Что ты ей ответила?
— Что мне это неведомо.
— И в самом деле? Ты ей не солгала?
— Я не стала говорить всей правды. Помнишь, тогда, на берегу залива, я сказала тебе, указывая на Роберта, что ему быть королём?
— Как ты узнала?
— Я увидела на его голове корону.
— Гм, недурно. Выходит, Карла, если он вернётся, ждёт неудача?
— Звезда Каролингов погасла, ей уже не засиять.
— А Эмма? Что будет с нею?
— В её глазах я прочла как в зеркале души. Они горели отчаянием, любовью к жизни... но я увидела в них нечто другое, что бросило меня в дрожь.
— Что же ты в них прочла? Что сулит ей будущее?
— Забвение.
Можер потряс её за плечи:
— Она умрёт? Ну, говори же! Умрёт?..
Отрешённым взглядом Вия уставилась в темноту одной из ниш у окна и мрачно изрекла:
— Её ждёт бесславный конец.
Можер вздрогнул, отпустил Вию. Она так и осталась недвижимой, и взгляд был устремлён туда же.
— А Карл? — снова спросил нормандец. — Ведь он полон решимости к борьбе! И он надеется!..
— Надежда — последнее, что у него осталось.
— Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Скажи, я хочу знать!
— Однажды мне довелось увидеть его руку... Он тогда быстро убрал её, но мне всё же показалось... ах, Можер, я увидела его... в клетке!
— Что за бред ты несёшь! Какая ещё клетка? Уж не со львом ли?
— Нет... — и, несмело улыбнувшись, Вия прильнула к нормандцу. — Но ты не думай, говорю же, показалось... факел коптил, да и времени было мало.
Она поднялась:
— Пойду пожелаю королеве спокойной ночи. Она ждёт меня, я знаю, а не приду — обидится, а я этого не хочу.
И, махнув на прощание рукой, Вия ушла.
Совсем другого рода беседа происходила у Роберта с Ричардом, троюродных братьев по матери Роберта Адель Нормандской.
Сын Гуго подошёл к столу и остановился в нерешительности, не зная, как вести себя с потомком норманнов, которого почти не знал.
— Садись, брат, — указал ему Ричард на место рядом, — мы давно не виделись. Лет пять прошло, наверное, как вы с отцом гостили у нас.
Роберт сел и кивнул на оживлённо беседующую троицу.
— Не ревнуешь? — спросил, глянув на брата. — Я вижу, тебе нет до них никакого дела.
Ричард посмотрел туда же, взял бокал, выпил половину.
— Пустяки. С чего бы мне ревновать?
— Да как же... ведь там твоя жена.
— И что же? — Ричард рассмеялся. — Запомни, малыш, норманны не ревнуют, у них не принято. Выпей лучше вина.
Роберт поднял бокал, посмотрел содержимое на свет от факела, поставил на место.
— А у франков можно получить вызов на поединок.
— Вот сумасшедшие! Да ведь это мой родной брат!
— У нас он порою может стать смертельным врагом.
— Норманны и в мыслях не держат ничего подобного. А если кто забудется, ему поначалу напоминают. Коли и это не подействует, женщина вправе ударить его мечом либо пожаловаться герцогу; тот прикажет раздеть наглеца и от души пройтись палками по его телу, чтобы долго помнил потом.
— А если он вельможа?
— У нас нет различий. Коли ты предатель, голову рубят, невзирая на сословие. Могут и повесить: свинопаса и рядом графа.
— У нас такого не позволят.
— Кто? Твой отец, герцог франков?
— Мой отец — король!
Ричард допил вино, поставил бокал:
— И мой — король.
— Твой — герцог.
— Твой тоже был герцогом.
— А сейчас он выше всех, у него сила, власть!
— Над кем? — усмехнулся Ричард. — Ему подчиняется лишь знать на его землях.
— Он король франков, и это признали все!
— На словах. А на деле? Его территория — узкая полоса с севера на юг, и на ней два города — Париж и Орлеан. Но и там он сюзерен лишь формально.
— Однако твой отец — его вассал!
— Вассал, говоришь? — откинувшись на спинку стула, Ричард бросил на собеседника снисходительный взгляд. — Запомни, брат, мой отец — король Нормандии, Франция ему не указ. У него не меньше войска, чем у франкского короля, он чеканит собственную монету, чинит суд над подданными, ему подчиняются все нормандские графы и виконты, хотя, порою не обходится и без усобиц. А все ваши герцоги и графы схожи с королём франков — такая же власть. Их вассалы — сами себе сеньоры, у каждого замок, воины, и они могут не подчиняться герцогу, если не захотят. Попробуй, заставь. Поэтому государства нет, есть герцогства, графства, аббатства и епархии. Много земель, и каждый на своей — хозяин. Что ему король? Он сам себе господин. Спроси его — он и не знает, кто нынче король. Всё потому, что ему плевать на это. Была когда-то власть, похожая на сжатый кулак: ни один палец не смел шевельнуться без воли на то всей руки. Нынче рука слаба, пальцы её смотрят в разные стороны. Собрать их в кулак не под силу королю. У каждого герцога, а порою и графа больше людей, земель и денег, чем у короля. Его, конечно, могут послушать, когда надо воевать, например, а могут и махнуть рукой: тебе надо, ты и воюй, а мне и так неплохо. Поэтому я назвал бы положение твоего отца нелёгким.
— Выходит, он такой же, как и все?
— Владеет он лишь громким титулом — король. Вот и всё отличие его от других правителей — герцогов и графов.
— Пусть так, но Церковь! — пытался возразить сын Гуго. — Разве она не подчиняется лишь королю? Разве не он руководит её порядком и очищением?
— Времена Людовика Благочестивого канули в Лету, малыш, — убеждённо ответил Ричард. — Нынче монастырём руководит тот, кто его захватил, одним словом, на чьей он земле. И если это земля не короля, то епископ и аббат в подчинении у герцога. Тот — хозяин всех церквей и монастырей, и у него будет просить помощи или совета епископ, а также ему пойдёт жаловаться. О короле же никто и не вспомнит.
Роберт задумался, потом подвинулся ближе к брату и негромко проговорил:
— Знаешь, наверное, ты прав. Совсем недавно отец сказал мне, но, заметь, безо всякой радости, что теперь его выберут королём. Я бы даже сказал, что он был опечален этим. А потом он добавил: «Ну разве мне плохо сейчас? К чему мне корона? Будет только давить на голову». Помолчав, ещё сказал: «Вон у меня сколько друзей сейчас, и не счесть. А корона — всё равно что проклятие: половина разбежится от меня, как от прокажённого. Я был лишь равным среди всех, хоть и старшим; теперь же, когда главнее меня никого нет, от меня отшатнутся, и я останусь один». А потом добавил, что ему нужен союз с горожанами, торговля.
— Твой отец мудрый человек, — покачав головой, сказал на это Ричард, — но кто мог знать, что на пути Людовика вырастет пень? А больше выбрать некого.
— Карл Лотарингский, младший брат... — робко напомнил Роберт.
— A-а, пустая возня, — махнул рукой Ричард. — Слышал я, твой отец вытащил архиепископа из тюрьмы и вернул всё, чего тот лишился по воле Каролингов. Теперь он владыка Церкви. Так что же ему — сажать на престол Карла? У твоего отца золото, у Карла — медь; у Гуго уйма родственников, сеть графств, у Карла — клочок земли да горстка друзей; Каролинги несли ему смерть, а герцог дал жизнь. Как бы ты поступил на месте Адальберона? Молчишь? То-то, брат. А знаешь, почему франкская знать — за твоего отца?
— Потому что он богат, — убеждённо ответил Роберт.
— Верно, и она рассчитывает на его подачки. Да так и будет. Поэтому он милее, нежели Карл.
— Они ещё придрались к его жене. Она дочь простого воина.
— Лишний предлог, — усмехнулся Ричард. Потом, подумав, прибавил: — Если не главный. Но всё можно сделать, коли захотеть. Тот же архиепископ мог запросто расторгнуть брак, вот и вся печаль. Опять же, если бы захотел. И Карл пошёл бы на это. Корона стоит того, чёрт побери! Как думаешь?
— И я бы развёлся, — улыбнулся Роберт. — Думаю, Можер сказал бы так: «Баб на свете много, а королевство одно! Женщину можно бросить, как сбрасывают перчатку с руки; королевствами же разбрасываться может лишь сумасшедший».
— Я вижу, ты кое-чему научился у Можера! — воскликнул Ричард и захохотал. — Мой брат не слишком-то галантен с дамами, бывает вспыльчив, может убить ненароком, но он всегда говорит что думает и не прогибается ни под кого, будь то сам Господь Бог. Речь его и манеры, конечно, грубоваты, но иногда стоит прислушаться к его словам, потому что он никогда не ищет для себя выгоды. Но для того, кто нуждается в чём-либо, в его услугах, например, он готов, подобно одному из Алоидов[15], забраться на Олимп и как следует потрясти жилище богов и обитель муз, пока все они по просьбе жалобщика не посыплются горохом на землю. Таков наш с тобой брат, Роберт, мне — родной, тебе — троюродный. Он прост, без увёрток, и если удостоит кого-нибудь своей дружбой, то, считай, этот человек под крылышком или за пазухой — это уж как тебе угодно — у самого Господа. Лучше друга не бывает! Не рождала ещё земля. И я его очень люблю, поверь. А ты?
— Ещё бы! — заулыбался Роберт. — Ведь он недавно спас меня от смерти.
И он вновь, как и отцу Ричарда, стал рассказывать историю на заливе.
— Молодец Можер! — вскричал Ричард, стукнув кулаком по столу в конце рассказа. — Ей-богу, я не перестаю восхищаться своим братом! И правильно, что он забросил в реку этого монаха. Жаль только, что не стукнул его кулаком по лысине, глядишь — и монах до конца жизни улыбался бы всем подряд.
И братья дружно рассмеялись.
В это время к ним подошла Аделаида, мать Роберта, месяц спустя — королева Франции.
— Я вижу, братья заболтались, — с улыбкой проговорила она. — Не останови вас, вам не хватит и ночи. Роберт, не пора ли на покой, время позднее, да и не последний день у нас гости, наговоритесь ещё.
Пожелав друг другу спокойной ночи, братья разошлись.
Глава 24. Раба любви
Жизнь во дворце в преддверие коронации шла своим чередом. Гуго пока что уехал в Париж. Зачем? Кто знает. Может быть, для того, чтобы отцы города надлежащим образом встретили в скором времени своего властелина, теперь уже короля. Вместе с ним покинули Лан его супруга Адель и Ричард Нормандский с женой Гуннорой. Однако женщины, посовещавшись, решили через неделю вернуться и дожидаться в Лане своих мужей. Такое решение было связано с заботой о королеве-матери, которая осталась одна.
Придворные, конечно, пока не покидали дворца, но фрейлины уже начинали хмурить лобики, а графы, виконты и весь придворный штат бывшего короля в задумчивости потирали подбородки и скребли в затылках: отбыть ли с новым королём в его столицу или остаться здесь в штате пусть не монарха, но герцогини, хозяйки дворца, и не бедной. Опять же, её мать — императрица, правда на правах свекрови. Да и привыкли уж тут, сколько лет на одном месте. А что в Париже? Каково будет там? Неизвестно. С жильём — тоже вопрос. Но, с другой стороны, — король! Ну как не быть близ трона, откуда нет-нет да и сыплются подачки и жениха легче найти или невесту?
Времени для раздумий было предостаточно, а в перерывах между размышлениями молодое придворное общество во главе с тремя братьями развлекалось как умело. Устраивали соколиную и псовую охоту; удили рыбу и купались в реке и прудах неподалёку от города; гуляли в парке и на лугах близ городских стен, собирая цветы, гоняясь за бабочками и друг за дружкой. Приглашали жонглёров; смотрели представления бродячих актёров, игравших пьесы Эсхила и Еврипида; читали Апулея и Лукиана; цитировали Платона и восхищались Гомером и, конечно же, устраивали тренировочные бои на мечах, причём в качестве награды победителя ожидали поцелуи присутствующих дам.
Жены обоих герцогов вернулись, как и решили, через неделю и сразу же заняли Эмму разговорами, не давая скучать. Довольно часто все трое, старшей из которых был сорок один год, а младшей тридцать восемь, принимали участие в развлечениях молодёжи, в остальное время триумвират уединялся для задушевных бесед.
В своей воспитаннице, как называла Вию королева-мать, Эмма души не чаяла. Часто по вечерам она слушала песни о славных королях Дагобере и Карле Великом, военных походах, победах франков, о природе, нелёгкой жизни сервов[16]. А когда Вия пела о любви, лицо Эммы омрачалось грустью, и она задумчиво глядела вдаль, украдкой бросая на певицу быстрые взгляды и тотчас отводя глаза. То же наблюдалось, когда они вышивали, за обеденным столом, во время прогулок в парке или за чтением книг. Безусловно, Вия замечала эти скользящие взоры и догадывалась, что они в себе таят, но никогда не вызывала Эмму на откровенность. Та же, поймав взгляд воспитанницы, сразу пунцовела, будто застигнутая на месте преступления, и поспешно отводила глаза. С каждым разом такие моменты становились всё напряжённее; чувствуя это, Эмма временами порывалась что-то сказать и уже открывала было рот, но всякий раз смыкала уста и молча глядела в сторону, словно передумывала или не находила слов. Грудь её бурно вздымалась при этом, выдавая волнение, и Вия догадывалась, что между ними назревает серьёзный и, вероятно, не совсем приятный для обеих разговор, который Эмма никак не может начать. Она знала, о чём пойдёт беседа, и понимала, что очень скоро наступит конец этим мимолётным, безмолвным вопросам глаз и порывам, рвущимся из глубины души. Она ждала этой минуты и была готова к ней. Порой она подумывала, не начать ли самой, ибо стала замечать при встрече с Эммой некоторое её смущение и напряжённость в походке, жестах, речи. Однако решила не торопить событий. Королеве виднее, когда выбрать наилучший момент для объяснений.
Каждый день Эмма виделась с Можером, и всякий раз взгляд её задерживался на нём дольше, чем следовало бы. Так было и во время их прогулок с Аделаидой и Гуннорой. В такие моменты она старалась не смотреть в сторону нормандца, ибо рядом была его мать, которая тотчас догадалась бы о значении пламенных взоров, посылаемых Эммой в сторону её сына. Но той было невдомёк, зато Аделаида, оставшись как-то с Эммой вдвоём, сказала ей:
— А ну-ка, давай начистоту, никто нас не услышит. Ты что, влюблена в Можера?
Эмма хотела возразить и уже вскинула высоко брови, но почувствовала, что не сможет. И взгляд тут же потух, упал и застыл на полу.
— Ты с ума сошла! Ведь он мой двоюродный племянник и чуть ли не в сыновья тебе годится!
Эмма подняла голову. В глазах горела решимость.
— Это моё дело. Я ещё не стара, а он рыцарь!.. Другого такого нет.
— Да ведь у него есть любовница, сама говорила, и вы с ней очень дружны, прямо как мать с дочерью. Как же ты можешь?..
— Наша любовь началась уже давно, — отвернувшись, ответила Эмма.
— Значит, и он тебя любит?
— Нет.
Аделаида всплеснула руками:
— Святые небеса! На что же ты рассчитываешь?
Эмма красноречиво посмотрела на неё. Адель поняла, улыбнулась уголками губ:
— И только-то? Ну, тогда это не страшно, если, конечно, он и сам не прочь...
— Он тоже хочет меня. Я вижу это, Адель!
— Ах, Эмма, — покачала головой герцогиня, — только бы не узнала его мать. Будет неприятный разговор.
— Я знаю.
— Ты уж потерпи, до коронации осталось недолго, потом она уедет. И если Можер, как обещал, останется...
— Он остаётся из-за Карла.
— Герцог Лотарингский вернётся?
— Так сказала Вия.
— Ей-то откуда известно?
— Ты не знаешь эту девушку. Похоже, она общается с нечистой силой, а может, с ангелами, и те открывают ей будущее.
— Она что, колдунья? Знается с духами?
— Нет, конечно. Такая, как все. Но ей дано видеть то, что недоступно любому смертному.
— Чепуха! Карл не приедет, ему нечего здесь делать, а у твоей девчонки просто воспалённое воображение. Но я не о том. Как ты с ней объяснишься, а ведь эта сцена не за горами?
— Всё пытаюсь, но ничего не выходит, — вздохнула Эмма. — Лишь посмотрю в её глаза, увижу в них искреннюю любовь, преданность, радость от общения со мной, как губы мертвеют и язык отказывается повиноваться.
— А забыть? — немного поразмыслив, спросила Аделаида. — Не пробовала забыть нормандца? Может, это и будет самым наилучшим?
— Нет, — твёрдо ответила Эмма. — Не могу. И уже знаю, что не сверну с пути, пусть даже он ведёт меня в пропасть... Не будем больше об этом. И помни, ты одна посвящена в мою тайну.
— Я сохраню её, будь покойна. Мы давние подруги, иначе ты сразу же послала бы меня ко всем чертям с моими расспросами.
— Ах, Адель... — и Эмма бросилась в объятия подруги, — мне так одиноко и тяжело... Столько горя сразу свалилось на меня... Я будто в подземелье, брожу во тьме, натыкаясь на стены, скользя на холодном полу; вокруг меня смрад, какие-то шорохи, вздохи, отвратительные крики бесов, приспешников Вельзевула... И нет мне выхода из этого ада, ибо путь мой лежит туда, к огромному котлу, в котором черти варят живыми души грешников. Но вот впереди, буквально рядом, появляется свет, и в этом свете возникает рука — огромная, тяжёлая, способная одним разом удавить всех бесов, вобрав их в кулак. Рука эта тянется ко мне, чтобы вытащить меня из этого подземелья, не дать умереть, а водворить на свет божий, вернуть к жизни, радости, любви!..
— Такая рука может принадлежать только одному человеку, — тихо произнесла Аделаида.
— Да, Адель, ты угадала. Это Можер! Теперь ты понимаешь, что у меня на душе. Я живу лишь днём, когда вижу его, ночью же погружаюсь во мрак, в то самое подземелье. А утро — это свет, в котором появляется его рука. Она тянется ко мне, ибо некому больше спасти меня, вытащить из царства тьмы. И знай, Адель, то, что сейчас скажу, сбудется, потому что не могу жить без этого человека. Наверное, я покажусь тебе сумасшедшей, но помни: не станет его, уйду и я...
— Глупая! Во-первых, утри слёзы, — попыталась утешить подругу Аделаида, доставая платок и утирая ей глаза и щёки, — или мало ты их уже выплакала? Откуда только они у тебя берутся? А во-вторых, перестань городить чепуху. Тебе всего тридцать восемь, прожита лишь половина жизни, а ты уже о смерти: о мраке, о чертях... Но хорошо хоть влюбилась, я рада за тебя.
— Правда? — воскликнула Эмма и принялась целовать подругу. — А я боялась, ты не поймёшь.
— Да где уж мне... — пробормотала Аделаида и почувствовала, как задрожал предательски подбородок. — Ну вот, ненормальная, и меня довела до слёз... Но хватит, что мы в самом деле... Хочешь честно? Я завидую тебе, Эмма, хоть ты и рисуешь будущее в чёрных тонах. Зато любишь и этим счастлива. Немало для женщины в твои годы. А вот я... знаешь, любви уже нет. Всё прошло. Но жизнь удалась, и это главное. А любовь... — она вздохнула, — вероятно, бывает лишь в молодости, когда ты ещё не замужем...
...В этот же день — нарочно, нет ли, — но вышло так, что они встретились. Один на один, с глазу на глаз, поздно вечером в коридоре при неверном свете чадящих факелов на стенах. Можер шёл к конюшням, к любимым лошадям и Гийому, с которым успел подружиться. Эмма шла навстречу, без Вии, которой завладели в этот вечер фрейлины. Шла, ни о чём не думая, влекомая одним — прогуляться в парке перед сном, с недавнего времени это вошло у неё в привычку.
И вдруг... Сердце её забилось сильнее, потом вдруг замерло; не стало даже дыхания, так ей показалось. Шагах в пяти от Можера она остановилась, ноги не шли дальше. Мало того, стали подкашиваться.
Замер и он. И произнёс только одно: «Эмма...», как она подбежала и упала в его объятия. Крепко обнимая её, Можер молчал. А она, чувствуя, как упруго вздымается его грудь, а руки ласкают её тело, знала, что не нужны сейчас никакие слова. Ведь этот светлый миг, это маленькое женское счастье, о котором она столько мечтала, орошая слезами подушки по ночам, — всё это сбылось! «Теперь он мой, мой, — стучало у неё в мозгу, — и я не выпущу его ни за что на свете, ни под какими пытками не откажусь от того, которого люблю, которого наконец-то нашла!» И этот миг, такой сладостный, единственный и неповторимый, исторг у неё слёзы. Но вызваны они были в этот раз не горем, а радостью, и она улыбнулась, подумав об этом. И тут же спросила у себя, отчего она так часто плачет. Ответ искать надлежало в глубинах души, а у неё не было сейчас на это времени.
— Я так долго ждал этой встречи, — тихо произнёс Можер.
— И я тоже, — подняла она на него глаза.
— Ты знала, что я здесь пойду?
— Нет. А ты?
— И я не знал.
— Значит, это судьба.
— Да, Эмма.
— Ты шёл ко мне?
— Я шёл к лошадям.
— А теперь?..
— Мы идём к тебе.
— Я люблю тебя, мой славный рыцарь, — закрыв глаза, вся тая в его объятиях, прошептала Эмма.
И они пошли к её покоям, где ждала их, убелённая лунным светом, дивная и незабываемая ночь их любви.
Глава 25. Выяснение отношений
Утром Вия вошла к Эмме, как всегда, без доклада и, одарив её улыбчивым взглядом, что означало для обеих обычное приветствие, на миг приостановилась. Улыбка королевы сразу же показалась ей не естественной, какой-то вымученной, а её глаза, всегда устремлённые на воспитанницу и излучающие радость, на этот раз беспокойно забегали по сторонам. Эмма поймала себя на этом и тотчас вернула прежний взгляд, но было уже поздно. И снова она выдала себя: её пальцы беспокойно забегали по столу, ничего не ища, но явно не находя себе места.
Этого было достаточно. Теперь Вия знала, где Можер провёл ночь. Однако понимала, что не вправе требовать объяснений: разве она ему жена, и он не волен поступать как ему хочется? Одного она не могла понять — предательства Эммы. Так она назвала это и теперь размышляла, что же предпримет дальше королева-мать, что скажет ей? Молчать она не должна, ибо тотчас потеряет уважение Вии, которое уже не вернёт, находясь отныне в полосе отчуждения.
Подумав так, Вия не подала виду, что обо всём догадалась. Спокойно, как обычно, правда погасив улыбку, подошла к столу и уселась на один из стульев — вольность, дозволенная только ей.
О том же подумала и Эмма и теперь не знала, как начать. Однако она не собиралась оправдываться, с какой стати?.. И вдруг кольнуло в мозгу: ведь это Вия, а не просто фрейлина или одна из служанок! Её воспитанница, дочка, как сама она называет девушку! И это обязывало к полной откровенности, исключающей... измену! Вот слово, которое не должно воздвигнуть меж ними преграду, какая бывает между соперницами. И это холодное и враждебное ей слово, отвергаемое сознанием, тотчас заставило Эмму заговорить.
— Ты сегодня позднее обычного, — мягким голосом проговорила она, кладя тёплую ладонь на руку Вии.
— Так сладко спалось, что даже не хотелось вставать, — вполне естественно улыбнувшись, ответила девушка. И вдруг смела улыбку с лица. — Но ваша рука почему-то вздрогнула. Мой ответ показался странным? Быть может, вам нездоровится?
Рука у Эммы и впрямь вздрогнула, потому что живо представилось продолжение: «А как спали вы? Надеюсь, крепко и без дурных сновидений?»
Она лихорадочно начала придумывать ответ, но Вия опередила:
— Холодом вдруг потянуло от вашей ладони.
И сразу же принялась мять её пальцы, согревая теплом своих рук. Потом, бездумно, повернула ладонь тыльной стороной книзу и машинально всмотрелась в линии на руке, которые так часто учила разбирать её мать.
Эмма смотрела на неё и чувствовала, как горло будто сдавило тисками. Святые небеса, как же наивна эта девочка! Неужто ни о чём не догадывается? А раз так, значит, и ей можно сделать вид, будто ничего не произошло, и продолжать играть свою... жестокую, подлую роль?!.. Но не бывать этому! Пусть знает её любимица, что в сердце королевы-матери нет места лжи и коварству.
И Эмма другой рукой накрыла горячие ладони Вии.
— Девочка моя, я должна тебе сказать...
Вия подняла на неё глаза, и Эмма почувствовала, что продолжать уже не сможет. Губы её так и остались полуоткрытыми.
И тут Вия нашла объяснение предательству.
— Не надо ничего говорить, — тихо сказала она и опустила взгляд. — Я всё поняла. И не осуждаю. Тяжело бороться с собой... это оказалось сверх ваших сил. Борьба была долгой, и вы проиграли.
— Ты должна презирать меня... — выдавила Эмма.
— Презирающий не даёт себе труда до конца понять, а потому жалок. Я знала, что это когда-нибудь случится, и была к этому готова. Об одном прошу вас, мадам, — Вия подняла на королеву свои большие карие глаза, — не жалейте меня. Не выношу... Знаете, однажды мне в бедро угодила щепа — острая, как наконечник стрелы. Так получилось, я напоролась на обломок дерева с острыми краями, и эта огромная заноза вошла глубоко и обломилась... Кое-как я дотащилась до дома и рухнула на колени. Бедро ныло, рана доставляла нестерпимую боль. Родители были тогда ещё живы. Отец бросился причитать, стал метаться, не зная, что делать. Мать прикрикнула на него, и он умолк. Тогда она сунула нож в огонь, подошла ко мне и сказала: «Тебе придётся потерпеть, девочка, будет больно. Но так надо. Зато останется целой нога. И знай, никто не станет тебя жалеть, франки не знают такого слова. Жалость — что нож в сердце. Хочешь, жалей себя сама, но — молча. А сейчас сожми крепко зубы и не смотри на меня, а я буду делать своё дело». С этими словами она вытащила из очага нож, лезвие которого уже раскалилось докрасна, и разрезала мне бедро на длину ладони. Больно ли мне было? Да. Но я не кричала, только стонала, потому что крик мог вызвать жалость ко мне, а я этого не хотела, свято помня слова матери, что я дочь племени франков. Потом мать взяла щипцы и выдернула эту страшную занозу. Хлынула кровь. Мать не сказала ни слова, смотрела и ждала. Когда крови вылилось столько, сколько нужно было, она взяла иглу...
— Как же тебе было больно! — промолвила Эмма, качая головой.
— Не больнее укуса пчелы. Так вот, она взяла иглу с шёлковой ниткой и зашила место разреза. Но я упустила: до того, она залила рану особым составом из трав и кореньев. О, мать знала в этом толк и меня учила. Но что это был за состав! Едва попали на мою плоть первые капли, как я чуть не взвыла от боли. Мне показалось, что после этой щепы из ноги начали рвать мясо. Но я не закричала и не упала в обморок. Я дочь франкского народа, мне нельзя кричать, как бы больно мне не было... Зашив рану, мать приложила к ней кусок холста, смоченный этим бальзамом, и мне вновь пришлось сжать зубы. А потом она наложила повязку, обмотав её вокруг ноги. Вскоре мать сменила тампон с бальзамом на обычный лист лопуха. Я сама меняла его каждый день на свежий... И вот рана затянулась, кожа срослась, хотя мне пришлось довольно долго хромать. Затем я перерезала нитки и вытащила их.
— Бедняжка, как ты страдала, — вздохнула Эмма, гладя руку девушке. — Но зачем ты ходила, надо было лежать.
— А кто будет помогать отцу и матери? Мне было тогда пятнадцать, приходилось работать: играть, петь и писать чужие письма; знатные господа не всегда грамотны. Меня часто просили также читать всякие послания. В работе я забывала о своей ране, которая вскоре перестала ныть. Но если бы я кричала тогда, взывая к жалости, мне было бы ещё больнее. И матери тоже. Она сказала потом, что любит меня и гордится мною. И я была счастлива. То были первые ласковые слова, что я от неё услышала. Она была груба, резка в жестах, голосе. Как, впрочем, и все мужчины. Но я любила её. Теперь её нет, но я сохранила любовь, она не погасла в моей душе. Она, как подернутые золой угли, которые стоит только раздуть. И это удалось лишь одной женщине, которая своими страданиями, участием и вниманием к сироте заслужила её любовь...
— И эта женщина?.. — вся трепеща, чуть не вскричала Эмма, пожирая девушку глазами.
Королева франков, мать последнего короля исчезнувшей династии.
Эмма заплакала. Вия поглядела на неё и продолжила — негромко, с кроткой улыбкой:
— Поэтому я прощаю вам от всей души.
Эмма утёрла платком слёзы.
— Как странно, — произнесла она, комкая платок в руке, — я королева, а ты — нет, и, вот уже второй раз, я вымаливаю у тебя прощение. Но не жалею. Я каюсь в своих грехах, и ты — мой исповедник. И не надо мне священника, ибо душа моя чиста перед Богом. Я не пойду к исповеди даже перед лицом смерти, которая уже близко...
— Мадам, да что с вами! — воскликнула Вия и принялась трясти Эмму за плечи. — Боже мой, да на вас лица нет! Вам плохо? Чем я могу помочь?
Эмма, покачав головой, слабо улыбнулась:
— Мне давно уже плохо, девочка моя, с тех самых пор, как Бог лишил меня супруга и обоих сыновей. Страдания мои огромны, душа надломлена и без конца кровоточит. От этого я постоянно плачу. Думаешь, это слёзы? Нет, Вия, это капли крови, исторгаемые израненной душой. Их много уж вытекло, сколько осталось, не знаю... только источник этот иссякает. Так ведь? Скажи смело, девочка, не бойся, я же видела, ты что-то прочла на моей ладони. Так что же... долго ли ещё?..
Вия молчала, но не отводила глаз. Она не хотела говорить о том, что увидела. Она боялась ошибиться, такое порою случалось.
— Что же ты молчишь? Не хочешь сказать правду?.. Что ж, может быть, мне лучше не знать.
— Вы правы, я и в самом деле разглядывала вашу ладонь, как мать учила. У меня было мало времени, и всё же я увидела... и скажу. Вы до тех пор будете жить, покуда не потеряете тех, кого любите, притом ответно. Едва останетесь одна, глубокая печаль столь сожмёт клещами сердце, что оно может не выдержать... И это всё. Больше на вашей руке ничего нет.
— Я должна умереть? Так? — безучастно спросила Эмма. — Ведь это ты хотела сказать?
— Разве вас никто не любит, мадам? — ласково спросила Вия. — А я? Можер? Или вам этого недостаточно?
— И я люблю тебя, девочка! — пылко воскликнула Эмма. — Как дочь, и ты это знаешь. И Можера...
— А потому меж нами нет места зловещей тени, чёрной полосе. И они не появятся, обещаю, даже несмотря на... вашу любовь к Можеру. Повторяю, что не осуждаю вас. Так уж вышло, ничего теперь не изменить. Можер свободный человек и волен в своих поступках. Я из низшего сословия и не пара ему, сыну герцога, а что влюблена... да мало ли у него женщин? Такие, как он, созданы, чтобы разбивать женские сердца, и не нам с вами что-либо менять в этом установившемся для него порядке жизни. Вернувшись в Нормандию, он женится на какой-нибудь графине или герцогине и уже не вспомнит ни о вас, ни обо мне. Все эти мимолётные любовные приключения — лишь этапы на его длинном жизненном пути. Он принимает их как должное, само собой разумеющееся, как то, чего попросту не может не быть в его жизни. Теперь, если вы внимательно слушали, то, конечно же, поняли, что мы не должны стать соперницами. Слово это совершенно неуместно в наших отношениях, потому что нормандец ни ваш, ни мой — ничей. Пусть он поступает так, как подсказывает ему сердце. Наш с вами долг — понять, что он никому и ничем не обязан, ни вам, ни мне. Дьяволу угодно было скрестить наши судьбы на мрачном перекрёстке, но мы сильнее его чар и не позволим облить желчью и ядом наши сердца.
— Отныне они всегда будут гореть одно для другого, не правда ли, девочка моя! — крепко сжала Эмма руки Вии. — И мы не допустим ни злословию, ни зависти, ни иным козням дьявола погасить их оба либо одно из них!
— Святая Дева Мария убережёт нас от происков врагов и не даст им затуманить наш разум и смутить покой, — ответила Вия горячим рукопожатием.
— Пойдём же, помолимся ей. Это укрепит дух и не даст разрушить нашу дружбу.
Они встали из-за стола и, вполне довольные состоявшимся объяснением, отправились в замковую часовню.
Глава 26. Коронация
3 июля, в воскресенье, площадь перед собором Святой Марии в Реймсе была заполнена народом, пришедшим сюда по четырём улицам на церемонию коронования герцога Гуго. В этом соборе пять столетий тому назад крестился Хлодвиг, первый король франков.
День выдался тёплым, солнечным, если не считать изредка лениво проползающих по небу облаков, пятнавших девственную голубизну над головой и похожих на клочья ваты с размытыми днищами.
Солнце уже поднялось над крышами домов, когда в конце улицы Люсон показалась кавалькада, сопровождаемая пешими милитами[17] и лучниками. Возглавляли кортеж герольды со штандартами десяти главных владений Западно-Франкского королевства, за ними гарцевали графы и виконты со знамёнами городов Парижа, Лана, Орлеана, Санлиса и Пуасси, следом за ними — герцоги, графы и бароны на берберийских и идумейских иноходцах. В середине процессии — сам Гуго на белом в яблоках коне в окружении палатинов[18].
Позади несли носилки с двумя императрицами; в одних — Феофано, племянница императора Византии и невестка Эммы, в других — её свекровь Адельгейда (Аделаида) Бургундская, вдова короля Италии, мать Эммы.
Не успели ещё начать движение к площади, как произошёл инцидент. Императрицы позвали герольдов и попросили указать им место в кортеже. Те, посовещавшись, решили: позади герцога франков, чуть ли не в хвосте колонны. Невестка и свекровь возмутились и сами определили себе место: впереди Гуго. Намёк на значимость империи, её верховодство. Подъехав поближе, герцог остановился, выслушивая герольдов. Те объяснили ситуацию. Гуго нахмурился, перекинулся парой слов с Ричардом Нормандским. Тот покосился на носилки и усмехнулся.
— Хотят сразу же установить право сюзерена, — процедил герцог франков, — но забывают, что франки никогда не ходили под платьем!
И, склонившись с лошади, сказал что-то герольдам. Те тотчас исполнили приказание: встав впереди носилок, дали знак горнистам. Те затрубили, и шествие тронулось. Гуго и Ричард молча наблюдали поодаль. Едва промежуток стал достаточно большим, Гуго тронул коня, за ним остальные. Как только все заняли свои места, герольды выехали и помчались в голову кавалькады. Императрицы выглянули из носилок, раздосадованные лица обеих выражали возмущение. Хотели потребовать объяснений, но вместо герольдов увидели качающиеся в сёдлах спины палатинов. Оставалось скрипнуть зубами и скрыться за шторками.
Так Гуго сразу же дал понять империи, что он с ней на равных.
Это отразилось и на лице архиепископа Реймского, стоявшего в лиловых одеждах, с митрой на голове в окружении франкских и имперских епископов на почётном пьедестале — у дверей собора. Лицо его, и без того удлинённое, ещё больше вытянулось, посох негромко стукнул в плиту. Герберт, как джинн, тотчас вырос рядом.
— Ещё не король, а уже своевольничает, — кивнул он на середину кавалькады.
Адальберон сощурил глаза, медленно проронил:
— Хочет быть суверенным государем, так будет вассалом Церкви!
Между тем кортеж, подъехав к парадной лестнице, не сбавляя марша, раздвоился: одно крыло пошло влево, другое вправо. Но как только показались верхом на лошадях Гуго и Ричард, шествие остановилось. Все спешились. Оба герцога, франкский и нормандский, подошли к носилкам, каждый к своим, и помогли дамам выйти: Гуго — Феофано, Ричард — Аделаиде. Обе расправили чело, засветились улыбками: теперь и они в центре внимания.
Адальберон облегчённо вздохнул, и вполоборота:
— Епископ, когда ты научишься видеть в людях не только плохое?
Герберт состроил гримасу:
— Всего лишь галантность, ничего больше.
Но архиепископ его уже не слушал. Будущий король в расшитой золотом и сверкавшей драгоценностями тяжёлой бардовой мантии поднимался к нему по ступенькам. Миновав последнюю, поклонился главе Церкви. За ним — Феофано, Адельгейда и Ричард.
— Умён новый король, — вполголоса проговорил герцог Аквитанский, обращаясь к графу Анжуйскому. — С таким львом, — он кивнул на Ричарда, — империи впору считаться с Робертином.
— К тому же Аквитания размером с Вермандуа, а Орлеан не так уж далеко от Лиможа, — ответил граф, намекая на родство Гуго, жена которого была дочерью герцога Аквитанского и приходилась кузиной правителю Нормандии.
— Не забудем, что и герцог Бургундский брат Капета.
Собеседник кивнул в ответ.
Тем временем архиепископ, сопровождаемый духовенством Франции, неторопливым шагом, величественно, как и подобает, вошёл в собор. За ним очередь Гуго. Но, вместо того чтобы зашагать, герцог франков обернулся и окинул взглядом площадь. Люди, одетые кто как, с непокрытыми головами, иные с младенцами на руках, глядели на нового короля и недоумённо пожимали плечами. На их памяти ни один не оборачивался, все торопились в собор за короной. А этот...
— Герцог-то не гордый, — заговорили в толпе, — не только себя, людей помнит, коими править будет.
— Смотри, глаз не сводит с народа. Добрый, стало быть, хоть и герцог.
Словно в ответ на это, Гуго помахал рукой этим крестьянам и горожанам, видевшим уже не одного короля. И тотчас площадь разразилась восторженными криками, слившимися в одно — желание здравствовать и долго царствовать новому королю.
Гуго поклонился людям, прижав руку к сердцу, и только тогда вошёл в собор, горевший свечами, пахнущий ладаном, оглашаемый звуками антифона. За ним, стуча каблуками по мраморному полу и шурша одеждами, потянулась свита — знатнейшие люди королевства и придворные его предшественника.
Впереди, в центре собора, под огромной люстрой из тысячи свечей — возвышение, на нём кресло с рубиновым крестом на спинке, с подушкой на сиденье. Трон! К нему десять ступеней — высота роста человека, чтобы всем было видно. На последней — Адальберон со скипетром и державой, вокруг него епископы.
Гуго подошёл к подножию, стал подниматься. В руке его обнажённый меч; холодная сталь клинка блестит ярко, слепя глаза; рубины, смарагды и изумруды на рукояти бросают разноцветные блики на лицо герцога франков.
Перешагнув десятую ступень, он остановился и, преклонив колено, положил у ног архиепископа знак силы, что готова защищать Церковь. Церковь в ответ — власть! Но это потом, сейчас надо держать речь. И Гуго, повернувшись к народу, стоявшему в отдалении, за спинами знати и духовенства, громко сказал, обращаясь прежде к епископам:
— Я, герцог Гуго, милостью Божьей избранный королём франков, перед лицом Христа Спасителя и всех святых обязуюсь сохранить долженствующие каждому из вас и церквам вашим канонические привилегии, закон и правосудие. Клянусь, сколь это возможно будет в моих силах, защищать вас с Божьей помощью, как надлежит государю в его королевстве, обязанному заступаться за каждого епископа и каждую его церковь.
Епископы, перешёптываясь, не сводя глаз с короля, кивали митрами: их устраивало такое выступление.
Теперь замерла знать. Что-то скажет он им? Но Гуго, лишь скользнув взглядом по лицам вельмож, обратился к народу:
— Во имя Христа и Пресвятой Девы Марии, матери Его, я обещаю христианскому народу, над которым дана мне власть, что буду пресекать всякие алчность и произвол, кои будут иметь место по отношению к нему. Клянусь быть справедливым к народу моему согласно моим обязанностям и его правам. Всякий приговор, вынесенный равным либо господствующим над людьми, будет рассматриваться лично мною и утверждаться на основе справедливости согласно закону и праву.
Речь кончилась. Собор загудел, задвигался. Но тотчас затих. Все взоры — на архиепископа.
Тот торжественно провозгласил:
— Милостью Божьей Гуго Капет, герцог Французский, граф Парижский и Орлеанский, избирается королём франков во имя Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь!
Собор разразился приветствиями, и громче всех кричали за спинами епископов и вельмож, прославляя нового государя. Затем епископы помазали Гуго миром, чудодейственным маслом, смешанным с елеем, — единожды ниспосланным с небес как привилегия для короля Франции. С хоров в это время запели псалом о Соломоне, первом из царей, помазанном Господом. Едва епископы отступили, Адальберон Реймский осторожно возложил на голову Гуго корону и вручил регалии — скипетр и державу. После этого певчий затянул «Тебя, Боже, славим» и началась тронная церемония.
Внимание ослабло. Один из графов в толпе сказал другому:
— Корона-то на герцоге — как влитая. Будто и был всегда королём. Но теперь уж законным.
Собеседник проговорил ему в самое ухо:
— Этот, тот ли — в чём разница? Глава королевства, и только. Разве он им до того не был? Только что без короны.
— Да, но ведь — король! Звучит заманчивее, нежели «герцог».
— Возни больше, вот в чём отличие. А ты не король в своём графстве? Что нам в королевской власти? Станем ли мы подчиняться Робертину?
И ответ — медленный, задумчивый:
— Посмотрим, куда поведёт корабль. Станет грести не в ту сторону — один останется.
Таково было настроение умов — тех, кто никому не желал подчиняться. Связанные родственными узами с бывшим герцогом франков, а этих у него было немало, думали иначе. Их помыслы — о землях, которыми станет их одаривать новый король...
У себя в Ахене, оставшись вдвоём, вели разговор о коронации обе императрицы.
— Он, конечно, не обладает достаточной властью как монарх, — говорила Феофано о Гуго. — Его королевство — сеть отдельных герцогств и графств, а территория — земля предков, тоже королей. При Каролингах я сказала бы, что он вассал империи, хоть и не давал присяги. Теперь не скажу. Слуга стал господином. Пипиниды пали, воцарилась новая династия. Один уже на троне, другой вскоре сменит его, ему уже пятнадцать. Робертины всё-таки победили, их уже не спихнуть. Выиграла ли от этого империя? Если вспомнить о войнах, это так; злосчастный пень в лесу помог ей расправить затёкшие члены и зализать раны. Теперь границы империи в безопасности. Если же подумать о христианстве... Так ли уж радели о вере Христовой и отличались святостью и богоугодными делами последние Каролинги?
Свекровь, задумчиво глядя в пустоту, ответила:
— Людской историей движет промысел Божий. Избрание Капета — не что иное, как торжество Церкви и вельмож, которые выбрали того, кто им нужен, каждому по-своему. Человек этот — их круга, и плевать им на Каролингов. А империя, дорогая невестка, тогда будет в безопасности, если западный сосед ей не враг.
— Гуго всегда держал нашу сторону, но вожаком стаи был другой.
Адельгейда вновь заговорила, будто размышляя сама с собой:
— Господь доверил своё племя франкским королям. Франция — лишь часть христианской империи, а та — суть туша быка, питающая льва. Лев — христианство. Франция — другая туша, и лев всегда сыт. Такой пищи должно быть много. Чем её больше, тем больше львов, значит, шире идёт христианство по миру, и растёт число народов, исповедующих веру во Христа. Не в аллаха, идола неверных, который не бог, не дьявол, вообще непонятно что, и не в деревянных истуканов, бездушных и с мёртвыми глазницами, и даже не в олимпийских богов, которых свергла с пьедестала звезда Вифлеема, а в Спасителя. Замученный, распятый, отдавший жизнь свою в искупление грехов человеческих, он воскрес, дабы в день Страшного суда судить людей по земным делам их. Поэтому Франция — наш мощный союзник в борьбе за христианизацию отсталых ещё народов. Каролинги не тратили время на дальнейшее расширение христианского мира, озабоченные лишь притязаниями на давно утраченные их предками земли. Бог наказал их, вытянув свою указующую длань в направлении пня; той же дланью он повёл народ франков в другом направлении. Он вытянул её в сторону Капета!
Она замолчала, глядя в порыве воодушевления на собственную руку, которая указывала на запад. Потом прибавила — с вытянутой рукой и горящим взором, устремлённым на Францию:
— Сие непреложно и неизбежно, ибо суть желание Христа!..
Вия первая рассказала Эмме, как прошёл день коронации. Королева-мать слушала безучастно, бездумно глядя в пространство, не задавая вопросов. Казалось, это её совершенно не интересует, и она слушает только ради уважения к воспитаннице. Наконец, когда Вия умолкла, она высказала то, что, похоже, давно её мучило, разрывая на части душу:
— Я не осуждаю Гуго, он — лишь жертва приговора. Но вот что скажу: сможет ли править? Не замучают ли его угрызения совести? Не сожжёт ли позор за власть, приобретённую незаконно?
— Незаконно?
Эмма с грустной улыбкой повернулась:
— Разве ты сама этого не понимаешь, девочка? Ведь жив Карл, брат Лотаря.
Внезапно улыбка погасла. Эмма снова отвернулась и, уставившись в холодную пустоту быстро сгущавшихся за окном сумерек, тихо произнесла:
— Я сожалею только об одном: что мой сын не успел казнить Адальберона. Бедный мой мальчик...
И слеза покатилась по её щеке.
После коронации Ричард собрался в обратный путь.
— А молодцы франки, — говорил он Можеру, затягивая подпругу на брюхе лошади, — всегда найдут себе короля, и Гуго не худший из них. Что скажешь?
— Я не против него, но, по-моему, это свинство: менять династию на другую, если жив ещё один представитель старой.
— Ты о Карле? Слышал бы, как они набросились на него! Вот дурень, в самом деле, нашёл себе жену из милитов, будто других не было.
— Любовь слепа; она не рассуждает.
— Любовь? — Ричард внимательно поглядел на сына. — Разве это мужчина, что не может справиться с этим? Любовь — бабья прихоть, воин должен стоять выше этого и думать в первую очередь о том, кто он и чему предназначен, а не распускать слюни.
— Дело не в этом, — ответил Можер. — Всему виной Адальберон. Нашёл весомую причину. Никто бы и не вспомнил. Или короли у франков не женились на наложницах?
— Те не рожали наследников престола!
— Это другой вопрос и решаться ему не сегодня.
— Не пойму я, за кого ты? Ведь Гуго наш родственник.
— Мне он нравится, но его унесло ветром с востока. Не франки, империя выбрала им короля, и это противозаконно.
— Какого чёрта Каролинги бросились к её границам?
— Это их территория.
— Так не надо было её упускать. К чему проливать кровь людей, коли земля эта давно не твоя? Или им мало было других забот? С таким же успехом они могли бы вторгнуться в Нормандию, утверждая, что это домен короля. Так и было, но мы дали им отпор. Империя поступала так же, но они продолжали упорствовать, и бог наказал их, воздвигнув пень на пути последнего. Франки говорят, это был перст божий. Не вижу причин не верить им. Ты согласен?
Можер похлопал лошадь — крупного пегого мерина — по крупу:
— Мне жаль Карла.
— Мне тоже, но что поделаешь, господь отвернулся от него.
— Что, если он вздумает бороться?
— Лисице не одолеть слона. Но ты не потому ли остаёшься, что хочешь помочь ему?
— Его дело проиграно, поэтому он и замолчал. Что же до Лана...
Герцог подошёл ближе, взял сына за руку:
— Не можешь забыть своих баб? Уж не влюбился ли? В кого же, дочку или маму?
— Отец...
— Перестань! Ты мой сын и должен быть выше этого. Или мало у тебя любовниц, что ждут в Руане?
— Скажи им, пусть готовятся, я скоро вернусь.
— Не нагулялся, значит, — рассмеялся Ричард. — Вот ведь негодяй! Впрочем, если вспомнить себя, то перестаёшь удивляться. Что ж, прогуляйся по брюхам местных красоток, многие из них, думаю, мечтают иметь сына от такого Голиафа. Но не забывай и королеву-мать, она глаз с тебя не сводит. Откровенно — пара под стать, не гляди, что старше. Кусочек лакомый, Лотарь знал, какую выбрать.
— Она несчастна, — промолвил Можер. — И отчего-то влюбилась в меня.
— Вот и утешай её, пусть гонит прочь печаль.
— Ты должен её понять, отец. Или забыл, сколько горя ей выпало?
Ричард крепко обнял сына за плечи:
— Знаю, мой мальчик. И врагу бы не пожелал такого. Я пробовал её утешить, она упала мне на грудь, затряслась в рыданиях. И всё повторяла: «За что?.. За что мне эта кара?!»
— Она слишком много плачет, это убивает её. Вия говорит, вместо слёз она скоро заплачет кровью.
— Хорошая девчонка эта пастушка. Но ты ведь не влюбляешься в таких?
— Ни в каких. А пора бы уж, мне скоро двадцать четыре.
— Не торопись, успеешь влюбиться. Не забыл про невесту? В приданое за ней целое графство. И не таращи на отца глаза, он не шутит. Девчонка красавица и телом не дурна, я знаю в этом толк, надеюсь, ты веришь мне?
— Хм, хотелось бы поглядеть самому, — хмыкнул Можер.
— Поглядишь ещё, она от нас не уйдёт, пусть подрастёт немного. Но не затягивай здесь со своими женщинами, помни, по тебе сохнут десятки других и скучает Нормандия.
— Я её верный сын, отец, и люблю, как родную мать!
— Ты хорошо сказал, сынок! — Ричард стукнул сына по плечу. — Я горжусь тобой! Будь таким всегда. Защищай слабого и бей сильного, коли тот не прав. И люби женщин, хуже от этого не будет. Но знай меру; помни, я жду тебя.
— Я не задержусь здесь долго.
— Гуго приглашал меня поехать с ним в Париж. Он будет править там, город этот объявит столицей. Говорит, очень любит его и хотел бы, чтобы я у него погостил. Но не могу, дома не всё ладно: Бретань тянет руки к нашим границам; кое-кто из вассалов начал подымать голову. Необходимо укоротить побеги, пока не полезли остальные. Ричарда возьму с собой. Но мать останется, поедет вместе с королём, очень уж мечтает поглядеть Париж. Я оставил с ней отряд воинов, прислугу. Навести её, будет время, это недалеко. Посмотришь город — будущую столицу Франкского королевства.
И они обнялись на прощание.
Примечания
1
Туаз — около двух метров по каролингской системе мер.
(обратно)2
Ротта — смычковый музыкальный инструмент овальной формы в Западной Европе раннего Средневековья, пришедший на смену кроуту. На обоих можно было играть как смычком, так и пальцами.
(обратно)3
Убрус — украшение короны из двух или более широких цветных лент, опускающихся на плечи.
(обратно)4
Фемистокл (ок. 523-461 гг. до н. э.) — один из крупнейших политических деятелей Афин.
(обратно)5
Монахи аббатства Клюни выступали за реформу Церкви, в частности: за очищение и порядок в церковной иерархии, независимость монастырей от светской власти и епископов.
(обратно)6
Далматика — закрытое верхнее одеяние с длинными рукавами до кистей и узкими полосами фиолетового цвета с боков. Надевалась высшим духовенством Римской церкви.
(обратно)7
За убийство друга Зевс продал Геракла в рабство гордой царице Лидии Омфале. Та нарядила сына Зевса в женские одежды и заставила прясть и ткать.
(обратно)8
Согласно Библии, Иаков всю ночь боролся с каким-то мужчиной. На рассвете тот благословил Иакова и сказал ему: «Ты смог бороться с Богом, и теперь ты будешь одолевать и людей».
(обратно)9
Шоссы — штаны-чулки.
(обратно)10
Авгуры — жрецы в Древнем Риме, предсказывавшие будущее по полету птиц.
(обратно)11
Плащ — cape (лаг.).
(обратно)12
Демосфен (384-322 гг. до н. э.) — афинский оратор и выдающийся политический деятель.
(обратно)13
Латро Марк Порций (50 г. до н. э. — 4 г. н. э.) — римский оратор.
(обратно)14
Хариты (греч.) или грации (рим.) — прекрасные богини красоты, счастья, радости, веселья, олицетворяли женскую прелесть.
(обратно)15
Алоиды — великаны, упоминаемые у Гомера и Вергилия; они восстали против Зевса и стремились ниспровергнуть Олимп.
(обратно)16
Сервы — крепостные крестьяне, зависимые от феодала.
(обратно)17
Милиты — воины, люди на военной службе. Как правило, они были из обнищавших семей или являлись отпрысками младшей ветви рода, лишней в процессе наследования.
(обратно)18
Палатины — личная охрана герцога франков.
(обратно)



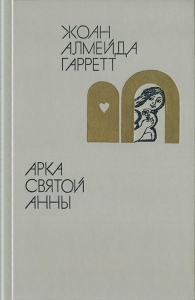

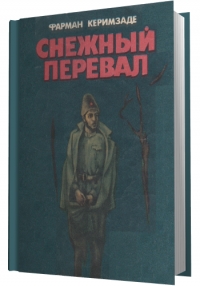


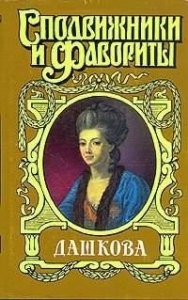
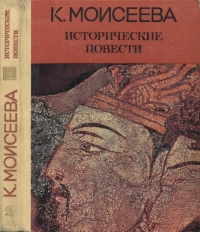
Комментарии к книге «Нормандский гость», Владимир Васильевич Москалев
Всего 0 комментариев