Юлия Яковлева Краденый город 1941 год
Для младшего и среднего школьного возраста
Любое использование текста и иллюстраций допускается только с письменного согласия Издательского дома «Самокат».
© Ю. Яковлева, текст, 2017
© ООО «Издательский дом “Самокат”», 2017
* * *
Информация от издательства
Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.
Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу – мир, где время остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать выбор – иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге.
Перед вами – вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» и попала в международный список «Белые вороны» – среди лучших 200 книг из 60 стран.
Глава 1
Ах, что это был за магазин! Настоящий дворец.
Вообще-то в этом магазине продавались не только игрушки. Но, глядя на витрины отдела игрушек, почему бы и не помечтать о том, что все шесть этажей универмага со скучным названием ДЛТ набиты сокровищами под самую крышу?
На крыше обычно сидели серые голуби. Они были чуть светлее самой крыши и чуть темнее неба. Ведь Ленинград – северный город, в нем много чего серое, особенно в плохую погоду, которая здесь и вовсе обычное дело, а с нею вместе – серые кошки, серые лужи, серые тротуары, серые пальто, серые дома. Даже в июне.
Но только не в витрине игрушек. Она сияла всегда. По вечерам в ней горели электрические лампы. От витрины на тротуар ложились прямоугольники желтого света. И всякий раз, когда человек проходил сквозь такой прямоугольник, его лицо казалось красивее, веселее и моложе. Речь, конечно, о взрослых людях. Потому что дети никак не могли вот так просто пройти мимо – ни вечером, ни днем, ни зимой, ни сейчас, в июне, на каникулах. Они непременно прилипали носами к стеклу. Или оборачивались и замедляли ход, пока мама, или папа, или бабушка, или няня не дернет за руку.
И Бобка, конечно, тоже сразу прилип. За спиной у него был маленький мешочек, на горловине с тесемкой виднелась часть вышитой надписи «Бор…» – остальное терялось в складках.
Шурка решил быть старшим братом до конца: он выпустил Бобкину ладошку, а сам притворился, что уж ему-то нисколько не интересно. Но исподтишка и сам поглядывал на густонаселенную витрину.
Там было на что посмотреть. Настоящая маленькая страна – с бархатистыми зелеными холмами из велюрового картона, между которыми ниточкой блестела железная дорога. Игрушечный поезд иногда запускали, и тогда он с радостью разминал колеса, а вагончики тренькали вслед паровозу – мимо кукол, барабанов, домиков, солдатиков, медных дудок, танков, самолетиков.
Бобка жадно убедился: все игрушки на своих местах. «Их не продают, – еще зимой объяснил старший брат. – Это для красоты».
Красота и правда была неимоверная. Бобка приставил ладони по сторонам лица, чтобы отражение не мешало.
Завалившись на бок, лежала цветная юла. Бобка ее давно знал. Скучная особа, все мысли и мнения которой бесконечно кружили по кругу.
То тут, то там выпирали бока новеньких мячей. Особенно хорош был футбольный. Сами мячи были препустыми существами. А как иначе? – кроме воздуха их должны были заполнить мальчишеские мечты – например, мечта стать знаменитым футболистом. Кукле-негритянке, сверкавшей черной пластмассой, мячи, видно, тоже нравились. Баскетбольный наверняка казался ей апельсином, мяч для регби – дыней, а футбольный напоминал окраской тропическую макаку.
Были здесь и самолетик, и заводной пароход, и его родственница заводная курочка. Если до упора закрутить ключик, торчавший у нее из спины, она прыгала и делала вид, что клюет.
Был и медицинский рожок, который норовил всех поучать, – даром что сам не настоящий, а игрушечный.
Большой барабан с цветными боками, как обычно, дремал.
А над ними всеми висели гигантские качели, прицепленные, надо полагать, прямо к небу.
Оловянные солдатики с красным знаменем «СССР» и пограничник с собакой стояли у самого стекла. Видно, стерегли границу от нарушителей. Ведь за стеклом бывало холодно, сыпали то снег, то дождь. А здесь всегда была зеленая трава.
Девчачьим игрушкам Бобка тоже уделил внимание – чтобы никого не обидеть. Нарядные куклы сидели в креслицах и прямо на бархатистой, пахнущей клеем траве, вокруг столика с игрушечным фарфоровым сервизом. Плакат «Юному рыболову», прикнопленный к стенке напротив, не нравился куклам; изображенные на нем рыбы – карась, корюшка, минога, сом, камбала, щука и многие другие – были так похожи на настоящих, что казалось, от плаката пахнет рекой и мальчишками. «Фи!» – витало над столиком. Фарфоровые чашечки всегда были пусты. За это другие здешние жильцы считали кукол вруньями и кривляками. Но Бобка подумал, что и куклу он мог бы научить играть в хорошие, толковые игры: стоять на карауле, красться, брать в плен.
– Бобка, ну пойдем уже, – все-таки дернул его за руку Шурка.
Он боялся, что Бобка опять начнет просить. Хоть что-нибудь. Хоть самого маленького солдатика. Не хотелось повторять вечное тети-Верино «денег нет» или врать, что с витрины не продается.
– Идем, – повторил Шурка. – А то детский сад без тебя уедет. Ты же хочешь на дачу?
Бобка серьезно посмотрел на брата. Но ничего не попросил.
Глава 2
Трамвай зазвенел, тронулся. Шурка подождал, пока мимо, трясясь, пройдет одна дверь с черной гроздью пассажиров (все как один насупленные), потом красный трамвайный бок, потом другая дверь со своей гроздью (из этой топорщились корзины – с ними в первую дверь не пускали). В окнах трамвая отразились и проехали дома, беленькие облачка. Шурка метнулся вслед трамваю, крепко ухватился за черную, солнцем нагретую колбасу, запрыгнул и повис, уперев ноги в металлический выступ. Радостно повернул лицо к солнцу.
И в тот же миг ухо рвануло в сторону. В голову молнией ударила боль.
От неожиданности Шурка разжал руки. Но на рельсы не упал. Постовой милиционер ловко перехватил его за шиворот. И только потом испустил переливчатый торжествующий свист: есть!
Все родители и учителя Ленинграда строго запрещали детям кататься на задней сцепке трамваев. Пугали историями про мальчика (непременно мальчика), которому отрезало ноги. Пугали и малышей, только вместо мальчика был зайчик, и ему трамваем отрезало не ноги, а ножки, да и те потом пришил доктор Айболит.
Как кататься на колбасе, знали все дети Ленинграда. И все постовые милиционеры знали, как их оттуда сдергивать. Рывок, зажим, перехват.
Шуркино ухо пылало. Пылала на солнце и алая звезда на белом шлеме милиционера.
– Пустите, – дернулся Шурка.
Но рука, тащившая Шурку, ухватилась за воротник так крепко, что казалось, это навсегда: так он и школу окончит, и институт, и на работу будет ходить, и женится – и все с милиционером.
Прохожие косились. Шурка напрасно пытался придать своей позе хоть какое-то достоинство.
– Вот вам каникулы. Ешьте с кашей. Безобразия одни, – продребезжал на ходу какой-то солидный дядечка. Он был в черном плаще, будто не согласен был с летом, детьми, солнцем. Такой непременно сыщется на каждой ленинградской улице.
– Вот-вот, товарищ, – с опозданием поддержал милиционер, волоча Шурку.
– Пустите!
– В отделении пущу.
При слове «отделение» внутри у Шурки все съежилось.
– Детей не арестовывают.
– Очень даже, – оживился милиционер, другой рукой дергая себя за рыжеватые усы. – И штраф выписывают. За нарушение правил дорожного движения. И мамаше сообщают по телефону.
Шурка представил, как снимает трубку тетя Вера, и ему стало тошно.
– Гражданин прав: дети должны быть заняты делом. Либо в школе, либо в лагере. А то что? Хулиганство одно. Твоя мамаша что, не знает?
Тетя Вера знала прекрасно. Она еще в апреле выслушала все про летний лагерь и даже покивала учительнице: да-да. А потом сказала: денег нет. Их хватило лишь на то, чтобы отправить на дачу Бобку. На дачу уехал весь детский сад. И теперь Бобка там небось в ус не дул среди песка и сосен, у самого моря.
– Я вот твоей матери по телефону все объясню. Проведу воспитательную работу.
Хорошо бы к телефону позвали дядю Яшу, уныло соображал Шурка.
– Уплатит штраф – тогда пускай и забирает.
Шурка представил, как тетя Вера смотрит милиционеру в глаза и говорит на это: денег нет. И что тогда?!
– Тюрьма по тебе плачет, – вещал милиционер. От солнца его белая каска казалась гипсовой. Он попробовал почесать под ней потный лоб, не сумел и рассердился: – Был советский школьник – стал преступник.
Стакан холодной воды наверняка остудил бы его взгляды на жизнь. Но тележки с водой, как назло, не было видно.
Шурка навострил уши: где-то в июньском воздухе словно зарождался гул. Но откуда он? Казалось, отовсюду сразу.
– А ну не вертись! – встряхнул его за шиворот милиционер.
Гул набух, набрал силу и завыл из репродукторов. Милиционер запнулся. Прохожие забегали во всех направлениях сразу. И воющий голос из репродукторов сумел наконец выговорить человеческие слова:
– Граждане! Тревога! Граждане! Тревога!
Голос не внушал тревоги. О том, что в районе пройдут учения, в газетах и по радио всегда предупреждали заранее. При звуках сирены полагалось оставить все дела и спуститься в подвал. Пока не перестанет выть.
– Японский городовой! – немного загадочно сказал милиционер. – Совсем забыл.
И не только он, похоже. Сердясь и бранясь из-за того, что сирена прервала их дела, прохожие спешили нырнуть в ближайшую парадную и там пересидеть учебную тревогу. Машины и телеги быстро причаливали к обочинам и там замирали. Сирена выла, подгоняя всеобщий переполох. Проспект быстро пустел.
С улицы 3 июля вырулил грузовик с красным крестом. Он ехал как ему хотелось, а не как надо по правилам.
Такого постовой стерпеть не мог. Ткнул свисток в рот, надул щеки, испустил сердитую трель. Тут-то его и цапнули – за оба рукава сразу.
– Товарищ пострадавший, пройдемте к санитарной машине! И сыночка берите, – заговорили обе девушки разом, стараясь держаться серьезно.
– Идем, мальчик! – сказала Шурке одна, с круглыми смешливыми щеками. – И тебе сделаем перевязку.
– Зачем?
– Ты условно раненый, – объяснили ему.
Прыская, но удерживая смех, девушки повлекли негодующего милиционера к мостовой – там уже лежали носилки. По всем правилам первой помощи добычу предстояло вложить в пасть санитарному грузовику.
Милиционер крутил головой в каске.
– Гражданки, бросьте шутки! Учения учениями, а я на посту. Вы за это ответите!
– Вы бы лучше сыну пример показали, – урезонивала его девушка в повязке с красным крестом.
– А что случилось? – спросил Шурка.
Девушки переглянулись.
– А диверсантов с парашютом сбросили. И они устроили, э-э-э… – девушка с повязкой запнулась.
– Диверсию, – подсказала смешливая.
– Мальчик! Спишь ты там, что ли? – прикрикнула та, что построже. – Полезай в машину вместе с папой.
Шурка не заставил себя просить дважды. Повернулся и дал деру.
Постовой, конечно, круглый дурак, сердито думал Шурка, но он прав: скучно. Все разъехались. Казалось, он один торчит в городе. Шурка уже бы и в школу пошел. И это в чудесный июньский день!
Озабоченная толпа втекала под круглую арку с надписью «Добро пожаловать!». Женщины с сумками и корзинками, мужчины в сапогах.
На рынок билета не требовалось. А интересного было почти как в зоопарке. Живые розовенькие поросята. Разноцветные куры. Петухи в колючих шпорах, всегда в отдельной клетке, – благородные и воинственные узники. Козы с вертикальными зрачками и твердыми рожками. Лошади с длинными замшевыми губами, которыми они мягко и мокро ощупывали ладонь, а потом удивленно смотрели терпеливыми карими глазами: как, ничего? Ресницы у лошадей были поразительные – длинные и загибающиеся кверху. А еще рыбки! Чижи! Канарейки! Щенки!
«Добро пожаловать!» – приглашала арка. И Шурка пожаловал.
И вдруг присел – быстрее, чем понял почему. Мимо мелькали сапоги, туфельки, ботинки, ноги в брюках, ноги в носочках. Шурка осторожно приподнялся. Юркнул за киоск. Киоскерша тотчас покосилась на него; как бы чего не стянул – прочел в ее взгляде Шурка. Но ему на это было наплевать. Он выглянул.
Ура, тетя Вера не заметила его. Меж бровей морщинка, губы сжаты. Вид решительный, будто покупала по меньшей мере козу. Тетя Вера протянула деньги и затолкала в сумку протянутые продавцом меховые рукавицы. Шурка удивился рукавицам не меньше, чем если бы продавец подвел ей козу или коня: пухлые, неуклюжие, жаркие – кому нужны такие в июне?!
Тетя Вера шла уже между рядами. И все высматривала. Она была похожа на курицу, которая вместе с другими курами деловито ходит, роет лапкой. Пороет – посмотрит круглым глазом.
Мысль о том, что он ее видит, а она его – нет и даже не подозревает об этом, привела Шурку в восторг. Не Шурка выскользнул из-за киоска, а великий сыщик Нат Пинкертон. И взял след.
Тетя Вера остановилась у душистых насыпанных гор. От них вкусно пахло компотом.
– А яблоки почем? – услышал Шурка.
Тетя долго надоедала продавцу: а хорошо ли высушены? А сладкие ли? А эти почем? И купила самые лучшие. Протянула несколько бумажек.
В лотерею выиграла, что ли? – недоумевал Шурка. И удивился еще больше, когда тетя Вера купила вдогонку чернослив и изюм. Точно, в лотерею.
На выходе с рынка он чуть ее не потерял, но ловко подхватил след на проспекте.
Тетя зашла в булочную. Военный в нашивках любезно пропустил ее вперед к прилавку. Она купила карамель с розовым раком на фантике. Но на этом не остановилась. Шурка даже засмеялся тихонько. На лице военного он увидел нетерпение и досаду: вот так проявил вежливость, вот так влип! А тетя все допытывалась у продавца:
– А печенье как? Не заплесневеет?
– Вы, гражданка… – не выдержал военный и помотал головой, словно силясь вытряхнуть из памяти нужное слово.
– Тогда и печенье дайте, – показала тетя.
Продавец бросил на прилавок две пачки. Тетя Вера жестом его поправила. Продавец удивленно стукнул на прилавок еще две пачки, и еще две, и еще.
– Вы просто какая-то… сладкоежка! – выпалил наконец военный и бросился вон, едва не сбив Шурку.
Давно у них дома не водилось сладкого. А тут тетя пустилась во все тяжкие. Вот молодец! – радовался Шурка. Выиграла – и теперь готовила им всем сюрприз. Пир. Вот так тетя Вера!
Только что это она все покупает много одинакового? – заволновался он. Зачем так много печенья? Одной пачки хватит. Лучше не печенье, а пять сочных пирожных с кремом: два ему, два Тане, ну а Бобке хватит одного – маленьким вредно сладкое. А взрослым оно и вовсе ни к чему.
Шурка едва успел отскочить и спрятаться. Тетя Вера вышла, обнимая коричневый бумажный пакет.
Следующую остановку она сделала в аптеке. Просочиться следом было невозможно: над дверью висел колокольчик. Шурка глядел через окно. Он видел, как аптекарь вскинул брови, потом долго отсчитывал упаковки с таблетками. Перетянул их резинкой. Заболела? – удивился Шурка. Но сообразил, что это витамины. Понятно: в последнее время тетя выглядела серой и усталой.
Может, выскочить, заорать «Ура! Поздравляю!» – и помочь с пакетами? Вон как она для них старается. Аж в спине перегнулась, и лицо красное.
Но Нат Пинкертон победил.
Тетя шла и шла. Великий сыщик с нежностью смотрел на ее согнутую спину. Ах, тетечка Верочка! – радовался он, ведя след. И представлял: печенье в вазочке, шоколад в другой, из сушеных фруктов – компот, а карамель можно и так. Праздничный стол был готов.
Но тетя Вера все не шла в сторону дома. Сворачивала в переулки. Снова выходила на широкие улицы. Брела дальше. Что это она носится как угорелая, недоумевал Пинкертон, и так ведь всего много. Он уже сам устал.
Наконец тетя Вера замедлила шаг. Бросила взгляд через плечо, потом другой. Шурка замер за фонарным столбом, вжал живот. Потом осторожно высунул нос.
Тетя вошла на почту. Самое главное отделение. Главпочтамт.
Шурка приметил толстую старуху в цветастом платье. Неслышно пристроился за ней. Юркнул внутрь. Шмыгнул за столб. В центре огромного гулкого зала крыша была стеклянной: на звонком полу в шашечку стояли большие и легкие солнечные кубы. На скамейках люди обмахивались газетами.
Тетя Вера встала в очередь. Шурка дожидался, пока она подойдет к окошку.
Она что-то сказала. Ей что-то сказали. Шурка осторожно проскользнул за другой столб – поближе.
Блеснула лысина: мужчина в черных нарукавниках перегнулся из-за прилавка, посмотрел, кивнул. Ушел. Пришел. Поставил на прилавок небольшой ящик.
– Красноярский край? – уточнил он.
Тетя Вера поставила в ящик один пакет. Уложила другой. Скормила ящику сушеные яблоки. И изюм. И печенье. Шурка глазам своим не верил. Поверху легли меховые рукавицы.
– Готово?
Тетя Вера кивнула. Лысый приемщик быстро накрыл все это крышкой с клыками гвоздей и бахнул несколько раз молотком. Холщовый мешок чулком наполз на ящик. Приемщик быстро прихватил края грубыми стежками, щелкнул ножницами. Вкусно зашипел сургуч. Лысый ляпнул его на коробку палочкой – тут, здесь, там. Стукнул по нему печатью – тут, здесь, там.
Тетя Вера протянула радужные бумажки.
– Почтовые переводы в другом окне.
Лысый крякнул и перетащил тетину коробку – уже не тетину – к другим.
Шурка беспомощным взглядом проводил ее навсегда. Этого не может быть, думал он. Обида стиснула желудок. Допустим, он ослышался. Не в Красноярский край, а в Краснодарский. Какая разница? Ни там, ни там у них все равно никого не было. Ослышался или нет, но посылка оставалась посылкой. И радужные бумажки были деньгами и ничем другим.
Для кого-то чужого тетя Вера почему-то нашла и вкусненькое, и деньги. А им, родным людям, только и твердит: дороговато, денег нет. Нет?!
Шурка обозлился. Настоящая, родная мама так бы никогда не поступила!
И вдруг в голове охнуло. Стало так ясно, будто кто-то сказал ему в самые уши. Шурка не успел подумать «не может быть», не успел заткнуть этот голос, как он с той же окончательной ясной силой рявкнул: может.
У тети Веры была своя тайная жизнь. И хорошей эта тайна не была.
Глава 3
– Это точно здесь? – спросила Таня.
– Точно-точно, – заверила ее Люська. – Ну? Чувствуешь?
Таня не чувствовала ничего.
– Да ты глаза закрой! – приказала Люська.
И Таня закрыла.
– Ну?
Таня слышала негромкий плеск воды – не звонкий, как в центре Ленинграда, а вялый, плюхающий. Пованивало. Больше Таня не ощутила ничего.
Ей надоело, и она открыла глаза. Вода в канале была мутной, бурой. Он и назывался подходяще: Обводный. Вода несла мусор. Дома на набережной напротив были как запыленные животные, которые много дней шли на водопой, пришли – и обнаружили, что пить эту воду нельзя. Стоят и не верят. А сил пошевелиться, сделать что-нибудь уже нет. Каменными хоботами тянулись вверх трубы.
– Как? Тянет? – спросила Люська, не поворачивая головы. Она крепко зажмурила глаза.
– Куда?
– В воду кинуться.
Таня скривилась от отвращения. Мимо проплыло вздутое нечто; не хотелось и думать, что именно.
– Нет, – честно призналась она.
– Должно. – И замогильным голосом начала: – Раньше здесь было кладбище.
Дура какая, подумала Таня.
– Люська, ладно. А эта Котя – она…
– Да погоди ты! Карельское. Древнее, – не унималась Люська. – И рабочие его нашли, когда копали, и выбросили все на свалку. А камни на поребрик пустили.
– Брехня, – оборвала ее Таня. Ее интересовало другое: – А кого еще Котя пригласила?
Люська лишь пожала плечами, словно отмахиваясь.
– И не брехня. Говорю же – советские рабочие. Как кладбище разрушили, так в то же лето люди начали здесь кидаться в воду.
– Скажи, а Котя…
Люська распахнула глаза.
– Не брехня, говорю! Почти сто человек убились. Мне мать рассказывала. Это в двадцать третьем году было. А в тридцать третьем снова – бабах! Опять все кидаться начали. Милиция даже дежурила. И все без толку. Больше сотни тут утопилось.
Таня посмотрела на сонную мутную воду. Утонуть здесь? Наглотаться этой воды? Ее передернуло.
В Люськиной истории не все концы сходились с концами.
– И что, милиция дежурила – и никого не спасли? Это как?
– Кого-то спасли. Расспросили. Так там еще хуже: они, говорят, кидаться и не думали. А только шли мимо, и вдруг тошно им стало, и будто толкал кто-то: кинься да кинься.
– Это тебе тоже мама рассказала?
– Ну.
Мать у Люськи работала на заводе, читать почти не умела и даже в церковь бегала. С ней все было ясно.
– Так что мы Коте подарим?
Денег у Тани не было, просить тетю Веру было бессмысленно.
Люська опять пожала плечами. Но уже с другим выражением.
– А ей подарки ни к чему.
– День рождения же, – удивилась Таня.
– А они богатенькие.
Таня хотела возразить: что за чушь? В Советском Союзе богатых нет, все равны. Но Люська неожиданно согласилась:
– Вообще ты права.
Подняла пятерню, загнула мизинец.
– Первый раз в двадцать третьем году, так?
Загнула безымянный палец.
– Потом в тридцать третьем.
И радостно объявила:
– Ничего здесь сейчас и не будет! Два года еще ждать, ясно? Придем сюда в сорок третьем.
– Ха.
– Чего?
– В сорок третьем нам будет пятнадцать.
Она хотела сказать: некогда будет всякими глупостями заниматься.
– Танюша! – удивленно окликнул голос позади.
Таня обернулась.
Павел Андреевич держал велосипед за рога. Похоже, он только что вывел его из парадной. От улыбки, как обычно, расходились лучики-морщины.
– Как ты здесь оказалась? – весело удивился он.
Павел Андреевич был учителем. В прежней Таниной школе. Еще до всего.
– Вы кто? – набычилась Люська.
В школе Павла Андреевича обожали. Он был, как говорили, нормальный. Не то что остальные учителя. Он все понимал.
Таня обрадовалась. Ей хотелось спросить его, как там эта, как тот, как все.
Внезапно Павел Андреевич приоткрыл дверь в подъезд, сунул голову, покрутил туда-сюда. Убедился: никого. И вынырнул обратно совершенно другим человеком.
– А ты уже вернулась от мамы?
Слова у Тани замерзли во рту. А Павел Андреевич все так же улыбался.
– Тетя твоя сказала, что вас всех троих к маме отослала.
– К маме? – удивленно переспросила Люська и посмотрела на Таню.
Павел Андреевич не унимался:
– Куда твои тетя с дядей переехали? Не знаешь?
Таня покачала головой: нет.
«Говорят, твои родители – враги народа», – просвистел в ушах у Тани давний шепоток соседей в их прежней квартире. И учителей в их прежней школе. Стоял с ними Павел Андреевич? Ей тогда казалось, что нет. Теперь – что стоял. Вот почему они переехали.
Вопросы не иссякали.
– Она где теперь живет, твоя тетя?
Но Таня только таращилась.
– Не больно ты разговорчивая, – засмеялся Павел Андреевич. – А подружка твоя что молчит? Немая?
Люська ответила угрюмым взглядом. Она не любила таких взрослых. Улыбался Павел Андреевич по-прежнему, а в глазах – волчий огонек.
Таня только плечами смогла пожать.
– А где твоя тетя теперь работает?
– Я не знаю, – выдавила Таня.
Так вот почему тетя Вера забросила свои кисточки и краски. Вот почему нашла работу на заводе. И дядя Яша тоже. Вот почему.
– А мама твоя ей пишет? А папа? – все наседал Павел Андреевич.
В груди у Тани сердце закувыркалось – не вздохнуть. Таня поняла: значит, да! Тетя Вера знает, где мама. И где папа. Но опять помотала головой, как лошадь, которую донимают мухи.
– Ты что, не знаешь, где твоя мама? А подружка твоя? – Павел Андреевич обернулся к Люське. – Знает?
Никто в новой школе и в новой квартире не знал, что Таниных маму и папу арестовали три года назад. И с тех пор о них никто ничего не знал. «Тетя Вера знает!» – стучало у Тани в висках.
Люська ответила тупой гримасой.
– А ты где живешь теперь? А братья твои? – все капал и капал Тане на голову голос Павла Андреевича. Мягкий, липкий, ядовитый, как смола с дерева анчар. Стихотворение про анчар учили в школе наизусть.
– Я не знаю, где мама, – резко ответила Таня. – И где тетя с дядей живут – не знаю. Ни про кого не знаю.
– Как это?
– А так! Я из детдома!!! – заорала она.
Павел Андреевич отпрянул. Таня подскочила и лягнула велосипед. Цепь жалобно брякнула. Учитель ахнул. Люська плюнула на велосипед, прыснула и, хохоча, помчалась за Таней по грязноватой набережной. Ветер попробовал догнать их, но раздумал, уронил на асфальт обрывок мятой бумаги и крик Павла Андреевича «Бандитки!» – и погнал дальше одну только серую пыль.
Глава 4
Наконец момент попался подходящий: патефон водил иглой, но не мог добыть из пластинки ни звука. Только потрескивание. Оно тонуло в рокоте разговоров: вечер был в разгаре – говорили все сразу и вразнобой.
И Таня тоже задала вопрос:
– Это твоя бабушка?
Вообще-то ей наплевать было. Но портрет висел прямо перед ней. И надо было все-таки что-то сказать Коте, раз уж пришла в гости. Тем более что не нравилась ей эта Котя. И она Коте тоже не нравилась – Таня это точно знала. В таких случаях нужно быть особенно вежливой.
– Чего?! – протянула Котя.
– Вон там, – показала Таня.
Дама на портрете была словно упакована в шуршащую розовую бумагу и перетянута пополам золотым пояском. Масса взбитых надо лбом кудрей перекликалась с массой кудрявых кружев на груди.
– Понятия не имею, – легко ответила Котя. – Буржуйка какая-то.
– Эй, заводи машинку! – крикнул Витька.
– Как это? – удивилась Таня.
Котя вынула из конверта другую пластинку.
– Какая разница. Буржуев же давно прогнали.
Таня опять посмотрела на портрет. Она узнала и диван с желтой полосатой обивкой, и напольные часы. Даже обои – сейчас вытертые и побледневшие – были те же. Женщина на картине явно позировала в этой самой комнате! Только теперь здесь жила Котина семья.
– Но… – решила уточнить Таня.
И получила под столом пинок.
– Прогнали и все отдали простому народу, – бойко, как учили в школе, ответила Люська. – Все поровну поделили. Власть – народу, дворцы – рабочим.
И выразительно на Таню поглядела: зачем пристала с ерундой?
– Танцы! – выкрикнула Котя.
Все засуетились. Мальчишки стали сдвигать мебель. Ее в комнате было много, и вся тяжелая, красноватая, в завитушках. Схватились за стол. Клякнули, накренясь, бутылки. Их тут же схватили, переставили на пол. Стол, треща ножками по паркету, отъехал к окну.
– Ой, вы его потом как было поставьте, а то мать прибьет, – пропищала Котя, расправляя локоны.
– Гляньте! – мальчишки перегнулись через стол. Все разом завопили, замахали руками. Чья-то рука уже дергала шпингалет. Окно распахнулось. Дунуло пронзительно-прохладным воздухом, ворвался равномерный хруст множества шагов, а на улицу вылетела, кувыркаясь, музыка.
– Что там? Что там? – подтянулись к окну остальные.
– Слоники, – ответил Генка. И, перегнувшись через подоконник, завопил: – Эй, слоники!
Серые резиновые морды поднялись как одна. Мальчишки с хохотом присели. Таня замешкалась, так и осталась стоять. Сделалось жутко, как во сне. Пел и дудел граммофон. Напрасно он звал потанцевать – морды шагали, не останавливались. Вверх таращились без выражения одинаковые круглые глаза-иллюминаторы. Гофрированные шланги-хоботы спускались к поясу.
Таня помахала им рукой. Ей тоже кто-то махнул из строя. Жуткое ощущение прошло.
Мальчишки позади осмелели. Теперь они свистели и гикали вслед строю.
– Опять учения, – махнул рукой кто-то.
Мимо проплыл транспарант «Осоавиахим. Ленинград. 1941».
– Закрывай, закрывай, комаров напустишь! – крикнул кто-то.
Окно закрыли. Хотя какие тут комары? Самый центр города – вокруг один камень да влажный ветер с Невы.
На миг все примолкли. Слоники почему-то оставили неприятное впечатление.
– От кого обороняться-то? Финнам накостыляли, больше не сунутся. С кем еще?
– С Германией мир.
– С марсианами!
– Дурак.
– Война неизбежна, – важно, но вместе с тем задиристо объявил кто-то. – Мы в кольце капиталистических врагов.
Таня вспомнила недавний фильм в кинотеатре – «Если завтра война». Черным железным роем по натянутой простыне летели советские самолеты. Враги уже ощупывали границы, о диверсантах то и дело писали в газетах. Но советские пограничники ловили их всех. При помощи советских граждан и даже детей.
– Пусть только сунутся. Просто смешно.
Самолеты в кино это доказывали.
– Мальчик, передайте папиросы, – велел голос слева.
Папироса, правда, была на всех одна, но турецкая, с золотым пояском.
– У отца стянула, что ли?
– Моя, – соврала Котя.
Втянув дым, папиросу передавали друг другу осторожно, двумя пальцами. Выражение лица себе все придавали заправское. Хмурились, щурились сквозь клубы дыма. Про войну уже забыли. Каждый боялся опозориться – закашляться. Сизые клубы плавали под розовым абажуром.
Котя опустила иглу. Патефон задорно заиграл, закурлыкал. Неприятное чувство прошло совсем.
– Танцуют все! – объявила Котя.
Люська наклонилась к Коте, что-то зашептала. Та кивнула.
– Таня, пойдем со мной, – странным голосом сказала Люська.
– Куда? – но тут же соскользнула с тугой диванной подушки.
Они с Люськой договорились: вместе сюда приходят, вместе уходят, вместе и если что. Сейчас явно наступило «если что».
В коридоре было темно. За дверью приглушенно трубил и гремел патефон.
– Соседи-то не жалуются, – с удивлением отметила Таня.
– Дура, у них нет соседей.
– Как это?
– А так, что вся квартира их, – и Люська толкнула дверь.
– Ладно выдумывать-то, – снисходительно бросила Таня.
Соседи были у всех. Общая кухня, общая ванная, общий туалет, общий коридор, который мыли по очереди, – и много-много комнат с соседями: старыми, молодыми, тихими, крикливыми – всякими.
Люська нащупала выключатель. Зажегся свет.
– И эта комната тоже их? – не поверила Таня.
Расставил ноги мольберт. Пахло знакомо – скипидаром, маслом, красками. Так раньше пахло у тети Веры. Раньше. В прежней комнате, в окнах которой голубела гигантская опрокинутая чаша – мечеть. Пока тете Вере и дяде Яше не пришлось прятаться.
– А здесь кто живет?
– Лютик.
Таня скривилась.
– Лютик?
Лютик был братом Коти. Тощий, долговязый, с длинным толстым носом, под которым свисали толстые губы, и маленькими черными глазками у самого носа, похожий на лося. По общему приговору девочек – урод. Голос у него был тоже уродский: Лютик словно не говорил, а гудел.
– Дура, говорю же: все их! И кухня, и ванная, и коридор. Вся квартира их.
Краски… Они лежали повсюду. На подоконнике, на полу, на столе. Топорщились стоймя кисти.
Люська скинула туфли.
– И куда на таких лыжах танцевать?
Туфли были старшей сестры и держались только потому, что Люська напихала внутрь газету.
– Ты что, там снять не могла? Под столом? – напустилась на нее Таня.
– А дырки я где сниму?
Из чулок высовывались большие, не слишком чистые пальцы. Люська пошевелила ими. Нырнула под юбку, стала отстегивать и скатывать вниз чулки. «Тебя-я-я-я, Рио-Рита…» – томно звал из другой комнаты патефон. Танцевать в дырявых чулках, конечно, было нельзя.
– Что, и у Коти своя комната? – все не могла поверить Таня.
Красок у Лютика было много. «Они богатенькие», – вспомнила Таня Люськины слова. Краски в тюбиках, выдавленных и почти целых, краски в фарфоровых глазочках, в прямоугольных ванночках, в пузырьках. А вот у тети Веры не было теперь в жизни ничего хорошего. Из-за них с Шуркой и Бобкой. Из-за того, что сделали с мамой и папой. Таня испытала странное желание – взять тетю Веру «на ручки», как любил когда-то проситься Бобка. Только Бобка был маленький, мягкий, а тетя Вера – высокая, прямая, жесткая, и взять ее «на ручки» можно было бы только сложив в несколько раз, как столярный метр.
Таню осенило.
– Ну, идешь? – Люся выжидательно повернулась к Тане. Чулки она запихнула в карман.
В приоткрытую дверь уже ворвалась, запрыгала, заплясала музыка.
– Знаешь, ты иди. А я тоже чулки сниму – и за тобой.
Глава 5
Шурка знал: первым делом надо все обыскать. Нужны были факты. Твердые. Как маленький железный пистолет – он видел такой в кино. Про диверсантов. Диверсанты обманом завлекали на свою сторону советских людей.
У Шурки свело живот. Мог у тети Веры быть пистолет? Могли ее обмануть и завлечь? А если он его найдет, то что? И знает ли об этом дядя Яша? А Таня – догадывается?
Он опять обернулся. Тетя Вера спала так, будто ее сбросили на кровать с самолета. Даже туфли не сняла. От задернутых штор в комнате стоял полумрак. Так ли спит человек, чья совесть чиста? А человек, которому нет покоя даже во сне? Лицо тети Веры казалось каменным. По нему совершенно ничего нельзя было понять.
Шурка тихо-тихо подошел к комоду. Взялся за ручку. Сглотнул. Ему показалось, что он предает тетю Веру. Пальцы нерешительно погладили прохладный никелированный грибок и отпустили. «Опять трусишь, опять?!» – прикрикнул он на себя. И тут же себе объяснил, что не в этом дело. Вначале нужно спросить, подумать…
Шурка на цыпочках отошел к окну. Кашлянул, как бы обозначая, что без стука он не входит. А потом проскользнул за штору.
В комнате было прохладно и сумрачно, а здесь, на широком ленинградском подоконнике, сиял день. Таня сидела боком, привалив колени к нагретому стеклу. На коленях лежала раскрытая книга.
Сестра не подняла глаз от страницы. Шурка примостился рядом, прислонился к другому откосу, подтянул колени к груди. Посмотрел вниз, на серый тротуар и горошинки голов, потом на Таню.
– Чего? – строго спросила она, не выныривая из книги.
Первый раз Шурка попытался рассказать Тане о Вороне давно – сразу. Еще на старой квартире у мечети, когда тетя Вера только-только их с Бобкой забрала. Таня выслушала не перебивая, но…
– Просто бывает, что люди выдумывают, – сказала она.
– То есть врут? – обиделся Шурка.
– Я не говорю, что ты врешь. Но… Иногда лучше придумать и поиграть, чтобы спрятаться от того, что было взаправду.
– Думаешь, я вру?!
– Ну-у… – потянула Таня. – Не совсем так. – А потом назвала его маленьким: – Маленькие все понимают по-своему.
И больше Шурка с ней о Вороне не заговаривал.
Чувствуя ухом горячее солнце, он несколько минут просто смотрел, как Таня читает. Казалось, она сидит на плоту, и его уносит от берега все дальше. Косы Таня давно остригла. От падающих углом волос на щеки ложились остренькие тени.
Шурка глядел – и вдруг подумал, что Таня совсем перестала с ним драться. Причем давно. Он не мог себе объяснить, почему это плохо.
– Как ты думаешь, тетю Веру можно напугать? – он сделал вид, что смотрит вниз.
Таня выразительно хмыкнула, не отрываясь от страниц.
– Думаешь сигануть в окно? Зря. Только ногу сломаешь.
– Ну хорошо. Не напугать, а запутать.
– Нет. Она женщина с веслом.
Шурка вспомнил фигуру в парке культуры и отдыха на Елагином. У нее были большие плечи и большие трусы, и называлась она «Девушка с веслом». Тетя Вера ничуть на нее не похожа.
– Ты ей слово, а она тебя трах веслом! – пояснила Таня, придерживая книгу.
– Это да, – признал Шурка.
Тетю Веру с ее веслом Ворон мог разве что погубить, подумал он. И раз тетя Вера пока еще ходит на работу, ест, спит и никуда не пропала, это может значить только одно: она готовит Ворону месть.
Между прочим, она-то Шурке поверила тогда сразу. Про Ворона. И про Серый дом. Поверила: Шурка видел. Поверила – и обозлилась.
Эх, спросить бы Таню.
От подоконника пахло горячим деревом.
– Сидим здесь, как огурцы в теплице, – нарочно весело сказал Шурка.
Сестра не ответила.
– Таня, – тихо позвал Шурка.
Та подняла глаза от страницы.
– Ты что-то совсем перестала интересоваться птицами, – сделал он первый шажок. К теме Ворона идти следовало на цыпочках.
Таня вернулась к чтению.
– Они прекрасно сами о себе заботятся. Ничей интерес им не нужен.
И перевернула страницу, как будто оставив Шурку на предыдущей.
Глава 6
Тетя Вера потерла ухо, сонно поглядела. На щеке у нее алела вмятина от подушки.
– Таня, ты что, ополоумела? Который час?
Повернула к себе круглое личико будильника и застонала:
– Ох.
Упала на подушку, словно это поможет провалиться обратно в сон. Тетя Вера теперь так жила: спала, ела, на бегу делала что-то по дому, убегала на работу, прибегала с работы, снова спала.
– Таня, – пробормотала она, – я еще час могла бы поспать перед вечерней сменой.
Но Таня быстро обняла ее и снова дунула в ухо.
Тетя рывком села.
– Таня, ты что?!
– А вот что!
Шурка увидел металлическую коробочку.
– Что там? Что там? – засуетился он.
Тетя Вера смотрела то на коробочку, то Тане в лицо.
Недоверчиво взяла. Щелкнула крышкой.
Шурка встал на цыпочки и увидел краски в фарфоровых сотах.
– А это у тебя еще откуда? – удивился он.
– Купила. На обедах в школе сэкономила – и купила, – небрежно ответила сестра. И снова повернулась к тете.
– Сэкономила? – поразился Шурка.
«Ну Танька… Кремень», – с уважением подумал он. Ему стало немного обидно. Таня, конечно, молодец, но зачем дарить подарки взрослым? Они все равно не умеют им радоваться. Весь вид тети Веры об этом говорил. Тонкие губы сжались. Меж бровей легла морщинка.
– Я подумала, что… – замялась Таня и небрежно добавила: – Зря ты больше не рисуешь.
Но голос ее выдал.
Тетя Вера смотрела в разноцветные акварельные глазки. Поняла ли она? – забеспокоилась Таня.
– Ты зря это сделала, Таня, – строго начала тетя Вера. – Не рисую я, потому что у меня теперь другая работа. Ничуть не хуже прежней. И не стоило экономить на обедах. Ты должна, хм, питаться – белки, жиры, углеводы и так далее. – Голос ее стал плясать вместе с коробочкой, стал крошиться и таять. – Но мне приятно, да… Мне приятно.
Коробочку с красками тетя Вера поставила в центре стола. Она улыбалась. И даже не выглядела такой серой и усталой, как обычно.
– Давайте уже поедим, – заныла Таня. – Сколько можно дядю Яшу ждать! Он, может, застрял там, в этой очереди.
– Ну нет, – заупрямилась тетя Вера. – Все вместе за столом!
Парусом взмыла и опала скатерть, обдала всех запахом утюга и крахмала. Шурке ветерком взметнуло волосы.
Ужалили три коротких звонка. К ним! Шурка тотчас съехал со стула. Ошибки быть не могло: на общей входной двери у каждой комнаты была своя табличка – кому из соседей как звонить. Опять три звонка.
– Вот! – тетя Вера обогнала Шурку, легонько затолкнула обратно в комнату.
Было ясно: руки у дяди заняты покупками. Иначе бы он открыл своим ключом. А так он звонил и звонил. Видимо, носом. И тетя Вера побежала открывать.
В коридоре загудел голос.
– Это не дядя! – удивился Шурка. По спине словно провели ледяным пальцем.
Таня тоже глядела на дверь. Покраснела до самого лба.
– Да и ну вас к черту, – вдруг сказала она.
– Кто это? – не понял Шурка.
А голос все бубнил.
Тетя Вера заглянула в комнату. На щеках у нее алели пятна.
– Таня, ты не могла бы на минуточку подойти?
Шурка увидел, как Таня пожала плечом. Отложила книгу.
– А ты сиди! – неожиданно прикрикнула на него тетя.
Таня шла к двери медленно, надеясь по пути чудом провалиться сквозь землю.
Чуда не случилось.
– Девочка! – радостно загудел в полумраке коридора Лютик. Здоровенные губы растянулись в улыбке, а маленькие глазки приветливо блестели. В уродливо огромной ладони он протягивал ей три алюминиевых тюбика. – А я подумал, что раз у вас нет красок, то эти вам пригодятся. На них учиться лучше всего.
Он стал показывать на ладони тюбики – один за другим. Называл цвета:
– Алая. Кадмий. Ультрамарин. Смешивая их, вы получите все возможные цвета и оттенки. Здесь краски много. Вам надолго хватит.
– Это точно, – подтвердила тетя Вера, глядя на Таню так, будто хотела прожечь в ее лбу дыру.
Таня уставилась в пол.
– Мне ведь не жалко, девочка, вы поймите, – снова загудел Лютик. – Просто этот маленький набор – дорожный, я через неделю еду на этюды.
– Вы не представляете, как мне жаль, – с чувством произнесла тетя Вера.
«Ну тебя к черту!» – гневно подумала Таня. Ей мучительно захотелось наподдать Лютику по руке изо всех сил, чтобы поганые краски подпрыгнули и шарахнули несчастного урода по лбу. Таня прямо видела, как они влипают ему в рожу, как тетя Вера вопит, как Лютик разевает свой огромный рот.
– О чем вы! – сокрушенно воскликнул Лютик. – Мне действительно не жалко! Я только рад, когда люди рисуют.
– Секунду обождите. Вы не хотите ли зайти и выпить чаю? – на всякий случай спросила тетя Вера, уже открыв дверь.
Позади Лютик промычал что-то. Тетя Вера кивнула ему и скрылась в комнате.
Шурка стоял у комода, нижний ящик был выдвинут. При виде тети Веры лицо у него сделалось виноватым.
Таня смотрела на ботинки Лютика. На одном развязался шнурок.
– Девочка, берите же! – он качнул ладонь с тюбиками к Тане. – Вы рисуйте как можно больше, если вам хочется. Это очень важно – рисовать. Это отличает человека от обезьяны.
Таня убрала руки за спину.
– Да вы не волнуйтесь! – гудел над ее макушкой Лютик. – Вы, наверно, решили: у него этих красок много. И это правда! У меня их слишком много. Я только рад поделиться. Возьмите же!
Тетя Вера вернулась.
– Вот, – она вложила плоскую коробочку в Лютикову граблю. – Пожалуйста, простите. Мне очень и очень жаль.
И студеным голосом приказала:
– Таня, извинись.
Таня молчала.
– Да не нужно. Я не обиделся, что вы, – загудел Лютик.
«Тоже мне – добренький…» Таня злобно разглядывала пол.
– Слышишь? Сию секунду! – повысила голос тетя.
Лютик опять замычал и замотал головой, глядя куда-то позади тети Веры.
– Что? – не поняла она.
– О! По какому поводу собрание? – раздался за ее спиной веселый дядин голос.
Тетя Вера дернулась всем телом.
– И входная дверь нараспашку, – дядя с интересом поглядел на Лютика. Потом поднял руку с коробкой повыше: – Внезапный порыв. Торт суфле. Надоело одну кашу есть.
Холодный взгляд тети Веры на дядю не подействовал. Он весело кивнул на Лютика.
– Этот? Ерунда. Он нас не объест. Имейте в виду, молодой человек, больше одного куска мы вам все равно не дадим. Входите же! Таня, это твой кавалер?
Лютик смущенно замахал руками, протестующе загудел и ринулся к входной двери, запинаясь о соседские сундуки, вешалки, кота, едва не брякнулся – и выскочил вон.
– Чудной парень, – резюмировал ему вслед дядя. – Что же вы стоите? Таня? Вера?
Но никак не мог встретиться взглядом ни с той, ни с другой.
Тетя Вера так и сверлила глазами Таню.
– Потрясающе, – отчеканила она.
– Ладно, Вера, хватит, – пробормотал дядя.
Они остались в коридоре втроем.
Двери соседей глухо пялились на них, наверняка кто-то уже прильнул ухом. Но Тане было наплевать.
– Она же из лучших побуждений…
Дядя старался говорить тихо.
– Она завтра человека топором зарубит – и тоже из лучших побуждений! – не сдавалась тетя Вера. Она тоже старалась говорить тихо.
– Довольно, Вера. Она уже все поняла. Таня, ведь ты уже все поняла?
Таня хмыкнула.
– И прекрати фыркать! Ты не лошадь!
– Ты ведь попросила прощения? – опять спросил дядя Яша.
Это стало последней каплей. Таня отскочила от них, как кошка, на которую плеснули водой.
– Да что вы ко мне пристали!.. Да не нужны мне эти краски! Никакие не нужны!
– Зачем же ты это сделала? – изумленно задохнулась тетя Вера. – Ради баловства? Из озорства?.. Таня, стой!
По полутемному коридору Таня пронеслась как вихрь. Только звякнул на стене велосипед, повешенный кем-то из соседей, да бухнул старый сундук, когда Таня не вписалась в поворот.
– Таня!
Тетя Вера догнала ее у двери. Под самым потолком горела дешевенькая лампочка, которая света почти не давала: за свет соседи платили в складчину, а платить они не любили. Тетя Вера попробовала схватить Таню, но промахнулась. А руки у нее – раньше белые, с маникюром – теперь, из-за новой работы, стали грубыми, шершавыми. Клешни.
– Уйди! Ненавижу! – воскликнула Таня.
Входная дверь грохнула. Словно обрубила ссору.
Глава 7
Таня от усталости села на гранитные ступени. Казалось, от колена и ниже вместо ног у нее бутылки с водой. Но возвращаться домой не хотелось.
На другом берегу тоненькой ниточкой золотились здания. Мелкая волна норовила лизнуть туфли.
Проклятый Лютик! Спросил адрес у Котьки. А та – у Люськи. Проклятая Люська!
Про девчонок теперь лучше забыть. А как потом показаться в школе? Лютик скажет Котьке, Котька – Люське. А Люська разболтает всем.
«Ходят слухи, что ты воровка…» Ужас.
Утопиться, что ли? – угрюмо подумала Таня, глядя на реку, и сама себе не поверила. Отсюда Нева казалась особенно широкой. Купол неба был голубовато-белым, с тоненькой оранжевой полоской вдали. Кто бы поверил, что это ночь? Река напоминала мелко измятую серебряную пластину.
Таня вдохнула запах реки и почувствовала, как в ней самой что-то расправляется, разглаживается, светлеет. Ей стало легко. Не весело, нет, скорее грустно. Но легко.
– Мой милый! – не удержалась она. – Какой же ты красивый!
Как будто Ленинграду не говорили этого мильон раз. Тем не менее он всякий раз отвечал. Ответил и теперь. Распахнул Тане свои небесные-водные-каменные руки и сказал: иди ко мне.
Таня шла по ночным нестрашным улицам, светлым и теплым. В небе золотисто тянулась игла Петропавловской крепости на другом берегу. В белом свете ночи дома не отбрасывали тени, все казалось слегка нереальным.
Было пусто и людно одновременно. На спящей гранитной набережной попадались прохожие. Старичок спал на скамейке, надвинув на глаза кепку. На ступеньках сидела, обняв себя за локти, девушка в пиджаке и читала книжку; должно быть, студентка. Таня шла мимо. Никто не смотрел на других и словно даже не слышал чужих шагов. Как будто все эти люди и сама Таня просто снились друг другу.
Таня свернула с набережной. Дома дремотно цепенели. Круглая площадь напоминала юлу, завалившуюся набок. Тане казалось, что она, как во сне, может сейчас все – даже полететь или передвинуть дом. Но не взлетала, не двигала дома, а просто шла и слушала, как ритм шагов совпадал с ритмом сердца. Листья деревьев, стоявших двумя рядами по всей улице, не шевелились. Они казались вырезанными из зеленой бумаги.
На углу висели часы в свинцовом переплете. Но Таня не понимала, что ей показывают пальцами стрелки – «никогда» или «всегда»?
Спали нарядные дома. На многих облезла штукатурка, но они все равно были стройны и красивы.
Внезапный взвизг полоснул по ушам – и Танины мысли прянули в разные стороны. Все заполнил воющий размеренно-несмазанный скрип. И вдруг остановился. Телега?
Таня обернулась кругом. Улица была так же пуста. Только прохожий.
С ним что-то было не так.
Он был не похож на обычных ночных прохожих. У тех походка была особой – расслабленной, мечтательной, не дневной. А этот был явно занят делом. Быстро переходил от дома к дому. Останавливался. Таня успевала уловить только жест поднимавшейся руки – а он уже шел дальше.
Таня шагнула за газетный стенд. Вчерашняя газета устало уставилась на нее подслеповатыми мелкими буковками: она уже прожила свою короткую однодневную жизнь. Таня осторожно выглянула. Незнакомец изучал витрину. Ветхий пиджачишко с отвислыми локтями, тощие брючки, замахрившиеся понизу. Поля серой шляпы обвисли. Он наклонился поближе к витрине. Таня поняла: вор.
Она вышла из-за газетного стенда, решительно зашагала к витрине. За дверями парадных, за коваными решетками подворотен спали (а может, уже и пили утренний чай) дворники с оловянными свистками на шнурке. Они придут ей на помощь.
Таня нарочно старалась ступать громко.
Тощая спина незнакомца слегка выпрямилась. Он ее услышал.
Еще бы! Думал, все ему сойдет. Сейчас посмотрим. Таня набрала воздуху, чтобы строго спросить: «Гражданин, вам чего?» Или даже: «Гражданин, я зову милицию!»
Гражданин медленно обернулся, поднял голову. Таня увидела его лицо.
«Дворник!» – хотела крикнуть она.
Незнакомец смотрел на нее в упор.
«Помогите!» – хотела крикнуть она.
Но даже просто вздохнуть не смогла.
В этом взгляде не было ни злобы, ни опасности. Но было что-то такое, отчего Таня почувствовала холодную черную ночь внутри.
Незнакомец отвернулся. Протянул руку к дому, небрежно начертил на стене крестик – и пошел дальше. Спина его удалялась, удалялась… пропала.
Таня снова обрела способность двигаться. Пальцы были ледяными. Сердце ужасно билось. Улица жмурилась от солнца, снова стала нестрашной, утренней.
«Поздравляю, я уже, как лошадь, сплю стоя!» – сердито подумала Таня.
И тут увидела на стене маленький крестик. А рядом еще один и еще.
Таня потерла пальцами шершавую стену. Вместо крестика осталось размазанное пятно. Рядом проехал автомобиль, и она проснулась окончательно.
От газетного стенда падала свежая фиолетовая тень. Солнце обшаривало листву в поисках малейшего просвета. Булькали голуби. Листья на деревьях трепетали и потирали ладошки, словно предвкушали что-то хорошее. Начинался ленивый и ласковый день.
– Ты чего это ни свет ни заря, девочка? – весело спросил газетчик. – На каникулах надо спать.
Он обмакнул кисть в клейстер, размашисто прошелся по старой газете, шлепнул поверх сегодняшнюю.
Таня подошла поближе.
«22 июня 1941 года» – значилось на газете.
…А незнакомец в обвисшей серой шляпе все шел и шел. От дома к дому. Поднимал руку и делал два коротких движения крест-накрест.
Он зашел в детский сад и пометил крестиком качели. Заглянул в окно, за которым неслышно целовались двое влюбленных, и поставил крестик у подоконника. Отметил закрытую на каникулы школу, спящий магазин, никогда не спящую больницу. Не пропустил ни одного дома. Где-то отмечал лишь несколько квартир, а где-то сразу весь подъезд.
Прошел мимо парка, не обозначив ни одной статуи. Зато пометил трамвай, дожидавшийся зеленого света на пустой улице.
И снова – дома, дома, дома.
Перенесся через Неву. Мимо красивой красноватой крепости с золотым шпилем прошел не обернувшись.
Зоопарк его, кажется, удивил. Он долго разглядывал толстую спящую бегемотиху, отошел. А на клетке знаменитой слонихи Бетти поставил крестик.
Незнакомец шел и шел. То струился, то стелился, так что его можно было принять за серый туман. Отметил будку, где дежурил железнодорожный сторож, несколько дач. Склады и заводы. Дворцы и теплицы. Перелетал реки, но успевал отметить крестиком баржи и корабли. Переваливал через холмы, бесшумно проносился над полями, не касаясь росистой травы.
Брест, Житомир, Киев, Севастополь, Каунас он прошел давным-давно, самыми первыми. И еще много других городов. Но работы у него было все еще невпроворот.
Телега его скрипела, не отставала. И все так же была невидима. Под ее скрип он брел сквозь очередной город. Заходил в села и деревни, на хутора и в аулы. Не пропускал и лесных избушек, осматривал даже стог сена, если замечал, что там в душистой сухой траве спит человек. Заглядывал своими неподвижными глазами в каждое окно.
Страна была большая. В то утро – двадцать второго июня – у него было очень много работы.
Глава 8
Со стороны казалось, что все жители города беспорядочно бегают в разные стороны. Тащат узлы и чемоданы, катят тачки с пожитками. Толкают друг друга железными уголками фанерных чемоданов в переполненных трамваях. Куда-то ведут построенных попарно детей (за малышней багаж ехал, школьники тащили свои рюкзаки, узлы или чемоданчики самостоятельно). И название у этого было: эвакуация.
На взгляд Тани, совершенно бессмысленная.
Таня отвернулась от окна. Снова взяла иголку.
– И здесь тоже, – показал ей Бобка.
На всех Бобкиных одежках должно было стоять его имя. От работы иголкой у Тани звенело в ушах, а голова будто наполнилась мокрым песком. Она ненавидела шить. Но Бобка сидел рядом и кряхтел – помогал. Их детский сад привезли в город на пригородной электричке сразу же, как только черные тарелки радио по всему городу стали играть веселые победные марши. И перечислять: «…оставили Брест, Житомир, Каунас», делая после каждого названия паузу, от которой невидимые волоски на руках вставали дыбом.
– Если ты все знаешь, то и делал бы сам.
Бобка не сводил с Тани глаз. На даче он успел из бледно-зеленого стать золотисто-коричневым, и его глаза от этого казались еще ярче и круглее. Он радовался, что скоро опять поедет на поезде. Тетя Вера обещала. Когда Таня все вышьет.
– Ты такая добрая… и сильная, – выразительно произнес он.
Таня перекусила нитку, вскинула на Бобку глаза. Он в ответ просиял.
– А ты хитрый, – сказала она. – Вот что, друг, так не пойдет. Эти все вышивки – пережиток и мещанство. Понял?
Бобка кивнул. Хотя и не понял.
Таня взяла химический карандаш, пососала грифель и быстро стала помечать одежки – воротничок, подкладку, воротничок, подкладку…
– А тетя Вера разрешит? – засомневался Бобка.
Тетя Вера не обращала на них внимания. Она скатывала матрас, толкала его вперед, как жук-скарабей, пока не получилась пухлая бочка. Тетя Вера обняла ее веревкой, стала перевязывать бочке талию. Матрас ехал тоже.
Комната выглядела так, будто ее перевернули, потрясли и вернули на место. Свитера, штанишки, чулки, шапки, пальто, Танины, Шуркины, Бобкины, тети-Верины, дяди-Яшины висели на стульях и на ширме, валялись на столе и на подоконнике, просто на полу.
– Все! – объявила Таня.
– Так быстро?
Тетя Вера развернула Бобкины штанишки. Нахмурилась.
– Таня, это халтура.
– Это не халтура.
– Нужно нитками.
– Зачем?
– Карандаш сойдет после стирки.
– Не сойдет.
– После второй стирки сойдет.
Таня фыркнула.
– После первой стирки война кончится.
Тетя Вера ничего не сказала.
Все знали, что война скоро кончится. Радио говорило.
Таня подняла за плечи зимнее пальто. От него ладоням сразу стало жарко. Как всегда бывает летом, просто не верилось, что наступит день, когда придется надеть и пальто, и свитер. Таня бросила пальто на диван. Оно тоже ни к чему. По радио говорили, что советские войска проявляют небывалое мужество.
Тетя Вера дала подушке тумака, стала запихивать в чемодан. Выдернула, отчего подушка сказала «пых». Схватила с дивана пальто, сложила рукава крестом на груди, загнула полы. Пальто тоже заняло весь чемодан. Тетя Вера безнадежно посмотрела на него, потом на Бобку, словно и его собиралась уложить туда же.
– Не влезает, – сказал он.
– Не влезает, – подтвердила тетя Вера.
Чемодан вопрошающе пялился на них разинутым ртом.
Тетя Вера села среди этого разгрома с бестолковым видом человека из задачки про капусту, козу и волка, которых требовалось перевезти на другой берег. Ответа у тети Веры не было.
Таня попробовала сдвинуть тугой валик матраса.
– Ого. Как же мы это все до вокзала донесем? – пробормотала она.
И тетя Вера, как обычно ведут себя растерявшиеся взрослые, рассердилась не по адресу:
– Бобка, ты почему не поел до сих пор? Каша на плите наверняка уже остыла! Таня, вместо того чтобы со мной спорить, ты бы лучше проследила, чтобы Бобка все съел! – Она беспомощно огляделась. – Да где же этого Шурку носит?!
Глава 9
Грузовик был обычный, зеленый. Он бережно вел за собой прицеп.
Дома изумленно таращились. В прицепе были не дрова, не мешки, не ящики. В прицепе сидел самолет! Он не слишком-то умел ходить по земле. И словно стеснялся собственной красоты, лишь слегка прикрытой брезентовой накидкой. Плыли, непривычно низко пробуя городской воздух, алые звезды на широко раскинутых твердых крыльях.
Шурка ахнул.
Тут-то его и цапнули за плечо.
– А здравствуй.
– Вы что?! Я вас не знаю!
Женщина не смутилась.
– Конечно, ты меня не знаешь, – прогулила она. – Я ищу тетю Веру.
Говорила она слегка в нос. Сама толстая, а ножки короткие и тоненькие. И семенила вокруг Шурки, не давала удрать.
Вылитый голубь.
– Я подруга тети Веры. Близкая.
Рядом, у самого тротуара, тарахтел на холостом ходу автомобиль, из которого она вылезла. Тряслись солнечные блики на бампере. Багажник не закрылся, видны были узлы и чемоданы. Прекрасный самолет длинно и мутно отразился в черных лакированных боках. За самолетом рысцой бежали мальчишки. Шурка чуть не взвыл! Но унизанные кольцами пальцы сжались еще крепче. Женщина кивала сама себе:
– Подруга, ага.
Никогда прежде Шурка не слышал, чтобы у тети Веры водились подруги. У тети Веры?.. И то сказать, подруга была странная. Нормальная женщина с тетей Верой дружить не стала бы.
– Она тебе про меня разве не говорила?
Несмотря на июльскую жару, на женщине были пальто и шуба. Клетчатые драповые рукава высовывались из-под курчавых каракулевых. Поэтому она казалась такой толстой. Пот тек по ее розовому лицу, прокладывая в пудре сероватые дорожки. Подруга тети Веры словно таяла. Но шубу не снимала.
– Я не знаю, где она, – попробовал отбиться Шурка.
– Как это не знаешь?
– Да не знаю!
Женщина-голубь тотчас вцепилась ему в рубашку и второй рукой, на ней тоже блеснули кольца.
– Как это не знаешь? Мне она очень нужна. Мы же подруги.
На них уже косились прохожие.
Автомобиль нетерпеливо погудел. Через заднее стекло была видна голова на тоненькой шее. И меховой воротник. Мальчик в машине тоже сидел в пальто, причем зимнем. Шурка не успел удивиться.
Женщина сказала еще что-то, но ее слова перемололо хрустом и стуком шагов: мимо колонной шли солдаты. Они улыбались. Шурка помахал им. Они шли навстречу победе! В темно-зеленой форме, с мешками и винтовками. Рядом шли женщины. Рядом, но на расстоянии. Шли и молчали. И только это напоминало о том, что солдаты эти еще несколько дней назад были самыми обычными скучными мужьями и отцами – учителями, продавцами, слесарями, бухгалтерами.
– Дяденька! – крикнул с тротуара какой-то мелкий. – Вы на фронт, дяденька? Немцев бить?
Вот дурачок, подумал Шурка. Ясно же – на самый фронт. Бить немцев. Болваны немцы, нашли с кем связаться – с Советским Союзом! Ну и зададим мы им!..
За колонной шагали мальчишки.
– А знаешь что? – вдруг осенило женщину. – У меня для тебя подарок.
Но хватку не разжала.
– Подарок?
– Ага. Я чуть не забыла.
Она потащила его за собой. Перегнулась над открытым ртом багажника. Наклонилась к узлам. Ей для этого пришлось встать на цыпочки – шуба гнуться не хотела. Копалась, копалась. Вынула что-то, потом засунула обратно.
– Вы что, уезжаете? – полюбопытствовал Шурка.
Руки в багажнике замерли. Красное потное лицо повернулось к нему.
– Ты что! Никуда мы не уезжаем. Мы просто в гости, к родственникам, – и затараторила: – Война скоро кончится, через неделю-другую. Враг будет разгромлен на его территории. Как с финнами было.
Шурка хотел возразить: радио сказало, что немецкие войска уже вторглись в СССР, хотя и несут громадные потери.
Испугалась она, что ли? Чего? Война ведь правда скоро кончится, думал Шурка.
– Ты ведь Бобка?
– Я Шурка.
В руках у нее был плюшевый мишка. Потрепанный, вместо одного глаза торчал хвостик ниток. Через овальное окошко в задней стенке автомобиля Шурка увидел, как мальчик заелозил на сиденье, повернулся конопатым лицом и даже что-то сказал, но за стеклом, в тарахтении мотора не было слышно.
– Ах да, точно, Шурка. Смотри. Нравится?
У Шурки загорелись глаза: ему этот мишка был ни к чему, но Бобке!.. Бобке мишка был в самый раз. От радости Шурка даже не обратил внимания, что подруга тети Веры плоховато знала, кто есть кто. Странно для подруги-то.
Но Шуркины руки поймали только воздух.
– Я тебе его отдам, если ты будешь хорошим мальчиком. – Женщина-голубь завела мишку себе за спину. – Так где же тетя Вера? Где она теперь работает?
– На «Советской звезде». Фабрика такая.
– Я знаю, что фабрика. Забыла просто.
Шурка схватил мишку из протянутых рук. И одновременно из окна автомобиля высунулась голова в фуражке:
– Ну, Катя, ну! Мы тут уже сварились.
А верх у фуражки был голубым. Прислужник Ворона! Никогда в жизни Шурка не забыл бы, что значит эта голубая фуражка.
Женщина-голубь с трудом лезла в автомобиль, суча короткими ножками в полусапожках. Дверца хлопнула. Шурку обдало голубоватым бензиновым дымом. От автомобиля остался только запах.
Не было вроде ничего плохого в том, чтобы подсказать, где найти подругу. Но почему-то мишка в руках у Шурки вмиг сделался тяжеленным, будто каменным.
Глава 10
От варенья каша стала чуть розоватой. Но все такой же склизкой. Бобка провел ложкой по каше – получилась канавка. И две маленькие каши – правая и левая. По отдельности они казались уже не такими безнадежными. И Бобка провел еще одну канавку, поперек. Четыре маленькие каши. Совсем маленькие. Но не одна, а четыре!
– Таня, – позвал он.
Сестра глядела сурово, руки скрещены на груди.
– Не выпущу, пока не съешь.
Бобка обреченно вздохнул. Он не любил врать.
– Чего? – насторожилась сестра.
– Я, Танечка, эту кашу мигом съем. Только что-то она теперь совсем не соленая.
– Ты же только что говорил – совсем не сладкая! Я же тебе варенье положила! И какао!
Бобка опять вздохнул.
– Немножко соли. Совсем чуть-чуть.
Таня нехотя сползла со стула.
– Ну, Бобка, только попробуй потом опять что-то выдумать!
И пошла за солью.
Идти надо было по длинному общему коридору, мимо соседских дверей, на кухню – там соль висела в деревянной коробочке над их столом. А потом по длинному коридору обратно. За это время можно много успеть.
Едва за Таней закрылась дверь, Бобка выскочил из-за стола с тарелкой в руках. Подлетел к резиновой галоше, которая валялась на полу среди разбросанных вещей. Брать с собой галоши тетя Вера не собиралась. Работая ложкой, Бобка быстро переложил кашу в новую посудину. Предусмотрительно оставил в тарелке немного. Задвинул потяжелевшую галошу так далеко под кровать, как только мог дотянуться. Поспешно уселся на место, метнул тарелку на стол. Заметил серую колбаску пыли, приставшую к рукаву, сдул ее на пол.
Когда Таня вернулась с солью, Бобка уже подносил ложку ко рту. Только учащенный стук сердца напоминал о его проделке. Но стука сердца Таня, по счастью, слышать не могла.
– Ты же говорил, что соли мало, – опять начала сердиться сестра. Но все равно обрадовалась, что каши теперь совсем на донышке.
Бобка молча добавил соли. Перемешал. Сунул ложку в рот.
– Ладно, можешь не доедать, – смягчилась Таня.
И тут заметила мишку. Краешек скатерти, видно, сполз с него от Бобкиных маневров.
– А это еще что такое? – она взяла мишку в руки. – Откуда это у тебя, Бобка?
Клятва, которую он дал старшему брату, была страшной. И Бобка пожал плечами:
– Не знаю.
– Как это?
– Он сам, – ответил Бобка.
– Мишка?
– Ну голу-у-убушка, ну ми-и-и-иленькая! Ну у-у-у-умница… – донеслось из коридора.
Голос тети Веры пробормотал что-то в ответ.
Таня и Бобка глядели друг на друга.
Послышалось ясное тети-Верино:
– Мы сами уезжаем.
И оба голоса точно легким ветром отнесло прочь, к входной двери.
– С этим, – строго ткнула Таня пальцем в мишку, – мы не закончили.
И неслышно выскользнула в коридор.
– Как хорошо, что я вас здесь застала, – бубнил незнакомый женский голос. – Я сперва к вам на работу. А мне – ушла. Спасибо хоть на проходной адрес дали.
Голос тети Веры процедил:
– Странно.
Оба голоса двигались к двери. Невидимая в темноте коридора Таня неслышно шла за ними.
Тетя Вера пятилась спиной, то и дело спотыкаясь о соседские вещи: из-за узлов и чемоданов длинный коридор напоминал перрон. Маячил бледный треугольник тетиной блузки. Темная громоздкая тень наступала на него.
Таня подумала, что тетя Вера похожа на птичку с белой грудкой. На птичку, которая, припадая на крыло, выманивает кошку подальше от гнезда. Только это была не кошка, а какая-то очень толстая женщина.
– Ну ду-у-у-ушенька, – мурлыкала она.
В руке у нее Таня заметила ключ на шнурке с деревянной грушкой.
– Да вы поймите! – пятилась тетя Вера. – Я вас совсем не знаю!
– Ну ду-у-у-усенька! Только за вещичками нашими присмотри. А то соседи растащат.
Таня вдруг поняла: никакая она не толстая. Просто на ней надеты сразу и пальто, и каракулевая шуба.
– Да ведь и вы меня не знаете! Как вы можете просить незнакомого человека? Может… Может, я у вас сама вещи растащу! И вообще, это беспредметный разговор. Мы сами уезжаем.
С улицы нетерпеливо прогудел автомобиль. Женщина вскинула голову. Еще один гудок ворвался через кухонное окно. Кто-то там явно беспокоился. От третьего гудка – длинного, буравящего – голос толстой женщины преобразился.
– Никуда ты не поедешь. И ничего ты у меня не растащишь. Ты пальцем у меня ничего не тронешь.
Тетя Вера решительно схватилась за дверную ручку. Скрипнула дверь, в квартиру с лестницы дунуло кафельной прохладой и немножечко гнилью.
– Вон, – коротко приказала она.
Понятно: начинается, как это называл дядя Яша, разгон папуасов. Тетю Веру недаром боялся даже дворник. Вот как решительно она выпроводила нахальную толстуху.
Таня быстро юркнула обратно в комнату и больше ничего не слышала.
– Я не понимаю, с чего это вы обращаетесь ко мне на «ты», – пустила первую отравленную стрелу тетя Вера.
Но голос ее был беспомощным. Стрела не долетела, упала.
А голос толстой женщины, напротив, сделался жестким. И сладким. Каждое слово – как черствый пряник.
– Знаю я тебя. Очень хорошо знаю. Знаю, что ты у меня ни ложечки не сопрешь. И ни в какую эвакуацию ты не поедешь. Потому что все я про тебя знаю!
У самой двери горела слабенькая лампочка. Тетя Вера, пятясь, вступила в конус желтоватого света. Лицо ее стало серым, цементным, неживым. Гостья отметила это с удовольствием.
– Видела я папочку где следует, – мурлыкала она, и в мурлыканье этом слышалась отчетливая угроза. – Там все черным по белому написано. И про трех твоих деток тоже. Откуда они взялись. И с кем ты переписываешься.
Она подступила совсем близко к тете Вере. Теперь обе стояли под лампочкой. Толстая женщина улыбнулась накрашенными губами. Перед носом у тети Веры блеснул ключ. На кольце у него покачивалась деревянная грушка. Тетя Вера скосила на нее глаза.
Глава 11
– Тетя Вера! А я все съел! – радостно крикнул Бобка. И объяснил куда-то вниз: – Это тетя Вера.
Но тетя Вера даже не обратила внимания. Лицо у нее было белым.
– Где Шурка?
– Да здесь я. Что? – высунулся Шурка из-за ширмы.
– Какой у нас кавардак. Все разбросано. Неужели не могли убрать, пока меня дома нет?
Тетя Вера на ходу выудила двумя пальцами, бросила на стол ключ на шнурке. Стукнулась о стол деревянная грушка. Тетя Вера тут же прихлопнула его книгой, будто это не ключ, а ядовитое насекомое.
– Да мы…
И тут тетя Вера заметила мишку. И хотя мишка за столом пил чай по всем правилам, она нахмурилась.
– Бобка… Какая у тебя чудная игрушка. Новая, главное.
Мишка, справедливости ради, был потрепанный.
Бобка доверчиво подбежал к тете Вере, продемонстрировал ей мишку.
– Ни разу его раньше не видела. Чей он?
– Мой.
Тетя Вера взяла мишку в руки.
– Где же ты его взял?
– Это подарок, – объяснил Бобка.
Шурка обмер, сделал Бобке страшные глаза. Тот кивнул.
Но тетя Вера не заметила эту пантомиму. Она уставилась почему-то на Таню.
– Подарок? – переспросила она совсем уже нехорошим тоном. – От кого?
Бобка кивнул: да, подарок. Но тетя поняла иначе.
– Господи, – выдохнула тетя Вера. – Таня, ты опять?
Но не завопила, не схватила Таню за руку, не процедила очередное «потрясающе», а только молча упала на стул. Схватилась кончиками пальцев за виски. И когда казалось, что она уже никогда больше не заговорит, произнесла:
– Все. Я больше не могу.
Эти же самые слова она повторила и дяде Яше. Больше ничего слышно не было: тетя Вера умела говорить одними губами, и дядя Яша ее понимал.
Таня, Шурка и Бобка рядком сидели на диване. Как на скамье подсудимых, оскорбленно думала Таня.
– Ничего, – обычным голосом сказал дядя Яша. – Может, оно и к лучшему.
– Куда уж лучше? Когда эти дети ограбят магазин? Убьют кого-нибудь? Я за ними здесь не услежу.
– Здесь хотя бы понятно, что и как. А там?
– Ничего нигде уже не понятно, – выдохнула тетя Вера и стала смотреть в сторону.
– Война быстрее кончится, чем вы бы до места добрались, – принялся уговаривать ее дядя Яша. – Да и с тюками этими тащиться… И потом, на вокзалах такой хаос. Все толкаются, считают узлы, поезда берут с боем. Все друг друга теряют. И потом…
Но тетя Вера напрасно ждала, что потом.
– Оставаться в городе намного безопаснее, – подытожил дядя Яша.
– Мы остаемся?! Мы что, никуда не едем? – изумленно встрял Шурка.
– С ними остаться? – всплеснула руками тетя Вера. – С ними?!
– Шурка, Таня, Бобка! Обещайте вести себя хорошо, слушаться, – попросил дядя Яша. – Таня, ты же старшая. Ты подаешь им пример.
Тетя Вера закатила глаза. И сказала:
– Ага. Полюбуйся.
Мишка таращился на дядю Яшу своим единственным глазом. Вместо другого – оборванные нитки.
Дядя Яша пожал плечами. Шурка уставился на свои ботинки.
– Он мой, – упрямо повторил Бобка.
Дядя Яша не понял ничего.
– Да, один глаз – это, конечно, непорядок. Но не беда, – пробормотал дядя Яша. И вытянул откуда-то из-под стула серовато-зеленый мешок.
Шурка радостно ахнул. Таня уставилась во все глаза. А дядя Яша продолжал как ни в чем не бывало:
– Сейчас мы этого мишку живо прооперируем. Вернем ему полноценное зрение.
Развязал мешок. Стал что-то искать.
Бобка радостно следил за ним.
Тетя Вера смотрела на мешок. У нее задрожали губы.
Таня удивилась: чего это она? Радоваться же надо!
Дядя Яша ловко вставил в иглу нитку. Приладил пуговицу с четырьмя дырочками на то место, где у мишки когда-то был глаз. Игла заходила туда-сюда. Нитка тоже была серовато-зеленая. Военная.
– Ура-а-а! – завопил Шурка.
– Да, – хмыкнул дядя Яша.
– Ух ты! Уже! На фронт! Дядечка Яшечка! Тебя на фронт берут? Ура!
– Ты рад? – спросил дядя Яша.
Тетя Вера резко встала и ушла за ширму.
– Еще бы! Ты им задай как следует! Покажи этим фашистам, как к нам соваться! Пусть знают, дураки несчастные!
– Непременно.
– Ура-а-а!
– Ну вот, Бобка. – Дядя Яша протянул мишку. – Теперь твой друг как новенький. Я даже не знаю, нужен ли тебе теперь второй.
– Второй? – хмыкнула Таня. – Что-то мишки в последнее время прямо с неба сыплются.
Шурка исподтишка двинул ее локтем.
Бобка взял мишку. Но смотрел на дядю с сомнением.
– Мишка? – усмехнулся дядя. – Может, его и Мишкой зовут. Это вы сами у него спросите.
Он направился к двери. В коридоре наклонился, затем выпрямился, обернулся к ним – и выплеснул в комнату:
– Собака!
– Ой, собачка!
Настоящая собака застучала когтями по полу. Замахала хвостом. Подбегала, знакомясь, ко всем по очереди. Пробовала языком протянутые руки. Небольшая, но и не совсем маленькая, а в самый раз. Беленькая, половина морды рыжая, а половина – черная.
Даже тетя Вера выглянула на шум. Веки у нее были розоватыми.
– Что это? Откуда? – спросила она в нос.
– Этот песик теперь ваш, – подтвердил дядя Яша. – Самый что ни на есть живой и настоящий.
С этим трудно было поспорить. За собакой так и стелился переполох.
– Не так скучно без меня будет, – добавил дядя. Подошел к жене. – Ты бы видела, какой там хаос, с этой эвакуацией. Сутками ждут на вокзале. Поезда берут штурмом. Все что-то тащат. Все что-то бросают – прямо на вокзале. Матрасы, корыта, узлы. Вон собаку даже кто-то бросил.
Таня видела: тетя Вера двигалась медленно и странно. Как будто у нее внутри разбилась большая тяжелая ваза, и тетя старалась, чтобы не сдвинулись острые осколки.
– До Ленинграда немцы точно не дойдут, – сказал дядя Яша, беря ее за руку. – Оставаться в городе намного безопаснее.
– А как его зовут?! – весело крикнула Таня, теребя их нового друга.
Пес лаял так звонко, что она сама себя едва слышала.
– Бублик! – крикнул Бобка. – Бублик.
Хвост у собаки действительно был похож на белый бублик.
– Смотри, он понял! Бублик! Бублик!
– А ну-ка!
– Бублик!
– Догоняй!
Бублик понесся за всеми троими сразу. Загремели стулья. Комната завертелась каруселью. Только тетя и дядя сидели неподвижно. И мишка глядел на них своими разными глазами.
– Пора, – сказал дядя.
Тетя кивнула. Обняла его. И словно забыла убрать руки.
– Ничего, ничего, – погладил ее по волосам, по спине дядя. – Мы все правильно сделали.
Дети визжали, Бублик скакал и лаял. Дядя Яша закинул за спину мешок.
– Дети! – встрепенулась тетя Вера.
– Да пусть играют, – тихо сказал дядя. – Это же ненадолго.
Тетя Вера странно посмотрела на него.
А Бублик все лаял и лаял. Видно, пел от радости.
Никто не слышал, как дверь затворилась.
– Он понял! Смотри! Он понял! – вопила Таня.
Она опять подняла ногу. Бублик перемахнул через нее одним прыжком и залился ликующим лаем.
– Теперь я, – задрал ногу Шурка.
Бублик сиганул, приземлился на все четыре лапы и завертелся волчком, его розовый язык трепетал как флаг.
– Ах ты молодец! А через руку?
– Он не Бублик! Он профессор! Профессор!
– Нет, это имя ему не нравится.
– Бублик! Сюда, сюда!
Бублика тормошили, трепали, ласкали.
– Бобкина очередь!
Бобка поднял ногу.
Бублик, стуча когтями на холостом ходу, круто развернулся и полетел к препятствию.
– Дядя Яша, смотри! – крикнула Таня. Обернулась. Потом в другую сторону, назад. Никого.
Бублик прыгнул. А Таня закричала так, что во дворе слышно было:
– Дядя Яша!!!
Глава 12
– Куды?! Черным ходом иди! – Дворник отмахнул ее как муху. В углу рта у него висела папироса, клубы дыма сплетались с сизой бородищей. – Заперто.
– Как заперто? Как заперто? Только что было открыто.
– А теперь заперто. Заперта парадная. Непонятно? Тараканов морю.
– Я по краешку! На цыпочках!
– Заперто, сказал!
И дворник опять стал присыпать пол желтоватым порошком.
Таня притопнула на месте. Ей хотелось поджечь дворнику его дурацкую бороду.
– Война же!
– Война войной, она кончится завтра-послезавтра. А домоуправ спросит: у вас тараканы почему шастают?
– Ну пустите проскочить!
Дворник бормотал будто сам себе:
– Таракану что главное? Ему главное – еда и питье. Значит, перво-наперво нужно отрезать подход к воде. И к еде. Была б зима, я б их живо выстудил. А так – вон… – Струился порошок. – Тут им и каюк.
– Ну пожалуйста! Дело особой важности!
От папиросы пыхнули и упали оранжевые искры.
– Сказано, черной лестницей топай.
– Болван, – выругалась Таня и понеслась опять по ступеням. Только время потеряла!
Стало зябко. На черной лестнице окон не было. Темным-темно. Пахло кошками и помоями. Она выставила руки. Дверь ушла вперед. Таня выскочила на свет. Передернула плечами.
Это был типичный двор-колодец, куда солнце не заглядывало никогда. Даже среди лета лужи здесь не высыхали, а только подергивались липкой грязью, и всегда было полутемно и прохладно. Стены в потеках. Чтобы увидеть отсюда солнце, нужно было забраться как минимум на четвертый этаж.
Таня секунду соображала, где она и где выход. И, проклиная вредного дворника, побежала к арке, за которой виднелась улица.
Где сборный пункт, ей быстро подсказали.
Таня бежала, глядела по сторонам. Люди шли и шли – и все в одну сторону. Парами, а то и целыми семействами. Пары держались за руки. А семейства – за своего отца или брата. Но ни одна пара не была дядей Яшей и тетей Верой.
Людей становилось все больше. Толпа густела. Таня уже не бежала, а просто шла, петляя, протискиваясь, просачиваясь меж идущими. Ее толкали, она толкала. И понимала с ужасом, что если и найдет дядю и тетю в этом человеческом супе, то лишь по чистой случайности. Но скорее всего не найдет. Вокруг она видела только ремни, спины, мешки.
– Девочка! Таня! – обрадовался знакомый голос. Знакомый и противный.
Таня шмыгнула бы в толпу, да только это было невозможно.
– Здравствуйте! – обрадовался Лютик. – Идите сюда, здесь посвободнее.
Таня поздоровалась, глядя в сторону. Но здесь и правда было посвободнее. Люди стояли, сидели. Негромко переговаривались.
– Нюша, ну будет, ну не плачь, – повторял мужчина в усах.
Плакала женщина или нет, было не разглядеть – так тесно она прижалась к усачу.
– Садитесь на мешок, – пригласил Лютик.
Какие у него жуткие уши, поразилась Таня.
Лютик поймал ее взгляд и смущенно пригладил себя по голове.
– Остригся. Все готово.
– А вас что, никто не провожает?
Здесь всех кто-то провожал. Лютик был один. Но все равно добродушно улыбался.
– Столько хлопот с отъездом. Вещи собрать. Наверное, не вырвались, – развел он руками.
– Как это не вырвались? – разозлилась на них Таня.
Но тотчас вспомнила: они сами-то хороши, с собачкой заигрались…
Уйти и бросить Лютика одного теперь было бы некрасиво. Всех здесь кто-то провожал. Таня села на мешок.
– На вокзалах такой хаос, – повторила она дядины слова. И уставилась на собственные туфли.
Лютик приветливо смотрел вокруг. Кто-то позади них засмеялся. Таня обернулась. Ей казалось, все смотрят на нее и думают: ну и кавалера она себе откопала, просто чучело.
– А где ваша винтовка?
Лютик пожал плечами.
– Потом дадут. А если не дадут, то, сказали, надо отбить у врага в первом бою.
«Как же. Этот отобьет… Боже, какое чучело!» – мрачно думала она.
Поодаль опять кто-то засмеялся. Таня с вызовом повернулась. Смеющаяся девушка дергала своего спутника за нос, и ни до кого ей дела не было. Но Таня все равно обиженно выпрямила спину.
– Вы художник? – нарочно громко и отчетливо спросила она. Пусть знают.
– Да что вы! – засмеялся Лютик. – Разве что посредственный. Это еще хуже, чем плохой. Вот вернусь после этой заварухи – пойду учиться на фармацевта. Или на инженера. Обычная понятная работа.
Свистнули.
– По машинам! – гаркнул голос.
Все нестройно поднялись. Женщины закричали. Вцепились в ремни, мешки, лямки. Улыбались, целовались. «Ну, будет, будет…», «Мне пора!», «Ничего, ничего…» – только и слышала вокруг себя ошеломленная Таня. И крики. Кто-то плакал. Кто-то хохотал. Таню волной толкнуло, отбросило. Лютика потащило прочь. Все улыбались, махали, кричали.
Вдали мелькнула ушастая голова. Какой-то военный уже расставлял новобранцев рядами. Строил колонну.
Тане стало жутко. Она яростно протискивалась сквозь толпу. Сердце колотилось.
– Марш! – гаркнул голос.
Сердце екнуло. Таня удвоила усилия. Пнула, укусила, оттолкнула – и, наконец, выкатилась на мостовую.
Шершавая человеческая гусеница стала забираться в кузова машин. Лица, лица, лица. Мальчики, мужчины, юноши. Молодые, юные, немолодые, опять молодые. Уже не лица – затылки.
Женщины тоже бросились к грузовикам, побежали. Бежали девочки. Старухи. Девушки. Толстые, высокие, маленькие, в беретиках, в платках, с косами, в локонах – все.
Таня тоже бежала с дрожью в коленках среди тарахтящих на месте машин. Она вдруг поняла все – и розоватые веки тети Веры, и странную кривую улыбку дяди Яши.
– Уйди! Уйди! – рявкнул ей вслед кто-то командирским голосом.
Таня не слышала. Крутила головой.
Женщины кричали. Звали по именам.
– Гоша, милый! Вернись!..
– Папа! Папочка!..
– Удачи! Вернись с победой!..
– Я люблю тебя!..
– Папа!..
– Сашенька!..
И Таня бежала со всеми.
Огромные уши мелькнули, пропали за чьим-то затылком. Снова показались. Таня перецепилась о чью-то ногу, грохнулась о камни до звона в голове, вскочила. Побежала. Лютика кто-то уже подсаживал на борт. Вокруг кричали. Коленку и ладонь саднило.
Лютик повернул лицо, заметил ее. Большой рот заулыбался.
Что же кричать? Что?.. Самое важное. Главное…
И Таня завопила:
– Извините! За краски! Я больше не буду!
Ее заволокло синим шершавым дымом, рокотом мотора.
– Я все исправлю! Обещаю!
Лютик махнул ей рукой. Он ничего толком не расслышал, только «обещаю».
– Ничего страшного, – крикнул он, пытаясь улыбнуться. – Я вам верю. Ничего плохого не случится.
Таня видела только открывающийся рот. Грохотали, пуская сизый вонючий дым, грузовики. Кричали люди.
– Хорошо! – крикнул Лютик.
Танино лицо мелькнуло – и тотчас его затолкало, замешало обратно в толпу.
– Смешная у тебя сестричка, – только и сказал Лютику мужчина на скамейке справа.
Все кричали, махали руками, улыбались. Старались думать о хорошем. И даже в это хорошее верили. Но у всех у них ломило сердце так, что невозможно было говорить.
Глава 13
– Слышишь? – прошептал в темноте Шурка.
К окну приколотили одеяло: дворник прошел по всем этажам, по всем квартирам, велел жильцам навести затемнение: приказ.
В комнате стояла ненастоящая – не летняя ленинградская, а ровная бархатистая темнота. В ней не было ни кроватей, ни стола. Ни Бублика – одна теплая круглая тяжесть возле ног. Ни ширмы, ни тети Веры, спавшей за ширмой. Вернее, не спавшей.
Хлюпнуло носом. Вздохнуло. Хрустнула подушка.
– Она опять плачет, – поразился Шурка. Таня слушала молча. – Почему?
– Может, из-за чашки.
Первым делом Бублик разбил чашку. Ну не совсем Бублик, но из-за него…
– Ты не переводи разговор, – строго шепнула Таня. – Я сразу поняла, что это ты.
– Это не я.
– Я видела ваши с Бобкой переглядыванья. Чей это мишка?
– Ничей.
– Ты его украл, – повторила сестра.
Рассказать Тане правду было невозможно. Никому ее нельзя было рассказывать. Уж лучше бы украл, чем то, что он сделал. Он их предал. Он своими руками привел Ворона. К тете Вере. К ним. И неизвестно, что теперь из этого выйдет. Было тошно.
– Я его нашел, – не сдавался Шурка.
– Где? – не сдавалась и Таня.
– Ой… Слышишь?
Шепот был тихим, но ясным.
– Не виляй, – прошипела Таня и сердито принялась втолковывать: – Если я лопухнулась с красками, то это не значит, что можно так делать! Это же воровство, понимаешь? Все равно воровство. Даже если из лучших побуждений. Если б я подумала, я бы эти краски пальцем не тронула!
– Я его нашел.
– Где?
Из темноты донесся возмущенный Бобкин голос:
– Мишка, ты что? Немедленно извинись!
Бобка в своей кроватке, похоже, продолжал какую-то дневную игру. Но Шурке было не до него.
– Ой… Ты слышала? Вот опять.
Он не сомневался: «ненавижу этих детей», именно эти слова. Шепотом, но совершенно ясно.
– Шурка, не финти, – холодно отрезала Таня.
Видно, она ничего не слышала. Не слышал и Бобка.
– Это некрасиво, – наставлял он мишку.
Клацнул зубами и улегся поудобнее невидимый в темноте Бублик.
Шурка ждал, но тетя Вера все хлюпала носом.
Конечно, тетя Вера. Кто же еще мог так сказать!
«Неужели она нас ненавидит?» – поразился Шурка. Но поверил.
Он вдруг понял, что тетя Вера жила совсем не так, как привыкла, как ей хотелось и нравилось. Затаилась. Обозлилась. Связалась с врагами. И теперь попала в новую беду. Из-за них…
Шурка не успел додумать.
– Вот что, – вдруг шепотом заговорила Таня. – Отпирайся сколько влезет, но мишку надо вернуть.
– Ты что!
– Где взял.
– Да не крал я его!
Но как объяснить? Нельзя же рассказать остальное.
– Ага, нашел. Я поняла, – отчеканила Таня. – Завтра же вернешь, где нашел. Я сама верну. Не обсуждается.
– Свихнулась? – Решительный тон сестры Шурку не просто удивил – обидел. – Ты-то тут при чем?
– Я должна это исправить.
– Ты что, теперь против нас с Бобкой?
Но Таня была неумолима:
– Так надо. Ради одного человека.
– Ради тетки Верки?!
Таня не ответила. Значит, да.
– Тоже мне, – возмущался Шурка. – Она нас ненавидит, а ты…
– Эй вы! – сдавленно, в нос, крикнула тетя Вера. – А ну спите там.
С Таниной стороны шебуршнулось, скрипнуло. Наверно, сестра накинула на голову одеяло и отвернулась к стене.
– Теоретически, – возразила Таня, – она могла напасть на кого угодно.
– Но сцапала нас! И я ей помог!
– Ты же не знал… И вообще, мы быстро бы вывели этого поганого мишку на чистую воду. Просто мы тогда друг с другом не разговаривали.
Шурке стало больно.
– Давай больше никогда не ссориться, а, Тань?
– Давай, – сказала она неохотно и крепче обхватила Бобку.
– Ты чего?
– Не знаю. «Никогда» сейчас стало таким непонятным, коротким. Может, завтра его не будет совсем.
– Глупости!
Таня промолчала.
– Мишка вовсе не поганый, – вмешался Бобка. – Он не виноват. Он просто такой.
Глава 14
Все оклеивали окна.
Дома по обе стороны канала стройно гляделись в собственное отражение: день был тихий и ясный. Не верилось, что война.
Они прошли по ажурному мостику. В воде рисунок на окнах лишь иногда подергивался рябью, но тотчас спохватывался: полоски, клеточки, ромбы. Кто-то постарался и на своем окне полосками бумаги изобразил солнце: бумажные ленточки лучей должны были удержать стекло, если вдруг рядом грохнет взрыв.
Серебристые туши аэростатов парили высоко в небе и украшали его, будто в праздник. Стальные тросы, удерживавшие их с земли, издалека были не видны: казалось, стая китов дремлет в летней голубизне.
– Это не значит, что все эти люди паникуют и думают, что в Ленинград ворвутся фашисты, – сказала Таня.
Шурка шагал немного впереди, и Танины слова отскочили от его спины горохом. Он упер руки в бока, спиной старательно излучая презрение. Рядом, в такой же точно позе, только без презрения, шел Бобка. На ходу Шурка быстро написал что-то в самодельном блокноте, оторвал листок. Отдал Бобке.
Бобка обежал тетю Веру сзади, сунул листок Тане. Та развернула. «Дура», – значилось на нем. Таня скомкала записку.
– Таня права, – сказала тетя Вера. – К тому же людям надо помогать.
Помогать? – засомневалась Таня. Толстуха, одетая в пальто и шубу, явно была не из тех, кому требуется помощь. Она сама требовала, выгрызала, вырывала когтями.
Бобка шел рядом с Таней. Ждал, не будет ли ответа. Его не было. И Бобка взял Таню за руку.
Тетя Вера вздохнула и посмотрела на Таню. На Шурку.
– Товарищи, вы не хотите объяснить мне, что происходит?
Витрины большого книжного магазина были заложены тугими серыми мешками. Солнце нагревало им бока. Прохожие шли мимо. Совершенно обычные – в жакетах, шляпах, рубахах, летних туфлях. Поодаль трамваи так же привычно бренчали по проспекту среди мостовой, касаясь проводов поднятыми рожками.
– Шурка?
Тот пожал плечами, не вынимая руки из карманов.
– Мы играем в почту, – хмуро сказала Таня.
Свернули.
– Вот эта улица, – сказала тетя Вера.
В сторону Эрмитажа медленно прокатил грузовик, замаскированный свежими зелеными ветками, – словно снялась с места небольшая рощица. Шурка проводил его взглядом.
Тротуар мела дворничиха. Завязки фартука делили ее фигуру на два куба.
Тетя Вера отыскала табличку с номером дома. Сверилась.
Колючая метла замерла. Дворничиха глянула подозрительно.
– Вы к кому, гражданка?
– К Парамоновым, – ответила тетя Вера.
Дворничиха заулыбалась.
– А, да-да… Да-да…
Она держала метлу так же, как большие статуи в Эрмитаже держат копье.
– У нас парадная спокойная. И в квартире жильцы спокойные. И дом спокойный. Зачем же ей… вам, – поправилась она, – беспокоиться?
Таня хмуро смотрела на дворничиху: как-то слишком уж часто она говорит «спокойные».
– Мы окна только заклеить, – ответила тетя Вера.
Дворничиха увидела сумку. Всплеснула сильными руками.
– Зачем же вы муку с собой несли, утруждались? Я бы вам своей дала!
Она добрая, подумал Шурка. Глядя на широкое сдобное лицо дворничихи, привыкшее к ветру и солнцу, трудно было думать иначе.
– А мальчонка тоже ваш? – кивнула она на Бобку. И подмигнула.
Тот спрятался за Таню.
– Мой, – ответила тетя Вера, нетерпеливо заглядывая дворничихе через плечо. Сумка оттягивала ей руки.
– Ах, ну вы проходите, проходите.
Тане даже показалось, что дворничиха слегка поклонилась. Поставила метлу к стене.
– Давайте ж я вам сумочку-то поднесу. Жалко, что ли? – И почти силой вырвала у тети Веры сумку. – Идите, ну!
Она могучей рукой потянула на себя тяжелую дверь парадной и первой вошла.
В парадной было прохладно. Дворничиха топала впереди. Таня задрала голову: казалось, они внутри огромной раковины.
– Второй этаж, – радушно отозвалась сверху дворничиха. Ей ответило каменное, плиткой выложенное эхо.
Дверь в квартиру оказалась высокой. На ней, как водится, пестрели таблички с фамилиями жильцов и указанием, кому сколько раз звонить.
Дворничиха отперла дверь своим ключом. Распахнула одной рукой, другой поставила сумку прямо в темный коридор.
– Вам приятного… Приятного…
Но не придумала – чего. Махнула рукой и потопала вниз. Хлопнула дверь.
Уже и эхо стихло, а тетя Вера все медлила войти. Глядя на нее, не входили и Таня, Бобка, Шурка. Из щели тянуло запахом и звуками кухни.
– Парамоновы? Кто это еще такие? – фыркнул Шурка.
– Знакомая одна. По работе. Мы им просто немного поможем.
Таня не сводила с нее глаз, но молчала.
– А что, эти Парамоновы сами свои окна заклеить не могут? – полюбопытствовал Шурка. По его тону было ясно, что он этих никчемных Парамоновых осуждает.
– Ну-у, – потянула тетя Вера, – им пришлось срочно уехать.
Шурке не понравился ее ответ, а особенно голос. Еще одна тайна тети Веры. И как раз тогда, когда Ворон за ней следит. В том, что Ворон за ней следит, он не сомневался.
«Пойдем домой!» – хотел крикнуть он. Пока не поздно…
Тетя Вера открыла дверь пошире и пропустила всех троих вперед.
Глава 15
В коридор высовывалось копыто.
В остальном это был самый обычный коридор – длинный, полутемный, захламленный. Копыто торчало из кухни. Оттуда слышались возбужденные голоса.
– Бактерии здесь развела этим мясом! Ботулизм! – взвизгнул кто-то.
Выскочила женщина с лицом как будто только из бани. Обтерла руки о фартук. Схватилась за копыто обеими руками, уперлась ногами в пол. И вытащила огромный кусок – не мяса даже, а коровы: за ногой волочился бок. Белые ребра были похожи на батарею парового отопления.
– Ты пол за собой подотри! – завистливо крикнули ей вслед из кухни. – Смотри, нагадила как. Пол, между прочим, общий!
Лоб у женщины был низенький, волосы подступали к широким бровям.
– Видала? – радостно спросила женщина у Тани. У всех троих. И такая в ее голосе была гордость, будто не корова это, а мамонт, и она сама уложила его ударом каменного топорика.
Нос у женщины был слегка приплюснутый, он делал ее лицо еще более неандертальским. Но улыбалась она приветливо.
– Завидуют, сволочи, – добродушно сказала она, кивнув в сторону кухни. И утащила кусок коровы в комнату наискосок.
Тетя Вера беспомощно обводила взглядом двери по обе стороны коридора. Все были закрыты. Все немы.
– Чего стоим? – не вытерпела Таня. Будто тетя Вера не знала, в какую комнату идти.
Из кухни вышла женщина с кастрюлей в руках.
– Скажи спасибо, что не тебя по башке стукнуло, а корову, – на ходу проговорила она и чуть не споткнулась о Бобку. Выронила в сердцах короткое слово. У нее были брови треугольником и слегка раздутые ноздри, отчего с лица не сходило выражение «ну я вам покажу!».
– Не скажете, в какой комнате Парамоновы живут? – вежливо спросила тетя Вера.
Женщина смерила взглядом всех троих, явно прикидывая: отвечать, не отвечать?
– Чего вылупилась? – бросила она Тане. – Узоры на мне, что ль?
– Может, – ответила Таня.
Та ахнула:
– Это кто ж тебя так воспитал?
Повернулась к тете Вере:
– Ну и детки у тебя! Ну и воспитание!
Но комнату Парамоновых показала.
Прошли почти через весь коридор, стараясь не задеть головой висевшие на стене корыта и тазы, отводя рукой белье на веревках. Тетя Вера достала ключ с деревянной грушкой на кольце, оглянулась. Соседка с кастрюлей все так же стояла в конце коридора – наблюдала. Но демонстративно отвернулась и нырнула в комнату напротив.
Тетя Вера отперла, толкнула дверь.
Комната Парамоновых была странной. Она походила на мебельный магазин. Мебель была дородная, в завитушках, золотых бордюрах. Тускло блестел шелк. Хозяева комнат хотели втиснуть сюда побольше. И в последнюю очередь беспокоились о том, чтобы на этих стульях и диванчиках было удобно сидеть, за столами обедать, а в шкафах раскладывать вещи.
Тетя Вера, балансируя, с трудом пробралась к столу. Если именно здесь у нее тайник, подумал Шурка, то искать придется очень долго.
– Смотрите ничего здесь не поцарапайте, – предупредила тетя Вера. Поставила сумку на стол. Отодвинула вазу, фарфоровую статуэтку, подсвечник. На столе тоже было тесно.
Только на потолке было просторно и пусто. Большая хрустальная люстра глядела свысока. По потолку бежала лепная гирлянда – фрукты и листья. Бежала, бежала – и обрывалась, врезавшись в стену.
Внезапно щеки и уши у Шурки загорелись так, что стало больно. Со стены, из кудрявой золоченой рамки, на него смотрела круглыми глазами женщина-голубь.
А тетя Вера все говорила, говорила, говорила…
– Кто будет резать, а кто клеить? А кто старые газеты принесет с чердака? Выбирайте.
Таня застрочила что-то в своей книжечке.
– Шурка.
Пол ехал у Шурки под ногами, а оторвать взгляд от круглых голубиных глазок сил не было.
– Шурка!
Эти глазки приникали Шурке в самую душу, говорили: все вижу, все. Еще миг, казалось, – и на стене начнет вздуваться почка, а из нее высвободится лепесток уха. Или откроется глаз.
– Шурка! Вы что, друг с другом не разговариваете? – осенило тетю Веру.
Таня не ответила. Шурка наконец сумел мигнуть, отвести глаза, отвернуться. Он ошеломленно смотрел на тетю Веру, на Таню.
– Они поссорились, – пояснил Бобка.
– И с тобой тоже?
– Со мной не поссорились.
– А со мной? – все недоумевала тетя Вера.
– Я сбегаю! – пронзительно крикнул Шурка. – Я на чердак!
И выкатился со всех ног из комнаты.
– С ума я с вами сойду, – вздохнула тетя, ставя к подоконнику большой неуклюжий стул.
Глава 16
Шурка услышал шаги. Они сбегали вниз. Шурка вжался в стену.
– Мальчик, ты чего?
Шурка открыл глаза: юноша в полосатой футболке и летних брюках. Выглядит как самый обычный юноша в полосатой футболке. У Ворона все выглядели обычными.
И только когда шаги внизу оборвались, хлопнула дверь парадной и в раковине моллюска опять стало тихо, Шурка сумел отлепить спину от стенки. Сделал несколько ватных шагов. Где-то открылась, хлопнула дверь. Шурка замер. Внизу? Вверху? По закрученной лестнице разносилось эхо шагов. Шуркины мысли прыгали за ним во все стороны сразу. Шаги были медленные, шаркающие: старик или старуха; они стихли где-то внизу. Опять тишина. Шурка помчался наверх, цепляясь рукой за перила, как бы подтягивая себя вверх. Перескакивал через две ступеньки, перемахивал через площадки одним прыжком. Вслед ему глядели высокие двери. Наконец он влетел на чердак.
«Что я наделал! – бешено выстукивало сердце. – Что! я! наделал!» Шурка сел прямо на пол. Взял себя руками за ребра. Сердце послушалось не сразу. Но все-таки послушалось.
– Что я наделал! – вслух сказал он.
Чердак ответил душной, солнцем нагретой пустотой.
Шурка внезапно понял: чердак тоже какой-то не такой. Нет на нем ни обычных бельевых веревок, ни старых ящиков, ни хлама, какой всегда водится на чердаках. Нет голубей. Нет перегородок. Только бочка.
Он поднялся, заглянул внутрь: песок. К бочке были прислонены большие железные щипцы. Шурка попробовал: тяжелые, одной рукой не удержишь.
По лесенке Шурка вылез на крышу. Крыша была как крыша. От нее шел солнечный жар. Нева с высоты казалась еще огромнее, чем когда стоишь на набережной. Виднелись корабли под маскировочной сеткой. Над Марсовым полем висели аэростаты; стальные тросы уходили вниз, издалека казались тоненькими ниточками. Привычные золотые купола вдали были непривычно темного цвета – их покрасили для маскировки. Все остальное было как обычно. Крыши обычных ленинградских цветов – красноватые и зеленые, с ржавчиной. Черными жуками катились автомобили. Двигались черными точками прохожие. Красные кубики трамваев бодро бежали по трубочкам улиц. Шурка вспомнил выражение из учебника: кровяные тельца.
А Ворон тоже по-прежнему дожидался ночи и шнырял по этим улицам. Хватал людей. Как будто им и без Ворона недоставало сейчас забот.
Шурка едва не оступился, схватился за трубу. Снова сел.
– Спокойно, – сказал он сам себе. – Думай.
Но думать не получалось. Сердце заглушало мысли, громко стучало: что делать? что?
Слишком много тайн, решил Шурка. Тайны эти колючими шарами распирали его изнутри, но поделиться ими было нельзя.
Шурка встал. Позади трубы торчал голубиный домик на четырех ножках. От дождей и ветра он стал серым.
Осторожно балансируя, Шурка обогнул трубу, заглянул в круглое отверстие. Пусто. Только белые меловые капли да кое-где прилипшие перья. Домик был заброшен. Наверное, тот, кто кормил голубей, ушел на фронт.
Круглая дверка напоминала дырочку в ухе. Шурку осенило. Он приставил ладони, приник к отверстию ртом и прошептал первую тайну:
– Я предатель. Я предал тетю Веру, Таньку и Бобку.
Домик проглотил ее.
Как ни странно, Шурке стало легче. Он заглянул внутрь: в домике все еще было много места. В том числе и для подробностей. Шурка снова сложил ладони дощечками и зашептал:
– А тетя Вера ходит непонятно куда. У нее деньги непонятно откуда. Много денег. Она шлет посылки незнакомым людям. И она все знает про Ворона. Она что-то задумала и готовит месть. Ее могли завербовать враги. Наврать с три короба. Использовать в своих целях.
Прикрыл отверстие ладонями, давая домику переварить сказанное. И понял, что все это чушь. Тетя Вера вела себя странно, но шпионкой она быть не могла.
Шурка засмеялся. Приставил ладони для последнего залпа, сказал четко:
– Танька – дура и свинья. Она ворует.
Стало совсем хорошо.
Шурка обнял колени. Стал глядеть на мозаику крыш, на широкое, морщинистой пенкой подернутое поле Невы с косыми треугольниками чаек. Свежий ветер, пахнущий водой, пробовал сорвать с головы кепку. Штанины и рукава трепетали, пузырясь.
Что теперь делать, было все-таки непонятно. Предупредить? «Тетя Вера, я все про нас рассказал, но я не знал, что она от Ворона». Шурка содрогнулся.
– Не зна-ал… – передразнил он себя. – Дурачок тоже выискался. Скажи лучше – продал. За какого-то ободранного мишку…
И что, оставить все как есть? Молча ждать, когда Ворон подкрадется и хватит тетю Веру по темени?
Домик стоял, разинув рот. Давать советы он не умел.
Шурка привалился к нему головой. Он смотрел на темные закрашенные купола, на военные корабли под сеткой, на крыши, на канавки траншей в парках. И постепенно осознал, что нужно сделать.
Он вынул блокнот. Обслюнявил грифель карандаша. Крупно вывел: «Дорогая Таня». Задумался. А дальше? Как полагается писать в таких случаях? Что-то такое вспомнилось – наверно, из книжки. Он склонил голову, от козырька кепки на страницу упала тень. Вылитый клюв. Шурка вздрогнул, но лишь тверже сжал карандаш: «Когда ты получишь это письмо, я…»
Другая тень – выше и гуще – накрыла страницу сзади.
Карандаш испуганно чиркнул в сторону.
– Приве-е-етик. А ты кто такой? – ударил в спину голос.
Шурка едва не скатился по нагретым железным листам крыши.
Глава 17
Первая порция клейстера кончилась. Первый слой полосок уже был положен наискосок. И теперь в комнате лежала решетчатая тень. А Шурка все не возвращался.
– Ну я ему задам! – пообещала тетя Вера.
Таня хотела спросить: кто эти Парамоновы?
Но тетя Вера словно почувствовала и решила уйти от ответа.
– Давай сразу и второе окно оклеим так же – сперва наискосок, а потом в обратную сторону пройдемся, – энергично распоряжалась тетя Вера, будто в жизни не было у нее дела интереснее. – Только клейстер нужен.
Таня хотела спросить: почему мы здесь?
Но тетя Вера торопливо предложила:
– Сваришь клейстер? А я еще бумаги у соседей спрошу. Только помешивай все время, пока не загустеет, – не давала она вставить слово.
Таня взяла опустевший таз. Тетя Вера хрустела ножницами. Последние полоски с тихим шелестом падали из-под железного клюва, закрывая тети-Верины туфли. Бобка складывал эти полоски охапками.
– Какой примус ее, помнишь?
– У окна, – кивнула Таня, осторожно лавируя с клейким тазом среди стульев, диванчиков, козеток, пуфиков, столиков, толстощеких ваз, сервантов с посудой. Огромные шкафы норовили ткнуть ее в бок.
– Только не испачкай здесь ничего!
Таня боднула тазом этажерку; опасно накренился бронзовый подсвечник, но тут же встал на место.
– Не разбей! – ахнула тетя Вера в сотый раз.
А Таня в девяносто девятый раз буркнула:
– Знаю.
После солнечной комнаты в коридоре казалось особенно темно и прохладно. За дверью неандертальской соседки слышались хрякающие удары: видно, она разделывала топориком добычу.
Таня не подслушивала, просто на обратном пути из кухни заметила, что дверь в эту комнату приоткрыта.
Она вовсе не собиралась шпионить. Но услышала мужской голос:
– А это еще кто такие тут шастают?
И неандертальская соседка ответила:
– Это Парамоновых. Родственники.
– Она сказала?
– Дворничиха. А ей домоуправ. А ему, знамо дело, Парамоновы.
«Это же о нас», – поняла Таня. И затаилась.
Ее собеседник не поверил.
– Ясно, какие родственнички, – многозначительно сказал он и добавил загадочно: – Заявят куда следует – и привет.
Таню задел его тон. Она бесшумно поставила тяжелый таз. Скользнула к самой двери. Увидела, как мужчина в сапогах и пиджаке стоит над красноватыми кусками. Радости на его лице не наблюдалось.
– Чтоб духу этого мяса здесь не было! – сурово велел он. Но так, чтобы за стенкой не услышали.
– Так ведь припасы… – вякнула неандертальская соседка.
– Припасы?! – вознегодовал Пиджак. Таня решила, что муж. – Ты что, радио не слушаешь? Глухая ты, что ли? В Ленинграде полно продовольствия! Ленинград защищен! Припасы делаешь – значит, сеешь в городе антисоветскую панику! А панику сеять – это статья.
Неужели он имел в виду, что про соседку с ее ногой напишут в газете? В последнее время печаталось много статей про диверсантов, которые пробирались в город, чтобы подавать сигналы немецким самолетам. Но писать в газете про какую-то коровью ногу? Таня закатила глаза.
И тут взгляд ее упал на картину. Что-то серенькое, мутное. Тане показалось, что картина тоже посмотрела на нее.
Сапоги заскрипели и двинулись к двери. Таня поспешно схватила таз и ринулась в свою комнату, удерживая на бегу бушующее море клейстера.
Сосед высунулся в коридор, но там было уже пусто и тихо.
Тетя Вера стояла на подоконнике, Таня подавала ей мокрую бумажную ленту, с которой капал клейстер. Бобка отправлял в таз следующую, сухую, притапливал ее пальцем, вылавливал, протягивал Шурке. К Шурке уже тянула руки Таня. Работать конвейером Форда оказалось гораздо сподручнее.
Шурка как раз держал этого капающего плоского червя, когда в дверь стукнули и просунулась голова с низким лобиком и с выпуклыми, мощными бровями.
– А вы все работаете? – весело заговорила голова. – А у меня котлеты скоро будут. И пирожки с мясом. И колбаски. И отбивные. Приходите, посидим, поедим, еды – во! – натужно улыбалась она.
– Спасибо, ну что вы, – принялась отказываться тетя Вера. – Да у нас и времени нет рассиживаться. Вот окна заклеим и уйдем.
Соседка побледнела, замахала руками.
– Ни-ни! Не выпущу, пока не накормлю! Котлетки! Колбаски! И пирожки с мясом! – завопила она. – Я быстро сварганю! Все приходите!
И Таня, Шурка, Бобка, тетя Вера услышали, как она кричит во все двери поочередно:
– Всех угощаю! Мы же соседи! Советские люди! Друг другу помогаем! Верно я говорю?
Тетя Вера встретилась с Таниным взглядом.
– Бывают добрые люди, – сказала она.
И нахмурилась. Тетя Вера не любила врать.
– Понимаешь, Таня, – поправилась, – иногда люди делают плохие вещи из добрых побуждений – и наоборот. Мы с тобой про нее ничего не знаем. Может, она добрая. А может, хотела убрать мясо в ледник и обнаружила, что лед растаял или коты туда забрались.
Таня ничего не сказала.
– Или крысы, – добавила тетя Вера.
– Пирожки? – с интересом уточнил Бобка. Он сразу почувствовал, как живот булькнул: да-да, пирожки!
– Все равно в результате она угощает всех соседей и даже совершенно незнакомых ей людей. И это хороший поступок. Понимаешь?
А Таня подумала: «Хорошо, что это не наша квартира». Хотелось поскорее отсюда уйти.
– Не пущу! Голодными не выпущу! – радушно кричала Коровья Нога (так Таня мысленно прозвала соседку).
На «котлетки, колбаски, пирожки» сошлась вся квартира. Сгрудились на общей кухне. В середине составили несколько столов.
Соседка с короткой стрижкой и в очках, похожая на учительницу, высматривала что-то на блюде с пирожками, а потом спросила:
– Это гигиенично? Мясо точно прожарено? В нем нет цепней?
Таня узнала голос: это она недавно кричала про бактерии.
Мужчин было всего трое. Старичок с белой бородкой сидел возле Тани, ел молча и быстро. Тетю Веру усадили между усачом в пиджаке и человечком в круглых очках и тюбетейке. Шурка посмотрел на них и отвернулся. Оба это заметили.
– Меня по прошлому ранению сейчас не взяли, – почему-то принялся рассказывать усач. – Еще в финскую войну пришибло. Дырка в легком. – Он все взмахивал вилкой. Потянулся рукой к мутной бутыли в центре стола.
А человечек в тюбетейке пил небольшими глоточками из рюмки, вытянув губы трубочкой.
– Я специалист, у меня бронь, – тоненьким голоском пояснил он.
Оба словно оправдывались.
В общем шуме слова раскалывались на кусочки. Тетя Вера кивала, как китайский болванчик, и смотрела на Таню и Шурку через стол.
Соседка в очках – та, что боялась бактерий, – нервно вытирала платком вилку. Потом принялась тереть нож.
– А вы Парамоновым родственники? – не унимался сосед в тюбетейке.
– Да, – кивнула тетя Вера.
– Двоюродные, – отчеканила Таня.
Тетя Вера послала ей благодарный взгляд, а Шурка – удивленный.
Под потолком булькали голоса и висел чад – пухлое одеяло пара и дыма, над которым трудились несколько сковородок и кастрюль сразу. Пахло жареной едой. Все раскраснелись. Колбасок, котлет и пирожков было столько, что тарелок и мисок не хватило, и мясо клали на обрывки газет. Ели женщины и дети, ели кошки. Губы лоснились, рты жевали. Урчали объевшиеся кошки.
Шурка на еду уже смотреть не мог: ему казалось, что последний пирожок застрял в горле. Или это был кусок котлеты?
– Ешьте, ешьте. Ну еще кусочек, – уговаривали всех Пиджак с женой.
Неандертальская соседка раскраснелась, глаза ее блестели. Она ткнула Таню локтем в бок. Таня отодвинулась, но тут же поняла, что соседке просто поговорить охота.
– Я это, – дружелюбно начала она, – иду, лопата на плече. Все бабы, значит, идут. Мы идем.
– Да слышали уже! – крикнула с другого конца стола соседка с косой, уложенной вокруг головы.
Шурка и на косу смотреть не мог – она тоже напоминала колбаску. А соседка с косой не унималась:
– Хватит! Аппетит только портишь.
– Твой испортишь, как же, – заткнули ее.
Здесь, видно, все друг друга давно и хорошо знали.
– Она не слышала! – махнула в сторону Тани вилкой Коровья Нога. На вилке был кусок котлеты. – Слышишь? – соседка снова ткнула ее в бок. – И тут он прямо к земле – вжик! Аж кресты на крыльях видать, черные. И харю его. И все по канавам – прыг! А он – бабах! Мне только землей по спине сыпануло.
Шурка слушал с волнением.
– Самолет? Немецкий?!
Соседка кивнула. Ей льстило внимание.
– А модель какая? – не унимался Шурка. – Мессер? Юнкерс?
– Да откудова мне его, дьявола, знать? Шпионка я тебе, что ли, немецкая? Кресты только – во!
– Шурка, иди в комнату, – неожиданно прервала его тетя Вера.
Он гордо послушался.
Соседка будто не заметила.
– Ну, думаю, пришиб. Трогаю башку – нет, вроде цела.
– Где это вас так? – сочувственно спросила тетя Вера.
– Да нас за город траншеи копать возили. Тут он и вынырнул, фашист проклятый. Я не растерялась, – подхватила она историю с прерванного конца, – прыг наружу. А корову, значит, убило.
– Скажи спасибо – корову по башке двинуло, а не тебя! – захохотала соседка с треугольными бровями, еще больше раздувая ноздри.
Соседка в очках на нее покосилась. Она одна не говорила ни слова – после того, конечно, как убедилась, что бактерий не видно. И единственная из всех ела вилкой и ножом.
– Корову? – перестала жевать Таня.
– Разорвало прямо! – оживилась соседка. – Да ты ешь, ешь. У меня мяса еще полно… Все «ах», «ох»… А я думаю: чего ж добру пропадать? Хвать! На мое счастье, грузовик до города ехал. Ну что-то шоферу за подмогу пришлось отдать. Но… Припасов наделаю.
Таню передернуло. Тетя Вера сделала ей страшные глаза.
Женщина с тоской оглядела стол:
– Да вы ешьте! Ешьте! Всё ешьте! – крикнула она. И опрокинула в себя рюмку.
Лица соседей выражали разное.
– Везет некоторым, – протянула одна, скрестив руки на груди.
– Ишь ты, прямо за городом, значит, уже палят, – тихо сказал кто-то.
Все тотчас умолкли, тихо обступив эту мысль, как неразорвавшуюся бомбу.
– Но в город-то фашист не сунется! – как-то слишком громко и радостно объявил усач. И стол опять зашумел.
Даже для Бублика завернули угощение. И он тотчас залез с косточкой под диван.
– Она добрая, – сказал Бобка, слушая, как Бублик хрумкает. – Вот с Бубликом поделилась.
Шурке казалось, что он больше не захочет есть никогда.
– Она странная, – Таня вспомнила подслушанный разговор Коровьей Ноги с мужем.
Приятно было снова оказаться дома.
– Гораздо важнее, как люди поступают, а не что они при этом думают, – возразила тетя Вера. – Эта женщина могла все мясо продать потихоньку. Или даже выбросить. Но она поделилась с нами, совсем незнакомыми ей людьми. Потому что война.
– Не знаю, – пожала плечами Таня.
«Значит, война делает людей лучше?» – подумал Шурка. И понял, что принял верное решение. Так будет лучше всего.
– Ты чего? – спросил его Бобка. – Живот болит?
Глава 18
Первое объявление Шурка заметил утром у парадной. Оно шевелило лепестками, которые полагалось оторвать. «Найден плюшевый мишка, коричневый, без глаза», – строго сообщал остренький Танин почерк. Ни один лепесток с их адресом не был оторван.
«Ищи-ищи, Танечка», – беззлобно подумал Шурка.
Вечер был по-летнему светлым, когда он направлялся на чердак, перехватив железяки поудобнее. Еще одно беленькое объявление окликнуло Шурку с угла, все его бумажные пальчики тоже были на месте. Еще бы: женщина-голубь со своим сынком и мужем в голубой фуражке наверняка уже давно были у родственников. И даже успели им надоесть.
На мгновение Шурку укусила совесть. Скоро! – на бегу объяснил он ей. Совсем скоро! Скоро все будет позади. И тогда он вспомнит об этом с улыбкой.
В его жизни теперь сияла цель. Благородная. О ней крикнул Шурке со стены дома плакат. На плакате щетинились штыки. У Шурки загорелись щеки. Скоро! – как бы ответил он кричащему изображению. Скоро конец вранью и позору. Скоро подвиги и слава.
Шурка отогнул тайную доску и пролез в щель.
В сарае густо и крепко пахло дровами со всего дома. Его новый друг, Витька, уже дожидался.
– Приве-е-етик.
Шурка рассказал последние новости.
– Вот поэтому, Витька, бежать надо как можно скорее. Пока в школу не сослали.
О том, что война кончится со дня на день, говорили все. Соседи, дворник, радио.
– Первое сентября ведь прошло, – возразил Витька.
– Дурак, в школу в любой день отправить могут. А как только война кончится – тем более.
В школу не хотелось.
Он горкой высыпал спички перед своим новым другом.
Познакомились они на крыше. Витька высматривал, не блеснет ли где ракета, пущенная диверсантом. Когда Витька увидел Шурку там, на крыше, он очень обрадовался: решил, что Шурка диверсант. Было бы здорово такого поймать.
С этим Шурка был полностью согласен.
Несколько ночей они потом промерзли на крыше вместе, но зря. По небу изредка шарили прожектора – ощупывали, не летит ли немецкий самолет. А самолет все не летел. Диверсанты тоже как сквозь землю провалились.
И потому новый план привел Витьку в восторг. Шурка не стал объяснять ему причины.
Все сокровища были выложены на пол. Фонарик. Бутылка для воды. Спички. Увеличительное стекло – чтобы разжечь костер, когда спички кончатся. Витька приволок жестяную коробочку – для патронов, пояснил он. Патроны они раздобудут по пути.
– Бежим прямо сейчас! – предложил Витька.
– Ночью бежать невыгодно, – объяснил Шурка. – Трамваи не ходят.
– Ладно, днем так днем. Только поскорей бы уж, – Витька тряхнул лохматой головой.
– Скоро, – заверил Шурка. – Только провиант подсобрать.
Оба опять посмотрели на собранное добро. В фонарике и особенно в коробочке для патронов была какая-то неотвратимость.
Сердце у Шурки кувыркалось. От радости, одернул себя он.
– Дождусь, когда тетка на работу уйдет, – и привет.
– Это… – наконец разлепил губы Витька. – Матери с дороги напишу.
Глава 19
– Ты что, на работу не идешь? – не выдержала за завтраком Таня.
– Нет, – просто ответила тетя Вера.
Шурка обомлел.
– Ты что, сегодня никуда не пойдешь? – не выдержал он после обеда.
Весь день тетя Вера занималась домашними делами.
Вечером Бобка уже почистил зубы. Неожиданно тетя Вера надела туфли на каблуках. Потом сняла. Надела плоские. С сомнением отогнула штору, поглядела в окно, вверх. Тучи ей не понравились. Тетя Вера перекинула через локоть плащ и взялась за ручку двери.
– Ты куда? – спросили все трое нестройным хором.
– На работу.
– Куда?!
– На работу?
– Ночью?
– А я санитаркой устроилась, – неохотно объяснила тетя Вера. – В госпиталь.
– А где белый халат? – сообразил Шурка.
Белой шапочки на тете Вере тоже не было.
– Там дадут, – бросила она.
Врет, понял Шурка.
– Вы только допоздна не болтайтесь, а цивилизованно ложитесь спать.
И ушла.
Гадкое чувство опять ожило в Шурке.
Ложиться спать никому не хотелось – хоть цивилизованно, хоть как.
Наклоняясь или на коленях Таня обследовала все углы комнаты. Бублик, оттопыривая зад с машущим хвостом, тоже всюду заглядывал и все норовил лизнуть Таню в лицо.
– Бублик, уйди! – отмахивалась она.
Это приводило пса в бешеный восторг. Он утраивал усилия.
Подошел Бобка. Протянул Шурке записку: «Ты мой фонарик не видел?»
С фонариком Таня обычно читала перед сном. Спать она, что ли, уже собралась? Шурка начертил коротко: «Нет».
– Бобка, – позвал Шурка. – А давай ты будешь пленным немцем?
Но Бобка был не настолько мал.
– Ну хорошо, – не сдавался Шурка. – А давай твой мишка будет изображать пленного немца?
Немцы, говорят, сдавались нашим войскам пачками. Их просто девать уже было некуда.
– Он не немец! – оскорбился Бобка.
– Да я же не говорю – немец. Я говорю – изображать.
Бобка молча взял мишку на руки.
– Бублик! – с надеждой позвал Шурка.
Пес так радостно замахал в ответ хвостом, что Шурке стало стыдно его обманывать.
– Ладно, не надо.
Бублик сел рядом с Шуркой, постучал хвостом по полу, умильно уставился в лицо. Но Шурка в мыслях был уже далеко.
…Вот поднимает он свою машину. Истребитель. Красные звезды рассекают облака. Облетает Исаакиевский собор. Купол блестит. Краем глаза он ловит отражение стальной птицы на выпуклых боках. Нет, купол не блестит – его же закрасили темной краской для маскировки… Ну ладно. Тогда просто летит мимо. Внизу горбятся жирные туши аэростатов. Фашист – наперерез. Его поймали прожектором. Пора жать на гашетку.
Шурка стиснул чайную ложечку так, что пальцы побелели. На! Гад!
Сбитый враг кубарем летит вниз. А слева уже другой. На! Получай!
В бою захвачена рация. А для тебя, Танечка, новый фонарик – взамен старого, который пошел на нужды фронта. Помнишь?
В дверь постучали. Все исчезло.
«Таня, не открывай!» – хотел крикнуть Шурка. Желудок скрутило. Шурка сразу подумал про женщину-голубя. Про голубую фуражку.
Но Таня уже отряхивала колени.
– Это ко мне! По объявлению!
В голосе у нее звенело торжество. Она подскочила к Бобке.
– Ладно, давай сюда мишку.
Бобка крепко обхватил игрушку.
– Хватит, – неожиданно разозлилась Таня. – У тебя есть Бублик.
– Он не мой. Он всех.
– Не глупи. – Она потянула мишку к себе. – Мишка не твой.
– Он мой.
– Он чужой.
– Шурка! – позвал на помощь Бобка.
В дверь застучали уже нетерпеливее.
– Сейчас сам увидишь, чей он! – и Таня выскочила в коридор.
– Чего ты, Бобка, – утешил Шурка брата, – не волнуйся, ей нас не победить.
Но уверенности в его голосе не было.
Он стек со стула и тихо пошел к двери. Показал Бобке: тсс! Что-то бухало. Шурка не сразу понял, что это его сердце. Он прильнул к двери, сам не зная, что будет делать, если…
Танин собеседник вроде бы говорил шепотом. Шурке полегчало. Значит, не Ворон. Ворон бы церемониться не стал. Но тут он расслышал слово «железяки». Надо было немедленно вмешаться. И Шурка распахнул дверь.
Таня чуть не упала спиной в комнату.
– Твои железяки?! – завопила в голос соседка.
Бублик захлебнулся лаем и ринулся на помощь.
– У-у, паскудный пес! – заголосила соседка.
Бобка заметил, что свой блокнот Шурка оставил на столе, и всполошился: как же они объяснятся? Подбежал к столу, но почему-то не цапнул сразу, а раскрыл – и увидел буквы на первой странице.
Спохватился: с должности почтальона его пока еще не уволили. Быстро выдернул листок, сложил вчетверо.
– Собаками травят! – верещала соседка. – И железяки раскидали везде! Чтобы людям ноги переломать…
– Никто вас не травит, – Таня взяла Бублика за ошейник и потянула назад в комнату. – И никаких железяк мы сюда не таскали.
Шурка незаметно втолкнул ее в комнату. Вернее, как бы невзначай отстал, задержался в коридоре и ловко закрыл за собой дверь.
– Бобка! – всплеснула руками Таня, выпустив Бублика. – А где мишка?
Невинный взгляд. Ручки на коленках. Рядом кубики.
– Его нет.
Таня опешила.
– Я так не думаю.
Бобка глядел прямо и честно.
– Я знаешь, Бобка, что думаю?
– Что?
– Что ты только что мишку от меня спрятал.
Бобка чуть пошевелили пальчиками.
– Я не прятал. Он сам ушел.
На большее у него фантазии, видно, не хватало.
– Куда?
– В картину, – Бобка показал пальцем.
Картину эту нарисовала тетя Вера. Когда еще рисовала. На ней была изображена ваза с маками и васильками.
Таня лишь махнула рукой.
– Ты бы хоть врал по-человечески! – И пригрозила: – Я его найду, ты не думай!
Но Бобка пропустил Танины слова мимо ушей и дернул ее за рукав.
– Чего?
– Тебе письмо, – и он протянул сложенный листок.
– Опять выдумал что-нибудь?
Недоверчиво развернула.
«Дорогая Таня! Когда ты…»
Глава 20
Проснулся Шурка от неласкового толчка. Таня встряхнула его еще раз.
– Тихо, – одними губами предупредила она, забыв про обет молчания. – Бобку не разбуди.
Шурка сонно приподнялся на локте. Посмотрел на часы. Но Таня показала пальцем в другую сторону:
– Она спит.
Горел торшер, вырезая из темной комнаты треугольник света. В нем помещались часть стола, стул и тетя Вера. Но тетю Веру это совсем не беспокоило. Вероятно, она вернулась, когда все уже спали.
Бублик сдавленно то ли заворчал, то ли завыл. Таня шикнула.
Тетя Вера сидела за столом в своем летнем плащике, несмотря на теплую ночь, застегнутом до самого подбородка. Руки ее были сложены на столе, как у прилежной ученицы, а на руках лежала голова с неудобно зажатым ухом. Ноги в туфлях косолапо торчали носками внутрь. Тетя Вера спала.
В темноте опять зарычал Бублик. Шурка погладил пса и поразился: того трясла крупная дрожь. Бублик не сводил глаз с тети Веры.
– Бублик, ты что? – испуганно шепнул Шурка. – Это же тетя Вера!
Нехорошее чувство опять охватило его – как тогда, когда тетя Вера отправляла посылку. Неужто Бублик что-то чует?
Но Таня, похоже, ничего не подозревала.
– Устала, – вздохнула она. – А ты как думал, первая ночная смена в госпитале. Видно, работы было много. Тому таблетки поднеси, тому воды. Давай перетащим ее на диван.
Присев на корточки, Таня сняла с тети Веры туфли. Босые ступни в чулках будто ничего и не почувствовали.
Таня выпрямилась, бережно взяла тетю Веру за плечи. Та откинулась на спинку стула. Веки дрогнули. Но тетя Вера не ожила. Только губы чуть приоткрылись. Таня расстегнула ей ворот плаща. Пальцы осторожно освободили пуговицу за пуговицей до самого низа.
– Шурка, помоги с рукавами.
Шурка взял тети-Верину руку и поразился, какая она тяжелая.
Таня осторожно стала тянуть плащ. Тетя Вера что-то промычала во сне. Полы плаща разъехались. Железистый запах ударил в нос. И Шурка выронил руку.
Рука тети Веры упала вдоль стула – спящая, тяжелая.
Бублик сбросил себя на пол, шерсть у него на спине встала торчком, хвост опал.
Таня прижала край плаща к груди, попятилась с открытым ртом.
Шурка зажмурился. Он бы и вскрикнул, да не мог.
Под плащом у тети Веры и в самом деле был белый медицинский халат, и даже скомканная шапочка медсестры торчала из кармана. Вернее, белым халат был когда-то. Тетя Вера выглядела так, будто упала в бочку с краской или ее окатили краской из ведра. Только это была не краска. Это была кровь. И в госпитале больные не просили принести им воды или таблетку. В госпиталь попадали раненые. Из них вынимали немецкие пули, осколки немецких бомб и снарядов или делали чего-то пострашнее, прежде чем перевязать белым бинтом.
Стало ясно, почему тетя Вера пришла из госпиталя домой застегнутая по самый подбородок. Любой прохожий на ночной улице, завидев ее, завизжал или упал бы в обморок. Даже милиционер, наверно, упал бы.
Но Таня не упала.
– Ложись, Шурка. Нечего смотреть, – сказала она.
А позже, глядя на спящую тетю Веру, пробормотала:
– Не может быть так плохо. У нас же самая сильная в мире армия. Наверно, это кровь пленных фашистов. Они проиграли. Наши перевязали им раны. Вот и все, – и сглотнула.
Одеяло не впускало в окно лунный свет. Шурка лежал, глядя широко раскрытыми глазами вверх. Он пытался расслышать в темноте дыхание – Танино, Бобкино, тети-Верино, Бублика.
– Танька, ты спишь? – позвал он в темноту.
Но услышал только стук своего сердца. Ему казалось, что он лежит на дне бутылки с чернилами.
Железистый запах стоял в комнате и напоминал о том, чего не увидеть глазами.
Шурка зажал нос. Не помогло.
Пятна крови на тетином халате. Кровь была самой настоящей. Оттого что падали бомбы, летели снаряды, взрывались мины. И пули попадали в людей.
Что сказала та женщина с бровями? Самолеты немецкие были у самого города. Они стреляли и кидали бомбы. И никто их не остановил. Где они сейчас? Может, они в эту самую минуту летят над городом и примериваются, куда сбросить бомбы? На их дом, например.
Он вспомнил давнишние пирожки с мясом. Горький комок рванулся из желудка вверх. Шурка задержал дыхание. Желудок унялся. Ерунда, ерунда, не может быть так плохо, правильно сказала Таня.
Но сейчас Таня спала. А он – нет.
Неужели он трус? Нет! Скоро он будет уже далеко. Скоро сразится с немцами. Сразится – и будет ранен. А если тяжело? Если ему вообще оторвет бомбой ноги? Повязки. И пятна крови. Раны. Ранен…
Шурка перевернулся на другой бок.
…Или убит.
Он вскочил. Так темно, что не различить верх и низ, право и лево. Тяжело дыша, он метнулся к окну. Нащупал одеяло, отогнул край. Луна тотчас просунула в щель свой бледный палец, потрогала Шуркины коленки.
Шурка тихо сел. Постепенно дыхание успокоилось, а ноги снова стали теплыми и мягкими, сам он – зыбким, текучим, а темнота – совсем не страшной.
Лунный палец задумчиво трогал вазу на картине за круглый бок. Трогал-трогал – и сдвинул. Дрогнули поникшие маки. Тень мелькнула из-под Шуркиных ресниц и оказалась плюшевой лапой. Лапа высунулась из-за вазы, слепо ощупала пространство перед собой и втянулась обратно. Мишка выставил мордочку, отодвинул лапой свисавшие головки маков. Осмотрел комнату своими разными глазами. Прислушался.
– Ненавижу детей. Мерзкая девчонка.
Мерзкая девчонка дышала ровно. Шурка сидел обмерев.
– Мерзкий мальчишка.
Похоже, путешествие мишки было неудачным.
– Вы все мерзкие! – припечатал он.
Мишкины ноздри внимательно втянули воздух. Все спят, и спят крепко – убедился мишка, успокоился. Перекинул толстенькую лапу через край картины, потом вторую. Повис, держась передними лапами, потом разжал лапы, мягко шлепнулся, откатился. Залез к Бобке под спящую руку, вытянулся и затих.
Шурка вытаращил в темноту проснувшиеся глаза. Но темное тельце под белеющей Бобкиной рукой было неподвижным, как ему и полагалось.
Глава 21
Шурка даже доску перевернул. Как будто была хоть малюсенькая вероятность, что он просто не заметил, проглядел в темноте, а к счастью, все там на месте – и фонарик, и бутылка, и спички, и «железяки». Даже ладонью потрогал. Ничего там не было. В тайнике, о котором знали только они с Витькой, было пусто.
Ни о каком побеге на фронт теперь не могло быть и речи. Витька сбежал один. Прихватив все из их общего тайника.
Шурка медленно разогнул колени. У него першило в горле.
«Да что это, – ужаснулся. – Неужели я рад?»
Он быстро себя убедил, что это не так. Огорчен – это да! Зол? Просто неимоверно! На худой конец, обижен и растерян… Но какой-то гаденький голосок, тот же, что шептал про тетю Веру, уже свистел ему в уши: точно-точно, рад-рад. И еще добавлял: трус.
Куда теперь податься, было непонятно.
Прохожие шли как ни в чем не бывало. И Шурка тоже старался шагать с ними в лад – как ни в чем не бывало. На ватных ногах. Мимо домов с полосатыми окнами, машин, трамваев, людей.
– Бам! Бабах!
Окна брызнули все разом. А асфальт подпрыгнул, толкнул Шурку сзади.
Бам! – подскочил на своей одной ножке торшер. Тоненьким песочком зашуршало по обоям.
Бам! – уже в отдалении. Или ближе? Ничего не понять!
Радио выговаривало что-то, а слов не разобрать.
Металась тетя Вера.
– Где Шурка?! Шурка где?!
Металась Таня.
– Он уже выскочил, наверно! Он найдет! Спрячется! Он знает! Тетечка, ну идем же!
Бублик прижался к двери и трясся, нервно зевая после каждого «бам». Бобка сучил ногами: на него напали штанишки. А в воздухе стоял равномерный гул.
– Скорей, скорей! – торопила тетя Вера.
А сама заталкивала в сумочку какие-то бумажки. Схватила плащ. Повесила обратно.
– Скорее! – торопила Таня: Бублик рвался из рук.
– Куда?
Уже с порога тетя Вера кинулась обратно в комнату. Рывком вытянула ящик комода. Высыпала все на пол, переворошила. Вот! Продела голову в шнурок, повесила на шею чужой ключ. И все вместе побежали.
Они не помнили, как скатились по лестнице, как добежали до входа в убежище.
Тетя Вера крутила головой: Шурки не видно. В висках у нее стучало, во рту было сухо. В тусклом свете желтенькой лампочки никого толком не разглядеть.
– Шурка, – с надеждой окликнула она испуганный полумрак.
Бабах! Пол под ногами тряхнуло. И тетя Вера сжалась, затихла.
Таня погладила Бублика. Тот даже не обернулся, мускулы у него сделались как каменные.
Люди сидели молча плечом к плечу. Пахло дыханием и страхом. Кто смотрел в пол, кто на потолок – он казался низким и тяжелым. Слушали, как ухали наши зенитки. А может, не наши? И вовсе не зенитки?
Бобка воображал, что где-то там великаны переставляют мебель. Толкают, двигают. Вот с грохотом уронили шкаф.
– А если школу разбомбят? Учебу отменят? – с надеждой спросил голосок.
Но тут великаны опять уронили шкаф.
Тетя Вера держала одной рукой бесполезный поводок, другой прикрывала Бобкину голову. От кого? От чего? Даже младенцы не плакали, словно чувствовали испуг своих мам. Лампочка мигала, а когда снаружи бухнуло особенно сильно, погасла. Никто не шевелился, не говорил. Только вздрагивали, когда великаны там наверху опять роняли свой великанский буфет или диван.
Наконец дали отбой. Тетя Вера сорвалась с места.
– Пустите!
– Не толкайтесь!
Все топали к выходу. Вытекли на улицу. Стали жмуриться на свету. И вдруг заахали, заохали. Все лица обратились в одну сторону.
– Осторожно! – завопил кто-то. – Не напирайте!
– Шурка! Шурка! – все звала позади тетя Вера. – Товарищи, пропустите!
Никто и не шелохнулся. Тетя Вера обернулась – и замерла.
Это похоже на картину в Русском музее, подумала Таня. Далеко-далеко на полнеба расстилался черный, необычайно плотный жирный дым. Внизу он был подбит багрово-красным.
Картина в Русском музее называлась «Последний день Помпеи». Только под багровыми клубами была сейчас не Помпея, а красные и зеленые ленинградские крыши, от которых то тут, то там тянулись черные дымовые столбы.
На улицах ревели сирены. Пронеслось несколько пожарных машин. Потом еще. Карета скорой помощи. Опять пожарные.
– Разбомбили, гады, – послышалось в толпе.
Бобка схватил Танины пальцы, сжал. Он мало что видел – только ремни, юбки, спины.
– За Московским вокзалом горит, – определил кто-то.
Но дымилось со всех сторон.
– Продовольственные склады разбомбили, – уточнил пожилой мужчина в кепке.
Бобка представил: бабах – и по небу полетели сосиски и котлеты, печенье и леденцы. Задрал подбородок, но летящих по небу сосисок не увидел. Небось все уже упали вниз.
– Прекратите сеять панику! – одернул пожилого строгий голос. – В Ленинград все продовольствие ввозят. Ленинград от складов не зависит. Завтра привезут другое.
– Товарищи, расходитесь. Нечего глазеть.
– Шурка! Таня, где Шурка? – тетя Вера, работая локтями, выбралась из толпы. – Шурка!
Шурка, живой и целый, летел к ним со всех ног.
– Мальчик, ты куда!
– Шурка!
– Держи его!
– Туда нельзя!
– Мальчик!
– Убьешься!
– Шурка! – позвала тетя Вера. Тихо и ласково.
Таня, Бублик, Бобка стояли посреди мостовой. Не было больше ни тротуара, ни мостовой: люди брели, бежали, несли носилки повсюду.
Шурка подошел. И с ужасом понял, что чувствует облегчение. «Подлец», – презрительно сказал он сам себе. Но ощутил радость. «Предатель, трус и подлец». Но радость меньше не стала.
Тетя Вера быстро осмотрела его.
– С ума сошел? Где ты был? Почему ты такой грязный?
Шурка дрожащими руками отряхивал колени. Руки тоже были в пыли. Но не в крови.
– Ты фонарик искал? – безмятежно спросил Бобка.
– Что искал? – насторожилась Таня.
– О боже, – сказала тетя Вера. Таким голосом, будто у Шурки оторвало половину головы, и она это лишь сейчас заметила.
Шурка даже потрогал голову. Цела. И посмотрел туда, куда смотрели тетя Вера, Таня и Бобка.
– О боже, – повторила тетя.
Угол их дома словно отхватило тупым ножом. Видны были клеточки комнат. Висел разлохматившийся торшер.
Шурка смотрел, смотрел, но никак не мог сложить в одно целое. Видел то торшер, то осыпавшиеся зубы кирпичей, то тети-Верин плащ, мирно висевший на четвертом этаже, то опять торшер.
Наконец все это оформилось в одну простую мысль: немцы уже в ленинградском небе – значит, скоро они будут на ленинградских улицах?
Но как же все эти мужчины, которые храбро ушли на фронт? Все эти солдаты, командиры, все эти самолеты с красными звездами? Все эти грузовики, замаскированные ветками? Где же они? У них не получилось? А дядя Яша как?
Он посмотрел на Таню.
А Таня смотрела в сторону. На куске стены лепетало, забывшись, белое от ужаса объявление: «Найден мишка, коричневый, без глаза».
– Школу! Школу тоже разбомбило! – крикнул кто-то. – Ура!
Таня засмеялась, как дура, и тут же заплакала.
И только после этого Шурка сообразил, что дома у них больше не было. Идти им было некуда.
Глава 22
– Ничего здесь не поцарапайте, не разбейте, – с порога напомнила тетя Вера, повернулась к Тане: – И не вздумайте ничего брать.
Таня хмыкнула. Вещи словно обернулись на запах пыли и гари, который ворвался с непрошеными жильцами, отпрянули – и сразу невзлюбили их.
Шурка тоже невзлюбил вещи.
На всех стульях, диванах, кушеточках, пуфиках будто висели бархатные канатики, как в музее: не садиться. «Руками не трогать!» – предупреждали лакированные, словно покрытые корочкой льда, шкафы и буфеты. Массивный стол, казалось, вел происхождение от африканских бегемотов и был столь же любезен. «Не подходи!» – дребезжала фарфоровая дребедень. Даже ковер словно грозился табличкой «По газонам не ходить!».
Но опасней всего, конечно, был портрет самой хозяйки, точнее, фотография в золоченой картинной раме. Кругленькие голубиные глазки, казалось, поворачивались вслед за Шуркой, куда бы он ни пошел. Только на подоконнике, у самого стекла, заклеенного крест-накрест бумажными полосками, Шурка ощущал себя в безопасности.
Бобка, наверное, тоже что-то такое почувствовал, потому что пересадил мишку подальше от тяжелой золоченой рамы. В ней была не фотография, а картина с желтыми грушами и пухлой булкой.
– Из дома одному уходить нельзя, – строго сказал Бобка. Покачал головой. – Чувствую, я с тобой не справляюсь.
В его голосе узнавались интонации тети Веры.
Мишка равнодушно смотрел разными глазами.
Белым кольцом спал у двери Бублик.
Шурка смотрел в окно, на мокрые дома с клетчатыми окнами. Со мной что-то не так, уныло думал он.
– Тара-бара-барум, – напевал Шурка дождю.
А дождь подыгрывал: та-та, та-та, та-та, та-та. По стеклу ползли кривые прозрачные дорожки.
Шурка обернулся в комнату.
– Бара-бара, – продолжал Шурка шепотом. Потому что Бобка уже спал с мишкой в руках.
Внезапно Шурка понял, что он в комнате один. Вернее, не один. Вещи посматривали на него подозрительно, словно охотно столкнули бы в окошко, пока никто не видит.
На миг Шурке стало жутко. Он спрыгнул с подоконника и включил радио. Черная тарелка охотно ожила, запела, загремела военным маршем.
Бобка спал крепко – даже не шевельнулся. А радио после паузы важно сказало чугунным голосом: «Последние известия». Стало слышно, как тот же чугунный голос заговорил – то подальше, то поближе – из разных комнат. Видно, все соседи, что были сейчас дома, включили радио. Все ждали, не скажут ли чего про Ленинград.
Радио говорило о неслыханном героизме Красной Армии, когда вошла Таня. Бублик помахал ей хвостом. Таня поставила в углу зонтик. Он мокро прошуршал по стене, завалился набок. Таня задрала голову и тоже стала слушать.
Шурка успел показать сестре: тсс.
Бои шли, как всегда, упорные и продолжительные. Только Шурка не понимал: каждый день (вот и сегодня опять) радио говорило, что советские войска дрались геройски, а немецкие несли сокрушительные потери. Тем не менее после паузы диктор сурово объявлял: «Наши войска оставили город».
– Это как? – не выдержал он.
Таня протянула руку, вывернула рычаг и прищемила радиоголос.
– А вдруг там дальше про Ленинград? – спросил Шурка и понял, что совсем не хотел бы услышать, как и на сей раз наши войска оставили город.
– А что про Ленинград? Если немцев на улицах пока нет, значит, наши пока их отбивают. Вот и все.
И прошла мимо.
Шурка хотел возразить. Но запнулся: Танино лицо почему-то просияло.
– Ты что делаешь?! – чуть не крикнул в голос Шурка.
Она стояла над спящим. Бобка спал так, будто он сейчас был не здесь. Таня осторожно опустила Бобкину руку обратно. Рука тихо легла, не поняв, что мишки под ней больше нет.
– Отдай.
– Отдам. Настоящим хозяевам.
Шурка изменился в лице.
– Что, нечего сказать? – прошипела Таня.
– И где же они?
– Все тайное становится явным.
Эта фраза Шурке особенно не понравилась.
– Положи на место.
– Вор.
– Ах вот ты какая, Танька, – шепотом возмутился Шурка.
– Да, такая, – шепотом согласилась она.
– Отдай.
– Отвяжись.
Оба вцепились в мишку и стали тянуть его в разные стороны. Таня первой начала лягаться. Шурка попытался пнуть ее в ответ. «Сильная какая, – зло думал он. – Вымахала здоровая…» Лицо у Тани раскраснелось. Оба пыхтели, толкались, лягались – но старались не шуметь.
– Ты что, против нас с Бобкой?
– Допустим.
Шипели они друг на друга, как дворовые коты. Шурка наконец угодил ей в голень. Таня охнула, но рук не разжала.
– А ты, – шептала она, – вероломный… вроде Гитлера.
– Ах ты змея! – завопил он, выпустил злосчастного мишку и вцепился Тане в волосы.
Бублик развернулся пружиной быстрее, чем проснулся, и прилетел к ним в свалку. Таня огрела брата мишкой по голове, потом заехала в нос. Получила в ухо. Бублик, лая, напрыгивал передними лапами то на одного, то на другую.
Проснулся Бобка.
– Вы что?
Шурка рванул мишку на себя. Грязноватая голубая ленточка развязалась, соскользнула и осталась у Тани в руке. Шурка отлетел, попятился, теряя равновесие, наткнулся на стул и плюхнулся задом на пол. Бобка открыл рот квадратом и заревел.
– Ну Танька… Все тете Вере расскажу, – пригрозил Шурка.
– Гитлер и ябеда, – отрезала запыхавшаяся Таня.
– Ничего, Бобка. Ей нас не победить, – утешил он брата. Отдал ему мишку.
– Ты еще к нам попросишься, – повернулся он к сестре.
Та фыркнула.
Бобка все еще всхлипывал:
– Не деритесь.
– Она еще к нам попросится, – заверил Шурка брата.
Но лицо у Тани было торжествующим, несмотря на алое ухо.
– Я знаю все.
– Что все?
– Все.
И она растянула перед Шуркиным носом грязноватую голубую ленточку.
Он попробовал цапнуть. Но Таня была проворнее.
– Я знаю, где ты его украл. И у кого.
У Шурки заплясало в животе. Но он сумел почти спокойно сказать:
– Врешь.
– Это ты, Шурка, врешь. Причем всегда.
Шурка понял, что она всерьез. Но быть такого просто не могло. Не могла она знать.
– Покажи.
– Руки за спину.
Шурка повиновался. Таня растянула ленточку за концы. На изнанке, по всей длине, лиловели чернильные заглавные буквы М да М и петли между ними.
– Мурочка? – изумленно прочел Шурка. – Так мишка – девочка?!
– Болван. – Таня засунула ленточку в карман. – Мурочка – хозяйка мишки.
– Ха!
Живот у Шурки утихомирился.
– То есть? – надменно глянула Таня.
Шурка хотел возразить. Рассказать. Захохотать ей в лицо. Мурочка, как же! Он совершенно точно видел тогда в окне машины мальчишку – конопатого и с тонкой шеей. Но вовремя проглотил слова. А остальное – про голубую фуражку и женщину-голубя – как объяснить?
К счастью, Таня была слишком горда победой и не заметила заминки.
– Притворяйся сколько влезет, но правда вскрылась. Это у нее ты украл. У Мурочки. И живет она, – прочитала Таня на голубой ленточке, – на улице Миллионной. Теперь я знаю все.
– Что ты знаешь, Таня?
Все трое обернулись на дверь.
Тетя Вера поставила бидончик на пол. Скинула потемневшие мокрые туфли. Одним взглядом, как пастух овец, обвела комнату: что на сей раз?
Вроде бы ничего не разбито. Но лица детей тете Вере не понравились, между бровями у нее появилась морщинка.
Она перенесла бидончик на стол. Расставила тарелки. Стала переливать из бидончика в тарелки серую жидковатую кашу. Получились четыре лужицы. Сквозь них просвечивало дно.
– Руки мойте – и к столу.
Таня поспешно выскочила. Шурка – как-то слишком быстро – за ней.
– Бобка, ты что, плакал?
– Нет, – соврал Бобка.
Тетя Вера почему-то не стала выяснять дальше, а просто села, сгорбила спину и подперла голову рукой, как будто голова была ужасно тяжелая, ее так и клонило.
Бобка усаживал мишку.
– Садись уже, Бобка, – усталым голосом позвала тетя Вера.
Она даже не заметила, что Бобка не вымыл руки.
Таня и Шурка вернулись, с грохотом отодвинули стулья. Бобка вскарабкался на стул, сунул в тарелку палец, облизнул. Взял ложку. И первым делом испачкал мишке рот кашей: покормил.
Тетя Вера только устало посмотрела и снова подперла голову рукой.
Что-то она не одергивает Бобку, подумала Таня, раньше мишку бы даже за стол не пустили. И это Тане почему-то не понравилось.
– А что, хлеба нет? – удивился Шурка.
– Нет.
Видно, у тети Веры из-за госпиталя совсем не было времени ходить по магазинам и готовить. Еду она теперь приносила из столовой в бидоне или в баночках.
– Если они этим докторов и раненых кормят, то так у них никто не поправится, – проворчал Шурка, загребая ложкой.
Таня подняла голову: Бобка напротив нее так стучал ложкой, словно надеялся соскрести со дна еще хоть каплю каши. Что-то он больше не ноет – ни про варенье, ни про соль, подумала Таня, и это открытие ее тоже не обрадовало.
– Бобка! – окликнула Таня.
Стук прекратился. Но Бобка посмотрел не на Таню, а в Шуркину тарелку (та ответила чисто вылизанным донцем), потом в Танину и только потом – на сестру:
– Танечка, ты что – не хочешь больше?
Тетя Вера внезапно опустила свою тарелку на пол:
– Бублик!
Она еще не договорила, а тот уже чавкал, облизывая кашу со своих коротеньких собачьих усов.
– Я что-то не голодна, – объяснила тетя Вера, увидев Танин взгляд.
Таня в ответ лишь пожала плечами и наклонилась над тарелкой.
Тетя Вера вдруг заметила и Танино красное ухо, и длинную царапину у Шурки на щеке.
– Вы что, подрались? Опять?
– Нет, – ответила Таня.
– Шурка, – приказала тетя Вера, – а ну выкладывай.
Таня повернула к нему лицо и одними губами презрительно сложила:
– Гитлер. Ябеда. Вор.
Шурка выскочил из-за стола, скатерть хлестнула его по ногам шелковой бахромой.
– Куда? – рассердилась тетя Вера. – Шурка, стой!
Шурка схватил сетку. Натянул кепку. Сунул одну ногу в ботинок, надел другой.
– Да в магазин, за хлебом!
– Сядь, – кивнула подбородком на стул тетя Вера. – Объясните мне все-таки, что тут происходит?
– Да ничего не происходит! – Шурка трепыхался, влезая в рукава куртки. – Что же это мы без хлеба сидим?
Он сдернул с вешалки ошейник с поводком. Ну а Бублика дважды приглашать не требовалось.
Глава 23
– Бублик, сидеть! – велел Шурка.
Бублик послушно подогнул зад, но передними лапами словно танцевал чечетку. Вытянул шею, высматривая Шурку внутри магазина. И кинулся навстречу, как будто Шурка отсутствовал вечность, а не десять секунд.
Шурка немного удивился, что в ближайшей булочной хлеба не оказалось.
Не было его и в соседней.
– Ну дайте тогда кирпичик, – сказал он продавщице в белом колпаке.
Но не оказалось и кирпичика.
– Ну ладно, сайки возьму… И саек нет?! Ну хоть калач тогда дайте.
И калачей, однако, не было.
– А хала?
Продавщица покачала головой.
В булочной на канале Грибоедова тоже было пусто.
Да что за невезение такое! Вот вдруг прямо сейчас вообще никакого хлеба! Пришлось бежать в самую дальнюю булочную.
– А что есть? – крикнул он продавцу.
Тот отнял газету – показал усатое старенькое лицо.
– Побыстрее, пожалуйста! – не выдержал Шурка.
Продавец сбросил на грудь очки – они повисли на шнурке. Отложил газету.
– Пряники остались. Бери пряники, мальчик, – подсказал он. И взял большой совок. – Последние. Бери все. Советую. Мама тебя похвалит.
И тотчас выхватил деньги и хлебные карточки. Видно, ему не терпится снова засесть за прилавок с вечерней газетой и уже не отвлекаться, сердито подумал Шурка.
– А-а-а… Э-э-э…
Он хотел сказать: эй, отдайте деньги и карточки!
Продавец ткнул ему в руки коричневый кулек. Пустые полки скалились.
– Я…
Но продавец ушел в подсобку, на ходу сдирая белые нарукавники. Продавать все равно было уже нечего.
Шурка прошел несколько кварталов. Пряники превратились в камни.
Еще через несколько кварталов камни сделались раскаленными.
Прохожие шли мимо с хмурыми лицами – они явно не знали, что такое настоящая беда. Проклятый сверток оттягивал Шурке руки. Бублик бежал весело, закинув хвост кольцом на спину: из-под хвоста розовый глазок, казалось, издевательски смотрел на плетущегося позади Шурку.
– Бублик, стой! – окликнул Шурка. Сел на корточки. – Выручай.
Идти с пряниками домой нечего было и думать. «Помог, нечего сказать», – фыркнул в голове Танин голос.
Шурка прямо в авоське развернул пакет. Разломил пряник:
– Друг, ешь!
Бублик деликатно взял зубами кусок пряника. Сделал вид, что нечаянно выронил на асфальт. Виновато покачал кольцом хвоста и посмотрел на Шурку: мол, я бы рад, но…
– Эх ты…
Шурка запихнул вторую половинку пряника себе в рот, стал жевать. Рот сразу заполнился чем-то клейким; масса заползла под губы, за десны, обволокла зубы.
«Ты лучше, Шурка, признавайся, куда деньги дел», – встрял голос тети Веры. «Отобрали», – нашелся он (и это, кстати, было правдой). «Кто отобрал?» – не отставала воображаемая тетя Вера. Но придумать Шурка не успел.
– Мальчик!
Бублик от неожиданности подпрыгнул всеми четырьмя лапами – и залаял, поперхнулся собственным голосом. К ним бежала женщина в пиджаке и косынке. Пустая авоська реяла за ней.
– Не бойтесь, он добрый, – Шурка придержал Бублика за ошейник. – Он сам вас боится.
Но женщине было не до того. Глаза у нее горели.
– Мальчик! – бросилась она к Шурке. – Пряники! Где взял?
На «взял» Шурка обиделся, но через секунду понял: она имела в виду не украл, а нашел и купил. Все из-за Таньки с этим мишкой – украл да украл… Шурка махнул рукой. «Только там уже ничего нет», – хотел сказать он. Он хотел сказать: «Возьмите мои». Но женщина уже умчалась.
Шурка зажмурился. Выдохнул. Решительно подошел к урне и сунул в нее пакет с пряниками.
Глава 24
Бобка все зудел, как комар:
– Ну почему немцы такие злые? Что мы им сделали?
Таня дернула Бобку за руку, и он умолк. Никто, впрочем, не обернулся. Лица у всех в очереди были отсутствующие. Будто люди поставили сюда свои оболочки, а сами были далеко-далеко. Будто спали с открытыми глазами.
В искусстве стоять в очереди это было самым важным: не думать. Тогда время шло незаметно.
Таня смотрела на них и завидовала: ей никогда не удавалось вот так уснуть. Она стояла и, как назло, думала. О разном. О маме и папе. О тете Вере и дяде Яше. О том, что одних людей легко любить, а других – очень трудно; тетю Веру, например, любить было трудно. Думала о соседях. О Шурке, о Бобке. О Евгении Онегине. О том, что надо как-то найти эту мишкину хозяйку – Мурочку, извиниться и все исправить. О том, что лица у людей стали похожими – треугольными. Но вот о том, что с ними со всеми будет, – никогда.
Немцы были в городе, но по-прежнему только в небе. Их бомбы падали с неба, их снаряды пролетали по улицам и площадям, вгрызались в дома, рвали на части трамваи и людей. Немцы были в пригородах – в Пушкине, Петергофе, Гатчине. Они были вокруг. Но в сам город не входили – непонятно почему.
Бобка устал зудеть, отошел и присел на поребрик, ловко подвернув под себя полу пальто. Таня сама бы села, но боялась, что тогда ее вытолкнут из очереди.
С самого сентября еда словно играла с ними в догонялки. Сначала убежало мясо, и больше его не видели. Потом утекло куда-то молоко – больше его не пили. За ним укатились яйца. Потом картошка – вместе с капустой, морковкой и яблоками. Видно, теперь они росли только в Австралии или Африке, потому что не подавали о себе вестей. Женщины с пустыми авоськами напрасно рыскали по улицам, высматривая добычу. В витринах магазинов не было ничего, кроме мешков с песком – от подоконника до потолка.
Немцы не пускали в Ленинград еду. И никого не выпускали из Ленинграда. Только хлеб еще как-то умудрялся пробраться в город.
Очереди в булочные выстраивались затемно, длиннющие. Злые, тесные, толкучие. И постоянно сосало в животе. Не только у Тани; «инфекция», – все время жаловалась соседка, которая боялась микробов.
…Внезапно очередь как-то вся разом проснулась, заворочалась. «Как кончился?», «Безобразие!» – волнами ходило по ней. Бобке пару раз заехали по лицу краем пальто.
– Что, хлеб кончился? – тянула шею Таня.
На порог вышла продавщица в нечистых нарукавниках. Лицо у нее тоже было сероватым.
– Расходитесь! Кончился хлеб! – пронзительно крикнула она голосом человека, который не умеет кричать громко.
– Нам не продадут хлеб? – уточнил Бобка.
– Наверное, нет, – Таня опять взяла его за руку.
Поначалу люди не очень верили. Но потихоньку очередь начала осыпаться и постепенно растворилась. Теперь просто пешеходы текли мимо пустой булочной. Запереть ее совсем продавщица не могла: на двери краской были выведены часы работы.
– Ну почему немцы такие злые? – опять зазудел Бобка.
– Утром придем пораньше, – заверила его Таня.
Наутро она пришла к булочной одна и в семь часов. Но очередь уже растянулась вдоль улицы. В десять ноги превратились в две тумбы. В одиннадцать Таню сменил Шурка. И только после полудня он пришел домой с кирпичиком хлеба.
На следующий день Таня пришла к пяти, но очередь словно заранее угадала и этот ее маневр – уже стояла и была длиннее, чем вчера.
В висках звенело. Казалось, на улице глухая ночь. Дома выглядели вырезанными из черного картона. Хотелось плакать.
– Таня! – послышалось ей.
Она вгляделась в темноту. В темной шершавой массе белело единственное лицо – кто-то обернулся и призывно махал рукой.
Таня подошла. Две ноздри казались черными глазками, треугольные брови обещали: «Ну я вам покажу!» А ей еще что надо? – отпрянула Таня.
– Отлезь! Руки убери! Я ей занимала! – гавкала соседка.
Рядом шипели, ворчали, но, оценив ее ноздри и треугольные брови, понимали: проще махнуть рукой.
– Вставай вперед меня, – велела соседка.
Таня подняла глаза: ноздри, казалось, смотрели на нее, а сама соседка – вперед, на дверь булочной, где очередь сгущалась. Ничего больше она не сказала. Ничего не сказала и Таня. Время поползло. Сначала в темноте, потом под серым мутным стеклом, лишь отдаленно напоминавшим небо.
Светлело. Люди стояли хмурые, невыспавшиеся. И наконец солнце прорвалось. Крыши домов порозовели, зазолотились. Солнце отыскало и показало все прямые линии, все завитки, каменные крылья и вазы. Даже лица у некоторых посветлели.
Но голова была тупая, сонная, слабая, будто наполненная сырым песком. И мысль увязла в этом песке.
Таня вынула книгу.
– Чего это? – удивилась соседка, заглядывая ноздрями ей через плечо. – Читать здесь собралась?
И правда. Напирали спереди, напирали сзади. Словно боялись упустить лишний сантиметр. Таня зажала книгу под мышкой. «Крыши… солнце… лица», – попробовала она вернуться и выудить мысль, но лишь тупо смотрела перед собой. Время капало, как кисель. Ноги стыли. Но дверь булочной теперь маячила совсем близко.
Дом на другой стороне улицы Таня уже знала до последнего потека на штукатурке. Очередь сделала несколько шажков. Теперь Таня изучала фонарный столб: металлические репродукторы на нем напоминали соцветие колокольчиков. «Радио… Тоже что-то важное», – опять принялась думать Таня, но как ни старалась, а только загребала тяжелый мокрый песок, в котором тонули мысли. Думать больше не получалось.
Очередь опять задвигалась: каждый выигранный шаг пробегал по ней от головы к хвосту.
Внезапно в воздухе зашелестело. И – ба-а-бах! Бам! Бам!
Репродукторы молчали. Они выли только при бомбежке: самолеты еще можно было заметить с воздуха заранее. Немецкие пушки всегда заставали город врасплох.
– На Староневский кладет, – прислушавшись, сказал кто-то.
– Вот гады! Специально ждут, когда народ на работу пойдет. Чтобы побольше уложить, значит.
Таня представила: вот стоит немец, закладывает в пушку снаряд. Пускает. Надеется, что убьет и покалечит, да побольше. Безоружных людей, которых он даже не знает! Но опять не успела додумать мысль до конца.
– Немец, – пожал плечами мужчина в кепке впереди Тани. – Он любит распорядок. С восьми до девяти – значит, бьет ровно с восьми до девяти.
– Вы их как будто хвалите? – быстро и зло осведомился голос еще дальше.
Передний что-то залепетал, оправдываясь.
– Это диверсанты им сигналы подают, – вдруг громко сказала за Таней соседка. – В доме рядом с нами, говорят, сами видели: фонариком кто-то с крыши мигал. Милиция сразу приехала.
Очередь зашумела.
– Твари! Сволочи!..
– Посадить их всех!..
– Мало их корчевали, врагов этих…
Внезапно шелест сменился свистом. Все смолкли. Сжались. Таня съежилась. Почувствовала, как соседка трясется мелкой дрожью. Свист означал одно: квадрат обстрела переместился к ним. Трамвай на улице немедленно остановился, из него побежали прочь люди. По пустому вагону быстро шла кондуктор, одной рукой хватаясь за свисающие кожаные петли, а другой придерживая ожерелье с катушками билетов на груди. Выскочила и бросилась в арку ближайшего дома – так древний человек бежал от опасности в пещеры.
Бах! Снаряд упал над аркой дома поодаль. Охнуло облако пыли, брызнули стекла, щебенка, посыпались кирпичи.
Бах! Дом на другой стороне выплюнул стекла всеми верхними этажами. Женщина в косынке вскрикнула, толкнула девушку перед собой, оттоптала ноги старику, стоявшему за ней, тот наступил на ноги мужчине в кепке, а он – Тане; она чуть не упала, но лишь заехала локтем соседке в мягкий живот.
Бах! Трамвай превратился в смятую металлическую коробку. Завалившись на бок, показывал четыре железных колеса.
Женщина в беретике не выдержала – выскочила из очереди и рванула в подворотню: там в полумраке белели лица тех, кто уже спрятался.
Ноги вопили Тане: беги! Дернулись. Но тут свист прекратился. Квадрат обстрела опять сместился. Видно, тот в кепке был прав: обстреливали аккуратно, старались ничего не упустить.
Во рту у Тани было суше, чем в пустыне Сахаре, даже язык, казалось, из песка.
Женщина в беретике выбралась из подворотни, затрусила к очереди, нашла свое место. Но никто не подвинулся.
– Вы тут не стояли.
– Я стояла!
– Не стояли.
Она попробовала пустить в ход руки. Очередь качнулась. Тане опять отдавили ноги.
– Товарищи!
– Нечего было бегать туда-сюда.
Пожарная машина уже примчалась; раскатывали серый шланг и глядели на оранжевое пламя, дыбом стоявшее на верхних этажах раненого дома. Валил черный дым.
Женщина в беретике кинулась на абордаж. Ее быстро вытолкнули. Беретик свалился на тротуар.
– Так все будут бегать куда хотят!
Несчастная отряхивала берет, губы у нее тряслись, на волосах была пыль, отчего они казались седоватыми.
– А потом ведь скажут, что ленинградцы мужественно стояли под обстрелами, – еле слышно пробормотал мужчина в кепке. Увидел Танины глаза. Осекся.
– Ленинград не сдается! – громко и бодро сказал он.
Таня сделала вид, что не расслышала. И спохватилась, что книги у нее в руках больше нет. Наверно, выронила при обстреле.
– Обломает зубы фашист-то, – более естественным голосом добавил кто-то. – Вон сколько крупных городов обложил. Ленинград, Киев, Севастополь.
– Киев стоит, и мы выстоим.
– Подавится немец. Не возьмет, – согласились в очереди.
Книга была чужая. Таня принялась вертеть головой. Наклонилась. Ноги стояли темным лесом.
Две тяжелые теплые ладони легли ей на плечи.
– Ничего-ничего, – кивнула ноздрями соседка. – Главное, сама цела.
В ее голосе звучало сочувствие. Лицо было обычным, свирепым, «ну я вам покажу!», а ладони ласково подтолкнули Таню в спину.
Таня переступила порог. Внутри булочной очередь была тесной и душной, но двигалась куда быстрее – оттого, вероятно, что уже видны были и длинный прилавок, и весы с прыгающей стрелкой, и продавщица в нарукавниках, и железная спица, на которую она накалывала карточки, другой рукой принимая карточку у следующего. Тускло блестело лезвие ножа, делившего кирпичики хлеба. Все смотрели на весы. Таня подала деньги и карточки. Стрелка закачалась, остановилась.
– Стойте. Вы, наверно, ошиблись, – показала на стрелку Таня.
И хотя сказала она это спокойным голосом, руки продавщицы замерли, а щеки налились, как спелая свекла.
– Ошиблась?! Ты в чем это меня обвиняешь? Ты что это клевещешь на меня?! – заорала она.
– Здесь только восемьсот грамм.
– Что такое?.. Что украли?.. Кто украл?.. – тотчас заволновались люди.
– Девочка, норму хлеба изменили, – громко сказала позади соседка, как будто вообще не была с Таней знакома. – Ты что, не знала? Мама тебе не сказала? С сегодняшнего дня изменили. Бери хлеб и уходи.
– Сама не знает, а на людей клевещет! – орала продавщица.
– Уходи, ну! – подтолкнула Таню соседка, делая незнакомое лицо.
– Все стоят!.. Болтает тут! Антисоветскую панику распускает!.. Можно подумать, у нас времени вагон!.. Дурью мается, а мы жди!.. – зашумело, заплескалось о стены.
Таня схватила кусок хлеба и выскочила, не успев сказать соседке спасибо. Переложила хлеб в сумку. Не верилось, что это им на весь день. Сумка казалась пустой.
Ее провожали завистливыми взглядами, будто надеялись прожечь дыру.
Таня перебежала, обходя щебенку и куски стекла, на другую сторону. Свернула. Остановилась. Ноги были ватными, плечи были ватными. А голову будто заложили мешками с песком, как витрину. Она невероятно устала. Хотелось сесть. А лучше лечь. Странно, вроде и не делала ничего особенного…
Посмотрела вверх. От низких набрякших туч город сделался каким-то плоским. Но дождя не было. Дышалось не широко, как обычно, а тяжело.
Таня отщипнула кусочек. Положила в рот. Она не ела – она рассасывала хлеб как конфету.
Дышать стало легче. «Там все равно и моя порция тоже», – отмела все сомнения Таня. И быстро отщипнула еще и еще.
Стало совсем хорошо. В голове уже не было тяжелого песка.
Глава 25
Таня вынула из кармана голубую ленточку, еще раз прочла вышитый адрес.
Этот район она не проверяла. Может, здесь кто-нибудь знает? Поодаль стоял газетный киоск.
– Не знаю такой улицы, – буркнули в ответ из-за прилавка.
– Миллионная улица, – громче повторила Таня.
Газеты, висевшие на шнуре, лежавшие на прилавке, набухли от сырости. А может, от слез: в них были новости с фронта. Танины глаза невольно остановились на мелкой ряби буковок.
– Или покупай газету, или уходи, – неприветливо прикрикнула киоскерша. – Миллионную улицу она ищет, как же. Знаю я вас, жуликов.
Таня отошла.
Киоскерше, видно, лень было отвечать. А может, она тоже устала и хотела есть.
Пальцы занемели, будто в сетке было не восемьсот грамм, а восемь кило.
Из репродукторов медленно тикало. Казалось, они репетировали новый звук дождя, военный, вместо мирного «кап-кап». Прохожие шли мимо, угрюмо глядя на тротуар. Прислушивались, не тикает ли быстрее. Быстрое тиканье обычно перерастало в сирену воздушной тревоги.
Прохожих было мало, и все – озабоченные, хмурые. Таня выискивала лицо посимпатичнее. И опять поразилась: все лица какие-то треугольные, носатые.
– Товарищ!
Девушка тотчас остановилась, придерживая на боку сумку защитного цвета – в белом кружке красный крест. Из-под беретика весело топорщились черные кудри.
– Миллионная? – недоуменно наклонила кудри санитарка. – Не слыхала. Наверно, в другом районе. В новом.
– Почему?
– Ну, наверно, это по поэме Маяковского «Сто пятьдесят миллионов». Стихи советские. Значит, и район новый.
На этот раз появилась хотя бы версия.
Этой девушке объяснять было не лень. Только нечего, к сожалению.
– Что-то никто не знает, – пробормотала Таня.
Кудрявая только рукой махнула.
– Знаешь, девочка, тут все теперь перемешалось. Кто в эвакуацию уехал, кто в Ленинград эвакуировался из других мест. Дом разбомбят – жильцов переселяют. Они и сами небось не знают, где что. Лучше бы тебе, конечно, встретить того, кто прямо на этой Миллионной живет.
И, прижав сумку локтем, быстро побежала дальше.
– Хорошенькое дело – встретить. И в каком новом районе? – вслух думала Таня, машинально шагая вдоль домов.
Каменные лица невидяще смотрели перед собой. От влаги они казались больными.
– Простите! – подалась вперед Таня.
Женщина была немолодая. Седые пряди выбились из-под шапочки. Почему-то она несла в руках подушку.
– А вы не знаете, где улица Миллионная? Может, в новом районе, не знаете?
Женщина с подушкой уставилась на Таню, словно та спросила по-китайски.
– Такой улицы больше нет, – наконец сказала она.
– Разбомбили?
Прохожие рядом подняли подбородки. Женщина почему-то ужасно перепугалась:
– Ничего подобного. Ленинград осажден, но не сдается. Киев держится, и мы продержимся. Доблестные защитники города сдерживают натиск врага, – залопотала она, будто вслух читала газету. Прижала к себе подушку и поспешила прочь.
Дура какая-то, подумала Таня. Больше нет, но не бомбили. Это как? Ну вот зачем взрослая женщина плетет чепуху?
Таня еще раз вынула ленточку. Нет, все верно. Написано почему-то с одной иностранной буквой, но ясно: «Миллiонная ул.» Но почему-то никто не знает Миллионной улицы.
Прохожие брели, глядя себе под ноги. Никого спрашивать не хотелось.
– Где же ты, Мурочка? Где тебя искать? – спросила Таня саму себя.
На перекрестке она свернула. Тротуар и мостовая здесь были мокрыми. Дождя же вроде не было, удивилась Таня. Торчал зазубренный угол дома: сюда недавно ударил снаряд. Дворничиха в фартуке складывала на тележку куски битого стекла. Таня обрадовалась: уж дворники-то знают все!
Дворничиха собрала крупные прозрачные зубья, остальное смела метлой на совок. Потом взялась за шланг, направила его на асфальт. Вода побежала, понесла прочь красноватую пену. Таня примерзла к тротуару.
У самой стены лежала женщина. Ноги в носочках и сандалиях были вывернуты, как у куклы, руки поджаты под животом. Рядом валялся хлеб в авоське.
На землю опустились носилки. Санитарки были в самых обычных платьях, разве что с повязкой на руке. Таня узнала кудрявую девушку. Та взялась за ноги, другая – за плечи. Перенесли тело на носилки. Секунду-другую санитарки озадаченно смотрели на хлеб. Положили и его. Взялись за ручки носилок.
– Иди отсюда, девочка. Нечего таращиться, – прикрикнула санитарка на Таню. И кудрявая тоже сердито отвернулась.
Глава 26
– Да знаю я, какие вы им родственнички, Парамоновым-то.
Хрясь!
Шурка вздрогнул. То ли от звука, после которого полено раскололось надвое, показав сухую чистейшую изнанку. То ли оттого, что соседка с раздутыми ноздрями их так быстро вычислила.
– Глухая я, что ли, не слышу, как вы разговариваете? Культурно. Книжки читаете, – спокойно добавила та, подобрав длинные дольки полена.
Кухня была пуста. По лицу соседки было не понять, рада она своему открытию или нет.
– И зачем вас Парамоновы к себе вселили, тоже вижу. Не слепая.
– Нас разбомбило, – ответил Шурка.
– Ха! – махнула топором соседка.
Хрясь! И Шурка опять невольно вздрогнул.
– Вещи свои сторожить она вас сюда посадила. Добра нахапали – с собой не утащить. А как война кончится, они вас отсюда пинком.
– Это может быть, – спокойно согласился Шурка.
Соседка бросила на него странный взгляд. Поставила следующее полено. Но не тюкнула.
– Кого взяли-то у вас? Мамашу? Папашу?
Шурка вскинул на нее глаза. Голос был грубым, но в нем Шурка услышал нечто такое, из-за чего едва слышно ответил:
– Обоих.
Соседка, видно, все знала про Ворона. Хоть и говорила о нем безлично – «они», «взяли». Она покачала головой.
– Мама и папа ни в чем не виноваты, – быстро добавил Шурка.
Соседка не сказала: «Докажи». Не сказала: «Может быть». Она не сказала: «Наверное». Она не сказала: «Врешь». Она кивнула:
– Бывает.
Как говорят «идет снег» или «светит солнце».
– У меня вот так братца прихватили, – так же спокойно продолжала она.
Взяла новое полено, приладила: хрясь!
И Шурка снова вздрогнул.
– Может, виноват он в чем. А может, нет. Может, языком где трепал. Я ему не сторож. – И пояснила: – Время такое.
– Это какое же? – Шурке на миг захотелось треснуть ее поленом.
Соседка посмотрела.
– Я это… человек советский. Я понимаю. Оно как? Шпионов настоящих и врагов народа полно. А сейчас они и вовсе головы подняли. И хватать их надо. Все правильно. Лучше по ошибке схватить, чем по ошибке не схватить. Знаешь, как в поговорке? Лес рубят – щепки летят.
В ее словах был какой-то свой поразительный смысл.
Сама соседка рубила ловко: ни малейшей щепочки не отскакивало, как будто поленья уже заранее были разделены на четыре равных сектора, оставалось только хорошенько по ним…
Тюк!
– Да что ты подскакиваешь все? Тоже мне, будущий боец, – засмеялась соседка. – Вот дети-то нынче. Дикие. Только книжки читать и умеют. Меня Маня, кстати, звать.
– А по отчеству?
Соседка улыбнулась, опять показав дырочку между передними зубами, и вдруг всунула наколотые дрова Шурке в руки.
– На вот, снеси к себе. По отчеству… – повторила она. Ее это, видно, насмешило – к именованию по отчеству она не привыкла. – Старуха я тебе, что ли, какая. Маня и есть.
Шурка вспомнил, как тетя Вера пыталась занять кастрюлю, и другая соседка, с красным лицом, тогда сказала: «Бесплатно только кошки родют».
– У нас нет денег.
– Чего? – удивилась Маня. – Ты это… Война же. Помогать друг другу надо.
Он хотел сказать ей тоже что-нибудь хорошее. Но Маня уже отвернулась. Хрясь!
Ее ноздри больше не казались Шурке такими уж раздутыми, а постоянно поднятые брови – возбужденно-принципиальными. Лицо как лицо – обычное, усталое.
Он чуть пихнул расползающиеся шершавые дрова коленом, поправил. Обнял потуже.
– Я вам тоже очередь займу, – пробормотал Шурка.
Маня кивнула. Снова занесла топор – и вдруг остановилась.
– Ты того, Шурка, не боись. Война – она во всем разберется. Кто настоящий враг, а кто свой. Война все покажет. И невиноватых выпустят.
В коридоре застучали шаги. Захлопали двери. Заплескались голоса.
Шурка с дровами в обнимку юркнул в коридор. Высунулась из кухни Маня.
– Иди! Иди скорее! – позвала его издали Таня.
Все уже стояли в коридоре. Соседка в очках, соседка в одном ботинке (другая нога была переобута в домашний тапок), соседка с неандертальским лбом, соседка, похожая на тумбочку, сосед в тюбетейке, сосед с рыжими усами, седая соседка, соседка с веселыми глазами, соседка в очках, соседка с косой-колбасой, Маня – все.
Шурка подумал, что, пожалуй, впервые видит всех соседей одновременно. Не хватало только тети Веры и старика, который жил в конце коридора.
Слышно было, как за окнами тихонько стрекочет дождь.
– А что такое? – спросил Шурка.
– Тише!
Соседи стояли в коридоре, задрав подбородки. Черная тарелка репродуктора смотрела на них мрачно.
– После долгих и продолжительных боев… – и после многозначительной паузы тем же безжизненным мужским голосом завершила: – Наши войска оставили Киев.
Глава 27
– Ну попей еще воды, – опять предложила Таня.
– Я попил.
– Хорошо.
Таня уже знала, какие доски в коридоре скрипят, а какие – нет, и ступала только на беззвучные.
– Бобка, не ходи за мной! – шепотом приказала она.
– У меня все равно живот болит, – опять пожаловался Бобка.
– Где?
Бобка показал.
Опять там же. Похоже, не врет.
– Ну подожди здесь, в коридоре. Я быстро, – велела Таня.
Бобка послушно сел на сундук у стены. Но не унялся.
– Вот бы залезть и достать грушу.
– Какую грушу? – обернулась Таня.
– Над нашей кроватью. И булку. Я бы ее тоже съел.
Таня не нашла что сказать.
Булка и груши на картине и правда были такими, что Таня старалась лишний раз на них не смотреть: от одного взгляда груша, казалось, могла треснуть и пустить сладкий сок. Она сглотнула – и тихонько постучала в дверь.
– А кто здесь живет? – подал голос Бобка.
Таня послушала: шагов за дверью не было слышно.
– Фарфоровый старичок? – предположил Бобка.
– Какой? – обернулась сестра.
А потом сообразила. Розовенький, с голубыми глазами, белыми усами и бородкой, с хрупкими осторожными движениями, сосед действительно казался фарфоровым. Это его книжку она потеряла в очереди.
– Да, – ответила она. – Колпаков.
Пышные седые усы гармонировали с расчесанной надвое бородкой и с густыми бровями. Старичок всегда ходил в кепке, и Тане всякий раз мучительно хотелось и ее расчесать надвое – для полной симметрии. Работал он сапожником, будка его была на улице Некрасова.
– Мы к нему уже стучались, – напомнил Бобка. – Вчера.
– Верно. Но, может, он уже пришел с тех пор.
Бобка кивнул.
Однако за дверью была тишина.
«Если меня дома нет, то заходи бери сама. Читай на здоровье», – так сказал сосед. Сам ей сказал.
– У меня живот болит, – опять напомнил Бобка.
Таня на всякий случай постучала еще раз. А потом нажала дверную ручку.
– Я с тобой!
– С сундука ни шагу, – велела Таня.
И вошла.
Здесь тоже, как у Парамоновых, бежал по потолку бордюр из цветов и листьев. И тоже с разбега утыкался в стену к соседям. Облезлые обои отслаивались. Кособоко приподнимал одну ногу стол. Валялись куски кожи, гвозди, какие-то инструменты, промасленные тряпки. Книжки стояли, лежали, громоздились стопками – на полу, на подоконнике, на столе, на узенькой кушетке. Кушетка показалась Тане знакомой.
– Вот бы в это окошко залезть, – сообщил за ее спиной Бобка и показал пальцем. – Грибов пособирать или ягод.
На картине был лес. В беспорядке комнаты картина и правда напоминала окно, через которое виднелись еловые лапы и поляна.
– Лучше грибов, – рассуждал Бобка. – Тетя Вера сварила бы из них суп. И мы бы его съели.
– Иди на сундук, кому велено! Жди меня там.
Танин взгляд упал на толстый томик, лежавший на полу ближе всего: «Война и миръ». А твердый знак-то зачем? Таня села на корточки. Она убедила себя, что книгу она не берет, а только смотрит одним глазком. Перевернула несколько страниц. Многочисленные точки бросались в глаза. Опять эти буквы «i»! Еще более странной была буква, похожая на перечеркнутый мягкий знак. Она тоже встречалась очень часто. А книга вроде по-русски.
– У меня живот болит, – отвлек Таню голос Бобки из коридора.
Глава 28
– Знаешь, Бобка, у меня, если честно, тоже живот болит, – признался Шурка. И не удержался: – Но я не ною.
Бобка насупился и отвернулся. В пальто, обмотанный толстым шарфом, он казался почти квадратным.
Шурка собрался было написать Тане: «Зачем Бобку притащила, дура?» Обет молчания после драки возобновился. Рука нырнула в карман за блокнотом и огрызком карандаша, да там и осталась. В кармане было теплее. Шурка подумал: не написать ли коротко – «Дура»? И решил: да ну ее вообще.
Люди в очереди поглядывали на дверной проем. Нервно топали, постукивали нога об ногу – то ли пытались согреться, то ли от нетерпения. От дыхания вырывались облачка пара.
Таня толкнула его в бок. Лицо у нее было нарочито-безразличное. Показала написанное: «Иди домой. Чего не идешь? Мы же с Бобкой тебя сменили».
Стоявшие рядом, однако, не выразили удивления. Эмоций на лицах было не больше, чем в воздушных шарах на веревочке. Шурка пожал плечами, не вынимая рук из карманов.
Таня вздохнула. Вынула из своего кошелечка хлебные карточки, отсчитала деньги, сунула Шурке. Убрала кошелечек обратно в карман. Но и после этого не ушла. Бобка тоже не просился.
Они втроем смотрели на белые хлопья, тихо опускавшиеся на серый тротуар. Вся очередь смотрела, как снег обозначает: вот крыша, вот карниз, вот подоконник. Причем не дом за домом, а во всем городе одновременно.
Вначале люди еще стряхивали снег с плеч, с головы, а потом всем надоело. Стояли, втянув головы в плечи, сгорбившись. Белые линии на карнизах, на крышах становились все толще.
– Шестнадцатое октября, а снег! Совсем очумели, – раздраженно сказал кто-то. Как будто и снегопад устроили немцы.
Шурка тянул шею. Впереди маячил вход, из него пахло хлебом и теплом. Именно поэтому не хотелось домой.
– Приве-е-етик!
Если бы по улице прошел жираф и заговорил, Шурка удивился бы меньше. Но это был Витька собственной персоной! Тощий, грязноватый.
Таня оттянула шарф с подбородка. Смерила Витьку взглядом: мол, что еще за мелкий? – и надменно отошла.
– И что же, тебя по дороге сцапали? – ехидно поинтересовался Шурка. – Или, может, прямо с передовой турнули?
Витька тоже подобрался. Тоже ощерился.
– Ну-у, – протянул он.
– Баранки гну, – передразнил Шурка.
– Я твой маневр разгадал, – плюнул Витька. – Самого турнули или сцапали. Так и признай.
– Еще чего! Никто меня не турнул!
– Недалеко же ты ушел… Сын полка.
– Да ты все спер и сбежал, а на меня киваешь!
– Чего?! Это ты спер!
– Я?! Да я пришел, а там уже пусто было!
– Это я пришел, а там пусто было!
– Погоди, Витька…
– Ага, – издевательски согласился Витька, – я понял. Решил в одиночку убежать, а потом, значит, струсил? Все наши боеприпасы разорил – и в кусты? – наседал он.
Шурка обомлел. По оскорбленному Витькиному лицу он видел, что тот не врет. Концы явно не сходились с концами. Но свести их он не успел.
– Мальчик, ты конец очереди видишь? – раздраженно поинтересовался кто-то.
– Вижу, – бросил Витька. То ли не понял намека, то ли сделал вид.
Всех как прорвало:
– Вот и ступай в конец!..
– Ишь какой умный! Стоять не желает! Так и лезет!
– Сперва одна стояла, а теперь вон уже трое встряли!..
Очередь пошла волной. Шурку толкнули в спину.
– Бобка, иди сюда, – дернула Таня брата.
– Ничего я не встрял. Больно надо, – хмыкнул Витька.
– Ты это… подождешь? – Шурка занес ногу над порогом.
Витька небрежно пожал плечами. Прислонился к стене, согнул ногу, уперся ботинком в стену, сдвинул кепку на затылок. Всем своим видом показывал, что ему начхать.
– Мы все сейчас выясним! – успел крикнуть Шурка и исчез внутри.
Очередь тут же потеряла к Витьке интерес. Лишь те, кто стоял у самой двери, посматривали на него все еще с подозрением.
– Вы Шуркин приятель? – сказала Таня, чтобы что-нибудь сказать.
Витькин кодекс чести учил не замечать девчонок. Но эта девочка, во-первых, была старшей, а во-вторых, сестрой друга. И как быть в этом сложном случае, Витька не нашелся. Дернул подбородком.
– Готово, – вынырнул Шурка.
В руках у него был кубик хлеба – сегодняшняя порция для всех четверых. Шурка протянул Тане оставшиеся карточки и стал запихивать хлеб в сетку. Таня щелкнула кошелечком и увидела, как глаза у Витьки остекленели. Он весь напрягся, быстрее, чем Таня успела сообразить, цапнул кусок хлеба, толкнул Шурку в грудь. Таня прыгнула наперерез. Витька ринулся прочь. Опрокинул Бобку. Врезался в Таню. Она ухватила его за куртку. Получила локтем в подбородок, зубы клацнули. Витька лягнул ее, высвободился, толкнул, Таня попятилась, села в мокрый снег. Шурка бросился в погоню.
Снег чавкал под ногами. Пустая сетка хлестала по боку. Витькины щеки ходили ходуном. Шурка все понял: Витька жевал на бегу. Погоня потеряла смысл.
Шурка перешел на шаг. Отстал. Желтовато-серые мокрые дома, казалось, опадали и вздымались в такт дыханию. Колени тряслись. Есть хотелось еще сильнее.
На трясущихся ногах Шурка вернулся к булочной.
– Таня, ты что?
Таня ползала на четвереньках у самого угла, шарила в мокром снегу. Ее пальцы оставляли серые полосы.
Крепко закутанный Бобка не мог наклониться и только спрашивал:
– Нашла? Нашла? Нашла?
– Шурка…
Обет молчания отменился сам собой.
– Таня, вставай, – перепугался он.
Поодаль все так же чернела очередь.
– Не хочу опять стоять, – захныкал Бобка. – У меня живот болит.
Таня поднялась. На коленях чернели мокрые пятна; она оттянула рейтузы, попробовала выжать, бросила.
– Не волнуйся, Бобка, стоять нам не нужно. Карточек у нас все равно нет. – И выразительно посмотрела на Шурку. – Угостили мальчика Витю, Шуриного друга.
Тон у нее был убийственно-спокойный.
Шурка хотел возразить: «Никакой он мне не друг». Но почему-то не смог.
Глава 29
– Завтра хлеб купим, Бобка, – пробормотал Шурка. – Идем.
И они пошли.
– Это вряд ли, – тихо откликнулась Таня. – В кошельке, Бобка, который мы потеряли, карточки на весь месяц были.
Шурка насупился: нечестно бить лежачего.
Таня тоже это поняла:
– Ладно. Тетя Вера придумает что-нибудь.
Бобка обрадовался:
– Хорошо. Ну их! Надоело уже в очередях стоять.
Ему очень нравилось держать сестру за правую руку, а брата – за левую.
Таня и Шурка молчали. Оба думали о тете Вере, ее бидончиках с кашей или супом, о том, что придет она поздно. А живот болел сейчас. Бобка смотрел на черные цепочки следов: снег был слабенький.
– Две недели, Бобка, это ерунда! – Шурка постарался придать голосу бодрость.
В животе ныло.
– Пятнадцать дней.
– Чего? – протянул Шурка.
– В октябре тридцать один день, – сухо отозвалась Таня, и тотчас Бобку дернули за руку назад, а Бобка ее отдернул.
– Шурка, ты чего встал? – обернулась Таня.
На стене висел плакат. Он не изображал фашиста в виде клыкастой обезьяны в рогатой каске. Он не изображал женщину в косынке, с мускулистой рукой и сдвинутыми бровями, позади которой торчали штыки и красные знамена. Ничего этого на плакате не было. Казалось, его просто забыли снять еще с того невероятного времени – «до войны».
Тихо падал снежок. Таня тоже смотрела как зачарованная. Даже перестал выть и скрестись живот.
Уже начало темнеть, и плакат от этого казался голубым. Зеленоватый парень в кепке как будто утонул в море, но светился улыбкой. Рояль можно было принять за черный плавник акулы. Фиолетовые губы то ли смеялись, то ли пели. Плакат звал в кино.
– А деньги в кошельке тоже были? – дипломатично спросил Бобка. Он старался не выказывать особой надежды.
Таня и Шурка, покрепче ухватив рукавички, подхватили его с обеих сторон. Протопали мимо главного входа. Раньше он был стеклянным, теперь его для надежности забили досками, но оттуда дышало теплом: кинотеатр был жив!
– А билеты? Мы что, без билетов? – напоминал Бобка, еле успевая оставлять на мокром голубом снегу темно-синие отпечатки.
Таня и Шурка быстро прошли дворами, обогнули здание кинотеатра. Высокие черные двери выпускали публику после сеанса.
Шурка осторожно отжал дверь. Она поддалась. В мирное время пришлось бы держать ухо востро: на щелку света тут же бы прилетели билетерши. Но теперь, из-за военного затемнения, улица сама была готова поспорить с кинозалом, чья чернота гуще.
Все трое просочились внутрь. Отогнули тяжелую портьеру. Зал был заполнен дрожащим бледным светом. Чернели головы – в платках, шляпках, фуражках, кепках, с косами и коротко стриженные. Фильм уже начался. Таня, Шурка и Бобка неслышно вдавились на свободные места.
На натянутой простыне люди бегали в летнем, у мужчин рукава рубашек были закатаны до локтей. Они шагали, бегали, танцевали. Никто не вжимал голову в плечи.
Бобка чему-то засмеялся. Он тоже забыл, что у него болит живот, и следил за приключениями веселого шофера, который распевал песни своим пассажирам. На экране булькала и брызгала музыка.
Шурка скосил глаза. Таня терпеливо смотрела на экран. Не улыбалась, не хмурилась.
Рядом кто-то зашуршал бумажкой. Засопел. Зачавкал. Бобка принялся крутить головой. Шурка обернулся: темно. В темноте он почувствовал запах повидла. Хлеба и повидла. И пожалел, что не у всех есть тетя Вера, которая объяснит, что воспитанный человек ест беззвучно и с закрытым ртом.
– Гляди, гляди, Бобка! – он показал пальцем на экран.
Там, к счастью, не ели и не пили. Но интересного тоже было мало: репетировали оперу. Бобка нехотя повиновался.
На Танином лице лежал лунный свет от экрана.
Шурка задумался: это не Витька обчистил их фронтовой тайник. И не он сам. Тогда кто? Кроме них, о плане никто не знал.
Он вынул карандаш. Понял, что в темноте писать бессмысленно. Тихонько толкнул сестру локтем.
Танин профиль дрогнул.
– Как ты думаешь, – прошептал Шурка, – это нормально, что у нас троих… э-э-э… все время болит живот?
– Да, – коротко и просто ответила сестра. И вдруг добавила: – Не крал Витька твой железяки. Это я их забрала. Как узнала, что вы на фронт собрались, так и приняла меры. Между прочим, проследить за тобой оказалось легко.
– Как это? – вскочил Шурка. – Ты?! Откуда?!
– Ты сам мне написал. Ой, смотри… – Таня уставилась на экран.
– Кто, я?!
Он не сразу вспомнил свою записку: «Дорогая Таня! Когда ты…»
– Тише вы! – шикнули из темноты. – Мальчик, сядь! Не маячь!
– Совсем обнаглели! Людям не мешайте! – зарокотало отовсюду.
Таня дернула Шурку вниз за пальто.
Человек, который не умел есть как воспитанные люди, утер бумажкой рот, смял ее, пульнул вниз. И тотчас Бобка сорвался со стула, нашарил в темноте бумажный комок, развернул и (Шурка с мгновенной болью понял, что не забудет этого, пока будет жив, даже если проживет триста лет, как попугай) принялся ее облизывать.
Глава 30
– Совершенно незнакомый мальчик? – все не могла поверить тетя Вера. Она сидела за столом сгорбившись.
– Ага, – упорствовала Таня. На Шурку даже не глядела.
Бобка догадался, что надо говорить как сестра, и повторил:
– Совсем чужой мальчик. Большой.
Глаза у тети Веры были огромные, в темных ободках.
– Прямо вот так ниоткуда подбежал? – опять спросила тетя Вера.
Очевидно, ей требовалось время, чтобы понять: следующие две недели хлеба у них не будет. Точнее, пятнадцать дней.
Таня пожала плечами:
– Совершенно незнакомый. Подбежал и вырвал. И хлеб, и кошелек.
Шурка напрасно пытался поймать ее взгляд. Таня его не выдала. Но и мириться раздумала.
– Ну вы ротозеи, – выдохнула тетя Вера и уставилась на собственные руки.
Яркие шелковые цветы глядели на нее со скатерти во все глаза.
Шурка и Таня видели, что она расстроена.
Но тетя Вера думала вовсе не о хлебе и карточках. Она думала о том, что учила детей быть вежливыми, не драться, а договариваться, не нападать первыми, не брать чужое, делиться. Но вся ее наука, оказывается, теперь им мешала. Она годилась для мирных времен. А времена, которые наползали на город, были похожи на черный ледник. И как с этим быть – непонятно. Вернее, понятно. И это было хуже всего.
– Ладно, – сказала тетя Вера. – Что-нибудь придумаем.
Она встала. И вдруг стала снимать со стола скатерть – уголок к уголку. Хлестнули шелковые кисти. Тетя Вера убрала свернутую скатерть за пазуху, молча надела пальто, сапожки. Бублик вяло помахал хвостом: гулять? Но не удостоился и взгляда. Тетя Вера вышла.
Просто ушла.
– Нельзя же ничего здесь брать, – недоуменно заметил Бобка.
Таня хмыкнула.
– Взрослые, Бобка, устанавливают правила только для детей. Сами они их отличненько нарушают.
Мишка таращился своими разными глазами.
Шурка сел на тети-Верин стул. И даже сгорбился точно так же, как она. Он очень устал. И он кругом был виноват. Из-за хлеба и Витьки прежде всего.
– Вот бы сейчас эти груши, – сказал Бобка. Он смотрел на картину, что висела над кроватью. – Или булку.
Шурка тоже посмотрел.
– Бобка, – вдруг сказала Таня, – хочешь в прятки поиграть?
Бобка тотчас взял мишку, сжал покрепче.
– Нет.
– Шурка, а тебе? Не скучно?
– Нет, – с подозрением посмотрел на нее Шурка.
– Ты поиграть не хочешь?
– Тебе чего надо?
– Хочешь или нет?
– Во что?
Таня уставилась на Шурку своими глазищами.
– В прятки.
Тут явно был какой-то подвох. Но только что Таня вела себя как герой, ни слова не сказала про Витьку…
– Ну? – нетерпеливо дернулась она.
– Допустим, – осторожно ответил Шурка.
Таня обернулась к Бобке.
– А ты, Бобка, будешь водить.
– Я мишку не дам!
– Води вместе с мишкой, – неожиданно кротко согласилась она.
Точно подвох, понял Шурка.
– Бобка только до десяти считать умеет, – напомнил Шурка. – Лучше я буду водить.
Но Таня словно не слышала. Она присела перед Бобкой на корточки.
– Сейчас, Бобка, я тебя научу считать до пятидесяти. Или даже до ста.
Бобка смотрел на нее во все глаза: верить или нет?
Таня взяла его руку в свою.
– Считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. – И загнула пальчик. – Теперь опять считай.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, – быстро справился Бобка.
Таня загнула на Бобкиной руке еще один палец.
– Вот видишь, у тебя уже двадцать.
Бобка изумленно смотрел на два загнутых пальца: двадцать! И он только что посчитал это сам! Показал мишке. Мишка оценил.
– Теперь опять считай, – сказала Таня.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Третий палец Бобка загнул уже сам.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! – радостно выкрикивал он.
Вскоре на руке не осталось пальцев – все были сжаты в кулак.
– Вот так! Ты только что сам сосчитал до пятидесяти.
Бобка посмотрел на свой кулак. Потом на Таню. Вот это да!
– Это называется умножение, – объяснила сестра. – Ты очень умный, Бобка.
Шурка закатил глаза. Но Бобку лесть покорила окончательно. Он засмеялся, затряс кулаком. Он понял! В одном пальце был десяток! Бобка смотрел на Таню как на бога математики – с обожанием, страхом и восторгом.
– Теперь считай до ста, – велела Таня.
– Как?
Таня присела на колени, легко забрала у Бобки мишку, положила на пол, вытянула обе его ручки:
– Когда загнешь пальцы на обеих, это и будет сто. Тогда иди нас искать. Понял?
Бобка растопырил все пальцы и радостно кивнул.
– Понял. Понял! – И начал считать: – Раз! Два! Три!..
Сейчас она утащит мишку, понял Шурка.
Но Таня просто встала с колен:
– Сперва отвернись. Нельзя смотреть, куда мы прячемся.
Бобка отвернулся к окну. Он уже не боялся за мишку – Таня его будто не замечала.
– Бублик, место! – крикнула она рванувшемуся следом псу. И тихо и быстро пошла к двери.
– Теперь можно? – спросил, не оборачиваясь, Бобка.
– Да, – отозвалась Таня. – И помедленнее.
Бобка начал:
– Ра-аз… Два-а-а… Три-и-и…
– Таня, погоди, – начал Шурка.
Но сестра приложила палец к губам: тсс! А затем поманила Шурку, показала глазами: иди за мной.
Глава 31
Тетя Вера вынула из-за пазухи скатерть. Встряхнула ее, расправила шелковые цветы. В сыром сером воздухе они казались особенно яркими. Летом ими можно было бы обмануть шмелей и пчел. Но сейчас никто к этим цветам что-то не летел. Люди с авоськами озабоченно толклись по мокрому снегу, обходя тех, кто стоял с протянутыми руками и держал в руках вещи. На тетю Веру и ее скатерть никто не смотрел.
Впрочем, здесь ни на кого особо не смотрели. Вещи предлагались все какие-то домашние, неосновательные, бестолковые. Их нельзя было съесть. Ими нельзя было согреться. Напрасно их протягивали руки.
Тетя Вера медленно коченела, постукивая ногами в сапожках. Она устала. Сложила скатерть треугольником, набросила себе на плечи. И тут же услышала:
– А почем шаль?
Тетя Вера замешкалась. У женщины в ватнике глаза так и бегали.
– Я вам за платочек ваш кусок мяса дам.
Мясо детям было бы очень кстати, сообразила тетя Вера. Особенно если сварить суп.
Увидев, что тетя Вера попалась, женщина бросила:
– Отойдем.
Тетя Вера послушно отошла, сжимая руками шелковые уголки. Рядом был только забор. Тупик. Никого.
Женщина наклонилась над своим узлом. Показала.
Мясо тете Вере не понравилось.
– Свежее, – видя ее сомнения, заверила женщина.
Мясо было красным, в широких жилах. Явно свежим, это да. Просто каким-то не таким. Не таким – и все. Сердце у тети Веры ухнуло в черную дыру. Оно не могло быть ни свининой, ни говядиной, ни бараниной, ни крольчатиной. Куски были большими. Они не могли получиться из кошки или собаки. Мясо было настолько неправильным, что тетя Вера перестала дрожать. В ушах засвистел давнишний шепоток санитарок в госпитале – в дни, когда было особенно много ампутаций: «Ходят слухи, что некоторые…»
Тетя Вера передернула плечами. Пальцы сжались в кулаки.
– Я сейчас милицию позову, – тихо и внятно сказала она.
– Вы что! Вы что! – испуганно засуетилась та. – Это хорошее, честное мясо. Я клянусь…
Тетя Вера крепко схватила ее за рукав ватника. Повертела головой. Скользкая скатерть сползала, мела кистями грязный тротуар.
– Не надо милиции. Я вам клянусь… – извивалась женщина.
И тетя Вера отчаянно крикнула:
– Это кто?
И тут же поняла, что совсем не хочет услышать своими ушами, кем было это мясо.
Женщина вдруг сама вцепилась ей в рукав. Посмотрела умоляюще в самые глаза – и сказала одними губами:
– Это Бетти.
– Б-б-бе…
Тетя Вера чуть не грохнулась в обморок. И грохнулась бы, если б ее не держали.
По щекам женщины в ватнике побежали слезы.
– Наша Бетти. Слониха. Я в зоопарке работаю. Снарядом Бетти убило. А что делать? Мясо же – тонна, не меньше…
Глава 32
– Ты где ключ взяла?
– Нигде, – равнодушно сказала Таня. – Он сам разрешил книжки у него брать.
– А он где?
– Не знаю. Его уже неделю нет.
– Может, ты просто не видела?
– Его совсем нет, – с нажимом повторила Таня.
– Ой! – схватил ее за руку Шурка. – Стой!
– Что?
– А вдруг вернется? Именно сейчас.
Таня пожала плечами.
Шурка колебался. Старичок Колпаков никогда не кричал и не ругался. Но мог пересмотреть свои принципы, обнаружив у себя в комнате двух воришек.
– Мы только поглядим, – уверила его Таня. – Я тебе кое-что покажу.
– Ты что, сюда уже лазила?! – замер Шурка на пороге.
– Не хочешь – не иди, – уже изнутри отозвалась сестра.
И Шурка шагнул следом.
Ключик Таня достала из маленькой сумочки, притороченной к багажнику велосипеда. Сам велосипед висел на стене, в глубокой спячке, – ждал лета.
– Ты что?!
– У нее здесь тайник.
– Она тебе разрешила?
– Нет. Но ее тоже нет. Совсем. Уже несколько дней, – ответила сестра.
Шурка припомнил: соседки в очках и правда давно не было видно.
Когда они вышли из ее комнаты, Таня прошептала взбудораженно:
– Видел?
Шурка кивнул. В комнате соседки в очках было то же самое, что у старичка Колпакова и у Парамоновых. Та же гирлянда на потолке. И обои: у Парамоновых они были почище, у Колпакова – грязные, у соседки в очках – заклеенные открытками с артистами, но несомненно одни и те же. А главное – мебель. Диван в колпаковской комнате был замызганным, но бесспорным родственником козеток и кресел, важно попиравших паркет в комнате Парамоновых. И буфет у соседки в очках. А еще тарелки, чашки, блюдца, супница: бледные ирисы повторялись на них, как у родственников повторяются рыжие волосы или форма носа. Что в комнате Парамоновых, что у Колпакова, что у соседки в очках.
– И у других соседей наверняка то же самое, – предположила Таня, кивнув в длинный коридор.
Обои, гирлянда на потолке, посуда с ирисами и мебель с золотой полоской… Когда-то все эти вещи были одной большой семьей. А теперь они жили у разных людей. Смешались с чужими колченогими кроватями, беспородными табуретками, стульями-дворняжками, алюминиевыми мисками, оловянными ложками без всяких прикрас.
– Понял? – серьезно посмотрела Таня.
– Нет.
– И я нет…
Танины пальцы нечаянно пощекотали велосипед, убирая ключ в сумочку, но тот даже не шелохнулся.
– Вот вы где! – радостно закричал Бобка, увидев их. – Стук-стук, Таня! Стук-стук, Шурка! – и ринулся обратно в их комнату – постучать по подоконнику.
Но за ним никто не побежал.
– Должно быть какое-то простое объяснение, – предположил Шурка.
– Например? – Таня не дождалась ответа. – Вот видишь…
– У всего обычно есть простое объяснение, – изрек Шурка.
– Не уверена, – неожиданно тихо сказала Таня.
– А по-моему, все очень просто. До революции в этой квартире жили какие-то буржуи. Эксплуататоры. Их прогнали вместе со всеми буржуями и царем. А богатства раздали простым людям. Рабочим. Все поровну. По справедливости. Богатеев и эксплуататоров в Советском Союзе нет.
Об этом знал любой школьник. До революции даже имя у Ленинграда было другое.
– Это да, – слишком поспешно отозвалась Таня.
– И что же?
– Не знаю, – честно призналась она и прибавила: – Но ты, конечно, прав.
Странное чувство, однако, не прошло.
– Не знаю… – мрачно повторила Таня.
– Теперь вы водите! А я прячусь! – крикнул Бобка, высунувшись в коридор.
Шурка чувствовал, что Танина мрачность против воли переползла в него. Он вспомнил, как ему показалось, что кресла хотели столкнуть его в окно. Как холодно смотрела люстра. Фантазии! – обругал он себя. Но теперь и ему стало не по себе.
– Тань, а что, по-твоему, это значит?
Треугольное Танино лицо было обращено вглубь коридора.
– Пошли водить.
Они вернулись в комнату.
Бобка проверил, отвернулись ли они к окну.
– Раз, два… – начала Таня.
И Бобка бросился вон из комнаты.
– …Семь, восемь, девять, десять… – считала Таня.
И умолкла. Она вдруг вспомнила портрет, который видела дома у одной девчонки, у Коти. «Это твоя бабушка?» – спросила Таня про даму с портрета. – «Понятия не имею… Буржуйка какая-то». А диван был один и тот же в комнате и на портрете.
И что, там тоже прогнали буржуев и разделили все по справедливости?
– …Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…
– При буржуях было всякое, – важно объяснил Шурка.
– Например, лестница, – сказала Таня.
– А что с ней не так?
– Не знаю.
Лестница в парадной была широкая. На мраморных ступенях торчали бронзовые шашечки, по одной с краю, а между ними бронзовый прут – для ковра. Но ковра теперь не было. Лестница была грязной и пахла сыростью и мочой. Грязной – и мраморной. Вонючей – и просторной. С пышной лепниной на высоких, давно не штукатуренных потолках.
Танина мысль опять перескочила, как игла на патефонной пластинке.
– …Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять… – считала Таня одними губами. – Шурка, а если Ленинград назывался раньше иначе, значит, и улицы в нем назывались по-другому? Не по-советски?
– Ясное дело.
Значит, и улица Миллионная тоже. Она в Ленинграде была! Была – и одновременно ее не было.
Эта одновременность представлялась Тане двумя стеклянными шарами, вложенными друг в друга. Они медленно вращались, от этого кружилась голова. Тане казалось: еще одно усилие – и кусочки мозаики сложатся, она все поймет. Но от слабости она никак не могла сделать это усилие. Шары опять повернулись друг в друге. Она схватилась руками за подоконник.
– Ты чего считать перестала? – толкнул сестру в бок Шурка.
Таня посмотрела на него словно издалека.
– Не знаю, Шурка, – ответила она. – Я не знаю, что все это значит. Но мне кажется, происходит что-то нехорошее.
– Ха! – сказал Шурка. – Молодец, сделала открытие. Я тебе даже скажу, как это нехорошее называется: война!
Таня уставилась на него и смотрела так долго, что Шурка успел бы пересчитать веснушки на ее худеньком лице, а потом и коричневые крапинки в глазах.
– Не знаю, – только и повторила она.
И Шурке почему-то стало жутко. Чтобы прогнать молчание, он побыстрее вывинтил рычаг радио. Из черной тарелки загремело.
Танина рука взвилась, крутанула. Музыка оборвалась.
– Ты чего?
– А ты чего?
– Может, там последние известия.
– Последние враки, ты хотел сказать.
Шурка от этих слов просто взял себя обеими руками за щеки.
Таня смотрела в угол. Колупала пальцем желтую махристую газету под отставшими обоями.
– Враки и есть. Только и рассказывают, как нам вот-вот станет хорошо, а нам почему-то все хуже и хуже.
– Таня, ты какие-то ужасные вещи говоришь, – оторопел Шурка. – Я их даже не понимаю.
Таня пожала плечами, потом резко отодрала клочок газеты и принялась катать из него шарик.
– Я сама не понимаю, Шурка, – честно призналась она. – Знаешь, мне иногда кажется, что если я хоть раз нормально поем – полную тарелку настоящего горячего супа с ножкой, или блинчики, или хотя бы обычную кашу с маслом и сахаром, – я все сразу пойму.
Она расправила клочок газеты, который теребила в руках. Вчиталась.
– Что там?
– Я уже вообще ничего не понимаю. Как будто они все нарочно сговорились, чтобы я ничего не понимала!
И Таня показала Шурке – словно в подтверждение своих слов – обрывающиеся строчки: «Перуинъ… Для рощенiя волосъ… апрѣля 1909 года».
Глава 33
Бобка был не такой дурак, как некоторые. Нет! Он-то знал, как прятаться.
Откинул крышку большого сундука, стоявшего в коридоре, ловко забросил одну ногу, подтянулся и перевалился внутрь. Крышка стукнула по голове, он чихнул от незнакомого горького запаха и замер. Пусть ищут.
Пока все шло хорошо. Таня и Шурка небось уже сбились с ног. Не слышно было даже шагов.
Запах становился все сильнее, все глубже щекотал в ноздрях. Шаги! Бобка перестал дышать. Приник глазом к дырочке для ключа.
Но это был не Шурка. И не Таня.
Дворничиха теперь носила фартук поверх тулупа. На ногах у нее были войлочные боты, поэтому ступала она тихо. Подошла к старому велосипеду, быстрыми пальцами открыла маленькую сумочку, свисавшую с багажника: в таких велосипедисты обычно хранят карбид для фонарика и гаечный ключ для всего остального. Но вынула она не карбид, не гаечный ключ, а самый настоящий ключ. И тотчас вставила его в скважину. Хрумкнул замок. Изумленный Бобка стукнулся головой о крышку: ведь в этой комнате живет другая соседка – в круглых толстых очках, похожая на сову, а вовсе не дворничиха! Дворничиха живет в дворницкой.
И точно, она вскоре вышла из чужой комнаты. В руке у нее были розовенькие бумажки – карточки. Еще пачку таких же бумажек она вынула из кармана. Пересчитала все. Хмыкнула, довольная. Спрятала.
«Может, мы попросим карточки у нее? – подумал Бобка. – Вон у нее их сколько». Он припомнил, что дворничиха улыбалась, когда с ними знакомилась. И даже помогла отнести тете Вере сумку. Она добрая.
Дворничиха сунулась обратно в комнату и вытянула оттуда небольшой узел. Тихо заперла дверь, тихо опустила ключик на место. В узле что-то брякнуло.
Бобка дернулся, стукнулся головой о крышку, замер, – поздно.
– Ага! – заверещала дворничиха и рывком распахнула сундук.
В тот же миг Бобка почувствовал, как остервенелая сила пребольно – до слез! – тащит его за ухо наружу. Но мишку не выпустил.
– Ах ты негодник! Дрянь такая! Шпион!
Дворничиха стряхнула Бобку на пол. Снизу она казалась великаншей: Бобка видел только ноги в ботах и шерстяных чулках. И оскаленные зубы – будто клавиши пианино:
– Попробуй только вякни! Убью! – проскрипело из пасти.
Бобка икнул и даже забыл, как кричать и плакать.
И чтобы Бобка не сомневался, дворничиха так наподдала ногой мишке, что тот взмыл, шмякнулся о велосипед на стене, повалился на пол, покатился и замер. Оба глаза – один выпуклый, желтый с карим зрачком, другой – пуговица с четырьмя дырочками – смотрели на дворничиху.
И вот тут Бобка перепугался по-настоящему. В этом желтом, настоящем мишкином глазу он увидел живую злую искру.
Глава 34
– Дали?
Тетя Вера посмотрела на три пары глаз. И ответила странно:
– Почти. Бобка, допил?
Бобка посмотрел на всех из-за края кружки.
– Теперь можно и часы. Давай их сюда, Таня.
Таня протянула тете Вере ее золотые часики на тонком черном ремешке.
– Погоди. Подержи их пока.
К сгибу локтя тетя Вера прижимала клочок ваты. Рука у нее была худая, как швабра.
В приоткрытую дверь видно было, как санитарка постукивает ногтем по стеклянной трубочке. Санитарка увидела Таню, притворила дверь.
Бобка допил свой кипяток с витамином и поставил кружку на подоконник, к двум уже пустым.
Потом они все вместе долго шли по звонкому коридору госпиталя. В заклеенные окна ромбиками проходил свет. Одна рука у тети Веры была в рукаве, другая покрылась гусиной кожей.
Поверх белых халатов у многих в коридоре были накинуты пальто, кофты и даже шубки. А шаги не стучали – шаркали.
В комнате за полукруглым окошком женщина долго изучала протянутый тетей Верой талончик.
– Что-то часто вы, – сказала она. Не то с сочувствием, не то подозрительно.
– Карточки хлебные потеряла, – безразлично ответила тетя Вера.
Женщина насадила талончик на железную спицу. Подала в окошко маленький твердый прямоугольник.
Тетя Вера полезла в сумочку и обронила ватку. На полу она казалась еще белее. Шурка наклонился поднять, но тетя Вера сцапала ее быстрее. Шурка успел увидеть красно-коричневое пятнышко.
Она протянула плотный прямоугольный сверток.
– Таня, держи. Бобку домой заведете – и отнесете, как в прошлый раз, – тетя Вера опустила наконец рукав. – Ясно? Адрес помните?
Дом был на улице Марата.
Таня кивнула.
– А мне еще работать. Дома увидимся.
Тетя Вера махнула им рукой в рукаве и поплелась по коридору. Шурка поразился: казалось, бредет старушка.
– Идем, – дернула его за хлястик сестра. И старушка снова стала обычной тетей Верой.
Таня нащупала в кармане прохладный металл – тети-Верины часики. Хотела ее окликнуть, но та уже скрылась из виду в гулком, полном людей в халатах, коридоре.
Глава 35
И снова сердце начало бухать по ребрам, как только они перешли мостик через Фонтанку. Ветер хорошенько разгонялся над речкой, он отхлестал обоих по щекам. Но все равно под мышками у Шурки стало жарко-жарко.
Таня шла наклонившись вперед, придерживая берет рукой. Ее профиль не выражал ничего.
С голых деревьев ветер оборвал последние листья. Они размокли, из золотых стали коричневыми. Сотни ног втоптали их, и теперь они казались нарисованными. Деревья трясли голыми ветками.
Перешли Пять углов – так называли перекресток, куда впадали пять улиц сразу. Но углов у него осталось четыре: один снесло. Наверное, бомбой. Сердце забилось теперь уже в горле: стало видно следующий перекресток. В него впадала улица Правды. Сердце застучало в висках. Их прежний дом – дом, откуда пропали папа и мама, – глядел подслеповато. Многие окна были заделаны фанерой. Видно, досталось и ему.
В их комнатах жили теперь совсем другие люди, но Шурка невольно отыскал взглядом знакомые окна. Одно было заклеено бумажными полосками, в другом торчал кусок картона.
– Не гляди, – пробормотала Таня.
Легко сказать! Она сама смотрела во все глаза. Но за их окнами никто не показался.
Таня вела Бобку, придерживая за шарф, как собачку на поводке. Бобка топал в своих тесных ботах, глядел по сторонам, улыбался: витаминный напиток, который ему дали в госпитале, его явно приободрил. И Шурка с болью понял: а Бобка-то забыл.
Сестра словно услышала его мысли. А может, просто и сама думала о том же.
– Бобка тогда был совсем маленький. Маленькие быстро все забывают.
Шурка помолчал.
– Война все поменяет, – сказал он. – Станет ясно, где свои, а где враги.
Не будет больше никакого Ворона, кончилась его власть, думал он.
Таня молчала.
– Ты считаешь, не поменяет?
Таня не ответила. Она старательно отворачивалась, чтобы ненароком не увидеть их окна. Уже не их окна.
– А кого напрасно схватили, тех выпустят.
– Думаешь?
Они оба старательно избегали слов «папа» и «мама».
– Если уже не выпустили, – решительно ответил Шурка своему бьющемуся сердцу. – Они, может, в эту самую минуту уже едут к нам.
– Куда? – странным голосом спросила Таня.
«Неужели она больше не ждет?» – поразился Бобка. Он уже не знал, что хуже: просто забыть, как Бобка, или так.
Шли молча.
– Здесь, – Таня остановилась у парадной.
Серые тучи набухали. Дом тоже посерел, утратил цвет. Таня вынула из-за пазухи сверток.
Мерзкое чувство опять хлестнуло Шурку по щекам. Лицу стало жарко.
– Стой, Таня. Не входи.
Таня остановилась на пороге.
– Ты что?
– Давай посмотрим, что в этой посылке.
– Ой, ну что там может быть? Какие-то тети-Верины штуки. Для знакомой.
– Вот именно.
Таня убрала ногу с порога.
– Ты что имеешь в виду?
– Штуки, – выразительно повторил Шурка.
Тоненькие Танины брови прыгнули под берет:
– Ты что имеешь в виду?!
– Ты эту знакомую знаешь?
– Ты же только что сам говорил: теперь все по-другому, из-за войны.
– Да, но… Диверсанты – настоящие немецкие диверсанты – могут быть очень хитрыми. И тетю Веру обмануть они тоже могут. Сказать, например: с вами поступили несправедливо, не хотите ли…
– Ты что, серьезно?
– Я ужасно серьезен, Таня.
Мимо прошаркал прохожий в плаще. Голубь сел на провод, чуть не кувыркнулся от собственной тяжести, порхнул прочь. Тучи наконец собрались с мыслями – начал сеяться дождик.
Шурка видел, что заронил в Тане сомнение. Она не спешила шмыгнуть в подъезд. Танино пальто медленно усеивали крошечные шарики воды.
– Давай посмотрим, – настаивал Шурка.
– Не выдумывай.
Но в лице у Тани не было уверенности.
– Хорошо. Тогда давай подойдем к милиционеру, скажем, что нашли этот сверток на улице, и посмотрим, что будет.
– Никуда я не пойду!
– Вот видишь.
Таня взялась за ручку двери.
– Мы должны тетю Веру…
Таня не стала слушать, нырнула в парадную.
– …Спасти, – договорил Шурка.
– От кого?
– От них.
Вперед и вверх уходила лестница. На площадке, задрав вверх согнутые мускулистые руки, ее поддерживали два полуголых бородача, по пояс выступавшие из стены. Они – вместе со стеной – тупо были покрашены по макушку зеленой краской. Видно, здешнему управдому все равно было, забор красить, перила или статуи.
С площадки этажом выше виднелась точно такая же пара зеленых полуголых силачей. Все четверо как бы почтительно приподнимали потолок, приглашая пройти.
Таня остановилась.
– Мы потом ни за что не сложим так же аккуратно, – промямлила она. И запнулась: ей показалось, что каменный живот у нее над головой вздохнул.
Танин взгляд отскочил от стены; бородач напротив тотчас притворился, что не он только что косился в их сторону.
– Сложим, сложим! – гнул свое Шурка. – Запомним, как было, и сложим.
– Ну возьми погляди, раз тебе надо, – сдалась Таня.
Ей почему-то хотелось поскорей отсюда выйти.
Шурка осторожно принял сверток. Высвободил треугольную складку, отогнул бумагу.
Диверсанты, тайны, сигналы – все лопнуло, разлетелось брызгами, забылось. Из газеты высунулся кусок шоколада. На уголке лежал тусклый блик.
– Это не шоколад, – сказала Таня, глядя во все глаза.
– Это не шоколад, – согласился Шурка.
Это не мог быть шоколад.
– Давай только чуть-чуть лизнем. Просто чтобы знать наверняка.
Помолчали.
Это был шоколад.
– Заверни его обратно, – диким голосом прошептала Таня. Будто Шурка держал голыми руками гадину.
Шурка не мог отвести взгляд от темно-коричневого уголка. На языке осталась душистая сладкая горечь. Сопротивляться ей не было сил. Невозможно…
Таня выхватила у него плитку, завернула в смятую газету и решительно потопала вверх по лестнице. Шурка за ней.
Постучали. В щель просунулся черненький, как на стебельке, глаз. Таня протянула в приоткрытую дверь на цепочке комковатый сверток. Его тотчас утащила рука. Дверь захлопнулась. Оба ждали.
– А нам она шоколаду не дает, – отчего-то плаксиво сказал Шурка. И опомнился: самому стало противно от своего тона.
– Ты… – повернулась к нему Таня, но не договорила: дверь снова приоткрылась.
Та же мятая газета, только сверток побольше. Под газетой Таня почувствовала твердые края. Но не успела поднять взгляд, как дверь уже захлопнулась. Будто за ней не было квартиры, а жил моллюск в раковине, и это была не дверь, а створки.
Развернули, теперь уже не сговариваясь, прямо на лестнице. В свертке было пять плиток столярного клея.
Шоколад? Менять на клей? Пусть маленький кусочек на пять плиток – но на клей?! Что тетя Вера собралась клеить? Опять чужие окна заклеивать?
– Знаешь, – голос Тани стал быстро наполняться слезами, – тут просто темновато, в парадной. Мы, наверное, не очень поняли. Выйдем и посмотрим как следует.
Рядом по стене мелко заструился песочек. Оба задрали головы, а потом посмотрели друг на друга. Значит, не померещилось.
Хрустнуло. И еще, и еще. По стене побежала длинная ломаная трещина.
Тане показалось, что каменные, дрянной зеленью замаранные мышцы надулись, напряглись. Потолок задрожал. Бах!
В каменных завитках бород искривились рты, а глаза, еще минуту назад пустые и каменные, налились жизнью и ненавистью. Атланты с натугой толкали потолок, им никак не удавалось объединить усилия – и сбросить каменный свод на непрошеных гостей.
Крак!
– Шурка! Бежим!!!
Таня рванула Шурку за ворот, и оба кубарем выкатились из парадной.
Глава 36
Бежали до самого дома. Даже когда просто уже шли, то все равно казалось, что бегут, топоча, оскальзываясь на мокром снегу, который падал и падал. От ботинок летели мокрые хлопья.
Упираясь руками в колени, вскарабкались по лестнице. Таня не сразу попала ключом в дверь. Шурка не выдержал, принялся жать на пуговку звонка. Наконец Таня вставила ключ, и оба ввалились в темный коридор. Ни одна дверь не приоткрылась на шум. Соседи, видно, все разошлись по делам.
Таня уронила сверток, плитки с шуршанием выползли на пол. Но она так и осталась стоять, припав спиной к стене. Шурка привалился к двери. Оба тяжело дышали.
В глубине коридора заскреблись. Скрипнула дверь. Бублик просунул нос – узнал своих и, стуча когтями, бросился приветствовать. Хвост махал так, что все тельце извивалось. Таня попыталась наклониться и дать псу лизнуть руку, но просто сползла вниз. Вытянула ноги. Шурка тоже сел. Бублик сам пролез под руку. Ладонью Шурка чувствовал его ребра, шишечки позвоночника.
Шурка почувствовал, что ужасно устал. Он не мог сказать ни слова, только таращился на Таню, а она – на него.
Дышали уже спокойно.
И тут Бублик унюхал сверток на полу. Обернулся. Цапнул плитку.
– Кыш, пошел! – махнула на него Таня.
Стала собирать плитки, обернула их газетой.
– Погоди, Таня.
– Чего?
– Он их чуть не съел.
– Не съел же!
– Я не об этом.
Шурка отогнул газетный лист у нее в руках, отломил от желтоватой плитки уголок. Бублик смотрел умильно. И Шурка бросил.
Бублик только клацнул челюстями. Наклонил голову, захрустел добычей.
Шурка принялся осмыслять факт. Мысли ворочались устало.
– Это что же, клей можно есть?
– Шурка, дурак ты несчастный, – вздохнула Таня.
– Сама дура.
– Ты же ему клей скормил.
– И что?
– А то, что теперь Бублик склеится изнутри.
Оба помолчали, представляя это. Бублик смотрел на них, чуть наклонив морду.
Таня захохотала. И Шурка вслед за ней.
– Склеится!
– Если он склеится… Ха-ха-ха… Его больше не надо будет выводить…
– …В уборную, – сквозь смех пропищала Таня.
– И лаять он…
– Ой, не могу! – утирала глаза Таня.
– Ха-ха-ха! – Шурка повалился на бок. – Лопну сейчас… Склеился, Бублик?
– Прекрати! – хохотала Таня.
Бублик каким-то образом понял, что смеются над ним. И обиделся – не полез целоваться, хотя обычно целовал всех, кто наклонял лицо. Таня и Шурка от смеха всхлипывали уже на полу. И не сразу услышали, что в дверь звонят. Только когда Бублик залаял, оба умолкли.
Лаял Бублик странно. Как будто кто-то ногой давил на резиновую грушу.
– Гр-ха… гр-ха…
Кашель какой-то, а не лай.
– Склеился, – гробовым голосом проговорил Шурка.
Оба опять прыснули, захрюкали. Тренькнул звонок.
Таня с распаренным от смеха лицом поднялась, отперла дверь. Она все еще улыбалась. Шурка тоже подошел.
– Гр-ха…
– Пошел вон, Бублик, – отодвинула его ногой Таня.
На площадке стоял какой-то мужчина. Лицо желтовато маячило в полутьме. Он тяжело отдувался (видно, и ему лестница далась нелегко) и не сразу выговорил:
– Девочка, у вас тут кошелек не теряли?
Морда Бублика сунулась меж трех пар ног. Бублик обнюхал брючину незнакомца. Лаять перестал.
– Я теряла, – пролепетала Таня. Кашлянула. – Я теряла!
Она не могла поверить своим глазам. Незнакомец в руках (они были похожи на две цапки) держал ее кошелечек!
– А ты не обманываешь? – спохватился незнакомец, и цапки сжались.
– Честное слово!
– Тогда скажи, что там было.
– Карточки! Хлебные! – влез Шурка.
А Таня почему-то держалась за косяк и справа, и слева, будто не пускала.
Незнакомец смутился.
– Верно, верно, – забормотал он. – Я это… Ты, Мурочка, не думай! Я вовсе не такой уж хороший. Я бы и карточки ваши себе взял! – писклявым голосом крикнул он. – Кто ж это от куска хлеба лишнего откажется. Да это ж и куском нельзя назвать…
Почему он Таню Мурочкой назвал? – удивился Шурка. – Неужели ошибка? Неужели сейчас незнакомец повернется и уйдет? С карточками?..
Незнакомец и впрямь что-то напутал, потому что крикнул:
– Но гляжу, папу-то у них, может, убили. Как же я у сирот-то корку хлеба заберу?.. Ты знай! Я не такой! Я всякий, но не такой! У сирот нельзя!.. – Он будто продолжал какой-то давний разговор с самим собой. В уголках губ собралась слюна: – А там как раз эта ленточка с вашим адресом…
– Какого папу? – попробовал остановить его Шурка.
– Какая ленточка? – не поняла Таня.
И незнакомец, как дрозд червяка, вытянул из кошелечка голубую мишкину ленточку.
– С адресом вашим. Миллионная. Номер дома, квартиры… Я решил: не так далеко, снесу. Отдам. Ты ведь Мурочка? Девочка, ты Мурочка?
– Какого папу?! – толкнулся Шурка. Но Таня крепко преграждала дорогу, у нее даже пальцы побелели.
– Миллионная? Вы сказали, Миллионная?! – ее голос прервался.
– До свидания, Мурочка… Мальчик… Собачка… – кивал незнакомец, видимо, сам не очень соображая, что бормочет. Пошаркал к лестнице.
– Спасибо!
– Стойте! Погодите! Что вы знаете про папу? – крикнул Шурка.
Но Таня так бахнула дверью, что незнакомца там, на лестнице, наверное, сдуло воздушной волной.
– Что значит – папу убили? Таня, откуда он это взял? Его надо догнать! Расспросить! Вытрясти все!
Но тема почему-то оставила Таню равнодушной. Сестра стояла, скрестив руки на груди, в одном кулаке – ленточка, в другом – кошелечек. Взгляд у нее был ледяным.
– А ну, Шурка, выкладывай все, – отчеканила она.
– Я-то при чем? Спятила?
Таня рывком поднесла к его носу ленточку.
– А при том, что это ленточка поганого мишки. На ней его поганый адрес. И оказывается, в той же самой квартире почему-то теперь живем мы! – Таня сделала кровожадную паузу. – А мишку этого стащил и приволок нам не кто иной, как ты!
Последнее слово ударило Шурку по голове. Он сжался.
– Теперь, Шурка, рассказывай мне все!
Шурка смотрел в ее серые глаза. На веснушки. На расстегнутое пальто.
– Почему вы молчите? Вы тут? – позвал из комнаты Бобкин голос.
– Выкладывай! Ну.
У Тани было крайне решительное лицо; даже тазы на стене поблескивали будто щиты.
– Бежим за ним. Он же про папу знает!
– Ничего он не знает.
– Он сказал!
– Он сумасшедший. Сам видел, у него слюни изо рта бегут. И не юли. Кто тебе мишку дал? И почему? – последние слова она произнесла совсем угрожающе.
– Ты же сама сказала, он сумасшедший.
– Шурка!
– Не изображай из себя тетю Веру.
Таня убрала руки.
– Ты прав, – как-то слишком легко отстала она. Подозрительно легко. И подозрения оправдались: – Все тете Вере расскажу.
Глава 37
Оба увидели, что одна из дверей приоткрыта. Оттуда тянуло холодком. В этой комнате жили двое – соседка с неандертальским лицом и ее муж, у которого дырка в легком. Они, похоже, сегодня еще не топили. Шурка не выдержал – заглянул. Почувствовал на затылке дыхание Тани.
Соседка лежала на кровати, отвернувшись к стене. Свисало одеяло. Поверх него, разбросав рукава, обхватывала хозяйку шуба. Под ней не было даже видно, как та дышит. Сосед лежал на диване под атласным одеялом. Одеяло вздымалось и опадало.
– Спят, – шепнул Шурка.
Голос его отскочил от стен неожиданно звонко.
Из комнаты куда-то исчезли вещи. Не было колченогих табуреток. Не было алюминиевых мисок. Примус тоже исчез. Пустые объятия раскрыл большой шкаф с золотым кантом. Стол показывал скрытое прежде под скатертью зеленое сукно. Его резные ножки попирали голый паркет. Стол и шкаф выглядели у себя дома на фоне украшенного потолка и потемневших атласных обоев.
Опустевшая комната показалась Тане удивительно красивой. С нее будто смыли тряпкой налипшую грязь чужой жизни. И теперь она тихо выжидала, когда исчезнут те двое, что лежат. Немногие уцелевшие вещи словно сбежали на последний островок – железную кровать с шарами – и там обложили свою изгнанную королеву. Стол и шкаф торжествовали победу.
Тане стало не по себе. Она ткнула Шурку кулаком в бок.
– Нечего глазеть.
Они вышли в коридор.
– Таня, ты что?!
Но Таня уже повернула ручку другой комнаты. Из нее тоже дохнуло сырым осенним холодком. Шурка осекся.
Победитель сразу бросался в глаза: большой полосатый диван смотрел на них без злобы и без страха. Убогий шкафчик, крашенный белой краской, жался в углу и казался кроликом, запертым в клетку с тигром. Подоконник показывал просторную спину, а паркет – узор. А вот соседки с косой не было. В комнате явно никто не жил.
– Ты давно ее видел?
– Не помню, – признался Шурка.
– Странно. Значит, уже трое. Она, еще та, через дверь, и еще Колпаков.
– В смысле?
– Их нет.
– Уехали. Пока нас дома не было.
– Да, наверное.
Тускло блестели засаленные обои. Комната выглядела отдохнувшей и всем своим видом как бы говорила: погодите, я только умоюсь, тогда и поговорим. Таня испуганно закрыла дверь. И хрустнувшему железному язычку тотчас ответил хруст ключа квартирной двери. Таня и Шурка отпрянули от комнаты. Фигура на пороге потопала, отряхивая боты, на ходу тускло отразилась в высоком зеркале шапкой деревянных кудрей, стала разматывать платок, потом обо что-то споткнулась и голосом Мани сказала:
– Это что?
– Столярный клей! – быстро откликнулась Таня.
– Фу-у, напугали.
Маня не заметила их в полутьме. Впрочем, она туда и не смотрела. В руках у Мани были плитки, и она глядела на них жадно.
– Сама вижу, что столярный клей. Что же это он у вас на полу…
Но протягивать Тане не спешила.
– Разве ж так надо? – бормотала Маня. А пальцы не разжимала. – Давайте-ка мы его сейчас же и сварим.
– Клей?! – Что-то сегодня все немного ку-ку, подумал Шурка. – Зачем?
Маня засмеялась.
– Я вам сварю.
И не снимая бот, в пальто, протопала на кухню.
Большую плиту давно не топили. Маня развела примус. Он пыхнул, показал корону из огоньков. Маня отломила от плитки клея куски, залила водой.
– Да нам вроде и клеить нечего, – замялась Таня.
Но Маня не слушала. Она помешивала ложкой. Добавила в клей лавровый лист. Помяла между пальцами и высыпала в кастрюлю какие-то сухие травки. И все улыбалась клею. Сняла кастрюлю, наклонила за ушки. Жижа почему-то пахла бульоном. Маня осторожно перелила ее в тарелку. В другую. В третью. От варева валил пар.
– Теперь, – помешала она ложкой в тарелке, – надо это все поставить на подоконник. Чтоб застыло. И утром – пожалуйста…
Но что случится утром, не договорила, а принялась загребать ложкой и быстро есть. Ложка звякала о тарелку, о зубы. Маня ела, обжигаясь. Стоя. Притоптывая от нетерпения. Шмыгая раскрасневшимся носом.
Ложка несколько раз стукнула по дну, и только от ее пустого звона Маня опомнилась. Облизнула губы.
– Извините, – сказала она.
Шурка и Таня уже не думали, что она склеится. Они во все глаза уставились на оставшиеся тарелки.
Маня сняла пальто. От еды ей сразу стало жарко.
– Бобка! – закричала Таня. – Бобка!
Все трое сели за стол. Одну тарелку Шурка отнес в комнату и поставил на подоконник.
– Тетя Вера придет с работы – а тут обед!
Он надеялся, что это смягчит тетю Веру перед разговором о мишке.
Маня ложкой перекладывала из двух тарелок в еще две. Таня, Шурка, Бобка и Бублик следили за ее движениями не отрываясь. Если бы сейчас завыла сирена, они и то не отвлеклись бы.
– Бублику можно и поменьше! – воскликнула Таня.
Ложка замерла. Сдвинулась и опрокинула жижу в Бобкину тарелку вместо Бубликовой.
– Теперь здесь меньше, – показал Шурка.
Еще пару поправок – и наконец все согласились: в тарелках стало поровну.
Шурка не стал возиться с ложкой, а просто взял тарелку обеими руками и выпил варево через край.
– Какой вкусный клей!
Таня почувствовала, как живот перестал болеть. Стало хорошо и тепло. И только тогда добродушно спросила:
– А клей что, можно есть?
Маня не ответила. В дверях кухни стояла соседка. На плечах у нее было ватное одеяло. Очки тускло отсвечивали. Опять, наверно, пришла орать про собаку, которая разносит бактерии.
Но соседка не орала. Она стояла и шевелила ноздрями. Вбирала запах. Мясной, укропный, лавровый дурман.
– Столярный можно. Его из костей варят. Тот же бульон, – сказала Маня, не сводя глаз с соседки.
– Вот здорово! – воскликнул Шурка.
– Хороший клейчик, – радовался Бобка.
– Одну плитку я беру себе! – капризно перебила Маня. – За работу. И лавровый лист был мой. И укроп! И керосин я свой тратила.
Таня как старшая сказала:
– Конечно.
Неподвижные глаза смотрели на них не отрываясь. Соседка сжимала на груди края одеяла. Очки слегка запотели.
– Даже две плитки. За керосином ноги отвалятся стоять, – переменила решение Маня. Тарелку Бублика она не выпускала из рук.
Таня подумала, что за такой обмен тетя Вера не похвалит, быстро собрала оставшиеся плитки и сунула себе за пазуху, оцарапав кожу. Маня этого не видела, она все глядела на соседку.
Бублик не то зевнул, не то взвизгнул. Он стоял на четырех шатких лапах. А Бублик-то старый, подумал Шурка. Дядя Яша ведь подобрал его, откуда им знать, сколько собаке лет.
– Бублику дайте, – напомнила Таня.
Маня очнулась, уперлась рукой в бок и, тяжко согнувшись, поставила тарелку на пол. Бублик опустил в нее морду. И тотчас соседка метнулась на опережение. Одеяло летело за ней плащом. Она упала на колени, гулко стукнув ими по полу, подползла на четвереньках, теряя одеяло, отпихнула собаку, схватила миску обеими руками и одним махом опрокинула ее себе в рот. Варево пролилось ей на грудь. Соседка быстро подобрала его пальцем, потом наклонилась и обсосала кофту.
Глава 38
– А что, она уже не боится инфекций и микробов? – осведомился Бобка, когда они вернулись в комнату.
– Ты Бобка, не вертись.
Таня подтащила одеяло, набросила сверху. Оно было атласным, роскошным и норовило улизнуть.
Шурка лежал в пальто, но даже руки спрятал под одеялом. Бублика подкормили из тарелки, которую Шурка предусмотрительно унес в комнату – застывать. Пес теперь лежал между ним и Бобкой, но пока не грел. Тетя Вера натопила белую кафельную печь с утра. Но теперь казалось, что печка обложена не кафелем, а брусками льда.
– Ты зря ей дала наш клей, – бурчал Шурка. – Тетя Вера придет, а одной плитки нет. Она старалась, кровь сдавала, а ты разбрасываешься…
И тотчас опомнился: «Что я несу, чего я ною, как последний хлюпик!»
Таня глянула строго:
– Тетя Вера придет и разберется, ага. Уж это точно.
После тарелки клея к Тане вернулась решимость. От ее слов Шурке стало так холодно, будто с них разом сдернули одеяло. А Таня продолжала:
– Откуда мишка у тебя взялся, она тоже выяснит. Придет и выяснит. Это тебе не передо мной вилять. И тогда, Шурка, берегись!
И она залезла к ним под скользкое одеяло.
– Это осень или что? – возмущался Шурка. – Конец октября всего лишь, а холодина какая.
– Не юли. Или выкладывай, или я до конца жизни тебе слова не скажу!
– Мишку мне дала подруга тети Веры, – пробормотал Шурка.
Это была не совсем ложь. Но и не совсем правда.
– Какая еще подруга?
Даже в шерстяных носках ступни были как ледышки. Но в валенках спать было бы как-то странно.
– Такая.
Таня обдумала новые сведения.
– А почему тетя Вера тогда разозлилась?
«Вот кто Нат Пинкертон – Танька, – сердито подумал Шурка. – В милиции бы ей работать». Но сумел придать голосу беззаботность:
– Это ты уж у тети Веры спроси, чего она злится.
– Спрошу, – сурово отрезала сестра, – не сомневайся.
Втроем оказалось легче согреть друг друга.
– Лучше ты мне сам все скажи, – Таня глядела в потолок с гирляндой. – Может, я тебя перед тетей Верой поддержу.
Но Шурка все-таки не рискнул.
– Что-то спать хочется, – изобразил он зевок.
– Так рано? – удивилась Таня.
Шурка испугался, что она сейчас опять заговорит про мишку, а значит, про голубую фуражку, а значит, про Ворона.
– Просто очень хочется.
И поскорее отвернулся к стене. Спину приятно грел спящий Бобка.
Таня зажгла и поставила на стул у кровати свечу. Взяла книжку. Выключила свет. Снова юркнула под одеяло.
Шурка принялся придумывать ловкий ответ, но не удержал его в руках и провалился в темноту.
…Ворон был там, а Шурка – везде, поэтому Ворон ничего не мог от него скрыть. Шурка был везде и ясно видел, что Ворону страшно – липким и отвратительным страхом. Второе чудовище было не разглядеть: что-то кольчатое-колючее-шипастое. Оно тоже оставляло липкий гадкий след. Чудовище побаивалось Ворона, а Ворон боялся его – так, что клацал челюстью. Не сводя глаз, Ворон вынимал из большого мешка каменные ватрушки и проворно скармливал чудовищу одну за другой. И все приговаривал: «На вот… на вот… на вот…» Шурка, который был везде, понял, что эти ватрушки были города. Покончив с ними, чудовище пожрало бы и Ворона, а только радости от этого Шурка не предвкушал. Ворон протянул очередную ватрушку. Голосом радио проговорил: «После тяжелых и продолжительных боев… наши войска оставили город». Кинул ее. Челюсти клацнули. Раздался такой хруп и хруст, что Шурка распахнул глаза. Проснулся.
На стене он увидел оранжевый отсвет. Обернулся: Таня все еще читала. Шурка не решился ее позвать. Сердце бухало в горле. Каменная ватрушка, казалось, давила на живот. Вспомнились Танины слова: «последние враки». Значит, по радио врут? И Ленинград был просто еще одной каменной ватрушкой? «Они не понимают, как мы будем драться», – зло думал Шурка. Хотя и не смог бы объяснить, кто это – «они». Шевелил под одеялом пальцами: сжимал, разжимал. «Они просто нас не представляют…» «Мы» – думал он обо всех, кто стыл сейчас в каменной ватрушке. И сердце постепенно успокоилось.
Он лежал и слушал, как Таня переворачивает страницы. И тяжесть постепенно отступила. Таня пошуршала одеялом, подтыкая его со своего края. А потом и оранжевый отсвет на стене погас.
Шурка ощутил дыхание на своих волосах. Вскочил на локте.
– Бобка! Что?
– Мишка у тебя? – отозвался из темноты Бобкин голос.
– Обалдел? Зачем мне твой мишка? – проворчал Шурка.
– Таня! У тебя? – уже толкал Таню Бобка.
– Делать мне больше нечего, – сонно рассердилась она.
– Отдай!
– У меня его нет. Отстань! Ложись, Бобка.
Но Бобка вылез из постели.
– Ох, я беспокоюсь, – взрослым тоном сказал он.
Таня шумно вздохнула. Выбралась из-под одеяла. Нашла свечу, зажгла. Закопошился, высвободился из-под одеяла и Шурка. Таня и Бобка стояли, между ними трепетал шар оранжевого света. Крошечные оранжевые огоньки отразились в глазах Бублика. Но с кровати Бублик не слез – он в последнее время и так с трудом на нее забирался.
– А в постели хорошо посмотрел?
– Мишки нигде нет, – упорствовал Бобка. – А та злая дома? Она у себя?
Таня почему-то сразу поняла, о ком это он. А Шурка – нет.
– Какая злая? – спросил.
– Та, худая.
– Они теперь все худые!
– Дворничиха не могла его стащить, – сказала Таня. – Мишка слишком старый. Его никто не купит.
– Он здесь, Бобка, просто завалился куда-нибудь, в темноте не сразу разглядишь.
Бобка стал дрожать – мерзнуть. Пол холодил даже через ковер.
– Мы сейчас тебе его отыщем. А ты полезай под одеяло, – приказала Таня, поднимая повыше свечу.
Убедилась, что Бобка послушался.
– Ай! – завопил Шурка.
Грохнуло. Таня приблизила свечу на звук.
– Что такое? Ты где?
– Тут. На меня упал стул.
– Ну так вылезай из-под него.
Шурка высвободился. Схватился за спинку, но понял, что поднять ее и поставить стул не может. Тот тянул вниз, ехидно наливался тяжестью, словно дразня: ну кто кого? Шурка разжал руки. Выполз. Эх, разве мог бы он раньше не поднять обычный упавший стул?!
– Таня, с этим стулом что-то не то.
– Давай ложиться. Холодно что-то.
– А стул?
– Брось. Тетя скоро придет.
– А мишка? – позвал с кровати Бобка.
– Завтра, – отрезала Таня. – В темноте все равно ничего толком не видно. Спите.
Глава 39
Но тети Веры все не было.
Щелкнули – лампочка не зажглась. Пришлось отогнуть край светомаскировки – впустить немного синенького утра.
Печь совсем остыла. Стул лежал, протянув четыре твердые ноги, в нем не было ничего пугающего.
Слышно было, как за окном стучит дождь. Тяжелый, пополам со снегом. Зима еще только репетировала.
– Наверное, она осталась на еще одно дежурство. Много работы. Раненых, – Таня подняла и поставила стул. – Или шла домой, а там обстрел.
Оба испугались. Но Таня тут же нашлась:
– Она спряталась, переждала. Или решила домой потом пойти.
Бобка не хотел вылезать из-под одеяла.
– Может, еще не утро? – предположил он.
– Часы, – пожала плечами Таня. – Механизм не врет.
И показала часики. Тети-Верины.
– Откуда они у тебя?
– Тетя Вера сняла их, когда кровь сдавала. А надеть обратно забыла.
Стрелки, как два черных пальчика, показывали время.
Таня убрала часы в карман.
– Холодно… – заныл Бобка, вцепившись в край одеяла.
– Как же мы сами растопим?
Но у Тани и на это был ответ.
– А мы за тетей Верой сходим. В госпиталь. И вовсе не ради печки! – торопливо прибавила она. – А обрадовать, что карточки нашлись.
Зато истории с ленточкой – то есть с мишкой – тетя Вера вряд ли обрадуется, подумал Шурка.
Клей и правда застыл, как обещала Маня. Его поделили ложкой на дрожащие кусочки. Он пахнул как холодец, дрожал как холодец и на вкус был как холодец. Да это и был холодец.
– Интересно, – сказала Таня, облизав ложку. – Небось многие вещи можно есть. Просто мы не знали.
Все трое обдумали эту мысль. Бобкин взгляд мечтательно поплыл по комнате.
– А вдруг можно есть шкаф?
– Не сочиняй.
В комнате женщины-голубя Шурке ничто не показалось съедобным. По крайней мере, на первый взгляд.
– Одевайся, – велела Таня. – Бублика все равно надо вывести.
Услышав свое имя, Бублик затряс хвостом. Но с кровати не слез. И опять Шурка поразился: да что это с ним? Казалось, пес стареет не по дням, а по часам.
– Холодно, – протянул Шурка вслед за Бобкой.
– Ерунда, – Таня распахнула шкаф. – Вон тут сколько всего. – И с удовольствием добавила: – За это тетя Вера нас точно убьет.
Из шкафа пахло шариками от моли. Таня начала выбрасывать добычу – кувыркающихся шерстяных птиц. Бухнула на пол один за одним резиновые боты – большие, как лодки. Кинула Шурке прямо на вешалке пиджак. Пиджак был длинный, просторный. Его пришлось перепоясать пестрой змеей галстука. Сама Таня надела поверх пальто дородный стеганый жилет.
– Ха-ха, капуста!
– Сам капуста.
В закромах женщины-голубя нашлись и перчатки, хоть и диковинные – без большого пальца. А вот детской одежды почему-то не было.
Но мальчик-то в машине был!
– Странно, – чуть не выдал себя Шурка.
Но, к счастью, Таня успела его перебить:
– Ничего странного. Может, у них нет детей. Или они выросли и ушли на войну.
Бобка принялся повязывать мишке ленточку – одевать в дорогу.
Таня всплеснула руками:
– Еще не хватало!
– Я его сам понесу, – пообещал Бобка.
– А мы – тебя? – поддержал Таню Шурка. Но Бобка не уловил иронии.
– Ты сиди и сторожи клей.
На это Бобка был согласен.
Шурка снял Бублика с кровати, поставил на пол. Стал надевать ошейник и поразился: застегнул на последнюю дырочку, а ошейник все равно свободно болтался на собачьей шее. Потянуть за поводок – соскочит совсем.
В коридоре света тоже не было. Прошли на ощупь. За дверью соседки рокотало радио: «…Ленинградцы… Мужество… Лишения… Сплотиться и выстоять…»
Таня щелкнула выключателем у самой двери. Темно.
– Странно: радио есть, а света нет.
Глава 40
– Мы дураки, – сказал Шурка, когда они вышли на лестницу.
Здесь было чуть светлее. В воздухе словно вымыли кисточку после синей краски. Окна на лестнице никто не заклеил и не заделал фанерой. Голубели ступени.
– Надо было сразу, с ночи, встать в очередь и взять по карточкам хлеба. Есть жутко хочется, – признался он.
– Ты же клею поел.
Шурка вздохнул.
– Мы дураки, – согласилась Таня. – Мы от карточек отвыкли. Ой…
На площадке ниже спал человек. Он спал как был – в пальто и шапке, скрючившись и поджав под себя ноги.
Таня взяла Бублика, сунула за пазуху.
– Ступай тихонько, – прошептала.
Шурка успел скользнуть глазами по заострившемуся носу спящего, по впалым щекам. Все лицо казалось каким-то костяным. Он хотел сказать об этом Тане, но почему-то не стал.
Вышли. За ночь снег попробовал пристать к тротуарам, карнизам, крышам. Получилось только на крышах.
– А если тетя Вера попала под бомбежку?
– Не попала.
– Откуда ты знаешь?
Таня не ответила. Она умела делать такое лицо, будто знала все.
Беспокойство улеглось ненадолго.
– Но ведь бомбят.
– Да. И кого-то ранит. Многих людей ранит. Их везут в госпиталь. И всем им надо сделать операцию, наложить гипс или хотя бы перевязать. Тетю Веру просто не отпустили домой.
Она не сказала: «И кого-то убивает». И даже так, что вообще никаких следов человека не найти. Раз подумав об этом, Шурка уже не мог остановиться. Шаги шипели на мокром тротуаре. Солнце еще не поднялось за тяжкие, непробиваемые тучи, и дома слегка порозовели, стали золотистыми. В стороне виднелся знаменитый гастроном – весь расписной, такой красивый, что его можно было принять за театр. Его по старинке называли Елисеевским. Мокрые статуи по углам здания смотрели на город. На головах у них с ночи держались снежные шапочки. В больших витринах торчала фанера.
– А если тетя Вера сама попала под обстрел?
– Не попала она под обстрел, – твердо сказала Таня.
Свернул и шел прямо на них человек в сапогах и шинели. В руках у него, как в мирное время, были полные сумки. Неужто из гастронома? – удивилась Таня. Странно, магазин-то давно выстужен и пуст. Или нет?.. Из одной сумки торчали горлышки бутылок в железных шапочках. Из другой – бледно-желтые куриные ноги. На мужчине была фуражка. От знобящего полузимнего холодка у него горели красным уши. Но он все равно предпочел остаться в фуражке. Он нес ее как корону. Верх у фуражки был голубым.
Шурка замер. Сердце его забухало – под свитером, под пальто, под большущим чужим пиджаком.
Человек нес себя так гордо, что едва не налетел на Таню с Шуркой. Вильнул боком. Бутылки в сумке клацнули. И он полез в приземистый черный автомобиль.
«Не смотри», – приказал себе Шурка. Он вспомнил свое «мы», когда воображал себе Ленинград между двух чудовищ. Было ли на самом деле это «мы»?
Таня с каменным лицом топала дальше.
Черный автомобиль, шипя шинами по мокрой мостовой, проехал мимо них, отразил в лакированных крыльях. Пыхнул в лицо голубоватым дымком. Его тарахтение разносилось по пустой улице. Лишь вдалеке маячила черная фигурка: прохожий.
– Таня… – пробормотал Шурка. – А у них еда.
– Да, – не стала спорить сестра.
– Говорят же, что немцы не пускают продовольствие в Ленинград.
– Да.
Шурка вспомнил, как радио призывало ленинградцев выстоять, вытерпеть. Но, похоже, прислужники Ворона не имелись в виду.
Машина уже превратилась в черную коробочку. Потом свернула на улицу 3 июля. Но в сыром воздухе все еще пахло голубым дымком.
– Таня!
– Ну.
– Что если тетю Веру забрал Ворон?
Таня обернулась всем телом. Выплеснула из-за пазухи Бублика. Он сразу принялся обнюхивать невидимые на влажном тротуаре следы.
– Ну скажи тогда ты! – возмутился Шурка. – Найди свои слова! Раз ты такая умная. Где тетя Вера?!
– Соба-ачка, – вдруг ласково протянул чей-то голос.
Бублик поднял голову.
Шурка и Таня обернулись. Худой мужчина в меховой шапке смотрел вниз во все глаза. Острое лицо казалось желтоватым, взгляд горел лихорадочно.
– Дети, продайте собачку.
– Она не продается, – ответила Таня и прошептала: – Шурка, идем.
Зашагали прочь. Фонтанка угадывалась впереди. Осколки стекла блестели как острые льдинки, хрупали под ногами. Дома смотрели фанерными окнами. Казалось, за этими окнами никто не жил. А может, и правда не жил.
Странный прохожий шелестел, ковылял мягко и валко.
– Ну продайте, – канючил он.
Они прибавили шаг. Проклятые резиновые боты шаркали, хлопали пятками, тянули назад.
– Ну что вам, жалко?.. Я хорошо заплачу… Я денег дам!.. Мама вас похвалит, скажет: вот молодцы… Много денег!
Прохожий не отставал. Но теперь не убеждал – жалобил.
– Ну продайте… У меня дети как вы… Такие… Две девочки. И один мальчик. Трое… Им с собачкой поиграть. Им собачку хочется. Жирненькую. Сладкую… Мальчикам моим. И девочке… Ну что вам, жалко, что ли… Продайте… Моей дочке поиграть…
Таня и Шурка переглянулись испуганно, но шагу не убавили. Наоборот.
Прохожий понял, что не подействовало. Сменил тон:
– А ну продайте, я сказал!.. Слушать надо старших!.. Безобразники! Дряни такие!.. Отдайте ее мне! Сейчас же!.. Я вам покажу!.. Негодники, дряни!
Таня не выдержала. Схватила Бублика. Высунула одну ногу из бота, запрыгала, вынула вторую. Схватила боты руками, прижала к животу, где притих Бублик (ступни тотчас обхватил сырой холод, туфли промокли), – и помчалась со всех ног.
То же самое поспешно сделал и Шурка. Руки прохожего едва мазнули его по спине.
Никогда, наверное, он так не летел. Только дома почему-то еле тащились мимо.
Таня из-за огромной жилетки напоминала трепыхающуюся курицу.
– Продайте соба-а-ачку… – ныло и дребезжало им вслед.
Шурка задыхался. Ноги и без бот казались тяжеленными. Силы были на исходе, еще немного – и он брякнется. Но вспоминал острое лицо с небритым подбородком, страшную кошлатую шапку (она была похожа на черное безумие, туго обхватившее голову) – и силы откуда-то брались.
Ноющий голос то отставал, то догонял. Отставал. Все-таки отставал.
Отстал.
…И глаза! Черные, провалившиеся. Даже не глаза, а то, как этот прохожий смотрел на Бублика. Этот взгляд был страшнее всего.
Опять они заговорили не сразу.
– Таня, он кто?
– Не знаю.
Она остановилась. Поставила боты. Сунула внутрь ногу, как в ведро, потом другую. В ботах шаги ее опять стали глухими, шаркающими.
– Для чего ему Бублик?
– Он сумасшедший.
– А про детей? Как думаешь, правда?
– Он сумасшедший! Непонятно, что ли?!
Шурка помолчал.
– Пошли домой, – сказала Таня. – Подождем тетю Веру дома.
Они и так шли к дому. Плелись прохожие. Каждый что-нибудь нес: портфель, бидон, просто сетку. Раньше среди прохожих Шурка всегда чувствовал себя лучше. Теперь от одного их вида было неспокойно.
– А хлеб?
– Клей поедим.
– Дай мне Бублика – я тоже об него погреюсь.
Сестра расстегнулась, оттянула вязаный ворот. Бублик тотчас выпростал голову. Пыхнуло облачко дыхания.
Шурка оттянул свой. Дрыгая твердыми ногами, Бублик перебрался за пазуху к Шурке. Тане сразу стало прохладно у живота.
Дворничиха тянула прочь груженую тележку, подавшись вперед, – видно, тяжелую. К счастью, она брела не в их сторону.
– Она вещи выносит, – пояснила Таня.
– Какие?
Таня не ответила.
На лестничной площадке все так же спал человек.
– Может, пьяный, – прошептала Таня.
Стараясь не глядеть, Таня и Шурка быстро потопали вверх. Ввалились в квартиру. Еще одна дверь была приоткрыта сквозняком – это сразу бросилось в глаза обоим. И обоим почему-то стало ясно, что никого за нею нет.
Таня осторожно толкнула дверь ладонью. В комнате торжествующе ухмылялся комод. Может, так казалось оттого, что один ящик был наполовину выдвинут. И пуст. Только ботинки у стены напоминали, что здесь жил сосед в тюбетейке.
Тюбетейка валялась на полу. Таня подняла ее, но чего-то испугалась и бросила.
– Куда же это он ушел без ботинок? – пробормотал Шурка.
– Раздобыл себе сапоги. Ноябрь ведь на носу. И в них ушел, – ответила находчивая Таня. А сама уже свернула к двери той комнаты, где вчера спала соседка под шубой.
Дверь оставалась незапертой. В комнате не было не только соседки – исчезли и одеяло, и шуба. И муж, который спал на диване. И даже матрас. Неуютно щерилась железная сетка кровати.
– Шестеро, – глухо сказала Таня. – Куда-то делись уже шестеро.
– Она проснулась и ушла, – тоненьким голосом предположил Шурка.
– Угу, – глухо подтвердила Таня. – Она тоже. И муж ее. Может, к родственникам переехали. Вместе легче.
И они гуськом пошлепали по студеному коридору.
– Завтра сразу за хлебом пойдем, – на ходу напомнила Таня.
– Завтра придет тетя Вера, – неуверенно сказал Шурка. – Ты куда?!
Таня решительно прошла мимо их комнаты.
– Она придет вечером. Тетя Вера. Сегодня.
– Ясное дело! – поспешил успокоить себя Шурка. – Ты куда, Таня?
– Я с самого начала это говорила, – голос у Тани был бодрый, но думала она явно о другом.
Остановилась в самом конце коридора, у комнаты Колпакова.
– Не открывай, Таня.
Шурка не понимал, отчего ему вдруг стало не страшно даже, а жутко. Но сестра уже толкнула дверь. И ничего. Шурка выдохнул. Таня в замешательстве показала:
– Замок.
И даже потрогала тяжеленькую железную коробочку с дугой.
На комнате старичка Колпакова теперь висел большой амбарный замок.
Глава 41
Вот тогда Маня и произнесла страшное слово «детдом».
– В детдом бы вам сдаться.
– А мать-то их где? – спросила быстроглазая дворничиха: ее поймали у парадной.
На спине дворничиха тащила узел. И недовольно опустила, когда ее окликнули. Себе на ступню, чтобы не испачкать: снег лежал серой кашей. Опустила осторожно, но в узле что-то звякнуло. Таня уставилась на узел. По краям была бахрома. Дворничиха увязала добро в скатерть. Таня заставила себя отвернуться.
– А карточки у них есть? – спросила дворничиха.
Новый месяц давно начался, и карточки тоже были новые.
Маня кивала, как лошадь.
– Это парамоновские, что ли? – смекнула дворничиха.
– Они, – не дала Тане вставить слово Маня.
– В школу их сведи, и все дела, – словно чего-то испугалась дворничиха. – Там подкормят. Блокада, ничего не поделаешь.
– А с теткой-то их как быть? Надо в домоуправление заявить и карточки сдать. Раз пропала.
– А я сама в домоуправлении скажу.
Маня ее поблагодарила.
«Блокада», – говорили теперь все. Это значило, что немцы замкнули город в кольцо – не войти и не выйти. Шурка представлял блокаду то в виде слишком тугой шапки, от которой скрипит в ушах и чешется лоб, то в виде бесконечного снега, заволокшего город, и снег этот все сыпал, сыпал, сыпал. Казалось, пройдет снег – пройдет и «блокада», и ощущение тугой шапки вокруг головы. Но снег теперь лежал на улицах, крышах, заборах, трамваях, проводах, тумбах – повсюду. С таким видом, будто пришел навсегда.
Слово «школа» тоже значило теперь что-то непонятное. Просто темная комната с фонарем, который почему-то звался «летучей мышью». На летучую мышь он не был похож, а был похож на бутылку, оплетенную проволокой, с круглой дужкой наверху, чтобы браться рукой. Да и сама комната располагалась в бомбоубежище, попросту в подвале: спускаться приходилось осторожно, по горбатеньким ступенькам. Уроки начинались с того, что учительница в тулупе ставила «летучую мышь» на стол. Огонек в бутылке метался и мигал. От этого еще сильнее хотелось спать: блокада стягивала голову.
Сидели в пальто и шапках. Облачка дыхания вырывались и тотчас гасли.
Школьников набралось едва ли с десяток, и всех засунули в один класс. Шурка сел позади Тани.
Учительница бубнила, раскрыв перед собой книгу. Читала вслух. Иногда она поднимала от страниц носатое желтоватое лицо, переспрашивала: «Поняли?» Никто не отвечал. И опять «бу-бу-бу»…
Шурка не соображал ничего. Да и у остальных лица были бессмысленные, взгляд оловянный. Все ждали большой перемены. В большую перемену приходила тетка с кастрюлей и раздавала жидкий кисель, который иногда назывался кашей, иногда супом, и к нему стакан кипятка с сахаром. Кипяток все выпивали, а жижу аккуратно сливали в бидончики, бутылки, баночки. После большой перемены в «школе» не оставалось никого.
Бобку подкармливали в детском саду. На обратном пути Таня и Шурка забирали его.
Дома принесенную жижу сливали в одну кастрюлю, добавляли еще воды, крошили хлеб. Получалось вполне съедобно. Особенно если был хлеб.
Жаль только, что жижу давали всего лишь раз в день. А хлеба – кусочек с ладонь.
Шурка слушал «бу-бу-бу» учительницы. Воображал, что он водолаз и опустился на дно. Погасли краски и звуки. Закутанные фигуры напоминали скалы. Со дна смотрел он на мигающий огонек. Рот раздирала зевота. Внезапно у «бу-бу-бу» изменился ритм. Шурка стал всплывать сквозь толщу воды. «Бу-бу-бу» отчетливо сложилось в слово «антисоветский».
– …Антисоветские высказывания.
Шурка подплыл еще ближе и разглядел, что учительница в своем тулупе нависает над Таней.
– Антисоветские. Тебе ясно?
В былые времена она бы заорала во всю глотку, раздувая ноздри, выкатив глаза, чтобы слышно было на весь коридор. Но сейчас из глотки вырывались только шип и хрип, как из проткнутой шины.
Речь на уроке шла об «Евгении Онегине».
Шурка поднял руку.
– Парамонов, – тявкнула учительница.
Шурка давно перестал возражать, что никакой он не Парамонов.
– Разве Евгений Онегин жил в Советском Союзе? – спросил он. – Или Пушкин, например. Он умер и Советского Союза не видел.
Учительница уставилась на него, как рыба.
И Шурка пояснил:
– Как можно быть анти-чего-нибудь, если нет этого чего-нибудь?
Закутанные фигуры за партами зашевелились.
Шурка не был уверен, что хорошо выразил свою мысль. Теперь мысли плохо укладывались в голове, а слова – еще хуже. Все из-за этой тугой шапки-блокады, которая стягивала голову днем и ночью и чуть-чуть ослабевала только после того, как он выпивал жижу и подъедал раскисшие хлебные крошки.
Но, видно, учительница поняла. От возмущения у нее лай пошел не в то горло. Она закашлялась.
У Тани вздрогнули плечи. Шурка не видел ее лица, но учительница видела.
– Вон! – сипло рявкнула она. – Оба!
Большой перемены они дождались у дверей, собрали кашицу и ушли.
Маня научила привязывать на бидончик веревочку: его несли, закинув за спину, так было легче. Молча топали по ноябрьскому снежку. Шурка предвкушал, как состряпают они «суп». Как польется он в желудок.
– Я в школу больше не пойду, – у самого дома сказала Таня.
– А обед? – не поверил своим ушам Шурка.
– Все равно там одна вода. Я больше раздобуду, если в очередях постою. И вообще, при чем здесь еда?! – Она потянула на себя ручку двери.
– Что ты ей сказала? А, Таня?
Таня не ответила. Потянула опять. Дверь в парадную не поддавалась. Дом словно не хотел их впускать. Словно глядел на них своими прямоугольными глазами: кто кого? Шурка тоже схватился за ручку. Дернули вместе.
На крыльцо выпала женщина, чуть не сбила обоих (отскочить у них не было сил) и осталась лежать, протянув ноги в тупоносых ботинках. Незнакомая. Может, она жила этажом выше, а может, ниже. Выучить всех соседей по парадной они не успели. У Шурки язык прилип к гортани.
Вдруг глаза ее моргнули.
– Что с вами? – окликнула ее Таня, потрогала за плечо. – Вам помочь? – И обернулась к брату: – Шурка, позови кого-нибудь.
Женщина что-то просипела.
– Что-что? Вы кто? С какого этажа?
Дворничиха, вероятно, заметила их издали. Она уже топала валенками к ним.
Таня наклонилась и переспросила:
– Вам помочь?
Синеватые губы шевелились.
– Мы все сдохнем, – просипела женщина.
И, отпрянув, Таня и Шурка врезались бидончиками прямо дворничихе в живот.
– Идите, идите домой, – она махнула на них рукавицей. – Сама разберусь. – И наклонилась над упавшей.
Глава 42
У входа в бомбоубежище, то есть в подвал, то есть в детский сад, Таня бросила только «Здесь жди» – и стала спускаться. Она цеплялась за перила обеими руками.
Шурка остался стоять. Сырой мороз пробирался под пальто. Шурка переминался с ноги на ногу.
Рядом какая-то женщина, крест-накрест перевязанная поверх пальто пледом, усаживала в санки то ли девочку, то ли мальчика – не понять. Сейчас все дети в одежках одна поверх другой напоминали капустные кочаны. Личико ребенка было острым, вокруг глаз синие тени. Старичок, подумал Шурка. Мама привязывала его, и веревка все время выскальзывала у нее из рук. А рукавиц она не снимала. Ловила конец – и опять он ускользал. Ребенок устало глядел из кочана. Между ногами у него был поставлен бидончик. Видно, и эта женщина несла свой обед домой.
Шурке захотелось сказать ей что-то хорошее.
– Здорово вы придумали – с санками.
Санок в этом году Шурка еще не видел. Он каждый год загадывал, когда встретится первая бабочка и когда первые санки.
Женщина повернула остренькое носатое лицо. Она то ли не расслышала из-за толстого платка на голове, то ли и сама, как Шурка в школе, слышала только «бу-бу-бу», как из-под воды.
– Нам бы тоже вот Бобку… – начал Шурка.
– Мы все сдохнем. Сдохнем, – вырывался изо рта у женщины пар. И веревка опять выпала у нее из рук.
– Да иди ты уже, Бобка! – слезливым голосом воскликнула Таня и подтолкнула Бобку в спину. – Мы совсем так окоченеем с тобой.
Она запыхалась. Холод был самый что ни на есть ленинградский – ветреный и мокрый. Пробирало до костей. Бобка старательно топал, но почти не сдвигался с места. Хотелось опрокинуть его и просто покатить, как шар.
– Давай я буду толкать его в спину, – предложил Шурка. – А ты тяни.
Дело и правда пошло быстрее.
«Сдох-нем… сдох-нем…» – хрустел под ногами снежок. Шурка перепугался, поднял наушник шапки; за ухо тотчас цапнул мороз. Хруст снова стал нормальным снежным хрустом.
– Ты что это раздеваешься? – обернулась Таня. – Не отставай.
Вскоре все трое выбились из сил. Остановились отдышаться.
Бобка смотрел пристально. Вокруг глаз у него голубели тени. Непонятно только, на коже они проступили или их отбрасывал голубоватый вечереющий воздух.
– Знаешь что, Шурка? Давай съедим твой бидончик прямо сейчас. Я больше не могу.
Таня принялась снимать с плеча веревку. У Шурки заныло внутри: «Если бы не я, Таня сидела бы в тепле и трескала хлеб с маслом».
– Да помоги же ты мне его снять! – раздраженно приказала сестра. – Что ты стоишь как пень!
– А я гадость сделал, – подал голос Бобка. И остановился.
Руки с веревкой замерли.
– Чего? – опешила Таня.
Оба смотрели на него.
– Гадость.
И опять умолк.
– В штанишки написал? – сочувственно подсказала Таня. – Не страшно. Пойдем только быстрее, а то замерзнешь.
Но Бобка не пошел. Зашевелил бугорками, на которых еще не было бровей. Обиделся.
Шурке захотелось стукнуть Бобку, чтобы слова из него выскакивали побыстрее. Но он тотчас опомнился: «Да что это с нами всеми такое!» Терпеливо присел перед Бобкой на корточки и спросил:
– Какую гадость, Бобка?
– Я кашу не съел, – заявил Бобка.
В детском саду им давали обед.
– Ее у тебя отобрали? – быстро догадалась Таня и еще быстрее разозлилась: – Кто? Воспитательница? Большие дети? Ну я им задам!
Бобка прошел вперед, оставив Шурку сидящим на корточках.
– Я сам не съел, – заверил он Таню.
Она уставилась на него своими серыми глазищами. Быть такого не могло.
– Тань, дерни меня за воротник, – вдруг попросил Шурка.
– Ты чего?
– Дерни.
Шурке стыдно и страшно было сказать: он почувствовал, что сам не может встать.
Таня вздохнула, но дернула. Помогло.
Бобка смотрел на них молча.
– И что же ты с ней сделал? – опять занялась им Таня.
– Я вылил ее в калошу. Тети-Верину. И засунул под кровать. Пока ты не видела.
Шурка почувствовал страшную усталость.
– Опять врет. Идем уже домой.
– На старой квартире, – уточнил Бобка. И добавил удивленно: – Полную калошу!
Таня придержала брата.
– Погоди, Шурка. Кажется, на этот раз он не врет.
Глава 43
За большие бронзовые часы, на которых восседали голые дамочки, дворничиха дала им пять кусков сахара. Часы эти стояли у Парамоновых на комоде.
– Бублик, стереги дом, – приказала Таня.
О том, что надо стеречь самого Бублика, вслух они не говорили.
– Зарой его получше, – посоветовал Шурка.
– Не учи ученую.
Таня навалила сверху половик. Теперь на кровати громоздилась гора. Никто бы не догадался, что под ней, в пещере, спрятан тощий облезлый пес.
Дверь Таня заперла.
День выдался золотисто-розовый. Снег был уже не серый, а хороший – пушистый, молодой, и шагать было легче.
– Полная, говоришь, калоша? – все повторяла Таня.
Бобка подтвердил. Как герою дня, ему позволили взять мишку с собой.
– Точно не выдумываешь? – опять переспросил Шурка.
Ответила Таня:
– Точно! Я помню, он меня за солью услал. А сам – в калошу. Вот молодец! – ликовала она. – Какой умный!
Бобка расцвел.
– А я еще: Таня, и варенья!
– Да! Вот хитрец!
– А я еще: Таня, а теперь какао! – радовался Бобка.
– И какао! – наконец поверил и Шурка.
Каша тогда была не то что нынешняя. Она была густая. Таня даже зажмурилась, предвкушая. Ну и что, что каша засохла. Во-первых, ее можно размочить. А во-вторых, можно расколоть на кусочки и есть как сухарики. С вареньем-то и какао.
Болтать быстро перестали – берегли силы, только посматривали по сторонам. Искалеченные дома делали вид, что им не больно. Деревья опушились инеем. Он оставался нетронутым: птиц давно не видели. Не было в городе птиц. Улицы застилало ровное снежное поле – ни тротуара, ни мостовой. Только протоптанная посредине тропинка. Прохожие брели молча и не смотрели по сторонам. Бобка старался ступать в Танины следы, Шурка – в Бобкины.
Вскоре показался их прежний дом. Он был не так страшен, как помнилось. Вырванный кусок стены заделали фанерой. Снег на карнизах, на зубьях кирпичей придавал дому умиротворенный вид. Протоптанная тропинка вела к парадной. Значит, здесь жили.
– Тань, а если они уже нашли калошу? – забеспокоился Шурка.
– Ее можно найти только если знаешь, что там калоша. Никто не станет специально искать под кроватями калоши с кашей, – бормотала сестра.
Запыхиваясь, они поднимались по лестнице – она почти не пострадала. Таня толкала Бобку перед собой. Пару раз он выронил мишку. Но поднялись все-таки довольно быстро.
В приоткрытую дверь квартиры намело инея. Коридор был полон морозного света.
– Это была не бомба, – сказал Шурка. – Мы думали – бомба, потому что не разбирались. Теперь ясно видно – снаряд.
Сквозь дыру виднелся флигель соседнего дома. Вместо потолка было небо. Комната оказалась совершенно пуста. Калоши не было. Потому что и кровати не было.
У Тани задрожали губы. У Бобки задрожали губы.
– Но мы попытались, – сказал Шурка. И тоже заплакал.
– Давайте сахар съедим. А то обратно не дойдем.
Уселись прямо на пол. Казалось, сели на ледяную плиту. Таня развернула узелок. Захрустели сахаром.
Шурка почувствовал, что больше не расстраивается из-за исчезнувшей калоши. Совсем. Чудеса!
– Я бы килограмм сахара мог съесть! – сообщил он.
– А я бы его полила маслом, перемешала и съела бы ложкой.
– Таня, неужели я не хотел есть кашу? – не мог поверить Бобка. – Я знаешь что думаю? Я на самом деле ее съел! Просто забыл.
– Ничего, Бобка. Забыл и забыл, – великодушно согласилась Таня.
– Тань, пошли завтра в школу.
Сестра ощетинилась:
– Нет.
– Да ладно тебе… А обед?
– А мы еще что-нибудь сменяем.
– А почему у дворничихи есть сахар, а у нас нет? – подал голос Бобка и перекатил тающий кусок за другую щеку.
– Тань, ну нельзя менять до бесконечности.
Молчание. Только чмокал Бобка: он сахар не грыз, а рассасывал, чтобы хватило на дольше.
Сверху посыпалась искристая снежная пудра. Упало несколько хлопьев. Ветер пролетел по коридору.
– Тихо.
В открытую дверь слышались шаги на лестнице. Медленные. Шаг. Тишина. Шаг. Тишина. Шаг. Шаг. Шаг. Кто-то прошел по площадке. И опять тишина. Наверно, человек изучал фамилии жильцов. Притом что дверь стоит нараспашку.
– Нет здесь никого, – пробормотал голос. И без надежды позвал: – Есть тут кто?
– Есть! Есть! – крикнула Таня.
Поднялась. Помогла встать Бобке.
– Кто?
– Есть. Мы.
На площадке стояла девушка в меховой куртке. Через плечо у нее была перекинута на ремне сумка, в руках она держала посылочный ящик.
– Вы здесь живете? Квартира тридцать четыре?
И тут увидела небо вместо потолка. Голубовато-золотистое, как бывает в хороший зимний день.
– Квартира тридцать четыре, – подтвердила Таня. – А вам кого?
– Вы здесь не живете, – отрезала почтальон. – Не стыдно тебе врать, девочка? Играть здесь нельзя. Не видите, что ли, – аварийный объект. А ну уходите.
Но Шурка уже узнал ящик.
– Прокофьева! Вера! Прокофьева! – завопил он от испуга, что девушка сейчас уйдет.
Таня и Бобка смотрели на него ошалело. У Бобки замер за щекой тающий кусок, он шумно проглотил слюну.
Надпись на ящике была жирно перечеркнута красным крест-накрест. А в кривоватом овале, решительно отчеркнутом тем же карандашом, значились фамилия и имя тети Веры.
– Прокофьева Вера отправляла!
Почтальон сомневалась. Но посылка оттягивала ей руки. И не хотелось думать, что тащилась по лестнице зря.
– С Главпочтамта! – довершил Шурка.
И лицо ее смягчилось.
– Ладно. Похоже, не врешь. Адресат выбыл, – официально сообщила она. – А играть здесь нельзя.
И бухнула ящик на пол.
– Красноярский край? – нахмурила брови Таня.
– Это где? – заволновался Бобка. И даже дернул Таню за жилет.
Без толку. Его не слышали. Теперь и Шурка, и Таня разглядели на ящике, под жирными красными линиями крест-накрест, выведенное тети-Вериным почерком мамино имя.
Глава 44
Шурка зубами стащил варежки. Вцепился в край рогожки. Надкусил. Дернул – не поддалась.
Таня бросилась к нему.
– Погоди.
– Ты что?
– А вдруг там… Мы же не знаем…
Шурка только отмахнулся. Наступил ногой на рогожку, обеими руками потянул на себя. Рогожка затрещала, посыпались коричневые кусочки сургуча. Оба остановились. Сероватый посылочный ящик был неприступен, как гробница фараона. Блестели шляпки глубоко вбитых гвоздей. Шурка попробовал ногтями – бесполезно.
Поднять этот ящик они, может, и смогли бы, но унести – точно нет.
– Постой, – нисколько не приуныла Таня. – А мы сделаем как орлы.
– Чего?
– Вы с Бобкой идите вниз.
– А ящик?
– Нет. Не идите, – Танины мысли, похоже, лихорадочно прыгали. – Сперва помогите ящик выпихнуть на площадку.
И все трое стали толкать ящик, прямо взмокли. Он оставлял за собой снежную борозду, скрипел по деревянному полу, норовил поцарапать своих завоевателей. Коленки тряслись от слабости. На гладкой площадке дело пошло живее.
– Идите вниз, – велела Таня.
– Зачем еще?
– Да брось ты мишку здесь, Бобка!
Бобка одной рукой держался за прутья (до перил он не доставал), другой прижимал к себе мишку. Ноги он переставлял со ступеньки на ступеньку: шаг, передышка, еще шаг.
– А ты?
– А я, – загадочно ответила Таня, – буду орлом.
Наконец они спустились.
– Вы уже там? – эхом запрыгал по лестничной клетке Танин голос.
Шурка задрал голову: лестница завивалась вверх, как раковина моллюска.
– Мы тут.
В самой середине завитка мелькнуло Танино лицо.
– Готовы? Уйдите!
– Так придите или уйдите? – рассердился Шурка. Борьба с ящиком измотала его. Слабость в коленках все не проходила.
– Уйдите! – замахала рукой Таня.
Шурка с Бобкой отступили под лестницу. И в тот же миг – бах! Крак! Казалось, ровно в центр площадки угодила бомба.
Танин голос сверху позвал:
– Получилось?
Ящик лежал на площадке, весь какой-то осевший, рейки лопнули от удара. Крышка отскочила.
– Орлы так раскалывают черепах, – сообщила сверху Таня. – Не смотрите там без меня! Я спускаюсь!
Одну пачку печенья съели сразу. Сушеные яблоки и изюм рассовали по карманам.
– Мамочка, – радовались все трое, – миленькая…
Печенье – за пазуху. Таня задрала пальто, потом платье, завязала подол узлом на животе: туда ссыпали конфеты. В застегнутом с трудом пальто Таня сделалась негнущаяся. Витамины Шурка засунул за резинку рейтуз. У всех троих пот бежал по спине.
Рукавицы натянули на Бобку: они дошли ему до локтей, даже выше, руки сразу стали неповоротливыми.
– Брось ты этого мишку!
Но Бобка как-то исхитрился и заткнул мишку себе под мышку.
Шурка первым сказал то, о чем думали все трое:
– Если «адресат выбыл», значит, мама едет!
– Она едет к нам!
Топали весело. Протопали мимо булочной. Угрюмая темная очередь уже не казалась такой безнадежной, потому что не имела к ним отношения. Зачем хлеб, да еще такой тугой, серый, сыроватый, когда есть печенье! Белое, сладкое, хрустящее, только чуть-чуть тронутое горькой зеленоватой пыльцой.
И конфеты! Твердые как камни. Но сладкие! Настоящие!
И сушеные яблоки!
Все трое мысленно сочиняли обед. Яблоки, изюм, кусочки печенья – и все это залить кипятком…
Прохожие брели мимо, равнодушно скользя взглядом. И даже не делали попыток увернуться, обойти друг друга. Шурке больно заехали в плечо поленом: мужчина в шапке нес его как младенца.
– Бублик обрадуется!
– Собаки яблок не едят.
– Печенье едят.
– Мане тоже дадим. Она хорошая.
– А мама скоро приедет? – спросил Бобка.
– Конечно! – уверенно ответила Таня. – Раз посылка ее не застала.
Дома провожали их золотисто-розовыми улыбками – солнце садилось, словно перетрудившись даже от короткого ноябрьского дня.
Шурка хотел сказать, что тетя Вера отправила посылку еще летом. Когда еще никаких немцев не было. И войны тоже. И что… Нет, Таня знает что говорит. Ему хотелось так думать.
Как оказалось, собаки тоже едят сушеные яблоки.
– Откуда у вас? – изумилась Маня, когда и ей отсыпали изюма. И нахмурилась: – Вы бы с вещами поосторожнее. Вас и обмануть могут, и отнять даром. Или чего похуже.
– А нам мама прислала! – заявил Бобка.
А Маня так странно глянула на Шурку, что он отвернулся.
От свечи казалось, что в комнату внесли прозрачный оранжевый шар. По углам скопилась темнота. Шкафы, стулья, диван было не отличить от их собственных теней. От растопленной Маней печи шло тепло.
Витамины развели в воде. Получился кисленький лимонад, только без пузырьков.
Печенье Бублик не доел.
– Может, ему не нравится?
Пес долго и шумно лакал воду. Все перестали болтать и начали наблюдать. Он осторожно взял зубами огрызок печенья – и пошел.
– Куда это он?
– Тихо, не спугни, – шепотом остановила Таня Бобку.
Бублик подошел к двери, Таня – за ним.
– У него есть тайник, – беззвучно пояснила сестра.
– У Бублика? – усмехнулся Шурка.
– У всех свои секреты.
Это замечание Шурке не понравилось. Таня с невинным видом, будто невзначай, приоткрыла дверь. Бублик тихо вышел в темный коридор. Он крался осторожно, не стуча когтями.
– Собаки произошли от волков. У всех диких животных есть тайники, – шепотом просвещала Таня.
Темный коридор и правда напоминал пещеру. От стен дышало каменным холодом. Шурке на миг показалось, что они первобытные люди. Все ступали так, будто в темноте затаился саблезубый тигр.
Внезапно Бублик выронил печенье (оно выпало из пасти с сухим стуком) и зарычал в темноту.
– Фу! – раздался громкий голос дворничихи. – Это ты, поганая собака! Вот я тебя!
И зашуршала, будто тащила по полу что-то большое, тяжелое. Но не к входной двери, а в другой конец коридора. Таня, Шурка и Бобка окаменели в темноте. Дворничиха их не видела. Бублик опять зарычал на темноту.
– Пошел отсюда, – грубо скомандовал голос. Но после паузы смягчился: – Иди сюда. У-тю-тю. Хорошенькая собачка. Иди, смотри, что дам.
В темноте что-то стукнуло, звук был железный. Под ногой дворничихи хрустнуло оброненное Бубликом печенье. Она приближалась.
Шурка с ужасом вспомнил мужчину в шапке. Таня, видно, тоже.
– Бублик! – нарочно громко взвизгнула Таня. – Ты где?
Глава 45
Таня заперла дверь ключом. Задвинула щеколду. Привалилась спиной.
– У нее был топор, – прошептала Таня так, чтобы Бобка не слышал. – Или мне померещилось?
Шурка вспомнил, как ему самому всю дорогу мерещилось, что снег говорит «сдохнем».
– Видела? В темноте? Топор? – иронически уточнил он.
– Ну, может, ломик.
– Какой еще ломик?
– Которым она лед скалывает.
– Она что-то тяжелое тащила.
На столе догорала свеча. Она сделалась совсем коротенькой. Показывала только оранжевого Бобку, который кормил оранжевым сушеным яблоком оранжевого мишку. А так как мишка не разжимал пасти, Бобке опять пришлось учить его личным примером:
– Клади в рот. Вот так… Жуй.
Ручка двери за Таниной спиной ожила, задвигалась вверх-вниз. Таня отпрыгнула.
– Кто там? – беспомощно вскрикнул Шурка.
– Вы что, заперлись? – ответил Манин голос.
– Это Маня, – шепнул Шурка.
– Это… Она изображает Маню, – диким голосом прошептала Таня.
– Прекрати, Таня, – слегка рассердился на нее Шурка, потому что и ему стало не по себе.
– Вы что не отпираете? – удивился из-за стола Бобка.
Бублик не рычал и не лаял. Это убедило.
Маня тут же заглянула поверх их голов. Обшарила глазами комнату, старательно избегая встречи с другими взглядами.
– Вы это… – раздраженно-нетерпеливо заговорила она, не переставая оглядывать комнату. – Не по-честному как-то. Я вам дровишки почти месяц подкидываю. Больше – два месяца почти! И в школу записала. А вы мне взамен какие-то ягодки сухие подсунули, и рады. Да я вам только дров рублев на двадцать одолжила. Если не на сорок. Точно! На сорок. Вы тут объедаетесь, а отдавать кто будет? Пушкин?
Таня сориентировалась быстрее, чем Шурка. Быстро схватила со стола печенье, сунула Мане в руки и, пока та соображала, захлопнула дверь. Задвинула защелку.
– Маня хорошая, – попробовал вступиться Шурка. – Она просто немного… просто хочет есть.
– Не нравится мне это, Шурка.
– Маня хорошая, – упорно повторил он.
– Послушай, давай все соберем, посмотрим. Разделим. Чтобы не вышло так, что мы все быстро съели.
– Так ведь мама уже едет к нам…
– Тем более.
Таня принялась раскладывать на столе печенье – на три кучки.
– Это ты, я и Бобка, – пояснила.
– А Бублик?
– Точно, – смутилась она. – И Бублик.
Добавила четвертую. Кучки сразу уменьшились. Настала очередь конфет.
В дверь опять застучали. Забарабанили.
– Откройте! – вопила Маня.
Таня глянула на Шурку испуганно. В глазах у нее оранжевыми точками отражался огонек свечи.
– Она не злая, – повторил Шурка. Но уже не слишком уверенно.
Таня быстро накрыла печенье подушкой. Шурка отпер.
– Вот что, – нервно затарахтела Маня. Глаза горели на впалом лице. – Я тут посчитала: дров я вам одолжила вовсе не на сорок, а на сто рублев! А вы тут разбогатели, смотрю. А надо бы долг отдать.
Она норовила войти. Сдвинуть Шурку.
– У нас нет денег, – пискнул Шурка.
Таня бросилась стремглав, сунула Мане твердые камушки конфет и, пока та смотрела в ладонь, ловко толкнула ее и опять заперла дверь.
Несколько мгновений тишины – и в дверь снова забарабанили так, что Бобка вздрогнул.
– На сто рублев у меня дров извели! А кто отдавать будет?!
– Шурка… – в Танином голосе стояли слезы. – Она не отстанет, пока мы ей не отдадим все.
В дверь бухали уже ногой: бум! бум! бум! И каждый раз Бобка подскакивал.
– Шурка!
– Погоди, сейчас кто-нибудь из соседей прибежит на шум и уймет ее.
Бум! Бабах!
– Ты давно хоть каких-нибудь соседей видел?
– Мы же в школе были, – возразил Шурка. – Я был. И вообще, ходили туда-сюда.
Дверь тряслась: бум! бу-бум!
– Ты что это, гадина, безобразничаешь? – грохнул издалека голос. – Имущество портишь!
Но это был голос не соседки с косой, не соседки в очках, похожей на сову, не соседки-старушки, не соседки с неандертальским лбом и тем более не соседа. Это был голос дворничихи. Таня и Шурка слушали из-за двери ни живы ни мертвы.
– Сама гадина, – хрипло огрызнулась Маня. – Не твое дело. И имущество не твое. Катись к себе в дворницкую.
– Очень даже мое.
– С каких это пор, интересно?
– А это видала?
Неизвестно, что там показала Мане дворничиха, но стало тихо.
– Не вижу. Что ты мне бумажку суешь? Что я тебе, летучая мышь, чтобы в темноте читать? – предприняла новую атаку Маня.
– А я тебе спичечкой посвечу. Я тебе, гадине, вслух прочитаю. Ордер это, курица ты слепая! Живу я теперь здесь, вот чего!
– За парамоновским добром приперлась, скажи лучше.
Шурка, Таня и Бобка молчали. «Парамоновское добро» мерцало отблесками пламени из темноты, будто смотрело на них крошечными оранжевыми глазками.
– А плевала я на твое мнение, Манька. Кончилась твоя власть криком. Вот ты где у меня теперь! Я теперь ответственная по квартире…
Глава 46
Ночью спали тревожно. Натянули на себя все, что нашли, и все равно мерзли. И все время что-то отвлекало. То зудело и хотелось почесаться под слоями одежек, то донимали мысли о печенье, конфетах, изюме, то казалось, будто кто-то шаркает в коридоре.
А утром стало тихо и нестрашно. Только очень холодно. Выскользнув из-под груды одеял, Таня сразу перебралась в пальто. Передернула плечами: за ночь оно остыло, подкладка холодила. Таня отодвинула край светомаскировки: в комнату плеснул золотистый снежный свет. От окна поддувало.
Надо было искать дрова. Самим. И воду. Самим. И хлеб. Самим. Но это потом, потом.
С мамой все будет иначе.
– Она нас наверняка ждет на старой квартире, – вдруг сказал Шурка, заматывая шарф.
Таня помотала головой.
– Если посылка приехала, то человек тем более!
– На какой старой?
– На тетиной старой. Идем!
– Ерунда.
– Таня, она не знает этого адреса.
– Я тоже хочу к маме!
Бобка почти не помнил маму, но помнил, что мама – это очень хорошо.
– С Бобкой мы не дойдем. А с Бубликом – тем более.
– Что ты предлагаешь?
– Ты их карауль. Я одна схожу и приведу.
– Нет, Таня, вместе.
– Но мы не дойдем с Бобкой! – чуть не заплакала сестра.
Бобка сидел, обняв мишку, и смотрел серьезно.
– И не спорь, Бобка!
Он и не спорил. Только шмыгнул носом раз, другой, потом раскрыл рот и заревел.
– Бобка, ну ты же пойми! – всплеснула руками Таня.
– Я ее боюсь…
– С тобой Шурка будет! И Бублик! А мама придет – и ей покажет!
– Я с ва-а-ами!
Шурка вспомнил женщину у детского сада.
– Вот бы санки нам. Мы бы тебя, Бобка, домчали с ветерком.
– Шурка! Что ты его только растравляешь! – рассердилась Таня. – Один мост какой длинный!
На прежнюю тетину квартиру нужно было идти через Неву.
– Ну вот что, Бобка, – нашлась Таня, – вот тебе настоящие часы, – сняла она их с запястья и протянула брату. – Тети-Верины, золотые, между прочим, так что не очень-то!
Бобка, хлюпнув носом, бережно принял их в ладошки. Часы были еще теплыми от Таниной руки.
– Будешь сам по ним время смотреть. Когда эта стрелка дойдет вот сюда, тогда мы и вернемся.
Бобка благоговейно наблюдал неслышную работу механизма. Отогнул край шапки. Приложил к уху.
– Тикают…
– Конечно, тикают. Я их сегодня утром завела, на несколько дней хватит.
– Я спрячусь, – предложил Бобка. – Я хорошо прячусь.
– А ты можешь? – обрадовалась Таня. – И с Бубликом?
– Погоди, Бобка, – остановил его Шурка. – Покажи сперва. Может, это неудачное место.
– Вы, главное, придите с мамой!
– Мы с ним столько играли в прятки. Он точно знает хорошее! – уверила Таня, помогая Бобке застегнуть часики; они болтались свободно на тоненькой руке. Нахмурилась, натянула на них рукав Бобкиного свитера, оправила сверху рукав пальто. – Знаешь ведь, Бобка?
Бобка подошел к комоду. Втиснул туда Бублика, потом мишку. И исчез – хотя комод вроде бы стоял вплотную к стене.
Шурка заглянул за комод: его мраморная столешница слегка выступала назад, и между задней стенкой и стеной оставалось небольшое пространство.
– Здорово, – признал он. – Но… А если она отодвинет комод?
– Она же не будет знать, что Бобка там.
– А если Бублик зарычит и выдаст?
– Бублик не такой дурак, – отозвался Бобка из-за комода.
– А мишка? – не удержалась Таня.
Бобка высокомерно промолчал.
Остатки печенья засунули туда же. Бумажные упаковки витаминов Таня забросила на печку. Конфеты рядком сложили за диван. Даже если дворничиха или Маня найдут что-то одно, то все сразу они найдут вряд ли.
– А если Бобка захочет писать? – задал последний важный вопрос Шурка.
– Вы, главное, придите с мамой, – пропыхтело из-за комода.
Глава 47
Самым коротким был путь до моста. Нужно было всего лишь идти по их улице, никуда не сворачивая, до площади Жертв революции. Оттуда мост, сам широкий и длинный, как проспект, перепрыгивал Неву и ложился прямо под стены рыже-красной крепости с золотым шпилем. А там уже было недалеко.
От печенья, съеденного с кисленьким кипятком, в желудке было тепло. Снег хрустел. Черные фигурки прохожих попадались редко – казалось, они были нарисованы далеко-далеко на белой бумаге. Из той же бумаги были вырезаны деревца – они поражали сложностью работы. Голубела тоненькая тропинка, протоптанная посреди улицы. Небо было золотистым, только на краю собирались серые, полные снега тучи.
– Маня хорошая, – повторил Шурка. – Она только шумит.
На шарфе у Тани, там, где он прикрывал рот, образовались кристаллики инея. Она оттянула шарф рукой.
– Вот и я училке то же самое сказала.
– Про Маню?! – изумился Шурка. Он поднял у шапки одно ухо: вдруг опять не расслышал? В ухо ему тотчас вцепился зубами влажный морозец. Чувствовалось, что за сомкнутым рядом домов уже стыла Нева.
– Я ей сказала, что когда людям хорошо – они хорошие. Когда им плохо – они плохие. А когда им ужасно – они ужасные. А хороших или плохих людей или, там, добрых и злых – нет. И сейчас людям очень плохо. Вот и все.
Она остановилась.
– Шурка!
– Ты что?
Таня вертела головой.
– Ты что? Таня?
– Шурка, этот дом – зеленый?
Дом был скорее серый, облезлый; лепные украшения выглядели не вполне отвалившейся коростой. Небо над ним было таким чистым и свежим, а снег вокруг – таким вкусным и холодным, что дом казался особенно старым и больным.
– Ну… зеленоватый. А что?
Таня снова пошла. Улица бодро пошла вместе с ними. Они шли и шли. А слева и справа стояли все те же самые дома. Ничуть не сдвинулись.
Таня остановилась. Улица остановилась. Зеленоватый облезлый дом не мигая смотрел своими заклеенными, заделанными фанерой окнами.
Таня опять пошла. Улица тоже пошла.
Таня остановилась. А дом пошел. Но спохватился. Замер. Изобразил, что он ни при чем.
И Тане это очень не понравилось.
– Да что ты все останавливаешься? – рассердился Шурка. – Я так еще больше устаю.
Таня сделала несколько шагов. Но ноги топали вхолостую. Словно под ногами ехало.
Прохожий поодаль взмахнул руками – и мягко, как ватный, упал.
Зеленоватый дом наблюдал. Скалился балконами.
– Ему как будто смешно, – изумленно пробормотала Таня.
Тротуар под ними дернулся, как скатерть под чашкой, – и Шурка свалился. Лежал как жук, только руки и ноги медленно загребали воздух.
Таня поднатужилась, перекатила его на живот. Но никак не могла поднять.
Голубоватая тень накрыла их. Сверху протянулась рукавица. Схватила Шурку за воротник, потащила вверх. Поставила на ноги. Выпустила.
– Спасибо, – только и успела сказать Таня.
Прохожий даже не обернулся, нетвердо продавливая ботами ямки в снегу. То ли мужчина, то ли женщина – не понять.
Шурка выпрямился. На коленях, на рукавах повисли бомбочки снега.
Таня смотрела остолбенело. Она больше не сомневалась: заснеженный тротуар тянуло, как белую ленту. Столько времени и сил они потратили, а все равно недалеко ушли от зеленоватого дома! Движение было едва заметным глазу, но несомненным. Таню мотнуло в сторону, она едва удержала равновесие.
Шурка подхватил сестру, посмотрел в ту же сторону, что и она, но не увидел ничего особенного: дом как дом, старинный, облезлый. В Ленинграде таких много.
Таня шевельнула губами, будто сказала что-то, вздохнула и побрела вперед. Но теперь замер Шурка: из арки дома вышли женщина с мальчиком. Они шли как против ветра – сильно наклонившись вперед. Тянули санки. К санкам была привязана доска. А на доске – мумия, туго завернутая в белую ткань. Санки взвизгивали, попадая на утоптанную тропинку, заезжали полозьями в нетронутый сугроб, и женщина и мальчик наклонялись еще больше. Мумия равнодушно задирала вверх ступни.
Санки свернули за угол. И только тогда Шурка отвел взгляд, проглотил комок в горле.
– Таня…
Она опять остановилась, но не повернулась к брату – смотрела на дом. Дом смотрел на Таню.
– Мы идем, идем, идем… А он все тут.
– Что ты, Танька, сочиняешь, – испугался Шурка.
– Тротуар двигается, ты что, не видишь?
Шурка хотел на нее рассердиться. Но сам вдруг почувствовал, что стороны улицы, как два берега или половинки разводящегося моста, отплывают друг от друга. Площадь Жертв революции тронулась, поехала, как набирающая ход карусель. Белесое небо – тоже. У Шурки закружилась голова.
– Шурка…
Таня, чуть не упав, присела на каменную тумбу. А Шурка, покачнувшись, схватился за сестру.
– Это он, – голубоватыми губами прошептала Таня. – Он что-то с нами делает.
И выдохнула:
– Город. Он нас морит как тараканов. Все это нарочно. Он не хочет, чтоб мы жили.
– Нас, Танечка, немцы морят.
Таня глядела на снег, на круглые мыски своих валенок. Пожала плечами.
– Такой красивый. А мы в нем так некрасиво жили.
– Ты считаешь, мы сами виноваты?!
Она съехала с тумбы, огляделась: дома, их стройный ряд, уходивший к мосту, крыши под снегом, иней на деревьях. И беспомощно крикнула – крышам, слепым домам, сама не знала кому:
– Это нечестно! Слышишь? Жестоко! Ты только отнимаешь! Твоя красота – красивенькое вранье! Ненавижу!
Воздух зашелестел. Таня оглянулась. Шурка задрал подбородок. Воздух взвыл. Хлопнуло. Дом кивнул. Балкончик сорвался вниз. Брызнул снег. Гипсовые столбики покатились как кегли. Шурке лишь ушибло ногу. Дом промахнулся. Оскалился зубами-кирпичами. Воинственно топорщились на крыше каменные фигуры и вазы, как перья индейца на тропе войны.
– Ты это видел?! – заорала Таня. – Он!
Воздух опять засвистел.
– Бежим!
Шурка схватил ее за руку. Поволок.
И там, где только что стояла Таня, хлопнулась, разлетевшись снежными и каменными брызгами, большая ваза.
– Это был обстрел, – неубедительно настаивал Шурка.
– А атланты тогда? Скажешь, каменные?
– Тоже обстрел. Просто мы не слышали, как начался.
– Ох, только бы Бобка…
Когда они добрались домой, на лестнице было совсем темно.
– Как мы могли оставить Бобку одного! – все твердила Таня. – Никогда себе не прощу.
– Ничего-ничего, – бормотал Шурка. – Видишь, дом цел.
– А вдруг и он…
В темноте поднимались, нащупывая ногой ступеньки и шлепая ладонями вдоль стен.
– Все, больше никогда не разделяемся, понял? Только вместе!
– Бобка! – не выдержал, крикнул вверх, в раковину лестницы, Шурка. – Ты дома?
– Бобка!
– Таня, он дома. Просто не слышит.
Но Шурка сам себе уже не верил.
Таня пыхтела и отдувалась. Потом не могла попасть ключом в замочную скважину. Он плясал у нее в пальцах.
– Ты же видел. Ты же видел сам…
– Бобка, Бобка! – дрожащим голосом звал Шурка.
Ключ звякнул, пропал внизу в темноте, как на дне колодца. Таня опустилась на корточки и принялась шарить по полу.
– Таня, ну что же ты копаешься!
Вдруг дверь квартиры открылась сама, на пол лег дрожащий клин света, показал черную палочку ключа. Таня схватила его. Подняла взгляд. В дверях стоял Бобка, а на полу – свеча. Держать ее Бобка не мог: в одной руке у него была большая витая булка с маком, в другой – надкусанная груша.
– Ты… э-э-э… чего шапку снял? – промямлила Таня.
Они с Шуркой уставились так, словно Бобка был привидением. Давно не мытые Бобкины волосы стояли кустом. Свеча подрагивала. Тени ходили по стенам. По потолку. По Бобке, по булке, по груше. Откуда-то поддувало холодком. Они даже забыли отругать Бобку за то, что он без разрешения вылез из-за комода.
Есть Бобка не спешил. Он явно был сыт. Груша успела слегка заржаветь.
– Я уже одну съел, – объяснил он и засмеялся.
– Дай, – не выдержала Таня.
Бобка охотно протянул ей обе руки. Таня и Шурка схватились одновременно. Разломили булку. Таня не сразу смогла укусить грушу. Но справилась. Промычала что-то с набитым ртом.
Бобка засмеялся:
– Вкусно?
Шурка жевал, закрыв глаза: после блуждания на морозе есть хотелось в сто раз сильнее.
– Вкусно? – улыбался до ушей Бобка.
Таня помотала головой: неописуемо.
Она даже не спросила – откуда. Ясно же откуда. Только один человек мог ее привезти. Из далеких краев.
Дом, мумия на саночках, пухнущие улицы, каменная ваза – все забылось. Все было уже неважно.
– Мама!!! – радостно завопили в два голоса Таня и Шурка в темноту коридора. – Мамочка! Мы здесь!
Глава 48
В комнате было темно. От свечи ложились длинные шевелящиеся тени. Комод был выдвинут почти на середину комнаты. Печенья у стены не было.
Бублик обнаружился на кровати. Ткнулся Тане в руку. Из пасти у него пахло карамелью.
– Балбес, – сказала Таня и поцеловала его в мягкий лобик. – Мама, ты здесь? – спросила она темноту. Никто не ответил. Подняла свечу.
Диван тоже стоял под углом – будто кто-то рванул его от стены изо всех сил.
От груши на руку стекал сок, Таня его слизывала.
– Мама?
Люстра мерцала сверху стекляшками, посылая обратно свет свечи. Словно подмигивала: знаю все, но не скажу, нет-нет, и не просите.
– В ванной ее тоже нет, – возник в дверях Шурка.
Таню осенило. Она отодвинула Шурку, высунула голову в коридор:
– Тетя Вера! Это ты?
Пламя свечи запрыгало на сквозняке. Дверь на кухню поскрипывала, сквознячок прикидывал и все не мог решить: закрыть ее? не закрыть?
– Может, она пришла, а нас нет – и она пошла искать нас? – предположил Шурка. – Бобку накормила и пошла. – Посмотрел на Бобку: физиономия брата показалась ему подозрительной. – Бобка, ты ей сказал ведь, что мы за ней пошли?
Тот замялся.
– Она на кухне? – подсказала Таня.
– Наверно, колет дрова? – уточнил Шурка.
Только что-то ни звука не доносилось.
– Ты на кухне? – крикнула Таня.
Она сама уже не знала, кого имеет в виду – маму или тетю Веру.
– Не ходи туда, – наконец выдавил Бобка. – Туда не надо.
– Бобка, что? – обернулся Шурка.
– Там с той тетей…
– С Маней? – подсказал Шурка.
– С мамой? – еле выговорила Таня.
Бобка спокойно смотрел круглыми глазами.
– Нет, с той злой, – мотнул он головой. – С ней… нехорошо.
Таня и Шурка тотчас бросились на кухню. Таня застыла на пороге. Шурка заглянул – и замер.
Тети Веры на кухне не было. Из окна с сорванной светомаскировкой струился тихий лунный свет. Стекло вынесло взрывной волной. В кухне стояла черная студеная ночь. Большую, давно остывшую плиту покорежило; она уже не могла рассказать, что случилось.
Нашлось и печенье – оно горкой лежало на столе. В лунном свете оно было похоже на руины игрушечного замка.
Дворничиха сидела за столом, откинувшись на спинку стула. Руки лежали на столе, как будто она хотела сделать что-то совсем обычное – например, разложить пасьянс или накрасить ногти. И даже глаза у нее были открыты. У руки стопкой лежали хлебные карточки. У другой руки – топор. Лунный лучик нарисовал на нем полоску. Изо рта у Шурки, у Тани, у подошедшего Бобки вырывался парок. А вот у дворничихи – нет.
Напротив дворничихи на стуле сидел мишка. Желтоватый глаз блестел выпуклым лунным бликом. Четырьмя дырочками глядела пуговица.
Он улыбался.
– Я мишку позвал. А он не идет, – сообщил Бобка.
Таня вывела его из кухни, решительно закрыла дверь, прижала покрепче. Она дышала так, будто пробежала всю лестницу вверх и вниз.
– А что с ней? – полюбопытствовал Бобка. – Я ее тоже звал, она не пошла. И почему у нее так много хлебных карточек?
– Э-э-э-э… – потянул Шурка.
– Ничего особенного. Она превратилась в куклу, – быстро проговорила Таня.
– Это как?
Таня пожала плечами.
– С некоторыми бывает.
– Потому что она была злая?
– Отстань, Бобка, – не выдержала Таня. – Сказано тебе: так иногда бывает.
Прикрыла на ходу рукой пламя свечи от сквозняка.
– Печенье осталось там, – просипел Шурка, когда они вернулись в комнату. – И мишка.
– Я сегодня больше не могу, – просто призналась Таня. – Завтра.
Они помогли Бобке перебраться на кровать. Нахлобучили на него шапку.
– Валенки не снимай, – велела Таня.
Навалили сверху одеял. Но и сюда из кухни веяло холодом и жутью. Слышно было, как воет, наигрывая на зубьях разбитого окна, ветер.
– Маня придет и скажет, что делать. Милиционера вызвать или санитарок, – сказала Таня и добавила уже не так уверенно: – Отдадим ей печенье. Пусть. Лучше так, чем так.
Но долго она не выдержала.
– Бублик, – позвала.
Взяла свечу. Один оранжевый круг на потолке отделился от другого.
Бублик смотрел с кровати. Таня подошла, взяла его под живот, поставила на пол.
– Пойдем гулять, Бублик.
Пес стоял, широко расставив лапы, с поникшей головой. Устало махнул хвостом. Ему никуда не хотелось идти.
– Пошли с нами, Шурка.
– И я с вами, – вызвался Бобка.
– А ты сиди, грей нам постель, – дала ему задание Таня.
Шурка взял Бублика на руки. Через пальто и свитера он чувствовал, как бьется собачье сердце. От этого стало чуточку спокойнее.
Вышли в коридор.
– Таня, зачем?
Из разбитого окна кухни тянуло. Таня несла свечу, прикрывая огонек рукой в варежке; оранжевым паром клубилось дыхание. В коридоре не было ни стен, ни потолка – только твердый невидимый пол с чернотой вокруг. Блеснуло в ответ свече зеркало. Белыми змейками, будто пугаясь света, разбегался иней. Было не понять, куда ведет коридор, где он кончается и сколько здесь комнат. В студеной темноте квартира казалась большой и незнакомой. А может, и правда изменилась.
Таня шла и шла. Она уже поняла: коридор растягивается, как труба телескопа, а стены раздвигаются, относя двери друг от друга. Остановилась.
– Таня, мы куда? – не выдержал Шурка.
– Писать, – холодно ответила Таня. – Или ты в уборную готов идти?
Он не стал возражать. Идти в уборную пришлось бы мимо кухни. Нет уж, ни за какие коврижки.
– Пусти сначала Бублика, – смягчилась сестра.
Шурка спустил пса в темноту. Бублик прижался к его ноге.
– Ну давай, Бублик, – подтолкнул его Шурка в костлявый зад.
Тот жалобно скосился, сверкнул белками. Он тоже боялся кухни.
– За мной, – решилась Таня.
Толкнула дверь – та поддалась. В чахлом свете свечи непонятно было, чья эта комната: мебель громоздилась черными скалами.
Таня подняла свечу. На дверце шкафа висел тулуп дворничихи.
– Вот куда она перебралась, – пробормотала Таня.
Она узнала комнату: здесь жила горластая соседка, которая угощала всех мясом.
Таня подошла к стене. Тускло блеснула стальная кнопка, прикреплявшая фотографию: юноша в военной форме, лицом походивший на дворничиху, засунул большие пальцы за ремень и широко улыбался. Видно, показывал маме, что немцев они расколотят через неделю, самое большее две, не о чем и волноваться.
Тане стало грустно, она отодвинула свечу. Юноша исчез. Круг света показал Бублика. Тот нехотя обнюхивал пол.
– Мы уберем, – заверил его Шурка. – Потом…
На сердце у Тани было тяжело. Хотелось плакать. Но и на это не было сил.
Шурка услышал, как сестра тяжело вздохнула: наверное, сердилась на пса.
– Давай уже, Бублик, ну!.. – поторопил его Шурка.
И Бублик решился. Крутанулся вокруг себя, словно по привычке приминая невидимую траву. Растопырил лапы, выпрямил хвост. Замер. В полумраке казалось, что он летит с вытянутым хвостом, сидя на пушечном ядре. А потом снова ожил. Дернулся пару раз задними лапами, замел следы, как бы показывая, что правила никто не отменял, и зацокал обратно.
– Отвернись, – велела Таня Шурке, стянула зубами варежку. – Мне тоже надо. А лучше выйди.
Потом вернулась и передала Шурке свечу.
– Представляешь, – бесцветным голосом сказала она, – а в шкафу деньги. Много денег.
– Чьих? – не понял Шурка.
Таня кивнула в ту сторону, где сидела неподвижная дворничиха.
– Не факт, – робко отозвался Шурка.
– Факт, – мотнула головой Таня. – И вещи из чужих комнат. Иди сам посмотри.
Деньги и правда были в шкафу – стопка радужных бумажек. А на вещи Шурка и глядеть не стал. Он их боялся. Штаны застегнул уже в коридоре.
Глава 49
– Это вы? – спросил из-под одеял Бобка.
– Мы.
Таня поставила свечу на пол. Взяла Бублика, засунула к Бобке.
– У него холодные лапы, – пожаловался тот. – И твердые. А у мишки – мягкие.
– Не капризничай. Завтра будет тебе мишка.
Шурка взвизгнул так, что Таня и Бобка подпрыгнули, а пламя свечи дрогнуло. Заплясали, заходили ходуном черные тени.
– Мамочки!..
Бублик тявкнул.
– Что? Шурка?
– Ой, мамочки! Смотри! Смотри… Ой, лучше не смотри!
– Да что там?!
Шурка схватил со стола новенькую свечу, стал тыкать белым восковым хвостиком в пламя огарка. Хвостик не желал загораться, трясся в Шуркиных руках.
– Что там? Что там? – волновался Бобка.
– Шурка, что там?
Но Шурка все никак не мог попасть фитильком в пламя – пальцы не слушались, только загасил огарок. Со всех сторон их сжала темнота.
– Вы где? – Бобкин голос дрожал.
– Шурка, прекрати! – чуть не расплакалась Таня.
Слышно было лишь шуршание спичек; в конце концов Шурка чиркнул. И в пляшущем отблеске спички они увидели: из золоченой рамы свесилась плюшевая лапа. Покачалась, покачалась (Шуркино сердце бухало в такт), затем высунулась другая, мишка перевалился через край и мягкой коричневой бомбочкой ухнул на кровать.
Спичка погасла. Толкаясь и стуча зубами, зажгли все-таки свечу.
Таня подняла ее повыше.
– Ой, мамочки! – снова вскрикнул Шурка.
– Мамочки, – одним вздохом ответила Таня.
Чиркнула еще спичка, Шурка подошел с ней к стене.
На картине не было больше ни груш, ни пышной маковой булки.
– Теперь видела?! – завопил Шурка. И выронил спичку. Она погасла.
Роняя коробок, ломая спички, они все-таки зажгли вторую свечу.
Мишка лежал на постели как ни в чем не бывало. Обычный игрушечный мишка. Неподвижный.
– Мишка, – позвал Бобка, приподняв край нижнего одеяла. – Полезай сюда! Замерзнешь ведь.
– Бобка, прекрати валять дурака! – не на шутку разозлилась Таня.
Помолчали.
– Его надо потрогать, – предложила она.
Шурка смотрел ошалело. Таня уточнила:
– Мишку. Проверить у него пульс.
– Трогай, если такая умная… – стучал зубами Шурка.
Рука у него дрожала. Пламя – тоже. Он поставил свечу на стол. Свет опять сделался ровным. Тени перестали ходить по потолку.
Стало ясно, что дрожат они от холода.
– Давай уйдем отсюда, – попросил Шурка.
– Нам это померещилось, – твердо сказала Таня.
– Вот не уверен.
– Бобка! – голос у Тани был решительный. – Это ты его из кухни приволок? Пока мы ходили? Ты? Тебе же велели сидеть здесь. – И обернулась к Шурке: – Да просто нам показалось! Нам многое мерещится. Это ничего не значит.
– Давай уйдем отсюда.
– Не выдумывай.
– Ну пожалуйста. Давай уйдем.
– Да куда? – взвилась Таня. – К кому нам идти? В детский дом?! – И перешла на шепот: – Нам мерещится, понял? Вот это все. Просто мы давно не ели. Поэтому. Мы поэтому сами превращаемся… в кукол…
Но Шурка ее не слушал.
– А-а-а-а! – снова заорал он, глядя куда-то ей за спину.
– Да прекрати уже! – у Тани из глаз брызнули слезы.
Но Шурка лишь разевал рот.
Таня обернулась туда, куда он показывал пальцем. Мишки на постели не было.
– Бобка! – разозлилась Таня. На всякий случай поднесла свечу. – Его Бобка стянул.
– Ы-ы-ы-ы… – мычал Шурка.
Он хотел сказать: интересно, Танечка, как это Бобка вмиг выбрался из-под одеял, а потом опять в них зарылся, а мы ничего и не заметили? Но получалось лишь нечленораздельное «ы-ы-ы-ы».
– Я тебе сейчас покажу! Докажу! – сердилась Таня. – Я тебе сейчас устрою сеанс разоблачения фокусов. Бобка!
Она подскочила к кровати. Обеими руками сдернула нижнее одеяло. Едва не упала.
Одеяла плавно съехали. Бобка и Бублик были как бы вложены друг в дружку. Мишки не было.
Шурка краем глаза заметил движение. Завопил:
– Вот он! – и вскочил с ногами на стул. – Он там! Перебежал! Он там! – тыкал он пальцем в темный угол.
Таня ясно увидела мелькнувшую тень.
– Это крыса, – перебила она Шурку. – Просто наглая крыса. Мы разбросали сдуру по комнате конфеты и печенье, и она унюхала.
– Холодно, – пожаловался Бобка.
Таня опустила одеяло, второе. Принялась наваливать гору обратно: шубу, коврик, мохнатое полотенце…
– А как ты объяснишь грушу и булку? – воззвал со стула Шурка.
– А никак, – твердо сказала Таня. И пошла со свечой к двери.
– Ты куда?
– Бобка прав: холодно. Нам надо растопить печь. Я держусь простых фактов.
– Танька, ты чего! Куда ты?
– За дровами.
– А топор?..
– А мне все равно. Мы в квартире одни, это ясно. Ты так орал, что давно бы уже кто-нибудь прибежал.
Тане все-таки было страшно. Подумав, она добавила:
– И если ты со мной не пойдешь, ты трус и Гитлер.
Молчание.
– Если мы не пойдем прямо сейчас, мы так и будем бояться. И сами превратимся в кукол… А завтра мы пойдем за водой. И за хлебом. А сейчас я иду за дровами.
Зубы у нее клацали. И не только от холода.
Бобка сказал из-под горы:
– Я могу с тобой сходить.
Закопошился, завозился, вынырнул из норы, скатился с кровати. Таня протянула ему руку, Бобка вложил свою.
Бублик нехотя развернулся. Он дрожал. Зевнул с привизгом и соскочил с выстуженной кровати: мол, я куда все.
Шурка спрыгнул со стула.
– Мы пойдем на кухню, – решительным голосом объявила Таня. Но, увидев их глаза, уточнила: – Я войду и возьму там топор, а вы у порога подождете. А потом мы поищем дрова. В крайнем случае, разломаем стул. А кукол бояться нечего, ясно, Бобка?
Остановились на пороге.
– Возьми хоть свечу, – предложил Шурка.
– Там светло, – выдохнула Таня.
Она дышала. Дышала. Дышала. Как будто собиралась нырнуть в воду. А потом задержала вдох и, быстро приоткрыв и тут же захлопнув за собой дверь, вошла в кухню.
Мороз стиснул Таню со всех сторон, словно она и правда нырнула. В окно смотрели ледяные звезды. Лунный прямоугольник лежал теперь на столе: хлебные карточки казались в нем бледно-зелеными. Дворничиха сидела в той же позе.
Таня быстро подошла. Обеими руками взяла топор. И успела прочитать на самой верхней карточке: «Колпаков Николай Федорович».
– Она там? – едва слышно спросил Шурка. Теперь свечу нес он.
Таня опять взяла Бобку за руку. В другой у нее был топор.
– Конечно, она там, – отчеканила. – Куда она, по-твоему, денется? Куклы, Бобка, не ходят. И ничего не делают. Это просто куклы.
Они открывали двери, светили с порога. Дышало холодом. Сонно мигали потревоженные шкафы, диваны, буфеты. Разрозненные, разведенные по чужим стылым комнатам, они сейчас казались единой семьей пленников – дружной и опасной. Шурка понимал, что в темноте всего лишь поблескивает, отражая огонек свечи, лак – и больше ничего. Но всякий раз зажмуривался: казалось, маленькие злые глазки пялятся на них из темноты.
Дошли до последней комнаты. Дров не было.
– Ничего. Расколем стул.
И Таня схватилась за спинку. Резная, с золотыми украшениями, она была похожа на гребенку для волос, принадлежащую великанше.
– Отойдите, – велела Таня и взяла в руки топор.
И тут Шурка глазам своим не поверил: стул выгнул атласную мягкую спинку, брыкнул передними ножками, задними, а затем боднул Таню в живот. Та охнула. Загремел выпавший из рук топор.
И тотчас ожил, пошел на них кривоногий комод, по-бульдожьи выдвигая вперед ящик-челюсть. Стул нервно перебирал точеными ножками, наклонял бодучую спинку. Заскрипело. Все трое обернулись. Бублик захыкал, зафыкал – лаял. Это был шкаф, он распахнул дверцы, как загребущие руки. Его коротенькие ножки не поспевали за его злобной решимостью. Комод по всем правилам охоты загонял дичь на ловца.
С криком Шурка уронил свечу. Ждать не стали. Шурка толкал в спину Бобку, Таня толкала Шурку, спотыкались о Бублика. Выкатились в коридор. Там была лишь кромешная ледяная тьма.
– Он здесь! Вот он! За ним! Он знает куда! – призывал невидимый Бобка.
Шурка и Таня загребали ногами со всей мочи, не понимая, куда бегут. В глаза лилась сплошная темнота. Шурка ухватил Бобку за шерстяной шарф, Таня Шурку – за свитер: только так они понимали, что бегут вместе. За спиной их настигал деревянный топот, от которого леденели колени и живот.
Вдруг Бобка резко свернул. Выставил руки вперед, в приоткрытую дверь. На него тут же наскочил Шурка, на Шурку – Таня с Бубликом. Ввалились в какую-то комнату.
Таня захлопнула дверь, рывком задвинула щеколду.
– Бобка, стой!
– За ним! За ним! – звал Бобка.
Шурка успел подхватить его под мышки. Бобка брыкнул в воздухе ногами.
Светомаскировка здесь оборвалась и висела на одном гвозде, как знамя побежденной армии. В черном оконном прямоугольнике была ровно прорезана луна.
В дверь стали колотить.
– Быстрее! – рвался из рук Бобка.
Таня ахнула. Шурка онемел. Голубой от ночного света мишка пробежал по лунной дорожке, всеми четырьмя лапами забрался на козетку, подпрыгнул, уцепился за широкую золоченую раму, перебросил заднюю лапу, другую – и ухнул. Пропал по ту сторону картины.
От изумления Шурка выпустил Бобку. И быстрее, чем они успели опомниться, Бобка забрался на скользкую шелковую спинку и повис на раме. Тут же высунулись две коричневые лапы, схватили его за шиворот и втащили внутрь.
– Та-та-та-та… – только и смог выговорить Шурка. Он хотел сказать «Таня», но зубы стучали.
В дверь перестали тарабанить.
Таня с Шуркой подошли к картине. В темноте она казалась темным прямоугольным окном в стене.
Бобки в комнате не было. Тишина раздирала уши.
Таня встала ногами на козетку, осторожно взялась за край рамы. Заглянула. Почувствовала, как голову овевает ветерок. Спрыгнула обратно на пол.
– Что там? – прошептал Шурка, ни жив ни мертв.
Таня сгребла в охапку Бублика.
– Мы ведь Бобку там не оставим, – хрипло крикнул Шурка.
Она встала одной ногой на козетку.
– Ты уж, Бублик, прости.
Напряглась всем телом и метнула Бублика.
Бублик не шмякнулся. Не упал, скуля. Он тоже пропал.
Шурка молчал.
– Опыты на собаках, – пробормотала Таня. – Как у академика Павлова.
Осторожно просунула голову в раму, держась за нее руками, как за подоконник. Сил удивляться у нее больше не было.
– Таня, что там?
Сестра таращилась в темноту.
– Ничего не видно… Ой!
Она почувствовала, как воздух крепнет; лицо будто прихватывал завязывающийся ледок.
– Погоди, Шурка. У меня в кармане пальто спички. Зажги, а? Прежде чем сигать куда попало, надо хоть глянуть – что это еще за картина такая, что на ней…
И тут в дверь забухали с новой силой. Видно, на помощь стулу подоспел шкаф и теперь ломился дубовым плечом. Стена тряслась, по обоям зашуршала штукатурка.
Козетка под Таней застучала нарядными ножками-копытцами, затряслась от негодования. Стол с золотым кантом угрожающе выдвинулся углом от стены и пошел прямо на них. А Таня все колебалась.
– Шурка, ну посвети же!
Тот одним махом вскочил козетке на спину. Схватил Таню за лодыжки, задрал их; Таня взвизгнула и перевалилась на ту сторону. Под ногами у него поехало – козетка прянула от стены. И только Шурка перебросил ногу через раму, как вторая ступня повисла в пустоте: козетка злобно топотала уже поодаль.
Дверь с грохотом слетела с петель. Шурка подтянулся, дернул шарф, зацепившийся за угол рамы. Толкнулся, почувствовал, как лбом проламывает тоненький хрусткий ледок, – и упал.
Буфет досадливо клацнул, задвинув ящик. И все остались стоять, где стояли. Комната опустела.
Лунный свет пальчиком провел по раме. Остановился на табличке с названием. Ведя пальцем, прочитал: «Туонела». И мягко съехал в сторону – прочь, прочь, по своим ночным делам.
Глава следующая
– Бобка! – негромко окликнула темноту Таня.
Шурку била крупная дрожь. «Неужели я боюсь?» – с досадой подумал он. И позавидовал Тане: она, похоже, не боится. Правда, он не видел Таниного лица, зато чувствовал ее бок: Таня не тряслась.
Она рассердилась:
– Да прекрати ты подскакивать!
И снова послушала темноту.
– Бобка?..
– Холодно! – соврал Шурка. Вернее, не совсем соврал: он уже сам не понимал, от холода дрожит или от страха. – Надоел этот мороз поганый! Сил уже нет!..
– Тише ты… Не слышу. Ты слышал?
– Что?
– Вроде шаги. Бобка! Бобка, это ты? Иди сюда. Хватит. Не смешно.
– Ты чего чешешься? – обернулся к ней Шурка.
Танин локоть замер.
– Ничего, – огрызнулась она. – Бобка!
Ни звука.
Было ясно: Бобку надо искать. Вот только где? И где это они сами?
Темнота была идеально черной. У Шурки стала чесаться шея, а под мышками намокло.
Таня размотала шарф. Стянула шапку.
Теперь у Шурки зачесалось все: спина, ноги под рейтузами, голова, живот. Он просунул руку под пальто, чтобы поскрести, – и не удержался, быстро расстегнул пуговицы. Пальто распахнулось. Шурка ждал, что сейчас к груди прикоснется ледяная плита воздуха. Но было ничуть не холодно.
– Господи, зачем мы только сюда полезли, – ворчала Таня. – Надо было остаться в этой чертовой квартире.
– Ты что, хочешь обратно?!
– Конечно, хочу! – Танин голос задребезжал. – Мы просто струсили. Каких-то дурацких стульев в темноте испугались. Совсем уже паникерами стали…
Мишку не упоминали, будто его и не было.
– Таня, мы где? – спросил темноту Шурка.
– Черный ход, наверное.
– Из комнаты?
Черный ход в квартирах обычно шел из кухни.
– Может, здесь раньше была кухня. А потом сделали комнату, – не сдавалась сестра. Но Шурка слышал в ее голосе сомнение.
Таня отпустила его.
– Погоди!
Но рука ухватила пустоту. По стене зашуршали ладони: Таня шла на ощупь.
– Не ходи, – испугался он.
– «Не ходи»!.. А Бобку Пушкин искать будет?.. Бобка! – негромко звала Таня. – Шурка, а Бублик с тобой? – вдруг опомнилась она.
– Бублик, – позвал Шурка.
Оба прислушались. Ничего.
– Сбежал, – вздохнула Таня.
Но не сдалась:
– Бобка, ты что, спрятался? Вылезай. На нас больше никто не нападает. Пошли обратно в нашу комнату!
Темнота так и заливала глаза, и просвета в ней не было.
У Шурки разболелась голова. Под мышками как будто лежала мокрая горячая вата. Он стянул шапку – и почувствовал, что голову охватил теплый воздух! Но поделиться с Таней открытием он не успел.
Раздался щелчок – Таня нащупала в темноте выключатель. И Шурка увидел сестру. Глаза у нее были круглые. Она была без шапки, шарф свисал на локте дохлым удавом, пальто нараспашку. Шурка узнал и тусклые обои, и пыльную лампу, похожую на серый кокон, свисающий с потолка, и золоченую раму на стене. И даже козетку. Она не брыкалась, не топала ножками – стояла спокойно, обычная, замызганная.
– Что за ерунда такая? – недоуменно смотрела вокруг Таня.
Они были в той же самой комнате. Ненужный шарф соскользнул на пол. Им было тепло!
– Затопил, наверное, кто-то. В доме.
Кто и как – это было настолько сложно представить, что не стали и пытаться. Уши, руки, ступни у Шурки точно иголками закололо от тепла.
Они разом повернулись к картине. В желтоватом электрическом свете она теперь была хорошо видна обоим. На картине была какая-то серовато-свинцовая муть; цветом она напоминала грязную воду, в которой несколько раз вымыли кисточку. Казалось, картину кто-то встряхнул – так, что смазались все линии, все цвета перемешались, все слилось, и ничего уже не разобрать.
Таня подошла.
– Странно, мне казалось, там была какая-то рощица… или берег.
– Ой, не трогай! – всполошился Шурка.
Насчет рощицы он сомневался: когда бежали за Бобкой, он вроде бы видел на картине какую-то улицу.
– Значит, мне просто показалось в темноте! – подвела итог Таня.
Залезла с ногами на козетку. Та скрипнула, но не шевельнулась.
Таня постучала по картине согнутым пальцем. Звук был стеклянный.
– Странно… – Она с сомнением смотрела на грязно-серую муть. – Кому может нравиться такая картина?
Спрыгнула. Поглядела на Шурку круглыми глазищами. И сказала совсем не то, что хотела сказать:
– Все ясно. Пока мы в темноте орали, как дураки, Бобка выскочил в коридор. И ждет нас в комнате. Идем.
Глава следующая
– Погоди. А то я сварюсь совсем.
Таня с трудом выпростала руки из рукавов. Пальто не хотело слезать, Таня подпрыгивала, наконец оно упало на пол.
– А ты чего?
И Шурка, спохватившись, завозился с пуговицами, стал теребить рукава, штанины.
Таня никак не могла остановиться: вылезла из жилетки, стянула через голову толстый свитер. Потом, наступив ногой на край рейтуз, вытянула поочередно ноги. В тепле одежда сразу стала колючей, запахла шерстью, нафталином и чем-то острым и несвежим. Куча на полу росла.
– Чего ты на меня так смотришь? – буркнула Таня, а сама уставилась на брата и смолкла. Шурка тоже молчал.
Таня была в своем обычном платье. Оно казалось совсем чужим: Шурка не видел его давно – с тех пор они лишь напяливали на себя еще что-то и не снимали, набирая слой за слоем. Теперь Таня стояла как кочерыжка, и платье мешком висело на ней. Воротник был слишком просторным для тонкой немытой шеи. Из рукавов торчали руки-веточки, а ноги были как две палки с узелками коленей. Гармошкой морщились на них чулки. «Я наверняка не лучше», – подумал Шурка.
На лице у Тани проступила жалость. Шурка отвернулся. Подтянул сползающие штаны. Хотел сказать, что…
Но Таня схватила его за руку. Палец взлетел к губам: тсс!
Оба замерли. Прислушались.
В глубине квартиры, за дверью, не в коридоре, а где-то дальше – в одной из комнат или даже на кухне, что-то ворохнулось. Шорохнулось. Тюкнуло. Кракнуло. Стукнуло двойным стуком.
Кто-то колол дрова!
Танино лицо просветлело.
– Вот почему тепло, – шепотом сказала она. И решительно направилась к двери.
Слабенькая желтая лампочка привычно мигнула им в коридоре. А сам коридор больше не был похож на студеную пещеру. По нему ходили теплые сквозняки.
Губы у Шурки растянулись в блаженной улыбке.
– Бобка! – звонко крикнул он в коридор.
Дверь кухни приоткрылась, и у Шурки ойкнуло сердце. Высунулась голова с узлом волос, глянула налево, направо – увидела. Брови прыгнули вверх, а серые глаза с гвоздиками зрачков потеплели. Рука махнула им: сюда! И Таня радостно заорала:
– Тетя Вера!!!
Глава следующая
Когда наконец разомкнули объятия и опустили руки, посыпались вопросы:
– Ты где была?
– Тетя Вера, тебя ранило?
– Ты уезжала?
– Ты болела?
– Мы совсем не слышали, как ты пришла!
Тетя Вера улыбнулась, отмахнулась:
– Я? Нет. Я совсем здорова.
И подмигнула Шурке. Он засмеялся.
Они с Таней расселись у стола.
Окно тетя Вера опять закрыла маскировкой. И стекло, наверное, тоже заделала: не дуло. Под потолком горела лампа.
– Чего ты куксишься, Таня? – весело спросила тетя Вера.
Взяла полено, приладила его. И опять подмигнула Шурке.
Он в ответ подмигнул ей сразу двумя глазами.
– А Бобка что, не с тобой? – спросила Таня.
Тетя Вера захохотала.
– Ты точно хорошо себя чувствуешь? – не унималась Таня; она сидела, подсунув под себя ладони.
– Я себя прекрасно чувствую. И настроение у меня превосходное. С чего бы мне плохо себя чувствовать?
Она чуть присела, взяла в руки топор и принялась задорно его качать из стороны в сторону, водя коленями то вправо, то влево.
– Тюх, тюх, тюх, тюх, – звонко запела тетя Вера, – разгорелся наш утюг…
Никакого утюга на плите не было. Через дырочки в черной дверце просвечивало и приплясывало оранжевое пламя. Плита весело пыхала теплом – она давно забыла, что это такое.
– Ты влюбился, промахнулся, – задорно пела тетя Вера, – встретил дамочку не ту, огорчился, оглянулся и увидел красоту…
На последнем слове она почти каркнула.
Бамс! – и топор, сверкнув, расколол полено.
– Вот здорово! – воскликнул Шурка.
– Здорово! – восхитилась тетя Вера. – Именно так!
– Есть только немного хочется, – осторожно сказал Шурка. И деликатно добавил: – Совсем чуть-чуть.
При слове «есть» рот у него сразу наполнился слюной.
– Конечно! – распахнула глаза тетя Вера. – Как это я сразу не сообразила? Извини, пожалуйста! Я все куплю! Самое лучшее вам куплю! Чтобы наесться до отвала. Торт, сосиски, сыр, ветчину…
– Может, сардинки? – предложил Шурка. И тут же опомнился: какие сардинки, откуда?
Но тетя Вера только махнула рукой:
– И сардинки! Все что захочешь!
Это было похоже на захватывающую игру.
– И халву! И какао! И пастилу! – принялся вспоминать Шурка. – И пирожные!.. Или я пирожные уже называл?
А тетя Вера опять завела припев:
– Тюх, тюх, тюх, тюх, разгорелся наш утюг…
Она пела как бы сквозь улыбку, глядя на Шурку смеющимися глазами. Шурка стал хлопать ей в такт, потом подхватил:
– Каждый может ошибиться, от любви мы мучимся. Ведь недаром говорится: на ошибках учимся…
– Я пойду дров принесу, – сказала Таня.
В углу тетя Вера сложила уже приличную поленницу.
– Да полно ведь дров, – удивился Шурка. – Жарища вон какая.
В кухне и в самом деле было жарко: на губе собирались капельки. Шурка слизнул их. Потеребил, расстегнул воротник рубашки.
– Сиди, Танюша, отдыхай! – ласково проговорила тетя Вера. – Я сама все сделаю. Зачем тебе силы тратить, золотко?
Шурка посмотрел на тетю Веру с нежностью.
– Тут без тебя такое было… – начал он.
Острый локоть больно двинул его в бок.
– Вот-вот, – мрачно сказала Таня. – Мне силы тратить нельзя. Идем, Шурка, со мной. Поможешь. Ну!
Это «ну» было отлито из такого металла, что Шурка сполз со стула. Тетя Вера, наклонившись к дверце, принялась закладывать чурочки. Таня быстро выскользнула за дверь, Шурка едва за ней поспел. Она тихо закрыла дверь кухни, задвинула щеколду и быстро потащила Шурку к выходу.
– Таня! – от изумления Шурка едва не потерял дар речи. – Ты что, спятила?
– Тихо!
– Тюх, тюх, тюх, тюх!.. – ликующе неслось из кухни. Тетя Вера, похоже, не заподозрила подвоха.
– Мы что, не за дровами идем? – недоумевал Шурка.
Таня тянула его к двери, как паровоз. Он уперся обеими ногами.
– За чем мы идем?!
– Ни за чем, – тихо, но твердо ответила она. – Ты что, не понял? Бобки здесь нет.
Шурке показалось, что высокое зеркало зашевелилось, задвигало ножками. Он быстро отвернулся.
– Ерунда. Он в комнате. Дрыхнет, – поспешно возразил Шурка.
– А тетя Вера? Она какая-то…
– Да она наконец-то веселая! А не кочерга железная, – возмутился Шурка. Таня фыркнула. – Она за всю жизнь столько не пела и не смеялась! И все купить обещала…
Он осекся: прямоугольное отражение коридора дрогнуло – словно зеркало дернулось.
– Вот именно, – веско сказала Таня.
– Котятки! – позвал ласковый голос из кухни. – Не поднимайте тяжелое! Я сама все сделаю!
– Понял? – одними губами спросила Таня. – Она не такая.
– Люди меняются.
– Люди не меняются так!
– Как?
– Вдруг.
Шурка отмахнулся.
– Может, ее ранило. В голову. Контузило, например. Сотрясение мозга или что-то вроде. И в госпитале…
Таня всплеснула руками, перебила его:
– Вот именно! Что-то она не ответила, где была!
– Цыплятки мои, вы где? – продолжал выкликать голос.
– Забыла, может.
Но Шурка и сам уже не был уверен.
– «Забыла»… Про Бобку тоже забыла? – сузила глаза Таня.
– Рыбки мои! Танюша! Шуреночек!..
Теперь ему и правда это казалось странным. Шуреночком тетя Вера никогда его не называла.
– Танечка, ты где, солнышко? – не унималась тетя Вера.
При слове «солнышко» Таня фыркнула, как кошка, понюхавшая кислоту. Сорвала с гвоздика ключ, сдернула дверную цепочку, провернула ключ в замке. За руку вытащила Шурку на гулкую лестничную площадку.
Дверь за ними хлопнула.
– Понял?
Эхо отпрыгнуло от стен. Таня схватилась за перила худой рукой.
– Танька, ты спятила! Наружу? Околеем же!
Но Танины шаги уже стучали вниз по ступенькам.
Ее следовало остановить во что бы то ни стало. В платьице и туфельках на морозе она не протянет и получаса.
– Эй, постой, не дури!
Шурка бросился следом, цепляясь за перила. Он с ужасом чувствовал, какими слабыми и непослушными сделались ноги. «Вперед! – приказал он им. – Ну же!..»
Перила были словно изо льда, ладонь онемела. Шурке казалось, что он спускается в колодец с ледяной водой. Чистой ключевой стужей схватило колени, потом ноги целиком. Обдало живот, сжало плечи и грудь, потом шею. Стянуло голову.
– Н-н-ненавижу, – сквозь зубы выстукивал Шурка. – Н-н-надоела эта з-з-зима п-п-проклятая…
Он чуть не плакал. Было больно во всем теле. Ни капли тепла не осталось, будто слеплен из снега.
– Танька!
Дверь парадной внизу скрипнула. Таня перегнулась, борясь с тугими пружинами. На шашечки пола упал клин света. Дверь грохнула.
Шурка вцепился в дверную ручку, потянул, навалившись всем своим весом. Плечи и колени тряслись от холода. Не верилось, что через миг – там, снаружи, в зимней белизне, – станет еще холодней. Такого, казалось, просто не может быть. Этот холод был недоступен ни термометрам, ни воображению.
Дневной свет ослепил Шурку. «Лучше сразу!» Он глубоко вдохнул, представил, как ноги проваливаются в снег, и бултыхнулся наружу. И едва не сшиб Таню. Сестра успела его подхватить. Шурка уцепился за нее, выпрямился. Оба стояли у парадной, разинув рты.
– Таня, это что?!
Снега не было.
Глава следующая
Солнце снимало последние сосульки по капле. По стене дома сочились крошечные талые ручейки. Мостовая нагревалась. Небо было бледно-голубым. Хлопотливый ветерок гнал к Неве рваные облака. Водосточная труба с грохотом извергла на тротуар гору ледяных бриллиантов – в них тотчас засверкало солнце. Гора таяла на глазах.
– Смотри, – показал Шурка.
На площади Жертв революции заваривалась бурная зеленая каша. Кусты сирени мучительно трясли головами, словно помогая почкам поскорее раскрыться. Трава негодующе гудела под асфальтом, зато если уж отыскивался непокрытый клочок земли, из него так и лезли зеленые иглы. Шурка почувствовал, как дрожь в теле унялась, плечи обмякли. Стало хорошо.
Улыбчивый день так и звал прогуляться. Но прохожих было не видать.
Над их головами стукнуло окно.
– Котятки, где вы? – безмятежно позвала сверху тетя Вера. – Ах, вот вы где, мои сладкие!
Глаза у нее были как два серо-голубых цветка – добрые, летние и какие-то… глупые, вот! – изумленно понял Шурка.
Тетя Вера помахала им рукой.
– Вы гулять пошли? Ну гуляйте, мои маленькие. Играйте. Развлекайтесь. Птенчики мои милые… Только не устаньте. Вы не устали? – забеспокоилась она. – Шуреночек, ты почему без курточки? Танюша, а кофточку? А вдруг просквозит? Я сейчас спущусь, принесу! Погодите!
И голова нырнула обратно.
Таня глянула на Шурку панически. И оба рванули с места: Таня – в сторону Эрмитажа, Шурка – к площади. Спохватились, и Шурка метнулся к Эрмитажу, а Таня – к площади.
Таня притормозила, поймала Шурку.
– Стой!
– Там разберемся, потом!
Но Таня с места не двинулась. Подумала, наклонив голову, и объявила мерзким голосом принцессы на горошине:
– Я хочу мороженого!
Шурка обомлел: Таня тоже спятила. Как тетя Вера.
Сестра, как назло, крепко держала его. Глаза у нее, правда, были обычные.
– Смотри, – кивнула она подбородком. Шурка обернулся.
Мороженщик вывернул из-за угла – иначе откуда он появился? Он толкал перед собой голубую тележку на велосипедных колесах. Белые нарукавники и фартук казались от яркого солнца еще белее. Он улыбнулся им.
– Бежим направо! – крикнула Таня, даже как-то слишком громко и внятно. – Направо!
А сама схватила Шурку и потащила налево – туда, где блестели на солнце огромные эрмитажные атланты.
Глава следующая
Бежали до самой Мойки. Бежали по набережной. Бежали дворами. Пробежали под арками, по дворам, насквозь. Выскочили на улицу. Бежали, пока не закололо в боку. Но ни одной живой души так и не встретили. Город был пуст.
Держась за бок, Таня перешла на шаг. Шурка плелся рядом.
– Таня, что это за мороженщик? Ты его знаешь?
– Да какая… разница… – Таня тяжело дышала. Остановилась, перевела дух.
– Как это какая?!
Сестра в ответ только пожала плечами.
– Пошли обратно. Тетя Вера волнуется, – предложил Шурка неуверенно.
Они шагали между деревьями, высаженными посреди улицы. Шептались на ветерке листья. Кружевная тень ложилась на руки, головы, плечи, дрожала на асфальте.
– Ты не понял? – рассердилась Таня.
Шурка надменно промолчал.
– Тебе в ней ничего странным не показалось?
– Ну немного, – признал он. – Но, может, она просто радуется, что снова дома? От радости все люди немного… э-э-э… глупеют.
– Чучело ты несчастное! – всплеснула руками Таня. – По-моему, Шурка, это ты поглупел.
Шурка оскорбился.
– Ничего ты не понял! Тетя Вера эта – не настоящая.
– А какая?
– А такая. Как нам хотелось бы.
Шурка вспомнил, как тетя Вера пела «Тюх, тюх, тюх, тюх». Называла их котятками. Обещала купить все что душе угодно. Чем плохо? С одной стороны, хорошо. А с другой…
– Ну нет, такой – мне совсем не хотелось!
– Хотелось-хотелось, – настаивала Таня. – Ты же сам ныл, что она злая, не разрешает ничего. Ну вот теперь она добренькая и все разрешает. Доволен?
– Ничего я не ныл!
– Мне самой иногда хотелось, – примирительно сказала Таня, – чтоб она не была как палка железная… Но остается главный вопрос: где же все-таки Бобка?
Лицо у нее сделалось прежним – внимательным и собранным.
И вдруг она быстро добавила:
– На кой черт мне этот Бобка? Не нужен мне никакой Бобка.
От этих слов Шурка замер как вкопанный. А потом вспомнил мороженщика. Тот появился внезапно – но именно после того, как Таня захотела мороженого!
– Погоди, Таня…
Впереди за деревьями маячила серая башенка огромного универмага. Буквы ДЛТ на крыше давно сбило – то ли взрывной волной, то ли прямым попаданием. Слепые витрины были снизу доверху заложены мешками с песком. Шурка вспомнил, какими они были раньше. Э-эх…
– Погоди. Это что же, теперь чего не пожелаешь, все сбывается?
– Как видишь, – буркнула Таня.
– Но как это?
– Откуда мне знать!.. Только ничего хорошего из этого не выходит. Одна тетя Вера чего стоит. Правда, в декабре вдруг наступил май, но тут какой-то подвох, я просто пока не поняла какой.
– А мороженое? Надо было попробовать. Может, оно… мороженое? Есть хочется ужасно.
– Есть не хочется! Совсем не хочется! – затараторила Таня. И зашептала: – Если это такой трюк, значит, и желать надо наоборот! Понял? То есть вместо право надо лево, вместо черного – белое. Понял? Вместо…
И тут Шурка разглядел, что витрины универмага там, впереди, уже блестят стеклом, а за ним – пестрая дребедень игрушек, платьиц, мячиков, велосипедов. Она становилась все гуще, все наряднее – совсем как до войны. Похоже, мысленные желания тоже действовали.
– Таня! – не выдержал Шурка. – Мы где?!
Глава следующая
– У меня нет билета, – громко и отчетливо повторил Бобка странной девочке. Бублик сидел, высунув язык. Бобка обнимал пса. Они были уже на середине реки, а вопрос еще не решен. Его это беспокоило. Правила он знал.
В борта лодки плескалась мелкая волна. С весел лилась вода. Девочка гребла, ритмично наклоняясь то вперед, то назад; косицы подрагивали в такт, под ситцевым подолом торчали острые коленки. Бобка смотрел с уважением: сильная какая. Потом отвлекся. В воде мелькали длинные черные тени.
– Miekkoja, keihäitä, veitsiä, kaikenlaisia aseita[1], – пояснила девочка, заметив, куда Бобка смотрит.
«Наверное, говорит – плати как хочешь», – сообразил Бобка. Кондукторы в трамваях обычно говорили так.
Бобку осенило. Он легко, не расстегивая, снял с руки тети-Верины часики, протянул ей.
– И за собаку тоже. Они золотые. У вас есть сдача? – поинтересовался важно.
Девочка усмехнулась. Помотала головой:
– En tarvitse kelloa. Täällä ei ole aikaa[2].
Сдачи нет, понял Бобка. Часики остались в протянутой руке. Что же делать?
Девочка оттолкнула его руку. И опять помотала головой.
Наверное, для дошкольников бесплатный проезд, предположил Бобка. И успокоился.
Он повеселел. Решил еще разок послушать часики. Поднес к уху. Но привычного муравьиного бега не услышал. Стрелки не двигались. «А Таня сказала, что завела», – удивился он. Убрал онемевшие часики, застегнул для надежности пуговку на кармане, обнял покрепче Бублика и принялся смотреть по сторонам.
Но по сторонам ничего не было. Другой берег еще не показался. Река была огромная – широкая, бескрайняя. Это, конечно же, Нева, сообразил Бобка; в Ленинграде много речек и речушек, но другой такой нет.
Он решил, что раз едет бесплатно, то должен хотя бы развлекать девочку беседой.
– А мы ели столярный клей, – сообщил. – Вам приходилось есть клей? Он очень даже вкусный. Из него можно сделать холодец.
Тут Бобка осознал, что голоден не на шутку.
– А соседи хотели съесть Бублика. Таня и Шурка – это мои брат и сестра… то есть сестра и брат – они думали, я не понимаю. Но я все понимаю. Мы Бублика от всех прятали. Странно, правда? Разве собак едят?.. Наверное, поэтому у них так испортился характер. Обозлился. У соседей, я имею в виду, – рассуждал Бобка.
Девочка мерно плескала веслами. Живот у Бобки начал подвывать.
– А здорово было бы, если бы можно было есть все. Вот прямо все подряд. Стоит шкаф, например, – подошел и откусил уголок. Или вот ваша лодка: сидишь и отщипываешь по кусочку. Тогда бы никто не злился, все были бы сытые и веселые, правда?.. Интересно, какой у шкафа вкус?
Лодка со скрежетом выехала на песок. Бублик кубарем выкатился на берег.
– Ой, заболтался я с вами, – спохватился Бобка. – Не заметил, как доехали.
Он огляделся по сторонам. Во-первых, берег был песчаным, а не забранным в гранит, как везде. Во-вторых, на набережной не было домов, а только сосны. Нет, этой части города Бобка не знал. «Видно, мы за городом», – сообразил он: сосны и песок напоминали дачные места, куда Бобка выезжал с детским садом. Как там было хорошо! Пока черные тарелки радио не…
– Muista vain että täällä et saa syödä mitään, siihen ei ole lupaa! – крикнула девочка, отталкиваясь от берега веслом; второе она уже опустила в воду. – et voi jäädä siihen seisomaan![3]
– Чего? – обернулся Бобка.
Лодку быстро относило прочь от берега. Девочка чуть приподнялась, приставила руки рупором ко рту:
– Juokse pois täältä! Pois hiekalta! Juokse![4]
Она замахала – прочь! прочь! – не удержалась на ногах, плюхнулась обратно в лодку и принялась грести, отбиваясь от сильного злого течения.
– И мне было приятно! – крикнул в ответ воспитанный Бобка. – Большое вам спасибо!
Он обернулся к Бублику.
– Машет на меня руками, будто на комара какого-то, – заметил с неодобрением. – Воспитанные люди так не делают. Идем, Бублик.
Но Бублик все обнюхивал песок, пучки травы, клочья высохших речных водорослей. Ни одно место не казалось ему достаточно убедительным, чтобы задрать над ним ногу.
– Ну Бублик, – нетерпеливо поторопил его Бобка, – давай уже!
Пес замешкался у чуть искривленной сосны, старательно прошелся носом по стволу. Морда у него была озадаченная. Видимо, оставленные на стволе послания местных собак ставили в тупик.
– Ты, Бублик… – наставительно поднял палец Бобка – и так и остался с открытым ртом. Шершавый ствол виднелся сквозь Бублика!
– Буб-б-б-блик… – тихонько позвал испуганный Бобка. – Ты только не пугайся! Ко мне! Иди сюда. Осторожно, не спеши…
Бублик был уже полупрозрачным, зыбким; казалось, если он побежит, то развеется совсем – как дым.
Бобка поманил его пальцем – и ахнул. Его собственный палец просвечивал насквозь! Он испуганно поднес к носу растопыренную пятерню. Ошибки не было: сквозь ладонь он видел реку. Небо. Песок. Сосны. А Бублика – нет!
Он взвизгнул, отдернул руку от носа.
– Бублик! Ко мне! Ты где? Ко мне!
Но как он ни таращил глаза, собаки нигде не было.
Бобка крутил головой. Вот кривоватая сосна, все верно. Но на песке лежало лишь колечко ошейника. Бублик растаял.
Тогда Бобка посмотрел вниз, на собственные ноги. От них остались только сизые очертания. Они делались все тоньше и тоньше. Он таял! Это было не больно, не щекотно – никак. Словно проваливаешься в сон.
Бобка отскочил, увяз, упал, выдавив коленями две лунки. Барахтаясь, поднялся. И, выволакивая ноги из зыбкого песка, припустил бегом что было сил – туда, где шумел стройный бор. Прочь отсюда.
Глава следующая
– Смотри!
– Не вижу я никакого человека, – недоумевала Таня.
– Да вон там же! Где ДЛТ, видишь? – показал Шурка. – Теперь смотри дальше. Просто дом серый и одежда у него серая.
Таня всмотрелась – и брови ее подскочили вверх. Не говоря ни слова, она бегом припустила к серому человеку. Только туфли стучали по асфальту, и на пустой улице этот стук казался оглушительным.
Шурка не сразу опомнился.
На ходу Таня кричала что-то несусветное:
– Стойте! Я вас знаю!
Серый остановился. На голове у него была нелепая шляпа, похожая на огромную воронку (через такие переливают постное масло из бидона в бутылку). Обвисшие обтрепанные поля закрывали лицо.
Шурка уже нагонял Таню, как вдруг она остановилась. Обернулась. Толкнула его обеими ладонями в грудь.
– Стой здесь.
– Ну уж дудки. Я тоже.
– Со мной нельзя.
– Что еще за секреты такие?!
Шурка поглядел на человека в сером: тот не суетился, не удивлялся, не выказывал беспокойства. Просто стоял, засунув руку в рукав другой. Тощий гриб на ножке, серая поганка.
…И дом Таня тоже узнала. Вспомнила гипсовое лицо. И крестик. Там, где серый поставил крестик, не было больше дома, лишь торчали разбитые клыки стен. Видно, угодила бомба или снаряд. Желтел песок; что он означает, Таня тоже знала: песком посыпали то, что не удавалось смыть. Здесь погибли люди.
– Стой здесь, – велела Таня таким страшным голосом, что Шурка нахмурился. – Не нужен нам никакой Бобка, – произнесла с расстановкой.
– Ну стою, стою… – сообразил Шурка. – Подумаешь! Больно нужен Бобка этот. Тьфу на него!
Таня подошла к серому человеку.
– Ай! – вскрикнул Шурка. Руки сами взметнулись и зажали уши.
Скрип был до того пронзительный, режущий, что заныли все зубы сразу.
А потом Шурка увидел телегу. Это она скрипела так, что, казалось, лопнет голова. От боли Шурка зажмурился.
Глава следующая
Прозрачный Бобка снова налился красками. Идти сразу стало легче. Вокруг росли ровные красноватые сосны, их буйные головы смыкались где-то высоко. Земля была усыпана рыжей хвоей.
Тут-то Бобка и заметил его.
Мишка топал прочь на двух своих плюшевых лапах. Вид у него был деловитый. Травы здесь не было – только земля и сухие иглы.
– Отвяжись, – не оборачиваясь, бросил мишка. Потом остановился, резко обернулся: – Отстань от меня наконец!
– Мишка, ты что! – чуть не заплакал Бобка.
Не оттого что мишка разговаривал – это Бобка как раз мог пережить. А от его слов. Они задевали до слез.
– Мишка, подожди!
Но тот только втянул голову в плечи.
– Теперь ты сам по себе, а я сам по себе. С меня довольно. Я свое отнянчил, – бормотал мишка.
Бобка едва за ним поспевал. Сосны так и мелькали мимо. Вдобавок странный запах начал мерещиться ему – горьковатый и очень приятный. Знакомый. Только что это?
Мишка все ворчал, и его бухтение мешало Бобке узнать запах.
– Хватит! Больше не хочу! Не хочу, чтобы мне грызли нос. Совали мне в пасть печенье или кашу. Тянули за глаза. Крутили уши.
– Когда это я тебе крутил уши и грыз нос?
– Все равно, – отмахнулся мишка. – Не хочу больше на себе слюней, соплей, слез, пластилина, каши и красок. Я в кои-то веки хочу почистить мех. Расчесать. И походить чистым.
– Каша попала случайно! – оправдывался Бобка.
– В кои-то веки чистым…
Бобка хотел было обидеться, но запах снова потянул его за нос. Этот запах тянул его к соснам; горьковато-теплый, он ласкал, поглаживал нос внутри, он проник в самый желудок.
«Шоколад!» – завопил желудок.
– Шоколад! – воскликнул Бобка так громко, что мишка замолчал.
«Шоколад!» – разнеслось по лесу эхо.
Все сосны, покуда хватало глаз, были из чудесного рыжего шоколада, пахнущего ванилью и орехами!
Бобка подскочил к ближайшему дереву. И с разбегу врезался в мишку.
– Понял?!
Бобка попытался обойти его, но мишка крепко вцепился в него обеими лапами.
– Чистым! – назидательно воздел лапу мишка. – Я хочу наконец делать то, что нравится мне. Мне! Ходить куда хочу! Играть во что хочу! – махал он лапой перед Бобкиной физиономией, а другой, как назло, тащил прочь от сладких деревьев. – И когда хочу! А когда я захочу спать, я не стану играть! Или петь! Или танцевать! Я лягу спать! Или буду сидеть на диване! Да! И читать книгу! Без картинок! Какую хочу!..
Вообще-то многие взрослые так думают, просто никогда не признаются. А мишка был не просто взрослым – он был, пожалуй, и вовсе старым.
В конце концов мишка отпустил Бобку. И бодро потопал прочь по ему одному видимой тропинке. Толстенькое тельце мелькало среди сосен. Еще миг – и исчезнет.
Неужто уйдет совсем? Бобка все-таки побежал за мишкой. Но как ни вглядывался, никакой тропинки не увидел.
Глава следующая
– Крестики, значит? – проскрипел человек в серой шляпе. Болотистый голос холодно поинтересовался: – Зачем тебе?
– Хочу знать, – выдавила Таня. – Должна. – Сглотнула. – Вы смерть? – спросила она.
Лицо незнакомца окрасилось удивлением. Он вытаращился на Таню. Кажется, даже слегка обиделся.
– Смерть? Ну нет. Вовсе нет. Смерть… Выдумают же!..
– Тогда за что нам все это? – крикнула на него Таня. – Мы ни в чем не виноваты! Слышите? Мы ничего плохого не сделали!
– Вы? – опять удивился незнакомец. На этот раз напоказ. Помолчал. – Ну полезай, – неожиданно согласился он. – Коли должна знать.
Глава следующая
А когда Шурка решился разжать, убрать с ушей руки, открыть глаза – скрипа не было. Не было ни телеги, ни серого человека. Ни Тани.
Никого.
Глава следующая
Мишка ничуть не обрадовался, когда его догнали.
– Отвяжись, – опять зашипел он.
– Что это вы все ругаетесь? – укорил Бобка, от обиды перейдя на «вы».
– Что хочу, то и делаю, – махнул на него лапами мишка. – Кыш! Кыш!
Повернулся и пошел.
Бобка постоял – и снова побрел за ним.
Он держался на расстоянии. А мишка делал вид, что не замечает Бобку, или же просто надеялся, что тот отстанет.
Надежды его были не беспочвенны. Бобка устал, ему все сильнее хотелось присесть. Воздух заметно потеплел, на стволах даже выступили шоколадные капли. Бобке стало жарко, он остановился, чтобы с шумом выдохнуть: уф!
Сосны уже почти не попадались. Почва была белой, в желтовато-коричневых потеках, и зыбкой. Вдруг под ногами зашипело.
«Змея!» – испугался Бобка.
Мишке змеи были нипочем, он все прыгал с кочки на кочку впереди.
Бобка оступился; брызнуло что-то желтое, повисло тягучими каплями. И в ноздри немедленно проник восхитительный жирный запах. Каждая кочка была глазком огромной яичницы! Бобка попятился – под ногой хрустнул завиток бекона. Хорошо прожаренный, румяный. А рядом тотчас зашипел, стал прожариваться другой.
– Это не змея шипит! – воскликнул Бобка.
Можно сделать вид, что не хочешь шоколада, но когда очень голоден, пройти мимо горячей яичницы с беконом, пахнущей на всю округу, попросту невозможно!
Бобка упал на четвереньки, подполз к аппетитно лопнувшему глазку. Мазнул ладонью, собирая чудесный мягкий желток. Понес к широко раскрытому рту. И тут же коричневатая бомбочка врезалась в него. Бобка опрокинулся, из-под него брызнул и потек желтым раздавленный глазок.
А мишка стоял и возмущался:
– Олух прожорливый! Я бросаю все, бегу к нему, – а он только и думает, как бы набить живот. Вставай, негодник! Ну! Что вытаращился?!
Но подняться помог.
Голова у Бобки кружилась: яичница и бекон, бекон и яичница летели каруселью перед глазами. Запах сводил с ума, он забирался глубоко в нос и шептал: «Ну кусочек! На язык…»
Поодаль темнели холмы. Даже отсюда было видно, что они из ржаного хлеба – ноздреватого, с корочкой, только из печи.
«Все, не могу больше, – думал Бобка. – Съем… Будь что будет».
Мишка между тем не терял времени. Он быстро поискал на себе шов послабее, выдрал клок ваты, разорвал пополам, свалял в лапах два комочка. Залез Бобке на плечи и законопатил ему одну ноздрю, потом другую.
И Бобка очнулся. В мире больше не было запахов. Шипение бекона перестало быть жареным и вкусным, а стало таким, каким и было на самом деле – коварным, змеиным: «съеш-ш-ш-ш-шь меня».
– И не вздумай опять идти за мной, – сердито предупредил мишка. Ловко раздавил ногой подползшую полоску бекона; она хрустнула и затихла. – У меня и без тебя забот хватает.
Бобка задумчиво трогал нос.
Мишка водил глазом, словно радио, которое антенной щупает волны и отыскивает нужную. Почесал глаз-пуговицу, пришитый дядей Яшей, прикрыл его лапой – и, похоже, нашел что искал: опять затрусил по тропе, невидимой для Бобки.
Тот с тоской смотрел, как удаляется плюшевая спина со смешным горбиком на загривке. Ленточки на мишке не было. Бобка его пожалел: «И никто ему, бедному, шарфик не повяжет…»
Мишка будто запнулся. Остановился, обернулся. Хлопнул себя лапами по бочкам.
– Торчит как пень! Полюбуйтесь! Я стою, его жду. У меня уже ноги занемели. А он рот разинул, прохлаждается, по сторонам глазеет!
Не дослушав тираду, Бобка со всех ног припустил к нему.
Глава следующая
– Ну спасибо тебе, Танечка! Наплела с три короба, а сама села и укатила, как королева, – ворчал Шурка под звук собственных шагов.
Телега как провалилась. А ведь не могла враз уехать так далеко.
Проспект 25 Октября просматривался чуть ли не до самого вокзала. Он был широк и чист, как каменная скатерть. Ни машин, ни трамваев, ни пешеходов.
– Странно, что никого нет, – разговаривал с собой вслух Шурка. От собственного голоса стало немного спокойнее. – Куда все прохожие подевались? Наверно, мне их совсем не хочется, – предположил он. И сам себе возразил: – Нет, хочется!
«А ну хоти!» – приказал он себе. И даже задержал дыхание, чтобы усилить мысль.
– Прохожие, появитесь!
В ушах зазвенело, перед глазами зароились темные мушки. Шурка, захлебываясь, втянул воздух. Покрутил головой. По-прежнему никого.
Он решил действовать методично. Представлял их спины, кепки, шляпки, корзинки. Внезапно вспомнил, как ему – особенно поначалу – все казалось, что среди спин в толпе на проспекте мелькнула мамина. У мамы было клетчатое пальто. Шурка прямо увидел его ворсинки, две коричневые пуговки на хлястике. Так отчетливо, что испугался.
Ему вспомнилась Танина теория. Дурацкая, конечно, – ну а вдруг верная?
– Не хочу я никаких прохожих! – попробовал Шурка на Танин лад. Теперь он боялся и думать о маме. – Плюются, толкаются, ругаются. Без них куда лучше. Красивее. Просторнее. Вся улица перед тобой – смотри, любуйся! Красота.
И вдруг почувствовал, что какая-то невидимая сила согласна с ним. Согласие это словно исходило от самих домов, от полуарок желтоватого универмага с обгорелым после бомбежки краем, от шпиля вдали. От чугунных столбиков с цепями. От плит под ногами. От неба, витые облака которого подражали лепнине на домах. Город, даже покалеченный бомбами и снарядами, и правда был поразительно красив – без людей. «Верно! Верно! Куда лучше без них!» – доносилось волнами. «Без людей куда лучше!» – дышали дома, мостовые, статуи, шпили.
Шурке стало не по себе. Он пошел быстрее.
«Без них лучше!»
Он побежал. Помчался.
– Мальчик! – раздался отчетливый голос с присвистом.
Шурка чуть не подпрыгнул на месте. Обернулся – никого. Заклеенные окна. Заложенные витрины. Черный ротик арки в подворотню. Ни души.
– Мальчик! – внятно позвал голос еще раз.
И Шурка увидел, что в полумраке арки белеет лицо.
– Голодный небось, – приветливо сказала женщина.
– А вам что?
Шурка сунул руки в карманы.
Женщина не обиделась.
– А меня твоя мама за тобой отправила, – блеснули в улыбке зубы. – Ага. Мама. Сама.
– Мама?!
– Она что, не говорила? Нет? Ну неважно. Приведи, говорит. А то я сама не могу. Послала меня.
Сбылось! Мама!..
– Что с ней? Что случилось? – Шурка заволновался: ранило? ослабела? – Когда она приехала?
– Недавно, недавно. Да иди, не бойся.
– Вовсе я не боюсь, с чего вы взяли.
Значит, все-таки сбылось! Всего и надо было – как следует захотеть!
С бьющимся сердцем Шурка шагнул в арку. И тотчас пальцы крепко сомкнулись вокруг его плеча. Но все-таки они были живыми, теплыми. Даже горячими.
– Держу тебя, не то споткнешься, – пояснила женщина. И опять выставила в улыбке зубы.
В лице у нее было что-то странное. Вроде и обычное, но странное. Шурка никак не мог сообразить, что именно, потому что женщина без умолку тарахтела на ходу:
– Ах, нынче в мире столько зла! Столько зла!.. А мы поедим, мы поедим… Мамочка нас ждет.
Они прошли через арку во двор-колодец. Самый обычный ленинградский двор. Дом в пять или шесть этажей. И в дневном свете Шурка разглядел свою спутницу и понял, что в ней странно. Она была румяная.
Увидев, что он смотрит ей в лицо, женщина улыбнулась. Губы у нее были ярко-красными, и от этого казалось, что зубов очень много.
– Сюда, – потянула она Шурку в дверь.
В подъезде было темно. Брякнул, потом хрустнул в замке ключ.
– Сюда, – повторил румяный голос.
В квартире было тепло. Жарко даже. В кухне мерцал оранжевый свет: несмотря на теплый солнечный день, топилась плита.
На окнах висела светомаскировка.
Женщина скинула платок, он упал на плечи. На голове свились две косы.
– А где мама?
– А она вышла. За хлебом, – ответила женщина. И повернула в замке ключ. – Да ты садись.
От тепла, от оранжевых бликов Шурка сразу устал. Ноги охотно подогнулись, спина обмякла на стуле. Веки стали наливаться медовой тяжестью.
– Отдыхай, – все улыбалась женщина.
Перетащила на плиту огромную кастрюлю с водой. Не кастрюля, а царица кухни. Огонь под плитой тотчас накинулся на работу.
– Отдыхай, пока я хлопочу.
И он словно услышал Танин голос: «Тут какой-то подвох, я просто пока не поняла какой». Но мысленно отмахнулся: «Иногда, Танечка, апрель это апрель, а хорошие люди и правда хорошие». Тане во всем мерещатся подвохи…
С мамой они наверняка найдут и Бобку, и Таню.
Шурка вытянул ноги. Свет от печи сюда не доходил. Углы и потолок уютно обметало полутьмой. Думать не хотелось.
– Ах ты сладкий мой, – приговаривала за работой румяная женщина. А сквозь дрему Шурке мерещилось нечто несусветное: «Такой сладкий, сочный. Только уж больно тощий. Ну ничего… Наваристый».
– Что вы сказали? – распахнул он глаза.
– Я? – та обернулась от кастрюли, улыбнулась. – Ничего.
В руках у нее был половник. А в половнике – Шурка так и взвился – маленькая рука!
Он вытаращил глаза, и морок исчез: из половника торчали какие-то корешки. И впрямь похоже на пальчики. Петрушка, наверно. А может, сельдерей.
– Сельдерей, сельдерей, – закивала женщина, успокаивая.
Но Шурка ведь не сказал ни слова!
– А вы откуда мою маму знаете?
– А работаем мы вместе. Коллеги, значит. Ага…
Врет, понял Шурка.
Женщина наклонилась, открыла заслонку, засунула внутрь кочергу. Там дыбилось оранжевое пламя; вырвался свет, быстро показал Шурке наваленную в углу груду. И топор. И груду… Белых. Обглоданных. Женщина ткнула кочергой и захлопнула заслонку, свет снова спрятался.
Шурка затрясся как заяц.
– Сейчас обед приготовлю, – радушно объявила румяная женщина. Она улыбалась и даже немного облизывалась.
«Это я – обед», – стучало Шуркино сердце. Прыгали и сталкивались мысли: разве такое бывает?.. Людоеды съели Кука… Но в Ленинграде быть не может… Вот отчего она румяная…
Шурка ринулся к кастрюле, сдернул крышку и что есть мочи шваркнул людоедку по голове. Крышка звякнула гонгом, а женщина захохотала.
– Вот мерзавец! Жиру на грамм, а туда же!
Тогда Шурка бросился на кастрюлю-великаншу, толкнул ее изо всех сил. Она тут же ошпарила ему ладони своим горячим боком, но ахнула и съехала с плиты; хлынул кипяток. Раздался яростный вопль. Людоедка закрутилась на месте и упала на колени. Шурка подскочил к ней, нашарил в кармане жилета ключ. Она тянула к нему красные ошпаренные пальцы, но от боли не могла открыть глаза, расправить скрюченное тело, только выла.
Шурка помчался по лестнице вниз. Оступился в темноте, упал, покатился, больно ушибая бока. Но вчувствоваться в боль было некогда; он вскочил и вылетел во двор.
Он уже подбегал к арке, что вела на проспект, как дом вдруг охнул, крутанулся, поехал в сторону всеми окнами и всеми этажами, повернулся, как многоугольная головоломка. И перед Шуркой вместо стены с аркой оказалась стена с темными слепыми окнами. Шурка обернулся: теперь арка темнела сзади, на другом конце двора. Бросился туда. Дом снова охнул, снова повернулся – и снова перед носом глухая стена. Арка теперь манила сзади, и через нее виден был проспект.
– Ах ты гад! – крикнул дому Шурка.
Бухнула дверь, во двор выкатилась людоедка. От нее шел пар.
– Держи! – вопила она.
Дому, кому ж еще.
– Шурка!
Таня! Или снова какой-нибудь обман? Какой-нибудь особенно гадкий…
Таня заглядывала с улицы. А потом шагнула в арку. И встала.
– Беги же сюда!
Дом завыл, напряг все силы, но не мог сдвинуться. Словно Таня заклинила собой его механизм. Он трещал, дребезжал, тянулся всеми своими балками, скрежетал лестницами, завывал пустыми, давно остывшими трубами. И когда Таня дала Шурке выскочить из арки вон и шагнула наружу сама, дом рванул так, что смял, раздавил, расплющил и кастрюлю, и людоедку, и печь, и все то страшное, что скопилось в его недрах.
Глава следующая
– Все, – сказал Шурка. – Я не могу. Не могу думать на ходу. Я или иду, или думаю. Давайте сядем где-нибудь.
– Где тут сядешь?
Ленинград – такой город, в котором можно идти часами, прямо или сворачивая в прямые улицы, мимо тесно стоящих в одну линию домов, но совершенно негде присесть. Разве что в парке или на набережной – на гранитных ступеньках, спускающихся к самой воде. Но перед ними расстилался, растягивал трамвайные провода проспект Володарского – до набережной было далеко.
– Давайте хотя бы остановимся.
– Нам надо найти санки, – напомнил Танин знакомый. Он нес Бобку на закорках, придерживая его за ноги.
«Странные у Тани приятели. Что это он все вертится?» – с неодобрением подумал Шурка. На юноше была шинель с обожженной полой. Он всю дорогу старательно поворачивался к ним профилем. «Фигуряет перед Танькой небось», – осудил его Шурка. Впрочем, и в профиль юноша напоминал лося: на что только он рассчитывал с такой физиономией?
– Ну сядем, – вдруг согласилась Таня. – Вот ступеньки, у парадной.
Она смахнула рукой невидимый мусор с гранитных плит. Села, обхватила колени. Шурка плюхнулся рядом.
– Ох, красота… – вытянул он ноги.
Перед ними – посреди проспекта – висела на столбе ржавая табличка с расписанием. Видно, здесь была трамвайная остановка. Когда еще бегали трамваи.
– Вы садитесь, Лютик, – Таня подобрала подол платья.
«Лютик? – мысленно фыркнул Шурка. – Ну и имечко!»
– Я не тяжелый, – сообщил сверху Бобка.
– Ты, Бобка, нахальный, – уточнила Таня.
Чудной Лютик, очевидно, заметил Шуркину реакцию и торопливо объяснил, спуская Бобку вниз:
– На самом деле Людвиг. В честь Бетховена. Но…
– Да уж, сейчас зваться Людвигом, в честь немца особенно…
Таня двинула Шурку в бок.
– Ничего страшного, – поспешил успокоить Людвига-Лютика Бобка. – Я вот тоже не Бобка.
Лютик присел, вежливо отодвинувшись от Тани и опять-таки повернувшись в профиль. «Точно фигуряет», – презрительно подумал Шурка. Бобка тут же втиснулся между ними. Похоже, он проникся к незнакомцу симпатией. «Еще бы: ехал как царь», – все сердился Шурка.
– Он Борис, – коротко пояснила Таня.
– Просто когда я был маленький, меня пеленали, и я был похож на боб, – светски болтал Бобка. – Так мне рассказывали. Но я не против, Бобка так Бобка, пожалуйста. Раз они привыкли.
«Ну Бобка дает! – изумился Шурка. – Какие пули льет!»
– Ты, вообще, где был, Борис? – сердито спросил он. – И что за дрянь у тебя в носу?
Шурка протянул руку, чтобы выдернуть из Бобкиного носа белые клочки. Таня поспешно стукнула его по руке.
– Не трогай. Нельзя. Бобке все время хочется есть.
– Мне тоже хочется есть, – пробурчал Шурка.
– Ты не понимаешь. Бобка здесь может есть все. А этого делать нельзя.
– Нельзя, – подтвердил Лютик. – Если он хоть что-то здесь съест, то никогда уже отсюда не выберется.
– Как это – все? – не понял Шурка.
– Кусок дома может отгрызть, ручку вон на двери съесть. Что угодно.
– Все?!
– А я так задумал, – спокойно объяснил Бобка. – Когда еще не понял, что здесь все сбывается.
Шурке показалось, что сзади дунуло сквозняком: волосы на затылке зашевелились. Он даже обернулся, но дверь в парадную была наглухо закрыта.
– Мы ведь жаловались ему, что он нас мучает. Вот он теперь и исполняет все наши желания.
– Он?
– Ну город.
– Таня! Не неси ахинею!
– Это не ахинея, – кивнул Бобка. – Мишка тоже так сказал.
– Мишка?!
– Ага. Так и сказал: доигрались, поздравляю.
Мишка! Которого он сам же им и принес! Шурка за голову схватился.
– Слушай, если бы мы тогда не поссорились, мы бы этого поганого мишку сразу вывели на чистую воду, – пробормотал он.
– Мишка не поганый, – вступился Бобка. – Он просто… такой.
– Он Бобку ко мне привел, – без подробностей пояснила Таня.
– Принимайте, сказал, я вам нянькой не нанимался, – вставил Бобка.
Таня кивнула. Уткнувшись подбородком в колени, она будто разглядывала что-то интересное на тротуаре.
– Почему привел? – спросил Шурка.
Таня рассеянно подбрасывала мелкие камешки.
– Из-за Мурочки.
Она уронила камешек.
– Из-за Мурочки?!
Таня кивнула.
Глава следующая
Ненавижу детей! Паршивцы. Негодники. Маленькие мерзавцы. Пачкают тебя пластилином. Вы когда-нибудь пробовали счищать с меха пластилин?
Я несправедлив? Спросите кукол, если хотите. Они тоже многое расскажут. Дети – зло. Куклам они стригут волосы, разрисовывают лицо, отрывают руки и ноги. И даже головы!
У меня был знакомый – заводной паровоз. Только познакомиться и успели. Его разбили на второй день. Завели и пустили прямо в стену. Хотели посмотреть, что будет. А потом отломали колесики.
У меня, правда, нет локонов и колесиков. Но мне ничуть не легче!
Крутят тебе уши. Грызут нос. Пачкают тебя краской. Заворачивают в какие-то тряпки и долго трясут. Зачем? Суют в рот всякую дрянь – камни, конфеты, кашу, печенье. Кидают. Теребят. Щиплют. Кричат в самое ухо.
А хуже всего – умирают!
…Сначала я не беспокоился: думал, заболела. Пройдет. Тогда тоже было очень холодно. Я сидел в кресле и смотрел, как она сидела под одеялом в своей кроватке. Одеяло почему-то не забрали. Какие-то люди с красными лицами и с красными бантами на куртках. Они еще все время говорили «именем Революции». Никогда не слышал такого имени. Странное имя для девочки… Они пришли и все перетряхнули, переколотили, забрали кучу ненужных вещей. И Мурочкиного папу. Зачем им чужие вилки? А чужой папа? Людей не понять.
Сперва Мурочка сидела. А потом лежала.
Мамы целыми днями не было дома. Она гуляла с вещами. С теми, что остались. Брала какое-нибудь нарядное платье, или веер, или кружевную накидку – и уходила с ними. Под вечер приходила. И бросала платье, веер или накидку на пол.
Те потом ныли. Большей частью по-французски. Они привыкли ездить в экипаже, танцевать на балах, а не мерзнуть на рынке.
Зачем вообще выгуливать вещи? Они этого не ценят.
Один раз Мурочкина мама пришла домой без вещей, но принесла с собой аптечный пузырек и напоила из него Мурочку. Потом этот пузырек еще жаловался: он, мол, ученый, врач, а в него налили подсолнечное масло. Врал, конечно: какой он ученый? В обычной аптеке работал, а сам: «я врач, я врач!»…
А больше никого не было.
Мы с Мурочкой целыми днями сидели дома. Вернее, я сидел – она лежала. Я видел только ее лицо на подушке. Оно сделалось похоже на маленький зеленоватый треугольник.
Я никогда раньше не видел детей, которые умирают. Умирают от голода! В Петербурге! То есть в Петрограде (они совсем меня запутали с этими новыми именами)… Нынче, в восемнадцатом году, когда уже есть электричество, телеграф, горячая вода!
Впрочем, нет: почему-то именно в восемнадцатом году ни электричества, ни горячей воды не было. И мы все время жгли свечи.
Как сейчас…
Как тогда…
Тогда я мог бы принести моей Мурочке все груши мира, весь виноград. Набрать для нее ягод в лесу. У них дома было очень много картин. Я все мог!
И не мог: нельзя. Потому что люди – здесь, а мы – там. Нужно соблюдать простые правила. На этом стоит мир. Если сам не соблюдаешь простые правила, то чему ты можешь научить детей?
Почему я не принес ей тогда грушу? Ведь я мог. Мог! Мог!!!
И сейчас могу.
И сейчас я ее принес.
Держи, Бобка. Погоди, вытру. Картина вся в пыли: эти новые жильцы ужасно нечистоплотны. Не учись у них, надо быть опрятным… Вот. Теперь ешь.
Ешь, Бобка.
Глава следующая
– А ты сама где была, пока Бобка с мишкой бродил?
Таня, не поднимая лица, пожала плечами. И выдавила:
– В шахматы играла.
– Че-го?! Где? С кем? Зачем?!
Шурка понял: больше она ничего не скажет. Бесполезно допытываться. Сменил тему.
– Ну хорошо, все сбывается. Допустим. Но почему тогда у нас сбывается как-то наперекосяк? Всякая ерунда сбывается! Я желаю сейчас – сию секунду! – маму и папу. И тетю Веру тоже можно, и дядю Яшу, и чтобы не было войны, и все было хорошо! Ну? – Он подождал секунду. – И что? Где это?
– Может, мы как-то неправильно загадываем? – предположил Бобка.
Никто ему не ответил.
– А мишка твой поганый что говорит?
– Он не знает.
– Не знает? Это он нас сюда приволок! – взорвался Шурка.
И тут заговорила Таня. Голос у нее был унылый, будто она повторяла урок с чужих слов. А может, так казалось потому, что она говорила в колени, зачерпывая и пересыпая камешки.
– Недостаточно просто хотеть. Надо делать.
– Хорошо, – быстро отозвался Шурка. – Я готов сделать. Что?
– Ой, трамвай, – перебил их Лютик. – Смотрите! Трамвай! – вскочил он.
Все подняли головы.
Трамвай устало позвякивал. Через окна было видно, как качаются внутри кожаные петельки. Кое-где стекол в окнах не было: наверно, трамвай попал под взрывную волну. И все же он катил по рельсам посреди проспекта, держась рогулькой за провода!
– Нам нужен трамвай? – не поняла Таня. – Это какой?
Шурка пытался разглядеть, какого цвета фонари во лбу у трамвая, чтобы определить номер. Все ленинградские трамваи носили фонари сообразно маршруту: красный и синий, синий и желтый, белый и синий. Но у этого фонари не горели.
– Да-да! Отлично! Тот самый!
Лютик наклонился, чтобы подхватить на руки Бобку. И Шурка поперхнулся собственным дыханием.
Дело в том, что половины лица у Лютика, по сути, не было.
Лютик поймал вытаращенный Шуркин взгляд. Спохватился, тут же отвернулся. Большая ладонь взметнулась, прикрыла дыру, целая половина лица покраснела от смущения.
– Не пялься. Он стесняется. Не привык еще, – сухо пояснила Таня.
– Т-т-т-таня… Он же…
Шурка хотел сказать, что с такой раной человек вряд ли может ходить, думать, дышать, то есть жить, то есть он…
– Я знаю, – перебила Таня.
Зазвенев, трамвай остановился. Деревянные двери раскрылись. Все четверо рванулись, быстро забрались внутрь, плюхнулись на скамейки. Двери-гармошки стукнулись друг о дружку, и трамвай, позвякивая на стыках рельс, покатил дальше.
И если бы кто-нибудь сейчас остался на тротуаре, он бы увидел, как постепенно растаяли здания со всеми окнами, балконами, парадными, как оплыл и сам тротуар вместе с мостовой и трамвайными столбами. Трамвай проезжал твердое – и тотчас позади него все начинало зыбиться, колыхаться. Рассеивалось от долетавшего сюда речного ветерка. И не было больше ничего.
Глава следующая
– А почему на нас там вещи нападали? Диваны, и шкаф, и стул? – все выспрашивал Шурка. – Ведь это же нам не мерещилось!
Таня равнодушно смотрела в окно. В нахохлившихся домах окна были заклеены полосками бумаги или вовсе выбиты.
– Потому что это чужие вещи. И квартира чужая.
Шурка вспомнил женщину-голубя и решил больше не спрашивать.
Лютик-Людвиг и Бобка разговором не интересовались; Бобка укрыл ноги полой шинели своего нового знакомца и задремал.
Но Таня сама заговорила:
– В ней вообще раньше жили совсем другие люди.
– В нашей комнате? Ну да. Парамоновы. – И Шурка на всякий случай напомнил: – Подруга тети Веры.
– Парамоновы, – фыркнула Таня, – такие же воры. Нет. Везде – другие люди. Понимаешь, Шурка? В квартире. И в доме. Во всех этих красивых домах. А мы в их дома забрались. Как воры. – Таня подыскивала нужное слово. – Как тараканы.
– Нас разбомбило, – возразил Шурка. – Что же нам, на улице спать?
Таня вздохнула.
– Это до нас.
– При чем здесь тогда мы? Это вообще Парамоновы, Маня, другие соседи, а не мы.
– До Парамоновых. До Мани. До соседей. До всех.
– Ну здрасте, до всех там жили какие-то буржуи, – махнул рукой Шурка. – Какие-нибудь капиталисты или помещики. И всех этих графьев да князьев прогнала революция. А добро их поделили между простыми людьми.
– Вот-вот. Простые люди и украли. Что, по-твоему, буржуи – это не люди? У них можно красть?
Шурка растерялся.
– Тьфу, Танька. Это кто тебя подучил? Смотри, в школе такое не брякни, – вдруг испугался он. – Ты же пионерка.
– Я воровка, – тяжелым голосом сказала Таня. – Мы воры. – И мрачно добавила: – Вот за это нам все.
Она смотрела в окно.
– Тут я готов поспорить, – не сдался Шурка.
– Ой, смотри, человек прошел!
Шурка обернулся.
– Вон еще один!
До этого нигде в городе людей они не видели. А теперь стали попадаться прохожие: они все плелись в одну сторону – в ту же, куда ехал трамвай.
Таня прилипла к окну. Изо рта ее вырывался парок, а плечи плясали цыганочку.
Шурка осознал, что и сам давно уже едет обняв себя за плечи, а теплее не становится. Ноги выбивали дробь.
– Не стучи, – строго сказала Таня.
– Х-х-холодно. А т-т-тебе разве нет?
– Ваши билетики! – гаркнул голос.
Все четверо вскинулись. Покачиваясь от тряски и цепляясь поочередно за кожаные петли, как обезьяна за лианы, к ним приближалась огромная кондукторша. Бобка сонно уставился на нее. Билетов у них не было.
– Покупайте, – чугунно приказала кондукторша, поправив на груди катушки с разноцветными билетами.
– У нас денег нет, – тихо сказала Таня.
– Ничего не знаю! – покачала головой кондукторша. – Платите или сходите!
– А девочка меня бесплатно отвезла, – встрял Бобка.
– Какая еще девочка? – уставились на него Таня и Шурка.
– Бесплатно? Ну я ей задам… Так будете платить? Ну?
– Вообще-то это нечестно, – напала на нее Таня. – Что же вы сразу не сказали? Когда мы вошли? Я вас вообще не видела!
– А я все ждала, когда в вас совесть проснется, – отбрила ее кондукторша.
– Тетенька, пустите, мы только разок, – тоном заправского зайца стал бить на жалость Шурка.
– Вылезайте! – приказала кондукторша.
Руки у нее были могучие, в веснушках, ими она наверняка выбрасывала зайцев играючи.
– Но послушайте… – начал Лютик.
Она помотала головой.
– Слезайте. Вон отсюда.
– Чем же платить? – растерялась Таня.
– Говорю, вон отсюда. Ну? Давайте-давайте. Поднимаемся, – она сделала соответствующее движение пальцами. – Покидаем вагон.
– Послушайте… – поднялся Лютик.
– А ты сиди, – неожиданно кивнула ему кондукторша. – Заплати только – и катайся сколько влезет.
Лютик недоуменно уставился на нее. Таня глядела на него.
Кондукторша показала толстым пальцем на карман Лютиковой шинели. Он хлопнул себя по карману, нырнул рукой и удивился еще больше: в пальцах у него была монета. Не копейка, не пятак, не гривенник. Тяжелая, с ребристыми краями. Лютик ошарашенно смотрел на нее.
– Да, с этим сейчас сплошная неразбериха, – принялась отматывать билетик кондукторша. – Всё идут и идут. Всё везут и везут. Всё на бегу, всё тяп-ляп… – сокрушенно приговаривала она. – Кто убит, кто только ранен, пойми тут! Такие тяжелые ранения бывают, что думаешь: ну этот уж точно сюда. А потом раз! – а ему вовсе не сюда: жить будет… Но больше-то, конечно, сюда. А отсюда – никого. Вон трамвай порожняком гоняем.
Теперь уже от холода клацали зубы. Ледяной ветер из выбитых окон гулял по вагону. Залетала серебристая пыльца. Шурка изумился: за окнами теперь было бело.
Лютик все разглядывал монету. Потом протянул ее кондукторше.
– Давно бы так, – проворчала она. Протянула билет.
– Возьмите его, Таня, – сказал Лютик. – А я здесь сойду. Ведь все правильно? – поднял он на кондукторшу свое обезображенное лицо. – Все верно? Один взрослый – это как два детских. А детсадовцам проезд бесплатно.
Та поморщилась, но кивнула.
Таня вскочила:
– Ни в коем случае!.. Шурка! Бобка! – в голосе ее задрожали слезы. – Мы выходим… Остановите вагон!
Она крикнула в сторону кабины:
– Вожатый, остановите вагон! Сейчас же!
– Глупости, Таня! – загородил дверь Лютик. – Быть живым всяко лучше.
– Это неправильно! – выкрикнула Таня.
– Таня! Это моя монета, а не ваша. И я поступаю с ней как считаю нужным.
– Нет!
– Вы только в оба смотрите. Как только увидите санки – мигом выскакивайте! Хватайте их скорей – и на другой берег! Во что бы то ни стало на тот берег. Держите же! Ну!
Красными от холода пальцами он протягивал монету.
– Вам пора выходить? – огорчился Бобка.
– Санки? – удивился Шурка, машинально подставляя ладонь ковшиком.
– Вы поняли? Запомнили?
– Прекратите! – отчаянно закричала Таня. – Шурка, не вздумай ее брать! Слышишь? Ни за что!
Было в ее голосе что-то, отчего Шурка убрал руки за спину.
И тогда Лютик просто пульнул монету, как плоский гладкий камешек, по полу вагона. А сам проворно вскарабкался с ногами на скамейку и выскочил в пустое выбитое окно. Только полы шинели хлопнули, как крылья.
Таня ахнула.
– Да, – сказала кондукторша. – Так всегда. Добрым людям чужое несчастье всегда кажется больше их собственного.
– Этот Лютик… просто болван! – крикнула Таня со слезами.
– Он добрый, – пожала могучим плечом кондукторша.
Шурка приник к окну. Дома были только по одну сторону. С другой – лишь гранитный заиндевевший парапет и белесое небо, а стало быть река. Шуркины пальцы, сжимавшие раму, онемели от холода. Но он не обращал на это внимания. Он смотрел.
Люди! По набережной брели люди! Закутанные так, что не разобрать – мужчина или женщина. Обессиленные, шаркающие, сгорбленные: не понять – молодые или старики. Цепенели фарфоровые от мороза деревья. Огромные сугробы вздымались алмазными горами. И в сверкающей белизне Шурка ясно разглядел санки! Они торчали полозьями вверх, вниз змеилась веревочка.
Шурка вдохнул так, что от ледяного воздуха заломило в груди, и заорал:
– Танька! На выход!
Деревянные двери-гармошки за Таниной спиной стукнули, раскрылись. И не дав сказать Тане «Нет, ни за что!», Шурка пихнул ее в живот что было сил. Схватил Бобку и сиганул следом.
Он знал одно: здесь им оставаться нельзя.
Глава следующая
– Шурка! Ты… – негодовала, барахтаясь в снегу, Таня.
Но трамвай уже безнадежно убежал.
Вокруг был снег, самый настоящий. Он обжигал, от него ломило ноги и руки. Шурка разгреб его руками, выволок за шиворот Бобку и, не теряя времени, бросился к санкам. Дернул за торчавшие вверх полозья – но санки не дались.
Он поднял глаза: конец веревки сжимал в руках какой-то человек. Косматая шапка была надвинута на самые глаза, опущенные уши делали лицо, похожее на сушеный ломтик, еще уже.
– Я их первый нашел!
– Они наши! – дернул Шурка.
– Мои! – дернул незнакомец. В щели рта не видно было зубов. – Вы опоздали!
Обычный ленинградец. Такие стояли в очереди за хлебом. Брели к прорубям за водой. Везли прочь на саночках спеленатые фигуры.
– Мои! – истерически колотил он себя в грудь. – Они мои!
– Шурка, он прав. Он нашел первым…
Таня дрожала, губы у нее были голубыми.
– Меня там ждут! – вопил незнакомец.
Хоть и тощий с виду, он ловко подставил Шурке ножку и рванул санки к себе.
– Нас же трое! А вы один! – заорал Шурка.
– Ну и что? Я тоже хочу на тот берег! Я не меньше, чем дети, хочу! Даже старики хотят!
Шурка видел только санки. Саночки.
– Вы еще продержитесь. Найдете другие! А я – нет! – голосил тот.
– Он, может, прав, – дернула Таня Шурку. – Идем. Другие поищем.
Но Шурка помнил: Лютик не сказал «если найдете» – он сказал «когда найдете». В этих санках места было ровнехонько для одного взрослого. Или троих детей – если Бобку взять на колени. А других санок не было.
Шурке стало так жарко, что никакой мороз не мог бы с ним сладить.
– Мы поищем другие, – твердила Таня.
– Нас трое. А он один.
– Шурка, нет!
И тогда Шурка наклонил голову, со страшным ревом рванулся вперед и боднул незнакомца головой во впалый живот. Тот потерял равновесие, потащил за собой санки, но со всхлипом рухнул плашмя, разбросав слабые руки. А встать уже не смог.
Шурка ринулся через лежавшего и схватил веревочку. Санки расторопно помчались за ним.
Человек в шапке сумел встать на четвереньки. Он выл. И воя, повалился в снег. Или это ветер завывал?
Таня оступилась. Вскрикнула:
– Шурка!
И добавила шепотом:
– Что ты… мы… наделали…
Таня смотрела туда, на белеющий холмик, во все глаза. Потом уставилась на Шурку. Не глаза, а блюдца.
Санки нетерпеливо толкались в ноги. Бобка дрожал. Метель набирала воздух в легкие. Надо было спешить.
– Таня! – звал Шурка.
Упавшего быстро заносило снегом. А Таня все смотрела.
– Та-а-аня!
Вверх по сугробу Бобку приходилось толкать – другой рукой Шурка подтаскивал санки. Он выпрямился на вершине. А Таня все стояла внизу.
– Таня, ну!
Сугроб другим склоном скатывался к белому льду. Шурка приладил санки. Ему не верилось, что этой высоты хватит для разгона и санки смогут перекатиться на другой берег. Река расстилалась впереди белой пустыней под белесым небом.
Над гребнем сугроба наконец показалась Танина голова. Шурка усадил Бобку. Ухватился за веревочку.
– Танька, скорее! – торопил он ее. – Садись же!
– Таня! Танечка! – звал Бобка, чуть не плача.
Метель свистела и стонала. Подталкивала санки. Они так и рвались вперед. Шурка упирался ногами. Едва держал.
А Таня опять застыла; с гребня сугроба смотрела она назад, на остающийся за ними город.
– Ну? – прикрикнул сердито Шурка.
Таня повернулась.
– Шурка, – с трудом выговорила она окоченевшими губами. – Я больше не знаю, кто ты. Ты… мы сделали ужасное.
И от ее слов в груди у Шурки намерз кусок льда.
– Садись! – закричал он тонко и испуганно.
И в этот миг метель двинула Шурку в спину кулаком. Ноги чиркнули по снегу, скользнули, потеряли опору. И желудок ухнул вверх.
Не было больше ничего. Только верх и низ. И вниз в сплошной белизне летели санки. Они летели так, что дышать было невозможно: встречный шквал тут же заполнил воздухом нос, рот, голову, все тело. Снег хлестал по лицу.
Санки тряслись и норовили опрокинуться. Шурка изо всех сил старался не разжать руки – не упустить Бобку, не потерять вожжи санок.
Глава следующая
Полозья взвизгнули. И скрип прекратился.
Таня обернулась.
– Вот ты где… Слезай вниз. Бедная девочка, замерзла вся, – довольно-таки равнодушно произнес болотистый голос.
Он кивнул на место позади себя.
– Полезай же скорее, согреешься.
– Мне не холодно, – стуча зубами, отозвалась Таня.
С высоты сугроба незнакомец казался лишь обвисшей серой шляпой с острым верхом.
– Мы же не доиграли, – укорил он. И поднял над головой шахматную доску.
– Я больше не хочу, – просто ответила Таня.
– Так не бывает. Нельзя вот так взять и остановить партию. Ты же хотела знать. Значит, иди до конца.
– Все фигуры все равно смешались.
– А мы восстановим. Я помню каждую позицию.
– Я больше не хочу знать.
– Почему?
– А что изменится?
– Узнаешь… Полезай. Ты же закоченела.
Таня села, подвернув подол. И, взрывая пушистую снежную пыль, съехала вниз. Серый ловко подхватил ее за шиворот, не дав упасть лицом в снег. Она залезла в сани, укрылась серым меховым одеялом. И ей стало так тепло, так тепло…
– Раскладывай доску.
– Прямо здесь, на сиденье?.. Как же вы будете играть, не глядя?
– Я помню каждую клетку.
Серый причмокнул, и сани тронулись.
Таня раскрыла доску, высыпала горкой фигурки.
– Ра-вняйсь! Смир-рно! – гаркнул, не поворачиваясь, серый. – По местам!
Фигурки тотчас рванулись, стукаясь, заняли позиции, замерли.
Таня шарила глазами по клеткам, но не могла вспомнить, так ли стояли фигуры раньше или все изменилось. Сани бежали плавно: фигурки стояли не шелохнувшись.
– Люблю зиму, – довольно сказал возница. – Это не в телеге трястись.
Мимо неслись дома, каналы, мосты, площади, дворцы, дома, мосты…
Таня проводила взглядом Аничков мост – конных статуй по углам не было. Откинулась на сиденье.
– Твой ход, насколько я помню, – не оборачиваясь, бросил серый.
Таня подумала, передвинула фигуру.
– Первая пешка съедена! – радостно заявил противник. Он протянул руку назад, схватил Танину пешку и кинул себе в рот. Щеки заходили ходуном. – С клубничной начинкой, – сообщил.
Таня глядела на фигуры. Завыл желудок. Есть захотелось страшно.
– Съешь мою ладью, – посоветовал серый, жуя. Он все так же сидел спиной. – У меня вот тут уязвимая позиция. Что, не видишь? У ладьи начинка пралине. Рекомендую.
Таня медлила. Она понимала западню. Не съешь фигуры – не выиграешь. Это шахматы. А съешь – останешься здесь навсегда. Это Туонела.
– Таня! Ку-ку. Твой ход.
– Я думаю.
– Что-то долго думаешь.
Таня пожала плечами и подперла щеки кулаками.
– Часов-то нет.
– Хитренькая, – погрозил пальцем серый. Щелкнул пальцами.
Теперь у доски стояли часы. По виду как песочные, только вместо песка – вода. Ее в верхней чаше осталось совсем немного.
Таня задохнулась от негодования: нечестно!
– Здесь же нет времени!
Человек в шляпе захохотал:
– А кто говорит, что эти часы измеряют время?
– А что?
– Слезы. Чужие слезы.
Через узенькую горловину капало вниз.
– Кап-кап, кап-кап… По капельке-то, по одной слезинке – очень медленно. Медленнее, чем время. От этого многие думают, что злодейство сошло им с рук. А не сошло!
– Я ничего не сделала…
– Вот именно!.. Ты же хотела знать, за что вам все это? Теперь ты знаешь! Вы переполнили этот город чужим горем!
– Я никого не…
– Вы! Вы! Виноваты все! Добрые наследники злодеев! И те, кто просто видел зло и стоял рядом! Вы думали, сойдет? Никому не сойдет!
Он больше не кривлялся, не притворялся. Он был страшно зол, видела Таня.
– Даже у самой глубокой чаши есть края. И она наполнилась! Часы перевернулись! И все слезки – они теперь капают обратно на ваши головы! Понятно? Вам! Пора! Платить!..
От его слов Таня подскакивала и вздрагивала, будто жаркая меховая полость вдруг перестала греть.
– …За каждую! Слезу!
Сани летели вдоль набережной. Над ней занимался розовато-золотистый дымок. В другое время Таня бы залюбовалась.
– …Кап-кап! Кап-кап! – каркал возница.
И Таня увидела, что на доску капает. Кап-кап. Кап-кап. Только вода была теперь красной. И все капало, капало красным. Капли подскакивали и падали Тане на кофту, на колени, на лицо. Она закрыла лицо руками.
– Съешь ладью. Проиграешь ведь, – почти сочувственно сказал серый.
– Сперва ответьте.
– Сперва съешь.
– А вы, значит, честный? – в Тане тоже поднялась злость.
– Я-то?
– Справедливый? Да?
Он сделал вид, что не замечает ее тона. Задумался.
– Пожалуй, да, – серьезно ответил он.
– Да вы злодей похуже прочих!
– А я-то тут при чем? – он искренне удивился. – Часы поставил не я.
Таня пристально посмотрела на него, на обвисшие поля шляпы, на потрепанную серую одежду. Вспомнила крестики, которые он ставил в городе.
– Вы ведь смерть? Зачем отрицаете? – снова спросила она. Но не получила ответа.
Таня свесила голову.
– Что же мне делать?
Ее слезы падали на доску.
Человек в сером смягчился.
– Слыхала такое выражение – испить до дна чашу горестей? А? Слыхала?
Таня шмыгнула носом. Кивнула.
– Ну так пей! – Он обернулся, бережно снял с часов верхнюю чашу, где еще плескалось на дне, сунул ей под нос: – Пей!
«Он обманщик, – сказал голос у Тани в голове. – Пить здесь тоже ничего нельзя».
– До дна! – прикрикнул серый. – И тогда часы снова перевернутся. И, может, они успеют перевернуться до того, как Шурка и Бобка… э-э-э… пострадают.
Таня вскинула на него глаза.
– Но повторяю: я не смерть. И ничего тебе не обещаю.
– А много там еще? В этой чаше? – спросила Таня.
– Не хочешь – как хочешь. Вылезай из саней. Тпру!..
Таня вскочила, выхватила у него из рук чашу, бережно поднесла ко рту и залпом выпила. Поставила на часы пустую.
Ничего не произошло.
Потом скрипнуло. Нижняя – полная – чаша дрогнула. И тотчас часы начали медленный кувырок. Чаши менялись местами. Теперь полная до краев взмывала вверх, пустая шла назад. Пришла. Первая капля упала в нее.
И на всех часах, которые только были на другой стороне, тотчас двинулись стрелки. Время снова пошло, полетело вперед. Улицы и площади сжимались до нормального размера. Сужались реки – снова становились каналами. Разбегались по домам игрушки. Гарцевали стулья, столы, диваны, кровати. Махали крыльями-страницами книги – целые стаи книг. Вскакивали обратно на свои постаменты сфинксы, львы, всадники. Бежали, придерживая каменные покрывала, мраморные красавицы – и тоже карабкались на свои пьедесталы, задирая полные, неспортивные ноги. Моря снова стали прудами в парках. Дома обрели человеческую мерку. Черный ангел с крестом приземлился обратно на высокую мраморную колонну, сложил острые крылья и повернул лицо туда, куда смотрел последние сто с лишним лет. Страшная темная река, по которой плыли мечи, копья, ножи, река, которая была границей Туонелы, снова стала Невой, дала льду себя сковать. И площадь с фарфоровыми деревцами, громадной чернильницей собора и вмерзшим трамваем расстелилась за миг до того, как на нее, взорвав сугроб, плюхнулись санки с Шуркой и Бобкой. И тети-Верины часики снова пошли.
Часы во всем городе стучали. Со стуком перемахивали с деления на деление стрелки. Всё прыгали, всё бежали – нагоняли. И в конце концов их ход обрел обычную плавность. Они уже спокойно и равномерно перескакивали с одной черной палочки на другую.
Глава 50
Санки со всего маху врылись носом в сугроб.
Шурка выдирался наружу ногами и рукой, а другой тащил Бобку. Раскидал снег. Выполз. От него валил пар.
Бобка не ощущал мороза. Он только понимал, что вокруг не просто холодно, а страшно холодно. Огромные ледяные мечи свисали с крыш.
Но это были крыши! Знакомая твердая линия крыш. Без всяких там штучек.
Солнце ласково золотило студеные дома.
Из-за толстой корки инея, искрящейся на солнце, мертвый трамвай казался елочной игрушкой.
Бобка почувствовал, как что-то маленькое и твердое холодит руку. Он посмотрел на запястье и поразился: две толстенькие стрелки были неподвижны, а третья, тоненькая, живо бежала по кругу, словно проверяя, все ли деления на месте. Часы снова шли!
Шурка тоже заглянул.
– Тю, – сказал он. – Тети-Верины часики. Вот они, оказывается, где. Идем.
Глава 51
Мороз опомнился и нещадно драл обоих за уши.
– Домой хочу… – трясся всем телом Бобка.
– Ну так давай живее! – прикрикнул Шурка.
– Скоро мы придем домой?
– Скоро! – хрипел Шурка. – Совсем скоро!
Вид у него был очень грустный. Бобка забеспокоился. Может, брат сломал ногу, когда они упали? Но вроде он не хромает.
Шурка выдернул санки из сугроба, пыхнувшего морозной пылью.
– А где Таня? – остановился Бобка.
– Таня придет! Попозже! – тоненько выкрикнул брат, наматывая веревку на кулак. – Ну! Домчу с ветерком! – слова были веселые, а вот голос невесел. – Как король едешь, Бобка!
– Как король игрушек? – уточнил Бобка, залезая на санки: упал животом, неуклюже перевернулся, сел.
– Какой еще король игрушек?
– Который в кукол превращает. Так мишка объяснил, – Бобка поставил ноги на полозья. – А вот же он.
Шурка обернулся. Стылым взглядом смотрел неживой трамвай, сам по колено в снегу. Искрились белые деревца. Купол собора реял в золотисто-розово-голубом небе, как огромная темная чаша.
– Не там. Вон там, – показал рукой Бобка.
На том месте, где раньше был мост, а теперь виднелся только снег, стояли сани. В них не было ни коней, ни оленей, ни собак. Никого не было.
– Ну наконец-то! А я уж думал, вы никогда не выберетесь! – оживленно закричал король игрушек. И захохотал.
Он постукивал кулаками и дул на них – как будто мог замерзнуть. Сорвал с головы серую обвисшую шляпу и помахал ею. Нахлобучил, потянув за поля.
«Король, а одет как попало», – осудил его Бобка. Одежка на короле и правда была ветхая, серенькая. И борода тоже серая.
– …А этот мне, главное, говорит: «Вы Дед Мороз?» Ха-ха! Дед Мороз!.. Деда Мороза не существует. Заруби себе это на носу, малыш. Его просто изображает чей-нибудь папа. В бороде из ваты. Или дядя, или старший брат. Только где все эти папы и дяди? Что-то их не видно. И куда это они все подевались, а? Некому больше Дедом Морозом прикинуться? Значит, не будет вам Нового года!
Он балаболил, словно наслаждался своим красноречием и остроумием и старался произвести впечатление на Бобку и Шурку.
Рядом с санями лежала фигура. Казалось, человек брел-брел, да и присел в сугроб, да и завалился на бок. Да так и остался лежать. Фигура вся была укутана, обмотана в теплое, с шалью поверх шапки, в валенках поверх ботинок. Только это все уже ничего не значило. Фигура была неподвижна. Похоже, Бобка был по-своему прав, говоря о куклах.
Они подошли поближе к саням. Вблизи сходство с куклой было еще явственнее.
– Вы где? – очнулся король игрушек, заметив, что никто его не слушает. Огляделся. – Шутники, однако! Побегать со мной наперегонки решили? Побегаем. Отчего же не побегать. Так даже забавнее.
Он встал на козлах во весь рост.
– Гонки на санях! Открытый чемпионат! Первенство Ленинграда! Ура! – радостно завопил он и хлопнул вожжами.
Глава 52
– Шурка, а ты не можешь бежать быстрее? – подал сзади голос Бобка. Ему было страшно.
Шурка опять попытался встать. На четвереньки. Потом разогнулся. Снова подался вперед, потянул санки.
Веревка врезалась в живот. Ноги были мягкие, не справлялись со снегом.
– Бобка, я просто человек-ветер. Не беспокойся, – бормотал Шурка, напрягая последние силы.
Санки так и норовили съехать с узенькой тропинки, протоптанной в сугробах редкими прохожими, и ткнуться в снег. От выстывших домов тянуло холодом.
– Наш дом! – крикнул Бобка.
А Шурка уже тащил его за подмышки из санок.
В квартире ничего не изменилось. Она была такой же темной, огромной и холодной. По углам лежал иней – король игрушек явно побывал здесь. В коридоре – снег, который намело через разбитое окно. В кухне – никого.
– Злая ушла, – обрадовался Бобка.
Печенья, правда, тоже не было. И карточки исчезли.
– Маня, наверное, тоже ушла, – объяснил Шурка.
Все двери в коридоре стояли нараспашку. Их дверь тоже. Задувал ветер.
Шурка прислонился к стене, прикрыл глаза.
– Надо шевелиться, – обеспокоенно сказал Бобка. – Бублик… помнишь, какой он худой был? Таял. И совсем растаял. Я тоже начал таять.
– Да? – брякнул Шурка, не слушая.
Он с трудом отлепился от стены. Искал что-то у печки, по углам, под шкафом. Нигде, как назло, не было ни щепки.
– Да. Но потом побежал – и перестал таять.
– Что? – осознал внезапно Шурка.
– Только ты Тане не говори. А то еще испугается.
Шурка кивнул и подсадил брата на диван.
– Холодно как, – тихо произнес Бобка. – А где все вещи?
– Сбежали.
Видимо, только диван и стол не смогли пролезть в дверь. Да еще картинам было лень слезать со стены, а люстра боялась прыгать с потолка. Рваный плед тоже почему-то не убежал. Шурка подтащил его, натянул на Бобку.
– Огонь разведем, – сказал.
Во рту у печки еще нашлись какие-то щепочки. И комок страниц из Таниной книги. Спичка никак не хотела чиркнуть. Наконец удалось с нею справиться. Оранжевые язычки вяло лизнули бумажный шарик.
– Пойду дров принесу.
Голос у Шурки был безучастный. Он вяло переставлял ноги: левая-правая, левая-правая. А на Бобку не смотрел.
– Дров принесу, – повторил он. – Только посижу немного! – крикнул уже из коридора. – Отдохну, а потом быстро все сделаю. Найду. Дрова…
Шуркин голос делался все слабее. А потом донеслось шуршание.
– Ты что? Прилег там? – забеспокоился Бобка. – Холодно ведь.
Но брат решил не отвечать. А может, ушел в ту комнату, на которой раньше висел замок. Таня говорила, там дрова.
Бобка сидел и смотрел на холмы пледа, под которыми были его ноги. Впрочем, теперь он уже не был в этом уверен. В печке пыхнуло оранжевым, и стало еще темнее: щепки обуглились и едва тлели. Скоро погаснут совсем. Бобка захотел пощупать, где ноги. Казалось, их там вовсе нет, а есть только холод. Но рука не поднялась. Она просто лежала рядом, как будто сделана из дерева. «Я превращаюсь в куклу», – сообразил Бобка.
Он попробовал еще раз позвать Шурку. Но голоса своего не услышал. Зато услышал, как кто-то вошел.
Высокая фигура прошла в полумраке к столу. Села прямо на стол.
Король игрушек отыскал их, понял Бобка.
Король закинул ногу на ногу.
– Ничего-ничего. Я подожду. Не стоит обо мне беспокоиться.
Будто Бобка не сидел неподвижно, а побежал поставить чайник на плиту для гостя. Принести печенье в вазочке. А Бобка даже голову не мог повернуть в его сторону. Он сидел и прямо перед собой видел картину. Ту, на которой больше не было груш и булки.
Внезапно оттуда вылезла большая фарфоровая кукла с красным ротиком и шелковистыми локонами. Платье задралось, показав на мгновение панталончики, и кукла спрыгнула в комнату. А за ней просунула хорошенькую кудрявую головку другая. Следом еще одна. И еще. И еще. А за ними клоун.
Вот здорово! – обрадовался Бобка. Никогда у него не было так много игрушек.
Клоун галантно помог негнущейся трубе – та все цеплялась за раму своей жестяной ногой. Затем вылезла плюшевая обезьяна – она перебралась через раму ловчее всех. И целый полк оловянных солдатиков. И орава голеньких целлулоидных пупсов. Они сначала спустили на ремнях блестящий лаком голубой автомобиль, потом – таким же способом – самолет с красными звездами на крыльях, а потом спрыгнули сами. И бархатистый кот. Он сел на полу и тотчас принялся расправлять усы.
В жизни своей Бобка не видел столько игрушек разом! Они разбрелись по комнате. Подыскивали себе место, обустраивались. Солдатики развернули полевую кухню, поставили палатки. Обезьяна висела на шторах. Куклы принялись расчесывать друг друга, только и слышалось: «Передайте расческу, Кларочка!», «Туся, у вас моя ленточка?»
А король игрушек все сидел, покачивал ногой. Иногда поглядывал на собственные ногти. А на Бобку не смотрел. Он ждал.
Вдруг Бобка увидел, что из картины высунулся мишка. И показал ему лапой: тсс!
Но поздно.
– Вот ты где! – радостно закричал король.
Огромными шагами он прошел через всю комнату и вынул мишку из картины.
– Что еще за новый глаз? – нахмурился. – Какое уродство!
Пуговица явно ему не понравилась.
А мишке не понравилось такое обращение. И он вместо приветствия открыл бархатистый ротик и всадил в руку королю свои остренькие клычки.
– Негодяй! – заорал укушенный. Затряс рукой.
Мишка шлепнулся на пол – игрушки ахнули – и быстро скрылся в темноте.
– Бунтовать?! Против меня бунтовать! – метался по комнате король, заглядывая во все углы. – А ну вылезай, мерзавец! – Бобке стало ясно, у кого мишка набрался грубых слов. – Вылезай! И тогда, может, я тебя помилую!.. Да не стойте же вы! Дуры! Остолопы! Ищите его!
Поднялся визг, лязг, топот. Игрушки бросились выполнять приказ, но лишь со стуком налетали друг на друга. Грузовик переехал коту хвост. Обезьяна промахнулась в прыжке, упала и придавила Кларочку.
– Вы испортили мне прическу! – завизжала та. – Не мните платье!
Куклы оттащили ее за ноги.
Бобка охотно бы бросился мишке на помощь, вот только не мог пошевелиться. Да и мишки было не видать.
– Эй вы! – крикнул мишка.
Месиво остановилось. Все задрали голову.
– Он на люстре!
И точно: коричневое тельце темнело среди хрустальных висюлек.
– Как вам не стыдно! – выразительно произнес мишка.
Бобка хотел засмеяться. Потому что мишка сказал это совсем как тетя Вера. Но не засмеялся: сил не было даже дышать. Страшно хотелось спать. Казалось, он не под пледом и весь одетый, а по грудь в холодной воде и голый. Глаза сами закрывались. И он понял, что не сможет досмотреть, как мишка справится.
Мишка тоже это понял. Ослабевший от голода Бобка замерзал. Бобка, который кормил его печеньем и учил хорошим манерам! Который делил с ним подушку и показывал все интересное, что видел! Замерзал всего за несколько минут до того, как…
И мишка придумал.
– «Мерзавец!» – передразнил он короля и заулюлюкал сверху.
– Молчать! – закричал король. – Молчать! Я твой король!
Мишка рассмеялся и принялся раскачивать люстру, откидываясь всем телом то вперед, то назад, вытягивая и поджимая задние лапы, как на качелях. Висюльки жалобно запели.
– Развлекаешься, негодник? – ярился снизу король. – Я твой король! Я приказываю…
– Ты мне не король, болван.
Игрушки ахнули. Какая неслыханная дерзость!
Король оглянулся в поисках стула. Не нашел. С грохотом подтянул стол. Залез. Попытался уцепиться за люстру, но потолок был высоким, как обычно в старых домах; люстра пронеслась мимо, король увернулся от нее и чуть не упал.
Мишка хохотал.
– Дурак! – вякнула какая-то кукла.
– Сами дураки, – парировал он. – Нас сделали, чтобы мы любили детей! – напомнил им с люстры.
– Вот еще! Ни за что! – галдели внизу.
– Дети – маленькие мерзавцы!
– Они стригут нам волосы!
– Они пачкают нас пластилином!
– Кидают и пинают!
– Грызут и душат!
– Они отрывают нам руки!
– И колесики!
– Они плавят нас на огне! – разом гаркнули солдатики по взмаху командира.
А куклы запищали:
– Ужас какой!
Люстра раскачивалась как маятник: влево – вправо, влево – вправо, к печке – к стене, к печке – к стене.
У стены стоял самолет. Он всем поддакивал.
– Скажешь, не так? – поинтересовался король игрушек. – А где тогда твой глаз, а? Не слышу! Почему у тебя вытерлась шерсть? А эти пятна? Откуда они? – Он иронически приставил к уху ладонь. – Что ты там пискнул?
Мишка пронесся на люстре у него над головой. Выбрав подходящий момент, разжал лапы – и плюхнулся прямиком на сиденье самолета. Быстро крутанул ключик. Моторчик застрекотал.
– Гад! Обманщик! Предатель! – вопил самолет, нарезая круги под самым потолком. Но ничего поделать не мог: мишка крепко держал колесико руля.
Король прыгал, загребая руками, но только топтал своих бестолковых подданных.
Дверца печки была приоткрыта – Шурка так ее оставил. Мишка резко развернулся и потянул рычаг скорости: самый полный вперед!
– А-а-а-а-а-а-а-а! – завопил самолет: перед ним стала вырастать кафельная стена печки.
Мишка направил самолет прямо в зев печки – и через миг он брызнул осколками, винтами, гайками. Дальше всех, под диван, закатилось резиновое колесико.
И тогда мишка захлопнул за собой железную, перепачканную сажей дверцу.
Она тотчас затряслась.
– Вылезай, паршивец! – колотил снаружи король.
А внутри угли уже начали подергиваться серой пеленой – как будто и они засыпали, замерзали. Мишка подул на них, еще и еще. Они сонно мигнули оранжевыми глазками, но оживать не хотели. Сил у них тоже не было. Они тоже давно не ели, перебивались всякой дрянью, вроде ножек от стульев, и уже забыли, какой бывает настоящая еда – березовые дрова, например.
– Сейчас, сейчас… – бормотал мишка.
Он дергал и дергал себя за нитку, покусывал ее клычками. И наконец шов разошелся. Мишка весь как-то осел, будто сдулся. Ведь внутри у него были отборные желтые опилки (оттого он был такой твердый, тяжелый, толстенький). А теперь они высыпались через прореху в животе – превосходной сухой и вкусной кашей.
– Еда!!! – завопил огонь. Поднялся дыбом. И набросился на угощение.
Глава 53
Когда дядя Яша внес Шурку в комнату, он поразился: в печи плясал, тряс рыжими перьями огонь. А Бобка глядел на него блестящими глазами, и в них отражались оранжевые искорки.
– Бобка, вот молодец! Сумел печь затопить, – сказал дядя Яша.
Бобка глазам своим не верил. Но это и правда был дядя Яша! Самый настоящий. Живой. Только худой и в колючей бороде.
Он положил Шурку на диван. Наклонил стол, топнул сапогом – ножка стола кракнула. Собрал обломки, стал засовывать печке в рот.
– Что это у вас в печке? Какие-то обгорелые тряпки…
Дядя Яша вытащил на щепке горелые лоскуты, сбросил их на пол, – что-то звякнуло и покатилось. Закинул щепку в печь, прикрыл дверцу.
– А Шурка сомлел, – посетовал он. – Но ничего…
Бобка внезапно испугался: если это король так шутит?
– Дядя Яша! – крикнул он.
– Чего тебе, дикарь? – отозвался тот. Значит, был настоящим!
Дядя Яша снял со спины мешок. Вынул флягу, налил из нее в Шуркин приоткрытый рот. Потом стал растирать ему руки, ноги. И растирал, пока Шурка не закашлялся и не сел.
– Дядя Яша! – не мог поверить и он. В руки и ноги лилось тепло.
А дядя Яша уже выкладывал на подоконник кирпичик хлеба, и банки с тушенкой, и кубик сала, и бутылку, и еще одну. У него нашелся даже изюм!
– Мне дали увольнительную. Чтобы встретить Новый год, – сообщил он.
Шурка зацепился взглядом – и поднял с пола мишкин глаз. Тот лишь слегка оплавился по краям.
Огонь в печке весело трещал. Он пировал. По лицу у дяди Яши метались тени и всполохи.
– А где тетя Вера? Где Таня? Они в магазине? За водой пошли? За дровами?
Шурка с Бобкой молчали.
– Где тетя Вера? – непонимающе смотрел он то на одного, то на другого, но в глубине души уже чувствовал ледяной камешек. – Шурка, Бобка, где тетя Вера?! Где Таня?!
Глава 54
Часы во всем городе стучали. Их стук отдавался буханьем в висках.
Перескакивали с деления на деление стрелки. С одной черной палочки на другую.
И вот уже это мелькание превратилось в мелькание черных столбов за окном. Стучали по рельсам колеса.
– Очнулась! – воскликнула тетя Вера.
Таня смотрела и не узнавала. Тетя Вера провела рукой по голове: волосы у нее были короткие, как у мальчика. Лицо раскачивалось в такт вагону. Таня чувствовала головой подушку. И прохладу. Протянула слабую руку к темени: волос не было, только ежик.
– У тебя был тиф, – объяснила тетя Вера. – Я тебя в госпитале нашла. Меня саму туда принесли, после обстрела. А потом я тоже переболела… Не разговаривай пока. Вот, пей. – Она поднесла к Таниному рту ложечку. – Пей.
«Значит, я сумела выбраться из Туонелы…»
Таня смотрела на воду – в ней искрился дневной свет.
– Да что ты? Это просто вода.
Таня оттолкнула руку.
– Где Бобка? – крикнула она.
– Танюша, ляг.
– Где Шурка?.. Где все? Где?!
По тряскому вагону, раскачиваясь из стороны в сторону, спешила медсестра в наброшенном на плечи военном полушубке.
Паровоз работал железными локтями, задыхался на бегу сдобным дымом, но лишь быстрее и быстрее вращал суставами. Словно увидел что-то невыносимо страшное. Он просто не мог остановиться. Он нес их всех: Таню, тетю Веру, вагон, все вагоны, сколько их было, со всеми этими младенцами-скелетиками, с серолицыми взрослыми, в которых не различить мужчин и женщин, с девочками, похожими на старушек, и мальчиками, похожими на старичков. Он уносил их всех – что было сил в его механических внутренностях – из кошмара прочь. На восток.
Сноски
1
Мечи, копья, ножи и всякое такое (фин.).
(обратно)2
Мне не нужны часы. Здесь нет времени (фин.).
(обратно)3
Только учти, что здесь ничего есть нельзя!.. И стоять на месте тоже нельзя! (фин.)
(обратно)4
Беги отсюда! Уходи с песка! Беги! (фин.)
(обратно)
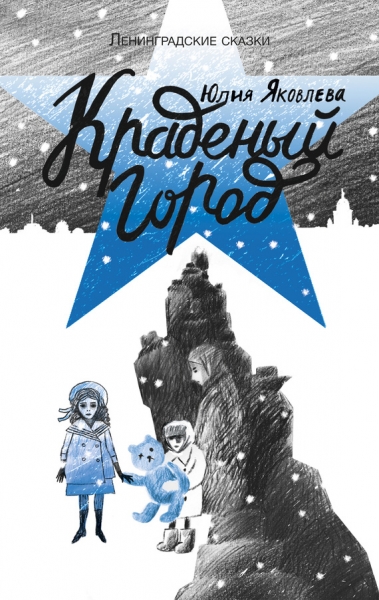




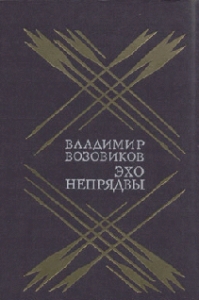



Комментарии к книге «Краденый город», Юлия Юрьевна Яковлева
Всего 0 комментариев