Торнтон Уайлдер
О творчестве Торнтона Уайлдера
Река не совсем годится в качестве символа для обозначения времени, истории. Вернее — пейзаж, окрестность, простор. Так полагал Торнтон Уайлдер (1897–1975), один из крупных американских писателей нашего века. Это ключ к его позиции; писатель строит свой мир на основе пространственно-временных представлений, сформировавшихся в нашем столетии.
Когда первый американский лауреат Нобелевской премии по литературе Синклер Льюис произносил торжественную речь, он назвал наиболее заметных младших своих соотечественников, в том числе Торнтона Уайлдера. Он принадлежит к тому же поколению, что и Скотт Фицджеральд, Фолкнер, Хемингуэй, Дос Пассос, Томас Вулф. Вошел он в литературу одновременно с ними и все же стоит несколько особняком.
В особое положение Торнтона Уайлдера поставили прежде всего семейные обстоятельства, воспитание, образование. «Богатые люди не похожи на нас с вами», — имел обыкновение говорить Скотт Фицджеральд. «Да, — иронически вторил ему Хемингуэй, — у них есть деньги». Так вот о деньгах Торнтону Уайлдеру тревожиться никогда не приходилось. С Фицджеральдом, Дос Пассосом и Хемингуэем они не только сверстники с разницей в один-два года, но еще и земляки — все со Среднего Запада, у всех у них на горизонте были Чикаго и озеро Мичиган, где мальчишкой рыбачил Хемингуэй. Но Уайлдер происходил из другой среды. Принадлежал он к американской элите, не денежной, но вполне обеспеченной и влиятельной, служебно-государственной. Отец его был дипломатом высокого ранга, занимал пост генерального консула в Китае, где Торнтон Уайлдер провел раннее детство. Вернувшись на родину, он учился в лучшей школе, лучшем колледже и в знаменитом Йельском университете. Между тем его литературные сверстники высшего образования не имели, и даже Дос Пассос, который курс в не менее знаменитом Гарвардском университете закончил, все же остался без диплома. А Уайлдер не просто прошел курс и не просто получил диплом. Как осмотрительно выбирали для него родители одно учебное заведение за другим, так он сам старательно выбирал себе наставников, научных руководителей, серьезно изучал древние языки, античность. После окончания университета он стал преподавать. Томас Вулф тоже некоторое время учительствовал, однако для него это было и случайностью, и жестокой жизненном необходимостью, а для Уайлдера — обдуманным, более или менее свободным выбором жизненного пути, рода занятий, места жительства.
Жизнь раз и навсегда поставила Торнтона Уайлдера в положение просвещенного, удобно устроенного наблюдателя. И дальнейшие отпущенные ему судьбой преимущества он старался не растрачивать впустую. Наблюдателем он был хотя и осторожным, однако пытливым, внимательным. В исключительных случаях не отклонялся он и от участия в событиях. Правда, и здесь его положение оставалось привилегированным. В первую мировую войну он служил в артиллерийской береговой охране, что на американском берегу не представляло, естественно, сколько-нибудь реальной опасности. Конечно, военная служба Фицджеральда или Фолкнера тоже была формальной, но Фолкнер в военные годы все же исполнял обязанности почтаря, а Уайлдер, так сказать, находился в войсках. Во второй мировой войне его участие было уже гораздо более реальным. Оно было тоже наблюдательским поначалу, когда в составе правительственной делегации Уайлдер посетил Лондон во время фашистских налетов. А затем он стал офицером разведывательного штаба союзных военно-воздушных сил в Италии и Северной Африке, где, как говорят биографы, очень пригодилось его знание языков. За трехлетнюю службу Уайлдер получил чин подполковника, а также, подобно Хемингуэю, Бронзовую звезду и еще более высокую награду — Почетную медаль конгресса.
Но в отличие от многих своих соотечественников ни после первой, ни после второй мировой войны Уайлдер не вернулся домой «потерянным». Он сопротивлялся наиболее распространенным настроениям своего поколения, хотя отнюдь не сторонился своих сверстников, участвовал с ними в одних и тех же литературно-экспериментальных журналах, тех, в частности, что выходили в Чикаго, который в начале 20-х гг. считался культурным центром страны. После выхода своих первых книг Хемингуэй получил от Уайлдера восторженное письмо. Когда Уайлдер встретился с Фолкнером, то оказалось, что фолкнеровские романы он знает филологически профессионально, как античных классиков, вдоль и поперек, просто наизусть. Литературные сверстники со своей стороны знали цену ему. Полученным от Уайлдера письмом Хемингуэй гордился. Фолкнер даже думал подражать Уайлдеру, правда как драматургу. Высоко ставили его главные книги и Дос Пассос, в Фицджеральд. Более того, у них были общие литературные учителя, одни и те же авторитеты, например такие прозаики старшего поколения, как Генри Джеймс, Джозеф Конрад, Джеймс Джойс… Так где же между ними проходила граница?
То поколение считалось не только «потерянным», ведущие представители поколения шли на резкий, предельный конфликт со своей средой и всем обществом. «Я не буду служить тому, во что я больше не верю, будь это моя семья, родина или церковь», — так говорил герой романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности». И они все по-своему повторили или, точнее, претворили тот же девиз, причем как в литературе, так и в жизни: не отвергая идей долга или служения, они отказывались служить тому, чему их учила служить семья, школа, церковь, ходячая мораль. Образцово это проявилось у Хемингуэя. А Фолкнер, если и вернулся в родные края территориально, то, кажется, лишь затем, чтобы творчески перепахать родную землю, поставив ее буквально дыбом, всеми корнями, всей кошмарной жутью наружу. Так он ведь и жил затворником, хотя и дома, но как в осаде, с надписью на воротах: «Проваливай отсюда!» Большинство соседей признало его своим лишь посмертно. Подобная судьба выпала и на долю Томаса Вулфа, про которого, имея в виду его роман «Домой возврата нет», говорили: «Еще бы! После всего того, что он про дом свой написал…» Разумеется, главное не в каких-то личных неурядицах. Это была принципиальная позиция, которую Уайлдер понимал и которой в ее художественно сильном выражении он даже восхищался, однако не разделял. Вот почему и сверстники не могли назвать его, пользуясь заглавием другого известного американского романа, «одним из наших».
Многие из них находились между собой в литературном родстве, близость становилась подчас даже столь тесной, что возникали конфликты из-за сюжета, темы, материала. Все это Торнтона Уайлдера не касалось, как не знал он всю жизнь ни какого-либо подобия материальной нужды, ни периода «бури и натиска». Ему был, правда, предъявлен однажды литературный иск в заимствованиях, но характерно: дело шло все о том же Джойсе, старшем современнике. Однако у него Уайлдер заимствовал по всем правилам, как у классика, он с теми же основаниями использовал в своих романах мотивы античных авторов. Что же касается сверстников, то у них в отношении к Уайлдеру не могло возникнуть никакой ревности. Ситуация с Уайлдером доходила в противоположном направлении до парадоксальности: даже когда он писал прямо о том, о чем писали другие, все равно это воспринималось настолько иначе, будто он писал на другом языке или жил в другую эпоху, в другой стране и вовсе на другой планете. В чем же дело?
Вернемся к тому, что о новом писательском поколении сказал Синклер Льюис. «У нас есть молодые писатели, — говорил он, — которые пишут такие страстные и подлинно художественные книги, что я с грустью ощущаю себя слишком старым, чтобы быть среди них». Далее он выделил отличительные черты каждого, но при всех индивидуальных особенностях проступает общее: единые устремления — к жизни, реальности, злободневности. А Торнтон Уайлдер, по словам Синклера Льюиса, «в наш реалистический век видит старые, прекрасные и вечно романтические сны»[1]. Старший писатель говорил в хорошую для себя минуту, и вообще он отличался подчеркнутым благорасположением к младшим собратьям по профессии, так что в его устах даже критика могла выглядеть похвалой. Сверстники судили о том же определеннее, резче. «Это музей, а не настоящий мир. В разреженной атмосфере движутся бледные, облаченные в романтические костюмы призраки» — так, признавая утонченность Уайлдера, писал Майкл Голд, известный писатель-марксист, тоже упомянутый Синклером Льюисом и открывший, как сказал Льюис, подлинный мир нью-йоркской бедноты. А с позиции Торнтона Уайлдера, судя по его ранним вещам, не только богатство и бедность, но, как с Луны, даже континенты не всегда можно было различить. «Где в его романах, — писал Голд, — современные улицы Нью-Йорка, Чикаго, Нового Орлеана?… Где рабский труд детей на свекольных полях? Где самоубийства держателей прогоревших акций, где насильники над рабочими, где страсти и муки шахтеров?»[2] Даже люди, не разделяющие политических убеждений Майкла Голда, и теперь еще признают, что в его критике было немало справедливого. В то же время, поскольку Уайлдер стал классиком, иногда эти замечания относят в разряд традиционных заблуждений современников, не сумевших понять и т. п. Нет, о том, что эта критика во многом была оправданной, говорит тот факт, что сам Уайлдер к ней прислушался, по своему обыкновению внимательно прислушался, он по-своему, что называется, учел эту нелицеприятную критику, в чем мы убедимся из разбора его произведений. Однако убедимся мы также и в том, что, учитывая критику, Торнтон Уайлдер, даже когда писал о шахтерах, все же оставался в своем мире, границы которого он стремился расширить, но законы построения которого оставались прежними. Какие же это законы?
Присмотримся теперь к исходной формуле: река и пространство. «О времени и о реке» — так Томас Вулф назвал свой последний роман. «Поток сознания» — так называется один из распространенных в наш век повествовательных приемов. Метафора «река» или «поток» лучше всего рисует сознание, как говорил основоположник термина американский философ Уильям Джеймс. Везде, как видим, присутствует идея движения. «Время только кажется быстро текущей рекой, — со своей стороны заметил Торнтон Уайлдер, — оно скорее неподвижный, бескрайний ландшафт, а движется взгляд, его созерцающий». Этой идеей проникнуты все произведения Уайлдера, все его творчество.
Моментом озарения в своем развитии Уайлдер считал участие в раскопках в окрестностях Рима, куда он отправился вскоре после окончания университета. Вдруг, вспоминал он, современная лопата открыла тьму веков. Время лежало перед ним в развалинах. Где здесь прошлое и где настоящее? Кажется, будто древние этруски жили на той же улице, что и нынешние римляне. Или наоборот? Как посмотреть. Конечно, к такому восприятию открывшейся перед ним картины взгляд Уайлдера был подготовлен. Мысль о взаимосвязи прошлого и настоящего в то время оказалась очень распространенной и даже модной. Что, как не ту же идею, выразил Хемингуэй в эпиграфе и заглавии своего первого романа? «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит…» И та же идея руководила Фолкнером в построении его романов, где время движется и вперед, и в стороны, и вспять. Конечно, мысль все та же, но важны оттенки. Размышления Уайлдера о времени и об истории имели окраску, условно говоря, университетскую. Прежде всего, это были размышления специалиста, обладавшего основательной философской и филологической подготовкой. Кроме того, крупнейшие американские университеты, где учился, преподавал или же выступал с отдельными лекциями Уайлдер, отличались духовным консерватизмом, на знамени которого было начертано: «Прошлое имеет больше величия, чем настоящее». То была критика буржуазного прогресса, но критика консервативная, книжная, ориентированная на абстрактно-возвышенные образцы прошлых веков. Вот почему, собственно говоря, радикально настроенная молодежь не особенно стремилась в эти университеты и не особенно заботилась о получении там дипломов.
Однако Торнтон Уайлдер, как мы уже знаем, выучку в этих университетах прошел, многие полученные там уроки твердо усвоил. Критика «слева», которой были подвергнуты ранние его книги, и воспринималась как выступление против мертвой, реакционной академической учености. С этой точки зрения Уайлдер — «изящный сноб, пребывающий в лоне англо-католицизма и в поисках вечной красоты обращающий свои взоры на Италию, античный мир, древнее Перу, — очень характерная фигура «высокой литературы» американской буржуазии».[3] Черты не выдуманы, отмечены верно, и все-таки портрет не полон. Ведь если бы это было только так, тогда Уайлдер и не стал бы откликаться творчески на критику. Он откликнулся, он написал, как мог, об улицах Чикаго, он высказал, что знал, о муках и смертях шахтеров и об испытаниях, выпавших на долю его современников вообще. И сделал он это потому, что не удовлетворял его ученый снобизм, иначе называемый «новым гуманизмом» — консервативная критика гуманизма традиционного по всему фронту от Ренессанса до романтиков и нашего века.
Лидеров «нового гуманизма» Уайлдер и слышал и читал: главный враг — Фрэнсис Бэкон, основоположник опытных наук, а кроме того, Руссо, «защитник вольности и прав». С них все и началось. Человек зазнался, в результате потерял и бога и себя. Надо поставить человека на место, среднее между богом и природой. В самом человеке борются добро и зло, зла больше, чем добра, поэтому человеку необходим самоконтроль, а над ним также нужен контроль. И давно пора прекратить всякие разговоры о демократии и прогрессе. Многие из этих заповедей Уайлдер подправил, пересмотрел или же вовсе отверг. В особенности претила ему претензия «новых гуманистов» на какой-то «аристократизм». В общем античеловеческая сущность этого «гуманизма» ему была ясна. Но все же у него так и осталось скептическое отношение к идее поступательного движения времени и, тем более, воздействия на это движение. Ведь что такое «ландшафт» вместо «реки»? Статика. Как бы вне времени существующая плоскость. Улицы, ископаемая и современная, сходятся на одном и том же перекрестке. Допустим, наблюдатель движется, но откуда же он взялся, этот наблюдатель, и каким образом совершается его движение?
Уайлдер прекрасно понимал, что к нему в порядке полемики могут быть обращены поставленные выше вопросы, и каждой своей очередной книгой он заново искал на них ответа. В итоге он пришел к идее «дополнительности», известной нам из новейшей физики. Он ведь не отбрасывает «реку» совсем, он говорит «скорее простор», пользуясь для передачи исторического движения той и другой метафорой. Читая книги Уайлдера, чувствуешь себя в положении пассажира современного воздушного лайнера, летящего над морем или океаном: волны видны, однако вроде бы не движутся. Потом самолет идет на посадку, и различаешь даже человеческие фигурки, которые деятельно суетятся. Однако самолет вдруг взмывает вверх, и снова, куда ни взглянешь, вокруг неподвижный простор…
Подобный взгляд называется еще «антропологическим» в отличие от социально-исторического. Сообразно со своей специальностью историки и социологи наблюдают за переменами в человеке и обществе, «антропологи» высматривают неизменное, они, если ищут перемены, то уж настолько крупные, что по сравнению с ними разница между богатством и бедностью — пустяк, мелочь. «Антропологическая» рекомендация сопровождала один из романов Торнтона Уайлдера: «Это описание душевной жизни нескольких людей, попадающих в обстоятельства, характерные для семейной жизни во все времена и у любых народов». Вместе с тем Торнтон Уайлдер оставался по специальности историком, старался наблюдать жизнь человека, страны, эпохи в конкретности. Одним словом, то река, то простор, то «антропологическая» обобщенность, то историческая конкретность, все это он хотел сочетать ради поисков ответа на вопрос: можно ли предугадать движение реки? И как выбрать наилучший маршрут для путешествия по окрестностям?
«Мост короля Людовика Святого» (1927) оказался первой вызвавшей широкий отклик попыткой Уайлдера дать на эти вопросы творческий ответ. Идея повести, по его собственным словам, пришла к нему в Принстоне, еще одном знаменитом американском университете. Но там никакого более или менее заметного моста нет. Однако мост — один из символов Америки; мосты Нью-Йорка или Сан-Франциско — предмет национальной гордости, вроде «восьмого чуда» света. «Бруклинский мост — да… Это вещь!» — признал Владимир Маяковский. Обращаясь к тому же самому мосту, американский поэт Харт Крейн писал: «Ты, устремленный через гавань, стремительно-серебряный, как будто ты — шаг солнца, запечатлел в своем полете нерастраченную силу, и прочен ты своей свободой!» А Торнтон Уайлдер спросил: вдруг мост развалится? Свою повесть он прямо с этого и начал: «В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу…» Положим, дело происходит в Перу, далеко от США и к тому же давно, но все это мало заметные детали, если взглянуть на событие в принципе.
Какой же избрать принцип? Рухнул мост, погибли шедшие по нему люди, пять человек, — что это, случайность? Так озаглавлена первая глава романа. Или чей-то план? Ясно, не заговор. А возможно — промысел. Это — последняя глава. Между этими двумя главами располагаются еще три главы, где естественно было бы найти изложение двух взаимоисключающих версий случившегося. Версии эти все время подразумеваются, но излагается нечто третье: в каком душевном состоянии несчастные люди встретили свою смерть? Иначе говоря, по ходу дела Уайлдер изменил изначальную задачу. Две первые полярные версии он счел, как видно, несостоятельными. Можно, по его мнению, доказать, что то была чистая случайность. Можно доказать и закономерность, жесткую, неизбежную, фатальную, что и доказывает францисканский монах, брат Юнипер, у которого все стихийные бедствия в точности, но его подсчетам, совпадали с актами божьей кары. Однако в распоряжении этого наблюдателя и тем более за пределами его кругозора имеется множество фактов, опровергающих любую из версий. Во всяком случае, при попытке объяснения происшедшего концы с концами полностью никак не сходятся. Полемизирует Уайлдер, разумеется, не с монахом, он оспаривает причинно-следственное объяснение, к чему бы оно ни приводило — высшему промыслу или социально-экономическим условиям. Поэтому возражать Уайлдеру стали не монахи, а прежде всего — американские критики-марксисты.
«Мост короля Людовика Святого» противостоял литературе социального протеста. Уайлдер спорил с Драйзером, Синклером Льюисом, Шервудом Андерсоном — со старшим поколением, спорил он и со сверстниками, которые так или иначе придерживались взгляда конкретно-социального, исторического, даже если впадали в полнейший пессимизм. Но и пессимизм их был историческим. Уайлдер держался позиции «антропологической», которая претендует на размах, превосходящий какую бы то ни было конкретную историю: социальные условия меняют человеческую природу не настолько, чтобы их следовало принимать в расчет. Центральная часть романа, состоящая из трех глав, была посвящена тому, что Торнтон Уайлдер считал собственно человеческими проблемами, среди которых он выделил вопрос о содержании и смысле жизни отдельной личности. Объектом его пристального внимания оказываются те пятеро, что погибли при крушении моста. Что это были за люди? Или, точнее, заслужили ли они свою участь?
Занимаясь профессионально изучением истории, Уайлдер, однако, не писал исторических романов в точном смысле этого термина. Романы, подобные его книгам, прежде называли «костюмированными»: условно переодетая современность. Позднее повествования того же рода стали называть «параболами» — иносказаниями, притчами. Как знаток прошлого, Уайлдер умело пользуется деталями, документами, по не стремится соблюдать достоверность. Кроме того, особенность его иносказаний в том, что в отличие от образцовой притчи их мораль не всегда ясна, не однозначна. За исключением общей, как бы нависающей над всеми книгами Уайлдера мысли о том, что, чем больше знаешь, тем меньше можешь объяснить, выводы у него оказываются проблематичными, хотя в его книгах немало поучающих и действительно поучительных формул. Вместе с тем есть неизменное направление мысли, которое в данном случае и привело пятерых «перуанцев» к злополучному мосту: каждый из них вступил на мост в лучшую, важнейшую минуту своей жизни!
«Мост короля Людовика Святого» исследователи сравнивают еще и с «паломничествами» — средневековыми описаниями путешествий к святым местам. Цель такого путешествия — духовное просветление. Ситуация, описанная Уайлдером, отличается тем, что просветление приходит к путникам на случайном пути, в случайную и, главное, роковую минуту. Сразу за просветлением наступает вечная тьма, смерть. В настоящем «паломничестве» или «житии» такой момент был бы истолкован, конечно, провиденциально, как знак высшего промысла. Но даже брат Юнипер, монах-исследователь, готовый увидеть в совершившемся перст божий, все-таки не мог склониться к определенному выводу. Сам же Уайлдер вообще не видит надобности подобный вывод делать. Ведь все равно невозможно узнать, был ли это «план» или «случай», угодно или нет было высшей силе таким образом рассчитаться с людьми. Важно, что каждый из погибших все-таки успел рассчитаться — нет, не с богом, а сам с собой.
У Торнтона Уайлдера отношения с религией были не совсем ясными, не каноническими. Принадлежал он по семейной традиции действительно к англо-католической, протестантской церкви, однако проблему веры рассматривал с психологической, нравственной стороны. Часто употребляется у него это слово — вера, однако очень редко с дополнительным указанием — во что. Вера, которая постоянно заменяется у него словом «надежда», означала для Уайлдера самоцельное и самоценное состояние души. Вера — предельная мобилизация душевных сил, вот и все. Вера приводит человека в состояние душевной уравновешенности, а если уж говорить о направленности, то в качество объекта веры Уайлдер отвергает и бога, и будущее, он делает объектом веры людей.
Люди, шедшие тогда по мосту, были молодые и старые, добрые и злые, каждый из них переживал мучительную внутреннюю борьбу. Властная старуха тиранила вроде бы любовью свою дочь, брат ревновал брата, но ценой нравственного искуса каждому удалось как-то из тупика выбраться к просветлению, найти в себе настоящую любовь, подлинную доброту, и вдруг — конец. Ради чего же шла борьба? Ради этого светлого момента, который и есть венец человеческого существования, а остальное все уже не принципиально. Победа одержана, ее нельзя ни повторить, ни продлить.
Эту свою мысль Уайлдер пояснил потом в целой пьесе, которая стала, пожалуй, наиболее популярным его произведением. Пьеса «Наш городок» (1938) обошла многие театры мира. В ней Уайлдер одновременно учел и обострил полемику, вызванную прежними его произведениями, в том числе повестью «Мост Короля Людовика Святого». Учел в том отношении, что обратился к американской повседневности, правда не очень современной, но все же вполне реальной. Тут же он и обострил свой тезис, переиначивая взгляд на провинциальную Америку, установленный «Главной улицей» Синклера Льюиса и «Уайнсбургом, Огайо» Шервуда Андерсона. Это был как раз тот случай, когда Торнтон Уайлдер написал на распространенную тему (у каждого писателя его поколения был «свой городок»), однако привычной картины в его пьесе не увидели. Персонажи Андерсона, Хемингуэя, Вулфа один за другим из провинции бежали или, по крайней мере, мечтали убежать. «Уеду я из этого города», — говорит хемингуэевский герой. «Я не хочу никуда ехать», — говорит герой Уайлдера. Но «уехать» ему или, вернее, его жене все же пришлось — далеко, на тот свет. Во время очередных родов эта молодая женщина умерла. Жалко? Говорят, представления пьесы Уайлдера сопровождались не только аплодисментами, но и всхлипываниями. Еще бы не жалко! Однако Уайлдер спешит успокоить своих зрителей. Театр есть театр, в нем все возможно, и — женщина вдруг оживает. Ей предоставляется чудесная возможность вернуться в любой, самый счастливый момент своей жизни. Какое же разочарование постигает героиню! Все-таки прав был Томас Вулф: домой не вернешься, даже если не говорил и не думал о своих ближних ничего, кроме хорошего. Однажды достигнутое счастье есть победа истинная, но и последняя.
Так и с моста Уайлдер сбросил своих персонажей в тот момент, когда они в принципе победили, прозрели, а дальнейшее уже, как говорится, не суть важно. Наказание это было для них или, быть может, награда — кто знает! Объяснения нет. Есть важный, ими самими достигнутый результат.
Существенная особенность притчи, изложенной Уайлдером, заключается в том, что персонажи его живут не только вне конкретного времени, но и вне общества. Просветления они достигают через общение с другими людьми, и все равно это их сугубо личная судьба, их отдельная забота. Допустим, нужно делать добро, и герои романа стараются его сделать, но взаимоотношения их с другими людьми как проблема не рассматриваются. Лицом к лицу с этой проблемой Уайлдера поставили впечатления времен войны, нашедшие отражение в романе «Мартовские иды» (1948).
Отражение, как всегда у него, не прямое. Главный персонаж и место действия, конечно, были Уайлдеру подсказаны Италией, где он находился в американской армии, однако не является этот роман ни «военным», ни «историческим». Хотя отдаленная эпоха восстановлена здесь с видимой документальностью, но Уайлдер сам же предупредил, что исторической реконструкцией он не занимался. Все это — фантазия: документы почти все сочинены, события сдвинуты, фигуры перегруппированы. Рассматривать этот роман как художественное изображение Древнего Рима времен Юлия Цезаря нельзя. Расхождения с реальным течением событий могут быть прослежены просто по учебнику истории. Роман вновь представляет собой маскарад-иносказание. Однако параллель с Италией времен Муссолини тоже не выдержана. Тип диктатора, обрисованный в лице Цезаря, совсем не напоминает дуче. И Брут, такой, каким он представлен, это не Лауро де Базис, которому посвящен роман. Тут, можно сказать, все переиначено. Вместо случайной, патологической фигурки, каким был дуче, здесь диктатор — значительная личность. А Брут, напротив, в отличие от поэта-антифашиста де Базиса слаб, не героичен. Не похож на де Базиса и поэт Катулл, изображенный как человек талантливый, однако не гражданственный. Вот Луций Мамилий, друг и советник Цезаря, кажется, прямо списан с поэта и художника Эдуарда Шелдона, которому тоже посвящен роман, — мудрец, стоически сопротивляющийся тяжелому недугу. Но это исключение, в основном роман оторван от каких-то конкретных событий. Достаточно абстрактное, хотя и насыщенно-образное, размышление о людях и власти, о жизни общественной и приватной и, конечно, все о том же — о возможности или невозможности постичь смысл происходящего.
В романе отразилось и воздействие философии экзистенциализма, с которой Уайлдер познакомился тоже во время войны. Он выступил переводчиком произведений Ж.-П. Сартра, ведущего современного представителя этой философии. Но по духу ему оказался ближе давний предшественник этой философии — датский мыслитель Кьеркегор, у которого в отличие от экзистенциализма новейшего существенное место занимала проблема бога, религии. Центральный вопрос, волнующий Цезаря, уже знаком нам по повести «Мост короля Людовика Святого»: есть ли за всем этим какой-то «план», чья-то высшая воля или же человек предоставлен самому себе?
Вывод, к которому вместе с автором приходит Цезарь, одновременно мужествен и мрачен. Опорой человеку может служить только чувство ответственности — так, в духе Кьеркегора и Сартра, рассуждает уайлдеровский диктатор.
Как это часто бывает у Торнтона Уайлдера, роман построен с возвратами, отклонениями, повторами, позволяющими уже известное читателю увидеть под иным углом зрения. Так мы узнаем, что Цезарь, предстающий поначалу зрелым государственным деятелем, когда-то шатался по египетским притонам, знал минуты слабости, увлечений, уводивших его от государственных задач, но все это уже позади. Цезарь — человек, постигший себя самого, отчетливо сознающий свою ответственность и свое назначение. Тем труднее и горестнее его положение: он также сознает невозможность реализовать свои намерения, главные из которых — восстановить славу и мощь Рима. Люди живут и хотят жить мелкими заботами, обычными страстями и страстишками, они оберегают свои суеверия и заблуждения. С помощью замечательного землеройного изобретения Цезарь спрямил течение Тибра, что должно было бы предоставить немалые удобства, однако жители Рима даже избегают смотреть на это достижение, которое со всеми своими достоинствами им просто ни к чему. Цезарь пробует потворствовать человеческим слабостям, но и этот путь не продуктивен, поскольку жадность и завистничество оказываются просто беспредельны. Цезарь знает о заговоре против него и не останавливает заговорщиков, ибо это касается только его самого, он же свою жизненную задачу выполнил, а людской материал, который имеется у него под руками, все равно не подходит для возведения задуманного им могучего государства.
Когда роман вышел, критики отмечали, что Цезарь получился у Торнтона Уайлдера едва ли не наиболее запоминающимся лицом среди всех его персонажей. Действительно, другие персонажи выполняют у него марионеточно-иллюстративную функцию. Они послушно проводят заданную им идею. Римский диктатор — достаточно живой характер, но, напомним, не похож на исторического Цезаря. Не похожа па реальную историческую ситуацию и вся изображенная в романе коллизия. Конечно, роман не учебник истории, и полная достоверность в нем не обязательна. Однако за счет различных сдвигов и перемен Уайлдер устранил и ту реальную конфликтность, которая была в Риме в эпоху античных диктаторов, Уайлдер сам сознавал, что картина получилась чересчур отвлеченной, абстрактной. Свой следующий роман, который он выпустил после двух десятилетий молчания, он постарался сделать как можно более жизненно-конкретным.
Этот роман, «День восьмой» (1967), оказался густонаселенным, как семейная саги, историческая хроника. Автор решил ответить в нем на все основные, когда-либо услышанные им упреки в отвлеченности, абстрактности. Он прямо перенес действие на улицы американских городов, малых и крупных, таких, например, как Чикаго, здесь он заговорил о шахтерах, а также о множестве своих соотечественников всех состояний и возрастов, об их сбывшихся и рухнувших чаяниях. В то же время, оставаясь верным себе, он не приблизился к злободневности ближе, чем на полстолетие, ибо действие романа развертывается на рубеже XIX–XX вв. И все же это роман исторический в собственном смысле слова, здесь восстанавливается эпоха, хотя восстанавливается очень выборочно, пристрастно. Критики отмечали, что Драйзер писал целые романы о том, что Уайлдер лишь походя упоминает, например забастовки, рабочие волнения в Чикаго. Иногда «День восьмой» напоминает «Сестру Керри», «Дженни Герхарт» и «Американскую трагедию», но они написаны другим автором. Совершенно другим! Торнтон Уайлдер остается верен своей позиции исторического скептицизма, поэтому, естественно, не видит или не хочет видеть того, на чем прежде всего останавливался взгляд Драйзера.
Подобно повести «Мост короля Людовика Святого», «День восьмой» начинается с катастрофы, с убийства и суда. Суд совершает ошибку, признавая виновным невиновного, и все основные события романа оказываются так или иначе следствием этой ошибки. Кто был реальным убийцей, этот вопрос как-то теряется из виду, хотя в конце, под занавес, на него приходит ответ. Вновь, как и в первой книге, происходит подмена изначального вопроса. Не кто убил, а что произошло в результате несправедливого приговора, вот что становится главным. Забегая вперед и рискуя предвосхитить ожидания читателей, скажем: получилось все как нельзя лучше. Любой современник Уайлдера, старший или младший, написал бы ту же историю иначе. Например, за десять лет до «Дня восьмого» вышел роман Фолкнера «Особняк», где исходный момент буквально тот же — несправедливый суд, ошибочный приговор, и нам известно, какая в результате кровавая каша из-за всего этого заваривается. У Торнтона Уайлдера все происходит по-другому, в других тонах, с другими итогами. Да, человек пострадал безвинно, это отторгает его от семьи, но в результате испытания, которых могло бы и не быть, приводят его к тому нравственному просветлению, что нам тоже уже знакомо по судьбе пятерых из «Моста Людовика Святого». А его семья, жена, дети? Им, в свою очередь, пришлось нелегко, однако они не только выстояли, но и добились многого, чего им без этих испытаний, возможно, и в голову не пришло бы добиваться. Дочь стала известной певицей, сын — влиятельным человеком. События в романе развиваются подчас будто в романтическом сне или в сказке, с участием неузнанных благодетелей и, конечно же, счастливого случая. И автор, как видно, настаивает и на сказочности, и на случайности, не находя для своих персонажей более надежных пособников и ориентиров. Зато эти пособники выручают героев безотказно.
Критики на этот раз писали так: «Все, что совершается в «Дне восьмом», призвано свидетельствовать о смысле жизни. Никакой неопределенности не допускается, ясность почти убийственная… Как ни странно, однако тщательная распланированность повествования приходит в противоречие с утверждением автора, будто понять свое существование полностью мы не можем. Напротив, книга ведет к тому, что мы все можем понять и даже, более того, понимаем; по крайней мере главным героям романа это удается. В результате весь роман получается несколько искусственно построенным: ходы и связки чересчур видны. Создается такое впечатление, будто Торнтон Уайлдер уже имеет ответ прежде, чем он задал вопрос…»[4] Надо признать, что критика эта небезосновательна. Однако в книге есть подлинно живой пласт. Это все, что связано с пронизывающей роман симпатией к людям труда и действия. Каждый из главных героев романа, для которого жизнь оказывается исполнена смысла, это как бы маленький «цезарь», готовый нести полную ношу ответственности за свою судьбу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: в столкновении с несчастьем центральные персонажи Уайлдера без ропота стараются выстоять.
Эти люди не разглагольствуют, а действуют, но вообще автор предоставляет возможность высказаться многим: проповедникам анархизма, дзэн-буддизма, утопизма… В устах одного из них звучат слова, ставшие названием романа. Было «семь дней творения», оратор-утопист предсказывает приход «дня восьмого», когда возникнет обновленный человек. Правда, этот оратор сам не верит тому, что говорит. Не верит прежде всего потому, что не может представить себе, когда это все сбудется. Но для людей, которым, по Уайлдеру, открыт смысл жизни, «день восьмой» наступает прямо сейчас, сегодня, по мере того, как они находят в себе силы для достойного существования вопреки всем несчастьям.
Наш читатель обратит, конечно, особое внимание на присутствие в романе Ольги Сергеевны Дубковой, русской женщины, дочери народовольца, который принимал участие в подготовке покушения в 1881 г. на Александра II. Эта женщина обрисована в романе также с исключительной симпатией, она в свою очередь образец скромности и стойкости. Она — верный человек. О реальных прототипах этого персонажа ничего не известно, но, как справедливо отмечали критики, госпожа Ольга, кажется, сошла с тургеневских или, скорее, чеховских страниц. Вместе со своим поколением Торнтон Уайлдер разделял интерес к русской литературе, и в драме, например, он считал себя учеником, продолжателем Чехова.
В заключение романа Уайлдер еще раз развертывает свою излюбленную пространственную метафору, на этот раз — ковер. Перед читателем гигантский, сотканный историей гобелен. Всех узоров на нем не разглядишь, не разгадаешь, каждому оказывается доступен лишь фрагмент этого ковра.
Творчество Торнтона Уайлдера при всей своей подчас абстрактной романтике живо искренним неприятием буржуазного делячества, демагогии, ненавистью к насилию. На закате своих дней Уайлдер, подводя итоги, сказал: «Литературное творчество имеет своим источником два вида любознательности. Это любознательность в отношении к людям, развитая до такой высокой степени, что становится подобной любви, и это — любовь к ряду выдающихся шедевров литературы, любовь столь всепоглощающая, что она обладает всеми важнейшими свойствами любознательности. Я употребляю слово «любознательность» в старинном значении этого понятия, означающего неустанное осознание окружающих нас явлений…»[5] Во всю меру своей неистощимой любознательности Уайлдер изучал людей, сохраняя искреннюю веру в человеческое достоинство.
Д. Урнов
МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО
I Возможно — случайность
В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников. Мост стоял на горной дороге между Лимой и Куско, и каждый день по нему проходили сотни людей. Инки сплели его из ивняка больше века назад, и его показывали всем приезжим. Это была просто лестница с тонкими перекладинами и перилами из сухой лозы, перекинутая через ущелье. Коней, кареты и носилки приходилось спускать вниз на сотни футов и переправлять через узкий поток на плотах, но люди — даже вице-король, даже архиепископ Лимы — предпочитали идти по знаменитому мосту короля Людовика Святого.[6] Сам Людовик Святой французский охранял его — своим именем и глиняной церковкой на дальней стороне. Мост казался одной из тех вещей, которые существуют вечно: нельзя было представить себе, что он обрушится. Услышав об этой катастрофе, перуанец осенял себя крестным знамением и мысленно прикидывал, давно ли он переходил по мосту и скоро ли собирался перейти опять. Люди бродили как завороженные, что-то бормоча, им мерещилось, будто они сами падают в пропасть.
В соборе отслужили пышную службу. Тела погибших были кое-как собраны, кое-как отделены друг от друга, и в прекрасном городе Лиме шло великое очищение душ. Служанки возвращали хозяйкам украденные браслеты, а ростовщики произносили перед женами запальчивые речи в защиту ростовщичества. И все же странно, что это событие так поразило умы жителей Лимы — ибо в этой стране бедствия, которые легкомысленно именуются «стихийными», были более чем обычны. Приливные волны смывали целые города, каждую неделю происходили землетрясения, и башни то и дело обваливались на честных мужчин и женщин. Поветрия ходили из одной провинции в другую, и старость уносила самых замечательных граждан. Вот почему удивительно, что перуанцев так взволновало разрушение моста Людовика Святого.
Поражены были все, но лишь один человек предпринял в связи с этим какие-то действия — брат Юнипер. Благодаря стечению обстоятельств, настолько необычному, что в нем нетрудно было бы усмотреть некий Замысел, этот маленький рыжий францисканец из северной Италии оказался в Перу, где обращал в христианство индейцев, и стал свидетелем катастрофы.
Тот полдень — роковой полдень — был знойным, и, огибая уступ холма, брат Юнипер остановился, чтобы отереть пот и взглянуть на далекую стену снежных вершин, а затем в ущелье, выстланное темным пухом зеленых деревьев и зеленых птиц и перехваченное ивовой лесенкой. Он радовался: дела шли неплохо. Он открыл несколько заброшенных церквушек — индейцы сползались к утренней мессе и, принимая причастие, охали так, словно сердца у них разрывались. Чистый ли воздух снежных вершин, мелькнувший ли в памяти стих — неизвестно, что заставило его обратить взгляд на благодатные холмы. Во всяком случае, в душе его был мир. Затем его взгляд упал на мост, и тут же в воздухе разнесся гнусавый звон, как будто струна лопнула в нежилой комнате, и мост на его глазах разломился, скинув пять суетящихся букашек в долину.
Любой на его месте сказал бы про себя с тайной радостью: «Еще бы десять минут — и я тоже…» Но первая мысль брата Юнипера была другой: «Почему эти пятеро?» Если бы во вселенной был какой-то План, если бы жизнь человека отливалась в каких-то формах, их незримый отпечаток, наверное, можно было бы различить в этих жизнях, прерванных так внезапно. Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни и в смерти нашей заложен План. И в тот миг брат Юнипер принял решение проникнуть в тайны жизни этих пятерых, еще летевших в бездну, и разгадать причину их гибели.
Брату Юниперу казалось, что пришла пора богословию занять место среди точных наук, и он давно намеревался решить эту задачу. Одного ему не хватало — лаборатории. Нет, подопытных было сколько угодно; невзгоды не обходили стороной его паству — людей кусали пауки, они болели чахоткой, их дома сгорали дотла и с детьми их случались несчастья, о которых не хочется даже думать. Но эти примеры людских горестей не вполне годились для научного исследования. В них не хватало того, что наши ученые люди назвали контролируемыми условиями. Несчастье происходило, например, из-за оплошности человека или содержало элемент случайности. В разрушении же моста Людовика Святого явственно видна была рука Промысла. Оно обещало идеальную лабораторию. Здесь наконец-то можно было извлечь Его замыслы в чистом виде.
Нам с вами понятно, что, родись этот план не у брата Юнипера, а у кого-нибудь другого, он был бы плодом законченного скептицизма. Он напоминал попытку тех заносчивых людей, которые хотели гулять по мостовым рая и, чтобы забраться туда, строили Вавилонскую башню.[7] Но для нашего францисканца в этом эксперименте не было и тени сомнения. Он знал ответ. Он просто хотел доказать его — исторически, математически — своим новообращенным, несчастным, косным новообращенным, столь медлительным в вере, что для их же блага в их жизнь вводились страдания. Люди всегда требовали надежных, веских доказательств; в душе человека не иссякнут родники сомнения — даже в тех странах, где Инквизиция[8] самую мысль вашу читает в глазах.
Брат Юнипер не впервые пытался прибегнуть к таким методам. Часто в своих долгих путешествиях (спеша из прихода в приход и подоткнув для скорости рясу) мечтал он об экспериментах, которые могли бы пути Творца пред тварью оправдать,[9] — например, составить полный список Молений о дожде и их результатов. Часто стоял он на ступенях своих церквушек, и перед ним на прокаленной улице, преклонив колена, стояла его паства. Часто простирал он руки к небу, произнося слова величественного обряда. Не часто, но несколько раз чувствовал, как нисходит на него сила, и видел облачко, рождающееся на горизонте. Но много раз, неделями, месяцами… однако зачем об этом думать? Не себя он хотел убедить, что дожди и засухи мудро соразмерены.
Вот каким образом в момент катастрофы созрело у него решение. Оно подвигло его на шестилетний труд — он стучал во все двери Лимы, задавал тысячи вопросов, заполнял десятки записных книжек, ища подтверждения тому, что жизнь каждого из пяти погибших была завершенным целым. Все знали, что он работает над какими-то записками о катастрофе, все старались помочь — и сбивали с толку. Кое-кто знал даже о цели его трудов, и у него имелись высокие покровители.
Результатом этого усердия явилась огромная книга, которую, как мы позже увидим, в одно прекрасное весеннее утро публично сожгли на площади. Но сохранился тайный список — и через много-много лет, почти никем не замеченный, он закончил странствия в библиотеке Университета Св. Мартина. Там он и лежит, в шкафу, в тяжелом деревянном переплете, собирая пыль. В книге описаны последовательно все пять жертв катастрофы, собраны тысячи мелких фактов, свидетельств, подробностей жизни, и заключается она возвышенным рассуждением о том, почему, именно на этих людях и в этот час остановился Бог, чтобы явить свою мудрость. Однако при всем его усердии брат Юнипер так и не узнал ни главной страсти доньи Марии, ни дяди Пио, ни даже Эстебана. И если я, как мне кажется, знаю больше, разве можно быть уверенным, что и от меня не укрылась пружина пружин?
Одни говорят, что нам никогда не узнать и что для богов мы как мухи, которых бьют мальчишки летним днем;[10] другие говорят, напротив, что перышка и воробей не уронит, если Бог не заденет его пальцем.
II Маркиза де Монтемайор; пепита
О донье Марии, маркизе де Монтемайор, сегодня любой испанский школьник знает больше, чем узнал за все годы поисков брат Юнипер. Не прошло и века после ее смерти, как письма маркизы стали памятником испанской литературы, а ее жизнь и ее эпоха сделались предметом пространных исследований. Но ее биографы отклонились от истины так же далеко в одну сторону, как брат Юнипер в другую: они попытались наделить ее всяческими прелестями, перенести на ее личность и на ее жизнь часть того очарования, которого полны ее письма; между тем подлинное знакомство с этой удивительной женщиной должно начинаться ее уничижением, отнятием всех достоинств, кроме одного.
Она была дочерью торговца мануфактурой в Лиме, снискавшего богатство и ненависть жителей в окрестностях Пласы.[11] Детство ее прошло несчастливо; она была уродлива, она заикалась; мать донимала ее сарказмами, пытаясь привить ей светскость, и заставляла расхаживать по городу в настоящей сбруе из драгоценностей. Она жила в одиночестве и думала в одиночестве. Соискатели руки явились в изобилии, но она, сколько могла, противилась обычаю времени, решив остаться незамужней. Были истерические ссоры с матерью, взаимные упреки, крики, хлопанье дверьми. Наконец в возрасте двадцати шести лет ее связали узами брака с надменным, но разорившимся представителем знати, и собор Лимы гудел смешками ее гостей. По-прежнему она жила в одиночестве и думала в одиночестве, и, когда у нее родилась прелестная дочь, она обрушила на нее все свое нерастраченное обожание. Но малютка Клара пошла в отца — она была холодна и интеллектуальна. Восьми лет от роду она спокойно исправляла речь матери, а позже стала взирать на нее с брезгливым изумлением. Запуганная мать сделалась смирной и раболепной, но не могла не допекать донью Клару назойливыми заботами и утомительной любовью. Снова были истерические упреки, крики, хлопанье дверьми. Из всех претендентов на руку донья Клара выбрала того, с кем надо было уехать в Испанию. Туда она и уехала — в страну, откуда ждать ответа на письмо приходится полгода. Проводы в столь далекое путешествие стали в Перу официальной церковной службой. Корабль благословили, и, когда полоска воды между бортом и берегом расширилась, обе группы опустились на колени и запели гимн, звучавший слабо и робко под открытым небом. Донья Клара держалась с замечательным самообладанием; мать ее провожала взглядом светлый корабль, прижимая руку то ко рту, то к сердцу. Расплылись и исказились в ее глазах гладь Тихого океана и огромные жемчужины облаков, навеки застывших над водой.
Оставшись в Лиме одна, маркиза все больше и больше замыкалась в себе. Одевалась она все неряшливее и, как многие одинокие люди, разговаривала с собою вслух. Жизнь ее целиком сосредоточилась в пылающем фокусе сознания. Здесь разыгрывались бесконечные диалоги с дочерью, несбыточные примирения, без конца повторялись сцены раскаяния и прощения. На улице люди видели старуху в съехавшем на ухо рыжем парике, с рдеющей от кожного воспаления левой щекой и от дополнительного слоя румян — правой. Подбородок ее никогда не просыхал, губы шевелились беспрестанно. Лима была городом чудаков, но и там эта женщина, которая носилась по улицам и обшаркивала ступени церквей, стала посмешищем. Думали, что она всегда пьяна. Ходили о ней слухи и похуже; кто-то собирал подписи, чтобы посадить ее в тюрьму. Трижды на нее доносили в Инквизицию. Ее, пожалуй, и сожгли бы, если бы зять ее не был так влиятелен в Испании и сама она не приобрела друзей в свите вице-короля, которые терпели маркизу за ее чудачества и широкую начитанность. Мучительные отношения матери и дочери еще больше отравлялись денежными недоразумениями. Графиня получала от матери порядочное содержание и много подарков. При испанском дворе донья Клара скоро прослыла женщиной выдающегося ума. Всех сокровищ Перу не хватило бы ей, чтобы поддержать тот грандиозный стиль жизни, который она избрала. Как ни странно, расточительность проистекала из благородного свойства ее натуры: она относилась к друзьям, к слугам, ко всем интересным людям в столице как к своим детям. И кажется, лишь на одного человека во вселенной не простирались ее милости. Покровительством ее пользовались и картограф Де Блазьи (посвятивший свои Карты Нового Света маркизе де Монтемайор, к безумному веселью придворных в Лиме, которые прочли, что она «украшение своего города и солнце, восходящее на Западе»), и ученый Азуарий, чей трактат по гидравлике был изъят Инквизицией как чересчур возбуждающий умы. Лет десять графиня буквально вскармливала все науки и искусства Испании — и не ее вина, что это время не создало ничего запоминающегося.
Года через четыре после отъезда доньи Клары донья Мария получила от нее разрешение посетить Европу. Обе стороны готовились к визиту с взращенной на угрызениях решимостью: одна — быть терпеливой, другая — сдержанной. Обе не выдержали. Они терзали друг друга и были на грани помешательства от перемежающихся взрывов страстей и приступов раскаяния. Но вот однажды донья Мария поднялась до зари и, отважившись только поцеловать дверь, за которой спала дочь, села на корабль и вернулась в Америку. С тех пор писание писем должно было заместить любовь, непереносимую вживе.
Эти ее письма стали в нашем удивительном мире хрестоматийными текстами для школьников и муравейником для грамматиков. Донья Мария выработала бы в себе гений, не будь он врожденным, — так необходимо было для ее любви вызвать интерес, а может быть, и восхищение далекой дочери. Она заставляла себя выходить в свет, чтобы собирать его нелепости; она упражняла свой глаз в наблюдательности; она читала шедевры родной словесности, чтобы изучить ее действие, втиралась в общество людей, слывших блестящими собеседниками. Ночь за ночью в своем барочном дворце она писала и переписывала невероятные страницы, выжимая из удрученного ума эти чудеса остроумия и изящества, лаконичные хроники вице-королевского дворца. Только мы знаем, что дочь ее лишь мельком проглядывала письма и что сохранением их мы обязаны зятю.
Маркиза была бы изумлена, узнав, что письма ее бессмертны. И все же многие критики обвиняют ее в том, что писала она с оглядкой на потомков, и указывают на письма, где она словно демонстрирует свою виртуозность. Они не могут взять в толк, как это донья Мария, чтобы поразить свою дочь, тратила столько трудов, сколько тратит художник, желая поразить публику. Как и зять, они ее плохо поняли: граф наслаждался письмами, но думал, что, смакуя стиль, он питается всем их богатством, и упускал (подобно большинству читателей) самый смысл литературы, которая есть код сердца. Стиль — лишь обиходный сосуд, в котором подается миру горькое питье. Маркиза была бы изумлена, даже если бы ей сказали, что ее письма просто хороши, ибо такие авторы живут в благородной атмосфере собственного духа и те произведения, что поражают нас, для них почти обыденное дело.
И часами сидела на балконе старуха в причудливой соломенной шляпе, бросавшей фиолетовую тень на ее морщинистое желтое лицо. Часто, переворачивая руками в перстнях страницу, спрашивала она себя почти с улыбкой, не органическим ли пороком объясняется постоянная боль в ее сердце. И представлялось ей, как умелый врач, обнажив этот изношенный престол, увидит метину и, подняв к амфитеатру лицо, крикнет ученикам: «Женщина страдала, и страдание оставило след на строении ее сердца». Эта мысль посещала ее так часто, что однажды она вставила ее в письмо, и дочь выговаривала ей, что она копается в себе и делает культ из печали.
Сознание, что любви ее суждено остаться без ответа, действовало на ее идеи, как прибой на скалы. Первыми разрушились ее религиозные верования, ибо у Бога — или у вечности — она могла просить лишь одного: места, где дочери любят матерей; все остальные преимущества рая она отдала бы даром. Потом она перестала верить в искренность окружающих. В душе она не признавала, что кто-нибудь (кроме нее) может кого-нибудь любить. Все семьи живут в засушливом климате привычки, и люди целуют друг друга с тайным безразличием. Она видела, что люди ходят по земле в броне себялюбия — пьяные от самолюбования, жаждущие похвал, слышащие ничтожную долю того, что им говорится, глухие к несчастьям ближайших друзей, в страхе перед всякой просьбой, которая могла бы отвлечь их от верной службы своим интересам. Таковы все сыновья и дочери Адама — от Катая[12] до Перу. И когда на балконе ее мысли принимали такой оборот, губы ее сжимались от стыда, ибо она понимала, что и она грешна, что ее любовь, пусть и огромная, объемлющая все краски любви, омрачена тиранством: она любит дочь не ради ее самой, а ради себя. Она силилась сбросить эти позорные путы, но страсть не принимала поправок. И вот на зеленом балконе странные битвы раздирали безобразную старую даму — на редкость нелепая борьба с искушением, которому она и так никогда не имела бы случая поддаться. Могла ли она помыкать дочерью, если та позаботилась, чтобы их разделяли четыре тысячи миль! Тем не менее донья Мария сражалась с призраком искушения и каждый раз бывала побеждена. Она хотела, чтобы дочь принадлежала ей; она хотела услышать от нее слова: «Ты лучшая из матерей»; она мечтала услышать ее шепот: «Прости меня».
Примерно через два года после возвращения ее из Испании произошел ряд неприметных событий, которые многое могут сказать нам о внутреннем мире маркизы. В переписке мы находим лишь туманный намек на них; но, поскольку он содержится в Письме XXII, где проглядывают и другие приметы, я постараюсь по мере сил своих перевести и прокомментировать первую часть этого письма:
«Неужели нет врачей в Испании? Где те добрые фламандцы, что, бывало, так помогали тебе? О сокровище мое, как нам выбранить тебя за то, что столько недель ты попустительствуешь своей простуде? Дон Висенте, умоляю Вас, вразумите мое дитя. Ангелы небесные, умоляю вас, вразумите мое дитя. Теперь тебе лучше, и я прошу тебя, дай слово, что, едва ты почувствуешь приближение простуды, ты основательно попаришься и ляжешь в постель. Здесь, в Перу, я бессильна; я ничем не могу помочь. Не будь своевольной, моя любимая. Благослови тебя Бог. С этим письмом я шлю тебе смолу какого-то дерева — ее разносят по домам послушницы св. Фомы. Много ли проку будет от нее, не знаю. Вреда тебе она не причинит. Мне рассказывали, будто простодушные сестры вдыхают ее так прилежно, что во время мессы не слышен запах ладана. Стоит ли она чего-нибудь, не знаю; испытай ее.
Будь покойна, любовь моя: Его Христианнейшему Величеству послана дивная золотая цепь». (Дочь писала ей: «Цепь прибыла в полной сохранности, и я надевала ее на крещение Инфанта. Его Христианнейшее Величество милостиво соизволил восхищаться ею и, когда я сказала ему, что это твой подарок, с похвалой отозвался о твоем вкусе. Не премини послать ему по возможности точное ее подобие; пошли не медля, через камергера».) «Ему нет надобности знать, что мне пришлось войти в картину, дабы завладеть ею. Помнишь ли ты, что в ризнице св. Мартина висит картина Веласкеса, где изображен с супругой и отпрыском вице-король, основатель монастыря, и что на супруге его — золотая цепь? Я решила, что удовольствуюсь только ею. И вот однажды в полночь я прокралась в ризницу, взобралась на стол, словно девчонка двенадцати лет, и вошла. Сперва холст мне препятствовал, но выступил сам художник и провел меня сквозь краску. Я сказала ему, что самая прекрасная девушка Испании желает подарить самому милостивому на земле королю самую красивую золотую цепь. Вот как просто все произошло; мы стояли и беседовали, четверо, в сером и серебристом воздухе, из которого соткан Веласкес. Теперь мои мысли заняты золотым светом; мой взгляд обращен на дворец; я хочу провести вечер у Тициана. Позволит ли мне вице-король?
Между тем у его Превосходительства опять подагра. Я говорю «опять», потому, что, по уверениям придворных льстецов, временами она Его оставляет. Нынче день Святого Марка, и Его Превосходительство собирался посетить Университет, где выходят в свет двадцать два новых врача. Едва перенесли его с дивана в карету, как он закричал и отказался двигаться далее. Его перенесли обратно в постель, где он почал благоуханную сигару и распорядился послать за Периколой. И пока мы внимали длинным академическим речам, произносимым более или менее по-латыни, он услышал все о нас, более или менее по-испански, из самых румяных и самых жестоких в городе уст». (Донья Мария позволила себе этот пассаж, хотя только что прочла в последнем письме дочери: «Сколько раз должна я говорить тебе, чтобы ты была осторожнее в своих письмах? Очень часто я обнаруживаю следы того, что их вскрывали в пути. Трудно вообразить себе что-либо опрометчивее твоих замечаний — ты знаешь о чем, в Куско. Подобные замечания вовсе не смешны, и, сколько бы комплиментов ни расточал им в своем постскриптуме Висенте, мы можем из-за них иметь большие неприятности с Известными Лицами здесь, в Испании. Я не устаю изумляться, как твои выходки до сих пор не подали повода приказать тебе удалиться в деревню».)
«На торжествах была большая давка, и две дамы упали с балкона; но Господь в доброте своей предусмотрел им упасть на донью Мерсед. Все трое сильно расшиблись, но не пройдет и года, как будут думать о другом. Во время этого происшествия говорил Президент и, будучи близоруким, не мог взять в толк причину переполоха, криков и падения тел. Весьма приятно было наблюдать, как он раскланивается, полагая, что это рукоплещут ему.
Коль скоро разговор зашел о Периколе и о рукоплесканиях, да будет тебе известно, что мы с Пепитой решили нынче вечером отправиться в Комедию. Публика по-прежнему боготворит свою Периколу; она прощает ей даже возраст. Говорят, по утрам она пытается сохранить то, что еще осталось, прикладывая попеременно к щекам огненные и ледяные карандаши». (Эту метафору со всей ее испанской красочностью перевод особенно обедняет. Она задумана как подобострастная похвала графине и далека от правды. Великой актрисе в ту пору было двадцать восемь лет; ее щеки гладкостью и ясностью напоминали темно-желтый мрамор и, конечно, сохранились бы такими еще много лет. Кроме грима, необходимого на сцене, единственное, что позволяла себе Камила Перикола, — это дважды в день ополоснуть лицо холодной водой, как простая крестьянка.)
«Этот странный человек, которого зовут дядей Пио, все время около нее. Дон Рубио говорит, что никак не может понять, кто он ей — отец, любовник или сын. Перикола была чудесна. Ругай меня сколько хочешь восторженной провинциалкой, но у вас в Испании такой актрисы нет». И т. д.
Это посещение театра потянуло за собой дальнейшие события. Маркиза решила пойти в Комедию, где Перикола играла донью Леонору в «Вертопрахе» Морето; поход мог дать кое-какой материал для следующего письма к дочери. Сопровождала ее Пепита, девочка, о которой мы еще много узнаем. Донья Мария одолжила ее себе в компаньонки у приюта при монастыре Санта-Марии-Росы де лас Росас. Маркиза сидела в своей ложе, с гаснущим вниманием глядя на ярко освещенную сцену. Между актами Перикола имела обычай, отставив на время изысканную роль, спеть перед занавесом несколько злободневных песенок. Ехидная актриса заметила маркизу и тут же стала импровизировать куплеты с намеками на ее внешность, на ее скупость, пьянство и даже на бегство от нее дочери. Она искусно обратила внимание зала на старуху; в смехе публики все явственнее различалось презрительное ворчание. А маркиза, растроганная первыми двумя актами комедии, едва замечала певицу и, вперясь в пустоту, думала об Испании. Актриса осмелела, и воздух уже был заряжен ненавистью и ликованием толпы. Наконец Пепита дернула маркизу за рукав и шепнула, что надо уйти. Когда они покидали ложу, весь зал поднялся и торжествующе взревел; Перикола же пустилась в пляс, так как заметила в задних рядах директора и поняла, что жалованье ей увеличили. Но маркиза по-прежнему ни о чем не догадывалась — она была очень довольна, потому что во время спектакля сочинила несколько метких фраз, — фраз, которые, может быть (кто знает?), вызовут улыбку на лице дочери и заставят ее пробормотать: «Нет, в самом деле, моя мать очаровательна».
Вскоре вице-королю было доложено, что над одной аристократкой открыто глумились в театре. Он призвал Периколу во дворец и велел ей отправиться к маркизе с извинениями. Идти следовало босиком, в черном платье. Камила спорила и упиралась, но выторговать смогла только пару туфель.
Вице-король настаивал по трем причинам. Во-первых, певица осмелилась вольничать с его придворными. Затеяв скрасить свою ссылку, дон Андрес разработал церемониал до того сложный, что запомнить его могло только общество, которому больше не о чем думать. Он пестовал свою маленькую аристократию с ее крохотными отличиями, и всякое оскорбление, нанесенное маркизе, было оскорблением его Персоны. Во-вторых, зять доньи Марии становился в Испании все влиятельнее и располагал возможностями навредить ему, хуже того — сесть на его место. Графа Висенте д'Абуире нельзя задевать — даже через его полоумную тещу.
И наконец, вице-король был рад унизить актрису. Он подозревал, что она изменяет ему с матадором или, может быть, с актером; ослабленный лестью двора и подагрой, он не мог установить окончательно — с кем; но в любом случае певица явно начинала забывать, что он среди людей — один из первых.
Маркиза, помимо того что она не расслышала разнузданных песенок, была не готова к приходу актрисы и в других отношениях. Тут надо сказать, что после отъезда дочери донья Мария набрела на некое утешение: она пристрастилась пить. В Перу все пили чичу,[13] и, если в праздник вас подбирали в бесчувственном состоянии, это не считалось особенным позором. Донья Мария стала замечать, что ее лихорадочные монологи всю ночь не дают ей заснуть. Как-то раз перед сном она налила себе в тонкий граненый бокал чичи. Забвение было так сладостно, что она стала употреблять напиток все в больших количествах; пытаясь скрыть его действие от Пепиты, маркиза намекала, что ей неможется и что жизненные силы ее угасают. В конце концов она оставила всякое притворство. Суда, отвозившие ее письма в Испанию, уходили не чаще раза в месяц. Неделю перед отправкой письма она соблюдала строгий режим и вращалась в обществе в поисках материала. Накануне отплытия она писала письмо, перед зарей запечатывала пакет и оставляла Пепите для передачи на корабль. С восходом солнца она закрывалась у себя в комнате и последующие недели проводила среди бутылок, не обремененная сознанием. Наконец она выплывала из глубин блаженства и переходила к стадии «подготовки», предшествовавшей написанию очередного письма.
Вот так и в ночь после скандала в театре она сочинила Письмо XXII и, прихватив графин, легла в постель. Весь следующий день Пепита бродила по комнате, с тревогой присматриваясь к неподвижному телу на кровати. На исходе второго дня Пепита принесла с собой в комнату вышивание. Маркиза лежала, глядя в потолок широко открытыми глазами, и разговаривала с собой. В сумерки Пепиту вызвали из комнаты и сообщили, что к госпоже пришла Перикола. Театр Пепита помнила отлично и сердито велела передать актрисе, что госпожа не желает ее видеть. Слуга отправился с этим посланием к дверям, но вернулся в ужасе и сказал, что у сеньоры Периколы письмо от вице-короля. Пепита на цыпочках подошла к постели и обратилась к маркизе. Затуманенный взгляд остановился на лице девочки. Пепита легонько потрясла маркизу. Донья Мария изо всех сил старалась сосредоточиться на том, что ей говорят. Дважды падала она на подушки, отчаявшись ухватить смысл, но наконец (подобно генералу, скликающему ночью под дождем свои рассеянные части) она собрала внимание, память и остатки других душевных способностей и, страдальчески сжав рукою лоб, попросила вазу со снегом. Когда снег принесли, она долго и сонно прижимала его горстями к вискам и щекам; затем встала и долго стояла, прислонясь к кровати и глядя на свои туфли. Наконец она решительно подняла голову; она потребовала вуаль и отороченную мехом накидку. Оделась и заковыляла в красивую гостиную, где стояла, дожидаясь, актриса.
Камила намеревалась быть небрежной и, если удастся, дерзкой, но теперь была поражена достоинством старой дамы.
Дочь мануфактурщика при случае умела держаться с благородством истинных Мантемайоров, а в пьяном виде обретала величавость Гекубы.[14] В полуопущенных веках Камиле виделось выражение утомленной властности, и начала она даже робко:
— Я пришла, сеньора, чтобы увериться, что вы не поняли превратно моих слов в тот вечер, когда ваша светлость оказали мне честь, посетив мой театр.
— Превратно? Превратно? — переспросила маркиза.
— Ваша светлость могли истолковать их превратно и услышать в моих словах намеренную непочтительность к вашей светлости.
— Ко мне?
— Ваша светлость не обиделась на свою покорную слугу? Ваша светлость понимает, что бедная актриса в моем положении может против воли выйти из границ… Что это очень трудно… что все…
— Помилуйте, сеньора, на что я могла обидеться? Ваша игра была прекрасна — это единственное, что я запомнила. Вы великая актриса. Вы должны быть счастливы, счастливы. Платок, Пепита…
Эти слова маркиза произнесла скороговоркой и невнятно, но Перикола смешалась. Ее охватило чувство жгучего стыда. Она побагровела. Наконец ей удалось пролепетать:
— Это было в песнях между актами комедии. Я боялась, что ваша светлость…
— Да, да. Теперь я вспоминаю. Я рано ушла. Пепита, мы рано ушли, правда? Но будьте снисходительны, сеньора, и простите мне этот ранний уход… да, посреди вашего восхитительного представления. Я забыла, почему мы ушли. Пепита… ах, да, легкое недомогание…
Не было в театре зрителя, который не уловил бы направления песенок. Камиле оставалось предположить, что лишь из какого-то сказочного великодушия разыгрывает маркиза этот фарс. Актриса чуть не плакала:
— Вы так добры, что оставили без внимания мою ребячливость, сеньора… простите — ваша светлость. Если бы я знала… Если бы я знала, как вы добры. Сеньора, позвольте поцеловать вашу руку.
Донья Мария с изумлением протянула руку. Давно не обращались к ней с такой искренней почтительностью. Ни соседи, ни торговцы, ни слуги — ибо и Пепита жила в страхе перед ней, — ни даже дочь ее никогда к ней так не относились. Это привело маркизу в непривычное расположение духа; скорее всего, его стоило бы назвать умилением. Она сделалась болтливой.
— Обижаться, обижаться на вас, мое прекрасное… мое одаренное дитя? Неразумная, нелюбимая старуха — кто я такая, чтобы на вас обижаться? Дочь моя, мне казалось, будто я — как говорит поэт? — из-за облака подслушала беседу ангелов. Ваш голос открывал новые сокровища в нашем Морето. Когда вы произнесли:
Don Juan, ¿si mi amor estimas, Y la fe segura es necia? Enojarte mis temores Es no quererme discreta. Tan seguros…[15]и прочее — как это было верно! А какой жест вы сделали в конце первого акта. Помните, рукою — вот так. Это жест пресвятой девы, когда она спрашивает Гавриила:[16]как это может быть, что я ребенка ждать должна? Нет, нет, вы будете сердиться на меня… но я хочу рассказать вам об одном жесте — вы, может быть, запомните его и когда-нибудь употребите. Да, он был бы кстати в той сцене, где вы прощаете своего дона Хуана де Лара. Не скрою от вас, мне довелось видеть однажды этот жест у дочери. Моя дочь очень красива… таково общее мнение. Вы… вы знали мою донью Клару, сеньора?
— Ее светлость часто оказывала мне честь посещением театра. Я хорошо знала графиню в лицо.
— Не стойте больше на колене, дитя моя. Пепита, прикажи Хенарито не медля подать нашей гостье печенье. Представьте себе, однажды мы повздорили, не помню из-за чего. О, в этом нет ничего странного; все мы, матери, порою… Прошу вас, сядьте поближе. Вы не должны верить городским сплетням, будто она дурно ко мне относилась. Вы великая женщина, прекрасной души и, конечно, видите дальше в таких делах, чем толпа. С вами приятно беседовать. Какие у вас прекрасные волосы! Какие прекрасные волосы! Я знаю, она не принадлежала к натурам горячим, порывистым. Но зато, дитя мое, она — воплощение ума и изящества. Во всех наших недоразумениях, конечно же, повинна была я, и не чудо ли, что она так скоро меня прощала? Мы обе говорили необдуманно и разошлись по своим комнатам. Потом обе вернулись просить друг у друга прощенья. Вот уже только дверь нас разделяет, и мы тянем ее в разные стороны. А потом она взяла мое лицо… вот так, в свои белые ладони. Так! Смотрите!
Едва не выпав из кресла, маркиза наклонилась вперед и, обливаясь счастливыми слезами, показала этот ангельский жест. Мифический жест, сказал бы я, потому что сцена эта была лишь навязчивым сном.
— Я рада, что вы пришли, — продолжала она, — ибо теперь вы услышали из моих собственных уст, что она не пренебрегала мной, как говорят некоторые люди. Верьте, сеньора, вина была моя. Посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Какая-то нелепая случайность дала такую мать такой прекрасной девочке. Я тяжелый человек. Утомительный. Вы и она — великие женщины. Нет, не прерывайте меня: вы редкие женщины, а я всего лишь нервная… безрассудная… глупая женщина. Позвольте мне поцеловать ваши ноги. Я невыносима. Невыносима. Невыносима.
Тут старая дама и в самом деле выпала из кресла; Пепита подняла ее и уложила в кровать. Перикола шла домой как потерянная и долго сидела перед зеркалом, глядя себе в глаза и стиснув ладонями щеки.
Но постоянным свидетелем тяжелых часов маркизы была ее маленькая компаньонка Пепита. Пепита была сиротой, а вырастила ее настоятельница монастыря мать Мария дель Пилар, странный гений Лимы. Единственное свидание двух великих женщин Перу (такими обрисовались они в исторической перспективе) произошло в тот день, когда донья Мария посетила настоятельницу монастыря Санта-Марии-Росы де лас Росас и спросила, нельзя ли ей взять из приюта себе в компаньонки какую-нибудь смышленую девочку. Настоятельница пристально смотрела на карикатурную старуху. Мудрость даже самых мудрых на свете людей несовершенна, и мать Мария дель Пилар, которая умела разглядеть несчастную человеческую душу под любой маской дерзости и тупости, отказывала в этом маркизе де Монтемайор. Она задала маркизе множество вопросов, а потом замолчала в раздумье. Ей хотелось дать Пепите светский опыт жизни во дворце. Ей хотелось также использовать старую даму в своих интересах. И она была полна мрачного негодования от того, что видела перед собой одну из самых богатых женщин Перу — и самых слепых.
Настоятельница принадлежала к тем людям, чья жизнь источена любовью к идее, опередившей на несколько веков назначенное историей время. Она билась с косностью своей эпохи, желая облечь хоть каким-то достоинством женщину. В полночь, закончив подводить счеты своего хозяйства, она предавалась безумным мечтам о тех днях, когда женщины организуются для защиты женщин: женщин в пути; женщин в услужении; женщин больных и старых; женщин, которых она видела в шахтах Потоси и в ткацких мастерских; девочек, которых она подбирала у дверей дождливой ночью. Но наутро действительность снова напоминала ей, что женщины в Перу, даже ее монашки, живут двумя понятиями: первое — все их несчастья, прошлые и будущие, объясняются тем, что они недостаточно привлекательны, чтобы привязать к себе мужчину и сделать своей опорой; и второе — его ласка стоит всех мирских невзгод. Она не знала других мест, кроме окрестностей Лимы, и полагала, что здешняя испорченность — нормальное состояние человечества. Оглядываясь из нашего столетия, мы видим всю несбыточность ее надежд. И двадцать таких женщин не произвели бы впечатления на ее век. Тем не менее она трудилась не покладая рук. Она напоминала ласточку из басни, которая раз в тысячу лет приносит зернышко пшеницы, надеясь насыпать гору до луны. Такие люди вырастают во все времена; они упрямо возятся со своими зернами, и ухмылки толпы их даже забавляют. «Как смешно они одеты! — кричим мы. — Как смешно они одеты!»
Ее простое красное лицо выражало большую доброту, но больше идеализма, чем доброты, и больше начальственности, чем идеализма. Вся ее работа: ее больницы, ее приют, ее монастырь, ее внезапные спасательные вылазки — все зависело от денег. Никто не восхищался искренне чистой добротой, но она была вынуждена наблюдать, как доброта ее и чуть ли не сам идеализм приносятся в жертву администрированию — в такой страшной борьбе добывались субсидии у церковного начальства. Архиепископ Лимы, которого мы узнаем впоследствии с более привлекательной стороны, ненавидел настоятельницу ненавистью, по его выражению, Ватиниевой,[17] и в размышлениях о смерти отчасти утешался тем, что с нею придет и конец визитам настоятельницы.
И вот недавно она почувствовала не только дыхание старости на своем лице, но и услышала более грозное предостережение. Она похолодела от страха — не за себя, за свою работу. Кто еще в Перу оценит то, что ценит она? И однажды поднявшись на заре, она пустилась осматривать свою больницу, монастырь и приют в поисках той, кого она могла бы подготовить себе в преемницы. Она спешила от одного пустого лица к другому, изредка задерживаясь — скорее в надежде, чем в уверенности. Во дворе она наткнулась на группу девочек, стиравших белье, и взгляд ее сразу привлекла двенадцатилетняя девочка, которая руководила подругами у корыта и одновременно с большим драматическим жаром излагала наименее правдоподобные чудеса из жизни святой Росы Лимской. Так ее поиски закончились на Пепите. Воспитание для величия всегда сложно, но в среде чувствительных и ревнивых монахинь должно вестись фантастически окольными путями. Пепиту отряжали на самые неприятные работы, зато она узнала все стороны управления монастырем. Она сопровождала настоятельницу в ее поездках — пусть даже в качестве хранителя яиц и овощей. И повсюду выпадали часы, когда внезапно появившаяся настоятельница подолгу беседовала с ней — не только о религиозном опыте, но и о том, как руководить женщинами, как устраивать палаты для заразных, как выпрашивать деньги. И когда Пепита появилась у доньи Марии и приступила к исполнению абсурдных обязанностей ее компаньонки — это тоже было одной из ступеней воспитания для величия. Первые два года она приходила изредка, после обеда, но потом переселилась во дворец. Ее никогда не учили ждать счастья — и неудобства, если не сказать ужасы, ее нового положения не казались ей чрезмерными для девочки четырнадцати лет. Она не подозревала, что настоятельница незримо присутствует возле нее, надзирая за ее усилиями, чтобы не пропустить той грани, за которой тяготы вредят, а не закаляют.
Испытания Пепиты лишь частью были физическими: например, слуги пользовались нездоровьем доньи Марии; они открывали спальни дворца своим родственникам; они крали, почти не таясь. Пепита одна им противостояла — и за это терпела мелкие неудобства, подвергалась каверзным шуткам. У разума были свои печали: когда она сопровождала донью Марию в ее походах по городу, на старую даму вдруг нападало желание броситься в церковь — то, что она потеряла в религии как вере, она наверстывала в религии как магии. «Побудь здесь, на солнце, милое дитя; я ненадолго». После чего донья Мария забывалась в мечтах у алтаря и выходила из церкви через другую дверь.
Пепита была воспитана матерью Марией в послушании почти болезненном, и если через много часов она все же решалась войти в церковь и видела, что госпожи нет, она опять возвращалась на угол и ждала, пока тени не застилали площадь. Так, стоя у людей на виду, она испытывала все муки детской застенчивости. Она все еще носила приютское платье (хотя минутного внимания со стороны доньи Марии было бы достаточно, чтобы его сменить), и ей мерещилось — а иногда не только мерещилось, — что мужчины разглядывают ее и перешептываются. Не меньше страдало и ее сердце — ибо выдавались дни, когда донья Мария вдруг замечала ее и разговаривала с ней сердечно и весело, раскрывалась на несколько часов во всей душевной тонкости, свойственной Письмам; но потом снова уходила в себя и, хотя никогда не бывала резкой, становилась безучастной и незрячей. Ростки надежды и привязанности, которым так хотелось жить в душе Пепиты, вяли. Она на цыпочках бродила по дворцу, безмолвная, растерянная, ища опоры лишь в чувстве долга и верности своей «матери во Христе», Марии дель Пилар, которая ее сюда послала.
Наконец выяснился еще один факт, который должен был серьезно повлиять на жизнь и маркизы, и ее компаньонки. «Дорогая мать, — писала графиня, — погода стоит самая изнурительная, и от того, что сейчас цветут сады, переносить ее только труднее. Я могла бы еще терпеть цветы, если бы не их аромат. Поэтому прошу твоего разрешения писать тебе менее пространно, чем обычно. Если Висенте успеет вернуться до отправления почты, он с наслаждением допишет этот лист и сообщит тебе те скучные подробности моей жизни, которым ты так, по-видимому, радуешься. Этой осенью я не поеду в Гриньян-ан-Прованс, как намеревалась, потому что в начале октября жду ребенка».
Какого ребенка? Маркиза прислонилась к стене. Донья Клара предвидела вспышку назойливой заботы, которую вызовет эта новость, и, рассчитывая умерить ее, о главном упомянула вскользь. Уловка не удалась. Ответом было знаменитое Письмо XLII.
Наконец-то у маркизы появилась причина для беспокойства: ее дочь должна стать матерью. Событие это, на донью Клару наводившее только скуку, маркизе открыло целую новую область чувств. Она сделалась кладезем медицинских познаний и советов. Она прочесывала город в поисках знахарок и наводняла свои письма народной мудростью Нового Света. Она впала в самое постыдное суеверие. Чтобы уберечь свое дитя, она завела дикарскую систему табу. Она не позволяла завязать в доме ни одного узла. Служанкам запрещалось заплетать волосы, а на себе она прятала смехотворные талисманы благополучного разрешения от бремени. Четные ступени лестниц были помечены красным мелом, и служанка, случайно наступившая на четную ступень, изгонялась из дому с воплями и слезами. Донья Клара попала в руки злодейки Природы, всегда готовой сыграть самую чудовищную шутку с любым из своих детей. Существовал этикет ее ублаготворения, в котором крестьянские женщины издревле находили поддержку. Эта армия свидетелей уже сама по себе ясно показывала, что какая-то правда тут есть. Вреда от этого все равно не будет, а польза может быть. Но маркиза соблюдала не только языческие обряды; она изучала и предписания христианства. Она вставала затемно и плелась по улицам к ранней мессе. Она истерически стискивала решетку алтаря, пытаясь вырвать у раскрашенных статуэток знак, хотя бы знак, тень улыбки, затаенный кивок восковой головы. Обойдется ли? Матерь Божья, Матерь Божья, обойдется ли?
Иногда, после целого дня исступленных заклинаний, в ней что-то надламывалось. Природа глуха. Бог безразличен. Человек бессилен изменить ход вещей. И тогда она застывала где-нибудь на перекрестке, в голове у нее мутилось от отчаянья, и, прислонясь к стене, она мечтала уйти из мира, в котором отсутствует Замысел. Но скоро вера в великое Может Быть подымалась из глубины ее естества, и она бегом возвращалась домой, чтобы сменить свечку над кроватью дочери.
Наконец пришло время исполнить высший обряд перуанских семей, готовящихся к такому событию: она совершила паломничество к гробнице Санта-Марии де Клуксамбуква. Если обряды вообще имеют действенную силу, то посещение этой великой святыни — в первую очередь. Земля эта была освящена тремя религиями: еще до цивилизации инков страдальцы обнимали здесь камни и хлестали себя бичами, чтобы вымолить у небес желаемое. Туда-то и отправилась маркиза в своих носилках — через мост короля Людовика Святого и дальше, в горы, к этому городу широкобедрых женщин, в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок, и город хрустального воздуха, студеного, как вода ключей, питавших его бессчетные фонтаны, город колоколов, ласковых и музыкальных, настроенных на самые безоблачные ссоры. Если случалось горе в городе Клуксамбуква, его как бы вбирали в себя нависшие громады Анд и воздух тихой радости, струившийся по улочкам. Едва завиднелись вдали белые стены городка, притулившегося на коленях высочайших гор, как четки остановились в пальцах маркизы и суетливые молитвы испуга замерли на губах.
Она даже не присела, когда они прибыли на постоялый двор, а, оставив Пепиту договариваться о постое, сразу пошла в церковь и долго стояла на коленях, тихо похлопывая ладонью о ладонь. Она прислушивалась к приливу непривычной покорности, затоплявшему ее. Может быть, она научится, пока не поздно, предоставлять богам и дочери самим распоряжаться своими делами. Ее не раздражал шепот старух в подбитых ватой платьях, которые продавали медали и свечи и с рассвета до темноты толковали о деньгах. Не отвлек ее и надоедливый ризничий, который то пытался взыскать какую-то плату, то назло сгонял ее с места под предлогом починки пола. Наконец она вышла на свет и села на ступеньках фонтана. Она смотрела на маленькие шествия калек, медленно вившиеся вокруг садов. Она смотрела на трех ястребов, кругами ходивших в небе. Дети, игравшие у фонтана, вытаращились на нее и убежали в испуге; а лама (дама с длиной шеей и ласковыми близорукими глазами, отягощенная чересчур для нее толстым меховым плащом), деликатно перебирая ступеньки бесконечной лестницы, спустилась к ней и предложила погладить свой бархатный разрезной нос. Лама глубоко интересуется окружающими человеческими существами и даже любит притвориться одним из них, просунуть голову в круг беседующих, словно вот-вот она возвысит голос и вставит унылое, но дельное замечание. Вскоре донью Марию окружали уже несколько этих сестер, и казалось, они сейчас спросят, почему она так хлопает в ладоши и сколько стоит ярд ее вуали.
Донья Мария распорядилась, чтобы каждое письмо из Испании ей немедленно доставлял сюда специальный посыльный. Из Лимы она двигалась медленно, и теперь, когда она сидела на площади, к ней подбежал мальчик из ее имения и вложил ей в руку большой пергаментный пакет с подвешенными сургучными слитками. Медленно сняла она обертку. Со стоической размеренностью в жестах прочла нежно-шутливую записку зятя, затем послание дочери. Оно было полно язвительных выпадов, задуманных даже с блеском и, по-видимому, единственно ради удовольствия искусно ранить. Каждая фраза поглощалась глазами маркизы и затем, в мягкой оболочке понимания и прощения, падала в сердце. Наконец она встала и, ласково отстранив сочувствующих лам, возвратилась в святилище.
Пока донья Мария проводила предвечерние часы в церкви и на площади, Пепита устраивала их жилье. Она показала носильщикам, куда поставить громадные плетеные корзины, и принялась распаковывать алтарь, жаровню, гобелены и портреты доньи Клары. Она спустилась на кухню и дала повару точные указания, как готовить особую кашу, которой питалась маркиза. Потом вернулась в комнаты и стала ждать. Она решила написать письмо настоятельнице. Она долго держала перо, глядя вдаль, и губы ее дрожали. Она видела лицо матери Марии дель Пилар, такое красное, лоснящееся чистотой, и ее чудесные черные глаза. Ей слышался голос настоятельницы: вот после ужина (сироты сидят, опустив глаза и сложив руки) она подводит итог событиям дня или при свечах, стоя между больничных кроватей, объявляет тему для ночных размышлений. Но отчетливее всего вспоминала Пепита неожиданные беседы, когда настоятельница (не рискуя ждать, пока девочка повзрослеет) обсуждала с ней свои обязанности. Она разговаривала с Пепитой, как с равной. Такие речи поражают и тревожат понятливого ребенка, а мать Мария дель Пилар злоупотребляла ими. Она расширяла представления Пепиты, внушая ей чувства и поступки, не соответствующие ее возрасту. И она необдуманно предстала перед Пепитой во всем испепеляющем сиянии своей личности — как Зевс перед Семелой.[18] Пепита была напугана ощущением своей непригодности, она скрывала его и плакала. А затем настоятельница наложила на ребенка эту епитимью долгого одиночества, и Пепита боролась с собой, отгоняя мысли о том, что ее покинули. И теперь в незнакомом трактире, в чужих горах, где кружилась от высоты голова, Пепита жаждала видеть дорогого человека, единственную свою отраду.
Она написала письмо, бессвязное и все в кляксах. Потом пошла вниз попросить еще угля и попробовать кашу.
Маркиза вошла и села за стол. «Я больше ничего не могу сделать. Будь что будет», — прошептала она. Она сняла с шеи амулеты своего суеверия и кинула в тлеющую жаровню. У нее было странное чувство, что бесконечными молитвами она восстановила Бога против себя, и теперь она обращалась к нему обиняками: «В конце концов все в руках другого. Я не притязаю больше ни на что. Будь что будет». Она долго сидела, подперев ладонями щеки, и вытравливала у себя все мысли. Взгляд ее упал на письмо Пепиты. Она механически развернула его и начала читать. Она прочла добрую половину письма, прежде чем до нее начал доходить смысл слов: «…но все это ничего, если Вы любите меня и хотите, чтобы я оставалась с нею. Я не должна Вам об этом говорить, но иногда гадкие служанки запирают меня в комнатах и воруют вещи, а моя госпожа может подумать на меня. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что Вы здоровы и с больницей и со всем остальным у Вас все благополучно. Хотя я совсем не вижу Вас, я о Вас все время думаю и помню, что Вы говорили мне, моя дорогая мать во Христе. Я хочу делать только то, чего хотите Вы, но не позволите ли Вы мне на несколько дней вернуться в монастырь, а если нельзя, то не надо. Я тут совсем одна и ни с кем, ни с кем не разговариваю. Иногда я не знаю, может быть, Вы забыли про меня, и, если у Вас найдется минута, чтобы написать мне маленькое письмо или просто что-нибудь, я буду беречь его, но я знаю, как Вы заняты…»
Донья Мария не стала читать дальше. Она сложила письмо и отодвинула от себя. На миг ее одолела зависть — она жаждала такой же безраздельной власти над душой ближнего, какой добилась монахиня. Но пуще всего она жаждала вновь обрести эту простоту чувств, сбросить бремя гордости и тщеславия, всегда угнетавшее ее любовь. Чтобы побороть смятение, она взяла молитвенник и попыталась сосредоточиться на текстах. Но через минуту она ощутила потребность перечитать письмо целиком и выведать, если удастся, секрет такого блаженства.
Пепита со служанкой принесли ужин. Донья Мария глядела на нее поверх книги, как на посланницу небес. Пепита бесшумно двигалась но комнате, накрывая на стол, и шепотом отдавала приказы помощнице.
— Ваш ужин готов, сударыня, — сказала она наконец.
— А ты, дитя мое, разве не поужинаешь со мной?
В Лиме Пепита обычно садилась за стол с маркизой.
— Я подумала, что вы устали, сударыня, и поужинала внизу.
«Она не хочет со мной есть, — подумала маркиза. — Она узнала меня и отвергла меня».
— Почитать вам вслух, пока вы кушаете, сударыня? — спросила Пепита, поняв, что допустила оплошность.
— Нет. Ступай спать, если хочешь.
— Спасибо, сударыня.
Донья Мария встала и приблизилась к столу. Она положила руку на спинку стула и запинаясь произнесла:
— Милое дитя, утром я отправляю письмо в Лиму. Если у тебя есть письмо, ты можешь послать его вместе с моим.
— Нет, у меня нет, — сказала Пепита. И поспешно добавила: — Мне надо сходить вниз, принести вам углей.
— Но ты ведь написала, милая… матери Марии дель Пилар. Ты не хочешь?..
Пепита сделала вид, будто возится с жаровней.
— Нет, я не буду его посылать, — сказала она и долго молчала, чувствуя на себе изумленный взгляд маркизы. — Я передумала.
— Я уверена, что ей было бы приятно получить от тебя письмо. Она очень ему обрадуется. Я уверена.
Пепита залилась краской. Она громко сказала:
— Хозяин обещал приготовить вам к вечеру еще угля. Я попрошу сейчас принести.
Она украдкой оглянулась на старуху и увидела, что та по-прежнему пытливо смотрит на нее большими печальными глазами. Пепите казалось, что о таких вещах не говорят, но чудаковатая дама, по-видимому, приняла это чересчур близко к сердцу, и Пепита позволила себе ответить подробнее:
— Нет, это письмо было плохое. Нехорошее было письмо.
Донья Мария чуть не разинула рот.
— Что ты, милая Пепита, я думаю, письмо было прекрасное. Поверь мне, я знаю. Нет, нет, отчего же ему быть плохим?
Пепита нахмурилась, подыскивая слово, которое положило бы конец разговору.
— Оно не было… не было… смелым, — сказала она. И умолкла решительно.
Девочка унесла письмо к себе в комнату, и было слышно, как она разорвала его. Потом она забралась в постель и лежала, глядя в темноту, в смущении от того, что столько наговорила. А пораженная донья Мария села за стол.
Она никогда не старалась быть мужественной — ни в жизни, ни в любви. Взгляд ее шарил по закоулкам сердца. Она думала о своих амулетах и четках, о своем пьянстве… она думала о дочери. Она вспоминала долгие их отношения, загроможденные обломками давно похороненных разговоров, воображаемых обид, неуместных излияний, обвинений в невнимательности и черствости (но в тот день, наверно, у нее помрачился ум — она помнит, что стучала кулаком по столу).
— Но это не моя вина, — плакала она. — Не моя вина, что я такая. Виноваты обстоятельства. Такой меня воспитали. Завтра я начинаю новую жизнь. Подожди, и ты увидишь, дитя мое.
Потом она убрала со стола и села писать то, что назвала своим Первым письмом — первым, корявым, полуграмотным опытом мужества. Маркиза вспомнила со стыдом, что в предыдущем письме жалобно допытывалась у дочери, очень ли она ее любит, и алчно цитировала редкие и половинчатые изъявления нежности, которые позволила себе недавно донья Клара. Маркиза не могла вспомнить эти страницы, но она могла написать новые — открытые и великодушные. Корявыми их никто другой не считал. Это — знаменитое Письмо LVI, названное энциклопедистами ее Вторым посланием коринфянам[19] за бессмертный абзац о любви: «Среди тысяч людей, которых мы встречаем на жизненном пути, дитя мое…», и т. д. Когда она кончила письмо, светало. Она открыла балконную дверь и взглянула на необъятные ярусы звезд, сверкавших над Андами. Всю ночь напролет, хотя немногие могли его услышать, небо оглашалось пением этих созвездий. Потом она перенесла свечу в другую комнату, наклонилась над спящей Пепитой и отодвинула влажную прядь с лица девочки.
— Позволь мне теперь жить, — прошептала она. — Позволь мне начать сначала.
Через два дня они двинулись в обратный путь, и при переходе через мост короля Людовика Святого их постигло известное нам несчастье.
III Эстебан
Однажды утром у дверей монастыря Санта-Марии-Росы де лас Росас нашли в корзине двух подкидышей, мальчиков-близнецов. Имена им придумали чуть ли не до прихода кормилицы, но проку им от имен было меньше, чем бывает обычно, ибо никто и никогда не умел отличить мальчиков друг от друга. Кто их родители, выяснить было невозможно; но когда мальчики подросли, городские кумушки, заметив, как молчаливы они и угрюмы и как прямо они держатся, объявили их кастильцами и стали грешить на все знатные дома по очереди. На земле нашелся человек, ставший для них чем-то вроде ангела-хранителя: настоятельница монастыря. Мать Мария дель Пилар привыкла ненавидеть всех мужчин, но к Мануэлю и Эстебану она привязалась. Бывало, в конце дня она позовет их к себе в канцелярию, пошлет на кухню за пирогами и примется рассказывать им про Сида,[20] про Иуду Маккавея,[21] про тридцать шесть несчастий Арлекина.[22] Она полюбила их и не раз ловила себя на том, что заглядывает в черную глубину их хмурых глаз, высматривая зачатки их взрослых черт — всего того уродства и бездушия, которые обезображивают мир, где она работает. Они росли при монастыре до тех пор, пока не достигли возраста, когда их присутствие начало отвлекать набожных сестер. С этого времени они состояли при всех ризницах города — они подстригали живые изгороди монастырей, полировали распятия и раз в год проходились мокрой тряпкой по всем церковным потолкам. Лима хорошо их знала. Если священник со святыми дарами спешил по улице к ложу больного, значит, где-то позади шагал, размахивая кадилом, Мануэль или Эстебан. Повзрослев, они, однако, не проявили желания связать свою жизнь с церковью. Постепенно они овладели ремеслом писцов. На весь Новый Свет было несколько печатных прессов, и мальчики скоро стали неплохо зарабатывать переписыванием комедий для театра, баллад для публики и объявлений для купцов. Но больше всего они работали на хормейстеров, размножая бесчисленные партии мотетов Моралеса и Витюриа.[23]
Из-за того, что они росли без семьи, из-за того, что они родились близнецами, и из-за того, что воспитали их женщины, они были молчаливы. К сходству своему они относились со странным стыдом. Им приходилось жить в мире, где оно было предметом постоянных насмешек и замечаний. Не видя в этом ничего смешного, они переносили вечные шутки терпеливо и бесстрастно. В те годы, когда они только учились говорить, они изобрели свой тайный язык, ни словарем, ни синтаксисом почти не связанный с испанским. Они пользовались им только наедине и очень редко, в самые напряженные минуты, перешептывались среди посторонних. Архиепископ Лимы был отчасти филологом; он баловался диалектами; он даже построил весьма блестящую таблицу изменения гласных и согласных от латыни к испанскому и от испанского к индейско-испанскому. Он копил записные книжки с курьезами языка, чтобы потешиться ими в старости, которую намеревался провести в своих поместьях близ Сеговии. Поэтому, услышав однажды о тайном языке близнецов, он отточил несколько перьев и послал за ними. Подавленные мальчики стояли на богатых коврах его кабинета, а он пытался вытянуть из них их хлеб и цветы, их видишь и вижу. Они не понимали, почему этот разговор так нестерпим для них. Они мучились. За каждым вопросом архиепископа следовало долгое растерянное молчание; потом один из них бормотал ответ. Вначале священник думал, что они просто трепещут перед его саном и подавлены роскошью жилища, но наконец в полном недоумении почувствовал, что корень их скрытности глубже, и с грустью их отпустил.
Этот язык был символом их полного тождества, ибо как словом покорность не описать духовной перемены, происшедшей с маркизой де Монтемайор ночью в трактире города Клуксамбуква, так и любовь не выразит безмолвного, почти стыдливого единства братьев. Что это за родство, когда обмениваются всего двумя-тремя словами, да и то по поводу пищи, одежды и работы; когда два человека даже смотрят друг на друга со странной неохотой; когда существует молчаливое соглашение не появляться на людях вместе и разными улицами идти по одному поручению? И однако рядом со всем этим жила потребность друг в друге, настолько огромная, что она так же естественно рождала чудеса, как заряженный воздух душного дня рождает молнию. Сами братья этого почти не сознавали, но телепатия была обыденным явлением в их жизни, и, если один возвращался домой, другой чувствовал его приближение за несколько кварталов.
Вдруг они обнаружили, что переписывать им надоело. Они спустились к морю и занялись погрузкой и разгрузкой кораблей, не гнушаясь работать бок о бок с индейцами. Потом гоняли по провинциям обозы. Собирали фрукты. Были паромщиками. И всегда молчали. От этих трудов их угрюмые лица стали мужественными, в них появилось что-то цыганское. Стриглись они редко, и из-под черной копны глаза смотрели ошеломленно и хмуро. Далек, чужд, враждебен был мир вокруг — весь, кроме брата.
Но вот первая тень омрачила их союз, и тень эту бросила любовь к женщине.
Они вернулись в столицу и снова взялись переписывать роли для театра. В один прекрасный вечер хозяин, предвидя полупустой зал, пустил их бесплатно. Братьям не понравилось то, что они увидели. И обыденная речь была для них выхолощенным молчанием, до чего же тщетна тогда поэзия — этот выхолосток речи? Все эти упоминания о чести, доблести и пламенной любви, все эти метафоры с птицами, Ахиллесом и драгоценными камнями — утомляли. При соприкосновении с литературой в них просыпался тот же сумеречный ум, что мерцает порой в глазах собаки; но они сидели терпеливо и разглядывали яркие свечи и богатые костюмы. Между актами Перикола на время рассталась со своей ролью, надела двенадцать нижних юбок и танцевала перед занавесом. Сославшись на то, что ему еще надо переписывать, Эстебан ушел рано; Мануэль остался. Красные чулки и туфли Периколы произвели впечатление.
Оба брата не раз поднимались и спускались со своими рукописями по пыльной лестнице за сценой. Там они увидели раздражительную девушку в заношенном корсете, которая штопала перед зеркалом чулки, пока постановщик читал ей вслух для запоминания ее роль. Она обрушила на мальчиков грозовой разряд своих поразительных глаз, но тут же развеселилась, заметив, что они двойняшки. Она тотчас затащила их в комнату и поставила рядом. Внимательно, весело и безжалостно рассматривала она каждый квадратный дюйм их лиц, пока наконец, положив руку на плечо Эстебана, не воскликнула: «Он младше!» Это случилось несколько лет назад, и братья об этом никогда не вспоминали.
С тех пор все пути Мануэля как будто вели мимо театра. Поздно ночью он бродил среди деревьев под окном ее артистической уборной. Мануэль не в первый раз пленился женщиной (оба брата и раньше обладали женщинами, но как истинные латиняне — просто, особенно в годы работы в порту), а теперь его воля и воображение впервые были порабощены. Он потерял счастливое свойство простых натур — отделять от любви удовольствие. Удовольствие перестало быть простым, как еда; оно было осложнено любовью. Начиналась эта нелепая утрата собственной личности, пренебрежение всем, кроме драматических мыслей о любимой, эта лихорадочная внутренняя жизнь, всецело сосредоточенная на Периколе, которая так изумилась бы и возмутилась, случись ей об этом узнать. Мануэль влюбился не из подражания литературе. Менее всего относились к нему слова, сказанные лишь за пятьдесят лет до этого одним из самых язвительных людей Франции,[24] — что многие никогда бы не влюбились, если бы не были наслышаны о любви. Мануэль читал мало; он всего раз был в театре (где главным образом и царит легенда о том, будто любовь — это преданность), а в перуанских песнях, которые ему, наверное, приходилось слышать в тавернах, не в пример испанским, очень слабо отразился романтический культ идеализированной женщины. Когда он повторял себе, что она прекрасна, и богата, и до невозможности остроумна, и любовница вице-короля, ни одно из этих качеств, делавших ее менее доступной, не могло погасить его непривычное, нежное волнение. И вот в темноте он прислонялся к дереву и, прикусив костяшки пальцев, слушал громкие удары сердца.
А для Эстебана и его жизнь была достаточно полной. В его воображении не оставалось места для новой привязанности — не потому, что сердце у него было меньше, чем у Мануэля, а потому, что ткань его была проще. Теперь он сделал открытие, от которого никто не может вполне оправиться: что даже в самой совершенной любви один любит больше другого. Двое могут быть одинаково добры, одинаково одарены, одинаково красивы, но не бывает двоих, которые любили бы друг друга одинаково сильно. И вот Эстебан сидел в их комнате у оплывшей свечи и, прикусив костяшки пальцев, спрашивал себя, почему Мануэль так переменился и почему из их жизни ушел всякий смысл.
Однажды вечером Мануэля остановил на улице мальчик и объявил, что Перикола требует его немедленно к себе. Мануэль свернул со своей дороги и направился к театру. Прямой, угрюмый и бесстрастный, вошел он в комнату актрисы и молча стал. Камила хотела попросить его об одном одолжении и решила сначала к нему подольститься; однако она не перестала расчесывать белый парик, лежавший перед нею на столе.
— Ты пишешь для людей письма, правда? Будь добр, напиши для меня письмо. Подойди, будь добр.
Он сделал два шага вперед.
— Вы оба никогда ко мне не заглядываете. Это с вашей стороны не по-испански. — Она имела в виду «не вежливо». — Кто ты — Мануэль или Эстебан?
— Мануэль.
— Все равно. Вы оба нелюбезны. Никогда ко мне не заходите. Я тут сижу целыми днями, заучиваю глупые стихи, и никто ко мне не заходит, кроме разносчиков. Потому что я актриса, да?
Вступление не отличалось тонкостью, но для Мануэля оно было несказанно сложным. Он только глядел на нее из тени своих длинных волос и не мешал ей импровизировать.
— Я тебе доверяла и хотела, чтобы ты написал для меня письмо, секретное письмо. Но теперь я вижу, что ты меня не любишь и просить тебя об этом — все равно что читать его вслух в каждом кабаке. Что означает твой взгляд, Мануэль? Ты мне друг?
— Да, сеньора.
— Уходи. Пришли мне Эстебана. Ты даже свое «да, сеньора» говоришь не как друг.
Долгое молчание. Наконец она подняла голову.
— Ты еще здесь, Нелюбезный?
— Да, сеньора… вы можете доверить мне любое дело… вы можете мне доверить…
— Если я попрошу написать для меня письмо или два письма, ты обещаешь не рассказывать ни одной душе, что в них было и что ты вообще их писал?
— Да, сеньора.
— Чем ты поклянешься? Девой Марией?
— Да, сеньора.
— И сердцем святой Росы Лимской?
— Да, сеньора.
— Ради всего святого, Мануэль, можно подумать, что ты глуп, как вол. Мануэль, я очень на тебя сердита. Ты вовсе не глуп. Ты не похож на глупца. Пожалуйста, перестань твердить «да, сеньора». Не будь таким глупым, не то я пошлю за Эстебаном. Что с тобой происходит?
Тут Мануэль воскликнул на испанский лад, с излишним жаром:
— Клянусь девой Марией и сердцем святой Росы Лимской — все, что касается письма, я сохраню в тайне.
— Даже от Эстебана, — подсказала Перикола.
— Даже от Эстебана.
— Вот, давно бы так.
Она жестом пригласила его к столу, где уже были разложены письменные принадлежности. Диктуя, она расхаживала по комнате, хмурилась, раскачивала бедрами. Подбоченясь, она вызывающе натягивала шаль на плечи.
— «Камила Перикола целует руки Вашей светлости и говорит…» Нет, возьми другой лист и начни сначала. «Сеньора Микаэла Вильегас, артистка, целует руки Вашей светлости и говорит, что, будучи жертвой завистливых и лживых друзей, которых В.С. по доброте своей терпит возле себя, она не в силах более выносить подозрения и ревность В.С-и. Слуга В.С-и всегда ценила дружбу В.С-и и ничем, ни делом, ни помыслом, не оскорбила ее; но она не в силах более защищаться от наветов, которым В.С. так охотно верит. Посему сеньора Вильегас, артистка, прозываемая Периколой, возвращает с настоящим письмом те дары В.С-и, которые еще находятся в ее распоряжении, ибо без доверия В.С-и слуга В.С-и не видит радости в обладании ими».
Несколько минут Камила продолжала ходить по комнате, поглощенная своими мыслями. Наконец, не взглянув даже на своего секретаря, она приказала:
— Возьми другой лист. «Ты с ума сошел? Не вздумай посвятить мне еще одного быка. Из-за него началась страшная война. Храни тебя небо, мой жеребеночек. В пятницу ночью, в том же месте, в тот же час. Я могу немного запоздать, потому что лиса не дремлет». Все.
Мануэль встал.
— Ты клянешься, что не наделал ошибок?
— Да, клянусь.
— Вот твои деньги.
Мануэль взял деньги.
— Время от времени мне понадобится, чтобы ты писал мне письма. Обычно мои письма пишет дядя Пио, но я не хочу, чтобы он знал об этих. Спокойной ночи. С богом.
— С богом.
Мануэль спустился по лестнице и долго стоял под деревьями, не думая, не шевелясь.
Эстебан знал, что у брата в мыслях одна Перикола, но даже не подозревал, что он с ней видится. Несколько раз на протяжении следующих двух месяцев к нему подбегал маленький мальчик, спрашивал, кто он — Мануэль или Эстебан, и, услышав, что он — только Эстебан, объяснял, что Мануэля требуют в театр. Эстебан полагал, что брата вызывают переписывать, и поэтому появление в их комнате ночной гостьи было для него полной неожиданностью.
Близилась полночь. Эстебан лег в постель и глядел из-под одеяла на свечу, возле которой работал брат. Тихо постучали в дверь, Мануэль открыл, и вошла дама в густой вуали, запыхавшаяся и раздраженная. Она откинула шарф и нетерпеливо сказала:
— Быстро, чернила и бумагу. Ты — Мануэль, да? Ты должен написать мне письмо, сейчас же.
На миг ее взгляд привлекли два блестящих сердитых глаза, устремленных на нее с изголовья кровати. Она пробормотала:
— Э… ты уж меня извини. Я знаю, час поздний. Но мне очень нужно. Нельзя откладывать. — Затем, повернувшись к Мануэлю, зашептала ему на ухо: — Пиши: «Я, Перикола, не привыкла ждать на свиданьях». Дописал? «Ты только cholo,[25] и есть матадоры получше тебя, даже в Лиме. Во мне половина кастильской крови, и лучше меня актрисы на свете нет. У тебя больше не будет случая…» — ты успеваешь? — «…заставить меня дожидаться, cholo, и я буду смеяться последней, потому что даже актриса старится не так быстро, как тореро».
Для Эстебана в его темном углу вид Камилы, склонившейся к руке брата и шепчущей ему на ухо, был окончательным свидетельством того, что образовалась новая духовная близость, какой ему никогда не изведать. Он словно съежился в пустоте — бесконечно крохотный, бесконечно лишний. Он бросил последний взгляд на сцену Любви — тот рай, куда ему вход заказан, — и отвернулся к стене.
Камила схватила записку, едва она была закончена, пустила по столу монету и в последнем всплеске черных кружев, алых бус и взволнованного шепота исчезла. Мануэль со свечей отвернулся от двери. Он сел, наклонился вперед, облокотившись на колени и сжав ладонями уши. Он боготворил ее. Он снова и снова шептал себе, что боготворит ее, превращая звук в заклинание и преграду мыслям.
Он выбросил из головы все, кроме напева, и эта пустота позволила ему почувствовать состояние Эстебана. Он словно слышал голос из темноты, говорящий: «Иди за ней, Мануэль. Не оставайся здесь. Ты будешь счастлив. В мире для всех нас есть место». Потом чувство еще больше обострилось, и перед ним возник образ брата, который уходит куда-то вдаль, снова и снова повторяя: «Прощай». Мануэля охватил ужас; при свете его он увидел, что все остальные привязанности в жизни — только тени или горячечные видения, даже мать Мария дель Пилар, даже Перикола. Он не понимал, почему страдание брата должно требовать выбора между ним и Периколой, но он понимал, что Эстебан страдает. И он сейчас же принес ему в жертву все — если мы вообще способны жертвовать чем-либо, кроме того, что заведомо нам недоступно, и того, чем обладать, как подсказывает нам внутренний голос, было бы хлопотно или тягостно. Разумеется, у Эстебана не было никаких оснований для жалоб. Ревновать он не мог, ибо в прежних их приключениях им и в голову не приходило, что их верность друг другу может поколебаться. Просто в сердце одного из них оставалось место для утонченной поэтической привязанности, а в сердце другого — нет. Мануэль не мог понять этого до конца и, как мы увидим, лелеял смутное чувство, что обвинен несправедливо. Но что Эстебан страдает — он понимал. В смятении он наугад искал средств удержать брата, который словно исчезал вдали. И тут же одним решительным усилием воли он вымел Периколу из своего сердца.
Он задул свечу и лег на кровать. Он дрожал. Он произнес вслух с наигранной небрежностью: «Хватит, больше я не пишу для этой женщины. Пусть идет и ищет себе сводника в другом месте. Если она еще придет сюда или пришлет за мной, а меня не будет, так ей и скажи. Скажи ей ясно. Я больше не желаю иметь с ней дела», — и вслед за этим начал читать вслух вечерний псалом. Но едва он дошел до «sagitta volante in die»,[26] как услышал, что Эстебан встал и зажигает свечу.
— В чем дело? — спросил он.
— Я иду гулять, — угрюмо ответил Эстебан, застегивая пояс. И через секунду добавил, как бы с гневом: — Тебе это незачем говорить… что ты сейчас сказал… ради меня. Мне все равно, пишешь ты ее письма или нет. Ради меня ничего менять не нужно. Мне до этого дела нет.
— Ложись спать, дурак! Господи, ты дурак, Эстебан! С чего ты взял, будто я говорю это из-за тебя? Ты не веришь, когда я говорю, что у меня с ней все кончено? Ты думаешь, я опять хочу писать ее грязные письма и вот так получать за них деньги?
— Все правильно. Ты любишь ее. Из-за меня ты ничего менять не должен.
— Люблю ее? Ты рехнулся, Эстебан. Как я могу ее любить? На что мне надеяться в этой любви? Ты думаешь, она давала бы мне писать эти письма, если бы у меня была хоть какая-нибудь надежда? Ты думаешь, она швыряла бы мне каждый раз монетку?.. Ты рехнулся, Эстебан, больше ничего.
Было долгое молчание. Эстебан не ложился спать. Он сидел при свече посреди комнаты и постукивал ладонью по краю стола.
— Да ложись ты спать, дурак! — закричал Мануэль, приподнявшись на локте под одеялом. Он говорил на их тайном языке, и от незнакомой боли в сердце притворная ярость его восклицания прозвучала правдоподобнее. — Обо мне не беспокойся.
— Не хочу. Я иду гулять, — отозвался Эстебан, взяв плащ.
— Куда ты пойдешь? Два часа ночи. Дождь. Что за гулянье в такую погоду? Слушай, Эстебан, я клянусь тебе, с этим покончено. Я не люблю ее. Только сперва любил.
Эстебан уже стоял в черном дверном проеме. Неестественным голосом, каким мы произносим самые важные заявления в жизни, он пробормотал:
— Я стою у тебя на дороге, — и повернулся уходить.
Мануэль вскочил с кровати. В голове у него был страшный гул, какой-то голос кричал, что Эстебан уходит навсегда, оставляет его навсегда.
— Во имя Господа, во имя Господа, Эстебан, вернись!
Эстебан вернулся, лег в постель, и они не заговаривали об этом несколько месяцев. На другой же вечер Мануэлю представился случай подтвердить свое решение. Посыльному, явившемуся от Периколы, сурово велели передать актрисе, что писать для нее письма Мануэль не будет.
Однажды вечером Мануэль распорол колено об острую железку. Оба брата и дня не болели в своей жизни, и теперь Мануэль с недоумением наблюдал, как пухнет его нога, и чувствовал, как волнами прокатывается по телу боль. Эстебан сидел рядом и всматривался в его лицо, пытаясь представить себе, что такое сильная боль. Наконец как-то в полночь Мануэль вспомнил, что один городской цирюльник рекомендует себя на вывеске опытным брадобреем и хирургом. Эстебан побежал через весь город за ним. Он заколотил в дверь. Из окна высунулась женщина и объявила, что ее муж возвратится только утром.
В страшные часы ожидания они говорили друг другу, что, когда врач осмотрит ногу, все будет хорошо. Он что-нибудь сделает, и через день-другой, а то и просто через день, а то и раньше, Мануэль будет ходить как ни в чем не бывало.
Цирюльник пришел и прописал разные отвары и мази. Эстебану он наказал каждый час прикладывать к ноге брата холодные тряпки. Цирюльник удалился, и братья сели ждать, когда утихнет боль. Но пока они сидели, глядя друг другу в лицо в ожидании чуда науки, боль усиливалась. Снова и снова Эстебан подходил к брату с мокрым полотенцем; оказалось, что самым страшным был момент, когда его прикладывали. При всей своей бесконечной стойкости Мануэль не мог удержаться от крика и метался по кровати. Наступила ночь, а Эстебан все так же невозмутимо ждал, наблюдал, работал. Девять, десять, одиннадцать. Теперь, когда подходило время менять компресс (а час так музыкально отбивали все башни), Мануэль умолял Эстебана не делать этого. Он прибегал к обману и уверял, будто почти ничего не чувствует. Но Эстебан, хотя его сердце разрывалось от боли, а губы вытягивались в железную нить, закатывал одеяло и люто приматывал полотенце к ноге. Мануэль постепенно впал в бред, и, когда меняли компресс, все мысли, которых он не позволял себе в здравом уме, разросшись, срывались у него с языка. В два часа, обезумев от боли и ярости, он до пояса выбросился из постели, так что голова ударилась об пол, и закричал:
— Сошли Господь твою душу в самый холодный ад! Терзай тебя тысяча дьяволов, Эстебан! Будь ты навеки проклят, слышишь?
У Эстебана дух занялся; он вышел в переднюю и прислонился к двери, широко раскрыв глаза и рот. А из комнаты еще доносилось:
— Да, Эстебан, будь проклята твоя скотская душа навеки, ты слышишь? За то, что встал между мной и тем, что было мое по праву. Она была моя, слышишь? По какому праву ты… — И он пускался в подробные описания Периколы.
Такие вспышки повторялись каждый час. Эстебан не сразу понял, что в эти минуты сознание брата затемнено. После первых мгновений ужаса, которому способствовала его глубокая религиозность, он возвращался в комнату и, понурясь, приступал к своим обязанностям.
К рассвету брат стал спокойнее. (Ибо какому из человеческих недугов рассвет не приносит видимого облегчения?) И в один из таких светлых промежутков он мирно сказал Эстебану:
— Сын божий! Мне легче, Эстебан. Однако эти тряпки помогают. Увидишь, завтра я буду на ногах. Сколько ночей ты не спал? Увидишь, больше я не доставлю тебе хлопот, Эстебан.
— Какие хлопоты, дурак!
— Ты не принимай меня всерьез, когда я не велю тебе прикладывать полотенце, Эстебан.
Долгое молчание. Наконец Эстебан вымолвил еле слышно:
— Я думаю… как ты думаешь, может быть, стоит позвать Периколу? Она бы зашла к тебе на несколько минут… Я хочу сказать…
— Она? Ты все еще думаешь о ней? Я не хочу ее видеть. Нет, ни за что.
Но Эстебан не был удовлетворен. Из глубины своего существа он вытянул еще несколько фраз:
— Мануэль, тебе ведь кажется — правда? — что я стою между тобой и Периколой, и ты не помнишь, как я сказал: обо мне не беспокойся? Клянусь тебе, я был бы рад, если бы ты с ней ушел или еще как-нибудь…
— Ты опять за старое, Эстебан? Говорю тебе — и Бог свидетель, — я совсем о ней не думаю. Ее для меня нет. Когда наконец ты об этом забудешь, Эстебан? Говорю тебе, я рад, что все есть так, как есть. Слушай, я могу рассердиться, если ты все время будешь это вспоминать.
— Мануэль, я не заговорил бы об этом, но когда ты сердишься на меня из-за тряпки… ты и за это сердишься. И ты говоришь об этом, ты…
— Пойми, я не отвечаю за свои слова. Нога-то болит, ясно?
— Значит, ты проклинаешь меня не за то… что я как будто стою между тобой и Периколой?
— Проклинаю… тебя? Почему ты так говоришь? Ты с ума сходишь, Эстебан, что тебе мерещится? Ты совсем не спал, Эстебан. Я тебя замучил, из-за меня ты теряешь здоровье. Но вот увидишь, я больше не доставлю тебе хлопот. Как я мог проклинать тебя, Эстебан, если, кроме тебя, у меня никого нет? Понимаешь, в чем дело — когда холодная тряпка прикасается, я просто не в себе. Понимаешь? Не обращай внимания. Пора уже ее менять. Я не скажу ни слова.
— Нет, Мануэль, этот раз я пропущу. Вреда не будет, один раз я пропущу.
— Мне надо поправиться. Надо поскорее встать на ноги. Накладывай. Но погоди минутку, дай мне распятие. Клянусь кровью и телом Христовым, если я скажу что-нибудь против Эстебана, я так не думаю — это просто глупые слова бреда из-за боли в ноге. Боже, верни мне скорее здоровье, аминь. Клади. На. Я готов.
— Слушай, Мануэль, вреда не будет, если я разок пропущу. Наоборот, тебе станет легче, если тебя лишний раз не дергать.
— Нет, мне надо поправиться. Врач сказал, это надо делать. Я не скажу ни слова, Эстебан.
И все начиналось снова.
На другую ночь проститутка из соседней комнаты, оскорбленная грубыми выражениями, начала барабанить в стену. Священник из комнаты напротив выходил в коридор и стучал в дверь. Все постояльцы в негодовании собрались перед их комнатой. Хозяин поднялся по лестнице, громко обещая постояльцам, что утром же выкинет братьев на улицу. Эстебан выходил со свечой в коридор и позволял им срывать на себе злость, сколько им хочется; но после этого в самые трудные минуты он стал зажимать брату рот ладонью. Мануэль ожесточался еще больше и бормотал всю ночь напролет.
На третью ночь Эстебан послал за священником, и средь исполинских теней Мануэль причастился и умер.
С этого часа Эстебан избегал приближаться к дому. Он уходил далеко, но потом брел назад и слонялся, разглядывая прохожих, в нескольких кварталах от места, где лежал брат. Хозяин заезжего двора, отчаявшись пронять его и вспомнив, что братья воспитывались в монастыре Санта-Марии-Росы де лас Росас, послал за настоятельницей. Просто и решительно она распорядилась всем, что нужно было сделать. Наконец она пришла на угол и заговорила с Эстебаном. Он следил за ней взглядом, в котором привязанность боролась с недоверием. Но когда она подошла к нему, он повернулся боком и стал смотреть в сторону.
— Я хочу, чтобы ты мне помог. Ты не пойдешь домой попрощаться с братом? Ты не пойдешь, не поможешь мне?
— Нет.
— Ты не хочешь мне помочь!
Долгая пауза. И вдруг, когда она стояла перед ним в полной беспомощности, ей вспомнился один случай, происшедший много лет назад: близнецы — им было тогда лет пятнадцать — сидели у ее ног и она рассказывала им о Голгофе.[27] Их большие серьезные глаза не отрывались от ее губ. Вдруг Мануэль громко закричал: «Если бы мы с Эстебаном там были, мы бы им не позволили!»
— Ладно, если ты не хочешь мне помочь, ты скажешь мне, кто ты?
— Мануэль, — сказал Эстебан.
— Мануэль, пойдем туда, посиди со мной хоть немного.
Долгое молчание, потом:
— Нет.
— Ну, Мануэль, милый Мануэль, неужели ты не помнишь, сколько вы сделали для меня, когда были детьми? Вы готовы были идти через весь город по какому-нибудь мелкому поручению. А когда я болела, вы просили кухарку, чтобы она разрешила вам подавать мне суп. (Другая женщина сказала бы: «Вы помните, сколько я для вас сделала?»)
— Да.
— И у меня, Мануэль, была утрата. И у меня… Но мы знаем, что Господь принял его в свои руки…
Но это нисколько не помогло. Эстебан рассеянно отвернулся и пошел прочь. Сделав шагов двадцать, он остановился и заглянул в поперечный проулок, как собака, когда она хочет убежать, но боится обидеть зовущего ее хозяина.
Больше ничего от него не добились. Когда двинулась по городу жуткая процессия с черными клобуками и масками, горящими средь бела дня свечами, грудой черепов, выставленной напоказ, и устрашающими псалмами, Эстебан следовал за ней параллельными улицами, подглядывая издали, как дикарь.
Вся Лима заинтересовалась разлукой братьев. Хозяйки сочувственно перешептывались об этом, вывешивая на балконах ковры. Мужчины в харчевнях, упоминая о них, качали головами и некоторое время курили в молчании. Приезжие из отдаленных от моря областей рассказывали, что видели Эстебана, блуждавшего по сухим руслам рек или среди гигантских руин древней империи, глаза у него горели как угли. Пастух набрел на него, когда он стоял под звездами на вершине холма, сонный или в забытьи, мокрый от росы. Несколько рыбаков видели, как он заплывал далеко в море. Время от времени он находил работу, нанимался пастухом или погонщиком, но через несколько месяцев исчезал и скитался из провинции в провинцию. Однако он всегда возвращался в Лиму. Раз он появился у дверей артистической уборной Периколы; он словно хотел заговорить, внимательно посмотрел на нее и скрылся. Раз в кабинет матери Марии дель Пилар вбежала монахиня с известием, что Эстебан (которого люди звали Мануэлем) слоняется у дверей монастыря. Настоятельница поспешила на улицу. Вот уже который месяц она спрашивала себя, какая уловка поможет склонить этого полубезумного мальчика к возвращению в их лоно. Вооружившись всей важностью и спокойствием, на какие была способна, она появилась в дверях монастыря и, посмотрев на него, тихо проговорила: «Мой друг». Он ответил ей тем же взглядом привязанности и недоверия, что и в прошлый раз, и стоял дрожа. Она снова прошептала: «Мой друг» — и сделала шаг вперед. Внезапно Эстебан повернулся, бросился бежать и исчез. Мать Мария дель Пилар, спотыкаясь, кинулась к своему столу и, упав на колени, воскликнула с сердцем: «Я молила о мудрости, а Ты мне ее не дал. Ты отказал мне в самой малой милости. Я всего лишь поломойка…» Но после того, как она наложила на себя епитимью за эту дерзость, ее осенила мысль послать за капитаном Альварадо. Тремя неделями позже она имела с ним десятиминутную беседу. А на другой день он выехал в Куско, где Эстебан, по слухам, занимался перепиской для Университета.
Странная и благородная личность жила в те годы в Перу — капитан Альварадо, путешественник. Его обжигали и дубили все непогоды на свете. Он стоял на площади, широко расставив ноги, словно на палубе в качку. Глаза у него были странные, не приученные к близким расстояниям, слишком привыкшие ловить проблеск созвездия между тучей и тучей или очертания мыса под дождем. Его замкнутость для большинства из нас объяснялась его странствиями, но маркиза де Монтемайор видела ее в другом свете. «Письмо это доставит тебе собственной персоной капитан Альварадо, — писала она дочери. — Представь его своим географам, мое сокровище, хотя, боюсь, им будет не по себе, ибо он бриллиант искренности. Им никогда не встретить человека, который путешествовал бы так далеко. Вчера ночью он рассказывал мне о некоторых своих плаваниях. Вообрази, как его корабль пробивается сквозь море травы, вспугивает тучу рыб, словно июньских кузнечиков, или скользит между ледяных островов. О, он был в Китае и поднимался по рекам Африки. Но он не просто искатель приключений и как будто не гордится открытием новых земель; он и не просто купец. Однажды я стала допытываться, почему он так живет; он уклонился от ответа. Я узнала от моей прачки то, что кажется мне причиной его непоседливости: дитя мое, и у него было дитя; дочь моя, у него была дочь. Она едва достигла возраста, когда могла приготовить ему воскресный обед или починить его одежду. В те дни он плавал только между Мексикой и Перу, и сотни раз она махала ему рукой при встрече или на прощание. Не нам судить, была ли она прекраснее и умнее тысяч других девочек, живших вокруг, но она была его. Тебе, наверное, покажется постыдным, что этот железный человек блуждает по земле, словно слепец по пустому дому, из-за того лишь, что потерял девчонку, несмышленыша. Нет, нет, тебе этого не понять, моя ненаглядная; я же понимаю и бледнею. Вчера ночью он сидел со мной и говорил о ней. Он подпер щеку рукою и, глядя в огонь, промолвил: «Порой мне кажется, что она уехала путешествовать, и я еще увижу ее. Мне кажется, что она в Англии». Ты будешь смеяться надо мной, но я думаю, что он мыкается по полушариям, чтобы убить время между сегодня и старостью».
Братья всегда питали глубокое уважение к капитану Альварадо. Когда-то они работали у него, и из молчания троих слагалось ядрышко смысла в этом мире бахвальства, самооправданий и велеречия. И поэтому теперь, когда великий путешественник вошел в сумрачную кухню, где ел Эстебан, юноша отодвинул свой стул в темный угол, но про себя обрадовался. Капитан не подавал виду, что узнал или даже заметил его, пока не кончил трапезу. Эстебан давно кончил есть, но, не желая вступать в разговор, выжидал, когда капитан покинет эту пещеру. Наконец капитан подошел к нему и сказал:
— Ты — Эстебан или Мануэль. Один раз ты работал у меня на разгрузке. Я капитан Альварадо.
— Да, — отвечал Эстебан.
— Как живешь?
Эстебан что-то пробормотал.
— Я ищу крепких парней в новое плавание. — Молчание. — Пойдешь со мной? — Молчание, более долгое. — В Англию. И Россию… Тяжелая работа. Хорошие заработки… Далеко от Перу. Как?
Эстебан как будто не слышал. Он сидел, глядя на стол. Наконец капитан возвысил голос, словно обращаясь к глухому:
— Я говорю: хочешь пойти со мной в плавание?
— Да, пойду, — вдруг ответил Эстебан.
— Отлично. Отлично. Брат твой мне тоже нужен, само собой.
— Нет.
— Почему? Он не захочет?
Эстебан что-то промямлил, глядя в сторону. Потом, привстав, произнес:
— Мне надо идти. Мне надо повидать одного человека по одному делу.
— Давай я сам поговорю с братом. Где он?
— Умер, — сказал Эстебан.
— А-а… Я не знал. Не знал. Извини.
— Да, — сказал Эстебан. — Мне надо идти.
— Угу. Ты который? Как тебя звать?
— Эстебан.
— Мануэль когда умер?
— Он… всего несколько недель. Расшиб себе колено и… Всего несколько недель.
Оба смотрели в пол.
— Сколько тебе, Эстебан?
— Двадцать два.
— Ну так договорились, пойдешь со мной?
— Да.
— Ты, может быть, не привык к холоду?
— Нет. Я привык… Мне надо в город, повидать одного человека по одному делу.
— Ладно, Эстебан. Приходи сюда ужинать, и мы поговорим о плавании. Приходи, выпьем с тобой вина, и все. Придешь?
— Да, приду.
— С богом.
— С богом.
Они поужинали вместе и условились, что завтра утром отправятся в Лиму. Капитан сильно его напоил. Сперва они наливали и пили, наливали и пили в молчании. Потом капитан заговорил о кораблях и их курсах. Он задавал Эстебану вопросы о такелаже и о путеводных звездах. Потом Эстебан заговорил о другом, заговорил очень громко.
— На судне вы должны все время заставлять меня что-нибудь делать. Я буду делать все, все. Я буду взбираться на мачты и крепить снасти, буду стоять на вахте всю ночь — потому что, понимаете, я все равно плохо сплю. И… капитан Альварадо, на судне вы должны притворяться, будто не знаете меня. Притворитесь, будто вы меня ненавидите больше всех, чтобы все время задавать мне работу. Я больше не могу сидеть за столом и переписывать. И не рассказывайте про меня людям… то есть про…
— Я слышал, что ты вошел в горящий дом, Эстебан, и кого-то вытащил.
— Да. И не обжегся, ничего. Вы знаете, — закричал Эстебан, навалившись на стол, — нам не позволено убивать себя, вы же знаете, что не позволено. Это все знают. Но если ты прыгнул в горящий дом, чтобы кого-то спасти, это не значит, что ты убил себя. И если ты стал матадором и тебя бык забодал, это не значит, что ты убил себя. Ты только не должен подставляться быку нарочно. Вы когда-нибудь видели, чтобы животные убивали себя, даже когда у них нет выхода? Они ни за что не прыгнут в реку или еще куда-нибудь, даже если у них нет выхода. Некоторые говорят, что лошадь прыгает в костер. Это правда?
— Нет, не думаю, что это правда.
— И я не думаю, что это правда. У нас была собака. Ну, ладно, я не должен об этом думать. Капитан Альварадо, вы знаете мать Марию дель Пилар?
— Да.
— Я хочу до того, как уеду, сделать ей подарок. Капитан Альварадо, я хочу, чтобы вы мне выдали все жалованье вперед — деньги мне больше нигде не понадобятся, — и я хочу купить ей подарок сейчас. Это подарок не от одного меня. Она была… была… — Тут Эстебан хотел произнести имя брата, но не смог. Вместо этого он продолжал, понизив голос: — У нее было какое-то… у нее была большая потеря, давно. Она мне сама сказала. Я не знаю, кто у нее был, и я хочу ей сделать подарок. Женщины это хуже переносят, чем мы.
Капитан пообещал подыскать с ним утром какую-нибудь вещь. Эстебан еще долго говорил об этом. Наконец, увидев, как он соскользнул под стол, капитан поднялся и вышел на площадь перед трактиром. Он смотрел на линию Анд и на звездные ручьи, вечно льющиеся в небе. И где-то в воздухе витал дух и улыбался ему, и в тысячный раз дух повторял ему серебристым голосом: «Не уезжай надолго. Я буду совсем большая, когда ты вернешься». Затем он вошел в дом, перенес Эстебана в его комнату и долго сидел, глядя на него.
На другое утро, когда Эстебан вышел, капитан уже ждал его внизу у лестницы.
— Мы отправимся, как только ты соберешься, — сказал капитан.
В глазах юноши опять возник странный блеск. Он выпалил:
— Нет, я не еду. Я все же не еду.
— Aïe! Эстебан! Ты же обещал мне, что поедешь.
— Это невозможно. Я не могу ехать с вами. — И он стал подниматься обратно.
— Поди сюда на минуту, Эстебан, на одну минуту.
— Я не могу ехать с вами. Я не могу уехать из Перу.
— Я хочу тебе кое-что сказать.
Эстебан спустился с лестницы.
— А как будет с подарком для матери Марии дель Пилар? — спросил капитан вполголоса. Эстебан молчал и смотрел поверх гор. — Неужели ты хочешь лишить ее подарка? Видишь ли… он может много для нее значить.
— Ладно, — пробормотал Эстебан, словно этот довод сильно на него подействовал.
— Так. Кроме того, океан лучше Перу. Ты знаешь Лиму, Куско и дорогу. Тут тебе уже нечего узнавать. Океан — вот что тебе нужно, понимаешь? Кроме того, на борту ты каждую минуту будешь занят. Я позабочусь об этом. Иди собирайся, и поедем.
Эстебан старался прийти к какому-нибудь решению. Раньше всегда решал Мануэль, но даже Мануэль никогда не стоял перед таким важным выбором. Эстебан медленно двинулся наверх. Капитан ждал его, и ждал так долго, что под конец решил подняться до половины лестницы, и прислушался. Сперва было тихо, потом послышались звуки, которые его воображение разгадало сразу. Эстебан отбил штукатурку около балки и привязывал веревку. Капитан, дрожа, стоял на лестнице. «Может, так лучше, — сказал он себе. — Может, не мешать ему. Может, это все, что ему осталось». Затем, услышав новый звук, он ринулся на дверь, ввалился в комнату и подхватил юношу.
— Уходи! — закричал Эстебан. — Оставь меня. Не вмешивайся. — Эстебан ничком упал на пол. — Я один, один, один, — закричал он.
Капитан стоял над ним, его широкое некрасивое лицо было серо и изборождено болью; он заново переживал свои прежние часы. Во всем, что не касалось морской науки, он был самым неуклюжим оратором на свете; но в иные минуты нужно высокое мужество, чтобы говорить банально.
Он не был уверен, что лежавший на полу услышит его, но он сказал:
— Мы делаем, что можем. Мы бьемся, Эстебан, сколько есть сил. Но это, понимаешь, ненадолго. Время идет. Ты удивишься, как быстро оно проходит.
Они отправились в Лиму. Когда они достигли моста Людовика Святого, капитан спустился к речке, чтобы присмотреть за переправой каких-то товаров, а Эстебан пошел по мосту и рухнул вместе с ним.
IV Дядя Пио; Дон Хаиме
В одном из своих писем (XXIX) маркиза де Монтемайор пытается передать впечатление, которое произвел на нее «наш пожилой Арлекин» дядя Пио. «Все утро, душа моя, я сидела в зелени балкона, вышивая тебе комнатные туфли, — сообщает она дочери. — И так как золотая канитель не занимала меня целиком, я могла наблюдать деятельность сообщества муравьев в стене подле меня. Где-то за перегородкой они терпеливо разрушали мой дом. Каждые три минуты между двух досок появлялся маленький рабочий и сбрасывал на пол крошку дерева. Потом, помахав мне усиками, он деловито исчезал в таинственном пассаже. Тем временем многочисленные его братья и сестры семенили взад и вперед по своему тракту, останавливаясь, чтобы помассировать друг другу голову — или, если спешили с донесением особой важности, сердито отказывались массировать и подвергаться массажу. И я сразу вспомнила дядю Пио. Почему? У кого еще могла я видеть это движение, каким он уловляет проходящего аббата или слугу и шепчет, приложив губы к уху своей жертвы. И правда, еще полдень не настал, а я увидела, как он опять спешит по какому-то таинственному делу. Будучи самой глупой и самой праздной из женщин, я послала Пепиту за кусочком нуги и поместила его на муравьином тракте. Подобным же образом я передала в кафе Писсаро просьбу прислать ко мне дядю Пио, если он объявится там до захода солнца. Я дам ему старую погнутую салатную вилку с бирюзой, а он принесет мне список новой баллады о г-ц-не Ол-в-с, которую у нас все распевают. Дитя мое, ты должна получать все самое лучшее, и получать первой».
И в следующем письме: «Моя дорогая, дядя Пио самый восхитительный мужчина на земле, исключая твоего мужа. Он второй среди самых восхитительных мужчин на земле. Разговор его очарователен. Если бы не его дурная репутация, я взяла бы его в секретари. Он писал бы все мои письма, а потомки вставали бы, отдавая дань моему остроумию. Увы, он так трачен болезнью и дурной компанией, что мне придется оставить его на дне. Он не только похож на муравья, он похож на сальную колоду карт. И я сомневаюсь, что все воды Тихого океана отмоют его до прежней чистоты и благоухания. Но как божественно звучит в его устах испанский и какие изысканные мысли передает! Вот что значит подвизаться в театре и не слышать ничего, кроме Кальдеронова разговора. Увы! Что нарушилось в этом мире, если он так дурно обходится с подобным существом? Глаза его печальны, как у коровы, у которой отняли уже десятого теленка».
Прежде всего вам следует знать, что этот дядя Пио был горничной Периколы. Кроме того, он был ее учителем пения, ее парикмахером, ее массажистом, ее лектрисой, ее посыльным, ее банкиром и — добавляла молва — ее отцом. Например, он разучивал с ней ее роли. По городу ходил слух, будто Камила умеет читать и писать. Такая похвала была незаслуженной; дядя Пио и писал за нее, и читал. В разгар сезона труппа играла две-три новые пьесы в неделю, и, поскольку в каждой имелась большая и цветистая роль для Периколы, сама задача выучить роль была отнюдь не пустячной.
За пятьдесят лет Перу из окраинной страны преобразилась в страну возрождения. Интерес к музыке и театру был необычаен. Праздники справляла Лима, слушая утром мессу Томаса Луиса да Витториа,[28] а вечером — искрящуюся поэзию Кальдерона.[29] Правда, была у жителей Лимы слабость вставлять пошлые песенки в самые изящные комедии и сдабривать слезливыми украшениями самую строгую музыку; зато по крайней мере они никогда не предавались скуке вымученного благоговения. Если им не нравилась героическая комедия, они без колебания оставались дома; если они были глухи к полифонии, ничто не помешало бы им пойти к более ранней службе. Когда архиепископ вернулся из короткой поездки в Испанию, вся Лима спрашивала: «Что он привез?» Наконец разнеслась весть, что он вернулся с томами месс и мотетов Палестрины,[30] Моралеса[31] и Витториа и тридцатью пятью пьесами Тирсо де Молина, Руиса де Аларкона и Морето.[32] В его честь устроили празднество. Школа певчих и зеленый зал Комедии были завалены дареными овощами и пшеницей. Все общество жаждало напитать посланцев этой красоты.
Таков был театр, где поднималась к славе Камила Перикола. Столь богат был репертуар и суфлер столь надежен, что не многие пьесы шли более четырех раз в сезон. В распоряжении директора были все сокровища испанской драмы XVII века, включая многое, что не дошло до нас. Перикола выступала в ста пьесах одного только Лопе де Вега.[33] В ту пору в Лиме было много превосходных актрис, но лучше нее — ни одной. Подмостки Испании были слишком далеко, и сограждане не понимали, что она — первая актриса в испанском мире. Они вздыхали о том, чтобы хоть одним глазом взглянуть на мадридских звезд, которых никогда не видели и наделяли неведомыми достоинствами. Только один человек твердо знал, что Перикола — великая артистка; это был ее наставник, дядя Пио.
Дядя Пио происходил из хорошего кастильского рода, но был незаконнорожденным. Десяти лет он сбежал из асьенды отца в Мадрид и был разыскиваем без усердия. С тех пор он вел жизнь пройдохи. Он обладал шестью качествами авантюриста: памятью на имена и лица при склонности менять свои собственные; даром к языкам; неистощимой изобретательностью; скрытностью; талантом завязывать разговор с незнакомцами и той свободой от совести, что рождается из презрения к сонным богачам, которых он доил. С десяти лет до пятнадцати он распространял рекламные листки купцов, держал лошадей и выполнял конфиденциальные поручения. С пятнадцати до двадцати дрессировал медведей и змей для бродячих цирков; стряпал и готовил пунши, терся у самых дорогих таверн и шептал на ушко приезжим разные сведения — иногда вполне безобидные, наподобие того, что какая-нибудь аристократическая фамилия вынуждена распродавать столовое серебро и хочет обойтись без комиссионных серебрянику. Он состоял при всех театрах города и умел аплодировать за десятерых. Он распространял наветы — по столько-то за навет. Он торговал слухами об урожае и доходности земельных участков. С двадцати до тридцати к его услугам прибегали самые высокие круги — правительство посылало его поднимать в горах нерешительные восстания, с тем чтобы правительство могло явиться туда и решительно их разгромить. Осмотрителен он был настолько, что французская партия использовала его, зная, что австрийская партия использует его тоже. Он имел продолжительные беседы с принцессой дез Юрсен,[34] но приходил и уходил по черной лестнице. На этом этапе ему уже не приходилось обеспечивать господам развлечения или жать на лоскутной ниве клеветы.
Ни одним делом не занимался он больше двух недель подряд, даже если оно сулило баснословные барыши. Он мог бы стать хозяином цирка, директором театра, антикваром, импортером итальянских шелков, секретарем во дворце или в соборе, поставщиком провианта, спекулянтом недвижимостью, торговцем развлечениями и удовольствиями. Но в характере его, казалось, была заложена — благодаря ли случайности или раннему детскому увлечению — неохота владеть чем бы то ни было, быть связанным, стеснять себя прочными отношениями. Это уберегло его, между прочим, и от воровства. Несколько раз он крал, но пожива не перевешивала страха очутиться под замком; у него хватало находчивости, чтобы ускользнуть от всех полиций на свете, однако ничто не могло бы предохранить его от ябед его врагов. Точно так же одно время он опустился до сыска для Инквизиции, но, когда у него на глазах нескольких его жертв увели в колпаках, он почувствовал, что связался с учреждением, чьи шаги едва ли можно предугадать.
Годам к двадцати дядя Пио ясно осознал, что в жизни у него есть три цели. На первом месте была эта жажда независимости, вылившаяся в любопытную форму, а именно в желание быть разносторонним, таинственным и всеведущим. Он охотно отказывался от почестей общественной жизни, если втайне мог чувствовать, что наблюдает людей издали и свысока, зная о них больше, чем знают они сами, и знание это таково, что, пустив его в ход, он становится поверенным в делах Государства и отдельных лиц. Во вторую очередь он желал всегда быть около прекрасных женщин, которым он в лучшем и худшем смысле слова поклонялся. Близость к ним была необходима ему, как воздух. Его благоговение перед красотой было у всех на виду и вызывало насмешки, зато дамы театра, двора и веселых домов обожали в нем ценителя. Они мучили и оскорбляли его и просили у него совета — и находили необычайное утешение в его нелепой преданности. Он немало терпел от их приступов бешенства, их низости, их слезных признаний; он просил одного — чтобы его изредка принимали, чтобы ему доверяли, позволяли, как доброй и придурковатой собачонке, ходить по их комнатам, разрешали писать за них письма. Его интерес к их уму и сердцу был ненасытен. Он никогда не ждал от них любви (воспользуемся раз этим словом в переносном смысле); на это он тратил свои деньги в самых подозрительных кварталах города; он был отчаянно непривлекателен со своей жидкой бородкой, жидкими усами и большими, до смешного печальными глазами. Женщины были его паствой; от них получил он прозвище дядя Пио; в их несчастьях раскрывался он лучше всего; когда они лишались благосклонности, он ссужал их деньгами; когда они болели, он сохранял им верность дольше, чем охладевающие любовники и раздраженные служанки; когда возраст или недуг отнимали у них красоту, он служил им в память об их былой красоте; когда они умирали, его искренняя скорбь сопутствовала им до последнего порога.
И в-третьих, он хотел быть поближе к тем, кто любит испанскую литературу и ее шедевры — особенно в театре. Все эти сокровища он открывал сам, одалживаясь или воруя в библиотеках своих покровителей, и упивался ими втайне, так сказать, за сценой своей беспорядочной жизни. Он презирал великих мира сего, которые при всей своей образованности и лоске не обнаруживали ни интереса, ни изумления перед чудесами словесного строя у Кальдерона и Сервантеса. Он мечтал сам сочинять стихи. Он и не подозревал, что многие сатирические песни, написанные им для водевилей, вошли в народный обиход и разносились по всем трактам.
В результате одной из тех ссор, что так естественно вспыхивают в публичных домах, жизнь его чрезмерно осложнилась и он переехал в Перу. Дядя Пио перуанский был еще более многогранен, чем дядя Пио европейский. И здесь он промышлял недвижимостью, цирками, увеселениями, восстаниями, древностями. Китайскую джонку из Кантона прибило к берегам Америки; он выволок на берег тюки с темно-красным фарфором и продал вазы собирателям редкостей. Он разведал чудодейственные снадобья инков и завел лихую торговлю пилюлями. Через четыре месяца он знал чуть ли не каждого в Лиме. Позже он распространил круг своих знакомств на десятки приморских городов, шахтерских станов и глубинных селений. Его претензии на всеведение становились все более и более обоснованными. Вице-король открыл дядю Пио со всем его богатством познаний и много раз прибегал к его услугам. При общем оскудении рассудка дон Андрес сохранил один талант — он был мастером обхождения с доверенными слугами. С дядей Пио он был чрезвычайно тактичен и даже выказывал уважение; он понимал, какие поручения ему неудобно давать, и учитывал его потребность в разнообразии и досуге. В свою очередь дядя Пио постоянно удивлялся тому, как мало использует этот наместник свое положение, чтобы управлять страной, потакать своим прихотям и просто для удовольствия играть чужими судьбами; однако слуга любил хозяина за то, что тот мог цитировать из любого предисловия Сервантеса, и за то, что язык его еще не совсем утратил кастильскую остроту. Не раз по утрам дядя Пио входил во дворец коридорами, где можно было встретить только исповедника да наемного громилу, и сидел с вице-королем за утренним шоколадом.
Но при всей своей деловитости дядя Пио так и не разбогател. Можно было подумать, что он бросал предприятие, когда оно грозило стать успешным. Хотя никто об этом не знал, у него был собственный дом. Он был полон собак, которые складывались и умножались, а верхний этаж был отведен птицам. Но и в этом царстве он был одинок и горд в своем одиночестве, словно оно возвышало его над людьми. Наконец ему выпало приключение, явившееся, словно странный дар небес, и объединившее все три великие цели его жизни: страсть наблюдать за жизнью других, поклонение прекрасным женщинам и восторг перед сокровищами испанской литературы. Он открыл Камилу Периколу. Ее настоящее имя было Микаэла Вильегас. Двенадцатилетней девочкой она пела в кафе, а дядя Пио был душой всех кафе. И вот когда он сидел среди гитаристов и смотрел на угловатую девчонку, которая пела баллады, копируя каждую модуляцию более опытных певиц, выступавших ранее, в голове его родился замысел сыграть Пигмалиона.[35] Он выкупил ее. Вместо того чтобы спать в винном чане, она получила кровать в его доме. Он писал для нее песни, учил прислушиваться к тембру своего голоса и купил ей новое платье. Сперва она сознавала только одно: как чудесно, когда тебя не секут, дают тебе горячий суп и чему-то учат. Кто был действительно ошеломлен — это дядя Пио. Его легкомысленный эксперимент удался свыше всяких ожиданий. Маленькая двенадцатилетняя девочка, молчаливая и всегда мрачноватая, жадно накинулась на работу. Он ставил ей бесконечные задачи по актерскому мастерству и имитации, показывал, как передавать настроение песни, водил в театр и заставлял вникать во все тонкости исполнения. Но больше всего Камила потрясла его как женщина. Длиннорукий голенастый подросток превратился в женщину с гармоничным, полным грации телом. Голодное, почти гротескное лицо стало прекрасным. Все ее существо исполнилось мягкости, таинственной и непонятной мудрости — и все было обращено к нему. Она не находила в нем ни единого недостатка и была предана ему всей душой. Они любили друг друга крепко, но без страсти. Он уважал легкую тень раздражения, пробегавшую по ее лицу, когда он подходил слишком близко. Но из самого этого отречения рождался аромат нежности — тот призрак страсти, благодаря которому в самых неожиданных союзах целая жизнь, посвященная докучному долгу, может пролететь, как ласковый сон.
Они много странствовали в поисках новых таверн, ибо первейшее достоинство кафешантанной певицы — ее новизна. Они ходили в Мексику, завернув смену одежды в видавшую виды шаль. Они ночевали на берегу океана, их пороли кнутом в Панаме, их выбрасывало после кораблекрушения на крохотные тихоокеанские острова, залепленные птичьим пометом. Они брели по джунглям, кишевшим змеями и насекомыми. В страдную пору они запродавались на уборку. Ничто на свете не могло их сильно удивить.
Затем для девочки начался еще более тяжелый искус, по суровости напоминавший скорее подготовку акробата. Учеба осложнялась тем, что восхождение ее к успеху было очень быстрым, и существовала опасность, что рукоплескания позволят ей слишком рано удовлетвориться своим мастерством. Бить ее дядя Пио никогда не бил, но прибегал к сарказму, что тоже было достаточно страшно. Бывало, после спектакля Перикола входила в свою уборную и заставала дядю Пио, беспечно посвистывавшего в углу. Сразу же почувствовав его настроение, она сердито кричала:
— Ну, что опять? Матерь божья, матерь божья, что опять?
— Ничего, маленькая жемчужина. Ничегошеньки, моя маленькая Камила из Камил.
— Тебе что-то не понравилось. Противный придира — вот ты кто. Ну, говори, что еще? Видишь, я слушаю.
— Нет, моя рыбка. Восхитительная утренняя звезда, по-моему, ты сделала все, что в твоих силах.
Намек на то, что ее возможности ограничены и какие-то высоты для нее недостижимы, каждый раз приводил Камилу в неистовство. Она разражалась слезами:
— Сколько бы я дала, чтоб никогда не знать тебя! Ты отравляешь всю мою жизнь. Тебе просто кажется, что я играла плохо. Тебе нравится делать вид, будто я играла плохо. Раз так, молчи.
Дядя Пио продолжал свистеть.
— А я и без тебя знаю, что выступила слабо, и незачем мне это говорить. Вот так. И уходи. Я не хочу тебя видеть. Роль и так трудная, не хватало еще, чтобы здесь меня встречали в таком настроении.
Дядя Пио вдруг наклонялся к ней и спрашивал с сердитой настойчивостью:
— Почему ты так протараторила речь к узнику?
Перикола снова в слезы.
— О боже, дай мне умереть спокойно! Сегодня ты велишь мне говорить быстро, завтра — медленно. Все равно через год или два я сойду с ума, и тогда это будет не важно.
В ответ свист.
— К тому же мне хлопали как никогда. Слышишь? Как никогда! Вот! Быстро, медленно — им все равно. Они плакали. Я была божественна. Вот что мне важно. И ни звука больше. Ни звука.
Дядя Пио не издавал ни звука.
— Можешь расчесать мне волосы — но если ты хоть слово скажешь, я брошу сцену. И можешь искать себе другую девочку. Вот и все.
Вслед за тем минут десять дядя Пио тихо расчесывал ей волосы, притворяясь, будто не замечает рыданий, сотрясающих ее измученное тело. Вдруг она поворачивалась и, поймав его руку, принималась неистово ее целовать.
— Дядя Пио, неужели я играла так плохо? Тебе было стыдно за меня? Неужели это было так мерзко, что ты ушел из театра?
После долгой паузы дядя Пио рассудительно замечал:
— Сцену на корабле ты провела хорошо.
— Но ведь бывало лучше, дядя Пио. Помнишь тот вечер, когда ты вернулся из Куско?..
— В финале ты тоже была неплоха.
— Правда?
— Но, цветок мой, жемчужина моя, что случилось с речью к узнику?
Тут, захлебываясь от рыданий, Перикола роняла голову на стол, уставленный помадами. Только совершенством можно удовлетвориться, только совершенством. А оно оставалось недостижимым.
И тогда, начав вполголоса, дядя Пио часами разговаривал с ней, разбирая пьесу, углубляясь в мир нюансов голоса, жеста, темпа; и часто до самой зари они сидели там и декламировали друг другу величавые диалоги Кальдерона.
Кому хотели угодить эти двое? Не публике Лимы. Та давно уже была удовлетворена. Мы приходим из мира, где знали иные мерила прекрасного; мы смутно вспоминаем красоты, которыми не овладели снова; и в тот же мир мы возвращаемся. Дядя Пио и Камила Перикола изводили себя, пытаясь установить в Перу нормы какого-то Небесного Театра, куда раньше них ушел Кальдерон. Публика, которой предназначаются шедевры, обитает не на этой земле.
Постепенно беззаветная преданность Камилы своему искусству ослабела. Пробуждавшееся время от времени презрение к ремеслу актера сделало ее нерадивой. Объяснялось это укоренившимся в испанской классической драме равнодушием к женским ролям. В то время как драматурги, собиравшиеся вокруг дворов Англии и Франции (а немного позже и Венеции), обогащали женские роли, постигая остроумие женщин, их обаяние, страсть и истерию, писатели Испании не сводили глаз с героя — дворянина, разрываемого противоречивыми требованиями чести, или грешника, в последний миг припадающего к кресту. Много лет дядя Пио выбивался из сил, придумывая, как заинтересовать Периколу ее ролями. Один раз он принес ей известие, что в Перу приехала внучка Вико де Бареры. Дядя Пио давно уже привил Камиле свое благоговение перед великими поэтами, и она никогда не сомневалась в том, что они немного выше королей и не ниже святых. И вот с огромным волнением они выбрали одну из пьес мастера, чтобы сыграть перед его внучкой. Они репетировали ее сто раз — то с великой радостью открытия, то в унынии. В вечер представления, когда Камила подглядывала из-за складок занавеса, дядя Пио показал ей маленькую немолодую женщину, утомленную бедностью и заботами о большом семействе; но Камиле казалось, что перед ней вся красота и достоинство мира. Дожидаясь реплики, предшествовавшей ее выходу, она в благоговейном молчании льнула к дяде Пио, и ее сердце громко стучало. Между актами она хоронилась от всех в пыльном углу склада и сидела с блуждающим взглядом. После спектакля дядя Пио привел внучку Вико де Бареры в комнату Камилы. Камила стояла у стены между двумя афишами и плакала от счастья и стыда. Потом она упала на колени и стала целовать руки немолодой женщины, а немолодая женщина стала целовать ее руки; и пока зрители расходились по домам и ложились спать, гостья рассказывала Камиле маленькие истории, которые хранились в семье, — о работе Вико и его привычках.
Самыми счастливыми для дяди Пио были дни, когда в труппу принимали новую актрису — ибо появление нового таланта неизменно подстегивало Периколу. Дяде Пио (он стоял в конце зала, согнувшись пополам от веселья и злорадства) казалось, что тело Периколы превратилось в алебастровую лампу, где горит сильный свет. Без всяких трюков и аффектации она пускалась затмевать новое дарование. Если шла комедия, она была воплощенное остроумие, если же (что случалось чаще) драма об оскорбленной аристократке и неутолимой ненависти — сцена буквально дымилась от ее страсти. Она наэлектризовывалась до того, что стоило ей прикоснуться к руке партнера, как по залу пробегала ответная дрожь. Но такое вдохновение посещало ее все реже и реже. По мере того как совершенствовалась ее техника, искренность становилась менее необходимой. Даже когда Камила была рассеянна, публика не замечала разницы, и только дядя Пио горевал.
У Камилы было очень красивое лицо, вернее, оно бывало красивым, когда оживлялось. В минуты покоя вы с удивлением замечали, что нос у нее длинный и тонкий, рот усталый и немного детский, глаза голодные — словом, довольно убогая крестьянская девушка, вытащенная из кафешантана и не сумевшая привести в согласие требования своего искусства со своими аппетитами, своими мечтами и перегруженным распорядком дня. Любая из этих забот могла бы заполнить целую жизнь, а распря между ними быстро довела бы до идиотизма (или ничтожества) натуру менее живучую. Мы видели, что, несмотря на недовольство своими ролями, Перикола хорошо знала радость игры и время от времени грелась у этого пламени. Но пламя любви привлекало ее чаще, хотя счастья сулило не больше, пока сам Юпитер не послал ей подарка.
Дон Андрес де Рибера, вице-король Перу, был огарком замечательного человека, загубленного альковом, столом, вельможеством и десятью годами ссылки. Юношей он сопровождал посольства в Версаль и Рим, дрался в австрийских войнах, посетил Иерусалим. Оставшись вдовцом после смерти необъятной и богатой жены, он был бездетен; он коллекционировал понемногу монеты, вина, актрис, ордена и географические карты. Стол наградил его подагрой; альков — наклонностью к судорогам; вельможество — гордостью, такой огромной и такой ребяческой, что сказанного ему он почти не слышал и нескончаемые свои монологи обращал к потолку; ссылка — океанами скуки, скуки неотвязной, как боль, с ней он просыпался, с ней проводил весь день, а ночью она сидела у его ложа и стерегла его сон. Годы Камилы проходили в тяжелых рабочих буднях театра, сдобренных торопливыми романами, как вдруг этот олимпиец (ибо с его лицом и осанкой впору было играть богов и героев) перенес ее на самые восхитительные полуночные ужины во дворце. Вопреки всем традициям театра и Государства она обожала своего пожилого поклонника; она думала, что счастье ее будет вечным. Дон Андрес научил Камилу очень многому, а для ее ясного жадного ума это было одним из сладчайших ингредиентов любви. Он научил ее немножко болтать по-французски, соблюдать чистоту и опрятность, правильно обращаться к титулованным особам. Дядя Пио показывал ей, как ведут себя важные дамы в важных обстоятельствах; дон Андрес показал ей, как они отдыхают. Дядя Пио и Кальдерон были ее наставниками в прекрасном испанском языке; дон Андрес преподал ей бойкий жаргон El Buen Retire.[36]
Дядю Пио это приглашение во дворец встревожило. Его гораздо больше устроило бы очередное пошлое приключеньице на складе театральных декораций. Однако увидев, что ее искусство приобретает новую отточенность, он был вполне удовлетворен. Он сидел в задних рядах и ерзал от радости и веселья, наблюдая, как Перикола дает почувствовать зрителям, что она частая гостья в том возвышенном мире, о котором пишут драматурги. У нее появилась новая манера поворачивать в пальцах бокал, новая манера прощаться, новая манера входить в дверь — и все это говорило само за себя. А прочее для дяди Пио не имело значения. Что может быть на свете милее прекрасной женщины, отдающей должное испанскому шедевру? Милее игры (спрашивает он вас), насыщенной наблюдениями, где сами паузы между словами показывают отношение к жизни и к тексту, произносимому прекрасным голосом, обрамленному незаурядной женской красотой, безупречной осанкой и неотразимым обаянием. «Мы почти готовы показать Испании это чудо», — мурлыкал он. После спектакля он являлся в ее уборную и говорил: «Очень хорошо!» Но прежде чем уйти, всегда успевал осведомиться, где, во имя одиннадцати тысяч кельнских дев,[37] научилась она так жеманно произносить Excelencia.[38]
Через некоторое время вице-король спросил Периколу, не развлечет ли ее, если он пригласит на их полуночные ужины несколько не слишком болтливых гостей, и спросил, не хочет ли она познакомиться с архиепископом. Камила была в восторге. Архиепископ был в восторге. Накануне их первой встречи он прислал актрисе изумрудный кулон величиной с игральную карту.
В Лиме существовало нечто, завернутое в ярды лилового атласа, из которого высовывалось большое отечное лицо и две толстые перламутровые руки, — и это был архиепископ. Из складок жира выглядывали два черных глаза, выражавших смущение, доброту и ум. В этом сале был заточен любопытный и живой дух; но, бессильный отказаться от гуся или фазана и ежедневной прогрессии вин, он сам себе был злым тюремщиком. Он любил свой собор, он любил свои обязанности, он был очень набожен. Иногда он взирал на свои телеса с горестью; но тяготы раскаяния были легче тягот поста, и в конце концов он приступал к обдумыванию тайных призывов такого-то жаркого к такому-то салату. И дабы наказать себя, вел жизнь, примерную во всех остальных отношениях.
Он прочел всю античную литературу и всю забыл, кроме общего аромата очарования и утраченных иллюзий. Он изучал Отцов и Соборы и все забыл, кроме смутного впечатления от разногласий, не имевших никакого касательства к Перу. Он прочел все скабрезные шедевры Италии и Франции и перечитывал их ежегодно; даже мучаясь камнем (счастливо рассосавшимся благодаря употреблению воды источника Санта-Мария де Клуксамбуква), он не находил лучшего утешения, чем пикантные истории Брантома и божественного Аретино.
Он знал, что почти все священники в Перу — лихоимцы. Требовалось все его утонченное эпикурейское воспитание, чтобы воздержаться от каких-либо мер против них; ему приходилось повторять себе излюбленные мысли: что несправедливость и несчастье в мире — постоянны, что теория прогресса — самообман, что бедные, никогда не знавшие счастья, нечувствительны к бедам. Как все богатые, он не способен был поверить, что бедные (взгляните на их дома, взгляните на их одежду!) могут по-настоящему страдать. Как все образованные, он верил, что лишь культурный человек сознает свое несчастье. Однажды, когда его внимание обратили на беззакония в его епархии, он чуть было не принял меры. Он услышал, что священники Перу взяли за правило требовать две меры муки за приличное отпущение грехов и пять мер — за настоящее, действенное. Он трясся от негодования; он рычал на секретаря и, приказав ему принести письменные принадлежности, объявил, что сейчас продиктует громовое послание своим пастырям. Но в чернильнице не было чернил; не было чернил и в соседней комнате; чернил не нашлось во всем дворце. Такое состояние домашних дел настолько расстроило доброго человека, что от совокупности негодований он слег и впредь старался беречь себя от гнева.
Привлечение архиепископа к ужинам оказалось такой удачей, что дон Андрес начал подумывать о новых именах. Он все больше впадал в зависимость от дяди Пио, но ждал, когда Перикола сама предложит принять его в кружок. А в должное время дядя Пио привел с собой и скитальца морей, капитана Альварадо. Обычно встреча начиналась за несколько часов до того, как приходила со спектакля Перикола. Она появлялась около часу, в драгоценностях, сияющая и очень усталая. Четверо мужчин встречали ее, как королеву. С час она поддерживала разговор, а потом, все больше клонясь к плечу дона Андреса, только следила за беседой, перебрасывавшейся от одного морщинистого насмешливого лица к другому. Они не умолкали всю ночь, втайне теша свои сердца, вечно томившиеся по Испании, и повторяя себе, что такие беседы — в традициях возвышенного испанского духа. Они толковали о призраках и ясновидении, о земле, какой она была до появления человека, о возможности соударения планет и о том, можно ли увидеть душу, когда она, подобно голубю, выпорхнет из тела в миг смерти, они обсуждали, долго ли будет идти по Перу весть о втором пришествии Христа в Иерусалим. До восхода солнца беседовали они о войнах и королях, о поэтах и ученых, о дальних странах. Каждый изливал в разговоре свой запас мудрых и грустных анекдотов, свое сухое сожаление о людском роде. Поток золотого света прорывался из-за Анд и, ударив в огромное окно, падал на груды фруктов, на залитую вином парчовую скатерть и на чистый задумчивый лоб Периколы, которая спала, прислонившись к плечу своего покровителя. Наступало долгое молчание, никто не хотел подниматься первым, взгляд мужчин отдыхал на этой диковинной прекрасной птице, которая жила среди них. А взгляд дяди Пио не отпускал ее всю ночь — взгляд быстрых черных глаз, полный нежности и тревоги, прикованный к великому секрету и смыслу его жизни.
Дядя Пио никогда не переставал наблюдать за Камилой. Обитателей этого мира он разделял на два вида — тех, кто любил, и тех, кто никогда не любил. Последние были какой-то жуткой аристократией, ибо лишенных способности любить (а вернее, страдать от любви) нельзя назвать живыми, и, уж во всяком случае, им не дано снова жить после смерти. Это мертвые души, они оглашают мир своим бессмысленным смехом, плачем и болтовней и исчезают как дым, по-прежнему прельстительные и бесплодные. Свою классификацию он основывал на собственном определении любви, не похожем ни на одно другое и вобравшем всю горечь и гордость его пестрой жизни. Он смотрел на любовь как на жестокую болезнь, которой избранные должны переболеть в поздней юности и затем восстать — бледными и изнуренными, но готовыми к работе жизни. Существует (думал он) огромный перечень ошибок, от которых милостиво избавлены оправившиеся от этой хвори. К сожалению, и на их долю остается тьма недостатков, но по крайней мере (если взять лишь один из множества примеров) они никогда не примут дружеского расположения за устав жизни, никогда не станут смотреть на человека — будь то принц или лакей — как на неодушевленный предмет. Дядя Пио не переставал наблюдать за Камилой — ему казалось, что она так и не приняла этого посвящения. Много месяцев после знакомства Камилы с вице-королем он ждал, затаив дыхание. Он затаил дыхание на годы. Камила родила вице-королю троих детей, но осталась прежней. Он знал, что первым признаком истинного овладения миром будут у нее некоторые новые грани мастерства. Есть в пьесах места, которые она однажды сможет передать просто, легко, с затаенной радостью — потому что на них откликнется новая, глубокая мудрость ее сердца; однако как раз в этих местах ее исполнение становилось все более поверхностным, если не сказать робким. Вскоре он увидел, что дон Андрес ей наскучил; и снова потянулись чередой вороватые романы с актерами, матадорами, купцами.
Театр надоедал ей все больше и больше, и новый паразит поселился в ее сознании. Ей захотелось стать дамой. Ее потянуло на респектабельность, и о своей игре на сцепе она стала говорить, как о развлечении. Она обзавелась дуэньей и несколькими ливрейными лакеями и посещала церковь в те же часы, что и высший свет. Она присутствовала на торжествах в Университете, а в благотворительных делах соревновалась с самыми щедрыми жертвователями. Она даже научилась грамоте. Малейшую тень отношения к себе как к богеме она принимала в штыки. Своей страстью к приличиям и посягательствами на новые и новые привилегии она чудовищно затрудняла жизнь вице-королю. Старый порок сменился новым, и она стала громогласно добродетельной. Она изобрела каких-то предков и сфабриковала каких-то родственников. Она добилась неофициального узаконения своих детей. В обществе она выступала хрупкой, томной Магдалиной, как пристало бы знатной даме, и в покаянных шествиях несла свечу рядом с дамами, у которых на совести была разве что вспышка гнева да украдкой раскрытый Декарт. Да, ее грехом была игра на сцене, но ведь всем известно, что есть даже святые из актеров — святой Геласий и святой Генесий, святая Маргарита Антиохийская и святая Пелагия.
Недалеко от Санта-Марии де Клуксамбуква располагался великосветский курорт с минеральными водами. Дон Андрес поездил по Франции и решил построить свое собственное маленькое Виши; там была пагода, несколько гостиных, театр, маленькая арена для боя быков и французский сад. Здоровье у Камилы было отменное, но она построила там виллу и в одиннадцать часов прихлебывала ненавистную воду. Маркиза де Монтемайор оставила нам блистательную картину этого опереточного рая с верховным божеством, выставляющим напоказ свое болезненное самолюбие во время прогулок по аллеям сада и принимающим знаки почтения от тех, кому накладно задевать вице-короля. Донья Мария рисует портрет правителя, величественного и утомленного, проигрывающего за ночь суммы, на которые можно возвести новый Эскуриал.[39] И рядом дает портрет его сына, Камилиного малыша, дона Хаиме. У семилетнего дона Хаиме было рахитичное тельце, и он унаследовал, по-видимому, не только материнские глаза и лоб, но и отцовскую подверженность судорогам. Он переносил свое страдание с немым недоумением животного и, как животное, испытывал смертельный стыд, когда признаки болезни проявлялись при людях. Он был так красив, что тривиальные выражения жалости смолкали в его присутствии, а долгие размышления о своих трудностях придавали его лицу поразительное терпеливое достоинство. Мать одевала его в гранатовый бархат, и он, когда мог, следовал за ней в нескольких шагах, степенно сторонясь дам, которые пытались вовлечь его в разговор. Камила никогда не сердилась на дона Хаиме и никогда не давала воли нежным чувствам. В ясный день можно было видеть, как они молча прогуливаются по насыпным террасам — Камила гадала, когда же наступит блаженство, которое она связывала с положением в обществе, а дон Хаиме просто радовался солнцу и с тревогой прикидывал путь набегающего облака. Казалось, эти две фигуры забрели сюда из дальней страны или из старой баллады — и не научились еще чужому языку, еще не приобрели друзей.
Камиле было около тридцати, когда она оставила сцену, и пять лет ушло на то, чтобы добиться положения в свете. Она тучнела, но голова ее с каждым годом как будто становилась прекраснее. У нее появилась страсть к пышным нарядам, и полы гостиных отражали форменную башню из драгоценностей, шарфов и перьев. Лицо ее было покрыто голубоватой пудрой, на которой она малевала капризный алый или оранжевый рот. Почти болезненная необузданность ее нрава дополнялась нарочито приторными манерами в обществе высокопоставленных старух. Еще в начале светской карьеры она намекнула дяде Пио, что он не должен появляться с ней на людях; теперь ее раздражали даже его незаметные визиты. Разговаривала она с ним сухо и уклончиво. Она избегала его взгляда и искала поводов для ссоры. Все же он отваживался раз в месяц испытывать ее терпение, а когда встреча не могла состояться, подымался наверх и проводил время с ее детьми.
Однажды он появился на ее вилле в холмах и через служанку попросил о свидании. Ему было сказано, что Камила встретится с ним во французском саду перед закатом. Он приехал из Лимы, повинуясь сентиментальному побуждению. Как все одинокие люди, он окружал дружбу божественным ореолом: ему представлялось, что люди, которые смеются, стоя друг с другом на улице, и обнимаются, прощаясь, люди, которые вместе обедают, расточая улыбки, — вы едва ли мне поверите, — но ему представлялось, будто от этой близости они испытывают огромное удовлетворение. Вот и ему захотелось снова увидеть Периколу, услышать от нее «дядя Пио», воскресить на миг тепло и веселье их долгого бродяжничества.
Французский сад был на южной окраине города, за ним возвышались Анды, а с парапета открывался вид на глубокую долину и холмы, волна за волной убегавшие к Тихому океану. Был час, когда летучие мыши реют низко, а зверьки бесстрашно возятся под ногами. Одинокие прохожие бродили по саду, мечтательно созерцая меркнущее небо, или, прислонившись к балюстраде, смотрели в долину, гадая, в какой деревне залаяла собака. Был час, когда отец возвращается с поля и задерживается во дворе поиграть с собакой; она прыгает на него, а он зажимает ей пасть или бросает ее на спину. Девушки высматривают первую звезду, чтобы загадать желание, а мальчишки ждут не дождутся ужина. Даже самая занятая мать на миг замирает, опустив руки, и с улыбкой глядит на свое неугомонное семейство.
Дядя Пио стоял у выщербленной мраморной скамейки и смотрел на приближающуюся Камилу.
— Я опоздала, — сказала она. — Извини. Что тебе от меня нужно?
— Камила… — начал он.
— Меня зовут донья Микаэла.
— Не хочу обидеть тебя, донья Микаэла, но после того, как двадцать лет мне разрешалось звать тебя Камилой, я полагал…
— Ах, зови как хочешь. Зови как хочешь.
— Камила, обещай меня выслушать. Обещай, что не убежишь после первой же фразы.
Она перебила его с неожиданной горячностью:
— Дядя Пио, послушай ты меня. Ты с ума сошел, если надеешься вернуть меня в театр. Я вспоминаю о нем с ужасом. Пойми это. Театр! Подумать только, театр! Подлое место, и каждый день в награду — оскорбления. Пойми, ты напрасно тратишь время.
Он мягко возразил:
— Я не стану звать тебя, если ты счастлива с этими новыми друзьями.
— Ах, тебе не нравятся мои новые друзья? — быстро ответила она. — Кого ты предложишь мне взамен?
— Камила, я помню только…
— Я не выношу нравоучений. В советах не нуждаюсь. Сейчас похолодает, мне надо идти домой. Не заботься обо мне. Забудь про меня, и все.
— Не сердись, дорогая Камила. Позволь поговорить с тобой. Ну потерпи меня еще десять минут.
Он не понимал, почему она плачет. Он не знал, что сказать. Он начал наобум.
— Ты не заходишь даже посмотреть спектакль, и все это замечают. Публика тоже охладевает к театру. Старую Комедию[40] играют всего два раза в неделю; все остальные вечера — эти новые фарсы в прозе. Все скучно, наивно и непристойно. Они уже разучились говорить по-испански. Правильно ходить — и то разучились. В праздник Тела Господня[41] давали «Валтасаров пир»,[42] где ты была чудесна. Теперь это было позорище.
Наступило молчание. Прекрасная вереница облаков, словно овечье стадо, тянулась с моря и скользила в долинах между холмами. Вдруг Камила дотронулась до его колена, и лицо у нее было такое, как двадцать лет назад.
— Прости, что я была груба с тобой, дядя Пио. Хаиме сегодня нездоров. И ничего нельзя сделать. Он лежит, такой бледный и такой… удивленный. Лучше об этом не думать. Дядя Пио, от того, что я вернусь на сцену, ничего не изменится. Зрители идут на фарсы в прозе. Мы были глупцами, когда пытались спасти Старую Комедию. Пусть люди читают старые пьесы в книгах, если им хочется. Бессмысленно бороться с толпой.
— Чудесная Камила, я был несправедлив к тебе, когда ты играла на сцене. Во мне говорила какая-то глупая гордость. Я скупился на похвалы, а ты их заслуживала. Прости меня. Ты всегда была настоящей великой актрисой. Если ты поймешь, что не очень счастлива среди этих людей, может быть, тебе захочется в Мадрид. Тебя там ждет триумфальный прием. Ты все еще молода и красива. Еще будет время зваться доньей Микаэлой. Скоро мы состаримся. Скоро мы умрем.
— Нет, не увижу я Испании. Всюду в мире одинаково — в Мадриде, в Лиме…
— О, если бы мы могли уехать куда-нибудь на остров, где люди водились бы с тобой ради тебя самой. И любили бы тебя.
— Тебе пятьдесят лет, дядя Пио, а ты все мечтаешь о таких островах.
Он опустил голову и пробормотал:
— Конечно, я люблю тебя, Камила… Я всегда буду любить… так сильно, что не передать словами. То, что я встретил тебя, оправдывает всю мою жизнь. Теперь ты знатная дама. Ты богата. Я уже ничем не могу тебе послужить… Но я всегда готов.
— Какой ты нелепый, — сказала она улыбаясь. — Ты говоришь сейчас, как мальчик. Годы, кажется, ничему тебя не научили, дядя Пио. Ни любви такой нет на свете, ни островов. Они бывают только в театре.
Он был пристыжен, но не переубежден.
Наконец она поднялась и грустно сказала:
— О чем мы разговариваем? Холодает. Мне надо домой. Примирись с тем, что есть. Не лежит у меня сердце к театру. — Наступило молчание. — А к остальному?.. Ох, я сама не понимаю. Не от нас это зависит. Чем мне суждено стать, тем я и буду. И ты не пытайся понять. Не думай обо мне, дядя Пио. Прости меня, и все. Постарайся простить.
С минуту она стояла неподвижно, отыскивая для него слова, которые шли бы из глубины сердца. Первое облако достигло террасы; стемнело; гуляющие покидали сад. Она думала о доне Хаиме, о доне Андресе и о нем. Она не могла найти слов. Вдруг она нагнулась, поцеловала его пальцы и быстро ушла прочь. А он еще долго сидел в сгущавшихся облаках, дрожа от счастья и пытаясь проникнуть в смысл всего этого.
Внезапно по Лиме разнеслась новость. Донья Микаэла Вильегас, дама, которая была Камилой Периколой, больна оспой. Оспой заболело еще несколько сот человек, но всеобщее внимание и злорадство сосредоточилось на актрисе. Безумная надежда всколыхнула город — что красота, позволившая ей пренебречь классом, из которого она вышла, будет испорчена. Из дома больной просочилось известие, что Камила стала до смешного невзрачной, и завистники ликовали. Едва оправившись, она приказала перевезти себя из города на виллу в холмах; она распорядилась продать свой изящный маленький дворец, вернула драгоценности дарителям и продала свои красивые платья. Вице-король, архиепископ и несколько придворных — ее искренние почитатели — все еще бомбардировали ее дом записками и подарками; письма она не читала, а подарки возвращала без объяснения. С начала болезни видеть ее не дозволялось никому, кроме сиделки и служанок. В ответ на свои настойчивые попытки дон Андрес получил от нее крупную сумму денег и письмо, содержащее все возможные оттенки гордости и ожесточения.
Как все красивые женщины, привыкшие постоянно принимать дань своей красоте, она полагала без всякого цинизма, что на красоте и держится расположение к ней любого человека; теперь же всякое внимание к ней будет порождено снисходительной жалостью и окрашено удовольствием от столь полной метаморфозы. Мысль, что, лишившись красоты, ей не следует искать ничьей симпатии, проистекала из того, что она не представляла себе иной любви, кроме любви-страсти. А такая любовь, хотя она расходует себя в великодушии и заботе, рождает мечты и высочайшую поэзию, остается одним из самых ярких проявлений своекорыстия. Пока она не пройдет через долгое рабство, через ненависть к себе самой, через осмеяние, через великие сомнения, она но сможет занять место среди бескорыстных чувств. Многие, прожившие в ней всю жизнь, способны рассказать нам меньше, чем мальчик, потерявший вчера собаку. Друзья не прекращали попыток вернуть ее в общество, а она ожесточалась все больше и больше и слала городу оскорбительные письма. Одно время поговаривали, что она нашла прибежище в религии. Но новые слухи, что в поместье царят ярость и отчаяние, противоречили прежним. Тем, кто жил рядом с ней, невыносимо было видеть ее отчаяние. Она была убеждена, что жизнь ее кончена — и ее, и детей. В своей истерической гордыне она вернула больше, чем получила, и призрак нищеты еще больше омрачал ее печальное и пустынное будущее. Ей оставалось влачить свои дни в ревнивом одиночестве, в маленьком поместье, приходящем в упадок. Она часами размышляла о радости своих врагов, и слышно было, как она шагает по комнате, время от времени странно вскрикивая.
Дядя Пио не позволял себе отчаиваться. Принимая участие в детях, помогая управлять имением, ненавязчиво ссужая ее деньгами, он добился доступа в дом и даже к спрятавшейся под вуалью хозяйке. Но и теперь Камила, убежденная, по своей гордости, что он ее жалеет, осыпала его насмешками, жалила обидными словами, срывая на нем зло. А он еще больше любил ее, понимая лучше, чем она сама, все стадии выздоровления ее униженного духа. Но произошел случай, который лишил дядю Пио доли в ее успехах. Он распахнул дверь.
Она думала, что заперла ее. На один лишь час проснулась в ней надежда — нельзя ли сделать пасту из мела и крема и наложить на лицо. Она, так часто насмехавшаяся над напудренными придворными бабушками, вдруг спросила себя, неужели театр не научил ее ничему такому, что пригодилось бы ей сейчас. Она думала, что заперла дверь, и с бьющимся сердцем торопливо намазала лицо; когда она глянула в зеркало на несуразную белую маску и убедилась в тщетности своей попытки, она увидела отражение дяди Пио, изумленно застывшего в дверях. Она с криком вскочила с кресла и закрыла лицо руками.
— Уходи. Уходи из моего дома навсегда, — закричала она. — И никогда больше не показывайся.
От стыда она гнала его с ненавистью и проклятьями, она бежала за ним по коридору и швыряла в него с лестницы вещи. Она приказала своему арендатору не пускать дядю Пио на ее землю. А он еще целую неделю пытался увидать ее. Наконец он возвратился в Лиму; он убивал время, как умел, но томился без нее, словно восемнадцатилетний мальчик. Наконец он придумал военную хитрость и вернулся в холмы, чтобы осуществить ее.
Однажды перед рассветом он лег на землю под ее окном. Он стал изображать в темноте плач — насколько умел, — плач молоденькой девушки. Этим он занимался не меньше четверти часа. Его голос ни разу не превысил той громкости, какую итальянские музыканты обозначили бы словом piano, зато он часто делал перерывы, рассчитывая, что, если она спит, звук длительный вкрадется в ее сознание так же верно, как звук сильный. Воздух был прохладен и свеж. Первая бледная полоса сапфира обозначилась за вершинами, а на востоке утренняя звезда с каждой минутой мерцала все нежнее и рассеянней. Глубокая тишина объяла все строения, только трава вздыхала изредка от набегавшего ветерка. Вдруг в ее комнате зажглась лампа, а через мгновение откинулась ставня и лицо в вуали далеко высунулось из окна.
— Кто здесь? — разнесся прекрасный голос.
Дядя Пио молчал.
Тоном, резким от нетерпения, Камила спросила еще раз:
— Кто здесь? Кто здесь плачет?
— Донья Микаэла, госпожа моя, умоляю, сойдите ко мне.
— Кто ты и чего тебе надо?
— Я бедная девушка. Я Эстрелла. Умоляю вас, сойдите и помогите мне. Не зовите вашу служанку. Я умоляю вас, донья Микаэла, сойдите сами.
Камила помолчала секунду, потом отрывисто сказала «хорошо» и закрыла ставню. Вскоре она появилась из-за угла дома. На ней был плотный плащ, который волочился по росе. Она стала поодаль и сказала:
— Подойди сюда, где я стою. Кто ты?
Дядя Пио повиновался.
— Камила, это я — дядя Пио. Прости меня, но я должен поговорить с тобой.
— Пречистая дева, когда же я избавлюсь от этого страшного человека? Пойми: я никого не хочу видеть. Я ни с кем на свете не хочу говорить. Моя жизнь кончена. Все кончено.
— Камила, ради многих лет, которые мы прожили вместе, я молю тебя об одной милости. Я уйду и никогда больше не потревожу тебя.
— Никаких, никаких милостей. Поди прочь.
— Обещаю, что никогда больше не потревожу тебя, если ты выслушаешь меня в последний раз.
Она быстро двинулась к задней двери, и ему пришлось бежать за ней, чтобы она наверняка его услышала. Она остановилась.
— Ну, чего тебе надо? Скорее. Холодно. Мне нездоровится. Я хочу вернуться к себе.
— Камила, позволь мне взять на год дона Хаиме, чтобы он жил со мной в Лиме. Позволь мне быть его учителем. Дай научить его кастильскому. Здесь он среди слуг, заброшен. Он ничему не учится.
— Нет.
— Камила, что из него выйдет? У него светлая голова, и он хочет учиться.
— Он болен. Он слабый. Твой дом — хлев. Он может жить только на воздухе.
— Но за последние месяцы он очень окреп. Обещаю тебе, я вычищу дом. Я попрошу мать Марию дель Пилар дать мне экономку. У тебя он целыми днями на конюшне. Я научу его всему, что должен знать дворянин, — фехтованию, латыни, музыке. Мы прочтем вслух…
— Нельзя отнимать ребенка у матери. Это невозможно. Ты не в своем уме — что ты придумал? Забудь обо мне и обо всем, что вокруг меня. Меня больше нет. Я и мои дети будем жить, как можем. Больше меня не тревожь. Я не хочу видеть людей.
И тут дядя Пио почувствовал необходимость прибегнуть к суровой мере.
— Тогда заплати мне все, что должна мне.
Камила застыла в растерянности. Себе она сказала: «Жизнь ужасна, ее нельзя вынести. Когда я смогу умереть?» Через мгновение она ответила ему хриплым голосом:
— У меня совсем мало денег. Я заплачу, сколько могу. Заплачу сейчас же. У меня еще есть несколько драгоценностей. И нам уже не надо будет встречаться. — Она устыдилась своей бедности. Она отошла на несколько шагов, потом обернулась и сказала: — Теперь я вижу, что ты безжалостный человек. Но это правильно — я заплачу тебе все, что должна тебе.
— Нет, Камила, я сказал так, только чтобы принудить тебя к согласию. Я не возьму у тебя денег. Но отпусти со мной дона Хаиме, на один год. Я буду любить его и окружу его заботой. Тебе я принес какой-нибудь вред? Я был тебе плохим учителем?
— Это жестоко — все время требовать благодарности, благодарности, благодарности. Я была благодарна — была! Но теперь я не та женщина, и мне не за что быть благодарной.
Наступило молчание. Ее глаза были устремлены на звезду, которая, казалось, вела за собой весь небесный хоровод. Великая тяжесть давила ей на сердце — тяжесть мира, лишенного смысла. Наконец она сказала:
— Если Хаиме захочет с тобой уйти, хорошо. Утром я поговорю с ним. Если он захочет с тобой уйти, ты найдешь его в харчевне около полудня. Покойной ночи. С богом.
— С богом.
Она вошла в дом. На другой день в харчевне появился серьезный маленький мальчик. Его красивый костюм теперь был порван и запачкан, и он нес узелок со сменой одежды. Мать дала ему золотую монету на расходы и камешек, светящийся в темноте, чтобы смотреть на него в бессонные ночи. Они тронулись в путь на повозке, но скоро дядя Пио заметил, что от тряски мальчику стало худо. Он понес его на плече. Когда они подходили к мосту короля Людовика Святого, Хаиме пытался скрыть свой стыд — он чувствовал, что приближается одна из тех минут, которые отделяют его от людей. Особенно стыдно было ему потому, что минуту назад дядя Пио нагнал своего друга, морского капитана. А уже у самого моста он заговорил с пожилой дамой, которую сопровождала девочка. Дядя Пио сказал, что, когда они перейдут через мост, они сядут и отдохнут, но это оказалось без надобности.
V Возможно — промысел
На месте старого моста построили новый из камня, но несчастье не было забыто. Оно вошло в поговорку. «Может быть, увидимся в среду, — говорит житель Лимы, — если мост не обвалится». «Мой двоюродный брат живет у моста Людовика Святого», — говорит другой, и на лицах вокруг улыбки, ибо это означает еще: под дамокловым мечом. Есть и стихи о катастрофе — классические, их можно найти в любой перуанской антологии, но подлинным литературным памятником остается только книга брата Юнипера.
На сто ладов можно толковать одно и то же событие. Брат Юнипер никогда бы не пришел к своему методу, если бы не дружба его с одним магистром из Университета Св. Мартина. Жена этого ученого в одно прекрасное утро сбежала с солдатом в Испанию и оставила на его попечение двух дочерей в люльке. Душа его полна была той горечи, которой недоставало брату Юниперу, и он испытывал даже радость от сознания, что все в мире неправильно. Он нашептывал францисканцу мысли и анекдоты, разоблачавшие представления о руководимом мире. Бывало, в глазах монаха на миг появлялось выражение горя, чуть ли не безнадежности, но затем он начинал терпеливо объяснять, почему подобные истории не содержат никаких затруднений для верующего. «Жила когда-то королева Неаполя и Сицилии, — рассказывал ученый, — и вдруг обнаружила у себя на боку воспаленную опухоль. В великом испуге она приказала своим подданным приступить к молитвам и повелела, чтобы всю одежду в Неаполе и Сицилии расшили крестами. Народ любил ее, и все молитвы и вышивания были искренними, но безрезультатными. Теперь она покоится среди великолепия Монреале,[43] и в нескольких дюймах над ее сердцем можно прочесть слова: «Не убоюсь зла»».
Наслушавшись таких насмешек над религией, брат Юнипер и пришел к убеждению, что пробил час на земле доказать — с цифрами в руках доказать — ту веру, которая так ярко и волнующе жила в нем. Когда повальная болезнь напала на милую его сердцу деревню Пуэрто и унесла множество крестьян, он тайком составил таблицу характеристик пятнадцати жертв и пятнадцати выживших — статистику их ценности sub specie aeternitatis.[44] Каждая душа оценивалась по десятибалльной шкале в отношении своей доброты, своего религиозного рвения и своего значения для семейной ячейки. Вот отрывок этой дерзновенной таблицы:
……….(Доброта…….Благочестие…….Полезность) Альфонсо Г (4…….4…….10) Нина (2…….5…….10) Мануэль Б (10…….10…….0) Альфонсо В (-8…….-10…….10) Вера Н (0…….10…….10)Задача оказалась труднее, чем он предполагал. Почти каждая душа в стесненной пограничной общине оказалась экономически незаменимой, и третий столбец практически ничего не давал. Исследователь был вынужден прибегнуть к отрицательным числам, столкнувшись с характером Альфонсо В., который не был, как Вера Н., просто плохим — он пропагандировал плохое и не только избегал церкви, но и других научал ее избегать. Вера Н. действительно была плохой, но она была примерной прихожанкой и опорой переполненной хижины. Из этих неутешительных данных брат Юнипер вывел показатель для каждого крестьянина. Он подсчитал сумму для жертв, сравнил с суммой для выживших… и нашел, что покойные в пять раз больше заслуживали спасения. Все выглядело так, как будто мор был направлен именно против самых ценных людей в деревне Пуэрто. В этот день брат Юнипер бродил по берегу Тихого океана. Он порвал свои выкладки и бросил в волны; он час смотрел на громадные жемчужные облака, вечно висевшие над этим морем, и зрелище красоты родило в нем смирение, которого он не отдал на испытание разуму. Вера расходится с фактами больше, чем принято думать.
У магистра из св. Мартина была еще одна история (на этот раз не такая крамольная), которая, возможно, и натолкнула брата Юнипера на идею исследовать катастрофу на мосту Людовика Святого. Этот магистр, гуляя однажды по собору Лимы, остановился прочесть эпитафию какой-то даме. Все больше выпячивая нижнюю губу, он читал, что двадцать лет она была душою и радостью своего дома, что она вызывала восхищение своих друзей, что всякий, кто встречался с ней, уходил изумленный ее добротой и прелестью и что она лежит здесь, ожидая возвращения своего Господа. А в этот день у магистра и так уже накопилось достаточно причин для досады, и, подняв глаза от надписи, он с яростью воскликнул: «Какой стыд! Какое наваждение! Каждый знает, что мы только тем и занимаемся на земле, что потакаем своим прихотям. Зачем увековечивать этот миф о самоотречении? Зачем питать его, этот слух о бескорыстии?»
И, сказав так, он решил разоблачить происки камнерезов. Дама умерла всего двенадцать лет назад. Он нашел ее слуг, ее детей, ее друзей. И куда бы он ни явился — повсюду, как запах духов, память о ее милых чертах пережила ее, и где бы ни заговорили о ней — всюду он видел сокрушенную улыбку и слышал сетования, что словами не описать ее сердечности. Даже пылкая юность ее внуков, никогда не видевших ее, смущалась, услышав, что бывает на свете такая доброта. И магистр стоял в изумлении; не сразу смог он пробормотать: «И все же то, что я сказал, — правда. Эта женщина была исключением, может быть. Но исключением».
Составляя свою книгу о погибших, брат Юнипер, казалось, был одержим страхом, что, опустив мельчайшую подробность, он потеряет какую-нибудь путеводную нить. Чем дольше он работал, тем острее чувствовал, что плутает среди многозначительных неясных примет. Подробности вечно морочили его — казалось, они наполнятся смыслом, стоит только их правильно расположить. И францисканец записывал все, надеясь, по-видимому, что, если он (или более светлая голова) перечтет книгу двадцать раз, бесчисленные факты вдруг придут в движение, встанут на места и выдадут свою тайну. Кухарка маркизы де Монтемайор рассказала ему, что ее госпожа питалась почти исключительно рисом, рыбой и небольшим количеством фруктов, и брат Юнипер записал ее слова в надежде, что когда-нибудь это прольет свет на ее душевные качества. Дон Рубио поведал, что она без приглашения являлась на его приемы, чтобы воровать ложки. Повитуха с окраины сообщила, что донья Мария приходила к ней с безобразными вопросами и пришлось прогнать ее от дверей, как попрошайку. Городской книготорговец заявил, что она была в числе трех самых образованных жителей Лимы. Жена ее арендатора сказала, что она была рассеянной особой, но воплощением доброты. Искусство биографии сложнее, чем полагают обычно.
Брат Юнипер обнаружил, что меньше всего удается узнать у тех, кто всего теснее был связан с предметами его исследования. Мать Мария дель Пилар долго беседовала с ним о Пепите, но не сказала о том, какие возлагала на нее надежды. К Периколе трудно было подступиться, но потом она даже полюбила францисканца. В ее изображении дядя Пио решительно отличался от той неприглядной фигуры, которая вырисовывалась из массы остальных свидетельств. О сыне она упоминала редко и каждый раз — преодолевая боль. Их беседа оборвалась внезапно. Капитан Альварадо рассказал, как мог, об Эстебане и дяде Пио. В этой жизни кто больше знает, меньше доверяется словам.
Я избавлю вас от обобщений брата Юнипера. Они и так нам знакомы. Он увидел, казалось ему, в одной катастрофе злых — наказанными гибелью, и добрых — рано призванными на небо. Он увидел, казалось ему, гордыню и богатство поверженными в качестве наглядного урока свету и увидел, казалось ему, смирение увенчанным и вознагражденным в назидание городу. Но брат Юнипер не был удовлетворен своими объяснениями. Ведь вполне возможно, что маркиза де Монтемайор не была чудовищем скупости, а дядя Пио — распущенности.
Законченная книга попалась на глаза судьям и внезапно была объявлена еретической. Ее приказали сжечь на площади вместе с автором. Брат Юнипер покорился решению, что дьявол воспользовался им, чтобы провести блистательную кампанию в Перу. Последнюю ночь он сидел в темнице и пытался отыскать в своей жизни ту закономерность, которая ускользнула от него в пяти других жизнях. Он не чувствовал возмущения. Он рад был отдать жизнь за чистоту церкви; но он жаждал услышать хоть один голос, который засвидетельствовал бы, что он по крайней мере стремился укрепить веру; он думал, что ни один человек на свете не верит ему. Однако на другое утро, при солнечном свете, в толпе было много людей, веривших ему, потому что его очень любили.
Была там маленькая делегация из деревни Пуэрто, и Нина (Доброта 2, Благочестие 5, Полезность 10) и другие стояли с вытянутыми озадаченными лицами, глядя, как их маленького монаха предают огню единомыслия. И даже тогда, даже тогда упрямый голос в его душе твердил, что святой Франциск не осудит его бесповоротно, и (не смея воззвать к Высшему, ибо, как видно, слишком легко ошибался в таких вопросах) он дважды воззвал к св. Франциску и, вверив себя пламени, улыбнулся и умер.
День заупокойной службы был ясным и теплым. В благоговейном страхе, широко раскрыв черные глаза, жители Лимы стекались по улицам в свой собор и стояли, глядя на возвышение из черного бархата и серебра. Архиепископ, втиснутый в великолепное, почти деревянное облачение, потел на своем престоле, время от времени прислушиваясь ухом знатока к красотам Витториева контрапункта. Хор заново выучил страницы, которые сочинил, прощаясь с музыкой, Томас Луне для своей покровительницы и друга, императрицы Австрийской, и вся эта печаль и сладость, весь этот испанский реализм, просачивающийся сквозь итальянскую манеру, росли и затихали над морем мантилий. Дон Андрес, больной и огорченный, стоял на коленях под своим штандартом и балдахином, украшенным перьями. Он знал, что народ исподтишка наблюдает за ним, ожидая увидеть его в роли отца, потерявшего единственного сына. Он думал, здесь ли Перикола. Ему никогда еще не приходилось так долго отказывать себе в табаке. С солнечной площади вошел на минуту капитан Альварадо. Он окинул взглядом море черных волос и кружев, шеренги свеч и жгуты благовонного дыма. «Сколько фальши, сколько ненастоящего», — сказал он и двинулся к выходу. Он спустился к морю и сел на борт своей лодки, глядя вниз, в чистую воду. «Счастливы утонувшие, Эстебан», — промолвил он.
За ширмой, среди своих девочек, сидела настоятельница. Прошлой ночью она вырвала идола из своего сердца и вышла из этого испытания бледной, но твердой. Она примирилась с тем фактом, что не имеет никакого значения, двигается ее работа или нет, — достаточно просто работать. Она — сиделка, ухаживающая за больными, которым не выздороветь; она — священник, без устали творящий службу у алтаря, к которому никто не приходит. Не будет Пепиты, чтобы расширить ее дело; снова зачахнет оно в лености и равнодушии ее преемниц. Но, видно, Небу довольно того, чтобы бескорыстная любовь расцвела ненадолго в Перу и увяла. Она подперла рукою лоб, слушая, как плавно и нежно взмывают переливы сопрано в Кирие. «В моей любви недоставало этих красок, Пепита. И всей моей жизни не хватало этих тонов. Я была чересчур занятой», — сокрушенно добавила она, и ее мысли заслонила молитва.
Камила отправилась в церковь из поместья. В душе у нее было изумление и ужас. Вот еще один знак Небес: уже в третий раз окликают ее. Оспа, болезнь Хаиме, и теперь — разрушение моста; нет, это не случайности. Ей было так стыдно, как будто на лбу у нее проступило клеймо. Из дворца пришел приказ: вице-король отсылает двух ее дочерей в монастырскую школу в Испании. Это было справедливо. Она осталась одна. Она рассеянно собрала кое-какие пожитки и отправилась в город на похороны. Но она задумалась о том, как будет глазеть народ на ее дядю Пио и на ее сына; она подумала о грандиозном церковном ритуале как о пропасти, куда низвергается любимый, и о буре dies irae,[45] где личность теряется среди миллионов мертвых и, лишаясь черт, тускнеет в памяти. Проделав чуть больше половины пути, у глинобитной церкви короля Людовика Святого она остановилась, скользнула внутрь и опустилась на колени отдохнуть. Она ворошила свою память, искала лица своих близких. Она ждала, что проснется какое-то чувство. «Я ничего не чувствую, — прошептала она. — У меня нет сердца. Я несчастная, бессмысленная женщина. Я от всех отгорожена. У меня нет сердца. Я больше не хочу ни о чем думать, позволь мне просто отдохнуть здесь». Но стоило ей замолчать, как страшная, невыразимая боль снова затопила ее, — боль, которая не смогла заговорить тогда перед дядей Пио и сказать о ее любви к нему и хотя бы раз найти слова ободрения для страдальца Хаиме. Она вспрянула. «Я всех предаю, — крикнула она. — Они любят меня, а я предаю их». Она возвратилась домой и год прожила в отчаянии от себя. Однажды она случайно услышала, что у настоятельницы в той же катастрофе погибли двое любимых людей. Шитье вывалилось у нее из рук; тогда она должна знать, она объяснит. «Да захочет ли она говорить со мной? Она не поверит даже, что такое существо, как я, может любить и может терять». Камила задумала пойти в Лиму и посмотреть на настоятельницу издали. «Если ее лицо мне скажет, что она не будет презирать меня, я с ней заговорю», — решила она.
Камила подстерегала ее у монастырской церкви и смиренно влюбилась в простое старое лицо, хотя оно ее немного пугало. Наконец она окликнула настоятельницу.
— Мать, — сказала она, — я… я…
— Я тебя знаю, дочь моя?
— Я была артисткой, я была Периколой.
— Ах, да. Я давно хотела с вами познакомиться, но мне сказали, что вы не показываетесь людям. Я знаю, у вас тоже погибли на мосту Святого…
Камила покачнулась. Вот! Снова эта боль, руки мертвых, до которых она не может дотянуться. Ее губы побелели. Голова ее коснулась колена настоятельницы.
— Мать, что мне делать? Я совсем одна. У меня ничего не осталось. Я люблю их. Что мне делать?
Настоятельница внимательно смотрела на нее.
— Дочь моя, здесь чересчур жарко. Пойдемте в сад. Там вы отдохнете. — Она сделала знак молодой монахине принести воды. И продолжала машинально говорить Камиле: — Я давно хотела с вами познакомиться, сеньора. Еще до несчастья я очень хотела познакомиться с вами. Мне говорили, что в autos sacramentales[46] вы показали себя великой и прекрасной артисткой — в «Валтасаровом пире».
— Ах, мать, не говорите этого. Я грешница. Вы не должны так говорить.
— Вот, выпейте, дитя мое. У нас красивый сад, вам не кажется? Вы будете часто приходить к нам и когда-нибудь познакомитесь с сестрой Хуаной, нашей главной садовницей. До того как посвятить себя церкви, она почти не видела садов, потому что работала в копях, высоко в горах. А теперь все растет под ее руками. Год прошел, сеньора, с нашего несчастья. Я потеряла двоих детей, которые выросли в моем приюте, но вы ведь потеряли родное дитя?
— Да, мать.
— И близкого друга?
— Да, мать.
— Расскажите мне…
И тогда все море долгого отчаяния Камилы, все одинокое упрямое отчаяние, копившееся с детства, выплеснулось на пыльные дружеские колени среди роз и фонтаном сестры Хуаны.
Но какая книга вместит все события, которые выглядели бы по-другому, если бы не обрушился мост? Из множества их я выбираю еще одно.
— Вас хочет видеть графиня д'Абуире, — произнесла в дверях канцелярии послушница.
— Да? — сказала настоятельница, отложив перо. — Кто она?
— Она только что прибыла из Испании. Я не знаю.
— Ах, это деньги, Инесса, деньги для нашего дома слепых. Скорее проси ее сюда.
В комнату вошла высокая и несколько томная красавица. Донья Клара, обычно такая уверенная, на этот раз держалась скованно.
— Вы заняты, дорогая мать? Могу я поговорить с вами?
— Я совершенно свободна, дочь моя. Вы извините беспамятную старуху — мы с вами были знакомы?
— Моя мать — маркиза де Монтемайор…
Донья Клара подозревала, что настоятельница вряд ли была в восторге от ее матери, и, не дав ей заговорить, произнесла длинную и горячую речь в защиту доньи Марии. Упрекая себя, она забыла всякую томность. Потом и настоятельница рассказала ей о Пепите и Эстебане и о визите Камилы.
— Все, все мы оказались недостойными. И хочется понести наказание, претерпеть все возможные кары, но знаете, дочь моя, — я едва осмеливаюсь сказать это — в любви даже ошибки наши, кажется, недолговечны.
Графиня показала настоятельнице последнее письмо доньи Марии. Мать Мария не решилась сказать вслух, как поразило ее, что такие слова (а слова эти до сих пор весь мир повторяет про себя с наслаждением) могли родиться в душе у хозяйки Пепиты. «Пойми, — внушала она себе, — пойми наконец, что везде можно встретить благость». И она, как девочка, радовалась этому новому доказательству, что ростки, ради которых она жила, пробиваются повсюду, что мир созрел.
— Вы сделаете мне одолжение, дочь моя? Позволите показать вам мою работу?
Солнце село, но настоятельница с фонарем в руке все водила и водила ее по коридорам. Донья Клара видела старых и молодых, слепых и немощных, но больше всего смотрела она на умную усталую старуху, которая ее вела. Настоятельница вдруг останавливалась в проходе и говорила:
— Я все думаю, ведь можно же помочь глухонемым. Кажется мне, что терпеливый человек мог бы… мог бы изобрести для них язык. Вы знаете, в Перу их сотни и сотни. Вы не помните, может быть, в Испании нашли какое-нибудь средство?.. Что ж, когда-нибудь найдут.
Или чуть позже:
— Вы знаете, все из головы нейдет — ведь можно что-то сделать для безумных? Я стара — вы видите — и не могу отправиться туда, где обсуждают такие вещи, но иногда я наблюдаю за ними, и кажется… А в Испании с ними ласковы? Мне кажется, тут есть какой-то секрет — совсем где-то близко, руку протянуть. Когда-нибудь, когда вернетесь в Испанию и услышите что-либо для нас полезное, вы напишете мне письмо… если найдете время?
Наконец, показав донье Кларе даже кухни, настоятельница сказала:
— А теперь я прошу извинить меня, потому что я должна зайти в комнату очень больных и сказать им несколько слов, над которыми можно подумать, когда не спится. Я не прошу вас идти со мной, потому что вы не привыкли к таким… такому зрелищу и звукам. Да и разговариваю я с ними, как с малыми детьми.
Внезапно она исчезла и появилась через мгновение с одной из своих помощниц — той, которой тоже коснулось несчастье на мосту, — с бывшей актрисой.
— Она скоро уйдет, — сказала настоятельница, — у нее дело в другом конце города; а я, когда поговорю с больными, покину вас, потому что мельник больше не захочет меня ждать, а спор наш затянется надолго.
Донья Клара все же стояла в дверях, пока настоятельница говорила с ними, поставив фонарь на пол у ног. Мать Мария стояла спиной к столбу; больные лежали рядами, глядя в потолок и стараясь дышать тише. Она говорила обо всех тех, кто один во тьме (она думала об одиночестве Эстебана, думала об одиночестве Пепиты), где не к кому обратиться, о тех, для кого мир, наверно, более чем тяжек — бессмыслен. И лежавшие на кроватях чувствовали, что ограждены стеной, которую возвела для них настоятельница; за нею тьма, а внутри тепло и свет, которых они не променяют даже на избавление от мук и от смерти. Но пока она говорила, другие мысли бежали в ее сознании. «Уже теперь, — думала она, — почти никто не помнит Эстебана и Пепиту, кроме меня. Одна Камила помнит своего дядю Пио и своего сына; эта женщина — свою мать. А скоро и мы умрем, и память об этих пятерых сотрется с лица земли; нас тоже будут любить и тоже забудут. Но и того довольно, что любовь была; все эти ручейки любви снова вливаются в любовь, которая их породила. Даже память не обязательна для любви. Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение».
* * *
Повесть-притча «Мост короля Людовика Святого» («The Bridge of San Luis Rey») была опубликована в 1927 г. Получила Пулитцеровскую премию (1928) — наиболее престижный в США литературный трофей.
МАРТОВСКИЕ ИДЫ
Это произведение посвящается двум друзьям. Лауро де Базису — римскому поэту, который погиб, оказывая сопротивление безраздельной власти Муссолини: его самолет, преследуемый самолетами дуче, упал в Тирренское море, и
Эдуарду Шелдону, который, несмотря на свою слепоту и полную неподвижность в течение двадцати лет, дарил множеству людей мудрость, мужество и веселье.
«Das Schaudern ist der Menschheit bestes Tell
Wie auch die Welt ihm das Gefuhl verteure…»
Goethe. Faust[47]
Глосса:
«Когда человек с благоговейным трепетом начинает ощущать, что в мире есть Непознаваемое, в его познающем разуме пробуждаются высшие силы, хотя чувство это часто оборачивается суеверием, духовным рабством и чрезмерной самоуверенностью».
Воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики.
Главная вольность была допущена в переносе события, случившегося в 62 году до Р.Х., — осквернения Таинств Доброй Богини Клодией Пульхрой и ее братом, — на семнадцать лет вперед, то есть на празднование тех же Таинств 11 декабря 45 года.
К 45 году многие из моих персонажей давно уже были мертвы: Клодия убили наемные бандиты на проселочной дороге; Катулл, если верить свидетельству св. Иеронима, умер в возрасте тридцати лет; Катон-младший погиб за несколько месяцев до описываемых событий в Африке, восстав против абсолютной власти Цезаря; тетка Цезаря, вдова великого Мария, скончалась еще до 62 года. Более того, вторую жену Цезаря, Помпею, давно сменила третья жена, Кальпурния.
Кое-какие подробности этого рассказа, которые скорее всего могут показаться вымышленными, исторически верны: Клеопатра приехала в Рим в 46 году, и Цезарь отвел ей свою виллу по другую сторону реки; она жила там вплоть до его гибели, а потом бежала на родину. Возможность того, что Марк Юний Брут был сыном Цезаря, изучалась и была отвергнута почти всеми историками, вникавшими в личную жизнь Цезаря. То, что Цезарь подарил Сервилии жемчужину неслыханной ценности, — исторический факт. История с подметными письмами против Цезаря, которые передавались по цепочке, была подсказана автору событиями наших дней. Такие письма против фашистского режима распространял в Италии Лауро де Бозис — как говорят, по совету Бернарда Шоу.
Обращаю внимание читателя на порядок изложения материала.
В каждой из четырех книг документы следуют почти в хронологическом порядке. Книга первая охватывает сентябрь 45 года до Р.Х. Действие книги второй, содержащей исследование Цезарем природы любви, начинается раньше и захватывает весь сентябрь и октябрь. В книге третьей, где речь идет главным образом о религии, события начинаются еще раньше и длятся всю осень, заканчиваясь декабрьскими церемониями в честь Доброй Богини. Книга четвертая, где вновь приводятся самые разные соображения Цезаря, в частности о себе самом как о возможном орудии «судьбы», открывается наиболее ранним из приведенных здесь документов и завершается его убийством.
Все документы — плод авторского воображения, за исключением стихотворений Катулла и заключительного абзаца из «Жизнеописания двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла.
Источники, свидетельствующие о Цицероне, обильны, о Клеопатре — скудны, о Цезаре — богаты, но часто туманны и искажены политическими пристрастиями. Мною сделана попытка предположить, как протекали события, по-разному отраженные в дошедших до нас свидетельствах.
Торнтон УайлдерЧасть первая
I. Глава коллегии авгуров — Каю Юлию Цезарю, верховному понтифику и диктатору римского народа
(Копии жрецу Юпитера Капитолийского и пр., госпоже верховной жрице коллегии девственных весталок и пр.)
(1 сентября 45 года до Р.Х.)
Высокочтимому верховному понтифику.
Шестое донесение от сего числа.
Предсказание по жертвоприношениям в полдень.
Гусь: пятнистость сердца и печени; грыжа диафрагмы.
Второй гусь и петух: ничего примечательного.
Голубь: зловещие предзнаменования — почка смещена, печень увеличена и желтой окраски; в помете — розовый кварц. Приказано произвести более подробное исследование.
Второй голубь: ничего из ряда вон выходящего.
Наблюдались полеты орла — в трех милях к северу от горы Соракт на всем доступном обозрению пространстве над Тиволи. Птица проявляла какую-то неуверенность, приближаясь к городу.
Грома не было слышно со времени последнего сообщения двенадцать дней назад. Долгой жизни и здравия верховному понтифику!
I-А. Записка Цезаря (не подлежащая оглашению) — его секретарю по религиозным делам
Пункт I. Сообщить главе коллегии, что нет нужды посылать мне от десяти до пятнадцати донесений в день. Достаточно составить сводный отчет о знамениях за истекшие сутки.
Пункт II. Выбрать из сводок за предыдущие четыре дня три явно благоприятных предзнаменования и три неблагоприятных. Мне они могут понадобиться сегодня в сенате.
Пункт III. Составить и раздать следующее оповещение: с учреждением нового календаря памятная дата основания Рима семнадцатого дня каждого месяца будет считаться гражданским праздником особой важности.
Присутствие верховного понтифика, если он в городе, на этой церемонии обязательно.
Ритуал будет выполняться со следующими добавлениями и поправками: в ритуале принимают участие двести солдат, которые отслужат молебствие Марсу, как принято на военных постах; хвала Рее воздается весталками. Верховная жрица коллегии лично отвечает за присутствие весталок, за высокое качество декламации и поведение участниц церемонии. Непристойные выражения, попавшие в ритуал, должны быть немедленно устранены; весталки не могут показываться присутствующим до заключительного шествия; запрещается прибегать к миксолидийскому ладу; завещание Ромула читать, обращаясь в сторону мест, закрепленных за аристократией; жрецы должны произносить текст слово в слово с верховным понтификом. Жрецы, допустившие малейшее упущение, после тридцатидневной переподготовки будут посланы служить в новые храмы Африки и Британии.
I-Б. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Об этом письме см. вступление к документу III)
968. (О религиозных обрядах.)
К своему еженедельному посланию я прилагаю полдюжины докладов из груды, которую я как верховный понтифик получаю от авгуров, предсказателей, толкователей небесных знамений и хранителей кур.
Прилагаю также изданное мной постановление о ежемесячном празднестве в память основания Рима.
Что поделаешь?
Я получил в наследство это бремя суеверий и предрассудков. Я правлю несчетным числом людей, но должен признать, что мной правят птицы и раскаты грома.
Это часто мешает государственным делам, на целые дни и недели закрывает двери сената и суда. Этим заняты тысячи людей. Всякий, имеющий к ним какое-либо отношение, включая и верховного понтифика, использует знамения в своих личных интересах.
Однажды в долине Рейна авгуры ставки командующего запретили мне вступать в битву с врагом. Дело в том, что наши священные куры стали чересчур разборчивы в еде. Почтенные хохлатки скрещивали ноги при ходьбе, часто поглядывали на небо, озирались, и не зря. Я сам, вступив в долину, был обескуражен тем, что попал в гнездилище орлов. Нам, полководцам, положено взирать на небо куриными глазами. Я смирился с запретом, хотя мое умение захватить врага врасплох является одним из немногих моих талантов, но я боялся, что и на утро мне снова будут чинить препятствия. Однако в тот вечер мы с Азинием Поллионом пошли погулять в лес, собрали десяток гусениц, мелко изрубили их ножами и раскидали в священной кормушке. Наутро вся армия с трепетом дожидалась известия о воле богов. Вещих птиц вывели, чтобы дать им корм. Они сразу оглядели небо, издавая тревожное кудахтанье, которого достаточно, чтобы приковать к месту десять тысяч воинов, а потом обратили свои взоры на пищу. Клянусь Геркулесом, вылупив глаза и сладострастно кудахтая, они накинулись на корм — так мне было разрешено выиграть Кельнскую битву.
Но главное, вера в знамения отнимает у людей духовную энергию. Она вселяет в наших римлян — от подметальщиков улиц до консулов — смутное чувство уверенности там, где уверенности быть не должно, и в то же время навязчивый страх, который не порождает поступков и не пробуждает изобретательности, а парализует волю. Она снимает с них непременную обязанность мало-помалу самим создавать римское государство. Она приходит к нам, освященная обычаями предков, дыша безмятежностью детства, она поощряет бездеятельных и утешает бездарных.
Я могу справиться с другими врагами порядка: со стихийным мятежом и буйством какого-нибудь Клодия; с ворчливым недовольством Цицерона и Брута, порожденным завистью и питаемым хитроумными толкованиями древнегреческих текстов; с преступлениями и алчностью моих проконсулов и магистратов; но что мне делать с равнодушием, которое охотно рядится в тогу набожности и либо твердит, что гибели Рима не допустят недремлющие боги, либо смиряется с тем, что Рим погибнет по злокозненности богов?
Я не склонен к унынию, но часто ловлю себя на том, что эта мысль наводит на меня уныние.
Что делать?
Порою в полночь я пытаюсь вообразить, что будет, если я все это отменю; если как диктатор и верховный понтифик я запрещу соблюдение счастливых и несчастливых дней, гадание по внутренностям и полету птиц, молниям и грому; если я закрою все святилища, кроме храмов Юпитера Капитолийского?
И как быть с Юпитером?
Я еще буду об этом писать.
Собери свои мысли, чтобы меня направить.
На другой вечер.
(Письмо дописано по-гречески.)
Снова полночь, милый друг. Я сижу у окна и жалею, что оно выходит не на спящий город, а на Трастеверинские сады богачей. Вокруг моей лампы пляшут мошки. Река едва отражает рассеянный свет звезд. На дальнем берегу пьяные горожане ссорятся в винной лавке, и время от времени ветер доносит мое имя. Жена уснула, а я пытался успокоить мысли чтением Лукреция.
С каждым днем я все больше ощущаю, к чему меня обязывает мое положение. Я все яснее и яснее сознаю, что оно позволяет мне совершить и к каким свершениям меня призывает.
Но что оно мне говорит? Чего от меня ждет?
Я принес на землю мир, я распространил блага римского законодательства на бессчетное число мужчин и женщин; несмотря на огромное сопротивление, я распространяю на них также и гражданские права. Я усовершенствовал календарь, и теперь счет наших дней подчинен практичной системе движения солнца и луны. Я пытаюсь наладить дело так, чтобы люди во всех концах мира имели пищу. Мои законы и корабли обеспечат взаимообмен избытками урожая в соответствии с народными нуждами. В будущем месяце из уголовного кодекса будет изъята пытка.
Но этого мало. Все эти меры — лишь труд полководца и правителя. Тут я делаю для мира то же, что староста для своей деревни. Теперь надо совершить что-то иное, но что? По-моему, теперь и только теперь я готов начать. В песне, которая у всех на устах, меня зовут отцом.
Впервые за мою общественную жизнь я чувствую неуверенность. До сей поры все мои поступки подчинялись правилу, которое можно было бы назвать моим суеверием; я не экспериментирую. Я не начинаю дела для того, чтобы чему-то научиться на его результатах. Ни в искусстве войны, ни в политике я не делаю ни шага без точно намеченной цели. Если возникает препятствие, я тотчас же вырабатываю новый план, и его возможные последствия для меня ясны. В ту минуту, когда я увидел, что в каждом своем начинании Помпей отчасти полагается на волю случая, я понял, что буду властелином мира.
Но в моих сегодняшних замыслах есть такие стороны, относительно которых я не уверен, что я прав. Для того чтобы их осуществить, мне надо ясно знать, каковы жизненные цели рядового человека и каковы его возможности.
Человек — что это такое? Что мы о нем знаем? Его боги, свобода, разум, любовь, судьба и смерть — что они означают? Помнишь, как еще мальчишками в Афинах и позднее, возле наших палаток в Галлии, мы без конца обо всем этом рассуждали? И вот я снова подросток и снова философствую. Как сказал этот опасный искуситель Платон: лучшие философы на свете — мальчишки, у которых только пробивается борода; я снова мальчишка.
Но погляди, что я покуда успел сделать в отношении государственной религии. Я укрепил ее, возобновив ежемесячные празднества в память основания Рима.
Сделал я это, быть может, затем, чтобы уяснить для себя: какие последние следы благочестия еще живут в моей душе. Мне также льстит, что я, как прежде моя мать, больше всех римлян сведущ в старых поверьях.
Признаюсь, когда я декламирую нескладные молитвы и делаю телодвижения в сложном ритуале, меня обуревает искреннее чувство, но чувство это не имеет ничего общего с потусторонним миром; я вспоминаю, как в девятнадцать лет, будучи жрецом Юпитера, я поднимался на Капитолий, а рядом шла моя Корнелия, неся под туникой еще не рожденную Юлию. И разве с тех пор жизнь одарила меня чем-нибудь подобным?
Но тише! У дверей только что сменился караул. Стража со звоном скрестила мечи и обменялась паролем. Пароль на сегодня: Цезарь бдит.
II. Клодия Пульхра из своей виллы в Байях на берегу Неаполитанского залива — домоправителю в Риме
(3 сентября 45 года до Р.Х.)
Мы с братом в последний день месяца даем званый обед. Если и на этот раз ты допустишь промахи, я тебя сменю и продам.
Приглашения посланы диктатору, его жене и тетке, Цицерону, Азинию Поллиону и Гаю Валерию Катуллу. Обед будет происходить по старинному обычаю, а именно: женщины присутствуют только на второй его половине и не возлежат. Если диктатор примет приглашение, необходимо строжайше соблюсти этикет. Начни сразу же обучать слуг: встрече гостей перед домом, подношению кресла, обходу комнат и церемонии прощания. Позаботься нанять двенадцать трубачей. Оповести жрецов храма, что им предстоит совершить молебствие, достойное верховного понтифика.
Не только ты, но и мой брат будете пробовать блюда, подаваемые диктатору, в его присутствии, как было принято в прежнее время.
Меню будет зависеть от новых поправок к закону против роскоши. Если они будут утверждены, гостям может быть подана только одна закуска. Это египетское рагу из морских продуктов, которое диктатор тебе описывал. Я о нем ничего не знаю, ступай немедленно к повару Цезаря и разузнай, как его готовить. Когда ты заучишь рецепт, приготовь блюдо не менее трех раз, чтобы в день обеда оно получилось как следует.
Если новый закон не пройдет, должны быть поданы разнообразные блюда.
Диктатор, брат и я будем есть рагу. Цицерону подашь ягненка на вертеле по-гречески. Жене диктатора — овечью голову с печеными яблоками, которую она так расхваливала. Послал ли ты ей рецепт, как она просила? Если да, то слегка измени приправу; советую добавить три-четыре персика, моченных в альбанском вине. Госпоже Юлии Марции и Валерию Катуллу будет предложено выбрать любое из этих блюд. Азиний Поллион по своему обыкновению не будет есть ничего, но имей наготове горячее козье молоко и ломбардскую кашу. В выборе вин полагаюсь на тебя, но не забудь о законах на этот счет.
Я распорядилась, чтобы в Лотию приволокли морем в сетях двадцать-тридцать дюжин устриц. В день званого обеда часть их можно будет доставить в Рим.
Сходи сейчас же к греческому миму Эроту и найми его на вечер. Он, наверное, будет по своему обыкновению артачиться; можешь ему намекнуть, каких знатных гостей я жду. В конце скажи, что, кроме обычного вознаграждения, я дам ему зеркало Клеопатры. Скажи, что я хотела бы, чтобы он со своей труппой исполнил «Афродиту и Гефеста» и «Шествие Озириса» Города. А сам он пусть прочтет цикл «Плетущим гирлянды» Сафо.
Завтра я выезжаю из Неаполя. Неделю погощу в семье Квинта Лентула Спинтера в Капуе. Сообщи мне туда, чем занимается мой брат. В Риме жди меня числа десятого.
Я желаю знать, как обстоит дело с очисткой общественных мест от оскорбительных надписей о нашей семье. Требую, чтобы это было сделано как можно тщательнее.
(О чем, идет речь в этом абзаце, ясно из письма Цицерона и образцов нацарапанных надписей.)
II-А. Цицерон из Рима — Аттику в Грецию
(весной того же года)
Не считая нашего всеобщего главы, больше всего в Риме сплетничают о Клодии. На стенах и на каменных полах бань и общественных уборных нацарапаны посвященные ей стихи крайне непристойного содержания. Мне говорили, что ей посвящена пространная сатира во фригидарии Помпеевых терм; к ней уже приложили руку семнадцать стихотворцев, и каждый день туда что-нибудь добавляют. По слухам, все вертится главным образом вокруг того, что она вдова, дочь, племянница, внучка и правнучка консулов и ту дорогу, на которой она теперь ищет приятных, хоть и малоприбыльных утех, проложил ее предок Аппий.
Дама, говорят, узнала об оказанных ей почестях. Наняты трое чистильщиков, которые по ночам украдкой стирают эти надписи. Они просто надрываются, не успевая выполнять свою работу.
Наш владыка (Цезарь) не нанимает рабочих, чтобы стирать поносные надписи. Издевательских стишков и о нем предостаточно, но на каждого хулителя у него находится по три защитника. Его ветераны снова вооружились, но на этот раз губками.
Весь город захворал стихоплетством. Мне говорили, что стихи этого новоявленного поэта Катулла — тоже посвященные Клодии, хоть и совсем в другом духе, — выцарапывают на стенах общественных зданий. Даже сирийцы, торгующие пирожками, знают их наизусть. Что ты на это скажешь? Под неограниченной властью одного лица мы либо лишены своего дела, либо теряем к нему всякий вкус. Мы уже не граждане, а рабы, и поэзия — выход из вынужденного безделья.
II-Б. Надписи, нацарапанные на стенах и мостовых Рима
Клодий Пульхр говорит Цицерону в сенате: сестра моя упряма, она не уступит мне ни на мизинец, говорит он.
Ах, отвечает Цицерон, а мы-то думали, что она покладиста. Мы-то думали, что она уступает тебе все, даже выше колен.
Предки ее проложили Аппиеву дорогу. Цезарь взял эту Аппию и положил другим манером.
Ха-ха-ха!
Четырехгрошовая девка — миллионерша, но зато скупа и устали не знает. С какой гордостью приносит она на рассвете свои медяки. Каждый месяц Цезарь празднует основание города. Каждый час — гибель республики.(Популярная песенка, в разных вариантах была нацарапана в общественных местах по всему Риму.)
Мир принадлежит Риму, и боги отдали его Цезарю; Цезарь — потомок богов в сам — божество. Он, не проигравший ни одной битвы, — отец своим солдатам. Он пятой зажал пасть богачу. А бедняку он и друг и утешитель. Из этого видно, что боги любят Рим: Они отдали его Цезарю, своему потомку и тоже божеству.(Нижеследующие строчки Катулла были, как видно, сразу же подхвачены народом; не прошло и года, как они достигли самых отдаленных краев республики и стали пословицей, имя же автора забылось.)
В небе солнце зайдет и снова вспыхнет. Нас, лишь светоч погаснет жизни краткой, Ждет одной беспробудной ночи темень.III. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Видимо, написано между 20 августа и 4 сентября)
(Дневник в письмах писался с 51 года, когда получатель был взят в плен и покалечен белгами, вплоть до смерти диктатора. Записи весьма разнообразны по форме: некоторые набросаны на обороте ненужных писем и документов; одни сделаны наспех, другие — тщательно; многие продиктованы Цезарем и записаны рукой секретаря. И хотя все они пронумерованы, даты на них проставлены лишь изредка.)
958. (О предполагаемой этимологии трех архаизмов в завещании Ромула.)
959-963. (О некоторых тенденциях и событиях в политической жизни.)
964. (Высказывает невысокое мнение о метрических ухищрениях в речах Цицерона.)
965-967. (О политике.)
968. (О религии римлян. Эта запись уже приведена в разделе I-Б.)
969. (О Клодии Пульхре и ее воспитании.) Клодия с братом пригласили нас на обед. Я, кажется, подробно описывал тебе положение этой парочки, но, как и все в Риме, невольно возвращаюсь к этой теме.
Я уже не способен на живое сострадание при встрече с кем-нибудь из бесчисленных людей, влачащих загубленную жизнь. И еще менее стараюсь их оправдать, когда вижу, как легко они находят себе оправдание сами, когда наблюдаю, как высоко они вознесены в собственном мнении, прощены и оправданы сами собой и яростно обвиняют загадочную судьбу, которая якобы их обездолила и чьей невинной жертвой они себя выставляют. Такова и Клодия.
Но перед своими многочисленными знакомыми она эту роль не играет; при них Клодия прикидывается счастливейшей из женщин. Однако для самой себя и для меня она играет эту роль, ибо я, пожалуй, единственный из смертных, кто знает, что в одном случае она, быть может, и была жертвой, на чем вот уже более двадцати пяти лет основано ее притязание каждый день сызнова быть жертвой.
Но и для нее, и для других подобных ей женщин, чьи бесчинства привлекают к себе всеобщий интерес, есть еще одно оправдание. Все они родились в знатных семьях, среди роскоши, облеченные привилегиями, были воспитаны в атмосфере возвышенных чувств и бесконечных нравоучений, что теперь почитается за «истинно римский образ жизни». Матери этих девиц зачастую бывали великими женщинами, но не сумели передать детям те качества, которые воспитали в себе. Материнская любовь, семейная гордыня и богатство, вместе взятые, превратили их в ханжей, и дочери их росли в отгороженном мирке успокоительной лжи и недомолвок. Разговоры дома были полны выразительных пауз, то есть умолчаний о том, о чем не принято говорить. Более умные из дочерей, подрастая, это поняли; они почувствовали, что им лгут, и очертя голову кинулись доказывать обществу свою свободу от лицемерия. Тюрьма для тела горька, но для духа она еще горше. Мысли и поступки тех, кто осознает, как их надули, мучительны для них самих и опасны для всех прочих. Клодия была самой умной из них, а теперь ведет себя еще более вызывающе, чем остальные. Все эти девицы испытывают или изображают страсть к отребью общества: их нарочитая вульгарность превратилась в политическое явление, от которого не отмахнешься. Сам по себе плебс поддается перевоспитанию, но что делать с плебейской аристократией?
Даже молодые женщины безупречного поведения — такие, как сестра Клодии или моя жена, — явно сердятся, что их водили за нос. Их воспитывали в уверенности, что семейные добродетели самоочевидны и свойственны всем; от них скрывали, что высшее счастье в жизни — свобода выбора, а это больше всего влечет молодой ум.
В поведении Клодии отражается и та особенность, которую я часто с тобой обсуждал, может, даже слишком часто, — нормы и структура нашего языка сами по себе подразумевают и внушают веру в то, что мы бессильны перед жизнью, связаны, подчинены и беспомощны. Язык наш утверждает, что нам даны такие-то и такие-то качества от рождения. Иначе говоря, есть великий Благодетель, даровавший Клодии красоту, здоровье, богатство, знатное происхождение и выдающийся ум, а кому-то другому — рабство, болезнь и глупость. Она часто слышала, что одарена красотой (кто же ее одарил?), а что другой несет проклятие своего злоязычия — разве бог может проклясть? Даже если предположить существование бога, который, по выражению Гомера, изливает из своих сосудов добрые и злые дары, меня поражают верующие, которые оскорбляют своего бога, отказываясь признать, что в мире многое не управляется божественным провидением и что, по-видимому, бог так это и задумал.
Но вернемся к нашей Клодии. Клодии никогда не довольствуются полученными дарами: они отравлены злобой на скаредного Благодетеля, который наделил их всего лишь красотой, здоровьем, богатством, знатностью и умом; он утаивает от них миллион других даров, например полнейшее блаженство в каждое мгновение каждого дня. Нет жадности более ненасытной, чем жадность избранных, верящих в то, что их привилегии были дарованы им некой высшей мудростью, и нет обиды более злой, чем у обездоленных, которым кажется, что их намеренно обошли.
Ах, друг мой, друг мой, самое лучшее, что я мог бы сделать для Рима, — это вернуть птиц в их птичье царство, гром — стихиям природы, а богов — воспоминаниям детства.
Нет нужды говорить, что мы не пойдем на обед к Клодии.
IV. Госпожа Юлия Марция, вдова великого Мария, из ее имения на Альбанских холмах — племяннику Каю Юлию Цезарю в Рим
Клодий Пульхр с сестрой пригласили меня на обед в последний день месяца; они говорят, дорогой мальчик, что ты тоже там будешь. Я не собираюсь ехать в город до декабря, когда мне придется приступить к своим обязанностям, связанным с Таинствами (Доброй Богини). Конечно, я вряд ли туда пойду, если не буду уверена, что ты и твоя милая жена там будете. Пожалуйста, передай мне с моим посланным, действительно ли ты собираешься у них быть?
Должна признаться, что после стольких лет деревенской жизни мне любопытно было бы взглянуть, как живут на Палатинском холме. Письма Семиронии Метеллы, Сервилии, Эмилии Цимбры и Фульвии Мансон дышат оскорбленной добродетелью, но мало что мне говорят. Эти дамы так усердно щеголяют своей праведностью, что я в сомнении: чего больше в нем, в этом круговороте дней на вершине мира, — блеска или пошлости?
У меня есть и другая причина хотеть встречи с Клодией Пульхрой. Может статься, что рано или поздно я буду вынуждена с ней серьезно поговорить — хотя бы ради ее матери и ее бабушки, которые были моими любимыми подругами в юности и в зрелые годы. Можешь догадаться, о чем идет речь? (Как выяснится, Цезарь не понял намека. Тетка была одной из руководительниц Таинств Доброй Богини. Если возник вопрос о том, чтобы запретить Клодии участвовать в Таинствах, решение его в основном зависело от светской комиссии, а не от представительниц коллегии девственных весталок. Последнее слово принадлежало Юлию Цезарю как верховному понтифику.)
Мы, деревенщина, готовы точно выполнять твои законы против роскоши. В наших маленьких общинах любят тебя и каждодневно благодарят богов, что ты правишь нашим великим государством. У меня в поместье работают шесть твоих ветеранов. Я знаю, что их трудолюбие, веселый нрав и преданность — свидетельство того, как они боготворят тебя. И я стараюсь их не разочаровывать.
Передай самый нежный привет Помпее.
(Второе письмо той же почтой.)
Дорогой племянник, пишу тебе на другое утро. Прости, что я злоупотребляю временем владыки мира, но мне хочется задать тебе еще один вопрос, на который тоже жду ответа с моим посыльным.
Жив ли еще Луций Мамилий Туррин? Может ли он получать письма? И можешь ли ты сообщить мне его адрес?
Я задавала эти вопросы ряду моих друзей, но никто не мог дать мне точного ответа. Мы знаем, что он был тяжело ранен, когда сражался рядом с тобой в Галлии. Одни говорят, что он живет отшельником в озерном краю на Крите или в Сицилии. По словам других, он уже несколько лет как умер.
На днях мне приснился сон — прости уж меня, старуху, — будто я стою возле бассейна на нашей вилле в Таренте, рядом с моим дорогим разбойником-мужем. В бассейне плавают двое мальчишек: ты и Луций. Потом вы вышли из воды, и, обняв вас за плечи, муж обменялся со мной долгим взглядом и, улыбаясь, сказал: «Поросль нашего могучего римского дуба».
Как часто оба вы приезжали к нам. И целые дни проводили на охоте. А сколько съедали за обедом! Помнишь, как лет в двенадцать ты читал мне Гомера и как горели у тебя глаза! Потом вы с Луцием уехали в Грецию учиться, и ты писал мне оттуда длинные письма о поэзии и философии. Луций — он был сиротой — писал твоей матери.
Ах, все это было, было, Кай…
Я проснулась после этого сна и оплакивала все свои утраты: мужа, твою мать, отца и мать Клодии и Луция.
Прости, дорогой, что отнимаю у тебя время.
Жду ответа на два вопроса: обед у Клодии и адрес Луция, если он жив.
IV-А. Ответ Цезаря Юлии Марции
(Обратной почтой)
(Первые два абзаца написаны рукой секретаря.)
Я не намерен, дорогая тетушка, идти на обед к Клодии. Если бы я считал, что тебе будет там интересно, я, конечно, пошел бы в угоду тебе. Однако же Помпея и я убедительно просим тебя провести вечер у нас. Может статься, что у Клодии хватило наглости пригласить Цицерона, а у него не хватило мужества отказаться; если так, я его оттуда сманю и предоставлю в твое распоряжение. Думаю, что тебе будет приятно с ним встретиться: он стал еще остроумнее и может все тебе рассказать о светском обществе на Палатинском холме. Кроме того, не трудись открывать свой дом; флигель в саду в твоем полном распоряжении, и Аль-Нара будет счастлива тебе прислуживать. А пока ты будешь жить у нас, дорогая, я распоряжусь, чтобы часовые по ночам не бряцали мечами и произносили пароль шепотом.
Ты вдосталь наглядишься на Клодию, когда приедешь в город на торжества. Думая о ней, я не нахожу в душе ни капли сострадания, которое, по мнению Эпикура, следует питать к заблудшим. Надеюсь, что ты и в самом деле серьезно с ней поговоришь; надеюсь также, что ты научишь меня, как пробудить в себе хоть какое-то сочувствие к ней. Мне самому неприятно ощущать такое равнодушие к человеку, с которым меня связывает столько самых разных воспоминаний.
(Далее рукою Цезаря.)
Ты говоришь о прошлом.
Я не позволяю своим мыслям надолго в него погружаться. Все, все в нем кажется прекрасным и — увы! — неповторимым. Те, что ушли, — как я могу о них думать? Вспомнишь один только шепот, только глаза — и перо — падает из рук и беседа, которую я веду, обрывается немотой. Рим и все его дела кажутся чиновной суетой, пустой и нудной, которая будет заполнять мои дни, пока смерть не даст мне избавления. И разве я в этом смысле одинок? Не знаю. Неужели другие умеют вплетать былую радость в свои мысли о настоящем и в свои планы на будущее? Может быть, на это способны одни поэты: только они отдают себя целиком каждой минуте своей работы.
По-моему, у нас появился такой поэт, который займет место Лукреция. Посылаю тебе его стихи. Мне хочется знать, что ты о них думаешь. Правление миром, которое ты мне приписываешь, стало казаться мне более стоящим делом с тех пор, как я увидел, на что способен наш латинский язык. Я не посылаю стихов, где речь идет обо мне: этот Катулл так же красноречив в ненависти, как и в любви.
В Риме тебя ждет подарок, хотя моя доля в нем потребует, чтобы я еще больше погряз в моих сегодняшних обязанностях: как я и говорил, мне приходится платить за всякое обращение к прошлому. (В ежемесячное празднование дня основания Рима Цезарь включил приветствие от города ее покойному мужу Марию.)
Что касается твоего второго вопроса, дорогая тетя, на него я ответить тебе не могу.
Помпея шлет нежный привет. Мы с радостью ждем твоего приезда.
V. Госпожа Семпрония Метелла из Рима — госпоже Юлии Марции в ее имение на Альбанских холмах
(6 сентября)
Не могу выразить, дорогая Юлия, как я рада услышать, что ты приезжаешь в город. Не трудись открывать свой дом. Ты должна погостить у меня. Прислуживать тебе будет Зосима, она боготворит землю, но которой ты ступаешь, а я обойдусь Родопой, она оказалась просто сокровищем.
Ну а теперь садись поудобнее, дорогая; я собираюсь всласть поболтать.
Во-первых, послушайся совета старой-престарой подруги — не ходи к этой женщине. Можно сколько угодно твердить, что не любишь сплетен, что те, о ком говорят за глаза, не могут защититься от клеветы, и т. д., но разве служить предметом таких сплетен уже само по себе не предосудительно? Лично я не верю, что она отравила мужа и состояла в преступной связи со своими братьями, но тысячи людей в это верят. Мой внук рассказывает, что о ней поют песни во всех гарнизонах и кабаках, а стены терм исписаны стишками про нее. У нее есть прозвище, которое я даже не решаюсь повторить, и оно у всех на устах.
В сущности, самое худшее, что мы о ней знаем, — это ее влияние на палатинский высший свет. Она первая стала одеваться по-простонародному и якшаться с городским отребьем. Она водит своих друзей в таверны гладиаторов, пьет с ними ночи напролет и пляшет для них — прочее можешь представить себе сама. Юлия, она устраивает пикники, пирует в деревенских тавернах с пастухами и солдатами с военных постов. Все это факты. Одно из последствий ее поведения очевидно для всех: что стало с нашей речью? — теперь считается шиком разговаривать на языке плебса. И я не сомневаюсь, что тут виновата она, одна она. Ее положение в свете, ее происхождение, богатство, красота и — нельзя же этого отрицать — обаяние и ум увлекли общество в грязь.
Но она испугалась наконец. И пригласила тебя на обед потому, что испугалась.
А теперь слушай: тут назревает одно серьезное дело, в котором окончательное решение будешь принимать ты.
(В последующих абзацах письма употребляется ряд условных имен: Волоокой (по-гречески) называют Клодию; Диким Кабаном — ее брата Клодия Пульхра; Перепелкой еще задолго до брака называли жену Цезаря Помпею; Фессалийкой (сокращенное от «Ведьма из Фессалии») — Сервилию, мать Марка Юния Брута; Школой тканья — Таинства Доброй Богини и комитет, руководящий этим празднеством; Хозяином Погоды, разумеется, называли Цезаря.)
Хотя эта женщина и распутница, по-моему, ее не стоит отстранять от участия в собраниях, но не сомневаюсь, что такое предложение будет сделано. Они с Перепелкой присутствовали на последнем собрании Исполнительного совета, которое было созвано как раз перед ее отъездом на юг, в Байи. Они попросили председательницу — твое место занимала Фессалийка — отпустить их и вскоре ушли; и тут во всех концах зала стали о ней судачить. Эмилия Цимбра закричала, что, если в Школе тканья Волоокая окажется где-нибудь рядом, она даст ей пощечину, Фульвия Мансон сказала, что бить ее во время церемонии не станет, но тут же уйдет и подаст жалобу верховному понтифику. А Фессалийка заявила — хотя, занимая председательское место, она вообще не должна была высказывать своего мнения, — что прежде всего надо поставить вопрос перед тобой и верховной жрицей коллегии девственных весталок. Ее возмущенный тон, по правде говоря, показался мне чуточку смешным — ведь все мы знаем, что она не всегда была такой почтенной матроной, какой себя выставляет.
Вот такие-то дела! Полагаю, что ни ты, ни твой племянник не позволите ее исключить, но надо же такое придумать! Какой бы поднялся скандал! Знаешь, по-моему, даже пожилые женщины уже не помнят, что такое настоящий скандал. А я вдруг ночью припомнила, что за всю мою жизнь исключили только троих, и все трое тут же покончили самоубийством.
И все же, с другой стороны, страшно подумать, что в Школе тканья, в этом самом прекрасном, святом, необыкновенном таинстве, может участвовать такая личность, как Волоокая. Юлия, я никогда не забуду, как по этому поводу выразился твой великий супруг: «Эти таинства, когда собираются наши женщины и проводят вместе двадцать часов, подобны столпу, подпирающему Рим».
Мы все никак не можем понять: почему Хозяин Погоды (пойми, дорогая, я не хочу быть непочтительной) разрешает Перепелке так часто с ней встречаться? Нас всех это просто поражает. Ведь встречи с Волоокой неизбежно влекут за собой и встречи с Диким Кабаном, а ни одна уважающая себя женщина не захочет с ним знаться.
Но давай поговорим о другом.
Вчера я удостоилась большой чести, о чем хочу тебе рассказать. Он сам пожелал со мной побеседовать.
Я, как и весь Рим, отправилась к Катону в день поминовения его великого предка. Улицу запрудила тысячная толпа с трубачами, флейтистами и жрецами. В доме для диктатора поставили кресло, и все, естественно, были в большом волнении. Наконец он появился. Ты сама, дорогая, знаешь, насколько трудно предсказать, как он себя поведет. По словам моего племянника, он держится официально, когда ждешь от него простоты, и ведет себя просто, когда должен бы держаться официально. Он прошел через Форум и вверх по холму безо всякой свиты, вместе с Марком Антонием и Октавианом, словно прогуливаясь. Я дрожу за него: ведь это так опасно; но именно за такое пренебрежение к опасности его обожает народ; это в нравах старого Рима, и ты, наверное, могла слышать восторженные крики толпы даже у себя в имении! Он вошел в дом, кланяясь и улыбаясь, и подошел прямо к Катону и его родным. Можно было услышать, как пролетит муха! Впрочем, для тебя не секрет, что племянник твой просто совершенство! До нас доносилось каждое его слово. Сначала он был величав, почтителен — Катон даже прослезился и низко опустил голову. Потом Цезарь заговорил интимнее — он обращался ко всем членам семьи, — а затем стал шутить, и очень остроумно, так что скоро весь зал покатывался со смеху.
Катон отвечал ему хорошо, но очень кратко. Казалось, забыты все мучительные политические распри. Цезарь взял пирожок (ими обносили гостей), а потом стал заговаривать то с одним, то с другим из присутствующих. Он отказался сесть в кресло диктатора, но вел себя так мило, что никто из домашних не счел это обидным! И тут, дорогая, он приметил меня и, попросив у слуги стул, сел со мной рядом. Можешь себе представить мое состояние!
Случалось ли ему хоть раз забыть какой-нибудь факт или чье-то имя? Он вспомнил, что двадцать лет назад провел у нас в Анцио четыре дня, а также всю мою родню и всех тогдашних гостей. Он очень деликатно предостерег меня насчет политической деятельности моего внука (но помилуй, дорогая, что я могу с ним поделать!). Потом стал спрашивать мое мнение о ежемесячном празднестве в память основания Рима. Как видно, он меня там заметил — нет, ты только подумай! — хотя был от меня далеко и шагал взад-вперед, выполняя этот сложный ритуал! Какую часть я считаю самой волнующей, какие фразы показались мне чересчур длинными или непонятными для народа? Потом он заговорил о самой религии, о знамениях и о счастливых и несчастливых днях.
Ах, дорогая, он самый обаятельный человек на свете, и все же — я вынуждена это сказать — в нем есть что-то пугающее! Он слушает с неотрывным вниманием все, что ты неуклюже пытаешься выразить. И хотя его большие глаза глядят на тебя с таким лестным для тебя интересом, ты все равно пугаешься.
Они словно внушают: мы с вами здесь единственные искренние люди; мы говорим то, что думаем; мы говорим правду. Надеюсь, я не выглядела круглой дурой, однако жаль, что никто меня не предупредил, что верховный понтифик будет меня выспрашивать, что, как, где и когда я думаю о религии, ибо в конечном счете все свелось к этому. Наконец он отбыл, и все мы смогли разойтись по домам. Я сразу же легла спать.
Скажи мне, Юлия, по секрету, каково, по-твоему, быть его женой?
Ты меня спрашиваешь насчет Луция Мамилия Туррина.
Я, как и ты, вдруг сообразила, что ничего о нем не знаю. Почему-то я вбила себе в голову, что он либо умер, либо настолько поправился, что занимает какую-то должность в отдаленных краях республики. Но если хочешь что-то выведать, по опыту знаю, лучше всего обратиться к одному из старых доверенных слуг. Они составляют своего рода тайное общество, знают о нас все и этим гордятся. Поэтому я спросила нашего старого вольноотпущенника Руфия Тела и, как и надо было ожидать, выяснила следующее: во второй битве с белгами, когда Цезаря чуть не схватили враги, Туррин попал в плен. Прошло тридцать часов, прежде чем Цезарь догадался, что он пропал. И тогда, дорогая, твой племянник бросил полк на вражеский лагерь. Полк был почти целиком уничтожен, но отбил Туррина — в самом жалком состоянии. Враги, чтобы заставить его говорить, постепенно отрубали ему конечности и лишили возможности видеть и слышать. Они отрубили у него руку, ногу, а может, и что-то еще, выкололи глаза, обрезали уши и собирались проткнуть барабанные перепонки. Цезарь позаботился о том, чтобы ему был обеспечен самый лучший уход, и с тех пор Туррин, согласно его собственному желанию, окружен полнейшей тайной. Но Руфию, как видно, известно, что он живет в прекрасной вилле на Капри, вдали от чужих глаз. Он, конечно, по-прежнему очень богат и окружен целой свитой секретарей, служителей и прочей челяди.
Ну разве это не душераздирающая история? Подумай, как ужасна бывает жизнь! Я ведь хорошо помню, как он был красив, богат, талантлив и явно предназначен занять самые высокие посты в государстве. А до чего же он был мил! Он чуть было не женился на моей Аврункулее, но и его отец и все остальные Мамилии были чересчур старозаветны для меня, а уж для моего мужа и подавно. Как видно, он по-прежнему интересуется политикой, историей и литературой. У него здесь, в Риме, есть какой-то поверенный, который сообщает ему все новости, посылает книги, передает сплетни. Но ни одна душа не знает, кто это такой. А сам Туррин, как видно, хочет, чтобы его забыли все, кроме нескольких друзей. Я, конечно, спросила Руфия, кто его навещает. Руфий уверяет, будто он не принимает почти никого, что актриса Киферида иногда ездит ему почитать и что раз в год весной у него по нескольку дней гостит диктатор, но, как видно, никому ни слова не говорит об этих посещениях!..
Руфий — золото, а не человек — молил никому, кроме тебя, всего этого не рассказывать. Он поразительное существо, этот старый африканец, и видно, он чтит желание калеки, чтобы о нем забыли. Я поступаю, как он просит, и уверена, что и ты последуешь моему примеру. Меня просто ужас берет, до чего длинно мое письмо.
Приезжай как можно скорее.
VI. Клодия из Капуи — своему брату Публию Клодию Пульхру в Рим
(8 сентября)
(Вилла Квинта Лентула Спинтера и его жены Кассии)
Пустоголовый! S.T.E.Q.V.M.E.! (Клодия в насмешку пользуется эпистолярным обычаем того времени сокращенно обозначать заглавными буквами род приветствия: «Если ты и войско здоровы, то хорошо». Заменив две буквы, она пишет: «Если ты и твой сброд здоровы, то плохо».)
Нас опять пощипали. (Тайная полиция Цезаря опять завладела одним из их писем. Однако брат и сестра сговорились, что невинная переписка будет пересылаться ими почти открыто, через посыльных, в качестве маскировки для настоящих писем, которые будут припрятывать куда тщательнее.)
Письмо твое — бессмысленная чушь. Ты пишешь: когда-нибудь и они умрут! Почем ты знаешь? Ни ты, ни он и никто на свете не знает, когда он умрет. Тебе надо строить свои планы с таким расчетом, что он может умереть завтра, а может прожить еще лет тридцать. Только дети, политические краснобаи и поэты разговаривают о будущем так, словно о нем что-то можно знать, — к счастью, мы не имеем о нем ровно никакого понятия. Ты пишешь: каждую неделю у него падучая. (Припадки эпилепсии у Цезаря.) Поверь, это неправда, и ты знаешь, от кого я получаю сведения. (Служанка жены Цезаря Абра была рекомендована ей Клодией и за плату осведомляла ее обо всем, что творится в доме Цезаря.) Ты пишешь: под взглядом этого Циклопа мы бессильны что-либо сделать. Послушай, ты уже не мальчик. Тебе сорок лет. Когда ты научишься не ждать счастливого случая, а опираться на то, что у тебя есть, используя каждый день, чтобы укрепить свое положение? Почему ты так и не пошел дальше трибуна? Потому что всегда откладываешь свои планы на будущий месяц. А пропасть между сегодняшним днем и будущим месяцем пытаешься перейти, полагаясь на грубую силу и банду своих громил. Корабельный Нос (по-гречески; имеется в виду Цезарь) правит миром и будет им править, может быть, один день, а может быть, тридцать лет. Ты ничего не достигнешь и останешься никем, если не смиришься с этим фактом и не будешь из него исходить. Говорю тебе очень серьезно: всякая попытка не считаться с ним приведет тебя к гибели.
Тебе надо вернуть его расположение. Не позволяй ему забывать, что однажды ты оказал ему большую помощь. Я знаю, ты его ненавидишь, но это не играет никакой роли. Ведь и он прекрасно знает, что ни любовь, ни ненависть не решают ничего. Где бы он сейчас был, если бы ненавидел Помпея?
Присматривайся к нему, Пустоголовый. Ты многому научишься.
Ты знаешь его слабость — его равнодушие, ту отрешенность, которую люди зовут добротой. Ручаюсь, что в душе ты ему нравишься; он любит непосредственность и простодушие, к тому же он, по существу, забыл, какие дурацкие смуты ты затевал. И ручаюсь также — его втайне забавляет, что ты уже двадцать лет заставляешь Цицерона трястись от страха.
Присматривайся к нему. Начни хотя бы подражать его трудолюбию. Я верю тому, что он пишет по семьдесят писем и прочих бумаг в день. Они каждый день сыплются на Италию как снег — да что я! — они засыпают весь мир — от Британии до Ливана. Даже в сенате, даже на званых обедах за спиной его стоит секретарь; в тот миг, когда в голове его рождается мысль написать письмо, он отворачивается и шепотом его диктует. То он пишет какой-нибудь деревне в Бельгии, что они могут взять своим названием его имя, и шлет им флейту для местного оркестра, то придумывает, как сочетать еврейские законы о наследстве с римскими обычаями. Он подарил водяные часы городу в Алжире и написал им увлекательное письмо в арабском духе. Трудись, Публий, трудись!
И помни: этот год мы к нему приспосабливаемся.
Все, что я у тебя прошу, — это один год.
Я собираюсь стать самой старозаветной дамой в Риме. К будущему лету я добьюсь звания почетной жрицы Весты и руководительницы Таинств Доброй Богини.
А ты можешь получить в управление провинцию.
Отныне мы будем называть себя Клавдиями. Дед заработал несколько лишних голосов, пойдя на плебейское произношение нашего имени. Неприятно, но необходимо.
Наша затея с обедом провалилась. И Корабельный Нос и Чечевичка (тоже по-гречески; жена Цезаря) отказались прийти. Гекуба не ответила на приглашение. Услышав об этом, вероятно, откажется в последнюю минуту и Цицерон. Будет Азиний Поллион, а я кем-нибудь заполню пустые места за столом.
Катулл. Я хочу, чтобы ты был с ним мил. Я постепенно от него избавлюсь. Дай мне это сделать так, как я считаю нужным. Ты не поверишь, что с ним творится! Я не более дурного мнения о себе, чем любая другая, но никогда не претендовала на роль всех богинь в едином лице, да вдобавок еще и Пенелопы! Публий, я ничего на свете не боюсь, кроме этих его жутких эпиграмм. Вспомни, как он пригвоздил ими Цезаря; все их повторяют, они прилипли к нему навсегда, как лишай. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же самое, и потому дай мне самой все уладить.
Ты понял, что наш званый обед провалился? Заруби это себе на носу. Никто не придет в наш дом, кроме твоих Зеленых Усов и дикого козла Катилины. И все же мы — это мы. Наши предки вымостили город, и я не позволю об этом забыть.
Еще один вопрос, Пустоголовый.
Чечевичка — не для тебя. Я это запрещаю. И думать забудь. Запрещаю. Вот в таких делах мы с тобой и совершали грубейшие ошибки. Подумай, о чем я говорю. (Клодия намекает на то, что ее брат соблазнил девственную весталку, а может, и на непристойное судебное преследование блистательного Марка Целия Руфа, бывшего своего любовника, которого она обвинила, будто он украл у нее драгоценности. Его успешно защищал Цицерон в речи, где он вскрыл всю малопочтенную биографию брата и сестры, ославив их и сделав посмешищем всего Рима.)
Поэтому затверди накрепко: весь этот год мы будем соблюдать приличия.
Я, твоя Волоокая, тебя обожаю. Сообщи, что ты обо всем этом думаешь, с обратной почтой. Я пробуду здесь еще дня четыре-пять, хотя стоило мне сюда приехать и взглянуть на Кассию и Квинта, как мне тут же захотелось уехать на север. Но я поубавлю их самодовольство, не бойся. Со мной Вер и Мела. А послезавтра ко мне приедет и Катулл.
Ответь мне с этим же посланным.
VI-А. Клодий — Клодии
(Вместо ответа Клодий заставил посланного заучить наизусть непристойную брань.)
VII. Клодия из Капуи — жене Цезаря в Рим
(8 сентября)
Душечка!
Твой муж — великий человек, но к тому же он еще и большой грубиян. Он очень сухо сообщил мне, что не сможет прийти на обед. Я знаю, ты сумеешь его переубедить. Не падай духом, если первые три или четыре попытки не увенчаются успехом.
Будут Азиний Поллион и наш новый поэт Гай Валерий Катулл. Напомни диктатору, что я послала ему все стихи этого молодого человека, какие у меня были, а он мне не вернул ни подлинника, ни даже копий. Ты меня спрашиваешь, как я отношусь к культу Изиды и Озириса. Расскажу об этом при встрече. Конечно, он очень живописен, но по существу — чепуха. Для служанок и носильщиков. Я очень раскаиваюсь, что стала водить туда людей нашего круга. В Байях такая скука, что египетские обряды помогают скоротать время. На твоем месте я не стала бы просить у мужа разрешения их посещать: его это только рассердит и причинит вам обоим огорчения.
У меня есть для тебя подарок. В Сорренто я нашла поразительного ткача. Он ткет такую вуаль, что стоит дунуть — и целый кусок улетит к потолку; ты поседеешь прежде, чем эта воздушность снова спустится на землю. И соткана она не из рыбьих жабр, как та блестящая ткань, которую носят танцовщицы. Мы с тобой наденем эти наряды на мой званый обед и будем как близнецы! Я нарисовала фасон, и Мопса сразу же начнет шить, когда я вернусь в город.
Черкни мне словечко с этим же посланным.
И смотри притащи этого невежу на мой обед.
Целую тебя крепко в уголок каждого из твоих прекрасных глазок. Как близнецы! Но насколько ты моложе меня!
VII-А. Жена Цезаря — Клодии
(Обратной почтой)
Дорогой Мышоночек!
Я не могу тебя дождаться! Я такая несчастная. Больше так жить невозможно. Дай мне совет. Он говорит, что мы не можем пойти к тебе на обед. О чем бы я его ни попросила, он на все говорит «нет». Нельзя поехать в Байи. Нельзя пойти в театр. Нельзя ходить в храм Изиды и Озириса.
Мне надо с тобой подробно, подробно поговорить. Как мне стать хоть чуточку посвободнее? Каждое утро мы ссоримся, и каждую ночь он просит прощенья; но не уступает мне ни на йоту, и я никогда не получаю того, что хочу.
Конечно, я его очень, очень люблю, потому что он мой муж, но, понимаешь, мне так хотелось бы иногда получать от жизни хоть маленькое удовольствие. Я так часто плачу, что стала страшной уродиной, тебе даже будет противно на меня смотреть.
Можешь не сомневаться, что я снова буду просить его пойти к тебе на обед, но — увы — ведь я его знаю! Вуаль, должно быть, просто чудо. Приезжай поскорей.
VIII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину
(Видимо, написано между 4 и 20 сентября)
970. (О законах на право первородства и отрывке из Геродота.)
971. (О поэзии Катулла.) Большое спасибо за шесть комедий Менандра. Я еще не успел их прочесть. Дал переписать. Скоро верну подлинник, а может, и какие-нибудь свои заметки по их поводу.
Да, у тебя, видно, богатая библиотека. Нет ли в ней каких-нибудь пробелов, которые я смог бы заполнить? Сейчас я шарю по всему свету в поисках подлинного текста Эсхиловой «Ликургии». Мне понадобилось шесть лет, чтобы напасть на «Пирующих» и «Вавилонян» Аристофана, их я послал тебе прошлой весной. Последняя пьеса, как ты, наверное, заметил, в плохом списке, таможенники в Александрии записывали на нем перечень грузов.
Я вложил в пакет, который отправляю на этой неделе, пачку стихов. Старые шедевры пропадают, новые, по воле Аполлона, появляются на смену. Стихи написаны молодым человеком Гаем Валерием Катуллом, сыном моего старого знакомого, живущего недалеко от Вероны. По дороге на север (в 50 году) я провел ночь в их доме и помню его сыновей и дочь. Вернее, я помню, что брат поэта — он уже умер — понравился мне гораздо больше.
Тебя удивит, что Лесбия, к которой обращены стихи, не кто иная, как Клодия Пульхра — та самая, которой когда-то и мы с тобой писали стихи. Клодия Пульхра! Какая странная игра закономерностей виновна в том, что женщина, которая перестала находить в своей жизни какой-либо смысл и живет лишь тем, чтобы сообщать всему, что ее окружает, разброд, царящий в ее душе, становится в воображении поэта предметом обожания и вдохновляет его на такие блистательные стихи? Говорю тебе совершенно серьезно: больше всего на свете я завидую дару высокой поэзии. Я приписываю великим поэтам способность напряженно вглядываться в мир и создавать гармонию между тем, что таится внутри нас и вовне. А Катулл вполне может быть причислен к таким поэтам. Но неужели и высшие натуры способны так же обманываться, как простые смертные? Меня огорчает не его ненависть ко мне, а его любовь к Клодии. Не могу поверить, что он увлечен только ее красотой и что красоты телесной достаточно, чтобы произвести на свет такое совершенство речи и мысли. Может, он сумел разглядеть в ней достоинства, скрытые от нас? Или видит в ней душевное величие, которым она, безусловно, обладала, прежде чем погубила себя и сделалась предметом ненависти и посмешищем всего города?
Для меня эти вопросы связаны с первоосновами самого бытия. Я буду и дальше в них разбираться и сообщу тебе, что мне удалось понять.
972. (О политике и назначениях на должности.)
973. (Касательно некоторых нововведений в Таинствах Доброй Богини. См. документ XLIII-А.)
976. (Рекомендация слуге.)
977. (О вражде к нему Катона, Брута и Катулла.)
Я посетил Катона в день поминовения его великого предка.
Как я тебе уже говорил, переписка с тобой оказывает на меня странное действие: я вдруг начинаю вдумываться в явления, которых раньше не замечал. Мысль, которую я в тот миг поймал на кончике пера и хотел сразу же отбросить, такова: из четырех людей, которых я больше всего уважаю в Риме, трое питают ко мне смертельную вражду. Я имею в виду Марка Юния Брута, Катона и Катулла. Вероятно, и Цицерон был бы рад от меня избавиться. Сомнений тут быть не может: до меня доходит множество писем, не предназначенных для моих глаз.
Я привык к тому, что меня ненавидят. Еще в ранней юности я понял, что не нуждаюсь в добром мнении даже лучших из людей, чтобы утвердиться в своих поступках. По-моему, только поэт более одинок, чем военачальник или глава государства, ибо кто может дать ему совет в том беспрерывном процессе отбора, каковым является стихосложение? В этом смысле ответственность и есть свобода; чем больше решений ты вынужден сам принимать, тем больше ты ощущаешь свободу выбора. Я полагаю, что мы не имеем права говорить о своем самосознании, если не испытываем чувства ответственности, и сильнейшая опасность моему чувству ответственности будет грозить тогда, когда мне, хотя бы чуть-чуть, захочется завоевать чье-то одобрение, будь то Брут или Катон. Я должен принимать свои решения так, словно они неподвластны оценке других, словно за мной никто не следит.
И однако же, я политик: мне приходится изображать, что я почтительнейше внимаю мнению других. Политик — это человек, который притворяется, будто так же жаждет почета, как и все остальные, но успешно притворяться он может, только если в душе свободен от этой жажды. Вот в чем основное лицемерие политики, и вождь достигает конечной победы только тогда, когда люди испытывают страх, ибо подозревают, хоть и не знают наверняка, что ему безразлично их одобрение, что он к нему равнодушен и что он лицемер. Как? — говорят они себе, — как? Неужели в этом человеке не копошится тот клубок змей, который таится в каждом из нас, причиняет нам муки, но и дает наслаждение: жажда похвалы, потребность в самооправдании, утверждение своего «я», жестокость и зависть? Дни и ночи я провожу под шипение этих змей. Когда-то я слышал его и в собственной утробе. Как я заставил их замолчать — сам не знаю, хотя интереснее всего было бы знать, что на подобный вопрос ответил бы Сократ.
Не думаю, что ненависть Марка Брута, Катона и этого поэта рождены таким клубком змей. В сущности, их ненависть идет от ума, от их взглядов на правление государством и свободу. Даже если бы я поставил их на то место, которое занимаю сам, и показал распростертый внизу мир таким, каким его видно только отсюда; даже если бы я рассек свой череп и открыл им опыт всей, своей жизни — а я был во сто крат ближе к людям и власти, чем они, — даже если бы я смог перечесть строка за строкой писания тех философов, к которым они привержены, историю тех стран, где они ищут себе образец, — и тогда я не мог бы надеяться, что заставлю их прозреть. Первый и последний учитель жизни — это сама жизнь, и надо отдавать себя этой жизни безбоязненно и безраздельно; людей, которые это понимают, Аристотель и Платон могут многому научить, а вот тех, кто ставит себе всяческие рогатки и разлагает свой дух умствованиями, даже самые высокие учителя могут привести только к ошибкам. Брут и Катон твердят «свобода», «свобода» и живут, чтобы навязать другим ту свободу, которой не дают себе сами, — суровые, не знающие радости люди, они кричат своим ближним: будьте так же веселы, как веселы мы, и так же свободны, как свободны мы.
Катона ничему не научишь. Брута я послал губернатором в Ближнюю Галлию для обучения. Октавиана я держу рядом с собой, чтобы он пригляделся к государственной службе: скоро я выпущу его на арену.
Но за что меня ненавидит Катулл? Неужели и великие поэты могут пылать негодованием, заимствованным из старых учебников? Неужели великие поэты — дураки во всем, кроме своей поэзии? Неужели их взгляды формируются застольной беседой в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки?
Признаюсь, дорогой друг, я был сам поражен, почувствовав в себе слабость, головокружительную слабость; ох, как мне захотелось, чтобы меня понял такой человек, как Катулл, и прославил в стихах, которые не скоро будут забыты.
978. (Об основах банковского дела.)
979. (О подпольной деятельности в Италии неких лиц, подстрекающих к его убийству. См. ниже LXI.)
980. Помнишь, куда приглашал нас охотиться Рыжий Сцевола в то лето, когда мы вернулись из Греции? Второй урожай пшеницы обещает быть в тех местах очень хорошим. (Цезарь дает обиняком деловой совет, чтобы не привлечь внимание своих секретарей.)
981. (О бедности прилагательных в греческом языке, мешающей определять цвета.)
982. (О возможном упразднении всех религиозных обрядов.)
Вчера ночью, мой благородный друг, я сделал то, чего не делал уже много лет: написал эдикт, перечел его и порвал. Я позволил себе нерешительность.
Последние несколько дней я получал уже совсем бессмысленные донесения от потрошителей птиц и толкователей грома. Более того, суд и сенат были два дня закрыты оттого, что один орел неосторожно обронил помет на расстоянии полета стрелы от Капитолия. Терпению моему пришел конец. Я отказался лично молить богов о милосердии, изображая испуг и уничижение. Жена и даже слуги смотрели на меня косо. Цицерон удостоил меня советом потакать народным суевериям.
Вчера ночью я сел и набросал эдикт, отменяющий коллегию авгуров; объявил, что отныне не будет неблагоприятных дней. Я подробно излагал своему народу причины, побудившие меня к такому решению. И разве когда-нибудь я чувствовал себя счастливее? Что доставляет больше радости, чем прямота? Я писал, а мимо моего окна проплывали созвездия. Я распустил коллегию девственных весталок; я отдал замуж дочерей самых знатных семейств, и они народили Риму сыновей и дочерей. Я закрыл двери храмов, всех храмов, кроме святилища Юпитера. Я скинул богов назад, в пучину невежества и страха, откуда они явились в то предательское полунебытие, где фантазия порождает утешительную ложь. И наконец настала минута, когда я отодвинул в сторону все, что написал, и начал сначала, утверждая, что и сам Юпитер никогда не существовал, что человек — один в мире, где не слышно никаких голосов, кроме его собственного, в мире, не благоприятствующем ему и не враждебном, а таком, каким человек его сотворил.
Но, перечтя то, что было написано, я уничтожил свой эдикт.
Я уничтожил его не потому, что отсутствие государственной религии загонит суеверие в подполье и придаст верованиям тайный и еще более низменный характер, как опасается Цицерон (и, кстати, это уже происходит); не потому что такая кардинальная мера подорвет общественный строй и народ погрузится в страх и отчаяние, подобно овцам, попавшим в буран. Природа некоторых реформ такова, что расстройство от постепенных перемен бывает ничуть не меньше того, какое вызывают резкие и решительные повороты. Нет, и руку мою и волю остановили не возможные последствия такого шага; воспротивилось что-то во мне самом, самое мое существо.
Я сам не был уверен в своей правоте.
Уверен ли я, что нашим существованием не правит некий разум и что во вселенной нет тайны? Пожалуй, уверен. Какую радость, какое облегчение испытывали бы мы, если бы могли быть в этом убеждены. Тогда я, наверно, захотел бы жить вечно. Как страшен и величествен был бы удел человека, если бы он сам, без всякого руководства и утешения извне, находил в самом себе смысл своего существования и правила, по которым ему следует жить.
Мы с тобой давно решили, что богов не существует. Помнишь тот день на Крите, когда мы окончательно пришли к этому выводу и договорились разобраться во всех его последствиях, — мы сидели на скале, пускали по воде камешки и считали черепах? Мы дали обет никогда не допускать тут ни малейших сомнений. С какой мальчишеской беспечностью мы установили, что душа угасает вместе с телом. (Наш язык не может передать, с какой силой Цезарь выразил эту мысль по-латыни. Самый строй этой фразы передает щемящее чувство отречения и горя. Адресат письма понял, что Цезарь намекает на смерть своей дочери, Юлии, жены Помпея, — невосполнимую утрату своей жизни. Мамилий Туррин был с Цезарем в Британии, когда туда пришла весть о ее смерти.)
Мне казалось, что я ничуть не усомнился в непреложности этого суждения. Однако есть только один способ утвердиться в чем-нибудь — совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями. Составляя вчера ночью эдикт и предвидя его последствия, я был вынужден сурово разобраться в себе самом. Я с радостью снесу любые последствия, если буду уверен, что истина в конечном счете придаст новые силы миру и всем, кто в нем живет, — но лишь в том случае, если я буду действительно уверен, что в этом уверен.
Но какое-то сомнение все же останавливает мою руку.
Я должен быть уверен в том, что нигде, даже в самом далеком уголке моего сознания, не таится мысль о том, что во вселенной или за ее пределами существует разум, влияющий на нас и управляющий нашими поступками. Если я признаю возможность такого чуда, все остальные чудеса хлынут следом; тогда существуют и боги, которые внушили нам, что такое совершенство, и надзирают за нами; тогда у нас есть и душа — ее вдыхают в нас при рождении, и она переживает нашу смерть; тогда есть и воздаяния, и кары, придающие смысл малейшему нашему поступку.
Да, друг мой, я непривычен к колебаниям, но я колеблюсь. Ты знаешь, я не склонен к рефлексии; к каким бы суждениям я ни пришел, я прихожу к ним сам не знаю как, но мгновенно; я не мастер размышлять и с шестнадцатилетнего возраста отношусь к философии с раздражением — для меня это заманчивая, но бесплодная гимнастика ума, бегство от обязанностей повседневной жизни.
В моей жизни и в той, что вижу вокруг, я с горечью наблюдаю четыре области, где может таиться такая чудесная сила.
Эротика: разве мы не чересчур просто объясняем то, что несет с собой это пламя, населяющее мир людьми? Лукреций, может быть, и прав, а наше вечное шутовство — ошибка. По-моему, я всегда знал и только не хотел в этом признаться, что всякая без исключения любовь — это часть единой, всеобъемлющей любви и что даже мой разум, который задает эти вопросы, — даже он пробуждается, питается и движим только любовью.
Истинная поэзия: помня и в самом деле основной путь, по которому в нашу жизнь входит то, что больше всего нас ослабляет, в ней легко найти утешение и ложь, примиряющие с невежеством и безволием; я от всей души ненавижу всякую поэзию, кроме самой лучшей; но что такое великая поэзия — просто высочайшее проявление человеческой мощи или потусторонний голос?
Тот проблеск какого-то высшего знания и блаженства, сопутствующий моей болезни, от которого я не могу отмахнуться. (Эта фраза свидетельствует о беспредельном доверии, которое Цезарь питал к тому, кому он пишет. Цезарь никому не разрешал упоминать о своих припадках эпилепсии.)
И наконец, не могу отрицать, что временами я ощущаю, будто и моя жизнь, и мое служение Риму определяются какой-то вне меня существующей силой. Очень может быть, друг мой, что я самый безответственный из безответственных людей и уже давно мог бы принести Риму все те беды, от которых страдают государства, не будь я орудием высшей мудрости, избравшей меня за мои слабости, а не за мои достоинства. Я не подвержен сомнениям и быстро принимаю решения, вероятно, только благодаря сидящему во мне daimon, чему-то явно постороннему, что является воплощением любви, которую боги питают к Риму, и его-то и обожествляют мои солдаты, ему по утрам возносит молитвы народ.
Несколько дней назад я в гордыне своей писал тебе, что не ценю мнения о себе других людей и что ни у кого не ищу совета. А вот к тебе я за ним обращаюсь. Подумай обо всем, что я написал, и поделись со мной своими мыслями, когда мы встретимся в апреле.
А пока что я всматриваюсь во все, что происходит у меня внутри и вокруг меня, особенно в любовь, поэзию и судьбу. Теперь я вижу, что те же вопросы задавал себе всю жизнь, но человек ведь не знает, что он знает или хотя бы желает знать, пока ему не брошен вызов и не пришла пора рискнуть всем, что у него есть. Мне брошен вызов: Рим опять требует, чтобы я превзошел самого себя. А времени у меня осталось уже мало.
IX. Кассия, жена Квинта Лентула Спинтера, из ее виллы в Капуе — досточтимой деве Домитилле Аппии, двоюродной сестре Клодии, девственной весталке
(10 сентября)
Наша долголетняя дружба, дорогая Домитилла, вынуждает меня немедля написать тебе о решении, которое я приняла. Я решила просить об отстранении Клаудиллы (Клодии Пульхры) от участия в Таинствах Доброй Богини.
Я понимаю всю серьезность своего поступка.
Клаудилла остановилась в моем доме на три дня по дороге из Байи в Рим, и тут произошел ряд событий, которые я считаю себя обязанной тебе изложить.
По приезде она рассыпалась в любезностях. Она всегда делала вид, будто любит меня, моего мужа и моих детей, и не сомневается в том, что и мы любим ее. Однако я давно знаю, что она никогда не любила ни одной женщины, даже своей матери, да, пожалуй, и ни одного мужчины.
Как тебе известно, принимать в доме Клаудиллу — все равно что принимать проконсула, возвращающегося из своей провинции. Она приезжает с тремя приятелями, десятком слуг и дюжиной верховых, сопровождающих ее носилки.
Ну, мы с мужем давно усвоили, что твоя двоюродная сестра не переносит зрелища чужого счастья. В ее присутствии мы не позволяем себе обмениваться ласковыми взглядами, не смеем целовать детей, боимся показать новшества на нашей вилле, избегаем любоваться произведениями искусства, собранными мужем. Однако бессмертные боги одарили нас счастьем, и мы недостаточно хитры, чтобы притворяться, даже когда гостеприимство и требует, чтобы мы брюзжали и делали вид, что недовольны своей судьбой.
Клаудилла вначале всегда ведет себя хорошо. В первый день она была со всеми приветлива. Даже муж признал, что она прекрасная собеседница. После обеда мы играли в «портреты», и она, как сказал муж, нарисовала такой прекрасный портрет диктатора, лучше которого и представить себе нельзя.
Конечно, то, что я тебе расскажу, может тебе показаться не таким важным, как мне, кое-что ты сочтешь даже мелочью.
На второй день она решила поставить все вверх дном. И беда не в том, что она оскорбила меня; но она огорчила мужа, и это приводит меня в бешенство. Муж увлекается генеалогией и гордится доблестью рода Лентулов Спинтеров. Она подняла их на смех. «Ах, дорогой Квинт, не можешь ведь ты всерьез… какие-то там градоправители у этрусков… но никто ведь на самом деле не верит, что их хотя бы приметил Анк Марций… ну, семья, конечно, Квинт, у вас почтенная…» Я, правда, в этих делах не разбираюсь, а она помнит все родословные вплоть до Троянской войны. Она сама прекрасно знала, что лжет, и только старалась отравить мужу жизнь, что ей и удалось.
Не предупредив, она пригласила к нам поэта Гая Валерия Катулла. Мы были рады ему, особенно мои дети, хотя предпочли бы видеть его одного. При ней он либо на седьмом небе, либо в аду. На этот раз он был в аду, а вскоре и все мы оказались там вместе с ним.
Пойми, Домитилла, я не бодрствую по ночам, подглядывая, посещают ли мои гости покои друг друга, но мне не нравится, когда мой дом используют для такого жестокого надругательства. Поскольку твоя кузина сама пригласила Валерия Катулла, я могла предполагать, что она благосклонна к любви, которую он так прославил в своих, на мой взгляд, прекрасных стихах. Но, видимо, я ошибаюсь: она избрала мой дом не только для того, чтобы запереть перед ним свою дверь, но и чтобы запереться здесь с другим, с этим жалким поэтишкой Вером. Муж проснулся ночью от шума в конюшне — это Катулл хотел взять лошадь, чтобы тут же уехать в Рим. Он был вне себя от ярости, пытался извиняться, что-то бормотал, плакал. В конце концов муж увел его через дорогу на старую виллу и не оставлял до утра. Даже весталка, дорогая моя Домитилла, может понять, каким постыдным было ее поведение, как оно опозорило наш женский пол — и сколько в этом подлости. Наутро я с ней заговорила об этом. Холодно на меня поглядев, она заявила: «Все очень просто, Кассия. Я не позволю ни одному мужчине — понимаешь, ни одному! — воображать, будто он имеет на меня какие-то права. Я совершенно свободна. Катулл претендует на власть надо мной. Мне надо было тут же ему показать, что ничьей власти я не признаю. Вот и все».
Я сразу не нашлась, что ответить, но потом мне пришли в голову тысячи возражений. Надо было дать волю первому побуждению и попросить ее немедленно оставить мой дом.
Когда мы в тот день кончали обедать, дети пришли во двор со своим воспитателем, чтобы перед заходом солнца вознести у алтарей молитвы. Ты знаешь, как набожен муж, да и все у нас в доме. Клаудилла в их присутствии стала насмехаться над обрядом с солью и возлияниями. Я больше не в силах была терпеть. Я встала и попросила всех уйти со двора. Когда мы остались одни, я предложила ей покинуть наш дом вместе с ее спутниками. В четырех милях от нас на дороге есть постоялый двор. Я сказала, что буду ходатайствовать о ее недопущении к Таинствам.
Она молча на меня смотрела.
Я сказала: «Вижу, ты даже не понимаешь всей оскорбительности твоего поведения. Если тебе удобнее, можешь уехать утром». И ушла.
Утром она вела себя крайне корректно. И даже извинилась перед мужем за те слова, которые могли показаться ему неприличными. Но я от своего решения не отказалась.
X. Клодия по дороге в Рим — Цезарю
(10 сентября. Из постоялого двора на двадцатой миле, к югу от Рима)
(Письмо написано по-гречески.)
Сын Ромула, потомок Афродиты!
Я поняла всю меру твоего презрения, получив письмо, где ты сожалеешь, что не можешь присутствовать на обеде у моего брата. Оказывается, в этот день ты занят в Испанском комитете. И ты говоришь это мне, хотя я отлично знаю, что Цезарь делает все, что хочет, а тому, чего он хочет, беспрекословно повинуются и Испанский комитет, и трепещущие перед ним проконсулы.
Ты давно внушил мне, что мне нельзя видеть тебя наедине и нельзя приходить в твой дом.
Ты меня презираешь.
Я это понимаю.
Но у тебя есть обязательства по отношению ко мне. Ты сделал меня тем, чем я стала. Я — твое творение. Ты, чудовище, сделал чудовищем и меня.
Мои посягательства не имеют ничего общего с любовью. Не говоря даже о любви, не говоря ни о какой любви — я твое творение. Чтобы не докучать тебе тем, что зовется любовью, я ударилась в скотство, и сделанного не воротишь, нечего об этом говорить. Ты, понимающий все (как бы ты ни напускал на себя благородство и равнодушие), понимаешь и это. Но, может, твоя показная тупость не позволяет тебе знать то, что ты знаешь?
Чудовище! Тигр! Гирканский тигр!
У тебя есть обязательства по отношению ко мне.
Ты научил меня всему, что я знаю, но остановился на полпути. Ты утаил от меня самое главное. Ты научил меня тому, что мир неразумен. Когда я сказала, что жизнь ужасна, — уж это ты помнишь и помнишь, почему я так сказала, — ты ответил: нет, жизнь не ужасна и не прекрасна. Жизнь человеческая не поддается оценке и лишена смысла. Ты сказал, что вселенная и не ведает о том, что в ней живут люди.
Сам ты в это не веришь. Я знаю, знаю, что ты мне должен сказать что-то еще. Кто же не видит, что ты ведешь себя так, будто в чем-то для тебя есть смысл, есть разумность. Но в чем?
Я бы могла стерпеть свое существование, если бы знала, что и ты несчастен; но я вижу, что ты вовсе не несчастен, а значит, ты мне должен сказать что-то еще, понимаешь, должен.
Зачем ты живешь? Зачем ты трудишься? Почему ты улыбаешься? Один мой друг, если допустить, что у меня есть друзья, описал мне, как ты вел себя у Катона. Ты был приветлив, обворожил общество, всех рассмешил и без конца разговаривал — ну кто бы в это поверил? — с Семиронией Метеллой. Неужели тобой движет тщеславие? Неужели тебе достаточно знать, что в Риме да и за его пределами твои будущие биографы расписывают тебя человеком великодушным и полным обаяния? Твоя жизнь не ограничивалась позированием перед зеркалом.
Кай, Кай, скажи, что мне делать. Скажи мне то, что мне нужно знать. Дай хоть раз с тобой поговорить, дай тебя послушать.
Позже.
Нет, я не буду к тебе несправедлива, хотя ты несправедлив ко мне.
Не ты один сделал меня тем, чем я стала, хотя ты и довершил эту работу.
Чудовищное превращение сотворила со мной жизнь. Но ты единственный из живых знаешь мою историю, и это накладывает на тебя обязательства. Ведь нечто подобное жизнь сотворила и с тобой.
Х-А. Цезарь — Клодии
(не обратной почтой, а дня на четыре позднее)
Жена моя, тетка и я придем к тебе на обед; не говори никому, пока не получишь от меня официального подтверждения.
Ты пишешь мне о том, что я тебе когда-то говорил. Либо ты обманываешь себя, либо меня, либо тебя подвела память. Надеюсь, что в беседе твоих гостей — а мне говорят, что в их числе Цицерон и Катулл, — будут затронуты темы, о которых и ты кое-что знала, но успела забыть.
Тебе известно, до какой степени я восхищался тем, чем ты была. Вернуть это восхищение, как и многое другое, в твоих силах. Мне всегда было трудно снисходительно относиться к тем, кто себя презирает или осуждает.
XI. Цезарь — Помпее
(13 сентября. Из своей канцелярии в восемь часов утра)
Надеюсь, дорогая жена, ты поняла всю несправедливость твоих утренних упреков. Прошу простить меня за то, что я ушел, не ответив на твой последний вопрос.
Мне очень горько тебе в чем-то отказывать. И вдвойне горько снова и снова отказывать в одной и той же просьбе, повторяя доводы, которые прежде, по твоим же словам, для тебя были понятны, убедительны и приемлемы. А так как повторять одно и то же утомительно мне и обидно тебе, разреши мне изложить кое-какие свои соображения письменно.
Я ничего не могу сделать для твоего двоюродного брата. С каждым днем сведения о его жестокости и распутстве на острове Корсика распространяются все шире. Это может превратиться в громкий общественный скандал; враги захотят возложить ответственность на меня, что отнимет много времени, которое я мог бы употребить на другие дела. Я тебе говорил, что я могу дать ему любую военную должность в пределах разумного, но в течение пяти лет не буду назначать ни на один административный пост.
Повторяю, тебе не подобает посещать религиозные службы в храме Озириса. Я знаю, там происходит много удивительного, чему нелегко найти объяснение; знаю также, что египетские обряды возбуждают сильные чувства и верующие уходят в том состоянии, какое и они и ты называете «счастливым» и «возвышенным». Поверь, дорогая жена, я тщательно изучил эти египетские верования. Они представляют опасность для нашей римской натуры. Мы люди деятельные, мы верим, что даже мелкие решения повседневной жизни имеют моральное значение; что наше отношение к богам тесно связано с нашим поведением. Я знал в Египте женщин, занимающих такое положение, как ты. Время от времени они посещают храмы, чтобы подготовить душу к бессмертию; они катаются по полу и вопят; они предпринимают долгие воображаемые путешествия, чтобы «отмыть душу» и перейти из одной стадии божественного состояния в другую. Наутро они возвращаются домой и снова бьют своих слуг, обманывают мужей, жадничают, орут и ссорятся, потакают своим слабостям и проявляют полнейшее равнодушие к тому, что большинство народа живет в нищете. Мы, римляне, знаем, что наша душа прикована к земным делам, а ее «странствия и очищения» — всего лишь наши обязанности, наши дружеские отношения и те страдания, которые нам выпадают на долю.
Что же касается обеда у Клодии, прошу тебя довериться в этом деле мне. Во всех прочих вопросах я готов привести тебе свои доводы; я мог бы поступить так же и тут, но письмо мое и так затянулось, а у нас обоих есть более полезные занятия, чем копаться в жизни этой пары. Они могли бы принести незаурядную пользу римскому государству, как и их предки, вместо того чтобы быть посмешищем толпы и пугать своих сограждан. Все это они хорошо знают сами. И не ждут, что мы примем их приглашение.
Ты говоришь, что назначенные мной люди повсюду наживаются за счет казны. Я удивился, когда утром это услышал. Мне кажется, дорогая Помпея, что не дело жены, наслушавшись сплетен, дразнить мужа его неумением править или постыдной небрежностью в делах. Куда достойнее было бы просить у него объяснений по поводу клеветы, затрагивающей также и ее честь. Если ты приведешь мне пример такой нечестной наживы, я тебе отвечу. И отвечу подробно, потому что мне придется поведать тебе о трудностях управления миром; об уступках жадности способных людей, на которые приходится идти; о вражде, постоянно царящей между подчиненными; о розни между покоренными странами и исконными областями республики и о тех методах, которыми помогаешь своевольным людям катиться к собственной гибели.
Я не могу без конца опровергать твои попреки в том, что я тебя не люблю, не унижая нас обоих. Все мои заверения не убедят тебя в моей любви, если ты ее не чувствуешь поминутно. Я каждый день возвращаюсь к тебе от своих трудов с самыми нежными намерениями; я провожу с тобой все время, свободное от государственных дел; даже отказ в твоих просьбах — это лишь забота о твоем достоинстве и счастье.
И наконец, дорогая Помпея, ты меня спрашиваешь, неужели мы не можем получать от жизни хоть какое-то удовольствие? Прошу тебя, не задавай мне этого вопроса не подумав. Всякая жена неизбежно сочетается браком не только с мужем, но и с тем положением, в каком он находится. Мое не дает тех досугов и той свободы, которыми наслаждаются другие; однако твоему положению завидуют многие женщины. Я всячески постараюсь внести побольше разнообразия в твои развлечения; но обстоятельства нелегко изменить.
XII. Корнелий Непот. Заметки
(Великий историк и биограф, по-видимому, вел записи событий своего времени, пользуясь самыми разными источниками, которые должны были послужить материалом для будущего труда.)
Сестра Кая Аппия сказала моей жене, что за обедом Цезарь обсуждал с Бальбом, Гирцием и Аппием, возможен ли перевод правительства в Византию или Трою. Рим: слишком маленькая гавань, наводнения, резкие перемены погоды, болезни вследствие перенаселения, теперь уже непоправимого. Возможность военного похода на Индию?
Снова обедал с Катуллом в Умилиевом клубе для плавания и игры в шашки. Очень приятное общество, молодые аристократы, представители самых знатных родов Рима. Расспрашивал их о предках; от их полнейшего неведения и, должен добавить, равнодушия мне стало грустно.
Они избрали Катулла своим почетным секретарем — по-моему, из деликатности, зная, как он беден. А теперь ему обеспечено удобное жилище прямо над рекой.
Он у них и поверенный, и советчик. Они рассказывают ему обо всем: о своих ссорах с отцом, с любовницей, с ростовщиком. Трижды во время обеда дверь распахивалась, вбегал взволнованный член клуба с криком: «Где Сирмион?» (кличка, данная ему по имени его летней дачи на озере Гарда) — и уединялся с Катуллом в углу, где они шепотом совещались. Но его популярность, видимо, нельзя приписать тому, что он все им спускает, он не менее строг с ними, чем их отцы, и, хотя весьма распущен на язык, в быту непритязателен и пытался привить им склонность к «старинному римскому образу жизни». Странно.
Друзей своих он выбирает из числа наименее образованных членов клуба, или, как он сам их зовет в лицо, «варваров». Один из них рассказал мне, что Катулл в трезвом виде никогда не разговаривает о литературе.
По-видимому, он и более вынослив, чем кажется по виду, и менее крепок здоровьем. С одной стороны, он может перещеголять чуть ли не всех своих товарищей в тех состязаниях в силе и устойчивости, которые обычно затевают на исходе пирушек, — перебраться по потолку, перекидываясь с одной балки на другую, переплыть Тибр, держа в одной руке орущую кошку, которая должна остаться сухой. Это ведь он украл золотую черепаху с крыши Тибуртинского клуба гребли, о чем подробно говорится в песне, написанной им для своей команды. С другой стороны, он явно слаб здоровьем. Кажется, у него болезнь не то селезенки, не то кишечника.
Его любовная связь с Клодией Пульхрой всех изумляет. Надо разузнать подробности.
Марина, сестра нашего второго повара, служит в доме у диктатора. Она со мной откровенна. Какое-то время припадков священной болезни не было. Диктатор проводит все вечера дома со своей женой. Он часто поднимается среди ночи, уходит в свой кабинет, нависающий над скалой, и работает. Там у него стоит походная койка, и порой он спит на открытом воздухе.
Марина отрицает, что у него бывают приступы ярости. «Все говорят, господин, что он приходит в бешенство, но это, наверное, в сенате или в суде. За пять лет я только три раза видела, как он вспылил, но он никогда не сердится на слуг, даже если они допускают ужасные ошибки. Хозяйка часто выходит из себя и грозит нас высечь, а он только смеется. Мы все трясемся от страха в его присутствии, даже не пойму почему — ведь добрее хозяина нет на свете. Наверно, потому, что он все время за нами наблюдает и видит нас насквозь. Глаза его обычно улыбаются, словно он знает, что за жизнь у слуг и о чем мы разговариваем на кухне. Мы очень хорошо понимаем того повара, который покончил с собой, когда загорелся очаг. В доме были важные гости, домоправитель не хотел сам докладывать хозяину, и заставил повара. Повар вошел и сказал, что обед испорчен, а диктатор только засмеялся и спросил: «А финики и салат у нас есть?» И тогда повар пошел в сад и зарезался кухонным ножом. Хозяин так рассердился — ну просто ужас! — когда узнал, что Филемон, его любимый писец, проживший у него долгие годы, хотел его отравить. И это был даже не гнев, а какой-то гнет, ужасный гнет. Помните, он не позволил его пытать, а приказал, чтобы его тут же убили. Начальник полиции очень разозлился: он надеялся под пыткой узнать, кто его подослал. Но то, что сделал хозяин, было, по-моему, хуже всякой пытки. Он созвал всех нас в комнату, человек тридцать, и долго-долго смотрел на Филемона молча, можно было услышать, как муха пролетит. А потом стал говорить, что живем мы на земле все вместе и как между людьми понемногу вырастает доверие — между мужем и женой, полководцем и солдатом, хозяином и слугой… Страшнее упрека я в жизни не слышала; когда он говорил, две девушки даже упали в обморок. Казалось, будто в комнату сошел сам бог, мою хозяйку потом даже вырвало. Октавиан вернулся домой из школы в Аполлонии. Он очень молчаливый мальчик и ни с кем никогда не разговаривает. Слышала, как секретарь с Крита говорил секретарю из Римини, что в Рим, может быть, приедет египетская царица, эта ведьма Клеопатра. Хозяйка вертит им как хочет. Стоит ей заплакать — и он совсем теряет рассудок. Мы этого не понимаем, потому что он всегда прав, а она нет».
На обеде был Цицерон. Полон кокетства: жизнь его кончена, чернь неблагодарна и прочее. О Цезаре: «Цезарь не философ. Вся его жизнь — это долгое бегство от всякого умствования. Но он достаточно умен, чтобы не выставлять напоказ убожество своих обобщений; он никогда не дает беседе перейти на философские темы. Люди его типа так страшатся всяких размышлений, что упиваются своей привычкой действовать мгновенно и решительно. Им кажется, что они спасаются от нерешительности, на самом же деле они просто лишают себя возможности предвидеть последствия своих поступков. Более того, они тешат себя иллюзией, что никогда не совершают ошибок, ибо одно действие стремительно следует за другим и нет никакой возможности восстановить прошлое и сказать, что другое решение было бы правильнее. Они делают вид, будто каждый поступок был вызван непреодолимыми обстоятельствами и каждое решение — необходимостью. Это порок военачальников, для которых всякое поражение — триумф, а всякий триумф — почти поражение.
Цезарь уверен в безотлагательности всего, что делает. Он старается исключить какую бы то ни было промежуточную стадию между побуждением и поступком. Он водит за собой секретаря, куда бы ни пошел, диктует письма, эдикты, законы в ту самую минуту, когда они приходят ему в голову. Таким же образом он повинуется любой естественной потребности, когда ее ощущает. Он ест, когда голоден, и спит, когда его клонит ко сну. Много раз во время важнейших совещаний, в присутствии консулов и проконсулов, которые ехали с другого конца земли, чтобы посоветоваться с ним, он покидал нас всех и с извиняющейся улыбкой уходил в соседние покои; но каков был в ту минуту зов природы, нам неизвестно — быть может, он хотел уснуть, поесть похлебки или обнять одну из трех девочек-любовниц, которых всегда держит под рукой. Должен сказать ему в оправдание, что такие вольности он разрешает не только себе, но и другим. Никогда не забуду, как он был поражен, узнав, что какой-то посол пожертвовал ради такого собрания обедом и остался голоден. Однако — разве поймешь этого человека — во время осады Диррахии он голодал вместе со своими солдатами, отказавшись от рациона, оставленного для командования. Несвойственная ему жестокость к врагу после снятия осады объяснялась, по-моему, только пережитыми муками голода. Свои привычки он возвел в теорию, по которой выходит, будто, отрицая, что ты животное, превращаешься в получеловека».
Цицерон не любит подолгу обсуждать Цезаря, но не прочь приукрасить собственный портрет чертами диктатора. И все же мне удалось заставить его вернуться к нашей теме.
«Каждому человеку нужна аудитория: наши предки верили, что за ними наблюдают боги; наши отцы жили, чтобы ими восхищались окружающие; для Цезаря богов не существует, и он равнодушен к мнению других. Он живет ради признания потомков. Вы, биографы, Корнелий, — вот его аудитория. Вы — его движущая сила. Цезарь пытается прожить великую биографию: в нем не хватает артистизма даже на то, чтобы понять, до чего несхожа реальная жизнь с литературой». Тут Цицерон покатился со смеху. «Он дошел до того, что прибегает в жизни к приему, возможному только в искусстве: к вычеркиванию. Он вычеркнул свою юность. Да, да, просто вычеркнул. Его юность, какой он ее себе представляет, какой ее видят все, — чистейшее творение его более зрелых лет. А теперь он принялся вычеркивать Галльскую и Гражданскую войны. Я как-то раз подробно исследовал пять страниц его «Записок» вместе с моим братом Квинтом, который был при Цезаре во время описываемых событий. Там нет и крупицы лжи, но на десятой строке истина начинает вопить; она бегает встрепанная и обезумевшая по притворам своего храма, она себя не узнает. «Я могу стерпеть ложь, — кричит она, — я не могу вынести этого удушающего правдоподобия!»
(Далее следует отрывок, где Цицерон обсуждает, вероятно ли, что Марк Юний Брут — сын Цезаря. Он приведен в документе, открывающем книгу четвертую.)
«Не забывайте, что в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был нищим. Цезарь и деньги! Цезарь и деньги! Напишет ли кто об этом? И когда? Среди самых фантастических мифов Греции нет подобного — о расточителе, не имеющем никаких доходов, о щедром на чужое золото. Сейчас не время в это вдаваться, но говоря кратко: Цезарь никогда не считал деньги деньгами, если они не пущены в дело. Он никогда не воспринимал их как обеспечение будущего, как предмет для хвастовства, свидетельство своего величия, власти или влияния. Деньги для Цезаря становятся деньгами только в тот миг, когда благодаря им что-то происходит. Цезарь понимал, что деньги — для тех, кто знает, что с ними делать. Правда, мультимиллионеры явно не знают, что делать со своими деньгами — они либо их копят, либо пускают пыль в глаза, а вот безразличный к деньгам Цезарь всегда мог найти самое разнообразное применение деньгам — что, конечно, глубоко поражало и даже пугало богатых. Он всегда мог пустить в ход чужое золото. Он умел выманить золото из ларчиков своих друзей.
Но разве его отношение к деньгам не сложнее, чем равнодушие? Разве оно не означает, что он не боится окружающего нас мира, не боится будущего, не боится тех грядущих трудностей, под угрозой которых живет столько людей? А разве страх наш в большинстве своем не память об уже пережитом страхе и уже пережитых трудностях? Ребенок, который не видел, что его старшие боятся грома и молнии, и не думает их бояться. Мать и тетка Цезаря были поразительные женщины. Вещи пострашнее грома и молнии не заставили бы их измениться в лице. Я не сомневаюсь, что в ужасные времена проскрипций и резни, когда они ночью бежали по объятому пожаром краю и прятались в пещерах, подросток мог увидеть в них только спокойствие и самообладание. Может быть, в этом корень всего или же он тянется дальше и глубже? Может, он считает себя богом, потомком рода Юлиев, рожденных Венерой, и поэтому неподвластным мирскому злу, недоступным для земных радостей?
Так или иначе, все эти годы он жил без всяких средств в маленьком домике, среди простого люда, вместе с Корнелией и дочуркой и при этом оставался патрицием из патрициев. Пурпурная кайма на его тоге не хуже, чем у Лукулла, он позволял себе возражать Крассу, противоречить мне, — нет, его никогда не поймешь до конца!
Однако же — и это очень тонкое обстоятельство — Цезарь обожает обогащать других. Сейчас враги прежде всего обвиняют его в том, что он позволяет своим приспешникам приобретать немыслимые состояния, а большинство из них — мерзавцы. Но ведь разве это не значит, что он их презирает? Он же считает обладание богатством и его умножение слабостью, нет, что я говорю? — трусостью».
Пригласил на обед Азиния Поллиона. Он говорил о Катулле и о злых эпиграммах поэта на диктатора. «Да, но вот что самое странное. В разговорах поэт защищает Цезаря от ругани своих приятелей, а в сочинениях льет на него ушаты яда. И вот что примечательно: Катулл, будучи крайне распущен в стихах, на удивление строг в личной жизни сам и так же строго судит поведение других. Он, как видно, считает свои отношения с Клодией Пульхрой — о них он никогда не говорит — чистой, возвышенной любовью, которую никак нельзя равнять с мимолетными романами приятелей. Его эпиграммы на диктатора, на первый взгляд политические, полны похабщины. Ненависть к Цезарю, как видно, питают два источника: отвращение к общественной аморальности диктатора и отвращение к тому типу людей, которыми диктатор себя окружает и кому он дает обогащаться за общественный счет. Возможно также, что он видит в диктаторе соперника или ревнует к нему Клодию Пульхру задним числом».
XIII. Катулл — Клодии
(14 сентября)
(11-го и 13-го Катулл написал два черновика этого письма. Они так и не были отправлены, однако их прочел Цезарь в числе прочих бумаг, взятых в комнате Катулла и переписанных для Цезаря секретной полицией. Эти черновики приведены в книге второй, как документ XXVIII.)
Я не хочу закрывать глаза на то, что наш мир — обитель мрака и ужаса.
Дверь, запертая тобой в Капуе, мне об этом говорит.
Ты и твой Цезарь пришли, чтобы научить нас вот чему: ты — что любовь и внешняя красота — обман; он — что в самых дальних уголках сознания таится только жажда самоутверждения.
Я знал, что ты тонешь. Ты мне и сама это говорила. Руки твои и голова еще над водой. Но я тонуть с тобой не намерен. Та дверь, которую ты передо мной заперла, была последним зовом о помощи, ибо теперь в тебе может кричать только жестокость.
Я не могу тонуть с тобой потому, что у меня осталось еще одно дело. Я еще могу кинуть оскорбления этому миру, который нас оскорбляет. Я могу оскорбить его, создав прекрасное произведение. Я его создам, а потом положу конец долгому распятию души.
Клаудилла, Клаудилла, ты тонешь. Ах, если бы я был глух, ах, если б я не видел этой борьбы, не слышал этих криков.
XIII-А. Клодия — Катуллу
(В тот же день обратной почтой)
(По-гречески)
Маленький Олень, верно, все верно, но как же я могу не быть с тобой жестокой? Терпи, мучайся, но не бросай меня.
Я все тебе расскажу, это мое последнее спасение. Приготовься услышать самое страшное: дядя изнасиловал меня, когда мне было двенадцать лет, и на чем, на ком мне это выместить? Такое? В фруктовом саду, в полдень. На солнцепеке. Ну вот, теперь я тебе сказала все.
Мне ничего не поможет. Я и не прошу помощи. Я прошу только быть моим товарищем в ненависти. Я не могла простить тебе, что ты недостаточно ненавидишь.
Приди ко мне. Приди ко мне, Маленький Олень.
Ну что тут можно сказать?
Приди.
XIII-Б. Катулл
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
Да! Ненавижу и все же люблю! Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.
XIV. Азиний Поллион из Неаполя — Цезарю в Рим
(18 сентября)
(Азиний Поллион, путешествуя в качестве доверенного лица Цезаря, отвечает на двадцать вопросов, присланных ему диктатором.)
Военачальник!
(Далее следует несколько страниц, где излагаются в высшей степени специальные операции крупнейших банковских контор, расположенных вблизи Неаполя; такой же длинный отчет касательно кое-каких проблем управления Мавританией, потом идет сообщение о том, как в Африке грузят на корабли диких зверей для римских праздничных игр.)
Вопрос 20. О причинах недоброжелательства Гая Валерия Катулла к диктатору и сообщение о любовной связи поэта с госпожой Клодией Пульхрой.
Я много раз пытался выяснить у поэта, почему он питает к вам такую вражду. Имейте в виду, что Валерий — натура на редкость сложная и противоречивая. По большей части он рассудителен, терпим и ровен в обращении. Несмотря на то что он лишь немногим старше большинства членов нашего клуба (Эмилиева для игры в шашки и плавания), он давно играет там роль советчика и умиротворителя и, как мы говорим, «главы застолья». Однако существуют три темы, о которых он не может ни слышать, ни говорить, не впадая в безудержную ярость. Он бледнеет, краснеет, голос у него срывается, а глаза сверкают. Я не раз видел, как он дрожит от гнева. Эти темы: плохие поэты, распутное поведение женщин, вы и кое-кто из ваших приближенных. Я уже имел случай докладывать, что большинство членов клуба сочувствуют республиканцам. Это в еще большей мере относится к двум другим клубам, членами которых состоят только молодые патриции: к Тибуртинскому клубу гребли и к Красным Парусам. В клубе Сорока Ступенек, который крайне горд тем, что его учредили вы, дело обстоит иначе. Однако старые клубы в своих республиканских взглядах не идут дальше застольной беседы. Молодые люди очень плохо осведомлены в государственных делах и не настолько ими интересуются, чтобы выслушивать длинные рассуждения на эту тему, в том числе и Валерий. Его недовольство все время меняет мишень: то он обличает безнравственность некоторых правящих лиц, то излагает политические теории, а то приписывает нам ответственность за грабежи, якобы совершенные в пригородах.
Меня не покидает мысль, что необъяснимое раздражение, которое он высказывает но трем этим поводам, всего лишь следствие того тяжелого положения, и какое он попал, из-за Клодии Пульхры. Надо же было случиться, чтобы из всех женщин Рима он влюбился именно в нее. Когда восемь лет назад он приехал в столицу, Клодия уже была в клубе всеобщим посмешищем, хотя ее муж еще был жив. Смеялись над ней не из-за обилия любовников, а из-за того, что все ее любовные связи всегда протекают одинаково. Сначала она пускает в ход свое очарование, чтобы выведать слабости очередного любовника, а потом делает все, чтобы поглубже его оскорбить, ударив в самое уязвимое место. К несчастью, она делает это не слишком умело. Ей так не терпится поскорее унизить любовника, что чары ее быстро теряют силу. Некоторые члены клуба, настроившись по крайней мере на полгода блаженства, возвращались посреди первой же ночи, даже не захватив своего плаща.
Все, кто знает Валерия, поражены, что он любит эту женщину с такой страстью и так долго. Мой брат, а он куда более близок с поэтом, чем я, уверяет: когда тот говорит о Клодии, кажется, что речь идет о человеке, которого мы совсем не знаем. Никто не отрицает, что после Волумнии она на холме самая красивая, несомненно, самая остроумная и даже самая умная и что развлечения, пикники и обеды, которые она устраивает, не имеют себе равных в Риме; но Валерий твердит моему брату о ее мудрости, о ее доброте к обездоленным, о душевной деликатности, о величии ее души. Я знаю ее уже много лет; мне весело в ее обществе; но я никогда не забываю, что она ненавидит самый воздух, которым дышит, все и вся вокруг. Считается, что тут есть одно исключение — ее брат Публий. У Корнелия Непота есть на этот счет даже теория: ее упорная месть мужчинам скорее всего следствие кровосмесительной связи с братом. Возможно, но я так не думаю. Брат раздражает ее, как ребенок не очень любящую мать. Страсть или охлаждение после страсти усилили бы и это раздражение, и чувство собственности.
Мое восхищение поэтом и даже любовь к нему очень велики. Я был бы просто счастлив, если бы прошло увлечение, которое его так мучит, и он отказался бы от мальчишеского предубеждения против моего военачальника.
Госпожа Клодия Пульхра пригласила меня на обед, куда, но ее словам, приглашены и вы, военачальник, и этот самый поэт. Сперва такая затея показалась мне не сулящей ничего доброго, однако, поразмыслив, я решил, что она представит удобную возможность рассеять кое-какие недоразумения. Но я пойму, если вам не захочется присутствовать на этом обеде, и тогда, надеюсь, мне будет позволено устроить нашу встречу с поэтом как-нибудь в другой раз.
XIV-А. Корнеллий Непот. Заметки
Встретил в термах Азиния Поллиона. Сидя в парной, мы снова обсуждали причины ненависти Катулла к нашему Хозяину. «Тут и сомневаться нечего, — сказал он, — все дело в Клодии Пульхре. Однако, насколько я знаю, Цезарь не проявлял к ней интереса. А ты что-нибудь слышал?»
Я ответил, что тоже ничего такого не замечал и откуда бы мне это знать? «По-моему, там ничего и не было. В годы, когда он занимался волокитством, Клодия была еще девчонкой. Нет, между ними наверняка ничего не было; однако по какой-то причине Катулл связывает их друг с другом, я в этом уверен. Эпиграммы на диктатора полны ярости, ожесточения, но обычно бьют мимо. Ты заметил, что все они полны непристойностей? Обличать Цезаря в безнравственности и в том, что он помогал обогащению кое-каких высокопоставленных лиц, — все равно что кидать песок против ветра. В этих эпиграммах есть что-то детское, однако врезаются в память они совсем не но-детски».
Тут он зашептал мне на ухо: «Ты ведь знаешь, как я восхищаюсь нашим Хозяином. И однако же, говорю тебе: лишь человек, который не дал себе труда подумать, не способен выдвинуть против него более конкретные, более убедительные обвинения… Нет, нет… Тут дело ясное: Катуллом движет ревность».
Он помахал руками: «Катулл одновременно и муж и ребенок. Надо его знать, чтобы в это поверить. Ты слышал, что сказал Цицерон, когда впервые прочел его любовные стихи? Нет? Катулл — единственный человек в Риме, который серьезно относится к страсти, и, скорее всего, последний».
XV. Катулл — Клодии
(20 сентября)
Душа моя, душа души моей, жизнь жизни моей, я проспал весь день.
Ах, если бы можно было проспать до (пятницы). Какая мука бодрствовать вдали от тебя; какой неутолимый голод — спать, но не рядом с тобой. В сумерках я вышел с Аттием — новая мука: думать только о тебе и не говорить о тебе. Сейчас полночь. Я писал, писал, а потом рвал написанное. Ах, нега и безумие любви, какой язык может их выразить? И зачем мне пытаться, зачем я родился на свет — затем, чтобы злые демоны терзали меня, заставляя рассказывать о них?
Забудь, ну забудь же все колкости, что мы наговорили друг другу. Страсть — наша радость и в то же время злобный враг. Боги мстят нам тем, что мы не можем навечно и до конца слиться воедино. Душа ярится оттого, что существует тело, а тело — оттого, что есть душа.
Но, ах, давай добьемся того, что удавалось немногим. Давай сгорим оба, чтобы превратиться в одно, и, ах, Клаудиллина, давай же сотрем прошлое, растопчем его. Поверь, его больше нет. Будь гордой, не позволяй себе вспоминать его, в твоей власти его презреть. Решись каждое утро быть новой утренней Клаудиллой.
Я целую тебя, чтобы спрятать от тебя свои глаза. Я обнимаю тебя. Я целую тебя. Целую тебя. Целую тебя.
XVI. Помпея — Клодии
(21 сентября)
Вот письмо от него к тебе. Письмо просто ужасное, и мне стыдно его пересылать.
И все же! Как видишь, я могу прийти. Но не меня за это благодари. Почему ты сразу ему не сказала, что там будет этот поэт? Иногда мне кажется, что мой супруг ни о чем, кроме поэзии, и не думает. Чуть ли не каждую ночь он читает в постели мне вслух стихи. Вчера — Лукреция. Все насчет каких-то атомов, атомов. Только он не читает — он их знает наизусть. Ох, милочка, он такой странный человек. Всю эту неделю я его просто обожаю, и все равно он такой странный человек. Клодиолла, я только что узнала, какое прозвище дал ему Цицерон. Вот умора! В жизни так не смеялась. (Трудно установить, какая из кличек, данных Цицероном Цезарю, показалась супруге диктатора такой уморительной. Это мог быть просто Хозяин или одно из более сложных греческих прозвищ — Autophidias, «Человек, живущий так, словно он ваяет статую самого себя»; или «Доброжелательный душитель», выражавшее недоумение современников по поводу массовой амнистии, дарованной Цезарем своим врагам, и его пугающей неспособности выказывать по их адресу малейшую обиду, или «Никого здесь нет, кроме дыма» — фраза из «Ос» Аристофана, ее произносит человек, запертый дома собственным сыном, когда его застигают за тем, что он пытается сбежать через печную трубу.)
Я примерила платье. Это чудо. Я надену этрусскую тиару; юбку дала вышить золотыми бусами — на подоле очень густо, а чем выше к талии, тем реже. Не знаю, разрешено ли это законами против роскоши, но спрашивать у него не собираюсь.
Ты заметила, какой я подала тебе знак во время шествия в день основания Рима? Когда я дерну за мочку правого уха — это будет знак тебе. Я, конечно, не смею вертеть головой ни вправо, ни влево. И хотя он за две мили от меня занят своей шагистикой и выкрикивает какую-то тарабарщину, все равно я знаю, что он не спускает с меня глаз.
Я учу свой текст — ты знаешь для чего (Таинства Доброй Богини). Понимаешь, душка, у меня ведь нет никакой памяти! Да еще эта старомодная речь! Но он мне помогает учить. Верховная жрица сказала, что, раз он верховный понтифик, ему позволено кое-что знать. Конечно, не самое ужасное. Как ты думаешь, кто-нибудь из жен осмелился пересказать это своему мужу? Думаю, нет.
Я слышала, что тетя Юлия тоже приедет к тебе на обед. Она остановится у нас. На этот раз я ее заставлю рассказать о гражданских войнах, когда им приходилось есть змей и жаб и когда они с моей бабушкой поубивали столько людей. Какое странное чувство, наверно, когда кого-нибудь убиваешь!
Обнимаю тебя.
XVI-А. Цезарь — Клодии
(вложено в письмо)
Диктатор шлет нижайший поклон благородной госпоже. Диктатор отложил дела, мешавшие присутствовать ему на обеде, и принимает приглашение благородного Публия Клодия Пульхра и благородной госпожи. Он также просит у них разрешения пригласить к ним в дом после обеда губернатора Испании и депутацию Двенадцати.
Диктатору известно, что для гостей благородной госпожи дает представление греческий мим Эрот. Игру этого мима отличает высокий артистизм. Однако, говорят, ей сопутствует немало непристойностей, особенно в пантомиме под названием «Афродита и Гефест». Крайне нежелательно, чтобы полководцы и правители из Испании и других отдаленных провинций республики вынесли впечатление, что столичные забавы носят подобный характер. Диктатор просит благородную госпожу довести до сведения актера это замечание диктатора.
Диктатор выражает благодарность благородной госпоже и просит пренебречь в начале вечера теми церемониями, которые принято соблюдать в его присутствии.
XVII. Цицерон со своей виллы в Тускуле — Аттику в Грецию
(26 сентября)
Только музы, мой Помпоний, могут утешить нас в утрате всего, чем мы дорожили. Мы стали рабами, но даже раб может петь. Я делаю обратное тому, к чему прибег Одиссей, спасая от гибели себя и своих спутников, — он залепил себе уши, чтобы не слышать сирен, я же целиком предался музам, чтобы не слышать предсмертного хрипа республики и последнего вздоха свободы.
Я с тобой не согласен: я виню во всеобщем удушии только одного человека.
Умирающий призвал этого врача, и он вернул ему все жизненные силы, кроме воли, и тут же превратил его в своего раба. Какое-то время я надеялся, что врач обрадуется выздоровлению больного и даст ему независимость. Но эта надежда рассеялась.
А потому давай общаться с музами — это единственная свобода, которую никто не может у нас отнять.
Сам врач питает интерес к мелодиям, звучащим из этой вселенской тюрьмы. Он послал мне пачку стихов того самого Катулла, о котором ты поминаешь. Я знаком с молодым человеком, и он даже посвятил мне одно из своих стихотворений. Я знал это стихотворение уже год назад, но, клянусь богами, так и не понял, что в нем — хвала или хула. Спасибо и на том, что он не обзывает меня сводником или карманным вором — почти все его друзья удостоились этих игривых прозвищ.
Я не разделяю безмерных восторгов Цезаря. Некоторые стихи не вызывают у меня восхищения, но я питаю к ним слабость. Те, что созданы по греческим образцам, можно назвать самыми блестящими переводами, какие только у нас появлялись, когда же он отходит от греческих первоисточников, мы сталкиваемся с чем-то довольно странным.
Стихи написаны по-латыни, но это не римская поэзия. Катулл пришел к нам из-за границы и несет с собой то искажение родного языка и образа мыслей, которое не может не захлестнуть нашу поэзию. Стихи о Клодии, особенно на смерть ее воробышка, не лишены изящества, но в них есть что-то комичное. Говорят, что они уже нацарапаны на стенах терм и в городе нет ни одного сирийца — разносчика колбас, который не знал бы их наизусть. Воробышек! Говорят, что он часто садился на грудь Клодии — на эту довольно исхоженную площадь, куда только изредка пускали птиц. Ну что ж, примем эту анакреонтическую погребальную песнь о птичке и страстную мольбу о поцелуях без счета — но что я вижу дальше? Внезапный переход, вернее, отсутствие всякого перехода — и вот уже речь идет о смерти; а там, клянусь Геркулесом, щедро изложены все общие места стоической философии.
Soles occidere et redire possunt;
Nobis cum semel brevis lux occissus est
Nox est perpetua et una dormienda.
(Перевод дан во II-Б)
Это высокая печальная мелодия. Я приказал вырезать слова на стене беседки, повернутой к заходящему солнцу, — но при чем тут воробышек и при чем поцелуи? Между началом и концом этих стихов — недопустимая диспропорция. Это уж и не греческая и не римская поэзия. Под внешним строем стиха идет тайный ход мысли поэта, ассоциации идей. В гибели воробышка выражены смерть Клодии и своя собственная смерть.
А если, дорогой мой Помпоний, нам навяжут поэзию с подспудным ходом мысли, у нас скоро воцарится бессмыслица, разгуливающая под видом самой тонкой чувствительности. Поистине наш ум — рыночная площадь, где раб стоит бок о бок с мудрецом, или запущенный сад, где рядом с розой растут сорняки. Банальная мысль может в любой миг по ассоциации вызвать мысль самую возвышенную, а ту в свою очередь можно доказать самой заурядной повседневной подробностью или ею же сразу оборвать. Но это и есть бессвязность; это — наше внутреннее варварство, из которого вот уже шестьсот лет пытаются вывести нас Гомер и другие великие поэты.
Я встречусь с этим поэтом на обеде, который Клодия дает через несколько дней. Там будет Цезарь. Я намерен так повести разговор, чтобы эти истины до них дошли. В жестокой определенности — залог здоровья не только литературы, но и государства.
XVIII. Донесение тайной полиции о Гае Валерии Катулле
(22 сентября)
(Такие донесения поступали к диктатору ежедневно. В них приводились перехваченные письма, спровоцированные, подслушанные разговоры, сведения о лицах или деятельности лиц, имена коих часто указывал полиции сам диктатор.)
Объект 642. Гай Валерий Катулл, сын Гая, внук Тита, патриций из области Вероны. Возраст двадцать девять лет. Проживает в Эмилиевом клубе для игры в шашки и плавания. Общается с Фицинием Мелой, братьями Поллионами, Корнелием Непотом, Луцием Кальконом, Мамилем Торкватом, Орбацием Цинной, госпожой Клодией Пульхрой.
Бумаги в комнате объекта были просмотрены. Среди них семейные и личные письма, а также большое количество стихов.
Объект не проявляет интереса к политике, и надо полагать, что слежка за ним может быть прекращена.
(Указания диктатора: «Донесения по объекту 642 должны поступать и впредь. Все документы, обнаруженные на квартире объекта, должны быть переписаны и как можно скорее препровождены».
Тогда диктатору были предъявлены следующие документы.)
XVIII-А. Мать Катулла — Катуллу
Отец принял на себя в городе много новых обязанностей. Он занят с утра до вечера. Урожай хуже, чем мы ожидали. Виноваты в этом частые бури. Ипсита сильно простудилась, но теперь ей лучше. Собаки твои здоровы. Виктор уже довольно стар. Теперь он почти все время спит подле огня.
Мы узнали от поверенного Цецинния, что ты был нездоров. Нам ты об этом не пишешь. Отец очень огорчен. Ты знаешь, какой у нас тут хороший врач и как бы о тебе заботились. Мы просим тебя приехать домой.
Вся Верона знает твои стихи наизусть. Почему ты никогда их нам не посылаешь? Жена Цецинния принесла нам больше двадцати стихотворении. Не странно ли, что стихи, которые ты написал на смерть твоего дорогого брата, мы получили из рук соседки? Отец носит их повсюду с собой. Тяжело об этом говорить. Они прекрасны.
Я каждый день молюсь, чтобы бессмертные боги тебя оберегали. Я здорова. Напиши нам, когда сможешь. 12 августа.
XVIII-Б. Клодия — Катуллу
(Предыдущей весной)
Как скучно иметь дело с истеричным ребенком.
Не старайся больше меня видеть.
Я не позволю, чтобы со мной говорили в таком тоне. Я не нарушала никаких обещаний, потому что их не давала.
Я буду жить, как мне нравится.
XVIII-В. Аппий — Катуллу
Вот тебе ключ. Никто тебе не помешает. Комнатами иногда пользуется дядя, но он уехал в Равенну.
«О любовь, властительница богов и людей».
XIX. Анонимное письмо жене Цезаря
(написанное женской рукой под диктовку Клодия Пульхра)
Мне сообщили, знатная и благородная госпожа, что вы приняли приглашение завтра вечером отобедать у Клодии Пульхры; я бы не посмела отнимать драгоценное время у той, кто так достойно занимает столь высокое положение, если бы не должна была сообщить вам кое о чем, чего вы не можете узнать от других.
Это письмо должно послужить вам предостережением, за что вы будете мне только благодарны. К великому моему горю я узнала, что Клодий Пульхр питает к вам чувство, далеко выходящее за рамки обычного восхищения. Он, никогда не знавший, что такое любовь, и — увы! — причинивший больше страданий, чем радостей, нашему полу, наконец-то покорен тем богом, который никого не щадит. Вряд ли он когда-нибудь признается вам в своей страсти: уважение к вашему бессмертному супругу скует его уста; но его чувство к вам может пересилить долг и честь.
Не пытайтесь узнать, кто я. Не скрою, одна из причин, почему я вам пишу, — ревность, ибо теперь вы безраздельно владеете сердцем, в котором, как мне казалось, жила любовь ко мне. Вскоре после того, как будет написано это письмо, я покончу с жизнью, потерявшей отныне всякий смысл. И пусть мои предсмертные слова послужат вам предостережением: даже ваше благородство не сможет спасти того, кто подавал такие блестящие надежды, но кто растратил себя в безрассудном разгуле; даже вы не сможете преодолеть влияние его сестры, порочнейшей из женщин; даже вам не отомстить за зло, причиненное им нашему полу. Он верит, что вы могли бы вернуть его на путь добродетели и заставить приносить пользу обществу. Он обманывается — даже вам, знатная госпожа, это не под силу.
XX. Абра, служанка жены Цезаря — Клодии
(30 сентября)
Наши отправятся к вам на обед в три часа. Хозяйка и старая госпожа — на носилках, сам — пешком. Сам веселый. Сама в слезах. Он заставил меня спороть все золотые бусы с платья. Законы против роскоши.
Слышала важный разговор. Простите меня, госпожа. Старая госпожа долго ее увещевала. Говорят, вам, наверное, запретят (внизу полустертое «не пустят») участвовать в церемониях. Старая госпожа говорит: может, запретят, а может, нет. Хозяйка плачет, просит, чтобы старая госпожа этого не допускала. Хозяйка ходила к самому, просила, чтобы не запрещали. Сам очень спокойный, веселый, говорит, что ничего такого не знает и нечего понапрасну беспокоиться.
Пойду причесывать хозяйку. Это на целый час.
Хозяйка расспрашивает о вашем брате.
Мое нижайшее почтение, госпожа.
XX-А. Жена Цезаря — Клодии
Случилось что-то ужасное. Когда мы направлялись к вам на обед, трое людей перескочили через стену и пытались убить моего мужа. Не знаю, тяжело ли он ранен. Мы все вернулись домой. Не знаю, что будем делать. Так огорчена, что не попала к тебе на обед. Обнимаю.
XX-Б. Начальник государственной полиции — начальнику тайной полиции
Мы произвели облаву и задержали двести двадцать четыре человека, застигнутых около места преступления. Применяем пытки. Один убил себя перед допросом.
У дома Публия Клодия Пульхра собралась толпа. Разнесся слух, будто диктатор шел туда обедать, и покушение на убийство приписывают приспешникам Клодия. Толпа начала бросать камин и грозит поджечь его дом.
Несколько слуг Пульхра пытались сбежать через ворота на Тривульцинский проезд, но были избиты толпой.
Позднее.
Толпа возле дома ведет себя все более угрожающе. У Клодия Пульхра находился Марк Туллий Цицерон в одежде бывшего консула. Его проводил домой военный караул. Из толпы в него плевали, кинули несколько камней.
В доме остались Клодия Пульхра, молодой человек, назвавшийся Гаем Валерием Катуллом, и одна служанка.
Там присутствовал и Азиний Поллион, однако, услышав о покушении, он сразу же отправился к диктатору. Так как он был в военной форме, толпа дала ему дорогу и приветствовала его.
Публий Клодий Пульхр сбежал, прежде чем мы успели его задержать.
Позднее.
У дверей дома внезапно появился диктатор в сопровождении Азиния Поллиона и шестерых стражников.
Его восторженно приветствовали. Он обратился к толпе с просьбой разойтись по домам и возблагодарить богов за его спасение. Он заверил народ, что у него нет оснований подозревать жителей этого дома в покушении на его жизнь.
Он во всеуслышание запретил подвергать пытке кого-либо из подозреваемых, пока он сам их не допросит.
Мне он приказал принять все меры к поимке Клодия Пульхра, но обращаться с ним почтительно.
XXI. Азиний Поллион — Вергилию и Горацию
(Письмо написано лет через пятнадцать после изложенных выше событий)
Подагра и нечистая совесть, друзья мои, первые враги сна; прошлой ночью они мне долго не давали покоя.
Дней десять назад за столом у нашего властелина (то есть императора Цезаря Августа) меня вдруг попросили рассказать о любопытных событиях, связанных с несостоявшимся обедом, который Клодия Пульхра давала поэту Катуллу, Цицерону и божественному Юлию в последний год его жизни. К счастью, вскоре после того, как я начал свой рассказ, императора кто-то позвал. Но вы, наверное, успели заметить, как я запинался. Император — человек широких взглядов, но он владыка мира, бог и племянник бога. Как говаривал его божественный дядя: диктаторам надо знать правду, но не надо допускать, чтобы им ее говорили. Я был застигнут врасплох и наскоро старался приноровить свою речь к императорским ушам. Но вы двое должны знать правду, и сегодня, диктуя свой рассказ, я надеюсь забыться и умиротворить своих ночных мучителей.
Мы сидели, ожидая прихода Цезаря и его спутников. Клодия расставила на улице перед домом жрецов и музыкантов; там же собралась большая толпа желающих поглазеть на диктатора. Мы узнали последними, что на его жизнь совершено покушение! С самого начала (и по сей день) римский народ был уверен, что попытку убить высокого гостя предприняли бандиты, нанятые Клодием Пульхром. Пока мы ждали гостей, через стену, огораживающую двор, к нашим ногам стали падать камни и пучки горящей соломы. Наконец кто-то из перепуганных слуг сообщил нам, что произошло. Клодия разрешила мне пойти к Цезарю домой. Так как я был в военной форме, мне удалось пройти через толпу без помехи. Позже я узнал, что Цицерон с порога обратился с речью к толпе, напомнил о своих заслугах перед республикой и просил разойтись по домам; но на толпу его слова не подействовали — она его осыпала оскорблениями; он едва унес ноги и чудом уцелел, а несколько слуг, попытавшихся убежать через садовую калитку, были забиты палками насмерть.
Проходя по Палатинскому холму, я увидел следы пролитой Цезарем крови. Он сидел во дворе своего дома; ему перевязывали раны. Лица слуг были бледны; жена — вне себя от страха; спокойны были только он сам и его тетка. Убийцы дважды пропороли ему правый бок — от горла до пояса. Врач промывал глубокие раны и накладывал повязки из морского мха. Цезарь нетерпеливо над ним подшучивал. Когда я подошел, я увидел в глазах его то выражение, какое наблюдал у него только на войне в минуты величайшей опасности, — взгляд, полный какой-то жадной радости. Он подозвал меня поближе и шепотом спросил, что делается у Клодии. Я ему рассказал.
— Поторопись, мой добрый врач, — сказал он. — Поторопись.
Время от времени появлялись агенты тайной полиции и докладывали, как идут поиски. Наконец врач отошел со словами:
— Цезарь, теперь я поручаю твое исцеление самой природе. А она требует от тебя сна и покоя. Не соизволит ли диктатор выпить это снотворное?
Цезарь поднялся и несколько раз обошел двор, проверяя свои силы и с улыбкой поглядывая на меня.
— Добрый мой врач, — сказал он наконец, — я последую твоему совету через два часа, сперва я должен выполнить свои обязанности.
— Цезарь, Цезарь! — воскликнул врач.
Жена кинулась к его ногам, причитая, как Киферида в трагедии. Он поднял ее, поцеловал и властно поманил меня за собой. В дверях он приказал нескольким стражникам следовать за носилками, и мы быстро двинулись по Палатинскому холму. По дороге он должен был остановиться из-за донимавшей его боли или слабости. Молча прислонясь к стене, он жестом приказал и мне молчать. Несколько минут он тяжело дышал, потом мы снова пустились в путь. Приблизившись к дому Клодии, мы увидели, что полиции никак не удается разогнать толпу. Весь Рим стекался на вершину холма. Когда люди узнали диктатора, толпа взревела и расступилась, чтобы дать ему дорогу. Он шел медленно, улыбаясь направо и налево, кладя руку на плечи тех, кто оказывался рядом. У дверей Клодии он обернулся и рукой подал знак, призывая к тишине.
— Римляне! — сказал он. — Да благословят боги Рим и всех, кто его любит. Да охранят боги Рим и всех, кто его любит. Враги наши покусились на мою жизнь…
Тут он распахнул одежду и показал повязку на боку. Воцарилось мертвое молчание, а потом толпа подняла рев, полный гнева и скорби. Цезарь спокойно продолжал:
— Но я все еще среди вас и по-прежнему могу ревностно служить вашим интересам. Те, кто напал на меня, пойманы. Когда мы расследуем это дело до конца, вам доложат обо всем, что мы узнаем. Возвращайтесь домой, соберите вокруг себя жен и детей, возблагодарите богов, а потом засните спокойно. Каждому отцу семейства будет выдано по мерке пшеницы, чтобы он мог порадоваться вместе со мной и моими близкими счастливому исходу. Ступайте по домам, друзья, не задерживайтесь, ибо ребенок радуется шумно, а муж молча, не выказывая своих чувств.
Он постоял минуту, и многие подходили, чтобы коснуться лбом его руки.
Мы вошли. На дворе стояла Клодия, встречая его там, где полагалось бы стоять ее брату. Позади нее в нескольких шагах, высоко подняв голову, ждал угрюмый Катулл. Цезарь чинно с ними поздоровался и извинился за отсутствие жены и тетки. Клодия тихо попросила прощения за то, что нет ее брата.
— Мы сейчас обойдем алтари, — сказал Цезарь. И обошел их с той неподражаемой смесью покоя и строгости, с какой он выполняет все обряды. Улыбнувшись Катуллу, он вознес краткую молитву заходящему солнцу, как это принято в домах к северу от реки По.
Вдруг он необычайно развеселился. Он обнаружил служанку, которая притаилась за одним из алтарей. Шутливо схватив ее за ухо, он отвел ее на кухню.
— Надо надеяться, что обед не окончательно испорчен. Приготовь нам хоть одно блюдо, а пока ты его готовишь, мы выпьем. Азиний, наполни чаши. Я вижу, Клодия, ты приготовила обед на греческий манер. Что ж, устроим пиршество беседы: ведь собрано отменное общество и у нас вдоволь тем. — Тут он возложил себе на голову венок со словами: — Я буду (по-гречески) Владыкой Пира. За мной выбор темы, награда благоразумному и кара глупцу.
Я пытался попасть ему в тон, но у Клодии словно язык отнялся, и она стояла бледная, не в силах прийти в себя. Катулл лежал, не поднимая глаз, пока не выпил несколько чаш вина. Однако Цезарь продолжал оживленно разговаривать — с Клодией о законах против роскоши и с Катуллом о своем замысле обуздать разливы реки По. Потом, когда столы убрали, Цезарь встал, совершил возлияние и объявил тему нашего симпозиума: является ли поэзия продуктом человеческого ума или же, как утверждают многие, даром богов.
— Прежде, чем мы начнем, — сказал он, — пусть каждый прочтет какие-нибудь стихи, чтобы они напомнили нам, о чем пойдет речь.
Он кивнул мне. Я продекламировал «О любовь, владычица богов и людей» (из трагедии Еврипида «Андромеда», ныне утерянной); Клодия произнесла «Призыв к утренней звезде» Сафо (также утерянный); Катулл медленно прочел начало поэмы Лукреция. Наступило долгое молчание — мы ждали, чтобы начал Цезарь, а я знал, что он с трудом сдерживает слезы, с ним часто это бывает. Отпив большой глоток вина, он прочел с деланной небрежностью стихи Анакреона.
Первому выпало говорить мне. Как вы знаете, я чувствую себя свободнее в торговой конторе или на военном совете, чем в академиях. Я был рад, что, припомнив уроки своего учителя, смог высказать избитые школьные истины насчет того, что поэзия, как любовь, дарована нам богами и что той и другой сопутствует одержимость, которую все считают состоянием сверхчеловеческим; что нетленность великих поэтических образцов сама по себе признак того, что источник их сверхчеловеческий, ибо все творения людей разрушает всесильное время, а стихи Гомера пережили тех колоссов, что в них описаны, и вечны, как боги, вдохновившие их. Я произнес много глупостей, да еще таких, которые были произнесены не одну тысячу раз.
Когда я кончил, Клодия встала и, плотнее закутавшись в тогу, приветствовала Владыку Пира. Я никогда не относился к Клодии так неприязненно, как большинство моих сограждан. Я знал ее много лет, хотя и не был среди тех, о ком Цицерон сказал: «Только ее закадычные друзья способны по-настоящему ее ненавидеть». Однако еще ни разу у меня не было случая так ею восхищаться, как в тот вечер. Дома у нее произошла неурядица; она имела все основания опасаться, что брат ее убит, а ее саму подозревают в умысле на жизнь диктатора или хотя бы в том, что она заранее о нем знала. Поведение Цезаря должно было казаться ей необъяснимым. Она была бледна, но полна самообладания; опасность, которой она подвергалась, словно осветила ее прославленную красоту, а речь, которую она произнесла, была такой стройной и убедительной, что, когда она кончила, я чуть было с ней не согласился. Она начала с того, что заранее приемлет все кары, которые наложит на нее Владыка, ибо знает, что высказанные ею мысли не встретят одобрения в этом обществе.
— Если правда, о Владыка, — произнесла она, — что поэзия дарована нам богами, тогда мы вдвойне несчастны: но-первых, потому, что мы люди, а во-вторых, потому, что о богах нам известно лишь то, что они желают оставить нас в детском неведении и в рабской темноте. Ведь поэзия придает жизни красивую видимость, которой она не обладает, это самая соблазнительная ложь и самая предательская советчица.
Ни солнце, ни судьба человеческая не допускают, чтобы на них глядели пристально; на первое мы вынуждены смотреть сквозь драгоценный камень, на вторую — через поэзию. И без поэзии мужчина пойдет на войну, девушка — замуж, жена станет матерью, люди похоронят своих мертвецов и умрут сами; однако, опьяненные стихами, все они устремятся к своему делу с неоправданными надеждами. Воины якобы завоюют славу, невесты станут Пенелопами, матери родят стране героев, а мертвые погрузятся в лоно своей прародительницы — земли, навечно оставшись в памяти тех, кого они покинули. Ведь поэты твердят нам, что мы приближаемся к золотому веку, и люди терпят всевозможные беды в надежде на пришествие более светлой поры и на то, что потомки их будут счастливы. А между тем никакого золотого века не будет, и не может быть такого правления, которое даст каждому человеку счастье, ибо основа мира — раздор, он присутствует повсеместно. Явно и то, что каждый ненавидит всех, кто стоит выше него, что люди не более охотно расстанутся со своим имуществом, чем лев позволит вырвать добычу из пасти; и все, чего человек желает добиться, он должен совершить в этой жизни, ибо другой ему не дано; любовь, которую так красиво изображают поэты, всего лишь потребность быть любимым и в пустыне жизни стать предметом чьей-то заботы; правосудие лишь мешает одной алчности пожрать другую. Но обо всем этом никто не говорит. Даже наша власть правит нами на языке поэзии. Наши властители между собой справедливо обзывают граждан опасным зверьем и многоголовой гидрой; однако как они обращаются к буйным избирателям с предвыборных трибун, надежно охраняемых вооруженной стражей? Разве в их устах избиратели не превращаются в «столпов республики», «достойных потомков благородных отцов»? Государственные посты в Риме добываются взятками, с одной стороны, угрозами — с другой; а на устах при этом — цитаты из Энния.
Многие скажут, что великая доблесть поэзии в том, что она воспитывает людей и дает им образцы, которым следует подражать, и что таким путем боги возвещают законы своим детям. Однако это явно не так, потому что поэзия влияет на человека подобно лести: она усыпляет побуждение к действию, отнимает желание честно заслужить похвалу. На первый взгляд она кажется просто ребячеством, опорой слабых и утешением в беде, но нет! Поэзия — зло. Она обезоруживает безоружных и удваивает тоску.
Кто же они, эти поэты, которые усугубляют неудовлетворенность, вечную неудовлетворенность человека? Это горстка людей, но они рождаются в каждом поколении. О поэте издавна сложилось такое представление: он беспомощен в практических делах, рассеянность часто делает его смешным, он нетерпелив, раздражителен, подвержен неумеренным страстям. Как издевался Перикл над Софоклом в качестве правителя города, или возьмем рассказ о Менандре, когда тот проходил по рынку — одна нога босая, другая в сандалии. Эти всем известные черты иногда объясняют тем, что поэты-де погружены в познание истин, лежащих вне видимого мира, и что это познание вечных истин сродни безумию или богоданной мудрости. Но я объясняю это иначе. Я думаю, что все поэты в детстве были больно ранены или уязвлены жизнью, и это навсегда вселило в них страх перед любыми житейскими неурядицами. Недоверие и ненависть побуждают их выдумывать другой, воображаемый мир. Поэтический мир — это плод не более глубокого прозрения, а более острой тоски. Поэзия — особый язык внутри общего языка, призванный описывать жизнь, которой никогда не было и не будет, но образы ее так заманчивы, что люди проникаются ими и видят себя не такими, каковы они на самом деле. Мнение мое подтверждается тем, что даже тогда, когда поэты порицают жизнь, описывая всю ее очевидную бессмыслицу, читатель все равно ощущает душевный подъем, ибо и в своем осуждении поэты предполагают наличие более благородного и справедливого порядка вещей, мерой которого они нас судят и которого, по их мнению, можно достичь.
Вот каковы те, кого зовут гласом божьим. Если боги существуют, я могу их себе представить жестокими или безразличными, непознаваемыми, равнодушными к людям или творящими благо, но я не могу вообразить, чтобы они занимались этой детской игрой — внушали людям через поэтов ошибочные представления о сущем. Поэты такие же люди, как мы, только больные и страждущие. У них одно утешение — бредовые мечты. Но не мечты, а трезвая явь должны научить нас, как жить в этом трезвом мире.
Когда Клодия кончила, она снова поклонилась Владыке и, передав венок Катуллу, села. Цезарь расхвалил ее речь не скупясь и без всякой иронии, которую позволял себе в подобных случаях Сократ. Казалось, он получал от этого пиршества все большее удовольствие, он попросил меня снова наполнить чаши вином и, когда мы выпили, дал слово Катуллу. В начале речи Клодии поэт сидел, не поднимая глаз, и, когда, встав, он увенчал свою голову цветами, мы поняли, что он задет всерьез, — либо им овладел гнев, либо он почувствовал подлинный интерес к спору.
(Существует несколько версий так называемой «Алкестиады» Катулла. Мы заменили краткое изложение Азиния Поллиона текстом, который Цезарь послал Луцию Мамилию в качестве отрывка из своего дневника за N_996.)
«Каждый ребенок знает, о Владыка, что Алкеста, супруга Адмета, царя фессалийского, была идеалом жены. Однако в девичестве она меньше всего мечтала о браке. Ее мучил тот самый вопрос, который стоит перед нами сегодня. Она желала еще до конца своих дней получить ясный ответ на самые важные вопросы, какие только возникают перед человеком. Она хотела увериться в том, что боги существуют, что они заботятся о ней, что ее душевные порывы подчинены их воле; они знают все дурное, что может выпасть на ее долю, и устраивают ее судьбу по своему замыслу. Наблюдая жизнь, она поняла, что, если ей суждена участь царицы, жены и матери, выяснить это ей вряд ли удастся. Сердце ее стремилось только к одному: она хотела стать жрицей Аполлона Дельфийского. Там, как она слышала, живешь в непосредственной близости к Богу, каждый день узнаешь его волю, и лишь там можно получить верные ответы на все. Рассказывают, будто она говорила, что жен и матерей и так много; для них нет ничего более важного, чем приязнь или неприязнь их мужей; у них только и свету в окошке, что дети, любят они их яростно, как тигрицы своих детенышей, годы проходят в бесчисленных заботах о детях; страх же и радость испытывают они только за свое достояние, и когда наконец умрут, то будут знать, зачем жили и страдали, не больше, чем скотина на горных пастбищах. Ей казалось, что жизнь может дать гораздо больше, если ты не просто ее игрушка, а не быть ею можно только в Дельфах. Однако жриц Аполлона призывает сам Бог, а она, несмотря на все молитвы и жертвоприношения, такого зова не слышала. Дни ее текли в ожидании знамения свыше и в попытках узнать волю божью по его знамениям.
Между тем Алкеста была самой мудрой и самой прекрасной из дочерей царя Пелия. Все герои Греции добивались ее руки, но царь, не желая с ней расставаться, задавал претендентам на ее руку невыполнимые задачи. Он объявил, что отдаст Алкесту в жены только тому, кто объедет вокруг городских стен в колеснице, запряженной львом и вепрем. Год шел за годом, и один жених за другим терпели неудачу. Ее потерпели и Пелей, будущий отец Ахиллеса, и многомудрый Нестор; ничего не добился Лаэрт, отец Одиссея, и Язон, могущественный вождь аргонавтов. Львы и вепри в ярости кидались друг на друга, возничим едва удавалось остаться в живых. А царь смеялся, он был рад; царевна же, считая эти неудачи знамением, решила, что Бог велит ей остаться девственницей и служить ему в Дельфах.
Наконец, как всем известно, с гор спустился Адмет, царь фессалийский. Он запряг льва и вепря, объехал на них вокруг города, словно это были кроткие волы, и получил в жены царевну Алкесту. С превеликой радостью он увез ее к себе во дворец в Ферах, где начались пышные приготовления к свадьбе.
Но Алкеста еще не была готова стать женой и матерью. Она со страхом чувствовала, что с каждым днем все больше и больше любит Адмета, но надеялась, что Аполлон все же призовет ее к себе, и под разными предлогами откладывала свадьбу.
Сначала Адмет терпеливо сносил эти оттяжки, но в конце концов не мог больше сдерживать страсть. Он молил ее объяснить свою уклончивость, и она открылась ему. Адмет был человек набожный и богобоязненный, но он давно уже надеялся только на себя и не ждал от богов ни помощи, ни утешения. Правда, раз в жизни он почувствовал их заботу о его судьбе и теперь с жаром ей об этом поведал. «Алкеста, — сказал он, — больше не жди знамения от Аполлона насчет твоего замужества, ибо оно уже было. Ведь это он, и только он, привел тебя сюда, как ты узнаешь из моего рассказа. Перед тем как мне ехать в Иолк, чтобы пройти испытание, я заболел, и неудивительно, ибо моя великая любовь боролась с отчаянием: а вдруг я не сумею запрячь в колесницу льва и вепря? Три дня и три ночи я был на волосок от смерти. За мной ухаживала Аглая, моя нянька, а прежде нянька моего отца. Это она мне рассказала, что на третью ночь мне в бреду явился Аполлон и внушил, как запрячь вместе льва и вепря, Аглая здесь, можешь ее спросить». «Адмет, — сказала Алкеста, — слишком много идет россказней про богов, о которых бредят молодые люди или сочиняют старые няньки. Эти россказни только еще больше путают людей. Нет, Адмет, отпусти меня в Дельфы. Хоть я и не призвана быть жрицей, я могу стать там служанкой. Я согласна служить его слугам, мыть ступеньки и плиты его дома».
Адмет не понимал ее упорства, однако с грустью разрешил поступить по-своему, но тут их прервали. Во дворец прибыл гость — слепой старик, оказавшийся Тиресием, жрецом Аполлона Дельфийского. Адмет и Алкеста в волнении поспешили во двор, чтобы его принять. Когда они к нему приблизились, он воззвал громким голосом: «Я принес весть в дом Адмета, царя фессалийского. Мне надо поскорее передать ее и вернуться туда, откуда я пришел. По воле Юпитера Аполлон должен прожить на земле среди людей в образе человека один год. И Аполлон решил прожить его здесь, пастухом у Адмета. Вот я и сообщил свою весть». Адмет, выступив вперед, спросил: «Ты хочешь сказать, благородный Тиресий, что Аполлон будет здесь среди нас каждый день, каждый божий день? «За воротами стоят пять пастухов! — прокричал Тиресий. — Один из них Аполлон. Назначь им, что делать, поступай с ними по справедливости и больше не задавай вопросов, потому что мне нечего тебе ответить». С этими словами он, не выказывая пастухам никакого почтения, позвал их во дворец, а сам отправился в путь. Пятеро неторопливо вошли во двор, они ничем не отличались от других пастухов, все были в пыли от долгой дороги и очень смущены, что их так пристально разглядывают. Царь Адмет сперва не мог вымолвить ни слова, но потом все же произнес: «Добро пожаловать» — и распорядился, чтобы им дали ночлег и накормили. Весь остаток дня жители Фер провели молча. Они знали, что их стране оказана великая честь, однако людям нелегко одновременно и радоваться и недоумевать.
Вечером, когда на небе зажглись первые звезды, Алкеста выскользнула из дворца и подошла к костру, у которого сидели пастухи. Она встала неподалеку от огня и стала молить Аполлона не таиться под чужой личиной, как это любят делать боги, а открыть свое лицо и дать ей ответ на те вопросы, от которых зависит вся ее жизнь. Молилась она долго. Изумленные пастухи поначалу почтительно слушали, потом, ворча, стали передавать друг другу мех с вином; один из них даже заснул и начал храпеть. Наконец самый низенький отер рот рукой и сказал: «Царевна, если среди нас и есть бог, я не знаю, кто он. Мы впятером тридцать дней шли по Греции; пили вино из одного меха, черпали еду из одной миски и спали возле одного костра. Если бы среди нас был бог, неужели я этого бы не знал? Однако, госпожа, вот что я тебе скажу: все они не обыкновенные пастухи. Вон тот, что спит, может вылечить любую болезнь; и укус змеи, и перелом костей. Когда дней пять назад я свалился в каменоломню, я наверняка бы помер, а этот парень наклонился надо мной, пробормотал какую-то абракадабру — и видишь, я живой. А все равно я знаю, царевна, что никакой он не бог. Потому что в одном городе мы видели ребенка, который не мог ни дышать, ни глотать, он так посинел, царевна, что сердце разрывалось, на него глядя. А этот парень хотел спать. Он не пожелал пересечь дорогу и посмотреть на бедняжку. Какой же это бог? И вон тот, рядом, — ты что, не можешь от вина оторваться, когда на тебя царевна смотрит? Этот никогда не заблудится. Он и во тьме кромешной различает, где север, а где юг. И все равно я знаю, что никакой он не бог Солнца. А вон тот рыжий, он тоже не простой пастух. Он делает чудеса. Нарушает самый ход вещей в природе. Изобретатель. — С этими словами пастух подошел к своему рыжему спутнику и стал будить его пинками. — Проснись, проснись. Покажи царевне какие-нибудь чудеса».
Спящий пастух зашевелился и застонал. Вдруг с высоты небес и с дальних холмов послышались голоса, они звали: «Алкеста! Алкеста!» А рыжий повернулся на другой бок и снова заснул. Его опять разбудили пинком: «Ну-ка, покажи еще. Пусти водопад с верхушек деревьев. Пусти огненные шары». Тот хрипло выругался. По земле побежали огненные шары. Они скользили вверх по стволам деревьев и рассыпались; они прыгали по головам пастухов и забавно играли друг с другом, словно зверята. Потом долину снова окутала мгла. «Такие проделки, царевна, и правда больше никому не удаются, но я могу поклясться, что никакой он не бог еще и потому, что все его чудеса не имеют никакого смысла. Он нас поражает, но, когда удивление проходит, мы испытываем разочарование. В первые дни мы просили у него все новых и новых чудес — нам было интересно; но потом они нам приелись, и, говоря по правде, нам даже стало стыдно, да и ему тоже, потому что фокусы эти просто забава и никакого толку от них нет. А разве бог станет стыдиться своих чудес? Станет себя спрашивать, какой в них смысл? Вот так-то, царевна», — заключил он, разводя руками, словно ему больше нечем было ответить на ее молитву.
Но от Алкесты не так-то легко было отделаться. Она указала на четвертого пастуха. «Тот? Ну, он тоже не простой пастух. Он наш певец. Поверь, когда он поет и играет на лире, львы замирают в прыжке. Я, правда, и сам иногда говорю себе: ей-ей, это бог! Он переполняет наши сердца печалью или радостью, когда нам вовсе нечему радоваться или огорчаться. Он может сделать память о любви более сладостной, чем сама любовь. Его чудеса посильнее чудес нашего целителя, нашего ночного проводника и нашего кудесника, но я наблюдал за ним, царевна, и вижу: чудеса его куда более восхищают нас, чем его самого. Ему тут же перестает нравиться песня, которую он сочинил. Нас она всякий раз приводит в восторг — его ничуть. Он сразу теряет все удовольствие от того, что сделал, и в муках творит что-то новое. Это доказывает, что он не бог и даже не посланец божий, ибо разве мыслимо, чтобы боги презирали свои творения?.. А я? Что могу я? Да то, что делаю сейчас. Мое дело — разобраться в природе богов, существуют ли они и как нам их найти. Ты себе только представь…»
(Тут рассказ обрывается, и мы снова возвращаемся к письму Азиния Поллиона.)
В этот миг диктатор поднялся и, прошептав: «Продолжайте, друг мой», пошел к выходу. Катулл повторил: «Ты себе только представь…» — но тут Цезарь свалился на пол в конвульсиях священной болезни. Извиваясь, он сорвал с тела повязку, и пол обагрился его кровью. Мне и раньше случалось наблюдать такие приступы. Скомкав край его тоги, я засунул материю ему между зубов. Приказал Катуллу помочь мне распрямить его ноги, а Клодии — принести всю одежду, какая у нее найдется, чтобы его согреть. Вскоре он перестал бормотать и впал в глубокий сон. Мы постояли возле него, потом уложили его на носилки и вдвоем с поэтом сопроводили домой.
Так прошел этот дважды прерванный обед у Клодии. Обоим моим друзьям суждено было умереть в том же году. Поэт, который увидел величие, униженное безумием, больше не писал на Цезаря едких эпиграмм. Мой господин никогда не заговаривал о своей болезни, но не раз напоминал мне о «прекрасном» обеде с Клодией и Катуллом.
Пока я диктовал эти слова, рассвело. Боль у меня прошла, или я просто о ней забыл, и я выполнил долг перед своими друзьями.
Часть вторая
Напоминаем читателю, что в каждой последующей части документы сначала возвращают нас к более раннему периоду, потом снова покрывают уже пройденный отрезок времени и доводят нас до более поздней даты.
XXII. Анонимное письмо жене Цезаря
(написанное Сервилией, матерью Марка Юния Брута)
(17 августа)
Госпожа, диктатор вряд ли вам сообщил, что в Рим надолго приезжает египетская царица. Если хотите в этом убедиться, посетите вашу виллу на Яникульском холме. На дальнем его склоне рабочие строят египетский храм и возводят обелиск.
Весь мир смеется над тем, насколько вы не соответствуете своему высокому положению, а уж в политических делах и вовсе разбираетесь хуже грудного младенца, потому-то я считаю своим долгом обратить ваше внимание на этот приезд и на ту политическую опасность, которую он представляет для Рима.
У Клеопатры, к вашему сведению, есть от вашего мужа сын. Имя ему Цезарион. Царица прячет его вдали от своего двора, но упорно распускает слух, что он наделен божественным умом и дивной красотой. Из достоверных источников известно, что на самом деле он идиот, и, хотя ему уже три года, он еще не умеет говорить и едва ходит.
Цель приезда царицы в Рим — узаконить своего сына и установить его наследное право на владычество над миром. Замысел этот возмутителен, но честолюбие Клеопатры не имеет границ. Она искусная, бессовестная интриганка — недаром она не остановилась перед убийством дяди и своего супруга-брата — и умеет распалить похоть вашего мужа, что может внести в мир полный разброд, хоть ей и не удастся добиться над ним владычества.
Ваш супруг не впервые публично оскорбляет вас наглыми любовными похождениями. Но увлечение египтянкой так ослепило его, что он не видит опасности, которой эта женщина подвергает наш общественный строй, — еще одно свидетельство старческого слабоумия, уже сказавшегося на его правлении страной.
Вы бессильны уберечь от опасности государство и защитить свою честь. Однако вам надлежит знать, что римские аристократки не захотят быть представленными этой египетской преступнице и не появятся при ее дворе. Если вы проявите такую же твердость, вы сделаете первый шаг, чтобы вернуть себе уважение Рима, утраченной благодаря дурному выбору друзей и легкомыслию в разговоре, непростительному даже при вашей крайней молодости.
XXIII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Приблизительно 18 августа)
942. (О Клеопатре и ее приезде в Рим.)
В прошлом году царица Египта стала просить у меня разрешения посетить Рим. В конце концов я его дал и предложил остановиться на моей вилле по ту сторону реки. Она пробудет в Италии не меньше года. Визит ее держится в тайне, и о нем будет объявлено только накануне ее приезда. Сейчас она приближается к Карфагену, а здесь будет примерно через месяц.
Сознаюсь, что с нетерпением жду ее приезда, и не только по вполне понятной причине. Она была удивительная девушка. Уже в двадцать лет знала пропускную способность каждой крупной гавани на Ниле; умела принять делегацию Эфиопии, отказать ей во всем, но при этом так, что отказ выглядел благодеянием. Я слышал, как она орала на своих министров во время обсуждения налога на слоновую кость, причем она была права и в подтверждение своей правоты привела множество подробных и хорошо подобранных сведений. Право же, она из числа тех немногих известных мне людей, кто одарен талантом к управлению страной. Но теперь она, вероятно, стала еще более удивительной женщиной. И беседа, просто беседа снова станет для меня удовольствием. Мне будут льстить, меня поймут и похвалят за то, за что меня и надо ценить. А какие вопросы она задает! Что может быть приятнее передачи жадному ученику знаний, которые дались тебе долгим и тяжким трудом? Да, беседа снова станет для меня удовольствием. Ох, сколько раз я держал на коленях этого свернувшегося в клубочек котенка, барабанил пальцем по маленьким коричневым ступням и слушал, как голосок у моего плеча спрашивает, что за меры нужно принять, чтобы банкирские дома не отучили народ прилежно трудиться, и сколько по справедливости надо платить начальнику полиции, исходя из жалованья градоправителя. Все люди, мой Луций, все поголовно ленивы умом, кроме тебя, Клеопатры, Катулла и меня.
И в то же время она лгунья, скандалистка, интриганка, равнодушная к нуждам своего народа и вдобавок способна убить не задумываясь. Получил пачку анонимных писем, где меня предупреждают о ее страсти к убийству. Да я и не сомневаюсь, что эта дама не расстается с красивым резным ларцом, где хранятся яды, но знаю также, что у нее за столом мне не надо, чтобы кто-то пробовал пищу до меня. Все ее помыслы сосредоточены прежде всего на Египте, а я — первейший залог его благоденствия. Умри я, ее страна станет добычей моих преемников — патриотов, лишенных практической сметки, или чиновников без воображения, — это она отлично знает. Египту уже не вернуть былого величия, но и тот Египет, какой есть, существует только благодаря мне. Я лучше правлю Египтом, чем Клеопатра, но она еще многому научится. Во время ее пребывания в Риме я открою ей глаза на такие вещи, о каких ни она, ни один властитель Египта и не подозревали.
946. (Снова о Клеопатре и ее приезде в Рим.)
Клеопатра не может и шагу ступить без помпы. Она просит, чтобы ей разрешили взять с собой двести придворных, тысячу человек свиты, включая большой отряд царской гвардии. Я сократил это число до тридцати придворных и двухсот человек свиты и заявил, что охрану ее персоны и ее приближенных республика возьмет на себя. Я распорядился также, чтобы за пределами ее дворца — моя вилла уже переименована во дворец Аменхотепа — она выставляла знаки царского достоинства только в двух случаях: во время официального приема на Капитолийском холме и на церемонии прощания.
Она известила меня, что я должен назначить двадцать самых знатных дам во главе с моей женой и моей теткой в ее почетную свиту, чтобы придать блеск ее двору. Я ответил, что римлянки свободны в выборе подобного рода занятий, и приложил форму приглашения, которое ей следует им послать.
Ей это не понравилось. Она заявила, что размер ее владений (они в шесть раз больше Италии) и божественное происхождение (от самого Солнца), которое она подробно проследила за последние две тысячи лет, дают ей право на такую свиту и ей негоже просить римских матрон присутствовать на ее приемах и раутах. Вопрос остался открытым.
Конечно, и я раздувал в ней эти непомерные притязания. Когда я встретил ее первый раз, она мне с гордостью заявила, что в ее жилах нет ни капли египетской крови. Это была явная ложь: порядок наследования в династии, к которой она принадлежит, нарушался постоянными подменами и усыновлениями; к счастью, дурные последствия единокровных браков смягчались половой слабостью царей и любвеобильностью цариц, а также тем, что красота египтянок намного превосходит красоту потомков македонских разбойников. Больше того, Клеопатра в ту пору пренебрегала обычаями древней страны, которой правила, если не считать участия в редких традиционных церемониях. Она ни разу не видела ни пирамид, ни тех храмов на Ниле, которые расположены всего в нескольких часах пути от ее александрийского дворца. Я посоветовал ей обнародовать, что мать ее была не только египтянкой, но и прямой наследницей фараонов. Я уговорил ее носить египетские одеяния хотя бы наравне с другими нарядами и повел поглядеть памятники их древней цивилизации, рядом с которыми, клянусь Геркулесом, плетеные хижины ее македонских предков выглядят убого. Мои наставления имели неожиданный успех. Теперь она самый настоящий фараон и живое воплощение богини Изиды. Все ее дворцовые постановления написаны иероглифами, к чему она милостиво добавляет перевод на латинский или греческий.
Да так оно и должно быть. Привязанность народа не завоевывается только тем, что им правишь и печешься о его благе. Нам, правителям, приходится тратить немало времени на то, чтобы увлечь его воображение. В представлении народа Судьба — постоянно бдящая сила, которая действует при помощи волшебства и всегда враждебна людям. Чтобы ей противоборствовать мы, властители, должны обладать не только мудростью, но и сверхъестественным даром, ибо в глазах толпы человеческая мудрость бессильна перед волшебством. Правитель должен одновременно быть и отцом, с младенчества оберегающим народ от злых людей, и жрецом, оберегающим его от злых духов.
Я, наверно, забыл тебе сказать, что я запретил ей брать в свою свиту детей моложе пяти лет — как своих, так и детей придворных.
XXIV. Клеопатра из Александрии — своему послу в Риме
(20 августа)
Клеопатра, вечноживущая Изида, дитя Солнца, избранница Ита, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и проч. и проч., шлет своему верному послу благословение и милость.
Завтра царица отправляется из Александрии в Карфаген.
В пути она явится своим подданным в Парастонии и Кирене. Она остановится в Карфагене и будет ждать твоего сообщения о том, когда ей подобает прибыть в Рим.
Приказываю прислать ей в Карфаген следующие сведения: список светских руководительниц Таинств Доброй Богини; список весталок. Оба списка с примечаниями о семейных связях, прежних браках и пр.; список приближенных диктатора, мужчин и женщин, особенно тех, кого он посещает и кто посещает его дом в частном порядке; список доверенных слуг в доме диктатора с указанием срока службы, предыдущего места работы и всех подробностей личной жизни, какие удастся разузнать. Этими розысками надлежит заниматься постоянно, а когда царица прибудет в Италию, она желает получать такие сведения и дальше; список детей, живых и умерших, которых когда-либо приписывали диктатору, вместе с именами предполагаемых матерей и прочими сведениями; отчет о прежних посещениях Рима всеми царицами с описанием этикета церемониала, официальных приемов, подношений и пр.
Царица надеется, что будут приняты все меры к тому, чтобы ее покои хорошо отапливались.
XXV. Помпея — Клодии в Байи
(24 августа)
Дорогой Мышоночек.
Только что получила приглашение на обед и припрятала его до вечера, когда муж вернется домой. Пишу наспех, чтобы отправить это письмо с твоим же посланным.
То, что я тебе расскажу, страшная тайна, и я надеюсь, что ты, прочтя мое письмо, тотчас его уничтожишь.
А тайна вот какая: некая особа с берегов Нила собирается надолго приехать к нам в город. Я считаю ниже своего достоинства не только писать, но даже и думать о кое-каких обстоятельствах, связанных с этим приездом, тем более что политическая сторона этого дела гораздо важнее и серьезнее, чем личная. Надеюсь, никто не скажет, что я придавала своей личной жизни хоть малейшее значение, когда есть вопросы поистине мирового порядка, тесно связанные с тем положением, какое я занимаю. Я не знаю, слыхала ли ты, что у этой особы есть сын и что она уверяет, будто ребенок происходит из очень знатного римского рода? На этих претензиях основаны ее честолюбивые мечты о будущем величии ее державы, что, как ты сама понимаешь, просто нелепо!
Некое лицо по известным причинам не видит угрожающей всем нам опасности, и поэтому я вынуждена быть вдвойне бдительной. Возможно, мне придется согласиться, чтобы мне представили эту египетскую преступницу. Тогда я покажу всем своим видом, что считаю ее присутствие наглостью, и постараюсь публично ее унизить, а если удастся, то и заставить вернуться на родину. И конечно, ноги моей не будет в резиденции, которую ей временно предоставили.
Пожалуйста, напиши, что ты по этому поводу думаешь. Мой двоюродный брат вернется из Неаполя вскоре после того, как ты получишь мое письмо. Пошли свой ответ с ним.
Постскриптум. Все знают, что она убила своего дядю и своего мужа и что ее брат был ее мужем — это в обычае у египтян и дает понятие о том, чего можно от нее ожидать.
XXV-А. Клодия — жене Цезаря
(Из Капуи, 8 сентября)
Большое спасибо, мой милый, милый друг, что ты доверила мне такую тайну.
Как похоже на тебя твое письмо. Какая ты умница, что можешь взглянуть на это событие с самых разных сторон и предсказать таящиеся в нем опасности! И как было мудро и благородно с твоей стороны не вспылить и не выказать негодования, от чего не удержались бы многие женщины.
Разреши мне дать тебе маленький совет — я даю его только потому, что ты одна в состоянии его выполнить. Подумай, не разумнее ли тебе отнестись к этой неприятной особе несколько иначе? Мне кажется, что если ты будешь себя вести — как ты одна это умеешь — с предельной любезностью, подобающей твоему положению, ты ее просто ошеломишь! Тогда ты смогла бы втереться в круг ее приближенных, следить за всем, что там происходит, и, если понадобится, помешать другому лицу окончательно потерять голову.
Я бы не советовала такого подхода никому, кроме тебя, потому что тут нужна большая ловкость. Но ты это сумеешь. Подумай.
Мне очень хочется обо всем этом с тобой поговорить, и нам скоро это удастся. А пока что прими мое восхищение, любовь и флакон сицилийских духов.
XXVI. Клодия из Байи — Катуллу в Рим
(25 августа)
Сестра говорит, что мне надо тебе написать. И другие тоже взяли на себя роль твоих заступников, твердя, будто я обязана написать тебе письмо.
Что ж, вот я его пишу. Мы с тобой давно уговорились, что письма ничего не стоят. Ты пишешь то, что я давно знаю или легко могу вообразить, и часто отступаешь от правила, которое мы себе положили: в письмах должны главным образом излагаться факты.
Вот факты, касающиеся меня.
Погода стояла невиданная. Было много пирушек и на суше и на море. Не говоря уж о сборищах, посвященных только беседе, когда Хозяин не затевал никаких других развлечений. Стоит ли объяснять, что беседы здесь, в Байях, невыносимо скучны, еще скучнее, чем обычно.
Я занимаюсь астрономией с Сосигеном и поэтому стала врагом всех поэтов, разглагольствующих о своих дурацких чувствах в присутствии небесных светил. Я принялась учить египетский язык. Когда оказалось, что на слух он напоминает младенческий лепет, а его грамматический строй ничуть не выше его звучания, я это бросила. Мы ставили любительские спектакли по-гречески и по-латыни. Я много работала с Киферидой. Она отказалась от платы и вернула подарок, который я ей послала. Когда я стала настаивать, что не хочу оставаться у нее в долгу, она попросила стихи, написанные твоей рукой. Я дала ей «Свадьбу Пелея и Фетиды». Она не захотела участвовать в наших спектаклях, но изумительно продекламировала эту поэму и во время наших уроков часто исполняла отрывки из трагедий. По стилю мы резко отличаемся, но своим она владеет в совершенстве. К концу урока часто заглядывал Марк Антоний. Мне приятен в нем только его смех, смеется он все время, но это не надоедает. А вот когда Киферида не говорит о своем искусстве, она надоедает. Она вялая, как все счастливые женщины. Я узнала, правда не от нее, что она одна из немногих, кому разрешается посещать Луция Мамилия Туррина на Капри. (Клодия написала Туррину, прося разрешения его навестить, но ей было вежливо отказано). Я знаю нескольких мужчин, которых я могла бы очень любить, будь они даже калеками и слепыми. Прочла вместе с Вером его новую книгу стихов.
Я нажила много новых врагов. Ты знаешь, я никогда не лгу и не разрешаю лгать в своем присутствии. Я была, как ты выражаешься, несколько раз тебе «неверна». Так как по ночам у меня бессонница, я иногда на эти часы подыскиваю себе компаньона.
Вот факты относительно моей жизни этим летом и ответы на вопросы, которые ты задаешь в своих на редкость однообразных письмах. Перечтя их, я заметила, что ты-то мне сообщаешь весьма мало фактов. Ты пишешь не мне, а тому выдуманному образу, с которым я отнюдь не желаю состязаться. Сведения о тебе я получила от сестры и других твоих заступников. Ты навещал сестру, а также Манилия с Ливией (Торкватов). Ты учил их детей плавать и управлять парусной лодкой. Ты учил детей воспитывать собак. Ты написал кучу стихов для детей и еще одну венчальную песнь. Повторяю, ты потеряешь свой поэтический дар, если будешь его так растрачивать. Подобные стишки только усугубят недостаток, которым и так страдают многие твои сочинения, — просторечие и провинциализм. Многие даже не считают тебя римским поэтом. Мы с тобой признаем, что Вер не наделен от природы таким талантом, как ты, но и манера его поведения, и стихи безупречно изящны и даже изысканны, в то время как ты продолжаешь щеголять своей северной неотесанностью.
Это письмо, как и все письма, написано совершенно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что: в последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед — надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой (кстати, говорят, что ты одарил нас еще несколькими эпиграммами; почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие разражаться непристойными звуками за спиной у великого человека?). Я пригласила также его тетку, Цицерона и Азиния Поллиона.
Восьмого я двинусь на север. Захвачу с собой нескольких друзей, в том числе Мелу и Вера. Какое-то время мы погостим в Кануе у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам девятого, а через два-три дня мы вместе вернемся в город.
Если ты решишь приехать в Каную, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя наконец понять, что такое дружба, оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничества. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувший. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление.
XXVI-А. Катулл
Miser Catulle, desinas ineptire Et quod vides perisse perditum ducas. Fulsere quondam candidi tibi soles, Cum ventitabas quo puella ducebat, Amata nobis quantum amabitur nulla. Ibi illa multa turn iocosa fiebant Quae tu volebas nec puella nolebat. Fulsere vere candidi tibi soles. Nunc iam ilia non volt; tu quoque inpotens, noli, Nec quae fugit sectare, nec miser vive; Sed obstinata niente perfer, obdura. At tu, Catulle, destinatus obdura. Катулл измученный, оставь свои бредни: Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым. Сияло некогда и для тебя солнце, Когда ты хаживал, куда вела дева, Тобой любимая, как ни одна в мире, Забавы были там, которых ты жаждал, Приятные — о да! — и для твоей милой. Сияло некогда и для тебя солнце, Но вот, увы, претят уж ей твои ласки. Так отступись и ты! Не мчись за ней следом, Будь мужествен и тверд, перенося муки. А ты, Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!XXVI-Б. Заметки Корнелия Непота
(Запись сделана позже)
«Разве тебя не поражает, — спросил я, — что Катулл пускает это стихотворение по рукам? Не могу припомнить, чтобы так, без утайки, открывали свое сердце». «Тут все поражает, — ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать. — Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой? Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается, голос, требующий, чтобы он «терпел» и «крепился»? Его поэтический гений? Его второе «я»? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это непереваренный жизненный опыт, не до конца преображенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера: может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу с Альп. Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза, римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих! — тут нет утоления печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому, что делится этим страданием с собственным гением. Но что это за второе «я»? У тебя оно есть? У меня оно есть?»
XXVII. Цезарь из Рима — Клеопатре в Карфаген
(3 сентября)
(Это письмо, написанное рукой Цезаря, было послано вместе с официальным приветствием царице при ее приближении к Риму.)
Ваше величество, я очень сожалею, что к той искренней радости, которую я хотел выразить по поводу вашего приезда, мне приходится присовокупить следующее напутствие: напомнить, какое важное значение я придаю тем условиям, на которые вы согласились, когда решалась эта поездка в Рим. Речь идет о численности вашей свиты, правилах поднятия на шестах знаков царского достоинства и моем требовании не допускать в вашу свиту детей до пяти лет. Если этот договор не будет соблюден, я буду вынужден, к своему и вашему огорчению, принять меры, унижающие наше достоинство и противные тому уважению, которое я к вам питаю. Если среди ваших приближенных есть дети, оставьте их в Карфагене либо отошлите назад в Египет.
Но пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, с каким я предвкушаю ваше пребывание в Риме. Город приобретает для меня новый интерес, когда я думаю, что скоро покажу его царице Египта — тот Рим, который уже существует, и тот, который я замыслил. В мире не так уж много правителей, а среди них еще меньше тех, кто хотя бы подозревает, какой ценой решаются судьбы народов. У царицы Египта величие ума не уступает величию ее положения.
Необходимость вести за собой людей многократно усугубляет одиночество, на которое обрекла человека природа. Каждый приказ, который мы издаем, увеличивает наше одиночество, и каждый знак почтительности по отношению к нам еще больше отдаляет нас от прочих людей. Ожидая приезда царицы, я сулю себе некоторое облегчение от того одиночества, в каком я живу и тружусь.
Сегодня утром я посетил дворец, который готовят к приезду царицы. Было сделано все, чтобы обеспечить ее удобства.
XXVII-А. Первое письмо Клеопатры Цезарю
(2 сентября)
(Написано иероглифами с перечислением всех титулов царицы, ее родословной и пр. на огромном листе папируса и снабжено латинским переводом, послано заранее через римскую почтовую службу, до того как царица отправилась в путь.)
Царица Египта приказала мне, ее недостойному гофмейстеру, подтвердить получение письма диктатора и его подарков.
Царица Египта благодарит диктатора за полученные подарки.
XXVII-Б. Второе письмо Клеопатры Цезарю
(1 октября)
(Послано с царской галеры по прибытии в Остию.)
Диктатор писал царице Египта о том, как тяжко бремя власти.
Но тяжко не только оно.
Царица, великий Цезарь, к тому же еще и мать. Ее положение не только не избавляет ее от сердечных тревог, которые известны любой матери, но и усиливает их, особенно если у детей хрупкое здоровье и нежная натура. Вы мне говорили когда-то, что были любящим отцом. Я вам верила. Вы утверждали, что вас облыжно обвинили в том, будто государственная необходимость вынудила вас бессердечно поступить с дочерью. (По-видимому, Юлия по настоянию отца разорвала помолвку с женихом, чтобы выйти замуж за Помпея. Она умерла прежде, чем Цезарь и Помпей затеяли гражданскую войну, но брак ее был счастливым.)
Вы были бессердечны по отношению ко мне и не только ко мне, но и к ребенку, и притом ребенку не простому, ибо он — сын самого великого человека на свете. Он вернулся в Египет.
Вы описываете одиночество властителя. Властитель справедливо чувствует, что большинство людей относится к нему не без корысти. Но разве властителям не грозит опасность усугубить свое одиночество, приписывая другим одни лишь эти побуждения? Я боюсь, что если он будет так относиться к людям, то сердце властителя может обратиться в камень и в камень обратятся сердца всех, кто к нему приближается.
Подъезжая к Риму, я хочу сказать его повелителю: я — и царица, и служанка Египта и постоянно пекусь о судьбе моей родины, однако я не чувствовала бы себя царицей, если бы забыла, что, кроме всего, я женщина и мать.
Повторяю вашу же фразу: пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, которое я предвкушаю от своего пребывания в Риме.
Я приписываю вашу суровость тому, что вы и правда создали вокруг себя стену одиночества, чрезмерного даже для властителя мира. И сами говорите, что, быть может, мне удастся облегчить вам это бремя.
XXVIII. Катулл — Клодии в Рим
(Эти два письма, написанные, по-видимому, 11 или 12 сентября, так и не были отправлены. Оба они черновики письма, уже приведенного под номером XIII. Катулл не уничтожил их сразу, ибо две недели спустя они были обнаружены в комнате поэта тайной полицией Цезаря, и копии их были представлены диктатору.)
Убей меня сразу — ведь ты этого хочешь, а я не могу убить себя сам, мои глаза словно прикованы к какому-то спектаклю, и я слежу за ним затаив дыхание, желая узнать, какую новую пытку ты мне готовишь. Я не могу убить себя сам, пока не увижу воочию все твое чудовищное нутро. Кто ты? Убийца… палач… насмешница… сосуд лжи… маска… предательница всего рода человеческого.
Неужто мне так и висеть распятым на этом кресте и никак не умереть?.. Неужто мне так и глядеть на тебя века и века?
К кому мне кинуться? К кому воззвать о помощи? А есть ли они, эти боги? Может, даже их ты согнала своим криком с небес?
Бессмертные боги, зачем вы послали на землю это чудовище — чему, чему вы хотели нас научить? Что прекрасная оболочка — лишь вместилище пороков? Что любовь — личина ненависти?
Нет… нет… этого урока мне от вас не надо… Истина в другом… Я никогда не узнаю ее любви, но благодаря вам знаю, что любовь существует.
Ты пришла в мир — изувер, убийца, — чтобы погубить того, кто умеет любить, ты устроила предательскую засаду и со смехом и воем подняла топор, чтобы погубить в душе моей то, что живет и любит… но бессмертные боги помогут мне избавиться от этого ужаса, излечиться от той, кто в личине любимой ходит среди людей, коварно внушая любовь, чтобы потом ее убить. Ты избрала меня жертвой — того, у кого только одна жизнь и только одна любовь и кто больше никогда не полюбит.
Но знай, исчадие Аида, что, ты хоть и убила единственную любовь, на какую я был способен, ты не убила во мне веры в любовь. И вера эта открыла мне, кто ты есть.
Мне нечего тебя проклинать — убийца переживает свою жертву лишь для того, чтобы понять: избавиться он хотел — от самого себя. Всякая ненависть — это ненависть к себе. Клодия прикована к Клодии — неизбывным отвращением.
XXVIII-А. Катулл — Клодии
Я знаю, знаю, что ты никогда не обещала мне постоянства. Как часто с показной честностью бесчестных ты уклонялась от поцелуя, чтобы утвердить свою независимость от каких-либо обязательств. Ты клялась, что любишь меня, и, смеясь, предупреждала, что не будешь любить меня вечно.
Я тебя не слышал. Ты говорила на непонятном мне языке. Я никогда, никогда не смогу представить себе любовь, которая предвидит собственную кончину. Любовь сама по себе — вечность. Любовь в каждом своем мгновении — на все времена. Это единственный проблеск вечности, который нам позволено увидеть. Поэтому я тебя не слышал. Твои слова были бессмыслицей. Ты смеялась, и я смеялся с тобой. Мы лишь играли в то, что нам не дано любить всегда. Мы смеялись над теми миллионами обитателей Земли, которые играют в любовь и знают, что любви их настанет конец.
Прежде чем навсегда выбросить тебя из головы, я еще раз задумаюсь о тебе.
Что с тобой будет?
Какая женщина на всем белом свете была окружена такой любовью, какую дал тебе я?
Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла?
Пока бог любви смотрел на тебя моими глазами, годы не могли тронуть твоей красоты. Пока мы говорили с тобой, уши твои не слышали злоязычья толпы, полного зависти, презрения и подлости, которыми изобильна наша людская порода; пока мы любили, ты не знала одиночества души — неужели и это ничего для тебя не значит? Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла?
Но это еще не все. Твое положение стало в тысячу раз хуже. Теперь ты разоблачена: тайна твоя открыта. Раз я ее знаю, ты больше не можешь скрывать ее от себя; ты извечная убийца жизни и любви. Но как, должно быть, ужасно тебе сознавать неудачу, ибо ты только обнажила величие и могущество твоего врага — любви.
Все, все, что говорил Платон, — истина.
Ведь тот, кто тебя любил, был не я, не я сам по себе. Когда я глядел на тебя, ко мне нисходил бог Эрос. Я был больше, чем только я. Во мне жил бог, он смотрел моими глазами и говорил моими устами. Я был больше, чем я, и, когда твоя душа постигала, что во мне бог и что он глядит на тебя, тобою овладевало на время что-то божественное. Разве ты мне это не говорила, не шептала в те часы?
Но долго выносить его присутствие ты не могла, потому что родилась на свет извергом и убийцей всего, что живет и любит. Ты носишь личину любимой, а существуешь только затем, чтобы расставлять одну предательскую ловушку за другой; ты живешь только ради той минуты, когда со смехом и визгом поднимешь топор и вырубишь ростки жизни и ростки любви.
Я больше не задыхаюсь от ужаса. Я больше не дрожу. Я могу спокойно размышлять над тем, откуда у тебя такая тупая ненависть к жизни и почему боги позволяют врагу рода человеческого ходить среди нас. Я никогда тебя не пожалею — ужас не оставляет места для жалости. Когда-то в тебе пробуждалось благородное стремление нести свет, но оно было отравлено в самом зачатке.
Я любил тебя и никогда уже не буду таким, каким был, но чего стоит моя беда по сравнению с твоей?
XXVIII-Б. Катулл
O, di, si vestrum est misereri, aut si quibus unquam Extremam iam ipsa in morte tulislis opem, Me miserum aspicite et, si vitam puriter egi Eripite hanc pestem perniciemque mihi. Quae mihi subrepens imos ut torpor in artus Expulit ex omni pectore laetitias. Non iam illud quaero, contra ut me diligat illa, Aut, quod non potis est, esse pudica velit; Ipso valere opto et taetrum hunc deponere morbum. O di, reddite mi hoc pro pietate mea. Боги! Жалость в вас есть, и людям не раз подавали Помощь последнюю вы даже на смертном одре. Киньте взор на меня, несчастливца, и ежели чисто Прожил я жизнь, из меня вырвите черный недуг! Оцепенением он проникает мне в члены глубоко, Лучшие радости прочь гонит из груди моей. Я уж о том не молю, чтобы она предпочла меня снова Или чтоб скромной была, — это немыслимо ей, Лишь исцелиться бы мне, лишь мрачную хворь мою сбросить. Боги! О том лишь прошу — за благочестье мое.XXIX. Цезарь — Корнелию Непоту
(23 сентября)
Письмо это не подлежит огласке.
Мне сообщили, что вы друг поэта Гая Валерия Катулла.
До меня окольным путем дошел слух, что поэт либо болен, либо находится в крайне угнетенном состоянии духа.
Я многие годы был дружен с его отцом, и, хотя мне редко доводилось видеть самого поэта, я слежу за его творчеством с большим интересом и восхищением. Я хотел бы, чтобы вы навестили его и сообщили мне о его состоянии. Более того, я просил бы вас в любое время, в любой час известить меня, если он заболеет или попадет в бедственное положение.
Уважение, которое я питаю к вам и вашим трудам, позволяет мне добавить, что я почту за обиду, если вы или ваша семья сразу же не сообщите мне о любых невзгодах, какие могут случиться у вас (да уберегут вас от них бессмертные боги). С самых ранних лет я понял, что истинные поэты и историки — лучшее украшение страны; со временем это убеждение только укрепилось.
XXIX-А. Корнелий Непот — Цезарю
Как приятно было узнать, что великий вождь римского народа озабочен здоровьем моего друга и земляка Катулла и дружески относится ко мне и моим близким.
Десять дней назад один из членов Эмилиева клуба для игры в шашки и плавания, где проживает поэт, в самом деле явился ко мне посреди ночи и сообщил, что состояние Катулла очень тревожит его друзей. Я поспешил к нему, он был болен и бредил. Врач-грек Сосфен дал ему рвотное, а потом успокаивающие средства. Мой друг меня не узнавал. Мы просидели возле него всю ночь. Утром ему стало гораздо лучше. Мужественно собравшись с силами, он поблагодарил нас за внимание, заверил, что выздоравливает, и попросил оставить его одного. Когда я снова навестил его во второй половине дня, он спокойно спал. Вскоре его разбудил растяпа посыльный — он принес письмо от той женщины, которая играет не последнюю роль в его несчастьях, что явствовало из его бреда. Он прочел письмо при мне и долго молчал, погрузившись в раздумье. Не сказав ни слова о том, что там было написано, Катулл, несмотря на все наши уговоры, тщательно оделся и ушел.
Я сообщаю диктатору все эти подробности, чтобы он смог сам сделать необходимые выводы.
XXX. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
991. (О Клеопатре и ее приезде в Рим.)
Египетская царица приближается. Маленькая крокодилица, овеваемая опахалами, плывет через пролив.
Моя переписка с Ее Величеством была, как и следовало ожидать, весьма бурной. Латынь ее хромает, но там, где требуется точность, она, я заметил, царицу не подводит.
Я не жду буквального выполнения условий, которыми я обусловил ее визит. Царица не способна точно выполнять какие бы то ни было указания. Даже когда ей кажется, что она подчиняется беспрекословно, она ухитряется допустить кое-какие отклонения. Этого надо ожидать. Признаюсь, такая неизменная изменчивость имеет свою прелесть, хотя мне не раз приходилось напускать на себя суровость. А виной всему ее безмерная гордыня и самоволие женщины, привыкшей карать смертью за малейшее неповиновение.
Ее письма — а в одном случае и ее молчание — меня восхищают. Теперь она настоящая женщина и настоящая царица. Порой я ловлю себя на том, что для меня она больше женщина, чем царица, и стараюсь прогнать эти мысли.
Клеопатра — это Египет. Она и слова не вымолвит, и до ласки не снизойдет без политической подоплеки. Каждый разговор с ней — правительственный договор, каждый поцелуй — международное соглашение. Мне иногда хочется, чтобы общение с ней не требовало постоянной осторожности, а в ее благосклонности было бы больше порыва и меньше искусства.
Но вот уже много-много лет я не видел бескорыстной привязанности ни от кого, кроме тебя, моей тетки и моих солдат. Даже дома я как будто все время играю в шашки. Я теряю шашку, мне угрожают с фланга, я собираю силы для вылазки, выхожу в дамки. Моя дорогая жена, кажется, получает удовольствие от этих непрерывных схваток, хотя они не обходятся без слез.
Больше того, уже много лет я не чувствовал к себе бескорыстной ненависти. День за днем я приглядываюсь к своим врагам, жадно надеясь найти среди них человека, ненавидящего меня за то, что я есть, или хотя бы «за Рим». Меня обвиняют в том, что я окружил себя бессовестными проходимцами, обогащающимися на своих постах. Порою самому мне кажется, что меня в них подкупает откровенная жадность; они не притворяются, будто любят меня. Я испытываю даже удовольствие, когда тот или иной из них ненароком выкажет мне презрение — в том океане лести, где я вынужден жить.
Как трудно, дорогой Луций, не стать таким, каким тебя видят другие. Раба держат в двойном рабстве — и его цепи, и взгляды окружающих, твердящие ему: ты — раб. Диктатора принято считать скаредным на благодеяния, безрассудным в немилости, завистливым к чужим талантам, жаждущим лести, и я теперь не десять, а двадцать раз на день чувствую, как до всего этого опускаюсь, и вынужден себя одергивать. И десять раз на день в ожидании приезда египетской царицы я мечтаю о том, как теперь, став женщиной, она поймет, насколько бескорыстно я даю все, что могу дать и ей, и ее стране; ей нет нужды хитрить, ей нечего добиваться, все ее уловки не дадут ей того, что ей не положено получить. И если она это поймет, мы с ней достигнем такого… Но тут я перехожу в область невозможного.
XXXI. Цицерон из Рима — Аттику в Грецию
(Над этим письмом много потешались и в античности, и в средние века. Может быть, оно подделка. Мы знаем, что Цицерон написал Аттику письмо о природе брака и что в двух последующих письмах он просил своего друга это письмо уничтожить — вероятно, Аттик так и поступил. С другой стороны, до нас дошло больше десяти вариантов этого предполагаемого письма. Они разительно отличаются друг от друга и уснащены явными вставками довольно фривольного характера. Мы отобрали отрывки, вошедшие в большинство вариантов, ибо предполагаем, что секретарь Аттика, прежде чем уничтожить письмо, снял с него копию, и эта копия ходила по рукам в Римской империи.
Вспомним, что Цицерон не только развелся со своей всеми уважаемой женой Теренцией после многолетних и, все более бурных семейных скандалов, но тут же вступил в новый брак со своей богатой молодой воспитанницей Публией и вскоре опять развелся, что брат Цицерона Квинт давно состоял в далеко не мирном браке с сестрой Аттика Помпонией и только что с ней развелся и что любимая дочь Цицерона Туллия была не слишком счастлива с Долабеллой, честолюбивым и распутным другом Цемия, которого отец сам для нее выбрал в мужья.)
Лишь один брак из ста бывает счастливым. Это не единственное из тех правил, мой друг, о которых все знают, но молчат. И не удивительно, что брак, который составляет исключение, прославляют повсюду: ведь только о необычном и говорят. Но безумие рода человеческого проявляется и в том, что нам всегда хочется превратить исключение в правило. Исключение привлекает нас потому, что каждый считает себя существом исключительным и предназначенным для исключительного; наши молодые люди и девушки вступают в брак либо с убеждением, что девяносто девять браков из ста счастливые и лишь один несчастный, либо веря в то, что им суждено исключительное счастье.
Но, учитывая женскую натуру и природу страсти, притягивающую женщин и мужчин друг к другу, как можно надеяться, что они избегнут мук, горших, чем все муки Сизифа и Тантала, вместе взятые.
Женившись, мы передаем в женские руки управление домашним хозяйством, и они тут же по мере своих сил завладевают нашим имуществом. Они воспитывают наших детей и этим обретают право устраивать их дела, когда те достигнут зрелости. Во всем этом они преследуют цели, обратные нашим, мужским. Женщинам нужны лишь тепло очага и крыша над головой. Они живут в страхе перед грядущими несчастьями, и никакая защита не кажется им надежной; для них будущее не только неведомо, но и чревато бедой. И нет такого обмана, к какому они не прибегнут, нет такой алчности, какой они не проявят, нет таких развлечений или потребностей просвещенного ума, которым они не объявят войну, чтобы уберечься от неведомого зла. Если бы наша цивилизация зависела от женщин, мы бы до сих пор жили в пещерах и все изобретения кончились бы открытием огня для домашних нужд. Все, чего они требуют от пещеры, кроме самого крова, — это чтобы она была чуть пороскошнее, чем у жены соседа; а своим детям желают лишь безмятежной жизни в такой же пещере, в какой выросли сами.
Брак вынуждает нас выслушивать пространные разглагольствования наших жен. Ну а разговоры женщин и семейном кругу — я уж не говорю о другой напасти, об их беседах в обществе, — если откинуть мелкие хитрости и невнятицу, затрагивает лишь две темы: как сохранить незыблемым то, что есть, и как пустить пыль в глаза.
Чем-то они похожи на разговоры рабов, и неудивительно: положение женщин в нашем обществе не многим отличается от положения рабов. Об этом можно было бы пожалеть, но я не буду среди тех, кто хочет изменить существующий порядок. Разговоры рабов и женщин насквозь пронизаны хитростью. Коварство и насилие — два выхода, доступных обездоленным; а насилие доступно рабам лишь при тесном единении этих злосчастных друг с другом. Государство справедливо препятствует такому единению и неусыпно за ними следит; поэтому рабу приходится добиваться своих целей коварством. Женщинам тоже закрыты пути к насилию, потому что они неспособны объединиться; они, как греки, не доверяют друг другу, и не без основания. Поэтому они прибегают к хитрости. Как часто, заглянув на одну из своих вилл и проведя день в разговорах с управляющими и батраками, я ложился спать таким измученным, словно состязался с каждым из них в борьбе, напрягая все телесные и душевные силы, чтобы меня не искалечили или не ограбили. Раб преследует свои заветные цели, пользуясь всеми доступными ему ходами — и прямыми и окольными, нет такой ловушки, какую бы он тебе не подставил, нет такой лести, такой видимости логики, игры на твоих страхах или жадности, на какие он не пошел бы; и все это чтобы уклониться от постройки беседки, расправиться с подчиненными, сделать попросторнее свою хижину или получить новый плащ.
Так же ведут себя женщины, однако насколько разнообразнее у них цели, насколько богаче боевые средства, насколько сильнее страсть к достижению своих целей.
Раб в основном жаждет удобства, в то время как женские потребности определяются тем, что составляет самый смысл ее жизни: охрана собственности, почет, который ей оказывают знакомые матроны, хотя сама она их презирает и боится; содержание взаперти дочери, которую она хочет оставить невежественной, лишить всяких радостей и превратить в животное. Стремления женщины так глубоко в ней заложены, что кажутся ей естественными, мудрыми, непреложными. Поэтому всякое другое мнение она может только презирать. Такой натуре разум кажется ненужным и пустячным, она глуха к его доводам. Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом.
(Далее идет раздел, где говорится об интимных отношениях. Он был так искажен игривыми и богатыми на выдумку переписчиками, что установить первоначальный текст не представляется возможным.)
Обо всем этом редко говорят, хотя поэты иногда и приоткрывают завесу, те самые поэты, которые больше всех и толкают нас на поиски губительного исключения. Еврипид в своей «Медее» обнажил все это до конца. Недаром афиняне с бранью изгнали его из Афин за то, что он высказал истину. Толпу возглавлял Аристофан, показавший — правда, не столь откровенно, — что и ему все это отлично известно, но он припрятал свое знание поглубже, чтобы выгнать из города более великого поэта. А Софокл? Какой муж горько не смеялся во время сцены, где Иокаста громоздит одну ложь на другую, делая хорошую мину при плохой игре. Прекрасный пример так называемой супружеской любви, когда жена готова скрыть от мужа все, что угодно, лишь бы сохранить мнимое благополучие; яркая иллюстрация того, как по недомыслию жене трудно отличить мужа от сына.
Ах, друг мой, давай утешаться философией. Это та область, куда никогда не ступала их нога, да они, впрочем, и не проявляли к ней ни малейшего интереса. Порадуемся старости, которая освобождает нас от желания их обнимать, ведь за эти объятия мы платим порядком в жизни и покоем души.
XXXII. Абра, служанка Помпеи, — Клодии
(1 октября)
Я так волновалась, высокочтимая госпожа, за вас, за ваш дом и за нашего хозяина после покушения на его жизнь. Да и все здесь были в большом расстройстве: дом битком набит посетителями и полицией, а хозяйка просто голову потеряла. Но сам, благодарение бессмертным богам, проснулся в полдень как ни в чем не бывало и даже очень веселый, отчего хозяйка моя просто взбесилась. Он очень оголодал и все ест да ест, а доктор не разрешает, и хозяйка на коленях просит его не есть. Ну, а он такие шуточки отпускает, что мы еле-еле сдерживаемся, чтобы не захохотать.
Я сама слышала, госпожа, как он сказал всем, кто был рядом, что отродясь не получал такого удовольствия от обеда, как тогда у вас. Марк Антоний возьми и спроси: почему, мол; а он говорит, что больно хорошая была у вас компания. Вы уж меня извините за вольность, только Марк Антоний сказал: это вы о ком, о Клаудилле? А сам и говорит: Клаудилла — замечательная женщина. Надеюсь, госпожа, вы меня не осудите, что я рассказываю вам все как есть.
Ну а теперь, госпожа, сообщаю вам, что он объявлял всем, кто в этот день приходил, будто Клеопатра, та самая египетская царица, не сегодня-завтра приезжает к нам в Рим.
(6 октября)
Вчера вечером хозяина не было дома — первый раз за долгое время, — и все думают, что это неспроста.
Царица прислала моей хозяйке чудесные подарки, особенно одну расчудесную вещицу. Вчера тайком пришли мастера, поставили ее и запустили. Это самый настоящий египетский дворец, но высотой едва по колено. И если снять переднюю стенку, видно все внутри — там тебе и хлев, и царский кортеж, а одежды и краски просто прелесть! Но это еще не все. Когда пускаешь воду — тут даже и не объяснишь, госпожа, как это делается, но все человечки начинают двигаться, царица со свитой входят во дворец и даже поднимаются по лестнице — право слово! — а потом идут через весь дом, и звери тоже ходят и пьют воду из Нила, и крокодил плывет против течения, а женщины ткут, рыбаки ловят рыбу, и, клянусь бессмертными богами, всего и не перескажешь, что там делается. Так бы и смотрела, глаз не оторвать. Хозяйка впала в такой раж, что приказала зажечь все лампы, мы думали, она никогда не угомонится. Все говорят, как это ловко царица придумала — ведь хозяйка моя все забыла, любуясь этим дворцом, даже забыла, что мужа нету дома.
(8 октября)
Вчера к моей хозяйке приезжала в гости царица. Мы думали она будет пышно разодета, но на ней было простое синее платье и ни одной драгоценности — ей, как видно, известны законы на этот счет. Прическа у нее тоже была простая, а я битых два часа возилась с хозяйкиными волосами! Хозяйка поблагодарила ее за игрушечный дворец, а потом они только и говорили, как с ним обращаться. Царица сама очень простая. Она даже знала, как меня зовут, и все мне объяснила. Но, как говорит хозяйкин секретарь, сразу видно, что голова у нее на месте. А когда вернулся домой мой хозяин, он спросил: как тут все у нас обошлось, а хозяйка так гордо отвечает: да, очень хорошо, а как же, мол, иначе? Ах, госпожа, видели бы вы в эти дни хозяина! Будто в доме вдруг поселился десяток мальчишек, все время поддразнивает хозяйку и даже ее щиплет.
XXXIII. Корнелий Непот. Заметки
(3 октября)
Приехала царица Египта. В Остии ее встречала делегация от города и сената, но она отказалась сойти на берег, потому что среди приветственных вымпелов не было знаков достоинства диктатора. Об этом было доложено Цезарю, и он спешно отправил Азиния Поллиона в порт со своими трофеями. Тогда она двинулась в путь и, проведя в дороге всю ночь, прибыла в Рим.
Царица никого не принимает и, по слухам, нездорова. Однако же она разослала тридцати высокопоставленным лицам роскошные подарки.
(5 октября)
Сегодня царицу принимали на Капитолии. Пышность ее свиты превосходит все нами виденное. Издали она мне показалась очень красивой; Алина (его жена) могла ее разглядеть получше (по-видимому, она сидела среди девственниц Весты) и, как истая женщина, уверяет, будто она решительно нехороша собой — щеки у нее такие пухлые, что ее прозвали «мордастой». Ходят сплетни, будто у нее с диктатором произошла яростная стычка из-за ее одеяния. Египетские царицы, видимо отождествляя себя с богиней Изидой, в парадных случаях ничем не прикрываются выше пояса. Цезарь настоял на том, чтобы она прикрыла грудь, согласно римскому обычаю, и она подчинилась, правда прикрыв лишь самую малость. Царица произнесла краткую речь на ломаном латинском языке и более длинную по-египетски. Диктатор отвечал ей как по-египетски, так и по-латыни. Приметы во время жертвоприношения были в высшей степени благоприятными.
XXXIII-А. Цицерон из Рима — своему брату
(8 октября)
«Царица Египта», друг мой, магические слова для всех, кроме меня.
Я несколько лет переписывался с этой царицей и оказывал бесчисленные услуги ее казначейству. Можно было ожидать, что ей известны мои склонности, мой характер и услуги, оказанные нашей республике. Приехав, она разослала роскошные подарки всей чиновной мелкоте — такие, какие преподносят друг другу только цари. Мне она тоже послала подарок. На эти деньги можно было бы целый год кормить Сицилию; но что мне делать с усыпанными драгоценностями венцами и с изумрудными кошками? Клянусь бессмертными богами, я дал понять этому тупице Аммонию, ее управителю, что я не пьяный актер и не из тех, кто ценит подарки по их стоимости, а не по их уместности. «Неужели в Александрийской библиотеке не нашлось какой-нибудь рукописи?» — спросил я у него.
Чары царицы при ближайшем рассмотрении рассеиваются. Я верю в теорию, что каждый из нас всю жизнь пребывает в одном возрасте, к которому нас тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался шестнадцатилетним, и несоответствие этого возраста его теперешнему с каждым годом представляет все более грустное зрелище. Мой добрый друг Брут уже в двенадцать лет был рассудочным, осмотрительным пятидесятилетним мужем. Цезарю всегда сорок, этот двуликий Янус смотрит то в молодость, то в старость. По этой теории, Клеопатре, несмотря на ее молодость, не меньше сорока пяти, и поэтому на ее юные прелести смотреть как-то неловко. Она тучна, как бывают тучны матери восьмерых детей. Многие восхищаются ее походкой и статью, но только не я. Ей двадцать четыре года, а ходит она как женщина, которая мечтает, чтобы ей дали не больше двадцати четырех.
Надо быть очень наблюдательным, чтобы все это заметить. Ее сан, великолепие одеяний и два выдающихся достоинства — прекрасные глаза и пленительный голос — покоряют неосторожных.
XXXIV. Письмо и вопросник Клеопатры Цезарю
(9 октября)
Мой Deedja, Deedja, Deedja, твоя Crocodeedja и очень несчастливо-счастлива, и очень счастливо-несчастна. Счастлива оттого, что увидит своего Deedja двенадцатого ночью и пробудет с ним всю ночь, а несчастлива оттого, что до двенадцатого еще целая вечность. Когда со мной нет моего Deedja я сижу и плачу. Я рву на себе одежды, не понимаю, зачем я здесь, почему не в Египте, что я делаю в этом Риме. Все меня ненавидят, все шлют мне письма, где желают мне смерти. Неужели мой Deedja не может прийти до двенадцатого? Ах, Deedja, жизнь коротка, любовь коротка; почему мы не видим друг друга? Другие же весь день и всю ночь видят моего Deedja. Разве они любят его больше, чем я? Разве он любит их больше, чем любит меня? Ничего, ничего нет на свете, что я любила бы больше моего Deedja, моего Deedja, когда он у меня в объятиях. Разлука — это жестокость, разлука — расточительство, разлука — бессмыслица.
Но раз Deedja не хочет, я плачу; я не понимаю, но плачу и жду двенадцатого… А письма я должна писать ему каждый день. В тот день, когда я не получаю от тебя настоящего письма, я всю ночь не сплю. Правда, я ежедневно получаю твои подарки с коротенькими записочками при них. Я их целую и прижимаю их к себе; но когда вместе с подарками я не получаю настоящего письма, я не могу их любить.
Я должна писать своему Deedja каждый день и повторять ему, что люблю его одного и думаю только о нем. Но к тому же мне надо задать ему кое-какие скучные пустяковые вопросы. Ответ на них я — твоя почетная гостья — должна знать, чтобы быть достойной твоего покровительства. Не сердись на свою Crocodeedja за эти мелкие, надоедливые расспросы.
1. На моем приеме я схожу на самую нижнюю ступеньку трона, чтобы приветствовать жену моего Deedja. Спускаться ли мне также на нижнюю ступеньку, встречая тетку Deedja? Как мне приветствовать консулов и их жен?
(Ответ Цезаря. До сих пор все царицы спускались на нижнюю ступеньку. Я намерен это изменить. Моя жена и тетка придут со мной. Ты встретишь нас у арки. Твой трон будет поднят не на восемь ступеней, а на одну. Всех прочих гостей ты будешь приветствовать, стоя у трона. Может показаться, что такой распорядок лишит тебя почетного возвышения, но какой уж тут почет, если с него надо спускаться, а тебе придется спускаться, встречая консулов — они ведь у нас высшая власть, или, вернее, были ею. Подумай, и ты поймешь, что Deedja прав.)
2. Госпожа Сервилия не ответила на мое приглашение. Ты сам понимаешь, я этого не потерплю. Я знаю способ, как заставить ее явиться, и намерена пустить его в ход.
(Ответ Цезаря. Не понимаю, о чем речь. Госпожа Сервилия будет на приеме.)
3. Если ночь будет холодная, я не смогу ни на шаг отойти от жаровен с углями, не то я замерзну насмерть. Но где взять столько жаровен для гостей на время водяной феерии?
(Ответ Цезаря. Обеспечь жаровнями твоих придворных дам. Мы, италийцы, к холоду привыкли и одеваемся так, чтобы не замерзнуть.)
4. В Египте царские особы не принимают танцовщиц и людей театра. Мне сказали, что я должна пригласить актрису Кифериду — ее принимают многие патриции, а твои не то племянник, не то двоюродный брат Марк Антоний никуда без нее не ходит. Надо ли мне ее приглашать? Но, в сущности, надо ли мне приглашать и его? Он каждый день приходит сюда сам, и у него очень дерзкий взгляд; я не привыкла к тому, чтобы надо мной смеялись.
(Ответ Цезаря. Да, надо не только пригласить ее, но и поближе с ней познакомиться. Она дочка колесника, но самые знатные аристократки могли бы у нее поучиться достоинству, обаянию и прекрасным манерам.
Ты скоро поймешь, что меня в ней восхищает. К тому же я у нее в долгу: ее многолетняя связь с моим родственником Марком Антонием сделала его моим другом. Мы, мужчины, в основном представляем собой то, во что превращаете нас вы, женщины; да это касается не только мужчин — ибо мужчине не под силу переделать женщину, если она дурна. Марк Антоний был и навсегда останется лучшим и самым популярным атлетом провинциальной школы. Десять лет назад даже пятиминутный серьезный разговор доводил его до изнеможения и он томился желанием поскорей поставить три стола себе на подбородок и пожонглировать ими. Даже войны отнимали лишь сотую долю его бездумной энергии. Рим жил в страхе перед его розыгрышами: он не задумываясь мог подпалить целый квартал, спустить с причалов все лодки и украсть одежду у всего сената. Его шутки не были злыми, они были глупыми. Киферида положила всему этому конец, она ничего у него не отняла, а только перетасовала все его свойства. Я окружен такими реформаторами, которые могут обеспечить порядок только законами, подавляющими личность, лишив ее радости и напора, — их я ненавижу. Катон и Брут мечтают о государстве трудолюбивых мышей, а по бедности воображения обвиняют в этом и меня. Я был бы счастлив, если бы обо мне могли сказать, что я, как Киферида, могу объездить коня, не погасив огня в его глазах и буйства в его крови. Ну разве Киферида не достойна награды? Он никуда без нее не ходит, и правильно делает — где он найдет лучшего спутника?
Но пора кончать. Вот уже полчаса меня дожидается делегация от Лузитании — хочет заявить протест против моей жестокости и несправедливости. Скажи Хармиане, чтобы сегодня ночью она все приготовила для приема гостя. Он войдет, переодетый стражником, через Александрийские ворота. Скажи Хармиане, что он придет ближе к рассвету, чем к закату, — как только страсть поборет благоразумие. Пусть великая царица Египта, эта птица феникс, спит спокойно, ее разбудят ласковой рукой. Да, жизнь коротка, разлука — безумие.)
XXXIV-А. Актриса Киферида из Байи — Цицерону на его виллу в Тускуле
(Это письмо, написанное годом раньше, приведено для того, чтобы лучше осветить обстоятельства, затронутые в вопросе 4 предыдущего письма.)
Госпожа Киферида выражает глубокое почтение не только величайшему на свете адвокату и оратору, но и спасителю Римской республики.
Как вы знаете, диктатор приказал подготовить для опубликования сборник ваших остроумных высказываний. До меня дошла молва, что в сборник включен застольный разговор на обеде, данном года три назад в вашу честь Марком Антонием, кое-какие тогдашние мои замечания могут показаться неуважительными по отношению к диктатору.
Памятуя о лестных отзывах, которыми вы так щедро меня удостаивали, умоляю изъять все выражения подобного характера, приписываемые мне.
Во время гражданских войн я и правда иначе относилась к диктатору. Оба моих брата и мой муж боролись против него, и муж погиб в этой войне. С тех пор, однако, диктатор простил моих братьев, проявив присущее ему милосердие; он дал им земли, произвел реформы в нашем объятом смутой государстве, завоевал наши сердца и нашу преданность.
В будущем году я покидаю сцену. Мой уход на покой и моя старость будут отравлены сознанием того, что мои необдуманные слова передаются из уст в уста, а ведь такова судьба любого произведения, на котором стоит ваше прославленное имя.
Вы один можете избавить меня от этой беды. В знак моей признательности и восхищения прошу принять прилагаемую рукопись. Это пролог к «Девушке, потерпевшей кораблекрушение», написанный собственной рукой Менандра.
XXXV. Цезарь — Клодии
(10 октября)
Я был огорчен, узнав, что мне подают прошения с призывом исключить вас из общества, в которое входят все уважаемые матроны Рима. До меня пока что не дошло никаких сведений, доказывающих справедливость такой меры.
Однако я обращаюсь к вам по другому поводу. Я читаю множество писем, не предназначенных для моих глаз, — их авторы и адресаты и не подозревают о том, что я о них знаю.
Нельзя винить женщину, если ее любят, а она неспособна любить в ответ. Но при этом у женщины всегда найдутся способы усугубить или облегчить страдания своего поклонника. Я говорю о поэте Катулле, чей дар ценен для Рима не меньше, чем заслуги его правителей, и за чье спокойствие духа я тоже несу ответственность.
Угроза — оружие, которым легче всего пользоваться человеку у власти. Я редко к нему прибегаю. Однако бывают случаи, когда власть имущие понимают, что ни убеждения, ни призывы к милосердию не изменят дурного поведения ребенка или злоумышленника. Когда угрозы не помогают, приходится прибегать к наказанию.
Может быть, вам следовало бы на время покинуть город.
XXXV-А. Клодия — Цезарю
Госпожа Клодия Пульхра не без удивления прочла письмо диктатора. Госпожа Клодия Пульхра просит диктатора разрешить ей остаться в Риме, хотя бы до приема царицы Клеопатры; потом она удалится на свою загородную виллу и пробудет там до декабря.
XXXVI. Цезарь — Клеопатре. Отрывки из ежедневных писем
(Вторая половина октября)
(По-египетски, но многие слова этого письма в настоящее время неизвестны и их пришлось домыслить. Очевидно, это жаргон александрийских портовых кабаков, усвоенный Цезарем во время его кутежей в притонах, когда он несколько лет назад жил в Египте.)
Скажи Хармиане, чтобы она поосторожнее развертывала мою посылочку.
Я ее украл. Я ничего не крал с девятилетнего возраста и теперь переживаю все ощущения грабителя и карманного вора. Видно, я твердо пошел по пути обмана и лицедейства, как и положено преступнику. (Предполагается, что Цезарь стащил с туалетного стола жены флакон духов.)
Но чего только я не сделаю для великой царицы Египта? Я стал не только вором; я стал идиотом. Я могу думать только о ней. Я делаю промахи в работе. Я забываю имена, теряю бумаги. Секретари мои ошеломлены; я слышу, как они перешептываются за моей спиной. Я заставляю ждать посетителей, я откладываю дела — и все для того, чтобы вести долгие беседы с вечноживущей Изидой, с богиней, с ведьмой, которая лишила меня рассудка. Нет большего опьянения, чем вспоминать слова, которые тебе шептали ночью. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с египетской царицей.
(По-латыни.)
Где моя разумница Deedja, моя хорошая Deedja, моя умница Deedja? Почему она так неосторожна, так упряма, так жестока к себе и ко мне?
Моя жемчужина, мой лотос, если наше римское тесто из пшеничной муки тебе вредно, почему ты его ешь?
Все восточные люди не переносят этого теста. Его не переносит твой отец. Его не переносила царица Анеста. Мы — римляне — люди грубые. Мы можем есть все, что угодно. Я прошу тебя, я тебя умоляю, будь умницей. Я молюсь, чтобы ты не страдала, но я, я страдаю! Мой посланец будет ждать, пока Хармиана не пошлет мне весточку о тебе. О звезда и феникс, береги себя.
Ты прогнала моего врача. Почему ты не дала ему себя осмотреть? Неужели тебе трудно было поговорить с ним хоть минуту? Ты уверяешь, будто вашей египетской медицине уже десять тысяч лет, а что мы, римляне, младенцы. Да, да, но должен тебе сказать прямо: твои доктора уже десять тысяч лет занимаются чепухой. Подумай, подумай немножко о медицине. Доктора в большинстве своем шарлатаны. Чем старше врач и чем больше его почитают, тем ему больше приходится изображать, будто он знает все. Конечно, с возрастом они становятся только хуже. Ищи врача, которого знаменитые врачи ненавидят. Или способного молодого врача, который еще не погряз во всякой чепухе. Deedja, пообещай, что ты покажешься моему Сосфену.
Что мне делать? Береги себя. Я тебя люблю.
Ах да. Я повинуюсь царице Египта. Я делаю все, что она мне прикажет.
У меня весь день была багровая макушка.
Один посетитель за другим взирали на меня с ужасом, но никто не осмелился спросить, что со мной. Вот что значит быть диктатором: никто не задает тебе вопросов. Я мог бы проскакать на одной ножке отсюда до Остии и обратно — и никто не решился бы и слова сказать…
Наконец пришла служанка мыть пол. Она спросила:
— О божественный Цезарь, что у тебя с головой?
— Матушка, — сказал я, — величайшая женщина на свете, самая прекрасная, самая мудрая, уверяет, будто от лысины можно избавиться, втирая в нее мазь из меда, ягод можжевельника и полыни. Она приказала мне мазаться этой мазью, а я ей подчиняюсь во всем.
— Божественный Цезарь, — заметила она, — я не великая женщина, не прекрасная и не мудрая, но я знаю одно: у мужчин бывают либо мозги, либо волосы, но не бывает и того и другого. Вы достаточно красивы и так, и, если бессмертные боги наделили вас здравым смыслом, значит, они не пожелали, чтобы у вас были локоны.
Я собираюсь произвести эту женщину в сенаторы.
Никогда еще, великая царица, я не чувствовал себя таким беспомощным. Я бы отрекся от всей моей власти, если бы это помогло, но я не могу управлять погодой. Меня бесят эти холодные дожди, как вот уже много лет ничто не бесило. Я стал вроде крестьянина; мои писцы переглядываются с недоумением: они видят, как я то и дело подхожу к дверям и смотрю на небо. Ночью я встаю и выхожу на балкон — проверяю, откуда дует ветер, ищу на небе звезды. С этим письмом я посылаю тебе еще одно меховое одеяло, пожалуйста, укутывайся потеплее. Говорят, будто эти безжалостные дожди продлятся еще два дня. Но зимой нередко выпадают солнечные дни. У моего друга есть вилла в Салерно, и там не дуют северные ветры. В январе ты туда поедешь, а я к тебе присоединюсь. Потерпи, займись чем-нибудь. Пришли мне весточку.
XXXVII. Катулл — Клодии
(20 октября)
Душа души моей, когда я утром получил твою записку, я заплакал. Ты нас простила. Ты поняла, Клаудилла, что мы не хотели, никак не хотели тебя обидеть. Я спрашиваю себя, что же я такого сказал, чем тебя рассердил. Но не будем больше об этом думать. Ты нас простила, все забыто…
Но, дивная Клаудилла, несравненная Клаудилла, приготовься нас снова простить. Мы ведь не знаем, когда и почему впадем в немилость. Будь уверена отныне и вовеки, что мы никогда, слышишь, никогда намеренно не причиним тебе боль. И это заверение пребудет на все времена. Какой обидный смысл ты могла найти в… Но довольно! Все забыто.
Однако, Клаудилла, постарайся и ты не обижать меня. Вот ты сказала в его присутствии: «Валерию еще ни разу не удалось написать стихотворение, удачное с начала и до конца». Клаудилла, разве ты не знаешь, что нет ничего страшнее для поэта? Несколько строк удается, остальные приходится выжимать из себя. Как, неужели я ни разу не написал цельного стихотворения? И сказать это при нем!
Что касается приема у царицы, я, конечно, сделаю так, как ты хочешь. Мне не особенно хочется идти. Многие члены нашего клуба идут туда скопом, они просили меня написать на этот случай оду. Я уже набросал несколько строк, но получается не очень хорошо, и я с удовольствием брошу эту затею. Все, что я о ней слышу, заставляет думать, что она несносна, особенно возмущает бесстыдство ее одежды.
Нет, болен я не был.
Позже.
Я уже собирался отправить письмо, но случайно узнал, что ты уезжаешь за город на несколько месяцев. Почему? Почему? Это правда? О боги, это не может быть правдой. Ты бы мне сказала. Почему? Ты никогда не уезжала зимой. Что это значит? Прямо не знаю, что и думать. Ты никогда не уезжала зимой.
Если это правда, Клаудилла, Клаудилла, ты за мной пошлешь. Мы будем читать, мы будем гулять у моря. Ты мне будешь показывать звезды. Никто еще не говорил о звездах так, как говоришь ты. Я всегда тебя боготворю, но в эти минуты ты — настоящая богиня. Да, уезжай за город, моя блистающая звезда, мое сокровище, и дай мне побыть с тобой там.
Но чем больше я об этом думаю, тем я несчастнее.
Что это значит?
Я понимаю, что не должен ни о чем просить. Не должен ни на что претендовать. Но такая любовь, как моя, должна высказаться, иногда она должна даже закричать.
Прекрасная и ужасная Клодия, послушай меня хоть раз. Не уезжай из города, ну а если уж тебе надо уехать из города, поезжай одна. Я не смею снова просить, чтобы ты поехала со мной, но поезжай хотя бы одна.
Да, я тебе признаюсь, я был болен. С тех пор как люди узнали любовь, отвергнутые любовники всегда делали вид, будто они больны, но я не притворялся. Ты хочешь меня убить? Это твоя цель? Я не хочу умирать. Клянусь тебе, я буду бороться за жизнь до последнего вздоха. Не знаю, долго ли еще я смогу это вынести. Мне угрожает что-то сильнее меня. Всю ночь оно прячется в углу моей комнаты, подглядывая за мной, пока я сплю. Я вдруг просыпаюсь, и мне чудится, что оно нависло над моим ложем.
Говорю тебе заранее: если ты поедешь с ним за город, я непременно умру. Ты ругаешь меня за слабость. Я не слабый. Я мог бы поднять твоего дружка на воздух, продержать его час, а потом без особого напряжения швырнуть о стену. Ты знаешь, я вовсе не слаб, и только могучая сила способна меня убить.
Я не хочу, чтобы в словах моих слышался гнев. Если ты правда едешь на свою виллу, обещай, что будешь одна. А там, если не захочешь, чтобы я к тебе приехал, я подчинюсь твоей воле и уеду домой, на север, и буду там до тех пор, пока ты не вернешься в город.
Напиши мне. И, ах, Клодия, Клаудилла, попроси меня что-нибудь сделать — но то, что в моих силах. Не проси меня забыть тебя или стать к тебе равнодушным. Не проси меня не думать о том, как ты проводишь время. Но если нам суждено быть в разлуке, поручи мне что-нибудь сделать, пусть это будет постоянной связью с тобой. Великая царица, более великая, чем все царицы Египта, добрая и мудрая, просвещенная и милостивая, ты можешь вылечить меня одним твоим словом. Одной улыбкой ты можешь превратить меня в счастливейшего из поэтов, которые когда-либо славили бессмертных богов.
XXXVII-А. Клодия — Катуллу
(обратной почтой)
Да, дорогой Гай, это правда, я еду на свою виллу и еду одна, совершенно одна. Вернее говоря, только с астрономом Сосигеном. Жизнь в городе мне прискучила. Я буду часто тебе писать. Я буду думать о тебе с нежностью. Меня огорчает, что ты был болен. Мне кажется, что ты поступил бы разумно, если бы поехал домой. Я посылаю подарки для твоей матери и твоих сестер.
Ты просишь дать тебе какое-нибудь задание. Что я могу поручить тебе, чего тебе уже не подсказал твой гений? Забудь все, что я когда-либо говорила о твоих стихах, и запомни: только ты и Лукреций сделали Рим новой Грецией. Когда-то ты сказал, что сочинение трагедий не твое дело. В другой раз ты говорил, что мог бы написать «Елену». Любые стихи, какие ты напишешь, доставят мне наслаждение, а если бы ты написал «Елену», мы могли бы ее сыграть, когда я вернусь в город. Я поеду наутро после приема у царицы и вернусь за несколько дней до празднества (Таинств Доброй Богини).
Береги свое здоровье. Не забывай свою Волоокую.
XXXVIII. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
1008. (О том, что Клеопатра в восторге от каприйского вина.)
1009. (Извинение за задержку с отправкой письма.)
1010. (О любовной поэзии.) Всех нас пронимают песни деревенского люда и рыночной площади. Бывало время, когда меня целыми днями мучила песня, услышанная из-за садовой ограды или спетая моими солдатами у бивачного костра. «Не говори нет, нет, нет, маленькая дочь белгов» или «Скажи, луна, где теперь моя Хлоя». Но когда стихи сложены державной рукой, тут уж они не мучат, а, клянусь Геркулесом, словно бы возвышают. Шаг вдвое шире, и рост вдвое выше.
Сегодня я с трудом сдерживался, чтобы не выпалить моим посетителям несколько строк, — нам теперь, слава бессмертным богам, нет нужды читать греческие стихи, мы сочиняем в Риме свои песни.
Ille mi par esso deo videtur, Ille, si fas est, superare divos, Qui sedene adversus identideni te Spectat et audit Duke ridentem… Кажется мне тот богоравным или — Коль сказать не грех — божества счастливей, Кто сидит с тобой, постоянно может Видеть и слышать Сладостный твой смех… Это слова Катулла, написанные в более счастливые для него времена. У меня есть подозрение, что сейчас он несчастнейший из смертных. Он запечатлел свои солнечный полдень в песне; я сейчас тоже переживаю свой полдень, и поэт разжег для меня его сияние.XXXIX. Записка Клодии — Марку Антонию
(В конце октября)
Сегодня был блестящий дворцовый прием. Перед нашествием иноземки пали древнейшие камни Римской стены: Сервилия, Фульвия Мансон, Семпрония Метелла.
Ваше отсутствие было замечено. Ее величество удостоило вас несколькими милостивыми словами, но я ее уже знаю и знаю эти слегка поджатые губы.
Скажите моей дорогой Несравненной (Кифериде), что царица о ней справлялась. Она сказала, что диктатор говорил о ней, Несравненной, с большим восторгом.
После вашего ухода Нил вышел из берегов от плохо сдерживаемого гнева. Она проворчала мне, что в Египте есть такая поговорка: «Все раны хвастуна — у него на спине». Я стала возражать, и меня провели в будуар, где угостили пирожными. Я рассказала о вашей храбрости при Фарсале; о доблести в битве с Аристобулом. Не сомневаюсь, что вы были не менее отважны и в Испании, но подробностей я не знала, поэтому изобрела сногсшибательный подвиг, который вы будто бы совершили возле Кордовы. Теперь он вошел в историю. А царица резко, чересчур резко, переменила тему разговора.
(27 октября)
Все готово.
Египет, несомненно, ваш, если вы поступите точно так, как я скажу. И тогда, когда я скажу. Все зависит от этого «тогда».
Приезжайте на прием пораньше и поменьше обращайте на нее внимания.
Хозяин крепости, без сомнения, отправится домой рано — с женой и теткой.
Я приеду поздно. И скажу, что вы хотите показать ей высочайший пример отваги, доселе невиданный в Риме, а потом стану ее уговаривать — ни за что, ни за что! — на это не соглашаться. Но разве это не так, разве это не будет высочайшим примером отваги, когда-либо виданным в Риме?
Однако не забудьте своего обещания. Не смейте в нее влюбляться. Если я увижу хоть малейший признак этого, я откажусь вам помогать и расторгну наше пари.
Разорвите эту записку, а лучше верните ее своему посланцу, чтобы я могла ее уничтожить.
XL. Госпожа Юлия Марция — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(28 октября)
С какой радостью, дорогой мальчик, я узнала, прочтя твое письмо, что могу тебе писать. И даже могу тебя навестить. Разреши мне приехать сразу после Нового года. Все мои мысли теперь заняты церемониями (в честь Доброй Богини); потом мне надо вернуться на ферму, привести в порядок счета за год и приглядеть за Сатурналиями в нашей горной деревне. А после этого я двинусь на юг — и с какой радостью!
Ты пишешь, что у тебя хватает времени на чтение длинных писем, а у меня его в избытке, чтобы такие письма писать. Но это письмо, надеюсь, не будет длинным; я просто хотела подтвердить получение твоей весточки и рассказать о вчерашнем вечере, что тебе, по-моему, будет интересно. Ты уверяешь, будто у тебя есть источники, которые сообщают о событиях, происходящих в Риме, поэтому я ограничусь описанием того, что я наблюдала сама и о чем ты вряд ли узнаешь от других.
Вчера был прием, на котором царица Египта открыла свой дворец для римлян. Тебе, несомненно, расскажут о роскоши обстановки, прудах, представлениях, играх, сутолоке, угощении и музыке.
Я обрела нового друга там, где меньше всего ожидала его найти. У царицы, может быть, и есть причины добиваться моего расположения, но, надеюсь, меня нелегко обмануть, и, по-моему, наш интерес друг к другу не был притворным — мы ведь такие разные: этот контраст при малейшем недоверии может породить презрение и насмешку, а при малейшей доброжелательности — необыкновенно приятную дружбу.
Я приехала на лодке с племянником и его женой; у ворот, копирующих Фивейский храм Изиды на Ниле, нас приветствовала царица. Тибр стал совсем египетским и по-новому красив, как и царица. Кое-кто это отрицает; право же, они ослеплены предубеждением. Кожа у нее цвета самого лучшего греческого мрамора и такая же гладкая, глаза карие, большие и очень живые. И они, и ее низкий, богатый переливами голос вселяют ничем не омраченное ощущение веселья, здоровья, счастья, ума и уверенности в себе. Наши римские красавицы были в изобилии, но я заметила, что и Волумния, и Ливия Долабелла, и Клодия Пульхра держались натянуто, чувствовали себя неловко и словно не могли побороть раздражения.
Царица, как мне объяснили, была одета богиней Изидой. Драгоценности и вышивка на платье — в синих и зеленых тонах. Она сперва провела нас по садам, давая объяснения главным образом Помпее, которая, как ни обидно, словно оцепенела от страха и не знала, что отвечать. Царица очень проста в обращении, и все, кто с ней сталкивается, должны бы чувствовать себя непринужденно, как это было со мной. Она подвела нас к трону и представила нам вельмож и дам своего двора. Потом обернулась и стала приветствовать длинные ряды гостей, ожидавших своей очереди, пока она оказывала знаки внимания диктатору.
Я собиралась пораньше вернуться домой и лечь спать, но задержалась со своими сверстницами, глазея на бесчисленные развлечения и пробуя необыкновенные лакомства (к ужасу Семпронии Метеллы, уверявшей меня, что они отравлены). Вдруг я почувствовала, что меня взяли за руку. Это была царица: она спросила, не хочу ли я с ней посидеть. Мы прошли в нечто вроде цветущей беседки, обогреваемой жаровнями; царица посадила меня рядом на кушетку и, немного помолчав, с улыбкой заговорила:
— Благородная госпожа, у нас в стране есть обычай: когда две женщины встречаются, они задают друг другу кое-какие вопросы.
— Я счастлива попасть в Египет, великая царица, и следовать обычаям этой страны, — ответила я.
— Мы спрашиваем друг у друга о детях и тяжело ли проходили роды.
Тут мы обе разразились смехом.
— Да, это не в римских обычаях, — сказала я, подумав о Семпронии Метелле, — но ваш обычай мне кажется разумным.
И я рассказала ей про моих детей, а она про своих. Она вынула из стоявшего рядом шкафчика прелестные портреты двух своих детей и показала мне.
— Все остальное, — прошептала она, — словно мираж у нас в пустыне. Я обожаю своих детей. И хотела бы родить целую сотню. Ну что на свете сравнится с этой милой головкой, с этой милой душистой головкой? Но я — царица, — сказала она, глядя на меня глазами, полными слез. — Я должна путешествовать. Я должна заниматься сотней других дел. Есть у вас внуки? — спросила она.
— Нет. Ни одного.
— Вы меня понимаете?
— Да, ваше величество, понимаю.
Мы сидели молча. Дорогой мальчик, такого разговора с нильской колдуньей я не ждала.
Нас прервал племянник, который подвел Марка Антония и актрису Кифериду. Увидев, как мы сидим в слезах среди громкой музыки оркестров и пламени огромных факелов, они явно удивились.
— Мы разговаривали о жизни и смерти, — сказала царица, поднимаясь и отирая рукой слезы. — Мой праздник от этого стал только веселее.
Она как будто не заметила моего внучатого племянника и обратилась к Кифериде:
— Милостивая госпожа, один большой знаток говорил мне, что никто так прекрасно не изъясняется по-латыни и по-гречески, как вы.
Письмо мое все равно получилось чересчур длинным. Я тебе напишу еще раз до нашей встречи. Твою последнюю просьбу я, конечно, выполню неукоснительно. Твое письмо и возможность поехать к тебе доставили мне большую радость.
XLI. Актриса Киферида — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(28 октября)
Я с радостью предвкушаю, милый друг, поездку к вам в декабре. Мы будем болтать, читать, и я снова взберусь на все горы и спущусь во все бухты. Никакой холод и никакие бури меня не испугают.
Вчера ночью произошло событие, которое делает эту поездку еще более желанной. Долгая и дорогая мне связь оборвалась; пробил колокол, музыка смолкла. Вы — единственный человек, который от меня об этом услышит. Вы столько слышали о том, как она развивалась, а теперь узнаете, и как она кончилась. Наша жизнь с Марком Антонием, продолжавшаяся пятнадцать лет, пришла к концу.
Задолго до приезда египетской царицы Марк Антоний стал насмехаться над ее репутацией обворожительницы и проницательной женщины. Он хвастал, будто вывел из себя диктатора, сказав, что он не поддастся чарам Клеопатры, которыми она побеждает менее стойких людей. Мне как никому дано было наблюдать, с каким невиданным терпением относился диктатор к своему легкомысленному племяннику, хотя терпение его не раз подвергалось более тяжким испытаниям, чем то, о котором я рассказываю, но, правда, не более досадным.
С тех пор как царица приехала, Марк Антоний зачастил к ее двору, и мне сообщили, что он донимает ее своими шутливыми ухаживаниями. Царица, по-видимому, не отвечала на его дерзости высокомерным кокетством, чего можно было бы от нее ожидать; несколько раз в присутствии придворных она гневно одергивала его. По Риму пошли пересуды.
Вчера мы отправились на ее пышный прием. Мой друг был в отличном расположении духа. По дороге я впервые заметила, что в его отзывах о ней сквозит искреннее восхищение и даже несвойственная ему восторженность. Я поняла, что, еще сам того не сознавая, он поддался страсти.
Когда я вас увижу, я опишу великолепие дворца и устроенных нам развлечений. Не знаю, как проходят подобные празднества в Александрии, но подозреваю, что царицу поразило, как дурно ведем себя на больших сборищах мы, римляне.
Женщины по обыкновению чинно сбивались в кучки — стояли или сидели отдельно от мужчин. Мужчины помоложе изрядно выпили, разбушевались и затеяли свои вечные состязания в силе и ловкости — другого времяпрепровождения они не знают. Само собой разумеется, что Антоний был там заводилой. Они развели сначала один, а потом и другой костер и, построившись рядами, стали бегать наперегонки по аллеям и прыгать через костер. Я уже научилась не обращать внимания на эти опасные игры; но все же заметила, что мой друг лазает по деревьям и прыгает с веток на крышу; ему подражали те, кого он раззадорил. Несколько человек разбились, сломали себе шеи, ноги, но буйное пьяное пенье становилось только громче. Изысканные живые картины, предложенные нам царицей, смотрели лишь несколько женщин да кучка стариков.
К полуночи мужчины стали уставать от своих игр; многие спьяну завалились в кусты и заснули; костры выгорали. При свете разноцветных факелов на острове была показана феерия, а в пруду плавали девушки.
Диктатор набрел на меня во время этого зрелища и оказал мне честь, сев со мной рядом. Жене его вечер не понравился, и она настаивала, чтобы они поскорее вернулись домой. Теперь я знаю точно: виною всему Клодия Пульхра, хотя для своих целей она воспользовалась материалом, который сам шел к ней в руки. Клодия, как и Марк Антоний, почти ежедневно бывали при дворе Клеопатры. Справедливо это или нет, но она стала считать себя главной наперсницей царицы в Риме. Мне случилось наблюдать появление Клодии на приеме. Она приехала поздно, в сопровождении брата и маленькой группы кавалеров из Эмилиева клуба для плавания и игры в шашки. Царица давно покинула свое место у трона и смешалась с толпой гостей. Большую часть вечера диктатор провел возле жены и оказывал царице только положенные по этикету почести; но в эту минуту они шли рядом к главной аллее, возвращаясь после боя львов с тиграми, происходившего в загородке для диких зверей. Клодия увидела перед собой нечто ей недоступное: женщину, которой некому завидовать, и диктатора, помолодевшего лет на двадцать; она услышала их счастливый смех, не таивший никакого зла.
Я знаю Клодию много лет и могу себе представить, какую боль причинила ей эта сцена.
Когда водяная феерия кончилась, Цезарь и его спутники стали искать царицу, чтобы с ней проститься. У пруда ее не было и во дворце тоже. Слева от аллеи воздвигли сцену, где в начале вечера разыгрывали музыкальную драму на сюжет из египетской истории, но теперь площадка была пуста и освещена лишь мерцанием факелов, горевших на парадном дворе по соседству. Я уже не помню, что заставило нас туда пойти. Декорация изображала поляну на берегу Нила, пальмовую рощу, кусты и заросли камыша. Короче говоря, мы захватили царицу врасплох: она, негодуя, вырывалась из объятий очень пьяного и очень пылкого Марка Антония. В том, что она сопротивлялась, нет сомнений, но сопротивляться можно по-разному: всем было ясно, что ее сопротивление длится уже довольно долго, хотя убежать не составляло труда. В полутьме трудно было различить, что там происходит.
Однако приличия были соблюдены. В этот миг из-за сцены появилась прислужница царицы Хармиана и принесла жаровню, которая помогает Клеопатре переносить наш холодный климат. Царица выбранила Марка Антония за бестактность. Диктатор выбранил его за пьянство. Происшествие, казалось, высмеяли и забыли. Однако они так и не объяснили, почему очутились вдвоем в этом уединенном месте. Кто-кто, а Марк Антоний от меня ничего не скрывает, и я поняла, что он сейчас испытывает те же чувства, какие испытывал пятнадцать лет назад ко мне и больше ни к кому, несмотря на все свои шалости. О том, что чувствует царица, я не знаю. Могу об этом судить лишь по тому, как это отразилось на великом человеке, который находился со мной рядом: ни один актер не сравнится с Цезарем, и только актер мог разгадать, что он поражен в самое сердце. Никто другой, по-моему, этого не заметил. Помпея отстала от нас и шла по дорожке сзади.
Мы распрощались. В носилках Марк Антоний прижался ко мне, он рыдал и без конца шептал мне на ухо мое имя. Более явного расставания быть не могло.
Я знала, рано или поздно этот час придет. Любовник превратился в сына. Не стану притворяться, что это далось мне легко, но и не стану преувеличивать своих страданий — сама того не сознавая, я уже наполовину примирилась с неизбежным. Я приеду на Капри, еще больше ценя дружбу, ту дружбу, которой я никогда не знала с Марком Антонием, потому что она расцветает там, где есть духовная близость. Ее утехи ни с чем не сравнимы, но я — женщина. И только перед вами, чья мудрость и терпение не имеют границ, могу я в последний раз посетовать на то, что дружба — даже ваша — всегда будет на втором месте после утраченной мною любви. Она наполняла дни мои светом, а ночи — нестерпимой нежностью. Пятнадцать лет мне не надо было спрашивать себя, зачем человек живет и зачем он страдает. Теперь мне надо привыкать жить без влюбленных глаз, из-за которых я провела свою жизнь как во сне.
XLI-А. Клеопатра — Цезарю
(Полночь 27 октября)
Deedja, Deedja, поверь мне, что мне было делать? Он повел меня туда под предлогом, будто он с товарищами покажет мне какое-то невиданное состязание в отваге. Он был и пьян, и очень хитер. Я совершенно растеряна. Сама не знаю, как это могло случиться. Я убеждена, что тут как-то замешана эта тварь Клодия Пульхра. Она либо надоумила его, либо подзадорила. Она подсказала ему, что надо делать. Я в этом уверена. Deedja, я не виновата. Я не засну, пока ты не пришлешь мне хоть словечко, что ты все понимаешь, что ты веришь мне и меня любишь. Я схожу с ума от ужаса и горя.
Пошли мне записочку с этим же посланным, молю тебя.
XLI-Б. Цезарь — Клеопатре
(Из дома Корнелия Непота, где посланный Клеопатры нашел Цезаря у одра больного Гая Валерия Катулла.)
Спи, спи спокойно.
Теперь ты усомнилась во мне. Я хорошо знаю моего племянника. И сразу понял, что произошло. Не сомневайся в чуткости твоего Deedja.
Спи спокойно, великая царица.
Часть третья
XLII. Верховный понтифик Цезарь — верховной жрице коллегии девственных весталок
(9 августа)
Досточтимая дева.
Это письмо никто не должен видеть, кроме вас.
Прошлой весной госпожа Юлия Марция передала мне ценное замечание, которое вы обронили в беседе с ней. Она и не подозревает, как важны для меня были эти слова, и не знает, что я вам пишу.
Она припомнила, как вы сожалели о том, что в священных ритуалах нашей римской религии порой встречаются грубые подробности. Помню, что о том же сетовала моя мать, госпожа Аврелия Юлия. Вы, вероятно, не забыли, что в тот год (61-й), когда я был избран на пост верховного понтифика и Таинства Доброй Богини происходили в моем доме, ими руководила моя мать. Госпожа Аврелия была женщиной примерного благочестия и прекрасно знала религиозные обычаи Рима. В качестве верховного понтифика я помогал ей в исполнении обряда, однако можете не сомневаться, что мне было открыто не больше того, что положено знать человеку, занимающему этот высокий пост. Но она мне все же сказала, что глубоко сожалеет о кое-каких обрядах, сохранивших следы варварской грубости, которая, по ее словам, вовсе не усиливает их воздействия. Вы, может быть, также припомните, что в тот год (об этом мне было дозволено знать) она на свою ответственность заменила живых змей глиняными; это новшество не встретило возражений и, если не ошибаюсь, принято и в наши дни.
Я знаю, высокочтимая госпожа, что по обычаю девственным весталкам полагается покидать церемонию в полночь, то есть еще до заключительного обряда. Следовательно, я вправе предположить, что некие символические действия, происходящие позднее, оскорбительны для глубоко верующих и целомудренных дев. На протяжении своей жизни я не раз замечал чувство отвращения к ним у женщин в своей семье. Однако мне еще больше бросалась в глаза радость и глубокая вера, с какой они готовились к этим обрядам. Великий Марий говорил об этих таинствах: «Это столп, поддерживающий Рим». Я хотел бы, чтобы о них и обо всех наших римских обрядах можно было сказать, как Пиндар сказал об Элевсинских мистериях: «Они хранят мир от распада и хаоса».
Разрешите мне просить вас, благородная дева, поразмыслить над тем, к чему я привлек ваше внимание. Если вы сочтете нужным, пошлите это письмо госпоже Юлии Марции. Я считаю, что, объединив ваши усилия, вы способны оказать эту выдающуюся услугу нашему народу в его насущных интересах. Конечно, не без страха и трепета решишься изменить хотя бы единое слово или жест в столь древних и полных святости обрядах. Однако я придерживаюсь мнения, что по закону жизни все растет, меняется, сбрасывает шелуху, предохраняющую зародыш, и принимает более прекрасные и благородные формы. Так повелели бессмертные боги.
XLII-А. Цезарь — госпоже Юлии Марции в ее имение на Альбанских холмах
(11 августа)
Прилагаю письмо, которое я только что написал верховной жрице коллегии девственных весталок. Надеюсь, я точно выразил твою мысль.
Надо ожидать, что любые новшества в этой области встретят большое сопротивление. Женщины — на горе нам и на радость — отчаянные консерваторы. Мужчины давно отказались от грубых ритуалов: от празднества Арвальских братьев и кое-каких других. Лучше, пожалуй, сказать, что они их развенчали и отринули; теперь эти ритуалы существуют только как пережитки в религиозных церемониях, как невинное шутовство, которым предваряют и заканчивают основные обряды.
Я с горечью просматриваю список самых знатных семейств, стараясь найти там хоть несколько здравомыслящих женщин, которые смогли бы оказать тебе помощь и поддержку в этом необходимом деле. В предыдущем поколении нетрудно было бы назвать десятка два таких матрон. А теперь я вижу только тех, кто будет чинить тебе всяческие препятствия: Семпрония Метелла и Фульвия Мансон — по бездумному консерватизму; Сервилия — со злости, что не она это затеяла; Клодия Пульхра — из духа противоречия. Меня не удивит, если и Помпея попробует воспротивиться нашим намерениям.
Дорогая тетя, вчера я доставил себе немалое удовольствие. Как ты знаешь, я решил основать несколько колоний на Черном море. Карта подсказала мне восхитительное место, прямо созданное для того, чтобы построить там два смежных города. Я назову их в честь твоего великого мужа и в твою честь: Мариурбисом и Юлимарцием. Мне сказали, что место это очень здоровое и необычайно живописно расположено; я посылаю туда наиболее достойные семьи из тех, кто ходатайствовал о выезде.
XLII-Б. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Приблизительно 6 сентября)
973. (Относительно реформ в Таинствах Доброй Богини.)
Как мне недавно объяснили в одном анонимном письме, диктатура неудержимо толкает на сочинение анонимных посланий. Я не помню, чтобы когда-нибудь их было столько в обращении. Они хлынули в мой дом потоком. Вдохновленные подлинной страстью, они пользуются безнаказанностью своего сиротского положения и тем не менее обладают крупным преимуществом перед узаконенной перепиской: анонимные письма выражают свои замыслы до конца; они выворачивают карманы наизнанку.
Я разворошил осиное гнездо, попытавшись отменить кое-какие дикие пережитки, о которых знал — правда, довольно смутно, — в праздновании Таинств Доброй Богини. Мои анонимные корреспонденты, конечно, женщины. Они не подозревают, что я инициатор этих новшеств; они просто взывают ко мне как к верховному понтифику и высшему судье.
Церемонии, которые происходят в течение этих двадцати часов, должно быть, производят глубочайшее впечатление на верующих — настолько сильное, что большинство участниц в порыве экстаза вряд ли ощущают их непристойность. Для них эта непристойность лишь усиливает подлинность и магическое действие обрядов.
Таинства, насколько я понимаю, предохраняют от бесплодия, от трагического исхода беременности и рождения уродов. Они вносят гармонию и, так сказать, освящают ту жизнь женщины, о которой даже самые опытные врачи знают весьма мало. И я понимаю, что, раз так, этим смысл обрядов не ограничивается: обряды утверждают саму жизнь, все человечество, всякое созидание. Ничего удивительного, что женщины возвращаются оттуда существами другого мира и какое-то время бродят просветленные и словно чуждые всему. Им сказали, что они управляют ходом светил и не дают сойти с места камням, которыми вымощен Рим. И когда они потом нам отдаются, они это делают с гордостью и даже не без высокомерия, словно мы, мужчины, лишь случайные орудия в их великом труде.
Я далек от того, чтобы хоть на йоту ослабить воздействие и утешительную силу этих церемоний. Наоборот, я хочу повысить их влияние. Однако я заметил, что их положительное действие длится всего несколько дней. Пробудь наши женщины дольше в этом возвышенном состоянии, я бы охотно признал, что они и впрямь управляют ходом светил и содержат в порядке римские мостовые. Из всех известных мне мужчин я — самый горячий поклонник вечно женственного, я снисходительнее других к женским слабостям, терпимее к причудам. Но не забудь, какие у меня были преимущества! Я с удивлением себя спрашиваю: «Мог ли бы какой-нибудь мужчина судить о женском роде, если бы ему не пришлось жить рядом с замечательными женщинами? Какое высокомерие у него выработалось бы от одного сознания того, что он — мужчина! Какие легкие победы он одерживал бы, помыкая близкими ему женщинами!». Каждый день я наблюдаю множество мужчин; среди них легко отличить тех, кто стал тем, что он есть, благодаря былой близости с какой-нибудь выдающейся женщиной. Я сделал больше, чем кто-либо другой из правителей, чтобы поднять общественное положение и независимость женщин. Перикл в этих делах был туповат, а Александр еще щенок. Меня часто попрекают легкомысленным отношением к женщинам. Это ерунда. Из всех, с кем я имел дело, только одна стала моим врагом, да и та была врагом всех мужчин еще до встречи со мной. И ее я почти излечил от ненависти к себе и, пожалуй, спас от ада, но довести это дело до конца мог бы только бог.
Я приписываю недолговечность благотворного влияния празднеств перенапряжению; участницы приходят в такое возбуждение, что теряют рассудок, а ведь оно — результат непристойностей в обрядах. Я полагаю, что их больше в заключительном ритуале, который начинается в полночь. По обычаю девственные весталки, незамужние женщины и беременные в это время расходятся по домам; теперь я понимаю, почему мои возлюбленные Корнелия и Аврелия в полночь притворялись больными и удалялись в свои покои даже тогда, когда играли в этих церемониях важную роль, а руководство передавали Сервилии — уж она-то, будь покоен, вела себя как менада!
Ты будешь прав, если скажешь, что, пытаясь изменить тут пропорцию добра и зла, я действую вслепую. Но когда же я не действовал вслепую? Особенно за последние месяцы; каждый мой шаг я делал словно человек с завязанными глазами, надеясь, что впереди не разверзнется пропасть. Я пишу завещание, назначаю своим наследником Октавиана — разве это не шаг наугад в темноту? Я назначаю Марка Брута городским претором и приближаю его к себе — разве и это верный шаг?
Я перечел последние строки через два дня после того, как их написал. Удивительно, как это я сам не сделал из них очевидных выводов.
Кто она такая, эта Добрая Богиня?
Ни одному мужчине никогда не называли ее имени, ни одной женщине не разрешается его произнести, быть может, они и сами его не знают.
Где она? В Риме? Присутствует при родах наших жен? Не допускает, чтобы вместо детей рождались волчата? Надо полагать, что она присутствовала и при моем рождении, когда врач вырывал меня из чрева матери.
Нет! Я убежден, что если она и существует, то разве что в воображении верующих. Но ведь это тоже существование, и, как мы наблюдали, вовсе не бесполезное.
А если наш разум может создавать таких богов и если от созданных нами богов исходит подобная сила — а ведь она есть не что иное, как сила, заключенная в нас самих, — почему же нам не пользоваться этой силой непосредственно? Женщины используют лишь малую толику своей силы, ибо не подозревают, что она у них есть. Они считают себя беспомощными жертвами злокозненных духов, а эту богиню — благодетельницей, им положено молить ее и ублажать. Ничего удивительного, что их экстаз скоро проходит, они снова тонут в бездонной трясине мелочей, любая из этих мелочей может привести их в восторг или опечалить; они погружаются в непрестанную суету, похожую на отчаяние — отчаяние, даже не сознающее, что оно отчаяние, либо выполняют свои обязанности с такой самоотдачей, что она поглощает даже отчаяние.
Пусть каждая женщина отыщет в себе собственную богиню — вот в чем должен быть смысл этих обрядов.
И первым шагом к такой цели должна быть по меньшей мере отмена всякой непристойности. Допустим хотя бы, что религия предполагает одухотворенность каждой частицы нашей плоти, а вовсе не хочет, чтобы дух наш был порабощен и поглощен плотью. Ибо главным достоянием богов вовне и внутри нас является дух.
XLIII. Клеопатра из Египта — Цезарю
(17 августа)
Клеопатра, вечноживущая Изида, дитя Солнца, избранница Пта, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и пр. и пр., — Каю Юлию Цезарю, диктатору Римской республики и верховному понтифику.
Сим письмом царица Египта просит, чтобы ее включили в число тех римлянок, коим дозволено присутствовать на Таинствах Доброй Богини.
XLIII-А. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
975. Это у тебя почерпнул я мысль, которая до того самоочевидна, что я опасаюсь, как бы не забыть, кто высказал ее первый: властям необходимо всячески утверждать тождество чужеземных богов с нашими собственными. Кое-где эта задача оказалась весьма трудной, а кое-где на удивление простой. В большей части Северной Галлии бог дубов и бурь (ни одному римлянину не удалось произнести его имени — Годан, Квотан…) давно слился с Юпитером; он каждый день с улыбкой взирает на браки наших солдат и чиновников с златовласыми дочерьми тамошних лесов. Храмы моей прародительницы (Венеры, род Юлиев считал себя потомками Юла, сына Энея, сына Афродиты) на Востоке стали одновременно храмами Астарты и Иштар. Не знаю, доживу ли я до этого, а нет, так, может быть, мои наследники поймут, как важно объединить различные культы — мужчины и женщины во всем мире будут звать друг друга братьями и сестрами, детьми Юпитера.
Такое всемирное уравнение богов дало недавно довольно забавный результат, доказательство чего я прилагаю к своему письму. Ее Пирамидное Величество царица Египта заявила о своем желании участвовать в Таинствах нашей чисто римской Доброй Богини. Ты всегда питал интерес и к генеалогии, и к теологии, но даже ты не захочешь изучать бесчисленные документы, которыми она подкрепляет свое ходатайство. Клеопатра ничего не делает наполовину, моя приемная загромождена тюками этих свидетельств.
Ее притязания подкрепляются двумя доводами: происхождением от богини Кеб и происхождением от богини Кибелы.
Даже от беглого пересказа может голова закружиться, но я кратко изложу тебе страниц триста в ее стиле, хотя самих документов у меня перед глазами нет.
«Греческие богословы разрешили отождествлять Кебу с Кибелой уже более двухсот лет назад (см. приложение на двухстах страницах). По случаю посещения Рима царицей Прибрежной Армении Дикорией (в 89 году) главный жрец указал на тождество эманации Кибелы и Доброй Богини (см. прилагаемые кипы X и XI).
Верховный понтифик, наверное, помнит, что, когда царица Египта предъявила ему в Александрии свои генеалогические таблицы (чепуха!), хотя в то время она еще не обнародовала своей египетской родословной (вот это верно), она основывала свои притязания на Тир и Сидон брачным союзом, заключенным ее прадедом (ее прадед был таким же бессильным в постели, как и на поле брани) с царицей Ахолибой. Таким образом, через цариц Иезавель и Аталию я прямой потомок и наследственная верховная жрица Иштар. Благодаря этому родству и ввиду того, что царица Иезавель являлась двоюродной сестрой Дидоны, царицы Карфагена (обрати внимание на попрек: мой дед обидел ее двоюродную бабку)…» и т. д. и т. д. Все это верно. Поголовно все восточные владыки приходятся сами себе двоюродными братьями и по отцу и по матери. Я написал ей, что после соответствующего инструктажа она будет допущена к начальной стадии Таинств; это разрешение дается ей не из-за ее притязаний на прямое происхождение от Доброй Богини или какого-либо другого божества, а просто потому, что Богиня с радостью принимает в начале вечера всех женщин, желающих ей поклониться.
Хочу добавить, что весь этот вздор может создать неверное представление о царице Египта. Он отражает ту единственную область, где ее мышление лишено обычной рассудительности.
Надо добавить также, что, подкрепляя доводами свою просьбу, царица упустила из виду одну весьма любопытную подробность. Может быть, она ей неизвестна. Почитательницы Доброй Богини носят во время службы головной убор явно не греческий и не римский, который сами они называют «египетским тюрбаном». Откуда он появился, никто объяснить не может. Да и кто возьмется объяснять символы и воздействие религии, ту вселенскую помесь восторга и ужаса, каковой она является?
XLIV. Госпожа Юлия Марция из дома Цезаря в Риме — Клодии
(30 сентября)
Письмо это секретное.
Юлия Марция приветствует Клодию Пульхру, дочь и внучку самых близких ее друзей.
Я с нетерпением жду вашего завтрашнего обеда, знакомства с вашим братом, возобновления старой дружбы с Марком Туллием Цицероном и встречи с вами.
Я вернулась в город три дня назад для участия в собрании руководительниц религиозного праздника, издревле почитаемого верующими с благоговейным трепетом. На собрании мне было вручено восемь прошений, в которых меня уговаривают не допускать вас на Таинства. Я прочла эти прошения с огорчением и более того — с глубокой печалью, но не считаю изложенные в них обвинения достаточно серьезными и обоснованными, чтобы оправдать подобную меру. И все же, получив такие прошения, ни я, ни другие матроны, ответственные за благочестивое исполнение религиозных обрядов, не можем ими пренебречь.
Я хочу предложить компромисс. Уверена, что мне удастся его добиться, если, конечно, не поступят новые прошения, содержащие неопровержимые доказательства необходимости вашего исключения. Предлагая такой компромисс, я не хочу, чтобы меня заподозрили в том, будто я легкомысленно отметаю недовольство, которое — справедливо или несправедливо — вызывают ваши поступки. Мной движет желание избежать открытого скандала вокруг Таинств Доброй Богини, которые были так дороги тем, кому были дороги вы.
Я сообщаю вам под большим секретом, что в недалеком будущем в Риме появится царица Египта Клеопатра; она просит допустить ее к Таинствам, о которых идет речь. Ее прошение, сопровождаемое многочисленными доводами, списком прецедентов и аналогий, было прислано нам, руководительницам, и верховному понтифику. Царице, по-видимому, разрешат присутствовать на празднестве до полуночи, когда, согласно обычаю, девственные весталки, незамужние и беременные, а также (тут приведен термин, означающий, что данное лицо не принадлежит к трибам, на которые делятся римские граждане) покидают храм. Я собираюсь предложить, чтобы вас назначили наставницей египетской царицы, и, таким образом, вам придется в полночь сопровождать ее назад во дворец. Ваших врагов, я уверена, успокоит, что вы не сможете дольше присутствовать на обрядах, так как будете вынуждены уйти вместе с почетной гостьей.
Прошу вас, Клодия, обдумать мое предложение и надеюсь, что завтра вы найдете время сообщить мне о вашем согласии. У вас есть и другая возможность: опротестовать эти прошения и встретиться лицом к лицу с вашими обвинителями на пленарной сессии комитета. Если бы речь шла о светских делах, я бы посоветовала вам так и поступить; однако обвинения и опровержения все равно наносят урон чувству благопристойности, достоинству и репутации. Открыто их обсуждать — самому признаться, что урон этот нанесен.
Верховный понтифик не подозревает о всех этих затруднениях, и я, разумеется, приложу все силы, чтобы его внимание не было к ним привлечено. Я извещу его лишь о том решении, которое предлагаю вам принять.
XLIV-А. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Приблизительно 8 октября)
1002. (О Клодии и пантомиме Пактина.)
Меня чаще выводят из равновесия мелочи, чем серьезные происшествия. Вот сейчас мне пришлось запретить представление пьесы на сцене. Прилагаю копию этой пьесы — пантомимы Пактина под названием «Награда за добродетель». Ты, может быть, знаешь, хоть я и упустил тебе об этом сказать, что я учредил двадцать различных наград для девушек из простонародья, получивших самую высокую оценку соседей за хорошее поведение, примерное отношение к родителям, хозяевам и т. д. По-моему, эта мера дала отличные результаты. Попутно она вызвала такой поток острот и насмешек, как ни одно из моих нововведений. Я дал богатую пищу Риму для веселья; каждый подметальщик улиц открыл в себе остряка, и, как легко себе представить, меня не щадят.
Одним из следствий моей меры был потрясающий успех прилагаемого фарса. Обрати внимание на четвертое явление — там изображены Клодия с братом. Зрители сразу поняли, о ком идет речь. Мне говорили, что на каждом спектакле в конце этой сцены публика рукоплескала стоя, разражаясь бурей аплодисментов, издевок, злорадного хохота. Незнакомые обнимались, все орали, подпрыгивали от восторга и дважды ломали перила яруса.
После восьми представлений я приказал пьесу снять. После второго спектакля ко мне в приемную явился Клодий Пульхр с жалобой на то, что его оскорбляют. Я просил ему передать, что занят африканскими делами и принять его не могу. Мне хотелось, чтобы эта прославленная парочка выпила хоть немного того горького пойла, которое сама же сварила. Наконец он явился снова с достаточно униженным видом, и я удовлетворил его мольбу.
Мне было обидно снимать пьесу. В ней нет литературных достоинств, но до сих пор я еще ни разу не насиловал свободу слова и не наказывал за убеждения, как бы они ни были возмутительны. Более того, меня корежит от мысли, что многие вообразят, будто я запретил спектакль потому, что в нем содержались выпады против меня.
Театральная публика — самое нравственное из сборищ. То обстоятельство, что все эти римляне сидят вместе, плечом к плечу, словно внушает им возвышенность суждений, какой они не проявляют больше нигде. Они не колеблясь решают, хорошо или плохо ведут себя персонажи пьесы, и требуют от них тех высоких добродетелей, каких и не думают спрашивать с себя. Пандар из публики дрожит от благородного негодования, когда видит такого же сводника на сцене. Десяток проституток, сидящих рядком в театре, целомудреннее любой девственной весталки. Я часто замечал, что морально-этические суждения театральной аудитории устарели лет на тридцать; в массе люди выражают те взгляды, которые они усвоили в детстве от своих родителей и воспитателей. Вот так и в этом фарсе обличение Клодии приводило зрителей в экстаз. Каждый из них ощущал себя образцом добродетели.
Таких возвышенных чувств обычно хватает на час. Ах, если бы среди нас жил Аристофан. Он сумел бы приковать к позорному столбу Клодию и Цезаря, а потом осмеять смеющихся зрителей. Где ты, Аристофан?
XLIV-Б. Отрывок из «Награды за добродетель» — пантомимы Пактина
(Судья соревнования — в его образе явно выведен Цезарь — сидит у себя в приемной и опрашивает претенденток на приз. Его изображают хитрым, распутным стариком. Ему помогает писец.)
Пьеса написана в стихах.
Идет четвертое явление.
Писец. Вашу честь желает видеть хорошенькая девушка.
(Хорошенькая по-латыни — пульхра.)
Судья. Что? А хорошенький мальчик не придет?
(Литература полна была бесчисленных намеков на педерастические склонности Цезаря.)
Писец. Это его сестра, ваша честь.
Судья. Ну что ж, пусть войдет. Ты знаешь, я не разборчив.
Писец. Она плачет, ваша честь.
Судья. Как же ей не плакать, дурень, если она добродетельна? Добродетельные женщины плачут первую половину жизни, а недобродетельные — вторую, поэтому Тибр и не высыхает. Впусти ее.
Входит молодая девушка в лохмотьях.
Судья. Подойди поближе, деточка. Я плохо вижу все, кроме вилл в Тиволи. (Цезарь конфисковал там поместья двух знатных приверженцев Помпея, пользовавшихся особой любовью римского народа.) Значит, ты хочешь получить награду за добродетель, так ведь, малютка?
Девушка. Да, ваша честь. Во всем городе не сыскать более добродетельной девушки, чем я.
Судья (лаская ее). А ты уверена, что не ошиблась адресом, голубушка? Гм… дай-ка поглядеть… Дай-ка поглядеть… Ты ведь, гм… не первой молодости, а?
Девушка. Да нет, ваша честь. Моя первая молодость прошла при консульстве Корнелия и Мумия. (То есть в 146 году до Р.Х.)
Судья. Вижу, вижу. Скажи, мой цветочек, папа твой жив?
Девушка (плача). Ах, господин, как вам не стыдно этим меня попрекать?
Судья. Тогда скажи мне, жив ли твой муж?
Девушка. Ваша честь, я пришла сюда не затем, чтобы меня обвиняли то в одном, то в другом, да еще так грубо!
Судья. Ну не плачь, не плачь! Мне просто показалось, что я заметил снежинку у тебя на руке. (Существовало поверье, что убийцы страдают золотушным шелушением кожи на ладонях.) Скажи, милочка, ты нежно заботилась о твоих отце и матери?
Девушка. О да. Я им помогла испустить последний вздох.
Судья. Вот это любящая дочь. А ты была добра к твоим красавчикам братьям?
Девушка. Ваша честь, я ни в чем им не отказывала.
Судья. Надеюсь, ты не преступала пределов скромности?
(«Скромностью» назывались деревня и храм в десяти милях от Рима.)
Девушка. О нет, господин! Я не выходила за городские ворота. Мы устраивались дома.
Судья. Совершенство! Истинное совершенство! Ну а теперь скажи мне, почему ты одета в лохмотья?
Девушка. Вы еще спрашиваете, добрый мой господин? В Риме больше нет в обращении денег. Наверно, Мамурра все увез в Нижнюю Галлию. (В предыдущей сцене Мамурра, одетый галльской вещуньей, получал награду за то, что «вымел дом дочиста».) Старший брат денег в дом не приносит, недаром он пенсионер Носа-в-прожилках. (То есть Цезаря. Из-за крайней скромности домашнего уклада Цезаря издавна обвиняли в скупости.) Второй брат не приносит денег, потому что все его имущество унес Тибр. (Цезарь недавно спрямил русло Тибра, срыв часть берегов под Ватиканом и Яникульским холмом. Римское население сбегалось глядеть на эти работы, где применяли новую землеройную машину. Ее изобрел Цезарь во время военных походов, и она тут же была окрещена «навозным жуком». В затопленном районе раньше находились городские притоны.)
Судья. А ты, моя пташка? Говорят, будто ты зарабатываешь немало трехгрошовых монет?
(И т. д.)
XLV. Служанка Помпеи Абра — хозяину таверны в Коссутии
(агенту разведывательной службы Клеопатры)
(17 октября)
Как вы приказывали, сперва по порядку отвечу на ваши вопросы.
1. Я прослужила у госпожи Клодии Пульхры пять лет. Во время войны мы уехали из Рима и жили в ее доме в Байях. Через два года я получу свободу. Здесь я служу два года. Мне тридцать восемь лет. Детей у меня нет.
2. В этом месяце мне не разрешено выходить из дому. Никому из слуг не разрешено. Дознались, что кто-то ворует. Так они говорят, но я думаю, дело не в этом. Мы все подозреваем, что дело тут в секретаре с Крита — за ним следят.
3. Моему мужу позволяют приходить ко мне раз в пять дней. Когда он уходит, его обыскивают. Ни один разносчик не может войти в дом. Они подходят к садовой калитке, и мы там у них покупаем.
4. Да, я посылаю письма госпоже Клодии Пульхре всякий раз, когда приходит повивальная бабка Хаджия. (Надо предполагать, что повивальная бабка пользовала кого-то из челяди Цезаря.) Ее не обыскивают. Госпоже Клодии Пульхре я пишу примерно вот о чем: как египетская царица приезжала в гости к моей хозяйке; когда хозяина всю ночь не бывает дома; иногда о том, о чем они разговаривают за столом — мне это пересказывает дворецкий — и когда на хозяина находит падучая. Госпожа Клодия Пульхра денег мне не платит. Она подарила моему мужу таверну на Аппиевой дороге возле гробницы Мопса. Если мои письма вас устраивают, нам с мужем хотелось бы купить корову.
5. Нет, я уверена, там ничего нет определенного. Но, по-моему, хозяин меня недолюбливает. Полгода назад они из-за меня поссорились, а еще пуще ссорились они два дня назад. Но хозяйка ни за что ему не позволит меня выгнать, она будет плакать. Ей никогда не надоедает болтать о драгоценностях, нарядах, прическах и пр., а с кем же ей разговаривать, кроме меня? Вот так обстоит дело.
6. О письмах моей хозяйки. В прошлом году хозяин велел привратнику все письма к хозяйке класть вместе с его письмами. Поэтому все письма за день держат в комнате привратника, а потом отсылают в рабочую комнату хозяина. Но хозяйка но нескольку раз на день наведывается к привратнику, спрашивает, нет ли для нее писем, и тогда он их ей отдает. Она устроила большой скандал и плакала, и теперь все письма поступают к ней. Он только сказал, чтобы анонимные письма уничтожали не читая. Большую часть уничтожают. Их много. Некоторые очень интересные. А некоторые нет.
Вот теперь начинаю письмо.
Хозяин очень добр к хозяйке. Когда он возвращается домой из своего присутствия, он почти все время проводит с ней. Если к нему приходят но делу, он принимает посетителей в соседней комнате, при открытых дверях, и старается их побыстрее спровадить. Когда она ложится спать, к нему на час-другой приходят друзья, потому что он не любит много спать, я хочу сказать, что у него нет потребности долго спать. А так как эти друзья вроде Гиртия, Мамурры или Оппия много пьют и громко смеются, они уходят с ним в рабочую комнату на скале над рекой. Но хозяйка чуть не два часа готовится ко сну, поэтому, когда он возвращается, она часто еще не спит. А когда она собирается лечь, он частенько оставляет своих друзей, садится возле нас и разговаривает с ней, пока я ее причесываю и пр. Я хочу вот что сказать: она вечно ищет повода с ним поссориться. И почти всегда плачет. Часто он отсылает меня из комнаты, когда они разговаривают. Она ссорится с ним из-за законов против роскоши, из-за детеныша леопарда, которого ей подарила египетская царица, из-за того, что госпожу Клодию Пульхру не приглашают в дом, и в какой день нам лучше ехать на виллу у озера Неми, и почему она не может пойти в театр.
Два дня назад они здорово поссорились. Когда хозяйка на минутку вышла из комнаты, хозяин, наверно, пошарил на ее туалетном столике и там среди всех ее баночек и скляночек нашел анонимное письмо, которое она получила месяца полтора назад. Он его, видно, прочел и положил на место. А когда хозяйка вернулась, сделал вид, будто нашел письмо только что. Вот как, по-моему, было дело. В этом письме говорилось, что Клодий Пульхр, тот, что сжег дом Цицерона и грозился убить всех сенаторов, любит мою хозяйку до беспамятства, и ее против него предостерегают, потому что, может статься, он не сумеет совладать с такой любовью. Хозяин был очень спокоен, но я-то его знаю! Он даже побелел от ярости. Он сказал, что письмо наверняка написал сам Клодий Пульхр и что только человек, глубоко презирающий женщину, мог написать такое письмо, желая ее надуть. Хозяйка же сказала, что она терпеть не может Клодия Пульхра, но не верит, будто он сам написал письмо. Тут меня прогнали из комнаты. Когда я вернулась, она была вся в слезах и опять принялась плакать и все причитала, что не может так жить.
Хозяин послал за мной и сказал, что это я принесла письмо. Я поклялась страшной клятвой, как он потребовал, что ничего про письмо не знала; но, по-моему, он догадался. И все же я не думаю, что он меня выгонит.
Хотите ли вы, чтобы я писала, когда хозяин приходит домой под самое утро?
Виночерпий говорит, будто он слышал, как хозяин разговаривал с Бальбом и Брутом — Децимом Брутом, а не с тем красавцем — и сказал, что хочет перенести Рим в Трою. Троя эта вроде в Египте.
Секретарь, тот, из Сицилии, говорит, что войны с парфянами не будет, он передумал. Критский секретарь сказал: дурак ты, еще как будет. Больше я ничего об этом не знаю.
Говорят, будет эдикт: повозкам после десяти часов не разрешат въезжать в центр города и стоять больше часа.
Забыла написать: когда хозяйка ехала на озеро Неми, Клодий Пульхр подскакал к носилкам и завел с ней разговор, но Аффий подошел и сказал, что ему приказано никого не подпускать с разговорами. Аффий — надсмотрщик на ферме и ведает нашими поездками. Он был с хозяином на войне, и у него только одна рука.
Ну, теперь я кончаю.
Еще я хочу сказать, что мне здесь не нравится, как-то не по себе. Я просила госпожу Клодию Пульхру взять меня обратно, но она велит мне оставаться здесь. Но я знаю, как сделать, чтобы уйти отсюда. Если такое письмо вам подходит, я здесь останусь и еще напишу.
Корову нам хотелось бы иметь буренку, пятнистую.
XLVI. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на Капри
(Приблизительно 13 октября)
1012. Мы с царицей Египта поссорились. Это не те ссоры, которые постоянно кипят в будуарах и частенько кончаются весьма избитым способом.
Клеопатра утверждает, будто я — бог. Она возмущена, что я только недавно признал себя богом. Клеопатра глубоко уверена в том, что она богиня, и каждодневное поклонение народа укрепляет ее веру. Она внушает мне, что благодаря своему божественному происхождению она одарена редкой проницательностью и сразу распознает богов. Поэтому она может заверить меня, что я тоже принадлежу к их числу.
Все это дает пищу для весьма приятных бесед, прерываемых игривыми интермедиями. Я щиплю богиню, богиня визжит. Я закрываю рукой богине глаза, и, клянусь бессмертными богами, она не видит ни зги. Но на все эти коварные доводы у нее есть ответ. Правда, это единственная область, где великой царице изменяет разум, и я научился, говоря на эту тему, не переходить на серьезный лад. Только в этом вопросе, пожалуй, она поистине восточная женщина.
Нет ничего опаснее — и не только для нас, власть имущих, но и для тех, кто взирает на нас с большим или меньшим обожанием, — приписывания нам божественных свойств. Ничего удивительного, что многие из нас вдруг начинают верить, будто в них вдохнули сверхъестественную мощь или что они невольные носители конечной истины. Когда я был моложе, я часто испытывал подобное состояние, теперь же одна мысль об этом вызывает у меня гадливую дрожь. Мне не устают напоминать — обычно льстецы, — как однажды в бурю я сказал оробевшему лодочнику: «Не бойся, ты везешь Цезаря». Какая чушь! Житейские невзгоды щадили меня ничуть не больше, чем других.
Но это еще не все. История разных народов показывает, как глубоко укоренилась в нас склонность приписывать сверхчеловеческие свойства тем, кто обладает талантами или просто занимает видное положение. Я не сомневаюсь, что полубоги и даже боги древности — всего лишь те наши предки, которых высоко почитали. Это давало свои плоды — питало воображение отроков, укрепляло нравственность и общественные институты. Однако все это нам пора преодолеть и отбросить. Все, кто когда-либо жил на земле, были только людьми; их успехи должны рассматриваться как проявления человеческой природы, а не как ее аномалии.
Кроме тебя, мне не с кем об этом поговорить. С каждым годом вокруг меня сгущается душная атмосфера обожествления. Я со стыдом вспоминаю, что в былое время и сам нагнетал ее для государственных нужд, и одно это уже доказывает, что я только человек со всеми его слабостями, ибо нет большей слабости, чем пытаться внушить другим, будто ты бог. Как-то ночью мне приснилось, что у входа в мой шатер стоит Александр, он занес меч, чтобы меня убить. Я сказал ему: «Но ты же не бог», — и он исчез.
Чем старше я становлюсь, дорогой Луций, тем больше я радуюсь, что я человек смертный, ошибающийся, но не робкий. Сегодня секретари смущенно подали мне пачку документов, в которых я допустил всякие ошибки (в душе я зову их Клеопатрины ошибки, так одержим я этой чародейкой). Я, смеясь, исправил их одну за другой. Секретари надулись. Они не могли понять, почему Цезарь радуется своим ошибкам. Секретари не больно веселая компания.
В последнее время у нас часто употребляют слова «божество» и «бог». Они имеют тысячу значений, а для каждого в отдельности не меньше двадцати.
Вчера вечером я застал жену в большом волнении, она молила богов послать солнечную погоду для поездки на озеро Неми. Тетка моя Юлия занимается сельским хозяйством, она не верит, что боги в угоду ей изменят погоду, но убеждена, что они охраняют Рим и назначили меня его правителем. Цицерон не сомневается, что они преспокойно дадут Риму скатиться в пропасть (и не склонен делить с ними честь спасения государства от Катилины), однако он верит, что они вложили понятие справедливости в сердца людей. Катулл, видимо, считает, что идея справедливости родилась у людей в результате бесконечных дрязг из-за земельных наделов, но он верит, что любовь — единственное проявление божественного начала и что только через любовь, даже когда она оклеветана и обесчещена, мы постигаем смысл нашего существования. Клеопатра думает, что любовь — самое приятное из занятий, а ее привязанность к детям — самое властное чувство, какое она может испытывать, но не видит ни в том, ни в другом ничего божественного, божественны для нее сила воли и энергии. И ни одно из этих убеждений не убеждает меня, хотя в разные периоды своей жизни я их придерживался. Но, теряя их одно за другим, я становился только сильнее. Мне кажется, что, избавляясь от ложных убеждений, я ближе подхожу к истине.
Но я старею. Время не ждет.
XLVI-А. Из записок Корнелия Непота
Диктатор эдиктом запретил городам брать названия в его честь. Причина, по-моему, в том, что его обожествление приняло чересчур наглядный характер, и это ему не по душе. Он перестал посылать дары городам и легионам; дары эти, как правило, возлагают на алтари, куда потом стекаются паломники и молят о чуде.
И это, несомненно, происходит не только на варварских окраинах республики и в италийских горах, но и здесь, в столице.
Говорят, будто его слуг подкупают, чтобы они крали его одежду, обрезки ногтей, волос и даже мочу — все это, как уверяют, наделено волшебными свойствами и становится предметом поклонения.
Иногда фанатикам удается проникнуть к нему в дом, тогда их принимают за убийц. Одного из них застигли с кинжалом в руке у ложа Цезаря. Тут же на месте стали чинить суд. Допрос вел сам Цезарь. У преступника заплетался язык, но отнюдь не от страха. Весь допрос он пролежал на полу, восторженно глядя на Цезаря и бормоча, что ему нужна была «всего лишь капля крови Цезаря, чтобы ею себя освятить». Цезарь, к вящему изумлению слуг и стражников, стал задавать ему подробные вопросы и постепенно выпытал всю историю его жизни. Этот живой интерес — а его не всегда удается вызвать к себе даже консулам — привел беднягу в еще больший экстаз, и он в конце концов взмолился, чтобы Цезарь убил его своею собственной рукой.
Обернувшись к остальным, Цезарь, как рассказывают, с улыбкой сказал: «Видите, как трудно отличить любовь от ненависти».
Я пригласил на обед врача Цезаря Сосфена.
Он говорил о впечатлении, которое Цезарь производит на окружающих:
«О ком еще ходят такие нелепые слухи? А ведь в них верят… До последнего времени каждую ночь родственники привозили десятки больных и укладывали их к стене, окружающей дом Цезаря. Их стали прогонять, и теперь, как видите, они лежат рядами вокруг его статуй. Во время его путешествий крестьяне молят его ступить ногой на те поля, которые плохо плодоносят.
Каких только легенд о нем не рассказывают! Ими полны солдатские песни, стихи и рисунки, нацарапанные в общественных местах. Говорят, что мать зачала его от удара молнии, что он появился на свет то ли через рот, то ли через ухо, родился без половых органов, а потом пересадил их себе от таинственного незнакомца, которого он убил в священной дубраве Зевса в Додоне, или же что он добыл их со статуи Зевса, вылепленной Фидием. Нет такой противоестественной склонности, которой ему не приписывали бы: говорят, будто он, как Юпитер, не брезгует и животными. Широко распространено мнение, что он отец своей страны в самом буквальном смысле этого слова и что у него сотни детей в Испании, Британии, Галлии и Африке.
Суеверие и народная молва не боятся противоречий. Наряду с этим он славится таким суровым воздержанием, что люди нецеломудренные, приближаясь к нему, якобы испытывают нестерпимую боль.
Кто, кто другой из смертных сумел так разжечь воображение народа и породить целую сокровищницу легенд? А теперь, когда в Рим приехала Клеопатра, чего мы только не слышим! Клеопатра, этот плодоносный нильский ил. Зайдите в таверну, в казарму — головы римлян кружат картины их любви. Мы празднуем бракосочетание непобедимого Солнца и плодоносящей Земли.
Я его врач. Я лечил его во время конвульсий и перевязывал его раны. Да, тело его смертно, но мы, врачи, учимся вслушиваться в тела своих пациентов, как музыканты вслушиваются в звуки различных инструментов. Он лыс, его стареющая плоть покрыта рубцами от ран, полученных в бесчисленных боях, но каждая ее частица одушевлена разумом. У него необыкновенная способность восстанавливать свои силы… Болезнь — это малодушие. Болезнь, от которой страдает Цезарь, — это единственная болезнь, свидетельствующая о неумеренном напряжении духа. Она связана с природой его ума.
Ум Цезаря. Он не похож на ум большинства людей. Он наслаждается, вынуждая себя работать. Всем нам ум каждый день предъявляет десятки требований; мы должны сказать «да» или «нет», принять решения, которые повлекут за собой длинную цепь последствий. Некоторые долго раздумывают, другие отказываются принять решение, что само по себе есть уже решение; третьи принимают решение очертя голову, что называется, с отчаяния. Цезарь бросается решению навстречу. Ему кажется, будто мозг его живет только тогда, когда его работа сразу же приводит к важнейшим последствиям. Цезарь не бежит от ответственности. Он все больше и больше взваливает на свои плечи.
Может, ему в чем-то недостает воображения. Он, как известно, мало думает о прошлом и не пытается предугадывать будущее. Он не поощряет в себе угрызений совести и не дает волю пустым мечтам.
Время от времени он разрешает мне подвергнуть его некоторым опытам. Я прошу его выполнить тяжелые физические упражнения, а потом спокойно полежать, пока я буду вести различные исследования, и т. д. Однажды во время такого вынужденного бездействия он меня спросил: «Если меня не убьют и я доживу до старости, какая болезнь приведет меня к смерти?» «Ваше величество, — ответил я, — вы умрете от апоплексического удара». Он был очень доволен. Я понял, о чем он думает. Его страшат только две вещи: физическая боль, которую он плохо переносит, и унизительная форма, которую часто принимает болезнь.
В другой раз он меня спросил, существует ли какой-нибудь способ покончить с собой быстро и не проливая крови. Я указал ему три таких способа и с того дня не сомневаюсь, что он относится ко мне с симпатией и признательностью.
Я же со своей стороны многому у него научился. Раньше я думал, что еду, сон и удовлетворение полового инстинкта желательно регулировать определенными навыками. А теперь, как и он, я считаю, что лучше всего удовлетворять эти потребности при первом их появлении. Этим я не только удлинил свой день, но и добился духовной свободы.
О, это человек необыкновенный! Все легенды о нем не лишены основания, неверно только одно: Цезарь никого не любит и не внушает к себе любви. Он распространяет на всех ровный свет осознанного доброжелательства, бесстрастную энергию, которая творит без лихорадочного жара и расходуется без самокопания и недоверия к себе.
Разрешите мне вот что шепнуть вам на ухо: я не мог бы его полюбить, и всегда, расставаясь с ним, испытываю облегчение».
XLVI-Б. Из донесения тайной полиции Цезаря
Объект 496: Артемизия Бакцина, повивальная бабка, знахарка и гадалка, проживает в предместье Козы. На допросе призналась в том, что присутствовала на молебствиях Братства Погребенного Солнца. Говорит, что у них в Риме десять или двенадцать капитулов (см. объекты 371 и 391). В конце, после усиленного допроса, показала, что Братство возглавлял Амазий Лентер (объект 297, казнен 12 августа). Начинается обряд медленными истязаниями и закланием черной свиньи, черного петуха и пр., а заканчивается поклонением сосуду с кровью, якобы кровью диктатора. Объект высылается в Сицилию под надзор тамошней полиции.
XLVI-В. Из заметок Плиния Младшего
(Написаны лет сто спустя)
Любопытно. Садовник рассказывал, что в простом народе широко бытует странное поверье. Во время прогулок я спрашивал виноградарей, разносчиков и прочий люд, и его слова подтвердились.
Они верят, что тело Юлия Цезаря после убийства не было сожжено (хотя для нас это несомненно): им якобы завладело какое-то сообщество или тайная секта и, разрезав на множество частей, захоронило каждую отдельно в разных районах Рима. Они уверяют, будто Цезарю было известно древнее предсказание, что Рим выстоит и сохранит свое величие, если он будет убит и тело его расчленено.
XLVII. Царица египетская заявляет:
(26 октября)
Клеопатра, царица Египта (и прочая и прочая), сожалеет, что досточтимая коллегия девственных весталок не сможет присутствовать завтра вечером у нее на приеме.
Однако мы готовы принять досточтимую коллегию в три часа дня.
С соизволения верховного понтифика и верховной жрицы коллегии в указанное время будет дано представление:
Величественное явление Гора,
Красота Озириса,
Нападение на корабль Нешме,
Явление владыки Абидоса в свой дворец.
Те части этой церемонии, которые неуместно показывать вечером, будут со всей торжественностью исполнены перед посвященными днем.
Царица Египта благосклонно примет в эти часы досточтимых девственниц.
XLVIII. Цезарь — Клеопатре
(29 октября)
Весь Рим говорит о великолепии приема, устроенного царицей; самые разборчивые ценители твердят о ее царственной осанке, искусстве принимать гостей, ее такте и обаянии ее красоты.
Мне же разрешено говорить только о моей непреходящей любви и преклонении.
В ближайшие дни я не смогу так часто посещать великую царицу. Однако заклинаю ее не сомневаться ни в моей любви, ни в моих неусыпных заботах о благоденствии ее державы.
Мне доставило бы огромное удовольствие, если бы я мог чаще принимать царицу у себя. Я попросил актрису Кифериду давать моей жене уроки пластики и декламации — это необходимо для участия в таинствах. Так как и вы будете присутствовать на этих церемониях, вам, по-моему, тоже были бы интересны ее уроки, хотя я далек от мысли, что царице есть чему учиться в смысле красоты речи или благородства осанки. Не сомневаюсь, что, если вы того пожелаете, Киферида не откажется в конце урока прочесть вам отрывки из греческих и римских трагедий — милость, которой будут завидовать наши потомки.
Госпожа Клодия Пульхра временно отбывает на свою загородную виллу. Вам, по-моему, следует знать, что я в свое время посоветовал ей это сделать, но она просила разрешить ей остаться в столице до конца вашего приема. Причиной ее отъезда послужили обстоятельства, которые, если вы пожелаете, я вам когда-нибудь изложу.
Радость, которую я испытываю от приезда царицы, отвлекает меня от трудов. Будь я помоложе, эта радость только придавала бы мне сил и подвигала на новые труды. Но дни мои идут к закату, и у меня уже нет, как прежде, неограниченного времени для замыслов и свершений.
Позвольте же мне совместить приятное с полезным и во время моего посещения (в субботу) показать царице планы поселений в Северной Африке. Если погода будет благоприятствовать, я хотел бы отвезти царицу по реке в Остию и объяснить ей, какие меры мы принимаем для обуздания паводков и течения Тибра. В Остии мы сможем посмотреть, как продвигаются работы в порту, насчет которых царица удостоила меня своими неоценимыми советами.
Мне хотелось бы сообщить великой царице вот еще что: я искренне надеюсь, что ее пребывание в Италии продлится дольше, чем она предполагала. И, желая укрепить ее в этом решении, я рекомендую ей послать в Александрию за своими детьми. Для этой цели я предоставлю ей одну из только что построенных галер, которые уже показали себя самыми быстроходными, и надеюсь разделить с царицей радость этого свидания.
XLVIII-А. Клеопатра — Цезарю
(С тем же посланным)
Великий Цезарь, между нами возникло недоразумение.
Я понимаю, что никакие уговоры не в силах рассеять то ложное впечатление, какое у вас сложилось. Страдая, могу лишь надеяться, что время и дальнейшие события убедят вас в моей преданности.
Я должна еще раз повторить, что положение, в какое я попала — оно удивляет меня не меньше, чем вас, — было подстроено злокозненными особами.
Марк Антоний уговорил меня сопровождать его в сад — поглядеть, как он выразился, «на еще невиданный в Риме подвиг». Он уверял меня, что совершит этот подвиг сам с помощью пяти или шести своих приятелей. А так как я все равно должна была снова обойти мои владения, то, взяв с собой Хармиану, я согласилась на его просьбу. Остальное вы знаете.
Я не успокоюсь, пока не получу доказательств соучастия других лиц в том, что произошло. Я знаю, что никакие доводы не убедят вас в моей невиновности, если я не проявлю неусыпных забот обо всем, что касается вас, ваших интересов и вашего благополучия. Только это и заставляет меня принять ваше предложение продлить мое пребывание в Риме. Я с благодарностью принимаю и ваше приглашение посещать уроки Кифериды в вашем доме.
Я, однако, не хотела бы посылать сейчас за моими милыми детьми, но благодарю вас за то, что вы даете мне такую возможность.
Великий друг, великий Цезарь, возлюбленный мой, больше всего удручает меня мысль, что вас заставили страдать напрасно. Я горько проклинаю судьбу, которая с адским коварством, недоступным простым смертным, сделала меня причиной ваших огорчений. Не верьте ничему, молю вас. Не становитесь жертвой столь очевидного недоразумения. Помните о моей любви. Не допускайте сомнений в искренности моего взгляда, в радости, с какой я вам отдаюсь. Я еще молода; не знаю, как бы стала защищать свою невиновность женщина более опытная. Негодовать, что вы мне не доверяете? Сохранять гордость и сердиться? Не знаю; я могу лишь говорить от души, даже в ущерб моей скромности. Я никогда никого не любила и не буду любить так, как любила вас. Кому дано было знать то, что знала я: восторг, неотделимый от признательности, страсть, пронизанную почтением, но ничуть оттого не меньшую? Такой и должна быть любовь при разнице наших лет, ей нечего было страшиться сравнений. Ах, вспомните же, вспомните! И верьте! Не отгораживайте от меня завесой божество, живущее в вас. Самой черной из завес — подозрением в предательстве. Это я-то предательница? Это я не люблю?
Слова мои лишены царственного достоинства. Но они искренни. Я говорю с вами об этом в последний раз, пока вы не разрешите мне беседовать с вами по-прежнему. А пока я буду вести себя как правительственная гостья, ведь покорность вашим желаниям для моей любви — закон.
XLIX. Алина, жена Корнелия Непота, — сестре своей Постумии, жене Публия Цекциния из Вероны
(30 октября)
Ты уже, наверно, читала письма о том, что произошло; мы их отправили с посланным диктатора тебе и семье поэта. Теперь я хочу сообщить по секрету кое-какие подробности. Муж горюет, словно потерял родного сына (Да минует нас такое несчастье! Наши мальчики, слава богам, здоровы). Я тоже любила Гая (Катулла), любила его с тех пор, когда мы вместе играли детьми. Но привязанность не должна ослеплять — с тобой я могу говорить откровенно, — и пусть эта горестная, полная заблуждений жизнь послужит нам уроком. Мне не нравились его друзья; мне, конечно, не нравилась эта подлая женщина; мне не нравились стихи, которые он писал последние годы, и у меня никогда не найдется ни симпатии, ни добрых слов для диктатора, который то и дело появлялся у нас в эти дни, словно старый друг дома.
Мы часто приглашали Гая к себе погостить, но ты знаешь, какой он был резкий и независимый. Поэтому когда он однажды утром появился у наших дверей в сопровождении старого Фуско, который нес его постель, и попросил разрешения пожить у нас в беседке, я поняла, что он тяжко болен. Муж тут же сообщил об этом диктатору. Диктатор прислал своего врача, грека по имени Сосфен, — более самонадеянного молодого упрямца я не видела! Я не стесняюсь утверждать, что сама я прекрасный врач. Думаю, что таким даром боги наделяют всех матерей, но этот Сосфен отвергал все издавна проверенные средства. Впрочем, об этом долго рассказывать.
Понимаешь, Постумия, я нисколько не сомневаюсь, что его убила эта женщина. Три года он благодаря ей испытывал все муки ада, и вдруг она стала сама доброта. Это его убило. Она у нас ни разу не появилась, но каждый день присылала письма, еду — и какую еду! — греческие рукописи и дважды в день справлялась о здоровье. Гай был, конечно, счастлив, но счастье бывает разное; тут было то зыбкое, призрачное счастье, которое, наверное, испытывают обманутые мужья, когда их жены неожиданно становятся очень ласковыми. Но дни шли, она так и не появлялась, а он на наших глазах терял надежду на выздоровление и отдавался во власть смерти. 27-го часа в три пополудни слуга его Фуско — ты его помнишь, он раньше был лодочником на озере Гарда — вбежал в дом и сказал что хозяин его в бреду стал одеваться, чтобы идти на прием к египетской царице. Я кинулась в беседку — Гай лежал без сознания в луже желчи: его вырвало. Муж сразу же послал за Сосфеном, и врач просидел возле Гая до рассвета, пока тот не умер. Меня к больному не пустили, но как ты думаешь, кто к нам явился часов около десяти? Сам диктатор. Он был в роскошном одеянии, должно быть, сбежал с приема царицы — до ее дворца, кстати, от нас не больше мили. Всю ночь до нас доносилась музыка и было видно зарево костров. Я случайно подслушала, как Фуско рассказывал мужу, что, когда диктатор вошел, Гай приподнялся на локте и дико заорал, чтобы тот убирался. Он обзывал его «похитителем свободы», «ненавистным чудовищем», «убийцей республики» и всякими другими ругательными словами, и, конечно, совершенно заслуженно! В это время появился муж — он ходил за нашим стариком — курителем бальзама. Муж мне потом рассказывал, что диктатор слушал всю эту брань молча, но был бледен как полотно. Цезаря, видно, давно не выгоняли вон, но тут он безропотно ушел.
Часа в два ночи он вернулся, сняв парадные одежды. Гай спал, а когда проснулся, то как будто примирился со своим посетителем. Муж говорит, что он даже улыбнулся и спросил: «Где ж ваш царственный пурпур, великий Цезарь?» Как ты знаешь, муж преклоняется перед этим человеком. (Мы с ним условились не говорить о нем друг с другом.) Корнелий уверяет, что Цезарь вел себя замечательно — и молчал и отвечал очень достойно. Цезарю, конечно, чаще других приходилось присутствовать у смертного одра. Ты ведь слышала эти рассказы, как в Галлии раненые отказывались умирать, пока полководец не кончит ночной обход. Я вынуждена признать, Постумия: хоть он и дурной правитель, в личности его есть что-то значительное и в то же время он ведет себя естественно. Муж сказал, что они с Сосфеном сидели в дальнем углу и поэтому он плохо слышал, о чем говорили те двое. Раз Гай, обливаясь слезами, рванулся с кровати и закричал, что он загубил свою жизнь и свой певческий дар ради благосклонности потаскухи. Я бы не знала, что тут сказать, а диктатор, как видно, нашелся. По словам мужа, он заговорил еще тише, однако можно было разобрать, что Цезарь превозносит Клодию Пульхру словно богиню. Гай лежал, уставившись в потолок, и слушал Цезаря. Время от времени Цезарь замолкал, но, когда тишина казалась Гаю чересчур долгой, он дотрагивался пальцем до руки Цезаря, словно требуя: говори, говори. А Цезарь просто рассказывал ему о Софокле! Гай умер под хор из «Эдипа в Колоне». Цезарь прикрыл ему веки монетами, поцеловал Корнелия и негодного врача и при первых лучах зари отправился домой один, без стражи.
Если хочешь, перескажи кое-что его отцу и матери, хотя, по-моему, их это только еще больше огорчит. Я бы лично считала себя виноватой, если бы один из моих сыновей стал жертвой такого увлечения. Думаю, однако, что мое воспитание уберегло бы их от подобной беды!
(Далее в письме обсуждается продажа земельных участков.)
XLIX-А. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(В ночь с 27 на 28 октября)
1013. (О смерти Катулла.) Я сижу у постели умирающего друга, поэта Катулла. Время от времени он засыпает, тогда я берусь, как всегда, за перо, быть может для того, чтобы не думать (хотя мне пора уже понять, что писать тебе — это вызывать из глубины сознания те вопросы, которых я всю жизнь избегал).
Он приоткрыл глаза, назвал шесть звезд из созвездия Плеяд и спросил название седьмой.
Еще совсем молодым человеком ты, Луций, умел безошибочно определить неминуемость причины и неизбежность следствия. Ты не терял времени на сожаления, что мир устроен так, а не иначе. От тебя и я усвоил, хотя и не сразу, что в жизни существуют целые области, где все наши стремления не в силах ничего изменить, а наши страхи — предотвратить. Я многие годы цеплялся за самые разные иллюзии: верил, что силой воли можно внушить ответное чувство равнодушной возлюбленной, а одним негодованием помешать победе врага. Вселенная движется своим неодолимым ходом, и мы едва ли можем добиться перемен. Помнишь, как я был возмущен, когда ты небрежно кинул мне: «Надежды не могут повлиять на завтрашнюю погоду»? Поклонники без конца заверяют меня, будто я «добился невозможного» и «изменил порядок вещей»; я отвечаю на эти похвалы важным кивком головы, жалея в душе, что со мной нет друзей, с которыми я мог бы над ними поиздеваться.
Я не только склоняюсь перед неизбежностью; она придает мне силы. Достижения человека куда более примечательны, когда думаешь о том, как он ограничен в своих действиях.
Самое яркое представление о неизбежности дает смерть. Я хорошо помню, как в юности считал себя ей неподвластным. Но когда умерла моя дочь и потом, когда ранили тебя, я понял, что смертен, а теперь я считаю растраченными зря, пропащими те годы, когда не подозревал, что смерть неотвратима, да что там — возможна в любую минуту. Теперь я сразу распознаю тех, кто еще не предвидит своей смерти. И понимаю, что это — дети. Они думают, что, избегая мыслей о смерти, обостряют вкус к жизни. Но верно обратное: только те, кто заглянул в небытие, способны наслаждаться солнечным светом. Я не поклонник учения стоиков и не верю, что созерцание смерти учит нас, что человеческие усилия тщетны, а радости жизни призрачны. С каждым годом я все более исступленно прощаюсь с весной и с каждым днем все больше хочу обуздать течение Тибра, хотя те, кто придет мне на смену, возможно, позволят ему бессмысленно стекать в море.
Он снова открыл глаза. Очередной приступ горя, Клодия! Наблюдая за ним, я с каждым мигом все яснее постигаю ее загубленное величие.
Ах, в мире царствуют законы, чье воздействие мы едва ли можем разгадать. Как часто мы видим, что нечто возвышенное и великое рождено цепью злодеяний, а добродетель произросла из низости! Клодия — необычная женщина и, столкнувшись с Катуллом, высекла огонь необычной поэзии. Приглядываясь к жизни, мы любим мерять ее понятиями «добро» и «зло», но мир выигрывает только от энергии. В этом скрыт его закон, но мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Вот почему я горюю о краткости бытия.
Он спит.
Прошел еще час. Мы разговаривали. Мне не впервые сидеть у смертного одра. Тем, кого мучит боль, говоришь о них самих; тем, у кого сознание ясное, хвалишь жизнь, которую они покидают. Разве не унизительно оставлять мир, который ты презираешь, а умирающий часто боится, что жизнь была недостойна затраченных на нее сил. У меня всегда хватает доводов для ее восхваления.
В этот час я заплатил старый долг. Много раз за десять лет военных походов мне виделся один и тот же сон наяву. Ночь, я шагаю перед своим шатром и сочиняю речь. Я представляю себе, будто вокруг меня избранное общество — мужчины, женщины и особенно молодежь — и я хочу передать им все, чем я обязан как юноша и муж, как солдат и правитель, как любовник, отец и сын, как страдалец и весельчак великому Софоклу. Хоть раз перед смертью вылить все, что у меня накопилось на сердце, зная, что оно тут же переполнится снова восторгом и благодарностью.
Да, вот это был человек, и труд его был трудом человеческим. Он дал нам ответ на извечный вопрос. Дело не в том, что боги отказали ему в помощи, хотя они ему и не помогали. Это не в их обычае. Если бы они не были от него скрыты, он так не напрягал бы свой взор, чтобы их отыскать. Я тоже шел через высочайшие Альпы, не видя перед собой ни зги, но у меня не было его самообладания. Он умел жить так, словно Альпы были всегда тут, перед ним.
А теперь и Катулл мертв.
L. Цезарь — Кифериде
(1 ноября)
Можете себе представить, любезная госпожа, как неловко человеку в моем положении обращаться с просьбой к тем, кого он глубоко почитает, ибо в его просьбе могут прочесть нежелательное для него понуждение. Предположите, что я занимаю то же место, что и тогда, когда я имел честь с вами познакомиться, и вы впервые вызвали во мне восхищение, которое со временем лишь возросло.
Жена моя учится отвечать на вопросы, которые будут ей заданы во время декабрьских церемоний. Мне разрешено ее обучать, но лишь в тех пределах, какие допускает тайна этих обрядов. Могу ли я просить вас уделить нам несколько часов и научить ее, как произносить ответы и как себя держать в соответствии с их торжественным характером?
Так как египетская царица тоже будет присутствовать на этой церемонии, хоть и не до конца, я был бы крайне признателен, если бы вы позволили ей разделить с моей женой те часы, которые вы сможете им подарить.
Меня чрезвычайно обрадовало, когда я случайно узнал, что вы близкий друг Луция Мамилия Туррина и иногда посещаете его на острове Капри. Он желает, чтобы о нем как можно реже упоминали, и даже простая ссылка на него придает моему письму некую секретность. Счастлив же я не только потому, что вы наслаждаетесь его дружбой, а он вашей, но еще и потому, что через вас (и надеюсь, госпожа, что и через меня) этот гений, если можно так выразиться, проявит себя в мире, хотя нам и не дозволено называть его имя. Разве не удивительно, что человек, попавший в такое безнадежное положение и вынужденный сносить его последствия, сохранил твердость духа; но что такая беда произошла с человеком, который превосходил всех мудростью, равно как и тем, что мы зовем красотой души, кажется мне поистине непостижимым. Остров Капри вызывает у меня чувство, которое я могу назвать только благоговением. А то, что не я один отражаю свет этого гения, меня не только радует, но и приносит облегчение. Между мной и моим другом многое остается невысказанным. В том числе существует немой уговор: я не получаю писем от него и могу посещать его только раз в год. Иногда меня печалят эти ограничения, но с годами я все больше начинаю понимать, что в них, как и во всем, сказалась его почти сверхчеловеческая мудрость.
Так как речь у нас зашла о великих людях, я прилагаю список последних стихов Гая Валерия Катулла, умершего ночью пять дней назад.
LI. Царица Египта: памятка министру иностранных дел
(6 ноября)
Царица Египта довольна полученными от вас донесениями. Особенно вашими отчетами от 29 октября и 3 ноября с прилагаемыми к ним документами.
Царица приняла к сведению список очагов недовольства.
(Далее следуют замечания Клеопатры относительно двенадцати лиц или групп, от которых следует ждать попыток устроить государственный переворот или убить диктатора. Среди возможных заговорщиков нет имени ни Каски, ни Кассия, ни Брута. Эти материалы найдут отражение в книге четвертой.)
В дополнение царица обращает ваше внимание на следующие обстоятельства.
1. Донесения источника 14 (Абра) ничего не стоят. Ее простодушие показное. Нетрудно добиться от нее более ценных сведений, пригрозив, что ее разоблачат, а также применяя другие методы воздействия.
2. Уверены ли вы, что доподлинно знаете причины исчезновения диктатора с моего приема 27-го числа? Его дежурство у одра охальника-стихоплета не кажется мне достаточным объяснением.
3. Надо приложить все силы к тому, чтобы внедрить своего агента в дом Марка Антония. Возвращаю собранные вами доказательства его измены диктатору (в 46). Их следует хранить вместе с документами, которые вы особенно тщательно оберегаете от кражи или изъятия. Прочие материалы, найденные у него дома, оставляю у себя.
4. Портниха Мопса. Добудьте поскорее полные сведения о ее жизни, происхождении, знакомствах и пр. А также расписание деловых визитов на этот месяц. Она придет ко мне 17-го — шить одеяния для Таинства Доброй Богини.
5. Задание на эту неделю: пристально следить за госпожой Клодией Пульхрой и ее братом. Какие толки идут по поводу ее отъезда в деревню? Когда она возвращается в Рим? Донесение Сосигена (египетского астронома) неудовлетворительно. Разъясните ему, за чем вести слежку.
Я тоже думаю, что Клодий Пульхр пытается соблазнить жену диктатора. Следите за этим очень внимательно. Не сомневаюсь, что они поддерживают связь через источник 14. Сообщите ваши соображения, как можно это использовать.
В награду за усердие и ловкость, которые вы проявили в столь трудном деле, я охотно предоставляю в вечное пользование вам и вашим потомкам Соссебенский Оазис вместе со всеми его доходами и податями, кроме указанных в эдиктах 44 и 47 (ограничения на сборы, взимаемые областными чиновниками и землевладельцами с крестьян, а также на плату за водопой верблюдов в источниках и реках).
LII. Помпея — Клодии
(12 ноября)
Дорогой Мышоночек, я так по тебе соскучилась. Никто не понимает, зачем тебе вздумалось забираться в глушь, когда в городе столько всяких событий. Я спрашивала мужа, что за интерес для тебя в этой математике, а он говорит, что ты сильна в таких делах и знаешь все на свете про звезды и чем они занимаются.
Ручаюсь, гадай хоть десять раз, все равно не угадаешь, кто к нам теперь ходит чуть не каждый день и как мы проводим время. Клеопатра! И не только Клеопатра, но и актриса Киферида. И все это — затея моего мужа. Ну разве не странно?
Сперва Киферида пришла учить меня — сама знаешь чему. Потом стала приходить и Клеопатра тоже поучиться тому же. В конце урока царица попросила Кифериду подекламировать, и как ты думаешь, что? — прямо кровь в жилах стынет. Как Кассандра сходит с ума, а Медея вздумала убить своих деток и как все там умирают. Муж теперь стал рано приходить домой и все та-та-та да та-та-та насчет греческих пьес. Потом встает, он — Агамемнон, Киферида — Клитемнестра, Клеопатра — Кассандра, мы с Октавианом изображаем хор, ну а потом все идем ужинать. Ах, дорогая, вот жалость, что тебя нет, мне ведь не с кем посмеяться, они все такие серьезные. А мне ужасно смешно, когда муж вдруг начинает рычать, а Клеопатра становится как бешеная.
Честное слово, царица мне даже нравится. Конечно, она не такая, как мы с тобой. Раньше мне казалось, что она просто уродина, но иногда она делается чуть ли не красавицей. И я ни капельки не ревную. Муж обращается с ней совсем как с тетей Юлией.
Вчера царица спросила его, когда ты возвращаешься. Она надеется, что скоро, потому что ты должна наставить ее в обрядах. Муж говорит, что не знает твоих планов, но думает, что ты вернешься к 1 декабря.
Душенька, я видела твоего брата, то есть твоего младшею брата: по дороге к озеру Пеми он подъехал к моим носилкам на лошади. Он так на тебя похож, что я просто удивляюсь. Люди говорят, будто он человек нехороший, и даже ты так о нем сказала, но я знаю, что это неправда. Дорогая Клаудилла, не смей так к нему относиться, кто же не станет дурным, если ему все время твердят, что он гадкий!
Судя по моему письму, ты еще подумаешь, что мне очень весело, но это не так. Я почти не выхожу из дому, и никто, кого бы я хотела видеть, к нам не ходит. Один раз я была у египетской царицы и навестила по случаю беременности жену Брута Порцию. Иногда я просто сижу дома и думаю, что лучше мне умереть. Если не живешь, пока молода, когда же еще жить? Я обожаю своего мужа, и он обожает меня, но я люблю общество, а он не любит.
Только что мне сказали, что я зря ездила к Порции: у нее выкидыш, и, значит, мне вовсе незачем было туда тащиться.
LIII. Киферида — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(25 ноября)
Атмосфера в Риме, дорогой друг, грозовая, беспокойная: языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно, что ни день передают рассказы о гнусных проделках и преступлениях, где не столько страсти, сколько безрассудства и распущенности. Раньше я думала, что тревога живет во мне самой, но теперь ее ощущают все. Наш Хозяин еще деятельнее, чем всегда, что ни день — эдикт. Издаются постановления о ростовщичестве, о том, что все должны мести улицу у себя перед домом; в мостовую перед судом вделали большую карту, на ней выбиты золотые орлы, обозначающие новые города. Молодые мужья стоят над ней и, поглаживая подбородки, решают, где занести новый очаг — во льдах или под палящим солнцем.
Я было приняла ваше приглашение приехать на Капри, но тут Хозяин попросил меня учить его жену и царственную гостью, как вести себя на церемониях в начале декабря. У нас было восемь уроков, которые часто заканчивались чтением отрывков из трагедий, в чем принимали участие все, включая Цезаря, и я почувствовала, как за этими трагедиями разыгрывается подлинная трагедия.
Я начинаю понимать эту загадку — брак Цезаря. И вижу, что он держится вовсе не на извращенной склонности к молоденьким девушкам, как утверждают злые языки. Цезарь — учитель; это его страсть. Он способен любить лишь тех, кого можно учить; в ответ он требует только успехов и тяги к просвещению. От молоденьких девушек он хочет только того, что Пигмалион просил у мрамора. Насколько я знаю, он трижды был вознагражден — своей дочерью, Корнелией и царицей Египта — и много раз получал отпор. Сопротивление, которое ему оказывают сейчас, непреодолимо и сокрушительно. Помпея не настолько глупа, но его метод обращения с ней так неумен, что только пугает ее и лишает последних умственных способностей. Любовь как воспитательница — одна из величайших сил на свете, но она хрупка и также редко создает гармонию отношений, как любовь, основанная на чувственности. А будучи безответной, она вносит еще больший разлад, ибо, как и всякая любовь, она безумна. С одной стороны, он любит ее как нежное растение и как женщину (надо видеть, как Цезарь смотрит на женщину!), а с другой стороны, он любит в ней ту новую Аврелию или новую Юлию Марцию, которой она могла бы стать. В его представлении Рим — олицетворение женского начала; он женился на Помпее, чтобы вылепить из нее еще одну живую статую великой римской матроны.
Клеопатра тоже обманула его ожидания. Можно догадываться, как упоительно сочетала она поначалу все качества любимой ученицы. Она еще не перестала ею быть. Я боготворю этого титана, но я старая женщина, меня уже не воспитаешь. Однако мне понятен тот жадный восторг, с каким она внимает каждому его слову. И вдруг он обнаружил, что не может научить ее самому главному, ибо главное, чему он учит, — это мораль, ответственность, а Клеопатра не имеет даже смутного понятия о том, что хорошо, что плохо. Цезарь не осознает своей страсти к учительству — для него она невидима, как всякая самоочевидность. И поэтому учитель он из рук вон плохой. Он предполагает, что все люди одновременно и учителя, и жадные до знаний ученики, что в каждом бьется живое нравственное начало. Женщины куда более хитроумные учителя, чем мужчины.
Меня глубоко трогает, когда я вижу, как великие люди пытаются создать семью там, где никакой семьи быть не может, и продолжают затрачивать безответную нежность на неподходящих жен. Терпение, которое они проявляют, совсем не похоже на терпение, с каким жены относятся к своим мужьям, у тех оно естественно и так же не нуждается в похвале, как честность честных людей. Иногда видишь, как оскорбленные мужья прячутся в свою скорлупу; они узнали исконное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья.
Такой муж и Цезарь. Другая его жена — Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви.
Разрешите мне несколько продолжить мысль.
Я только недавно поняла слова, которые вы обронили много лет назад: «зло определяет границы личной свободы» — верно я запомнила? — и что «оно может быть поисками предела того, что можно уважать». Как глупо, что я не усвоила этого раньше, дорогой господин; я могла бы сыграть это в Медее и в Клитемнестре. Да, исходя из этой мысли, разве нельзя сказать, что многое из того, что мы зовем злом, эта самая сущность добродетели, старающейся проникнуть в законы, которые ею управляют? И не это ли подразумевает Антигона, моя Антигона, наша Антигона, когда она говорит (в трагедии Софокла, в ответ на утверждение Креона, что ее убитый «добрый» брат не захотел бы, чтобы ее злого брата похоронили с почестями): «Кто может знать, а вдруг в загробном мире его (злые) деяния покажутся безупречными?» Вот в чем объяснение безумных выходок Клодии, и, если Цезарь будет зевать, Помпея тоже станет искать, где лежат пределы ее любопытству. Природа кладет предел нашим чувствам: огонь обжигает пальцы, сердцебиение мешает бегом взбираться на горы, но лишь боги могут положить предел вольностям нашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы или в страхе ходить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Авторы фарсов любят шутить, будто жены радуются, когда их бьют мужья. В этой шутке, однако, есть доля истины: как утешительно знать, что тебя любят настолько, что берутся определить пределы допустимого. Мужья часто оступаются — в обоих направлениях. Цезарь — тиран и как муж, и как правитель. Но вовсе не в том смысле, как другие тираны, которые скупятся дать свободу другим; просто он, будучи недосягаемо свободен сам, не представляет себе, как растет и проявляется свобода в других; поэтому он всегда ошибается и даст то слишком мало, то слишком много этой свободы.
LIV. Клодия — своему брату
(Из Неттуно)
(Избранные места из почти ежедневных писем в ноябре.)
Не приезжай сюда, Безмозглый. Я никого не желаю видеть. Я очень довольна тем, как живу. В соседнем доме сидит Цицерон, ворчит и пишет лицемерные слезницы, которые он зовет философией. Несколько раз мы встречались, но теперь ограничиваемся посылкой друг другу фруктов и пирожных. Он не смог увлечь меня философией, а я не смогла увлечь его математикой. Он очень остроумный человек, но почему-то никогда не острит со мной. Я его угнетаю.
Я целый день ничего не делаю, и тебе со мной будет скучно. Изучаю числа и по нескольку дней ни о чем, кроме них, не могу думать. В науке о бесконечном есть такие свойства, какие никому не снились. Я напугала Сосигена. Он говорит, что они опасны.
Я очень на тебя сердита. Зачем ты попросил старика Орлиного Клюва запретить пьесу? Унижение чувствуешь только тогда, когда обращаешь внимание на подобные выходки. Поймешь ли ты наконец, что злобные люди довольны вдвойне, когда их выпады нас ранят?
Ты прав, обидно, когда тебя обвиняют во множестве преступлений, которых ты не удосужился совершить. Я действительно покинула своих дорогих родителей при первой же возможности, но я и пальцем не шевельнула, чтобы им досадить. Я не только не убивала моего бедного мужа — я на коленях молила его не убивать себя обжорством. Я никогда не трепетала от страсти ни к тебе, ни к Додо, напротив, меня поражали портовые девки, которые ухитрялись находить тебя привлекательным.
Что же касается последнего вопроса (смерти Катулла), запрещаю тебе когда-нибудь о нем поминать. Все это так сложно, что никто тут ничего не поймет. И я не хочу, чтобы об этом говорили.
Однако хуже всего не то, что тебя облыжно обвиняют в преступлениях, а что потом тебе неймется эти обвинения заслужить. Тебе тут же хочется сотворить нечто неслыханное. От чего небу станет жарко.
Конечно, меня злит молва, что это он-де заставил меня уехать в деревню. Хоть это и полная чепуха, такая сплетня меня бесит больше, чем все остальные, вместе взятые. Но я и не подумаю вернуться в город только для того, чтобы ее опровергнуть.
(27 ноября)
Приезжай в Неттуно, Публий. Я больше выдержать здесь не могу, а в город возвращаться еще рано.
Ради бога, приезжай, только никого с собой не привози.
Безделье вызывает тягостные мысли об уходящем времени — вот что в нем хуже всего. А меня оно заставило предаться воспоминаниям, словно я уже старуха. Вчера я не могла заснуть; встала и сожгла все свои математические записи, потом бросила в огонь все письма, полученные за десять лет. Сосиген вился вокруг, как старый комар, пытаясь меня удержать.
Выезжай сразу же, как получишь это письмо. У меня есть идея. Марку Антонию не удалось совершить еще невиданный в Риме подвиг. Ну так я придумала другой.
Мопса здесь мастерит мне новое одеяние и тюрбан, сам знаешь для чего.
(28 ноября)
Надеюсь, это письмо тебя не застанет и ты уже в пути. Если нет, выезжай немедленно.
Я только что получила письмо от диктатора с просьбой вернуться в Рим и приступить к обучению египетской царицы. Он пригласил меня 2 декабря на обед.
LV. Клеопатра — Цезарю
(5 декабря)
Великий Цезарь, я сообщаю сама эти сведения, отлично сознавая, что вы можете превратно истолковать мои побуждения. Полтора месяца назад я рассказала бы вам все не колеблясь, и поэтому я решаюсь на этот шаг.
Госпожа Клодия Пульхра заказала два одеяния и два тюрбана для церемоний, которые должны состояться ночью 11 декабря. Она намерена обрядить в одно из них своего брата и ввести его к вам в дом. Ваша жена знает об этом, что доказывает ее письмо, попавшее мне в руки.
LV-А. Цезарь — Клеопатре
(обратной почтой)
Благодарю вас, великая царица. Я обязан вам многим. Но сожалею, что вынужден быть вам признательным и за то досадное сообщение, к которому вы привлекли мое внимание.
LVI. Алина, жена Корнелия Непота, — сестре своей Постумии, жене Публия Цекциния из Вероны
(13 декабря)
Несколько слов наспех, дорогая Постумия. В Риме страшный переполох. Такого никогда еще не было. Общественные места закрыты, а большинство торговцев даже не отпирают лавок. До тебя уже, верно, дошли слухи, что Клодия Пульхра ввела своего брата, переодетого весталкой, на Таинства Доброй Богини. Когда его поймали, я была в нескольких шагах от него. Говорят, будто первая заметила его госпожа Юлия Марция. Песнопения и молитвы продолжались уже час. Несколько женщин кинулись к нему и сорвали тюрбан и повязки. Таких воплей никто еще не слышал. Одни принялись его избивать, другие суетились, спеша прикрыть святыни. Конечно, сколько не кричи, ни одного мужчины поблизости не было, но потом появились стражники, подняли его и вытащили вон, стенающего, залитого кровью.
Дальше ехать некуда, право, не знаю, что тут скажешь. Все так и твердят: дальше ехать некуда. Люди даже говорят: ну раз так — пусть Цезарь переводит Рим в Византию. Сейчас бегу в суд. Цицерон вчера произнес замечательную речь, просто потрясающую, против Клодия и Клодии. В свидетели вызывают самых разных людей, и кругом ходят всевозможные слухи. Кое-кто думает, что к этому причастна царица Египта, ведь Клодия наставляла ее в обрядах; но царице нездоровилось, и она не явилась на церемонии.
Самое странное тут — поведение Цезаря. Как верховный понтифик, он должен был сам вести следствие, но сразу же отказался принимать в нем участие. А ведь его жена виновна не меньше тех двоих — это факт! Вот ужас-то! Вот ужас!
Только что пришел муж. Говорит, будто родственники Помпеи — человек двадцать — вчера вечером ходили к Цезарю уговаривать его выступить в защиту жены. Кажется, он был очень спокоен, выслушивал их целый час. Потом встал и сказал, что не намерен появляться в суде; может быть, Помпея тут и не замешана, но женщине в ее положении нужно вести себя так, чтобы быть выше всяких подозрений; уже одно подозрение настолько пагубно, что он разведется с ней завтра же, то есть сегодня.
Дорогая, бегу в суд. Может, и мне придется давать показания. Странное чувство испытываешь, когда бежишь по улицам города! Будто опозорен сам город и всем нам лучше отсюда уехать.
Часть четвертая
LVII. Сервилия из Рима — своему сыну Марку Юнию Бруту
(8 августа)
(Письмо это застало Брута в Марселе, откуда он возвращался в Рим, закончив службу в качестве наместника Ближней Галлии.)
Возвращайся, Марк, возвращайся в город, где все взоры обращены на тебя.
Герои, чье имя ты носить (Юний Брут, изгнавший Тарквиния), живет в тебе — если не в крови, то в сердце, и его долг лег на твои плечи.
Вернись в город, чье здоровье — твое здоровье и чья свобода — твоя свобода. Римляне снова взывают к Бруту, и все взоры устремлены на тебя.
Человек, который вызвал ярость Рима, не маленький человек. Человек, который душит Рим, велик во всем, но более всего велик он в своих прегрешениях. Убийца не должен уступать величием убитому, не то Рим будет порабощен вдвойне. Есть лишь один римлянин, достойный встать с ним вровень, и все взоры устремлены на тебя. Рука, которая его поразит, должна быть бесстрастной, как правосудие. Долг тираноубийцы — святой долг; еще не рожденные поколения вспомнят о нем со слезами благодарности.
Приди и взгляни на него: воздай ему честь, которую он заслужил; взгляни на него, как великий сын смотрит на великого отца, и ударом, который выразит волю не одного человека, а десяти тысяч — убей его.
Помня о ребенке, который скоро должен у тебя родиться, подними руку и нанеси удар.
LVII-А. Брут — Сервилии
(Возвращая ей письмо)
Письмо принадлежит тебе. Я прочел его, но это не делает его моим.
Слова, которыми ты толкаешь меня на убийство моего друга и благодетеля, достаточно ясны. Слова же, которыми ты бросаешь тень на мое происхождение, неясны.
К двадцати годам, моя госпожа, каждый мужчина должен сам себе быть отцом. Отец его по плоти имеет большое, но все же не такое большое значение. Однако те, кто ставит отцовство под сомнение, должны подтверждать свои слова клятвой, самой священной клятвой, и выражаться при этом ясно.
Ты так не поступила. Тем самым я вдвойне утратил то уважение, которое я к тебе питал.
LVII-Б. Заметки Корнелия Непота
(О беседе с Цицероном)
Я выбрал подходящий момент, чтобы задать ему вопрос, который вот уже тридцать лет хочет задать ему весь Рим: «Скажите, мой друг, каково ваше мнение: Марк Юний Брут — сын Юлия Цезаря?»
Он сразу протрезвел.
«Корнелий, — сказал он, — слово «мнение» надо употреблять с осторожностью. Имея доказательства, я отважусь сказать: это мне известно; имея ограниченное число доказательств, я отважусь сказать, что имею на этот счет мнение; обладая еще меньшими доказательствами, я отважусь лишь высказать предположение. В таком вопросе, как этот, у меня нет достаточных оснований даже для них. Но допустим, однако, что эти предположения у меня есть, неужели я выскажу их вам? Ведь вы, несомненно, включите их в свою книгу? А в книге предположения почему-то больше выпирают, чем факты. Факты можно опровергнуть; их можно перетолковать, а предположения не так-то легко отбросить. История, которую мы читаем, как правило, лишь цепь предположений, прикидывающихся фактами.
Сын ли Цезаря Марк Юний Брут? Поставим вопрос так: знаю ли я или считаю ли я, что в такое родство верят Брут, Цезарь или Сервилия? Брут — один из моих ближайших друзей. Цезарь… Цезарь — человек, за которым я пристально наблюдаю уже тридцать, нет, уже сорок лет. Сервилия — что ж, когда-то делалась попытка женить меня на Сервилии. Давайте взвесим этот вопрос.
Я видел первых двух вместе несчетное число раз и могу утверждать, что никогда не замечал между ними ничего, что могло бы навести на мысль о подобном родстве. Цезарь высоко ставит Брута. Он питает к нему привязанность, сдержанную привязанность старшего к высокоодаренному младшему. Быть может, правильнее было бы сказать, невольную привязанность — он испытывает к нему даже нечто вроде страха или, по крайней мере… Послушайте, Корнелий, разве нас, старших, всегда радует то, что в будущих поколениях появятся блестящие историки или ораторы? Разве нам не кажется, что наши преемники обязаны быть хуже нас? Кроме того, Цезарь всегда держался на расстоянии от людей неподкупных и независимых, хоть их и мало, так мало. Надо ли повторять, что Цезарю неприятно общество людей одаренных, или, вернее, обладающих и способностями, и благородством характера. Да, это так: да, да, это так. Он благоволит к людям одаренным, если они бессовестны, и к людям высоконравственным, если они не от мира сего, но не выносит нравственности и одаренности вместе. Он окружил себя негодяями: ему нравится беседовать с ними, нравятся их шутки, всех этих негодяев — Оппия, Мамурры, Милона. А в делах он сотрудничает с такими, как Азиний Поллион, — честными, преданными посредственностями.
Отношение же Брута к Цезарю ничем не отличается от его отношения ко всем нам, людям старшего возраста. Брут никого не любит, не любил и не будет любить, кроме, конечно, своей жены, а из-за нее отчасти и своего тестя. Вы же знаете это бесстрастное красивое лицо, эту размеренную речь, эту суровую вежливость. Если бы он думал, что Цезарь — его отец, или хотя бы это подозревал… нет, не верю! Я видел, как он благодарил Цезаря за покровительство; я видел, как он спорил с Цезарем; да что там — я видел, как он представлял Цезарю свою жену. Цезарь — законченный лицедей, мы никогда не узнаем, что он думает. Брут отнюдь не лицедей, и я могу поклясться, что такое родство даже не приходит ему в голову.
Теперь остается предположить, что думает об этом Сервилия.
Но прежде чем перейти к ней, надо добавить вот что; тридцать лет назад многие были уверены, что их сожительство — факт несомненный. Сроки, так сказать, подтверждают это отцовство. В то время Цезарь укреплял свою политическую карьеру серией продуманных двойных любовных связей. Женщины тогда играли гораздо большую роль в республике, а Сервилия выделялась своим блестящим политическим умом не только среди патрицианок, но и среди патрициев. Она могла влиять на политику двадцати глупых и неустойчивых мультимиллионеров; ей достаточно было им подсказать, чего сейчас следует опасаться. Не судите о Сервилии тех лет по сегодняшней Сервилии. Сегодня это просто обезумевшая интриганка, которая запуталась в самых нелепых противоречивых идеях и забрасывает город анонимными письмами, автора которых можно угадать с первых же слов. Климат Рима стал менее благоприятен для женщин. Даже о Клодии десятилетней давности не стоит судить по теперешней Клодии. Рим двадцать-тридцать лет назад был ареной, где подвизались властные женщины, вспомните мать Цезаря, мать Помпея и тетку Цезаря. Их мало что занимало, кроме политики, и они не разрешали думать ни о чем другом своим мужьям, любовникам, гостям и даже детям. Люди теперь делают вид, будто их возмущает, что их матери и бабушки по многу раз выходили замуж и разводились из чисто политических соображений. Они забывают, что эти невесты не только приносили мужьям богатство и полезные семейные связи, — тогда все знали, что жена сама по себе политический вождь. Да ведь когда борьба между Суллой и Марием достигла своего апогея, отравления так участились, что, бывало, дважды подумаешь, стоит ли пойти пообедать к родной сестре.
И представляете, каким искусством должен был обладать Цезарь, чтобы переходить из постели одной воинственной Клитемнестры в постель другой. Как ему это удавалось, так никто и не знает. Но самое замечательное, что все его возлюбленные до сих пор его обожают. Часто в обществе одной из этих пожилых матрон я принимался его хвалить, и что же — я замечал, как, затаив дыхание и чуть не падая от переполняющих ее чувств, мне внимает бывшая юная дева, убежденная, что она одна была музой этой царственной судьбы».
Тут Цицерон разразился смехом, поперхнулся, и мне пришлось стукнуть его по спине.
«И заметьте, — продолжал он. — Цезарь, которому в браке удалось произвести на свет лишь одного ребенка, вне брака весьма справедливо заслужил прозвище отца своей страны. Думаю, что он почти наверняка пытался привязать к себе влиятельных возлюбленных при помощи детей. Часто замечали также, что, когда его пассия объявляла ему, что она беременна… вы меня слушаете?.. и когда Цезарь был убежден, что он и впрямь отец будущего чада, он щедро за это расплачивался, вручая даме подарок, и весьма ценный притом.
Не забывайте, что в те годы, о которых мы говорим, Цезарь был нищим. Да, в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был расточителем, не имеющим доходов, щедрым на чужое золото.
(Далее следуют рассуждения Цицерона об отношении Цезаря к деньгам, уже приведенные в документе XII.)
Как бы там ни было, Цезарю удалось пустить в оборот столько денег своих друзей, что он смог подарить Волумнии «Андромаху» Апеллеса (куда как подходящий сюжет для неверной жены), самое великое произведение живописи в мире, хотя и вылинявшее подобие того, чем оно было первоначально. Можно ли сомневаться, что ее дочери-близнецы — отпрыски Цезаря? Разве это не тот же нос, повторенный дважды? А Сервилии он подарил розовую жемчужину, которую она носит словно святыню на каждом празднике в память основания Рима. Это самая большая жемчужина в мире, и в свое время о ней только и говорили. Малоаппетитная грудь, на которой она ныне покоится (как вызов законам против роскоши), была когда-то, мой друг, не менее прекрасной, чем эта жемчужина. И не награда ли это за появление на свет Марка Юния Брута? Этого мы никогда, никогда не узнаем».
LVIII. Цезарь из Рима — Бруту в Марсель
(17 августа)
(С нарочным)
Стоит ли говорить, с каким удовлетворением я узнал из разных источников, насколько образцово ты справился со своими высокими обязанностями. Надеюсь, моя похвала приятна тебе по двум причинам: во-первых, потому что тебя хвалит друг, который радуется и гордится всем, что ты делаешь; но главное, потому, что я и сам слуга Римской республики, который страдает, когда ей наносят обиды, и радуется, когда ей примерно служат. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях так же царит правосудие, так же неусыпно пекутся о подданных и так же энергично исполняют законы. Тысячам людей, пробужденным от дремоты варварства, ты внушил любовь и почтение к Риму; страх же к нему ты вселял лишь в той мере, в какой все мы должны чувствовать трепет перед законом.
Возвращайся, мой юный друг, на родину, она ждет от тебя все более важных услуг.
Письмо это предназначено лишь для тебя: уничтожь его сразу же. Не торопись с ответом, нарочный подождет сколько понадобится.
Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника. Равно как и не считаю, что глава республики должен быть облечен диктаторскими полномочиями. Однако же я диктатор и убежден, что власть, которую я был вынужден взять, необходима стране, а также что назначение преемника сможет уберечь государство от новой изнурительной гражданской войны. Мы с тобой много и подолгу беседовали о природе власти и о том, насколько в данное время римским гражданам можно доверить самоуправление. В какой степени они способны самостоятельно править, мы с тобой не всегда сходились во мнениях. Я назначил тебя на пост, который ты сейчас покидаешь, чтобы на повседневной административной работе ты понял, до какой степени рядовые люди полагаются на вышестоящих. Теперь я хочу, чтобы ты занял такую же должность в столице и проверил эту истину на наших италийских согражданах.
Я хочу, чтоб ты стал претором. И назначаю на ту же должность вместе с тобой твоего зятя (Кассия). Я хочу, чтобы ты был претором в столице; этот пост более трудный, больше на виду у народа и ближе ко мне.
Как я уже говорил, помня нрав наших граждан и политическое положение на полуострове, я считаю своим долгом назначить себе преемника. Правда, в моем положении я могу только его предложить, но не могу узаконить. Только одного не в силах знать человек — это будущего. Преемник должен утвердиться сам. Однако у меня есть возможность — буду ли я жив или мертв — оказать помощь тому, кто придет следом за мной. Прежде всего открыть ему, как правят государством, и поделиться сведениями и опытом, которых он нигде больше не сможет получить. В качестве римского претора все это будет тебе доступно.
Мне каждый день дают понять, что жизнь моя постоянно висит на волоске. Я не желаю принимать предосторожностей, которые, обезопасив меня от врагов, ограничат мое передвижение и отравят мою душу страхом. Убийце нетрудно найти подходящее время в течение дня и меня уничтожить. Сознание опасности вынуждает меня подумать о преемнике. Умирая, я не оставлю после себя сыновей. Но даже если бы они у меня и были, я не считаю, что политическую власть следует передавать от отца к сыну. Она должна принадлежать только тем, кто дорожит общественным благом и обладает способностью и умением управлять. Я верю, что ты наделен и любовью к обществу, и способностями им править; опыт же я смогу тебе передать. Теперь решай, хочешь ли ты взять на себя верховную власть.
Прошу тебя сообщить мне свои соображения.
LVIII-А. Брут — Цезарю
(Ответ с тем же нарочным)
Благодарю за высокую оценку моей службы. Благодарю за помощь, оказанную во время исполнения моей должности. Я принимаю пост претора Рима и надеюсь, заняв его, сохранить то доброе мнение, которое позволило вам мне его предложить.
О том, более высоком посте, о котором вы пишете, я не желаю даже думать. Причины моего отказа содержатся в вашем собственном письме. Разрешите привести ваши слова: «Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника». Место Цезаря может занимать только Цезарь; опустеет оно — тогда и сама должность и единовластие тоже исчезнут. Пусть бессмертные боги надолго сохранят вас, дабы вы могли править страной, как вы один это умеете; когда же вы покинете свой пост, да сохранят они нас от гражданской войны.
Другие причины моего отказа касаются только меня лично. С каждым годом я чувствую, что меня все больше влечет к изучению философии. Послужив какое-то время вам и государству в качестве претора Рима, я попрошу освободить меня, ибо хочу целиком отдаться науке. На этой стезе я надеюсь оставить по себе память, достойную наших римских традиций и вашего доброго мнения обо мне.
LIX. Цезарь — Порции, жене Марка Юния Брута, в Рим
(18 августа)
Спешу доставить себе удовольствие и сообщить вам, что несколько дней назад я отозвал вашего супруга назад, в столицу. И отозвал я его не без сожаления, потому что те, кто любит Рим, несомненно пожелали бы, чтобы он навсегда остался в Ближней Галлии и продолжал так же отменно служить ей, как служил до сих пор.
Позвольте повторить вам то, что я ему недавно писал: «Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях так же царит правосудие, так же неусыпно пекутся обо всех подданных и так же энергично исполняют законы».
Разрешите сказать вам, что все, имеющее касательство к вашему дому, затрагивает и меня лично. Никакие разногласия не смогли пошатнуть глубочайшего уважения, которое я питаю к людям, наиболее вам близким. (Порция была дочерью Катона Младшего). До меня дошли слухи, что вы ждете ребенка. Не вы одна, госпожа, а весь Рим ожидает появления на свет потомка таких благородных родов. Я рад, что отец ребенка будет с вами в столь знаменательный час.
LIX-А. Порция — Цезарю
(19 августа)
Порция, жена Марка Юния Брута, выражает свою благодарность диктатору Каю Юлию Цезарю за его любезное письмо и за участие в том радостном событии, о котором он мне сообщает.
LIX-Б. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на Капри
(Приблизительно 21 августа)
947. Никому из нас не чужда зависть. У меня для зависти только три повода (если можно так назвать три объекта моего восхищения). Я завидую твоей душе, певческому дару Катулла и Бруту из-за его новой жены. О первых двух я тебе уже подробно писал, хотя, наверное, вернусь к ним еще.
Третий объект стал недавно занимать мои мысли. Я заметил ее еще тогда, когда она была женой моего друга — этого тщеславного растяпы (Марка Кальпурния) Бибула. Как идет женщине молчаливость, не та молчаливость, которая выражает рассеянность и пустоту, хотя и такая встречается редко, а умение молчать, ни на миг не теряя внимания. Оно украшало как мою Корнелию — я ее звал «мое говорящее молчание», — так и мою Юлию, давно умолкнувшую и молчащую даже в моих снах, украшает и Порцию Катона.
Но когда их побуждало что-нибудь заговорить, кто с ними мог сравниться в красноречии или остроумии? Они могли разговаривать о самых ничтожных домашних делах, и даже Цицерону в сенате не удавалось так захватить своих слушателей. Раздумья, полные зависти, объяснили мне, почему это происходило. Банальность непереносима в устах того, кто придает ей значительность. Однако вся наша жизнь в ней погрязла. Значительное обрастает со всех сторон бесчисленными банальностями, а банальность имеет лишь то достоинство, что существует, и существует повсеместно. По самой своей сути женщины — хранительницы огромного числа таких важных незначительностей. Воспитание детей кажется мужчине рабством значительно более тягостным, чем скотоводство, и более раздражающим, чем ночевки среди мошкары в египетской пустыне. Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в Лету, от мелочей, еще заслуживающих внимания.
Считается, что зависть к другому из-за его жены не сулит мира, однако у меня эта зависть носит вполне мирный характер. Пока был жив Бибул, я часто бывал у него дома и завидовал его вечерам в атмосфере размеренного покоя. Когда Бибул умер, у меня появились далеко идущие планы, но всякие попытки в этом направлении казались невозможными. У Брута, несомненно, тоже были далеко идущие планы: его очень порицали за развод с Клавдией (дочерью Аппия Клавдия, дальней родственницей Клодии) после столь долгого брака; но я его понимал, и теперь весь Рим видит, что такому счастью может позавидовать самый суровый стоик, а самый бдительный диктатор его простит. (В результате этого брака усилилась единственная оппозиционная партия аристократов, которая и правда пользовалась широкой народной поддержкой. Брут женился на своей двоюродной сестре — его мать Сервилия приходилась сестрой отцу Порции Катону Младшему; Кассий и Лепид были женаты на единоутробных сестрах Брута, дочерях Сервилии от ее предыдущего брака с консулом Силаном, обе они пользовались очень дурной репутацией.) Можно ли сравнить Порцию с твоей или с моей матерью и моей теткой? Не знаю. Правда, в ее добродетели есть та прямолинейность, которая так вредит ее мужу и отцу, людям мрачным. Можно лишь пожалеть о суровости, которую породило отвращение к своей развратной среде; она слишком быстро обретает нравоучительность и самодовольство. Приятно вспомнить, что мой молодой друг Брут не всегда был таким твердокаменным моралистом. Некогда он вздыхал у ног Несравненной (актрисы Кифериды) и нажил богатство, выжимая соки из киприотов и каппадокийцев; я был в тот год консулом и с трудом спас его от громкого процесса о вымогательстве.
Да, эти моралисты праведны из чувства отвращения, отсюда их прямолинейность. Дай бог, чтобы это «говорящее молчание» оказывало благое влияние на прекрасного и благородного Брута. (Игра слов: по-латыни «брутус» — и, «уродливый», и «низкий».)
LX. Листовка заговорщиков
(Нижеследующая листовка, или письмо, по цепочке разошлась в тысячах экземпляров в первой половине сентября 45 года по всему полуострову. Первая из них появились в Риме 1 сентября.)
Совет двадцати — римлянам, достойным своих предков: готовьтесь свергнуть тиранию, под которой стонет наша республика. Отцы наши умирали за те свободы, которые отнял у нас один человек. Образован Совет двадцати; он дал клятву у алтарей, и знамения говорят, что дело его правое и увенчается успехом. Пусть каждый римлянин, получивший этот листок, перепишет его пять раз. Постарайтесь, соблюдая тайну, передать эти копии в руки пятерым римлянам, которых вы считаете своими единомышленниками, или тем, кого вы можете привлечь на нашу сторону; пусть они сделают также по пять копий.
Ждите следующих листовок. Со временем мы перейдем к более решительным действиям.
Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!
Совет двадцати
LX-А. Азиний Поллион — Цезарю
(Заключительная часть приведенного в документе XIV донесения Поллиона Цезарю из Неаполя от 18 сентября)
Я пересылаю военачальнику тринадцать копий листовки, полученных за последние шесть дней: три на квартиру в Позилипо и десять сюда. Военачальник заметит, что пять из них явно написаны одной рукой, хотя почерк пытались изменить. Квинт Котта получил шестнадцать листовок, Люций Мела — десять.
Подрывная работа велась в здешних местах и среди простого народа, то есть среди тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Среди них распространяли камешки и раковины, на которых написано «XX/С/Ц» (Совет двадцати. Смерть Цезарю). Мой вестовой собрал много таких. Уверяет, будто к ним относятся скорее с негодованием, чем с охотой, и поэтому стали распространять другие камешки с надписью «XX/С» (Смерть Совету двадцати). Надписи выцарапывают на мостовых, на стенах и пр.
Я не смею давать советы военачальнику, какими мерами пресечь эту деятельность. Сообщу, однако, к чему пришли при обсуждении этого вопроса Кота, Мела, Анний Турбатий и я.
1. Движение началось в Риме. В Неаполе первые листовки появились на пятнадцать дней позже.
2. Задержаны три раба, распространявшие эти письма. Их подвергли пытке. Двое заявили, что нашли листовки, адресованные нам, в общественных местах (одна старуха нашла листовку на лотке с финиками, которыми она торговала) и решили доставить по адресу в расчете на вознаграждение. Широкое распространение листовок основано на обычае делать подарки тем, кто приносит письма. Третий раб сказал, что письмо, адресованное мне, дала ему на набережной женщина, закутанная в покрывало, и заплатила за доставку.
3. Люди, затеявшие это дело, вряд ли принадлежат к группе Клодии Пульхры — она не обладает для этого ни настоящей хитростью, ни выдержкой — или к недовольным из окружения Кассия и Каски, которые ограничились бы небольшой группой заговорщиков. Желание вовлечь как можно больше участников, отсутствие откровенных призывов к насилию, а также притязания на божественную поддержку показывают, что тут замешаны люди серьезные и, скорее всего, пожилые. Мы не исключаем возможности, что к таким мерам могли прибегнуть Цицерон или Катон.
4. Трудно представить, как такая цепочка писем может побудить перейти от пассивного сопротивления к активному. Однако все мы считаем, что это движение способно нанести ущерб твердой власти, и ждем указаний о принятии мер к его подавлению.
LX-Б. Вторая листовка
(Она еще шире разошлась по всему полуострову. Первые копии появились в Риме 17 сентября.)
Второе послание Совета двадцати всем римлянам, достойным своих предков. Каждого римлянина, получившего это воззвание, просят снять с него пять копий и, соблюдая полную тайну, передать их тем гражданам, которым они вручили наше первое письмо.
Вот наши указания: начиная с 16-го числа сентября месяца каждый римлянин и его домочадцы должны по возможности делать покупки в городе, являться в суд и участвовать во всех общественных делах только по четным дням.
Кроме того, все живущие в Риме должны усердно приветствовать появление диктатора и сопровождать его во время публичных выступлений. В разговорах следует восторженно поддерживать все его мероприятия, особенно перевод столицы на восток, военный поход в Индию и восстановление царской власти.
В нашей следующей листовке мы перейдем к еще более решительным действиям.
Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!
Совет двадцати
LX-В. Заметки Корнелия Непота
(Запись сделана после смерти Цезаря.)
Осень 45 года. Главной темой разговоров были так называемые цепные письма и приезд Клеопатры. По правде говоря, эту затею с письмами многие тоже приписывали царице Египта — казалось, в ней есть какое-то восточное коварство, на которое не способен римлянин. Предписание отправлять все общественные обязанности только по четным дням вызвало живой интерес. Поначалу было замечено, что люди деятельны главным образом по нечетным дням. Но постепенно это пошло на спад, и деятельность явно переместилась на четные дни.
LXI. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину
(8-20 сентября)
(С приложением копии первой листовки заговорщиков.)
979. Кто-то изобрел новый способ подготовить народ к государственному перевороту и моему убийству.
Прилагаю копии одной из прокламаций. Они распространяются по всей Италии тысячами.
За последний год не проходило и дня, чтобы я не получал новых подробных сведений о том или ином заговоре. Мне приносят списки имен и отчеты о сборищах. Я перехватываю письма. Большинство таких сообществ невероятно беспомощно. Среди участников, как правило, находится один, кто охотно продаст остальных за деньги или расположение начальства.
К каждому новому заговору я отношусь с любопытством, но оно скоро проходит.
Прежде всего я знаю, что рано или поздно умру от руки тираноубийц. Я не захотел отягощать свою жизнь постоянной вооруженной охраной, а свой мозг вечными подозрительностью и тревогой. Я, конечно, предпочел бы пасть от кинжала патриота, но не защищен и от удара безумца или завистника. А тем временем заключая в тюрьму, разоблачая, ссылая и убеждая, я пресек те заговоры, о которых мне сообщали.
Повторяю, я следил за ними с любопытством. Ведь не исключено, что среди замышляющих мою смерть найдется человек, который прав там, где я ошибаюсь. На свете есть много людей лучше меня, но я еще не видел никого, кто мог бы лучше управлять нашим государством. Если он существует, он, наверное, замышляет мое убийство. Рим в том виде, в каком я его создал, в том виде, в каком я вынужден был его создать, не слишком привольное место для человека, обладающего даром правителя; если бы я не был Цезарем, я стал бы убийцей Цезаря. (Эта мысль до сих пор не приходила мне в голову, но я понимаю, что она верная; это одно из многих открытий, которое я делаю, когда пишу тебе.)
Но есть и более глубокая причина, почему мне хочется узнать человека, который меня убьет, хотя узнать его я смогу лишь в последнюю минуту жизни. Ибо это снова подводит меня к мысли, которая, как ты знаешь, меня все больше занимает: существует ли во вселенной или над ней Высший Разум, который за нами следит?
Меня часто называли любимцем судьбы. Если боги существуют, значит, то положение, которое я занимаю, дали мне они. Они ставят людей на положенные им места, но человек, занимающий мое, — одни из самых заметных их подначальных, так же как в своем деле Катулл, как ты, как в прошлом Помпеи. Человек, который меня убьет, быть может, прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, — ведь он избранное ими орудие. Но когда я это пишу, перо выпадает у меня из рук. Наверное, я умру от кинжала безумца. Боги скрываются от нас даже в выборе своего орудия. Все мы отданы на милость падающей с крыши черепицы. Нам остается представлять себе Юпитера срывающим с крыш черепицы, которые упадут на голову продавца лимонада или Цезаря. Судьи, приговорившие Сократа к смерти, не были орудиями богов: но были ими и орел с черепахой, убившие Эсхила. Очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток, несущий палые листья.
Я изучаю каждый новый заговор с любопытством вот еще почему: мне так хотелось бы узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна. Так редко встречаешь бескорыстную любовь; в побуждениях тех, кто меня ненавидит, я пока что видел лишь зависть, честолюбивую жажду самоутверждения или самоутешительную жажду разрушения. Но может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому, кто думает только о Риме, кто думает только о том, что я — враг Рима.
980-982. (Уже приведенные в документе VIII.)
983. (О погоде.)
984. (О все большем разрыве между литературной и разговорной латынью и об отмирании падежных окончаний и сослагательного наклонения в просторечье.)
985. (Снова о праве старшего сына на наследование имущества.)
986. (Сопроводительное письмо ко второй листовке.)
Прилагаю второе воззвание Совета двадцати. Я пока не узнал зачинщиков. Тут пахнет какой-то еще невиданной формой мятежа.
С самого детства я присматривался, как ведут себя люди с теми, кто поставлен над ними и может ущемлять их волю. Сколько почтения и преданности, скрывающих столько же ненависти и презрения! Почтение и преданность вызваны благодарностью к вышестоящему за то, что он освобождает их от ответственности за важные решения; презрение и ненависть — злобой к тому, кто ограничивает их свободу. Каждый день и каждую ночь даже самый кроткий человек хотя бы бессознательно становится убийцей тех, кто его подчиняет. В юности я был поражен, осознав, что и во сне и наяву способен мечтать о смерти своего отца, своих наставников и своих учителей, к которым я хоть и не всегда, но питал искреннюю любовь. Поэтому я с некоторым удовольствием слушал песни, которые распевали мои солдаты у походных костров; на каждые четыре, прославлявших меня как божество, всегда бывала пятая, поносившая меня за идиотизм, старческое сладострастие и немощь. Эти песни распевались громче всего, и лес звенел от счастливого предвкушения моей кончины. Я не чувствовал ни малейшей злобы, мне было чуть-чуть смешно, и я ощутил быстрое приближение старости, когда узнал, что даже Марк Антоний и Долабелла на какое-то время примкнули к заговорщикам, замышлявшим мою гибель; начальник, которого они любили, вдруг слился в их представлении со всеми начальниками, которых они ненавидели. Ведь только собака никогда не кусает своего хозяина.
В таком противоречии душевных побуждений одна из движущих сил нашей жизни, и не нам ее одобрять или порицать, ибо, как все наши главные побуждения, она приносит одновременно и зло и добро. И этим лишний раз подтверждается мое убеждение, что умом прежде всего движет желание неограниченной свободы, а это чувство неизменно сопровождается другим — паническим страхом перед последствиями такой свободы.
LXII. Заметки Катулла, обнаруженные тайной полицией Цезаря
(Поступили к диктатору 27 сентября)
(Эти беглые заметки были набросаны на оборотной стороне листов с отрывками из стихов поэта и на грифельных досках. И там и тут они были небрежно стерты.)
…Был образован Совет десяти…
…Этот Совет двадцати принес клятву у алтарей…
…Начиная с 12-го будущего месяца сентября…
…По нечетным дням месяца воздержаться от всех…
…Неуклонное присутствие при всех публичных появлениях диктатора… выражение безудержной лести…
LXII-А. Цезарь — Катуллу
(27 сентября)
До меня дошло, что кое-кто из ваших друзей затеял выпуск серии документов, имеющих целью свергнуть правительство данной республики.
Я считаю эти попытки скорее мальчишеским заблуждением, чем преступным умыслом. Ваши друзья должны были заметить те меры, которые я уже принял, чтобы обезвредить их и выставить на всеобщее посмешище. Однако на меня оказывают давление, чтобы я публично наказал виновных.
Мне трудно поверить, что вы принимали участие в такой наивной попытке вершить общественные дела; но есть доказательства, что вы, во всяком случае, были о ней осведомлены.
Во имя моей долголетней дружбы с вашим отцом я хочу проявить снисхождение к этим заблуждающимся молодым людям. Я отдаю их судьбу в ваши руки. Если вы заверите меня, что их участию в распространении подметных писем будет положен конец, я сочту инцидент исчерпанным.
Я не желаю ничего слышать в защиту их действий. Одного вашего заверения будет достаточно. Вы сможете его дать послезавтра, когда, как мне сказали, мы встретимся на обеде у Публия Клодия и госпожи Клодии Пульхры.
LXII-Б. Катулл — Цезарю
(28 сентября)
Письма, о которых вы говорите, задумал я один, и первые копии разослал также я один. Никакого Совета двадцати не существует.
Разумеется, диктатору мог показаться наивным способ, которым я хотел напомнить римлянам о все большем сужении их свобод. Его власть безгранична, так же как и его ревнивое отношение к любой свободе, кроме своей собственной, Его власть разрешает ему даже рыться в личных бумагах граждан.
Я прекратил сочинять письма, так как они потеряли всякий смысл.
LXII-В. Третья листовка заговорщиков
(написанная Юлием Цезарем)
(Говоря, будто листовки «потеряли всякий смысл», Катулл подозревает, что страну наводнили письма, написанные в подражание его собственным. Граждане растерялись и все меньше испытывали к ним интерес, поэтому заговор быстро сошел на нет. Третья листовка, появившаяся через несколько дней после второй, имела самое широкое хождение в народе.)
Совет двадцати посылает вам, римлянам, достойным своих предков, третье сообщение.
Совет двадцати считает, что его письма получили достаточно широкое распространение. В сотнях тысяч людей пробудилась патриотическая ненависть к угнетателю и ненасытная жажда его смерти.
А пока что надлежит подготовить народ к этому радостному событию. Поэтому не теряйте ни единой возможности высмеять так называемые достижения тирана.
Умаляйте его завоевания. Помните, что земли были отвоеваны полководцами, служившими под его началом, заслуги которых он отрицает. Его зовут непобедимым, но всем известны его дорого стоившие поражения, которые он скрывал от римского народа. Распространяйте рассказы о его трусости перед лицом врага.
Вспомните гражданскую воину, вспомните Помпея. Напоминайте народу о великолепии его зрелищ.
Раздача земель: распространяйтесь о том, как несправедливо поступили с крупными землевладельцами. Намекайте, что ветераны получили только каменистые или заболоченные земли.
Совет двадцати составил подробные планы сохранения общественного порядка и управления финансами. Все слабоумные эдикты диктатора: законы против роскоши, реформа календаря, новые денежные знаки, система раздачи зерна, бессмысленная растрата общественных средств на обводнение земель и контроль за водными путями — будут тут же отменены. Благосостояние и достаток воцарятся вновь.
Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!
Совет двадцати
LXIII. Кай Кассий из Палестрины — своей теще Сервилии в Рим
(3 ноября)
(В этом письме между строк говорится о возможности покушения на Цезаря и о способах вынудить Брута примкнуть к заговору.)
Общество желающих воздать почести нашему другу растет с каждым днем. Имен многих мы даже не знаем. Наши попытки выяснить имена тех, кто воздал ему почести в прошлом месяце (тех, кто напал на Цезаря 27 сентября), оказались тщетными.
Подобрать подходящий случай нелегко — ведь почести должны быть неожиданными для чествуемого и в то же время произвести сильное и по мере возможности приятное впечатление на окружающих. Был план осуществить это в конце приема, устроенного царицей Египта. Однако наш почтенный гость таинственно исчез с празднества; есть предположение, что его предупредили о готовящихся овациях.
Я все больше склоняюсь к тому, что это радостное событие следует отложить, пока хотя бы еще один из ближайших соратников нашего друга тоже не пожелает воздать ему эти почести. Мы глубоко благодарны вам за ваши старания.
Тот, кого я имею в виду, избегает моего общества и даже прислал извинения, что не сможет принять меня у себя.
Вы убедили нас, досточтимая госпожа, в необходимости спешить. Мы также опасаемся, что другие смогут нас опередить в этом похвальном начинании, и это приведет к самым пагубным результатам. Надеюсь посетить вас, когда в следующий раз приеду в город.
Желаю многих лет жизни и здравия диктатору.
LXIV. Порция, жена Марка Юния Брута, — своей тетке и свекрови Сервилии
(26 ноября)
При всем моем уважении к вам я вынуждена настойчиво просить вас больше не бывать в нашем доме. Мой муж не утаил от меня, с какой неохотой он вас принимает и какое облегчение испытывает при вашем отъезде. Вы должны были заметить, что он никогда не посещает вашего дома, из чего можно заключить, что вас он принимает у себя только из сыновнего долга. Его раздраженное состояние и беспокойный сон после вашего ухода вынуждают меня писать это письмо. Мне бы следовало сделать это раньше, ибо я считаю неприличным, чтобы меня, его жену, высылали из комнаты всякий раз, когда вы беседуете.
Вы знаете меня уже много лет. Вы знаете, что я не сварлива и прежде не раз выражала вам свою признательность. Но ведь и мои близкие были вынуждены прибегнуть к такой же мере, отчего мне, правда, не легче. (То есть ее золовки, жены Кассия и Лентула, по-видимому, тоже закрыли перед своей матерью двери.)
Муж не знает о том, что я вам пишу. Однако я не возражаю, чтобы он об этом узнал, если вы найдете нужным ему сообщить.
Благодарю за сочувствие по поводу моей тяжкой утраты (выкидыша). Меня бы больше тронули ваши заверения в любви, если бы вы считали меня членом семьи, который вправе участвовать в ваших жарких спорах с моим мужем.
LXIV-А. Надпись
(Нижеследующие слова были начертаны на золотой табличке, вделанной наряду с другими памятными таблицами в стену за домашними алтарями рода Порциев и Юниев, где они и оставались вплоть до разрушения Рима.)
Порция, дочь Марка Порция Катона Утического, будучи замужем за Марком Юнием Брутом, тираноубийцей, знала, что муж скрывает от нее свои замыслы освобождения римского парода. Как-то ночью она глубоко вонзила кинжал себе в бедро. Долгие часы она не издавала ни стона, несмотря на терзавшую ее боль. Утром, показав рану мужу, она сказала: «Если я могла молчать, терпя такую боль, неужели ты не веришь, что я умолчу о том, чем захочет поделиться со мной мой повелитель?» Тогда муж со слезами обнял ее и рассказал все, что таил в своем сердце.
LXV. Госпожа Юлия Марция из дома диктатора в Риме — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(20 декабря)
Мы пережили такое тяжелое время, дорогой мальчик. Ты меня прости, но я не буду во все это вдаваться. Ужасное происшествие (осквернение Таинств Доброй Богини) нас всех просто убило.
Мы стараемся как можно реже выходить из дому и, словно призраки, бродим, вглядываясь друг в друга. Мы все ждем какой-то кары — я чуть было не сказала: мы жаждем этой кары. Хотя, в сущности, мы уже наказаны. Даже празднества в честь Сатурна, сам понимаешь, прошли в Риме невесело (Сатурналии начались 17 декабря), а мой управляющий пишет, что и наши горные деревушки окутаны мраком. Я особенно огорчаюсь за детей и рабов — для них это время года всегда было самым счастливым.
Последние новости тревожат меня не меньше, чем сам скандал. Подлую пару оправдали. Судьи, несомненно, подкуплены — Клодий заплатил им громадные деньги. Что тут скажешь? Нам приходится жить в городе, где деньги сильнее общественного мнения. Мне рассказывали, что возле домов судей целый день толпится народ и плюет на стены и двери. Утром я перемолвилась несколькими словами с Цицероном. Он вне себя от отчаяния. Речь его на процессе была лучшей из всех, какие он когда-либо произносил. Я ему это сказала, но он только махнул рукой, и по щекам его покатились слезы.
Отказ племянника выступить обвинителем мне понятен, хотя я глубоко об этом сожалею. Если у него не хватило духа сделать это как ее мужу, он был обязан выступить как верховный понтифик. Тут есть одна подробность, которую я должна тебе сообщить, но под большим секретом. Племянник знал заранее, что этот ужасный человек явится на Таинства. Он мог приказать схватить его у входа, но пожелал, чтобы все дело само вышло наружу, как это и произошло.
До чего мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций. Он сам не свой. Он меня попросил, чтобы я пока побыла с ним. По моему настоянию мы остались жить в общественном здании. (Верховный понтифик обычно жил в общественном здании на Священной дороге, которое предоставлялось ему государством. Цезарь в связи с тем, что в скандале была замешана его жена, предпочел бы переселиться в свой дом на Палатинском холме.) Он еще больше погрузился в работу. Теперь мы уже почти наверняка вступим в войну с парфянами. Коринфский перешеек будет перерезан каналом. Марсово поле перенесено в другой район, к подножию Ватиканского холма, а на месте теперешнего поля будет большой жилой район. Откроют библиотеки для народа, целых шесть, в разных концах города. Вот темы наших застольных бесед, но мысли его заняты другим. Ах, если бы с ним был друг, перед которым он мог бы излить душу. Он больше не приглашает своих всегдашних сотрапезников. Время от времени у нас бывает Децим Брут и другой Брут, но вечера проходят невесело. Наш друг умеет проявлять дружбу только к тем, кто сам относится к нему с приязнью. Как говаривал мой муж о таких людях: «Смельчак в любви всегда робок в дружбе».
Хочу поделиться с тобой еще одним секретом. Первое предостережение о наглом святотатстве, замышляемом Клодием, пришло к нам, как бы ты думал от кого? — от египетской царицы. В городе упорно говорят, будто племянник на ней женится. Тогда было бы понятно, что ее побудило разоблачить чудовищный заговор. Однако могу тебя заверить, что в подобных слухах нет ни капли правды. Что-то между ней и нашим другом произошло; не знаю, что именно. Думаю, отчасти из-за этого разлада он так и угнетен, да и она страдает, я знаю. Люди считают, что мы, пожилые женщины, тонко разбираемся в любовных интригах. А вот я — нет. Могу сказать одно: какая-то дурацкая помеха испортила в высшей степени приятные отношения. Бросилось мне в глаза и то, что мой внучатый племянник (Марк Антоний) совершил поездку на восточное побережье.
Глупо, что Цезарь живет один. Мы с ним об этом говорили. Пора смазливых девушек миновала. Кто мог бы стать ему более подходящей женой, чем наша милая Кальпурния, которую все мы так давно знаем? Она вела себя сдержанно и с достоинством при многих весьма сложных обстоятельствах. По-моему, ты скоро услышишь, что она переехала в этот дом после весьма скромной церемонии бракосочетания.
Лают собаки. Он вернулся. Я слышу — он здоровается с домашними. Только тот, кто сильно его любит, почувствует, как притворен его веселый тон. Я не перестаю себе удивляться: за свою долгую жизнь я многих любила и потеряла, но никогда еще я не чувствовала себя такой бессильной помочь чужому горю. Я даже не знаю его причин, вернее, главной из многих возможных.
На следующий день.
Пишу второпях, дорогой Луций. С кем же мне поделиться, как не с тобой?
Странные творятся дела. Даже он не смог удержаться и рассказал мне с деланной небрежностью о множестве заговоров, которые то и дело открывают, — о попытках произвести государственный переворот и убить его. Он свертывал и развертывал какие-то бумаги. «В прошлом году это был Марк Антоний, — сказал он. — А теперь, кажется, об этом подумывает и Юлий Брут». Я с ужасом отшатнулась. Он наклонился ко мне и сказал со странной улыбкой: «Никак не дождется, чтобы упокоились эти старые кости».
Как мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций!
LXVI. Клеопатра — госпоже Юлии Марции на ее имение в Альбанских холмах
(13 января)
Меня очень обрадовало, что вы совсем оправились от вашего недомогания. Надеюсь, мои ежедневные посланцы не слишком обременяли тех, кто за вами ухаживал.
Я ожидала вашего выздоровления для того, чтобы задать вам неотложный вопрос. Я со всех сторон окружена врагами, однако мне все же повезло: вы не только единственный человек, к кому я могу обратиться, но и лучше, чем кто бы то ни был, можете дать мне совет.
Милостивая государыня, я приехала в Рим в интересах той великой страны, которой я правлю. Я приехала как чужестранка, не знающая обычаев римлян и рискующая совершить ошибки, пагубные для моих целей. Желая от этого уберечься, я учредила сеть наблюдателей, которые осведомляют меня о том, что происходит в столице. Я никогда не пользовалась полученными сведениями во вред законнейшим интересам римских граждан; в ряде случаев я имела возможность оказать услуги общественному порядку.
Благодаря упорству и счастливому случаю я имею возможность пристально следить за кознями лиц, замышляющих совершить переворот и убить диктатора. Это не первые заговорщики, на которых обращали мое внимание, но наиболее решительные. Вряд ли стоит перечислять в этом письме их имена.
Милостивая государыня, самой мне трудно в настоящее время оповестить диктатора. Во-первых, ему может быть неприятно, что женщина, и к тому же иностранка, во второй раз сообщает ему о вещах, столь близко его касающихся. Во-вторых, обидное недоразумение лишило меня его доверия. Утешает меня лишь то, что он знает, как тверда и непоколебима я в своем желании видеть его на том высоком посту, который он занимает в Римской республике.
Группа заговорщиков, о которых я вам пишу, замышляла убить диктатора в полночь, 6 января, когда он возвращался с выборов членов городской управы. Они собирались устроить ему засаду у моста через речушку возле храма Тебетты и под этим мостом. В тот раз я разослала анонимные письма четырем из заговорщиков и сообщила им, что Цезарь знает об их намерениях. Теперь они собираются напасть на него, когда он 28 января будет возвращаться с игр. Вы понимаете, что было бы неосторожно снова писать заговорщикам, к тому же я обещала моему осведомителю, который входит в их число, что я этого не сделаю.
Я настоятельно прошу, высокочтимая госпожа, поскорее дать мне совет, что делать. Проще всего, как я полагаю, было бы сообщить эти сведения начальнику тайной полиции диктатора. Однако этого я сделать не могу. Я слишком хорошо знаю, как беспомощна эта организация. Она представляет диктатору доклады, где неверные данные прикрывают нерадивость, а личные пристрастия выдаются за факты, где утаиваются важные сведения и раздувается всякая ерунда.
Прошу вашего ответа.
LXVI-А. Госпожа Юлия Марция — Клеопатре
(С тем же посланным)
Благодарю вас, великая царица, за ваши письма, а также за многочисленные знаки внимания во время моей болезни.
По поводу последнего письма: мой племянник осведомлен в общих чертах о тех лицах, о которых вы пишете. Речь идет об одной и той же организации, имена ее участников ему известны. Я сужу об этом по тому, что он говорил со мной о засаде у моста. Я не сомневаюсь, однако, что вы располагаете более подробными сведениями, а это чрезвычайно важно. Меня глубоко тревожит, великая царица, что мой племянник не подавляет подобных заговоров с той энергией и бдительностью, какие он проявляет, когда опасность грозит государству.
Я позабочусь о том, чтобы он узнал о покушении, назначенном на 28-е число. И, выбрав подходящую минуту, сообщу ему, что этим предостережением мы обязаны вам.
Время, в которое мы живем, повергает нас в такую растерянность и горе, что счастливые часы, проведенные с вами, кажутся мне канувшими в далекое прошлое. Да вернут поскорее бессмертные боги Риму хоть немного покоя и да отвратят от нас свой праведный гнев.
LXVII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Записи, видимо, сделаны в январе и феврале)
1017. (Соображения за и против постройки канала через Коринфский перешеек.)
1018. (О растущем спросе на римские предметы роскоши в Галлии.)
1019. (Просьба прислать книги для новых публичных библиотек.)
1020. Ты как-то раз со смехом спросил меня, снилось ли мне когда-нибудь «ничто». Я ответил, что да. Но мне оно снилось и потом.
Быть может, это вызвано неловким положением тела спящего, несварением желудка или другим внутренним расстройством, однако ужас, который ты испытываешь при этом, невыразим. Когда-то я думал, что «ничто» видишь в образе смерти с оскаленным черепом, но это не так. В этот миг ты словно предвидишь конец всего сущего. «Ничто» представляется не в виде пустоты или покоя — это открывшийся нам лик вселенского зла. В нем и смех и угроза. Оно превращает в посмешище наши утехи и в прах наши стремления. Этот сон прямо противоположен тому, другому видению, которое посещает меня во время припадков моей болезни. Тогда, мне кажется, я постигаю прекрасную гармонию мира. Меня наполняет невыразимое счастье и уверенность в своих силах. Мне хочется крикнуть всем живым и всем мертвым, что нет такого места в мире, где не царит блаженство.
(Запись продолжается по-гречески.)
Оба эти состояния порождены телесными парами, но рассудок говорит и в том и в другом случае: отныне я знаю. От них нельзя отмахнуться, как от миража. Обоим наша память подыскивает множество светлых и горестных подтверждений. Мы не можем отрицать реальность одного, не отрицая реальности другого, да я и не стану пытаться, как деревенский миротворец, улаживающий ссору двух противников, приписывать каждому свою убогую долю правоты.
В эти последние недели я, однако, не во снах, а наяву видел тщету и крушение всего, во что верил. Или даже хуже: мои мертвецы с издевкой взывают ко мне из-под погребальных одежд, а еще не рожденные поколения молят, чтобы я избавил их от шутовского хоровода земной жизни. Но даже в своей безмерной горечи я не могу отвергнуть воспоминаний о былом блаженстве.
Жизнь, жизнь наша обладает тем таинственным свойством, что мы не смеем сказать о ней своего последнего слова, не смеем сказать, хороша она или дурна, бессмысленна или упорядочена свыше. Но мы все это о ней говорим, тем самым доказывая, что все это живет в нас самих. Та «жизнь», по которой мы идем, бесцветна и не шлет нам знамений. Как ты когда-то сказал, вселенная и не подозревает, что мы существуем.
Поэтому дай-ка я откажусь от детской мысли, что одна из моих обязанностей — разгадать наконец, в чем сущность жизни. Дай-ка я поборю всякое поползновение говорить о ней, что она жестока или добра, ибо одинаково низко, попав в беду, обвинять жизнь в мерзости и, будучи счастливым, объявлять ее прекрасной. Пусть меня не дурачат благополучие и неудачи; дай мне радоваться всему, что со мной было и что напоминает о тех бессчетных проклятиях и криках восторга, которые исторгали люди во все времена.
От кого же, как не от тебя, мог я этому научиться? Кто с таким постоянством решается сопоставлять крайности, кто, кроме Софокла, считавшегося на протяжении девяноста лет своей жизни счастливейшим человеком в Греции, хотя ни одна темная сторона жизни не была от него скрыта?
Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Она не поддерживает человека и не унижает его. Мы не можем избежать ни душевных мук, ни радости, но сами по себе эти состояния нам ничего не говорят; и наш ад, и наш рай дожидаются того, чтобы мы вложили в них свой смысл, так же как все живые твари смиренно ожидали, чтобы Девкалион и Пирра дали им имена. Эта мысль позволяет мне наконец собрать вокруг себя благословенные тени прошлого — тех, кого до сей поры я считал лишь жертвами жизненной неразберихи. Я осмеливаюсь просить, чтобы от моей доброй Кальпурнии родилось дитя, которое скажет: в бессмыслицу я вложу смысл и в пустыне непознаваемого буду познан.
Рим, служению которому я отдал жизнь, — только понятие, лишь нагромождение построек более или менее монументальных, скопище граждан более или менее работящих, чем в других городах. Наводнение или безрассудство, огонь или безумство могут в любую минуту его разрушить. Я думал, что связан с ним кровно и воспитанием, но такая привязанность значит не больше, чем борода, которую я сбриваю по утрам. Сенат и консулы призывали меня защитить его, но Верцингеториг также защищал Галлию. Нет, Рим стал для меня городом только тогда, когда я вознамерился, как и многие до меня, придать ему свой смысл, и для меня Рим может существовать лишь постольку, поскольку я вылепил его по своему замыслу. Теперь я понимаю, что многие годы хранил детскую веру, будто люблю Рим, и что мой долг любить Рим, ибо я — римлянин, словно человек может любить нагромождение камней и толпу мужчин и женщин и еще быть достойным за это уважения. Мы не испытываем привязанности к чему бы то ни было, пока не придали этому смысл, и не уверены, что это за смысл, пока самоотверженно не потрудились над тем, чтоб вложить его в объект нашей привязанности.
1021. (О восстановлении разрушенного Карфагена и постройке мола в Тунисском заливе.)
1022. Сегодня мне сказали, что меня дожидается какая-то женщина. Она вошла ко мне в приемную, закутанная вуалью, и только когда я отпустил секретарей, она открыла свое лицо, и я увидел, что это Клодия Пульхра.
Она пришла предупредить меня о заговоре против меня и заверить, что ни она, ни ее брат в нем не участвуют. Потом она стала называть мне имена подстрекателей и дни, на которые назначены покушения.
Клянусь бессмертными богами, эти заговорщики забыли, что я любимец женщин. Дня не проходит, чтобы эти прекрасные осведомительницы не оказывали мне помощи.
Я чуть было не сказал своей гостье, что мне все это уже известно, но прикусил язык. Я мысленно представил себе ее старухой у очага, вспоминающей, как она спасла страну от гибели.
Она сообщила мне только одно новое обстоятельство: эти люди задумали убить и Марка Антония. Если это правда, они еще бездарнее, чем я предполагал.
Надо бы напугать этих тираноубийц, но я медлю: никак не могу решить, что с ними делать. До сих пор я всегда дожидался, чтобы смута дозрела: народ учит само деяние, а не та кара, которую за него налагают. Не знаю, что делать.
Друзья наши выбрали неудачное время для покушения на мою жизнь. Город постепенно наполняется моими ветеранами. (Снова набирались войска для войны с парфянами.) Они ходят за мной по улицам, выкрикивая приветствия. Сложив возле рта руки трубкой, они радостно перечисляют названия выигранных нами битв, словно это были веселые состязания в беге. А ведь я подвергал их всяческим опасностям и нещадно муштровал.
Заговорщиков же я подавлял только добротой. Большинство из них я уже раз простил. Они приползли ко мне из-под складок тоги Помпея и целовали мне руки в благодарность за дарованную жизнь. Но благодарность скисает в желудке мелкого человека, и ему не терпится ее выблевать. Клянусь адом, не знаю, что с ними делать, да и в общем-то мне все равно. Они благоговейно взирают на Гармодия и Аристогитона («классические» тираноубийцы Древней Греции), но я зря отнимаю у тебя время.
LXVIII. Надписи в общественных местах
(Таблички были прикреплены к статуе Юния Брута-старшего.)
О, будь ты с нами, Брут!
О, будь ты жив, Брут!
(А эти таблички нашли на курульном кресле Брута.)
Брут! Ты спишь?
Ты не Брут!
LXVIII-А. Заметки Корнелия Непота
(Начиная с декабря Непот зашифровывал свои заметки, даже относящиеся к древней римской истории.)
Пятн. Пришел очень взволнованный. Говорит, будто его подговаривал Голенастый (Требоний? Децим Брут?). Не мог указать ему на безумие этой затеи. Ограничился тем, что дал ему хорошую взбучку и высмеял заговор. Указал ему, что среди подстрекателей нет ни одного, кто бы был неизвестен моей жене и ее друзьям; что всякий заговор, в котором ищут его участия, неизбежно провалится, ибо все знают, что он не умеет держать язык за зубами; что раз он пришел ко мне, значит, он нетвердо верит в задачи восстания и поэтому не должен принимать в нем участие; что ему нечего дать заговорщикам, кроме своего богатства, а заговор, требующий денег, заранее обречен на провал, ибо соблюдение тайны, отвагу и верность не купишь за деньги; что, если этот заговор удастся, он в пять дней потеряет все свое состояние; что Цезарь почти несомненно знает все в мельчайших подробностях и в любую минуту может вытащить бунтарей из их домов и запереть в пещеры под Авентинским холмом; что великий человек, которого они хотят убрать, даже не удостоит их казни, а сошлет на берега Черного моря, где они будут бессонными ночами вспоминать полуденную толчею на Аппиевой дороге, запах жареных каштанов на ступенях Капитолия и взгляд человека, которого они собирались убить, когда он поднимался на трибуну и обращался с речью к хранителям Рима.
Город затаил дыхание. 17-е число (февраля) прошло спокойно.
Каждое общественное событие сейчас толкуется только с одной точки зрения. Народ снова пристально следит за ежедневными знамениями. Цицерон вернулся в город. Видели, как он грубо разговаривал с Голенастым, а мимо Кузнеца прошел не поздоровавшись.
С тех пор как Цезарь снова женился, царица Египта вдруг стала очень популярной. В общественных местах ей вывешивают оды. Было сообщено о ее отъезде, но к ее дому ходят депутации граждан и просят продлить свое пребывание.
Волна слухов стала спадать. Новый вожак и более жесткая дисциплина? Приток в город ветеранов?
LXIX. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
1023. Клянусь бессмертными богами, я злюсь, и эта злость меня даже радует.
Пока я командовал римскими армиями, мне никогда не бросали обвинения в том, что я враг свободы, хотя, клянусь Геркулесом, я так ограничивал свободу солдат, что они не могли и на милю отойти от своих палаток. Они поднимались по утрам, когда я им приказывал, ложились спать по моей указке, и никто не роптал. Слово «свобода» на языке у всех, хотя в том смысле, в каком я его употребляю, никто никогда не был свободен и никогда не будет.
В глазах моих врагов сам я вкушаю свободы, украденные у других. Я тиран, меня сравнивают с восточными самодержцами и сатрапами. Они не могут сказать, что я кого-нибудь ограбил, отнял деньги, землю или работу. Я отнял у них свободу. Я не отнимал у них право голоса или мнения. Я не восточный деспот, поэтому я не скрывал от народа того, что он должен знать, и я ему не лгал. Римские остряки уверяют, будто народ устал от сведений, которыми я наводняю страну. Цицерон обзывает меня «школьным учителем», но и он не обвиняет меня в том, что я неверно преподаю свой предмет. Римляне не рабы невежества и не страдают от тирании обмана. Я отнял у них их свободу.
Но свобода существует только как ответственность за то, что делаешь. И я не мог ее у них отнять, потому что ею они не обладают. Я предлагаю им все, чтобы ее обрести, но, как выяснили еще мои предшественники, они не знают, что она такое. Меня радует, что галльские гарнизоны вынесли нелегкое бремя свободы, которое я на них возложил. А вот в Риме царит растление. Римляне научились мастерски отыскивать любые лазейки, чтобы уклоняться от ответственности и ничего не платить за политические свободы. Они стали паразитировать на свободе, которой я так охотно пользуюсь — свобода принимать решения и придерживаться их — и которую я хотел бы разделить со всяким, кто взвалит на себя ее бремя. Я приглядывался к моим преторам (Кассию и Бруту). Они выполняют свои обязанности с чиновным прилежанием; они бурчат «свобода, свобода», но ни разу не заглянули в завтрашний день и не подняли голоса в пользу процветания Рима. Наоборот, они выдвинули кучу предложений, которые могут только подкрепить их мелочное самолюбие и ослабить величие страны. Кассий желает, чтобы я заткнул рот энтузиастам, которые изо дня в день публично поносят меня и наши эдикты. Брут желает сохранить чистоту нашей римской крови, ограничив права на гражданство. Клянусь погружением созвездия Диоскуров в волны морские, даже его африканский привратник лучше разбирается в этом вопросе. Ведь это же отказ от свободы, потому что мы ощущаем, что свободны, только совершая прыжок в неизведанное. А тех, кто отказывается от своей свободы, неизменно пожирает зависть; у них желтушный глаз, который не успокоится, пока не припишет низменных мотивов людям, привыкшим самим создавать свою свободу, а не брать ее из чужих рук.
Но я напоминаю себе, что разум свободен, и гнев мой проходит. Разум легко утомляется и легко поддается страху; но нет числа тем представлениям, которые он порождает, а мы неумело стремимся их осуществить. Я часто слышал, как люди говорят, будто есть предел, дальше которого нельзя добежать или доплыть, выше которого нельзя возвести башню или глубже вырыть яму, однако я никогда не слышал, что есть предел для мудрости. Путь открыт для поэтов лучших, чем Гомер, и для правителей лучших, чем Цезарь. Нет мыслимых границ для преступления и для безумства. Это меня тоже радует и кажется мне необъяснимым чудом. Это же не дает мне сделать окончательные выводы относительно нашего человеческого существования. Там, где есть непознаваемое, есть надежда.
LXX. Цезарь — Бруту. Памятная записка
(7 марта)
(Рукой секретаря.)
Намечены следующие даты.
Я уеду 17-го (на Парфянскую войну). Вернусь в Рим, если понадобится, на три дня, 22-го, чтобы выступить в сенате об избирательной реформе.
Размещение по квартирам: цифры (число рекрутов и ветеранов, вступающих в армию) превысили мои ожидания. Восьми храмов (переданных квартирмейстерам в дополнение к имеющимся казармам) будет недостаточно. Завтра мы переезжаем из общественного здания на Палатин. В общественном здании можно разместить не менее двухсот человек.
(Цезарь продолжает письмо своей рукой.)
Кальпурния и я надеемся, что вы с Порцией придете 15-го числа к нам на обед по случаю моего отъезда. Мы приглашаем также Цицерона, обоих Марков (Антония и Лепида), Кассия, Децима, Требония — с женами, у кого они есть. Царица Египта присоединится к нам после обеда.
Твое общество и общество Порции так мне приятны, что я предпочел бы провести это время только с вами двоими. Но поскольку там будут и другие, я, памятуя о нашей долголетней дружбе и о том, что ты неизменно предлагаешь мне свои услуги, разрешаю себе воспользоваться случаем и дать тебе одно поручение.
Мне будет тяжело расстаться с моей дорогой женой, тяжело будет и ей. На короткое время я встречусь с ней осенью в Далмации или — негласно — на Капри. Пока же меня бы очень утешило, если бы вы с Порцией взяли ее под свою опеку. С Порцией ее связывает близкая дружба с детства; к тебе она питает заслуженное уважение, зная твой характер и верность мне. Нет другого дома, где она могла бы часто бывать с большей для себя пользой и куда я стал бы чаще обращать свои мысли.
LXX-А. Брут — Цезарю
(8 марта)
(Черновик неоконченного письма, которое так и не было отослано.)
Я учел пожелания, о которых вы мне сообщили.
К сожалению, вынужден сказать, что не смогу быть вашим гостем 15-го. Я все больше и больше стараюсь посвящать занятиям немногие часы на исходе дня, которые у меня остаются свободными.
Во время вашего отсутствия я, конечно, сделаю все возможное, чтобы быть полезным Кальпурнии Пизон. Однако было бы хорошо, если бы вы поручили заботу о ней не мне, а другим, более светским людям, меньше занятым общественными делами.
В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Я этому рад, потому что теперь мне ясно, что вы понимаете верность так же, как я. Вы ведь не забыли, что я поднял против вас оружие, получил ваше прощение и часто выражал мнения, противоположные вашим? Отсюда я могу заключить, что вы признаете верными тех, кто прежде всего верен себе, и понимаете, что та и другая верность порой могут столкнуться друг с другом.
В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Ваши слова…
С огорчением должен сообщить вам, что болезнь моей жены помешает нам… перед вашим отъездом как-то выразить благодарность, которую я к вам питаю. Долг мой вам неоплатен. С раннего детства я получал…
Я учел ваши распоряжения.
Неблагодарность — самое низкое из всех помыслов и дея…
(Следующие фразы написаны на архаической латыни. По-видимому, текст присяги, даваемой в суде.)
«О Юпитер, невидимый и всевидящий, ты, кто читаешь в людских сердцах, будь свидетелем, что слова мои — правда, и если я погрешу против истины, пусть…»
Три ярда шерсти средней плотности, отделанной по коринфскому обычаю; одно стило, тонко отточенное; три широких фитиля для светильника.
Жена моя и я, конечно, с удовольствием… что такой могучий дуб… не забывая, на ком в последний раз остановился взор этих могучих глаз… не без удивления… и незабвенный вовеки.
LXX-Б. Брут — Цезарю
(Отправленное письмо)
Я учел пожелания, о которых вы мне сообщили.
Порция и я с удовольствием посетим вас 15-го.
Будьте уверены, великий Цезарь, мы сердечно любим Кальпурнию — как саму по себе, так и потому, что любите ее вы, и будем счастливы, если она сочтет наш дом родным.
LXXI. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
1023. Я был нерадив в своей переписке с тобой. Дни были заняты подготовкой к отъезду.
Мне не терпится скорее уехать. Мое отсутствие будет ценным подарком Риму, который измучен, как и я, беспрерывными слухами о мятеже. Ну разве не ирония судьбы, что в мое отсутствие эти люди не смогут свергнуть правительство и что, когда я переплыву Каспийское море, им, хочешь или не хочешь, придется вернуться к повседневным делам?
В их числе, оказывается, около пятидесяти сенаторов, причем многие из них занимают самые высокие должности. Я отнесся к этому обстоятельству с должным вниманием, но остался непоколебим.
Афиняне вынесли порицание Периклу, Аристида и Фемистокла они отправили в изгнание.
Пока что я соблюдаю разумные предосторожности и продолжаю делать свое дело.
Мой сын (то есть его племянник Октавиан, официально усыновленный в завещании, написанном в сентябре, но еще не обнародованном) вскоре после моего отъезда возвращается в Рим. Это превосходный молодой человек. Меня особенно радует, что он написал мне о своем большом расположении к Кальпурнии. Я ей сказал, что он будет заботиться о ней, как старший брат, нет, скорее даже дядя.
Октавиан прожил молодость за один год и теперь уже больше похож на человека пожилого. Письма его не менее нравоучительны, чем переписка Телемаха («Образцовый письмовник», изучавшийся в школах).
Великая царица Египта возвращается на родину, узнав о нас больше, чем многие, прожившие здесь всю жизнь. На что она употребит эти знания, на что она нацелит свою поразительную натуру, трудно предсказать. Между людьми и животными лежит пропасть; но я всегда полагал, что она не так велика, как принято думать. Клеопатра обладает наиболее редкостными достоинствами животного и наиболее редкостными достоинствами человека, но свойство, отличающее нас от самого быстрого коня, самого гордого льва и самой хитрой змеи, ей не присуще: она не знает, что делать с тем, что у нее есть. Она слишком умна, чтобы тешиться тщеславием, слишком сильна, чтобы насытиться властью, слишком значительна, чтобы быть просто женой. В одном только ее величие проявляет себя с полнейшей естественностью, и тут я совершил по отношению к ней величайшую несправедливость. Я должен был позволить ей привезти сюда детей. Она еще сама до конца не сознает в себе того, что во всех странах благоговейно почитается превыше всего: она божественна как мать. Отсюда те ее поразительные черты, которых я так долго но мог объяснить: отсутствие всякой злобности и того суетливого беспокойства, которое нас всегда утомляет в красивых женщинах.
Будущей осенью я привезу к тебе мою бесценную Кальпурнию.
LXXII. Кальпурния — своей сестре Луции
(15 марта)
С каждым днем я все больше дорожу временем, остающимся до его отъезда. Мне стыдно, что я до сих пор недостаточно ясно понимала, сколько мужества требуется жене воина.
Вчера мы обедали с Лепидом и Секстилией. Был там и Цицерон, все очень веселились. Вечером муж сказал, что никогда не чувствовал такого расположения к Цицерону и его к себе, хотя весь обед они поддевали друг друга так колко, что Лепид не знал, куда глаза девать. Муж изобразил восстание Катилины так, словно это был бунт мышей против сердитого кота по кличке Цицерон. Он встал из-за стола и забегал по комнате, обнюхивая все углы. Секстилия так хохотала, что у нее закололо в боку. Что ни день я открываю в своем муже все новые черты.
Мы ушли рано, до темноты. Муж спросил, не разрешу ли я ему показать мне его любимые места. Я, как ты понимаешь, не очень хотела бродить с ним по темным улицам, но уже научилась его не остерегать. Я вижу, что он прекрасно знает о грозящей опасности и сознательно предпочитает рисковать. Он шел рядом с моими носилками в сопровождении нескольких стражников. Я обратила его внимание на громадного эфиопа, который, казалось, нас преследует. Муж объяснил, что когда-то пообещал царице Египта терпеть присутствие этого провожатого, с тех пор он то таинственно появляется, то исчезает, а иной раз целую ночь простаивает перед нашим домом и по три дня кряду повсюду следует за мужем. Вид у него, правда, устрашающий, но муж, кажется, очень к нему привязан и то и дело с ним заговаривает.
Поднялся резкий ветер, обещая близкую бурю. Мы спустились с холма на Форум, останавливаясь то там, то тут, а он вспоминал разные исторические события и эпизоды из своей жизни. Как он дотрагивается до того, что любит, и как заглядывает мне в глаза, проверяя, делю ли я с ним его воспоминания! Мы заходили в узкие темные улочки, и он погладил стену дома, где в молодости прожил десять лет. Потом мы постояли у подножия Капитолия. Даже когда разразилась буря и прохожие понеслись мимо нас, как сорванные листья, он и тогда не захотел ускорить шаг. Он заставил меня напиться из источника Реи (считали, что это помогает деторождению). Отчего же я, счастливейшая из женщин, полна таких зловещих предчувствий?
Наша прогулка была неразумной. Оба мы провели беспокойную ночь. Мне снилось, что фронтон дома сорвало бурей и швырнуло на мостовую. Я проснулась и услышала, как он стонет рядом со мной. Потом и он проснулся, обхватил меня руками, и я почувствовала, как сильно бьется его сердце!
О бессмертные боги, храните нас!
Сегодня утром ему нездоровится. Он уже совсем оделся и собрался в сенат, как вдруг передумал. Он на минутку подошел к своему столу и вдруг там заснул, чего, по уверению секретарей, никогда не бывало.
Теперь он проснулся и все же ушел. Мне надо торопиться — вечером у нас гости, а еще не все готово. Мне стыдно за это письмо, полное женской слабости.
Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Книга первая
(Видимо, написана лет семьдесят пять спустя)
Он сел, и заговорщики окружили его словно для приветствия. Тотчас Тиллий Цимбр, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе как будто с просьбой и, когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Цезарь кричит: «Это уже насилие!» И тут один Каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану пониже горла. Цезарь хватает Каску за руку, прокалывает ее грифелем, пытается вскочить, но второй удар его останавливает. Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят; и так он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон, хотя некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал: «И ты, дитя мое?»
Все разбежались; бездыханный, он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки, со свисающей рукою, не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по мнению врача Антистия, оказалась смертельной — вторая, нанесенная в грудь [48].
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Пролог
Летом 1902 года Джон Баррингтон Эшли из города Коултауна, центра небольшого углепромышленного района в южной части штата Иллинойс, предстал перед судом по обвинению в убийстве Брекенриджа Лансинга, жителя того же города. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. Пять суток спустя, в ночь на вторник 22 июля, он бежал из-под стражи по дороге к месту исполнения приговора.
Таково было «дело Эшли» — «Угольщицкое дело», как его прозвали, — вызвавшее немало толков, возмущения и насмешек по всему Среднему Западу. В том, что Эшли — намеренно или случайно — застрелил Лансинга, ни у кого сомнений не возникало, но всем ясно было, что процесс велся из рук вон плохо: выживший из ума судья, несостоятельная защита, пристрастный совет присяжных. А когда в довершение всего осужденный убийца бежал из вагона, где его охраняли пятеро конвойных, и словно испарился — в кандалах, наголо обритый, в арестантской одежде, — тут уж посмешищем сделался самый штат Иллинойс. А спустя пять лет прокуратура штата в Спрингфилде заявила о раскрытии новых обстоятельств, полностью устанавливающих невиновность Эшли.
Итак, допущена была судебная ошибка при разборе не особо значительного дела в небольшом среднезападном городке.
Эшли послал Лансингу пулю в затылок, когда они оба, как обычно по воскресеньям, упражнялись в стрельбе из ружья на дворе Лансинговского дома. Даже защита не пыталась утверждать, будто трагедия произошла по случайной причине технического характера. Ружье было несколько раз испытано перед присяжными и оказалось в совершенной исправности. Эшли издавна пользовался славой первоклассного стрелка. В момент убийства Лансинг стоял слева от Эшли и на пять шагов впереди. Несколько удивительным было то, что пуля пробила череп Лансинга около левого уха, но сошлись на версии, что он повернул голову, прислушиваясь к веселому шуму, доносившемуся из-за ограды Мемориального парка, где компания молодежи устроила пикник. Эшли с начала и до конца утверждал одно: не убивал и не помышлял убивать, — хотя смехотворность этого утверждения была очевидна. Единственными свидетелями были жены обвиняемого и убитого. Они, сидя неподалеку в тени орешника, приготовляли лимонад. Обе показали, что слышали только один выстрел. Процесс затянулся сверх меры, так как члены суда по очереди болели, а кто-то из присяжных даже умер. Репортеры отмечали частый смех в зале, тормозивший ход заседаний, — словно бес несуразицы витал под сводами здания. То проскользнет нелепая оговорка в чьей-нибудь речи. То перепутают имена свидетелей. А то вдруг у судьи Кригтендена сломался молоток в руках. «Веселенький процесс», — как выразился репортер Сент-Луисской газеты.
Больше всего возмущения вызвало то, что суд так и не сумел установить мотив преступления. Прокурор выдвигал много мотивов, но ни одного убедительного. Между тем в Коултауне имелось твердое мнение насчет того, почему Эшли убил Лансинга, большинство же членов суда состояло из коултаунцев. Все все знали, но никто ничего не говорил. Коултаунская чистая публика не пускается в откровенности с посторонними. Эшли убил Лансинга потому, что Эшли был влюблен в Лансингову жену, и присяжные вынесли ему смертный приговор решительно и единодушно, «с беспардонным хладнокровием», как писала одна газета в Чикаго. Обращение старого судьи Кристендена к присяжным прозвучало сугубо торжественно: он призывал их — вроде бы не без некоторого нажима — свершить свой священный долг, что они и сделали. Иногородние репортеры восприняли процесс как комедию, и он скоро стал притчей во языцех по всей долине Миссисипи. Защита негодовала, газеты издевались, телеграммы дождем сыпались на губернаторский особняк в Спрингфилде, а Коултаун оставался при своем мнении. Об интимных отношениях между Джоном Эшли и Юстэйсией Лансинг молчали не из рыцарского желания оберечь доброе имя дамы; нет, тут действовали более веские причины. Никто не рискнул произнести вслух обличающие слова, потому что никто не мог подкрепить их ни малейшим доказательством. Просто из сплетни выкристаллизовалась уверенность, как из предрассудка выкристаллизовывается порой самоочевидная истина.
И вот, когда страсти разгорелись вовсю, Джон Эшли бежал из-под стражи. В побеге преступника всегда усматривают косвенное признание вины, и потому вопрос о мотивах отошел на второй план.
Возможно, вердикт присяжных был бы не так суров, если бы Эшли по-иному держался на суде. Он не обнаруживал и тени страха. Он не тешил публику увлекательным спектаклем нарастающего раскаяния и ужаса. Он сидел и слушал со спокойным вниманием, будто ждал, что в конце затянувшейся судебной процедуры выяснится небезынтересный для него вопрос — кто же все-таки убил Брекенриджа Лансинга. Впрочем, в Коултауне Эшли всегда считался человеком странным. Он ведь был вроде инородца — приехал из Нью-Йорка и до сих пор сохранил нью-йоркскую манеру разговора. Жена его была немка, и в ее речи слышался легкий иностранный акцент. Казалось, он начисто лишен честолюбия. Почти двадцать лет проработал в шахтном управлении, получая мизерный оклад — не больше, чем получает священник самого захудалого прихода, — и, видимо, ничуть этим не тяготился. Его странность заключалась прежде всего в отсутствии каких-либо ярко выраженных черт. Он был ни брюнет, ни блондин, ни высокий, ни низенький, ни толстый, ни худой, ни веселый, ни скучный. Лицо у него было довольно приятное, но не из тех, на каких долго задерживается взгляд. Один репортер из Чикаго в начале процесса несколько раз назвал его «наш непримечательный герой» (в дальнейшем он, правда, этого не повторял — человек, сохраняющий полное спокойствие, когда дело идет о его жизни и смерти, вряд ли может считаться непримечательным). Женщинам Эшли нравился, потому что они нравились ему и потому что он умел их слушать; мужчины — за исключением разве штейгеров в шахтах — мало им интересовались, хотя что-то в его самоуничижительной немногословности возбуждало в них стремление подчеркивать свое превосходство.
Брекенридж Лансинг был рослый и белокурый. От его дружеского рукопожатия искры сыпались из глаз. Смеялся он во весь голос; разозлясь, не пытался сдерживать свой гнев. Он был на редкость общительным; состоял во всех братствах, союзах и обществах, отделения которых имелись в городе. Он обожал разные церемонии: слезы навертывались у него на глаза (скупые мужские слезы, он их не стыдился), когда он в сотый раз давал клятву «хранить верность собратьям до конца своих дней» или «жить по заветам божьим и всегда быть готовым умереть за отечество». Не такие ли клятвы, черт побери, придают вкус существованию мужчины? Были у него свои маленькие слабости. Он нередко засиживался в каком-нибудь кабачке на Приречной дороге, да так, что домой приходил только под утро. Это не назовешь поведением примерного семьянина, и миссис Лансинг вправе была обижаться. Но когда они вместе появлялись в обществе — на пикнике добровольной пожарной команды или на выпускном акте в школе, — он был подчеркнуто внимателен к жене и всячески показывал, что гордится ею. Все прекрасно знали, что управляющий шахтами он никудышный, что раньше одиннадцати часов его и в конторе не застанешь. Воспитать своих детей он тоже не сумел — двоих из трех во всяком случае: Джордж рано заслужил славу «головореза» и «отпетого», Энн, при всем природном обаянии, была несдержанна и дерзка на язык. Но все это как-то не ставилось ему в вину. За многими из самых уважаемых лиц в городе водились подобные грешки. А Лансинг был симпатяга и компанейский малый. Вот если бы Лансинг застрелил Эшли, совсем бы иначе шел процесс! Как блистательно он бы провел свою роль! Сограждане могли бы сперва насладиться его ужасом, его душевными муками, а потом оправдать его.
Это не особо значительное дело в небольшом городке южной части Иллинойса забылось бы еще скорей, если бы не загадочные обстоятельства побега осужденного. Сам он в пальцем не шевельнул. Освобождение пришло извне. Шесть человек в форме железнодорожников, с лицами, вычерненными жженой пробкой, проникли в запертый вагон. Они разбили висячий фонарь, без единого выстрела и без единого слова справились с конвойными и вынесли арестанта из поезда. Двое конвойных выстрелили по разу, но больше стрелять не решились, боясь в темноте попасть в кого-нибудь из своих. Кто были эти люди, рисковавшие своей жизнью ради спасения жизни Джона Эшли? Платные наемники? Миссис Эшли на все расспросы представителей прокуратуры штата и взбешенной своим посрамлением полиции твердила, что ей ничего не известно. Все в этом освобождении казалось сверхъестественным: решительность освободителей, их ловкость, точность, но более всего — полная тишине, в которой они действовали, и отсутствие у них оружия. Было тут что-то жуткое, что-то непостижимое.
Процесс Джона Эшли сделал посмешищем штат Иллинойс. Ведь лишь вторая мировая война научила американцев колесить по всей стране, срываясь, чуть взбредет на ум, с насиженного места; а до того времени каждый, независимо от пола и возраста, пребывал всегда в твердой уверенности, что город, где он живет, — лучший в штате, штат — лучший в стране, а страна — лучшая на свете. Такая уверенность придавала сил и еще подкреплялась сопутствующей привычкой свысока относиться к любому соседнему городу, штату или стране. Это кичливое пристрастие воспитывалось в американцах с детства, а детские пристрастия живучи, как и детские обиды. Внушенный им принцип дети распространяли даже на улицу, на которой жили. «Да я скорей умер бы, чем согласился жить на Дубовой!», «Кто ж не знает, что на Вязовой живут одни идиоты!» — нередко слышалось в толпе школьников, возвращающихся с уроков. Полковник Стоц, прокурор штата Иллинойс, был выдающимся гражданином первейшего штата первейшей в мире страны. Купол местного Капитолия (Капитолия Авраама Линкольна), где он отправлял свою должность, был зримым символом справедливости, величия и порядка. От тех глумлений, что обрушились из-за дела Эшли на штат Иллинойс в четвертом и последнем году срока прокурорских полномочий полковника, свет померк у него в глазах и земля заколебалась под ногами. Один звук имени Эшли приводил его в бешенство, и он дал себе слово, что разыщет преступника хоть на краю света.
Назавтра после смерти Лансинга дети Эшли перестали ходить в школу, к большому разочарованию своих одноклассников. Одну лишь Софи можно было увидеть на улице, когда она шла за хозяйственными покупками. Элла Гейтс раз столкнулась с ней у входа на почту и плюнула ей в лицо. Эшли запретил дочерям присутствовать на процессе. Только Роджер — семнадцати с половиной лет в ту пору — день за днем просиживал в зале суда рядом с матерью, день за днем отнимая у сограждан надежду насладиться картиной их горя и страха. «Наша мама тем крепче, чем дела идут хуже», — говаривал Роджер впоследствии. Садились они всегда в нескольких шагах от скамьи подсудимых. Бессонные ночи согнали краску с лица миссис Эшли, и это огорчало ее. Каждое утро, собираясь в суд, она подолгу яростно терла себе щеки, чтобы выглядеть здравствующей и неколебимо уверенной в благополучном исходе дела.
Еще одно странное обстоятельство обратило на себя внимание во время процесса: никто из родственников Джона или Беаты не приехал поддержать и утешить семью.
Но вот уже вся история стала отходить в область преданий, обрастая попутно большим количеством небылиц. То рассказывали, что поезд был остановлен шайкой нью-йоркских бандитов, подряженных зазнобой Эшли, вдовой убитого им Лансинга, за плату в тысячу долларов каждому. То уверяли, что Эшли сам, с помощью своего сына Роджера, сумел отстреляться от одиннадцати человек охраны и бежать. Даже после того, как прокуратура штата официально реабилитировала Джона Эшли, находились люди, твердившие, многозначительно щурясь: «За всем этим делом немало крылось такого, что так и осталось под спудом». Уехали из Коултауна, один за другим, дети Эшли и дети Лансинга. Перебрались на Тихоокеанское побережье сперва миссис Эшли, а потом миссис Лансинг. Казалось, время уже стерло из людской памяти это горестное событие, как стирало столько других. Но нет!
Лет девять спустя снова пошли разговоры о деле Эшли. Журналисты, простые обыватели, даже ученые знатоки часами стали просиживать в читальных залах, листая подшивки пожелтевших газет. Вновь возник интерес к детям Эшли, чья судьба сложилась по-разному, но у всех незаурядно. Этот интерес постепенно захватил чуть не всех, кроме разве самих «детей Эшли». Их настигла та сенсационная, шумная слава, что связана одновременно с насмешками и восторгами, ненавистью и преклонением. Этой славе еще способствовало то, что совсем юными им довелось привлечь к себе общественное внимание и до сих пор с их именем смутно связывалось что-то трагическое и позорное. Было единодушно признано, что у всех четверых есть много общих семейных черт. А между тем только люди, знавшие их со времен их коултаунского детства, — как доктор Гиллиз, Юстэйсия Лансинг, Ольга Дубкова — могли бы судить о том, в какой мере эти черты были унаследованы от родителей, в частности от отца. Им чужд дух соперничества, неизбежно рождающий зависть и мстительность, хотя Лили и Роджер избрали профессии, первый закон которых — «человек человеку волк». Им чужда была неоправданная застенчивость, они не привыкли подлаживаться под чужое мнение и ничего не боялись, хотя Констанс два с лишним года просидела в тюрьме, шесть раз попадала под арест в четырех разных странах, а Роджер заочно был предан анафеме и на родине, и за границей. Ни Лили, ни Констанс не грешили тщеславием, хотя принадлежали к числу самых красивых девушек своего времени. Никто из них не обладал чувством юмора, хотя с годами они обрели бойкость речи, похожую на остроумие, и словечки их подхватывались и входили в житейский обиход. Всем им было совершенно чуждо себялюбие. Кое-кто из близко их знавших говорил, что они «не от мира сего». Словом, это были люди, каких окружающим трудно бывает понять, а потому что только им не приписывалось современниками: и черствость, и бессердечие, и корыстолюбие, и лицемерие, и погоня за популярностью. И может быть, они вызывали бы даже более острую неприязнь, не будь в них в то же время чего-то чудаческого — наивности, духа прописной морали, того, что называют провинциализмом. У всех четверых были большие «разлапые» уши и большие ноги — клад для карикатуристов. Когда Констанс во время одной из своих бесчисленных и неустанных кампаний — «За избирательные права для женщин», «За помощь обездоленным детям», «В защиту женского равноправия в семье» — поднималась на трибуну (особенно ее любили слушать в Индии и Японии), взрывы смеха сотрясали многолюдную аудиторию; ей всегда было непонятно — отчего.
Так или иначе, но уже в 1910–1911 годах люди начали изучать газетные материалы о деле Эшли и задаваться вопросами — самыми разными вопросами, от пустячных до глубоко содержательных, — о Джоне и о Беате Эшли, об их детях, о городе, где они жили, об извечной загадке Среды и Наследственности, о талантах и дарованиях, о роли судьбы и случая.
Этот человек, Джон Эшли, что в нем самом (как в герое какой-нибудь греческой трагедии) предопределило его многосложную участь: незаслуженный смертный приговор, «чудесное» спасение, скитания на чужбине, славу, которую принесли его имени его дети?
Что в предках семьи Эшли, а поздней в ее домашнем укладе способствовало развитию такой силы ума и духа?
Что в Кангахильской долине, геологическом ее строении и нравственной атмосфере помогло сформироваться столь удивительным, незаурядным личностям?
Была ли связь между несчастьем, обрушившимся на эти две семьи, и их дальнейшей судьбой? Можно ли полагать, что муки, нужда, унижения, несправедливость и тяготы остракизма — что все это человеку во благо?
Ничего нет интереснее, чем постигать, как действует в ком-либо из нас — в каждом из нас! — творческая энергия; как разум, движимый страстями, утвердив свою власть, созидает и разрушает; как он, эта вершина жизнедеятельности, проявляется в государственном деятеле и в преступнике, в поэте и в банкире, в подметальщике улиц и в домашней хозяйке, в отце и в матери; как устанавливает порядок или сеет смятение; как, собранный в единую волю коллектива, народа, накаляется до предела, а потом, обессилев, убывает; как он иногда — поработитель и истребитель, а иногда — источник красоты и справедливости.
Память об Афинах Афины Паллады и сейчас, точно свет далекого маяка, озаряет советы мужей мудростью.
Палестина целое тысячелетие, словно гейзер в песках, выбрасывала в мир гения за гением, и скоро никого не останется на земле, кто не испытал бы на себе их влияния.
Что же, разум человеческий умножается или иссякает?
Что же, мозг, работая, не ведает разницы между пользой и уничтожением?
И вправе ли мы надеяться, что однажды придет пора, когда в человеке-животном окончательно восторжествует духовное начало?
Нелепо было бы мерить простых детей Кангахильской долины по тем великим образцам добра и зла, о которых я упоминал выше (и которые уже основательно забылись к середине нашего века), но —
Они ведь не так далеки,
Они ведь доступны нашему нескромному любопытству.
Центральная часть Коултауна, длинная и узкая, лежит между двумя почти отвесными склонами. Главная улица, тянущаяся с севера на юго-восток, лишь короткое время бывает освещена солнцем. Многим жителям города редко приходится видеть восход или закат или ночью наблюдать целиком какое-либо созвездие. В северном конце улицы находятся вокзал, ратуша, здание суда, гостиница «Иллинойс» и дом Эшли, много лет назад выстроенный Эрли Макгрегором и получивший название «Вязы»; в южном конце расположены Мемориальный парк со статуей солдату федеральной армии, кладбище и дом Брекенриджа Лансинга — «Сент-Киттс», названный так по имени острова в Карибском море, где родилась Юстэйсия Лансинг. Эти два дома, единственные во всем Коултауне, окружены небольшим пространством земли, которое может именоваться «усадьбой». К востоку от Главной улицы протекает речонка Кангахила, на задах обеих усадеб она разливается неширокими прудиками. Город больше, чем кажется на первый взгляд. Поскольку центр весь зажат в узкой долине, жилища многих коултаунцев лепятся по отрогам ближних гор или вдоль дорог, уходящих на юг и на север. Шахтеры живут в поселках на склонах Блюбеллридж и Гримбл-маунтин. У них там свои лавки от шахтного управления, свои школы, свои церкви. В город они спускаются редко. На протяжении девятнадцатого века город то вдруг начинал бурно расти, то снова сжимался. Было время, когда шахты давали заработок трем тысячам взрослых и нескольким сотням детей. Поток иммигрантов ненадолго осе дал в городе, потом двигался дальше — охотники, трапперы, члены религиозных сект, горняки из Силезии, целые крестьянские общины в поисках плодородной земли. В окрестных горах и близ Приречной дороги там и сям попадались заброшенные церкви, школы, кладбища. По расчетам доктора Гиллиза, в двух смежных округах проживало когда-то до ста тысяч человек; эту цифру он еще увеличил, когда обнаружены были обширные индейские могильники близ Гошена и Пеннивика.
Вероятно, тут было раньше большое мелководное озеро — вот откуда такие массы песчаника кругом; но со временем дно поднялось, и вода вся ушла в Огайо и Миссисипи. Вероятно, были гигантские леса — вот откуда весь этот уголь; столетиями землетрясения корежили землю, завертывая леса в складки гор, как завертывают начинку в блинчики. Огромные неповоротливые рептилии не поспевали вовремя уползать, и на камне оставались их отпечатки — в музее Форт-Барри можно видеть образцы подобных камней. Какие пласты времени требуются, чтобы болото превратилось в лес? Ученые все расчислили точно: столько-то, чтобы болотные травы дали перегной, нужный для роста кустарника; столько-то, чтобы кустарник подготовил почву для деревьев; столько-то, чтобы под благодатной тенью дикой вишни и клева взошла поросль молодых дубков; столько-то, чтобы красный дуб уступил место белому; столько-то для победного вступления буков, дожидавшихся своего часа, — битва молодняка, так сказать. Междоусобным войнам в растительном царстве сопутствовали такие же в царстве животном. Лес содрогался от смертного стона оленя, когда гигантская кошка вонзала зубы в его яремную вену; ястреб взмывал в небо, закогтив змею, в пасти которой билась полевая мышь.
Потом появился человек.
До самого Алгонкина не встретить таких «черепаховых курганов», какой находится недалеко от Коултауна, в Гошене, а к северу от него есть три великолепных «змеиных кургана». В мое время у каждого уважающего себя подростка имелась своя коллекция индейских топориков, томагавков и наконечников для стрел. Ученые расходятся в мнениях относительно того, что служило причиной древних побоищ — ведь в них принимали участие известные своим миролюбием племена. Один исследователь считает корнем зла экзогамный брак — в поисках жен для своих мужающих юношей племя совершало набег на соседей. Другой склонен думать, что повод тут был экономического характера: уничтожив всю дичь на своей территории, индейцы племени Бле-Барре принуждены были вторгнуться в земли кангахилов. Но как бы там ни было, а скелеты, найденные при раскопках могильников, свидетельствуют о жестоких увечьях.
В 1907 году, когда эти племена считались давным-давно вымершими, один этнолог-путешественник набрел на индейский поселок близ Гилкрайст-Ферри на Миссисипи, в шестидесяти милях от Коултауна, — в хижинах этого поселка жили, выкашливая свои легкие, несколько семей кангахилов. Трудно было даже представить себе, как они существуют на те жалкие гроши, что давала торговля неуклюжими мокасинами, трубками, стрелами, разными бисерными поделками в придорожных лавчонках. Как-то вечером за бутылку виски старик кангахил рассказал путешественнику историю своего народа. Было время, когда все другие народы завидовали мудрости кангахилов, красоте их нарядов, искусству их плясунов (Кангахила в переводе означает «место священных плясок»), их уменью предсказывать будущее. Каждый сын племени, достигший восемнадцати лет, мог прочитать наизусть без запинки всю Книгу Начал и Концов. Чтение длилось две ночи и два дня с короткими перерывами, заполнявшимися пляской. Кангахилы славились радушием и всегда были готовы потесниться для иноплеменных гостей, которые хоть отчасти понимали бы читаемый текст. Тысячи людей располагались вокруг места священной пляски, и отблеск костра ложился на лица сидевших впереди. Дивным было повествование первой ночи — рассказ о сотворении мира, содержавший подробное описание битвы между солнцем и тьмой. Затем следовал рассказ о рождении первого человека — первого кангахила, вышедшего из ноздрей Отца Отцов. Утро все отводилось перечислению установленных им законов и запретов — первоначальный смысл некоторых потерялся в исковерканных временем словах. В полдень чтец переходил к истории и генеалогии героев и предателей, что занимало восемь часов. В оставшееся до полуночи время читалась Книга Грозных Пророчеств Отца Отцов — три часа унизительных и суровых обличений. Грехи человеческие превратили цветущую землю в клоаку. Брат убивает брата. Из священного долга продолжения рода неразумные сделали забаву. Отец Отцов не исторг вовсе из своего сердца народы леса; но отныне им суждено пресмыкаться по-змеиному; они оскудеют числом; радость при рождении ребенка будет лживой радостью.
Затем наступала долгая тишина, которую прерывал в конце барабанный бой и громкие выкрики. Начиналась Пляска кангахилов, великое священнодействие взысканного любовью Отца Отцов народа-избранника. Сколько подражаний вызвала с той поры эта пляска! Всякое мичиганское отребье разнесло ее жалкое, испохабленное подобие по всем ярмаркам мира — пятьдесят центов за билет, дети платят половину. После окончания пляски снова воцарялась тишина — но все, затаив дыхание, ждали. Вождь племени словно уходил в самые глубины своего существа; собирался с мыслями; потом вставал. Наступал черед Книги Обещаний. Кто властен передать утешительную мощь этой великой песни? Старики забывали о своих немощах; юношам и девушкам открывалось, для чего они рождены, для чего создана вселенная. Много есть народов на земле, и людей больше, чем листьев в лесу, — но из всех Он выбрал кангахилов. Он вернется. Пусть же не зарастает лесная тропа, по которой Он придет в назначенный день. И немногие избранные спасут Человечество.
На том простимся с индейцами. Ученые полагают, что численность племени кангахилов никогда не превосходила трех тысяч человек.
Явились белые люди. Они принесли свою легенду о сотворении мира, свое название для Отца Отцов, свои законы и запреты, свой перечень героев и предателей, свое бремя прегрешений, свои надежды на Золотой век. У них в небрежении оказалась пляска, зато процветала музыка, духовная и светская. Еще они обладали склонностью к отвлеченным умствованиям, которых не знали краснокожие; плоды подобных умствований стали несколько неопределенно именоваться философией. Все граждане, старые и молодые, время от времени забивали себе голову вопросами о смысле человеческого бытия, о сущности жизни и смерти — вопросами, о которых, по словам доктора Гиллиза, лучше всего думается в четыре часа утра. Среди коултаунских философов доктор Гиллиз выделялся системой взглядов, наиболее четко сложившейся и наиболее смущавшей умы. В прямой противоречии с Библией он верил, что Земля создавалась миллионы лет и что Человек произошел… лучше не говорить от кого. К тому же он рассуждал о серьезных предметах таким тоном, что слушатели оставались в недоумении, шутит он или нет. Избранному кружку его сограждан надолго запомнился один вечер, когда доктор Гиллиз дал волю своей склонности к отвлеченным умствованиям.
Был канун Нового года, но не обыкновенного Нового года, 31 декабря 1899 года, канун Нового века. Целая толпа собралась на улице у здания суда, ожидая, когда начнут бить часы на башне. Люди были взволнованны, возбуждены, словно ждали, что с первым ударом разверзнутся небеса. Двадцатый век станет величайшим веком в истории. Человек полетит по воздуху; с дифтеритом, туберкулезом, раком будет покончено навсегда; войны отойдут в прошлое. Их стране, их штату, даже городу, в котором они живут, суждена большая и важная роль в наступающей эре. Когда часы начали бить, женщины в толпе плакали, и не только женщины, но и кое-кто из мужчин. Потом вдруг зазвучала песня, и не привычное «За счастье прошлых дней», а «Господь, извечная опора наша». Люди стали обнимать друг друга, стали целоваться — невиданное дотоле проявление чувств. Поцеловались Брекенридж Лансинг и Ольга Сергеевна Дубкова, которые друг друга терпеть не могли; поцеловались Джон Эшли и Юстэйсия Лансинг, которые друг друга любили, — первым и последним в их жизни мимолетным поцелуем. (Беата Эшли избегала многолюдных сборищ; она сидела дома перед высокими дедовскими часами в кругу своих дочерей: Лили, Софи и Констанс.) Роджер Эшли — четырнадцать лет и пятьдесят одна неделя — поцеловал Фелиситэ Лансинг, которая девять лет спустя стала его женой. Джордж Лансинг — пятнадцать ровно, — гроза всего города, подавленный торжественностью момента и непривычным поведением взрослых, укрылся за материнской спиной. (Свойство великих артистов — радоваться бурно, когда кругом хмурые лица, и сникать посреди всеобщего ликования.) Но скоро толпа поредела; лишь десятка два человек еще мешкали под башенными часами, не зная, как найти выход новым думам и сомнениям, сменившим нерассуждающий восторг первых минут. В конце концов все двинулись в бар гостиницы «Иллинойс» — выпить, как сказал кто-то, чего-нибудь согревающего. Молодых девиц отправили по домам. Остальные же вошли в помещение, куда до этой ночи не было доступа женщинам и, наверно, после нее еще сто лет не будет. Расселись в глубине бара. Сам мистер Сорби собственноручно наливал в кружки горячее молоко, горячий грог и «Салли Крокер» (горячий сидр, сдобренный пряностями, в котором плавали ломтики диких яблок).
Брекенридж Лансинг — душа любого общества, гостеприимнейший хозяин и, по своему положению управляющего шахтами, первое лицо в городе — взял слово от имени всех.
— Доктор Гиллиз, каким, по-вашему, будет новый век?
Дамы заворковали: «Да, да!.. Скажите нам, что вы об этом думаете!» Мужчины прокашливались.
Доктор Гиллиз не стал отнекиваться и начал:
— Природа не ведает сна. Жизнь никогда не останавливается. Сотворение мира не закончено. Библия учит нас, что в День Шестой бог сотворил человека и потом дал себе отдых, но каждый из шести дней длился миллионы лет. День же отдыха был, верно, очень коротким. Человек — не завершение, а начало. Мы живем в начале второй недели творения. Мы — дети Дня Восьмого.
Он стал описывать землю, какой она была миллионы лет до зарождения жизни — клубы пара над массами кипящей воды… Грохот, неистовство урагана, исполинские водяные валы… грохот. Потом первые микроорганизмы закачались на поверхности океана, понемногу усмиряя его. Сперва лишенные воли… потом у одних, у других возникла способность поворачиваться, двигаться к свету, к пище. В докембрийскую эру зародились начатки нервной системы; в девонскую — плавники и конечности окрепли настолько, что явилась возможность передвигаться по суше; в мезозойскую — потекла в жилах теплая кровь.
Где-то посреди мезозойской эры мистер Гудхью, коултаунский банкир, обменялся со своей супругой негодующими взглядами. Оба встали и вышли из бара, высоко держа голову, не глядя по сторонам. Эволюция! Учение безбожников! А доктор Гиллиз продолжал свой рассказ. Отделив растения от животных, он отправил тех и других в уготованный им долгий путь. После некоторой заминки птицы и рыбы разошлись в разных направлениях. Насекомые множились и множились. Но вот появились млекопитающие, и наконец настал тот решительный час, когда они встали на задние лапы, освободив передние для разнообразных других надобностей.
— Жизнь! А зачем? В чем ее смысл? В чем цель? Из бесформенной массы вылепилось нечто. Чем должно было оно стать в конце концов?
Он помедлил. Его взгляд, обращенный на мальчиков, так настойчиво требовал ответа, что они не могли не подчиниться.
— Человеком.
— Да, — сказал доктор Гиллиз. — Людьми. Разными людьми.
Неприятное беспокойство охватило присутствующих. Брекенридж Лансинг, опытный председатель, снова заговорил от общего имени.
— Вы нам не ответили на вопрос, доктор Гиллиз.
— Я заложил основу для такого ответа. В только что наступившем столетии нам предстоит стать свидетелями новой фазы развития человечества. Появится Человек Дня Восьмого.
Доктор Гиллиз лгал без зазрения совести. Он был твердо уверен, что наступившее столетие чревато неисчислимыми тяжкими бедствиями, что оно, говоря иначе, будет таким же, как все прежние столетия.
Доктор Гиллиз, один среди собравшихся, не испытал никакого радостного волнения. Он никого не поздравил, ни с кем не обнимался и не целовался. За четверть часа до полуночи он вошел в «Иллинойс» навестить миссис Биллингс, свою старую пациентку. Его душа (это слово он употреблял только в шутку) была полна горя. Год и одиннадцать месяцев тому назад, в Уильямс-колледже, в Массачусетсе, катаясь на санках, погиб его сын; сегодня и он вступил бы в двадцатое столетие — Гектор Гиллиз, его второе я, его обновленное я, его тень, протянувшаяся в грядущее. Доктор Гиллиз не верил в прогресс, в лучшее будущее человечества. Он знал о Коултауне столько, сколько не знал ни один из жителей города. (Точно так же за первые десять лет своей практики он успел многое узнать о Терре-Хот в штате Индиана.) Коултаун был не лучше и не хуже других городов. Каждое сообщество людей есть часть огромного целого, именуемого родом человеческим. Вскройте Брекенриджа Лансинга или китайского императора — вы найдете одни и те же внутренности. Загляните, как бес из старой повести[49], под крышу любого дома в Коултауне или во Владивостоке — вы услышите одни и то же фразы. Многие ночные часы, проведенные за чтением трудов великих историков, укрепили доктора Гиллиза в убеждении, что Коултаун вездесущ, — хотя даже величайшие из историков несвободны от иллюзий, создаваемых временем; они произвольно возвышают одно и принижают другое. Не было ни Золотого вика, ни мглы средневековья. Была и есть лишь смена поколений, однообразная, как океан в чередовании бурь и ясной погоды.
Каким же будет двадцатый век и те, что за ним последуют?
Доктор Гиллиз лгал легко и свободно, потому что видел перед собой Роджера Эшли и Джорджа Лансинга. Он говорил так, как если бы Гектор сидел тут же. Долг старых — лгать молодым. Пусть молодые сами пройдут потом через боль разочарований. Душа наша в юности крепнет, питаясь надеждой, и это потом дает нам силу сносить удары судьбы со стоицизмом римлян.
— Рождается Новый Человек. Природа не ведает сна. Раньше были великие одиночки, редкие гении, уцепясь за фалды которых тащились следом трусливые и бездеятельные. Теперь вся масса людская выйдет из троглодитского состояния…
Какая великолепная перспектива!
— …троглодитского состояния, в каком и сейчас пребывает большинство людей, трепеща перед вечной опасностью вражеского вторжения, боясь бога-громовержца, боясь мщения мертвых, боясь зверя, живущего в них самих.
Какая перспектива!
— Дух и разум станут главенствовать в человеческой жизни. Никто не останется в стороне от просвещения. Что есть просвещение, Роджер? Что есть просвещение, Джордж? Это мост из узкого личного мирка в мир общечеловеческого сознания.
Кое-кто из слушателей заснул в разнеживающей атмосфере двадцатого столетия, но Джон Эшли с сыном и Юстэйсия Лансинг с сыном не были в их числе.
Ольга Дубкова шла домой с Вильгельминой Томс, секретаршей Лансинга в шахтном управлении.
— Доктор Гиллиз сам не верит тому, что говорит, — сказала она спутнице.
— А я верю. Каждому слову верю. И отец мой верил. Если б не эта вера, я не видела бы пути перед собой.
Никто не мог подыскать разумное объяснение, почему основателям Коултауна — Угольного города вздумалось выбрать для поселения почти недоступную солнцу теснину, хоть они могли бы поставить себе дома и построить первую церковь и первую школу на открытых пространствах нагорья, тянущегося к северу и к югу. Лежит город на сравнительно оживленном торговом пути. Странствующие продавцы разного товара не перевелись у нас и теперь. А Коултаун всегда привлекал проезжих коммерсантов — к счастью для Беаты Эшли и ее детей, как будущее покажет, — даже и тогда, когда Форт-Барри (в тридцати милях к северу) и Сомервилл (в сорока милях к югу) выросли в куда более прибыльные места сбыта. Эти люди любили гостиницу «Иллинойс», построенную еще дедом нынешнего хозяина, мистера Сорби, и всегда составляли свой маршрут так, чтобы две ночи ночевать именно там. Комнаты в «Иллинойсе» были просторные, за тридцать пять центов можно было отлично пообедать. Дерево и бронза в отделке бара свидетельствовали, что предприятие затевалось с расчетом на еще больший успех. Усталого путника сразу же обдавало уютным запахом виски, опилок и пролитого пива. Помещение позади бара превращалось по вечерам в игорный зал. Бесплатный транспорт доставлял желающих в заведения, расположенные неподалеку, у Приречной дороги, — «Коновязь» Хэтти или «Только у нас» Никки. Представители оптовых фирм (сельскохозяйственный инвентарь, медикаменты) приезжали в Коултаун поездом, коммивояжеры (швейные машины, патентованные средства, кухонная утварь) — в одноконных тарантасах. Бродячие торговцы располагались на ночлег у обочин дороги под своими тележками.
С открытием угольных залежей на всем стала оседать черно-серо-желто-белая пыль; воды Кангахилы замутились; в город прибыл первый и последний богач, Эрли Макгрегор; понаехали люди с разных сторон — углекопы из Силезии и Западной Виргинии, отец мисс Дубковой (русский князь в изгнании, если верить слухам), Джон и Беата Эшли из Нью-Йорка, что легко было распознать по их говору. Вывелись в окрестностях многие виды рыб, пернатых, зверья, даже растений. Пошли толки о заболоченности почвы. Кругом бедствовали, роптали, назревала угроза бунта. Десятичасовой рабочий день под землей не давал заработка, достаточного, чтобы одевать и кормить семью в двенадцать — четырнадцать ртов, даже если в субботу любимые чада клали свою получку рядом с получкой отца. Особенно уязвимым местом была обувь. Башмаки снились людям во сне. Ведь даже лошади не ходят разутые. Просуществовать с семьей еще как-то можно было, питаясь бобами, хлебом из высевок, зеленью, яблоками и изредка ломтиком солонины; но как быть, если в церковь не принято являться босиком? Вот и ходили туда шахтерские дети по очереди, имея нередко одну пару башмаков на семью. Не раз во второй половине девятнадцатого века угроза восстания доходила до критической точки. Нет ничего более обескураживающего, чем забастовка без твердой решимости выстоять. А у коултаунских шахтеров недоставало организаторов, недоставало средств. Перебьют стекла в поселковой лавке, разгромят контору — тем дело и кончалось. Один раз недовольные собрались у дома Макгрегора, повалили ограду и стали швырять в парадную дверь шары, подобранные на крокетной площадке, но их быстро разогнали. (Покуда летели щепки и трещало ломающееся дерево, старик Макгрегор неподвижно сидел у своего окна, положив рядом с собой винтовку, — воплощение праведного гнева Моисеева.) Каждого праздника местные власти ожидали с тревогой. В 1897 году мэр из осторожности отменил парад и торжественный митинг в Мемориальном парке по случаю Дня независимости. Особенно беспокойным бывал тот год, на который приходились президентские выборы. В день выборов углекопы наводняли город и давали волю накопившейся ярости и обиде на свою горькую участь. Администрация неукоснительно вычитала потом из заработной платы штраф за прогул. Всю ночь шахтеры пили и горланили в городе и лишь с рассветом отправлялись домой, спотыкаясь и падая на крутом подъеме; нередко жены поутру находили их в придорожных канавах. В августе во многих домах поселка рождались дети, и родителям оставалось только смиряться с фактом их появления на свет. У коултаунских горожан с незапамятных времен вошло в обычай запирать двери на ночь, а те, кто побогаче, обзавелись особо мудреными запорами и еще городили целые баррикады за порогом. Брекенридж Лансинг не первым в городе научил своих домашних обращению с огнестрельным оружием — впрочем, для него, как для управляющего шахтами, это было в порядке вещей. И если съехавшихся на процесс репортеров удивляло, что он был убит, когда упражнялся в стрельбе из ружья у себя во дворе, то жители Коултауна не находили тут ничего удивительного.
Через пять лет после нашумевшего процесса закрылись две ближайшие к городу шахты — «Колокольчиковая» и «Генриетта Макгрегор». Качество добываемого в них угля ухудшилось уже давно, а в последнее время стало сокращаться и количество, Коултаун точно усох. Уехали семьи убитого и предполагаемого убийцы. Их дома несколько раз переходили из рук в руки. На стенах долго висели плакатики: «Сдается внаем» и «Продается», но со временем стало не разобрать слов, а потом бумага и вовсе истлела. В разбитые окна заливал дождь и валил снег; птицы вили гнезда и в верхних этажах и в нижних; ограда покосилась и нависла над тротуаром, как застывшие волны прибоя. Беседка в «Вязах» рухнула в пруд. Осенью матери посылали ребятишек в «Сент-Киттс» за орехами и в «Вязы» за каштанами.
Когда прекратились работы на шахтах, воздух в городе сделался чище. Домохозяйки, правда, не решались пока вешать белые занавески на окна, но в 1910 году девушки, кончавшие шкоду, впервые пришли на торжественный выпускной акт в белых платьях. Охотиться теперь было почти некому, и в лесах прибавилось зайцев и лисиц, на лугах — перепелок. В Кангахиле опять стала водиться муллиганская форель, панцирная щука, ушастый окунь. Словно сбежались на давно покинутые родные места золотарник, багрянник, иудино дерево.
Весной, после сильных дождей, слышались иногда непонятные глухие удары. Горы вокруг были подточены заброшенными теперь шахтами, и земля над ними оседала с таким гулом, что казалось, это не обвал, а землетрясение. Поглядеть на открывшиеся подземные ходы приезжало много любопытных из города. Зрелище было скорей похоже на развалины каких-нибудь памятников былого величия, чем на тюрьмы, где сотни и сотни обреченных надрывались по десять, а прежде и по двенадцать часов в сутки, выкашливая и выхаркивая остатки легких. Даже озорных мальчишек заставлял присмиреть вид длинных галерей и аркад, ротонд и тронных залов. Но за год входы в это подземное царство успевали зарасти травой к кустарником. Только стаи летучих мышей, его нынешних обитателей, вылетали с наступлением сумерек и кружили над долиной.
Природа не ведает сна, как любил говорить доктор Гиллиз.
В Коултауне теперь нет даже почтового отделения. В бакалейной лавке мистера Боствика отгородили уголок, и там коултаунцам выдают полученные на их имя письма. Административный центр района переместился в Форт-Барри.
I «Вязы» 1885–1905 гг
«Вязы» были вторым по красоте домом в Коултауне. Эрли Макгрегор выстроил этот дом в ту пору, когда шахты не столь непосредственно зависели от центральной дирекции в Питтсбурге и представители компании на местах наживали немалые деньги. При Макгрегоре были пройдены «Колокольчиковая» и «Генриетта Макгрегор», что и положило начало его богатству. Джон Эшли и помыслить не мог бы о том, чтобы купить «Вязы» за наличные деньги. Он был приглашен в Коултаун на скромную должность инженера но эксплуатации, когда выработка в шахтах уже шла на убыль. Ему предстояло при все более скудном отпуске средств ремонтировать и укреплять оборудование, приходящее в упадок. Но хозяева не могли знать, что их новый служащий именно этим и силен — изобретательностью и технической выдумкой. Работа пришлась ему как нельзя более по сердцу, несмотря на то что получал он чуть ли не втрое меньше, чем Брекенридж Лансинг, управляющий. Эшли был бедный человек, так он и сказал бы с улыбкой, если б его спросили. Но он жил, ни в чем не чувствуя недостатка, скорей напротив. Беата Эшли была превосходной хозяйкой; супруги отличались редким уменьем налаживать быт и даже усовершенствовать его, почти не тратя на это денег. Дом был приобретен в рассрочку, и, внося ежегодно обусловленную сумму в банк, Эшли постепенно сделался полноправным владельцем. До его приезда дом долго пустовал. Жители Коултауна не были суеверны: никто не утверждал, будто в «Вязах» водится нечистая сила, но было известно, что дом строили в злобе, жили в нем недружно и покинули его при трагических обстоятельствах. В каждом небольшом городке есть один или два таких дома. Джон Эшли был суеверней своих соседей: он считал, что с ним ничего дурного случиться не может. Они с Беатой счастливо прожили в этом доме почти семнадцать лет.
Когда в 1885 году Эшли увидел дом в первый раз, у него глаза стали круглыми от изумления. А взойдя по ступенькам и остановясь на пороге просторного холла, он полуоткрыл рот и перестал дышать, как человек, силящийся расслышать далекую музыку. Ему чудилось, будто он уже видел все это раньше — может быть, во сне. Внизу дом с трех сторон охватывала веранда; другая веранда, во втором этаже, приходилась над парадным крыльцом, а на самом верху была круглая башенка, где когда-то стоял телескоп. Из холла поднималась широкая полукруглая лестница, огибая колонну, увенчанную переливающимся всеми красками хрустальным шаром. Справа была большая, во всю длину дома, гостиная. Мебель — столы, кресла, диваны с потертой обивкой — и старинное фортепиано прикрывали газеты десятилетней давности. За домом тянулся запущенный газон; в разросшихся сорняках валялись крокетные шары, с которых дожди и снег давно смыли раскраску. Газон полого спускался к пруду, а над самым прудом стояла беседка. Справа в куще раскидистых вязов виднелся большой сарай (впоследствии дети Эшли, игравшие там в дурную погоду, прозвали его «Убежищем», а их отцу он служил мастерской, где он занимался своими изобретениями и «опытами»). Чутье подсказало Эшли, что при доме должен быть и курятник — и точно: тут же он увидал полуразвалившееся, открытое дождям и ветрам строеньице; а дальше был небольшой огород, кусты черной смородины, обсаженная каштанами лужайка. Эшли даже сделалось жутковато. О чем еще можно мечтать?
Он тогда не знал, что ступил в чужую мечту — мечту Эрли Макгрегора. Макгрегор все это создавал в надежде, что у него будет большая семья. Ему рисовались веселые партии в крокет, а когда сгустившиеся сумерки загонят всех игроков в беседку, настанет черед песен под аккомпанемент банджо. А если польет дождь, молодежь соберется на кухне варить помадку или же затеет в гостиной шумные игры в карты или в «кольцо и веревочку». А то молодежь скатает ковры, освободив всю середину комнаты, и начнутся танцы — виргинская джига, «Правой ножкой, топ-топ-топ». В ясные вечера детей станут водить в башню и поочередно приподнимать каждого, чтобы он заглянул в телескоп. Хитроумные линзы будут показывать только самое интересное — огненно-красный Марс, Сатурн с его кольцами, таинственные кратеры Луны.
Все так и сбылось, но уже не для Эрли Макгрегора. Воскресными вечерами, отпустив служанку в гости к родным, Беата Эшли и Юстэйсия Лансинг приготовляли ужин. «К столу, дети, к столу! Ужинать пора!» Гектор Гиллиз, сын доктора, обучил Роджера Эшли игре на банджо. Петь пели все, но никто не мог сравниться с Лили Эшли. У нее был такой прекрасный голос, что пятнадцати лет ее пригласили петь в церкви перед всеми собравшимися на богослужение. А в шестнадцать она спела «Родина, милая родина» на празднике добровольной пожарной команды, и даже мужчины, слушая ее, плакали. Миссис Лансинг не позволяла детям играть в карты, даже в «дурака» или в «носки», потому что ее младшие, Джордж и Энн, входили в такой раж, что их было не унять, — креольская кровь сказывалась. После ужина Эшли и Лансинг шли в «Убежище» мудрить над своими «придумками» для замков и ружейных затворов. Кончался вечер обычно чтением вслух: Одиссей у циклопов, Робинзон Крузо и его верный Пятница, кораблекрушение Гулливера, сказки из «Тысячи и одной ночи». По другим воскресеньям те же дети и те же взрослые собирались в «Сент-Киттсе». Выносили из дома оружие — Брекенридж Лансинг был завзятый охотник, — и вся мужская часть общества, отцы и сыновья, упражнялась в стрельбе по мишеням под громкий лай растревоженных городских собак. После ужина Юстэйсия Лансинг рассказывала что-нибудь из карибских народных легенд, слышанных ею в детстве. Ее дети и дети Эшли знали французский язык, но, если случались гости, она умела в нужных местах ввернуть перевод, чтобы суть дела была понятна всем. Рассказывала она мастерски, и все как завороженные слушали об увлекательных приключениях Матушки Черепахи или Игуаны Деденни.
Все, все сбылось в «Вязах» — только не для Эрли Макгрегора. Лестница, так задуманная, чтобы выгодно подчеркивать грацию и величавую осанку его супруги, не выполнила своего назначения. Злополучная миссис Макгрегор скоро приобрела ту грузную тучность, к которой часто приводят вынужденное безделье и беспрестанные тревоги по пустякам. Она уже не могла сходить по лестнице, не держась за перила рукой. Ни одной новобрачной не привелось бросить с верхней площадки свой букет в протянутые у подножия руки. Зато по широким ступеням оказалось очень удобно сносить гробы. А вот Беата Эшли спускалась с той лестницы, как та прусская королева, что всегда служила предметом поклонения ее матери, geborene[50] Клотильды фон Дилен из Гамбурга, который она потом сменила на штат Нью-Джерси. Из семейства Эшли тоже никто не сыграл свадьбы в «Вязах», но всех трех дочерей сызмальства учили ходить вверх и вниз с тяжелым географическим атласом на голове. И хрустальный шар, переливаясь всеми оттенками, отражал исполнение чужой мечты.
И Джон Эшли, и Брекенридж Лансинг попали в Коултаун вследствие неудачи на прежней службе. Но ни тот ни другой этого не осознавали, только жены их смутно о чем-то догадывались. Лансинг воображал, что получил повышение; Эшли знал твердо, что переменил худшее место на лучшее. Джон Эшли давно уже томился в своем конструкторском бюро в Толидо, штат Огайо, где должен был корпеть девять часов в день над чертежами фабричных станков, и приглашение в Коултаун воспринял как подарок судьбы, несмотря на скудость положенного ему жалованья. В свое время, окончив технический колледж, он, как самый блестящий студент курса, получил несколько предложений и мог выбирать любое. Он выбрал Толидо, потому что им с женой (он незадолго до того женился) не терпелось уехать с Востока и потому что работа в конструкторском бюро сулила, казалось, простор его таланту изобретателя. Велико было, однако, его разочарование, когда выяснилось, что нужно просиживать день за днем на одном и том же стуле и за одной и той же чертежной доской, разрабатывая детали машин, которые он презрительно называл «формочками для печенья». Что касается Лансинга, то мы дальше узнаем, как этого, казалось бы, многообещающего молодого человека тихонечко оттерли от руководящей должности в Питтсбурге и весной 1880 года, в двадцатишестилетнем возрасте, отправили в Кангахильскую долину. Горного дела он не знал, работа его ждала чисто административная. Он был назначен управляющим шахтами.
В центральной дирекции в Питтсбурге коултаунские шахты давно уже стали называть шахтами «Убогого Джона». Под таким названием на всем Среднем Западе понималось пристанище для немощных и ни к чему не пригодных. Пошло это с легкой руки богатого фермера, который одну из своих нескольких ферм сделал местом, куда отправляли состарившихся работников, состарившихся лошадей, устаревшие орудия. Каждые четыре-пять лет поднимался вопрос, не закрыть ли эти шахты совсем. Но кое-какую прибыль они еще давали, а кроме того, годились на роль «Убогого Джона». По этой причине дирекция их терпела, не вводя, однако, никаких усовершенствовании, никому не прибавляя жалования и почти не обновляя персонал. Предшественник Лансинга Кэйли Дибвойз — шурин одного из директоров — тоже был из таких «списанных в брак». Как и Лансинга, его в свое время встретили в Питтсбурге с распростертыми объятиями: «Давно уже не видали столь одаренного молодого человека», «Кладезь идей», «Умница, каких мало». «Очаровательная жена». Дирекция могла в любую минуту расторгнуть контракт, но предпочитала — быть может, не желая признавать, что ошиблась, — отправлять переставших подавать надежды молодых людей в Коултаун.
Кто же, в сущности, управлял шахтами? В штате числилось несколько словно бы опытных горных инженеров, но они тоже попали сюда по системе «Убогого Джона», давно вышли из строя и ко всему относились с тупым равнодушием обитателей дома призрения. Шахты работали с перебоями, как испорченный часовой механизм, но все-таки дело шло, хоть и через пень-колоду, шло словно бы само собой. В семь часов, перед спуском в шахту, штейгеры отдельных участков собирались в конторе управления; принимала их мисс Томс, бессменная помощница всех управляющих, и они общими усилиями импровизировали какой-то план работ. В девять или в десять план докладывался очередному управляющему, причем так, чтобы тот легко мог принять его за блестящую идею, только что осенившую его самого. Жалованье мисс Томс составляло шестнадцать долларов в неделю. Случись ей заболеть, на шахтах воцарился бы хаос, а ее рано или поздно ожидала койка в городской богадельне.
Когда Брекенридж Лансинг сменил Кэйли Дибвойла, мисс Томс обрела надежду: кажется, наконец можно будет свалить со своих плеч столько лет лежавшее на них бремя. Какое бы дело ни начинал Брекенридж Лансинг, начало всегда было превосходным. Он с воодушевлением взялся за изучение бухгалтерских книг, с воодушевлением спустился один раз в земные недра. Идеи переполняли его. Он умудрялся одновременно возмущаться состоянием работ и сыпать комплиментами тем, кто эти работы возглавлял. Истина, впрочем, не замедлила обнаружиться: Лансинг просто не умел помнить сегодня то, что было вчера. Наша память подчинена нашим интересам, а все интересы Лансинга сосредоточивались на впечатлении, производимом его особой. Цифры, сводки, вагонетки с углем не обладают способностью восхищаться. Спустя немного времени мисс Томс опять надела привычное ярмо.
— Мистер Лансинг, в штреке Форбуш проходчики натолкнулись на плавуны.
— Неужели?
— Помните, вам понравилось, как идет выработка в N7-б. Может быть, стоит дать указание Джереми, чтобы он перебросил туда своих людей?
— Отличная мысль, Вильгельмина! Так мы и сделаем.
— Мистер Лансинг, Конрада опять сморило сегодня.
Шахтеры, при рабочем дне в десять часов много лет проработавшие на большой глубине, подвержены заболеванию особого рода: внезапный сон одолевает человека среди работы, и он валится наземь, точно в обмороке. Болезни боятся даже больше туберкулеза, больше обвала в шахте. С кем такое случается по нескольку раз за смену, тот знает: он уже на пути в Гошен.
— Мммм, — откликался Лансинг, глубокомысленно сощурившись.
— Вы как-то говорили, что из младшего сына Брэгга может выйти толк. В «Колокольчиковую» потребуется новый откатчик.
— Превосходно, Вильгельмина! Сегодня же надо вывесить на доске приказ. Заготовьте, а я подпишу.
В подписании приказов, вывешиваемых потом на доске, главным образом и состояла управительская деятельность Лансинга. Он ставил свою подпись по пятнадцати раз на дню. Если подписывать больше было нечего, он ложился вздремнуть на продавленный диван или уезжал в горы поохотиться.
Эшли пригласили на коултаунские шахты сперва на короткий срок, для того чтобы он скрепил и подправил сочленения этого огромного рассыпающегося скелета. Два месяца он молчал — все присматривался и прислушивался, большую часть времени проводя под землей с шахтерской лампочкой на лбу. Людей спускала в шахту и поднимала клеть, приводимая в движение допотопной системой блоков и шкивов. Штейгеры были не то чтобы поголовно невежды, но долгие годы, которые они прожили как кроты, притупили в них способность выбирать наименьшее из нескольких зол. Когда появился Эшли, к которому можно было прийти за советом и деловой помощью, эта способность ожила; они научились сами распознавать пласты, которые вот-вот могли истощиться или упереться в плавун; они рисковали закладывать новые шурфы. Опасность подстерегала на каждом шагу, и Эшли это хорошо видел. Но шахтеры, оглупленные жизнью, которой им приходилось жить, во всяком несчастном случае видели проявление божьей воли. Наконец Эшли заговорил — с нью-йоркским акцентом, который сильно мешал слушателям его понимать, — и первые его предложения касались вентиляции. Не щадя ни рабочих рук, ни рабочего времени, он пробил кое-где дополнительные отдушины, соорудил примитивные громыхающие вентиляторы — и обмороков стало меньше. Сделал он и некоторые перемещения среди рабочих, хотя это не входило в его компетенцию: перевел полуослепших, туберкулезных, страдающих постоянными обмороками в особую шахту — в Коултауне тоже имелся свой «Убогий Джон». Он, насколько возможно, отремонтировал технику — клети, вагонетки, крепи, рельсы; подпоры приведены были в относительный порядок. И скелет зашевелился, расправился. Шахты еще напоминали больных, но уже не умирающих. Никто не подумал прибавить жалованья Эшли, зато мисс Томс стала получать на пять долларов в неделю больше — об этом он позаботился. Лансинг был в восторге от блестящих идей, осенявших его теперь чуть ли не каждый день; на доске уже не хватало места для приказов. Времени для охоты оставалось все больше. И для отдыха на продавленном диване тоже — что было очень кстати, так как Лансингу допоздна случалось засиживаться в кабаках на Приречной дороге. Эшли не предполагал, что работа в Коултауне окажется столь разнообразной и заставит так много придумывать и импровизировать. По утрам он чувствовал прилив бодрости и сил. Детям навсегда запомнились песенки, которые он мурлыкал во время бритья: «Нита, Жуанита» и «Китайская прачечная».
Итак, фактически управлял шахтами Джон Эшли, только не числился в должности управляющего. Углепромышленное дело он постиг с помощью первоклассных наставников — учился у штейгеров в забое и у старых инженеров с «Убогого Джона», которые рады были случаю поделиться своим опытом, а еще больше — возможности избежать ответственности и забот. Так продолжалось почти семнадцать лет; и уже примерно с пятого года отчеты по Коултауну стали показывать небольшую, но растущую прибыль. Молчаливый сговор между Джоном Эшли и мисс Томс создал это странное положение, а жены Эшли и Лансинга помогали его поддерживать. Нужно было быть Джоном Эшли, чтобы взять на себя столь трудную и даже унизительную роль и не выходить из нее долгие годы. Чуждый честолюбия и зависти, одинаково равнодушный к похвалам и поношениям, вполне счастливый в своей семье и в своей домашней жизни, он охотно «покрывал» Лансинга. И не только делал все возможное, чтобы скрыть от компании и от Коултауна никчемность своего начальника, но, младший по возрасту, был ему вместо старшего брата. Старался сглаживать его резкость с близкими, отвлекал от неприглядных беспутств в заведениях на Приречной дороге и у каменоломни. Втягивал его в свои «опыты» и превозносил его несуществующие заслуги в их выполнении. На чертежах остроумных механических устройств значилось обычно два имени: «Спиральный переключатель Эшли — Лансинга», «Детонатор «Сент-Киттс» Лансинга — Эшли». Это была изощренная и великодушная ложь; в таких случаях рано или поздно правда выходит наружу.
Четвертого мая 1902 года Брекенридж Лансинг был убит выстрелом из ружья, а Джона Эшли признали его убийцей и приговорили к смертной казни. Убийства не такая уж редкость в нашем быту, только одни привлекают меньше внимания, другие — больше. Но вот побег осужденного по пути к месту казни — это уже нечто из ряда вон выходящее. Сразу же начались усиленные розыски. Во всех почтовых конторах страны были вывешены сперва списки примет, а потом не слишком четкие фотографии бежавшего преступника, крупная сумма назначалась в награду за сообщение сведений, которые бы ускорили его поимку или арест шестерых его освободителей. Общий интерес к этим таинственным освободителям едва ли не превосходил интерес к самому Эшли. Ведь содействующий побегу осужденного на казнь рискует и на себя навлечь смертный приговор. Наверно, этим шестерым хорошо заплатили. Откуда могли взяться у Эшли такие деньги? Впрочем, не одно это обстоятельство озадачивало всех. Если бы шесть подкупленных большими деньгами бандитов ворвались в запертый вагон, стреляя направо и налево, это еще можно было бы понять, — но ведь эти шестеро, переодетые и загримированные под железнодорожников-негров, сделали свое дело молча и безо всякого оружия! Произошло все в час пополуночи, четверть мили не доезжая станции Форт-Барри, где на десять минут останавливаются все поезда набрать воду. Охрана Эшли состояла из пяти человек: трое специально прибыли из Джолиетской тюрьмы, двое, в том числе капитан Мэйхью, начальник конвоя, были назначены, в Спрингфилде прокуратурой штата. Всех пятерых подвергли специальному допросу, после чего с позором уволили со службы. Четверо до конца своих дней избегали поминать об этом постыдном для них событии, зато пятый охотно рассказывал о нем всякому, кто хотел слушать. «Зануда» Хьюз, совсем опустившийся, торговал кормом для домашней птицы, разъезжая по северо-западной части штата. Стремясь прославиться, а заодно и коммерцию поддержать, вечерами он в кругу собутыльников подробно повествовал обо всех событиях той исторической ночи.
— Постучался, значит, в вагон проводник и сказал, что начальник станции получил телеграмму для капитана Мэйхью. Капитан Мэйхью говорит: «Неси ее сюда!» А тот в ответ: нельзя, мол, телеграмма секретная, из Спрингфилда, и капитан Мэйхью должен самолично за ней явиться. Ну, нам, понимаете, пришло в голову — может, это помилование от губернатора. Только капитану Мэйхью был дан строжайший приказ никуда из вагона не отлучаться, и он не знал, как ему быть. На минутку мы все задумались, как ему быть, — эта минутка нас и сгубила. В один миг в вагон набилось полным-полно железнодорожников-негров. Первым делом они разбили все фонари, так что нам пришлось копошиться впотьмах среди битого стекла. Чувствую, меня кто-то схватил за ноги и пытается связать. Я изогнулся, чтобы наподдать ему, но он оказался силач — враз дернул мне ноги кверху и скрутил веревкой. Лежу я, значит, на спине, ноги кверху, и барахтаюсь, точно краб. А он, покончив с моими ногами, перевернул меня и еще связал руки сзади. Мы все вопим, перекрикивая друг друга, а капитан Мэйхью вопит громче всех: «Стреляйте в Эшли! Стреляйте в Эшли!» А как тут разобрать, где он, Эшли, скажите на милость? Потом они нам всем сунули по кляпу в рот и свалили в проходе, точно мешки с картошкой. Верьте моему слову, эти молодцы были не тамошние, не коултаунские. Из Чикаго или из Нью-Йорка, вот откуда. Им такие дела не впервой. Сразу видно — рука набита. Никогда не забуду той ночи. Шторы были опущены, но откуда-то пробивался свет, и мы видели, как они скачут с сиденья на сиденье, точно обезьяны.
Разгадать тайну этого похищения пытались лучшие умы округи — полковник Стоц в Спрингфилде, репортеры окрестных газет, шериф за игрой в карты со своими подручными, благочестивые дамы за шитьем штанов для африканских язычников, великие мыслители, каждый вечер сходившиеся в баре «Иллинойс», и даже бездельники в кузнице или на конюшне мистера Кинча, которым только бы чесать языки, временами сплевывая табачную жвачку. Не меньше других была озадачена Беата Эшли.
Потом было еще немало такого, что могло подстегнуть даже самое ленивое воображение. Каким образом бежавшему преступнику, чья обритая голова была оценена в четыре тысячи долларов, удалось выбраться из страны? Каким образом он мог присылать письма, а поздней и деньги своей обнищавшей семье, когда каждое адресованное в «Вязы» письмо перехватывалось полицией, а каждый, кто их навещал, подвергался допросу? На что он надеялся? На что надеялась Юстэйсия Лансинг? Особенно занимали коултаунцев вопросы, связанные с деньгами. Всем было известно, какое скромное жалованье получал Эшли. Все много лет знали, сколько он платил по счетам мясника. Жена банкира давно уже по секрету сообщила самым близким подругам ничтожную цифру его сбережений в банке. Предусмотрительные и благоразумные торжествовали: Джон Эшли целых семнадцать лет нарушал непреложный закон цивилизации. Он не делал сбережений. Суд над ним затянулся сверх всякой меры. Уже на первых порах Эшли вежливо отказался от услуг платного адвоката, положившись на ту защиту, которую ему предоставил суд. На глазах у всего города из Сомервилла прибыл торговец подержанными вещами. Он увез в своем фургоне мебель, посуду, гардины, столовое и постельное белье, дедовские часы из холла, старинное фортепьяно, под звуки которого столько раз танцевали виргинскую джигу, даже банджо Роджера. Семья еще не голодала — у нее оставались куры, корова, огород; но счета от мясника перестали приходить. Накануне отправки в Джолиет Эшли переслал сыну свои золотые часы, и это было последнее семейное достояние, которое можно было обратить в деньги.
Во время процесса и первые недели после исчезновения Эшли весь город следил за всем, что делалось в «Вязах», со скрытым, но напряженным интересом. Мало кто приходил в дом — доктор Гиллиз, мисс Томс, на чьи плечи легло пока что все административное бремя, портниха Ольга Сергеевна Дубкова да иногда чиновники ведомства полковника Стопа, являвшиеся донимать миссис Эшли очередными расспросами. Духовник семьи доктор Бенсон не приходил ни разу. Он посетил заключенного в тюрьме, но Эшли явно не расположен был каяться, и доктор Бенсон почел себя свободным от всех дальнейших обязательств. Несколько ревностных прихожанок, после долгих переговоров так и не заручившись благословением пастора, решили все же навестить свою старую приятельницу. Однако, не дойдя двадцати шагов до дому, смалодушничали. Миссис Эшли вместе с ними усердно шила в миссионерском кружке, вместе с ними занималась украшением церкви к пасхальным и рождественским праздникам; приглашала их детей в «Вязы» на партию в крокет или на чашку чаю. Но за все годы она ни разу не обратилась ни к одной из них просто по имени. Мисс Томс она звала Вильгельминой и миссис Лансинг Юстэйсией, но это были единственные исключения. Даже служанку она всегда называла «миссис Свенсон».
Из дома в дом побежала весть, что Роджер, единственный сын Эшли, в ту пору семнадцати с половиной лет, уехал из Коултауна. Пустился по белу свету искать счастья, решили в городе, должно быть, надеется, что разбогатеет и сможет посылать деньги матери и сестрам. Девочки осенью не вернулись в школу. Ученье они продолжали дома, под руководством матери. Ни Лили, которой было без малого девятнадцать, ни девятилетняя Констанс, ни сама миссис Эшли не выходили за ворота «Вязов». Покупки для дома делала Софи, которой шел пятнадцатый год. Каждый день она проходила по Главной улице, приветливо улыбалась, если навстречу попадались знакомые, и словно не замечала, что часто ее приветствия остаются без ответа. Из дома в дом передавался полный отчет об ее покупках — мыло, мука, дрожжи, нитки, шпильки для волос и самый дешевый, «мышеловочный», сыр.
Обитатели «Вязов» узнали о побеге Эшли чуть ли не последними. Известие принес в дом Порки О'Хара. Порки, лучшему другу Роджера, был тогда двадцать один год. Несмотря на свою фамилию, он был больше чем наполовину индеец и принадлежал к религиозной секте ковенантеров, отколовшейся от пресвитерианской церкви; приверженцы этой секты переселились в Иллинойс из Кентукки и основали общину на Геркомеровом холме, в трех милях от Коултауна. У Порки была от рождения искалечена правая нога, но это не мешало ему слыть отличным охотником, и не раз он брал Роджера с собой на охоту. Он чинил башмаки всему Коултауну, с утра до вечера просиживая в своей мастерской-коробочке на Главной улице. В семье Эшли к нему относились с большим уважением, однако он никогда не входил в дом с парадного хода и ни разу не согласился сесть за стол вместе со всеми. Он мало говорил, но был верным другом; с квадратного лица цвета ореха зорко смотрели черные глаза. Двадцать второго июля утром на дворе послышался его обычный сигнал — крик совы. Роджер вышел и узнал о случившемся.
— Надо предупредить мать. Сейчас сюда явится полиция.
— Ты сам ей скажи, Порки. Она захочет тебя порасспросить.
Вслед за Роджером он прошел в холл. Миссис Эшли спускалась с лестницы.
— Мама, Порки тебе кое-что хочет сказать.
— Мистер Эшли убежал, мэм. Какие-то люди пробрались в вагон и выпустили его.
Пауза.
— Кто-нибудь ранен, Порки?
— Нет, мэм, я не слыхал.
Беата Эшли рукой оперлась о колонну, у нее дрожали колени. Она знала, что индейцы не тратят слов зря. В ее глазах был безмолвный вопрос: кто это сделал? Ответа в его глазах она не прочла.
Она сказала:
— За ним снарядят погоню.
— Да, мэм. Говорят, эти люди, что вызволили его, дали ему лошадь. Если он поторопится, то успеет добраться до реки.
Огайо протекает в сорока милях к югу от Коултауна, Миссисипи — в шестидесяти к западу. За время процесса у Беаты Эшли появилась хрипота в голосе и ей часто не хватало дыхания.
— Спасибо, Порки. Если услышишь еще что-нибудь, дай мне знать.
— Хорошо, мэм. — Глазами он сказал: «Они его не поймают».
Снаружи донесся топот ног по ступеням, сердитые голоса.
— Сейчас будут расспрашивать вас, — сказал Порки. Он вышел через кухню и, пробравшись сквозь изгородь за курятником, покинул усадьбу.
В парадную дверь застучали кулаками; отчаянно зазвонил дверной колокольчик. Дверь распахнулась настежь. Вошли четверо во главе с капитаном. Начальник городской полиции Вуди Лейендекер, старый друг Эшли, держался позади, будто надеясь, что его не заметят. В дни процесса он показал себя трусом, жалким и несчастным.
— Доброе утро, мистер Лейендекер, — сказала Беата Эшли.
— Ну, миссис Эшли, — сказал капитан Мэйхью. — Вы нам сейчас расскажете все, что вам об этом известно. — Он знал, что приказ о его увольнении и предании суду уже отстукивается спрингфилдским телеграфистом. Он знал, что будет обвинен в том, что навлек на штат Иллинойс позор и насмешки. Он понимал, какая жизнь ожидает его на ферме тестя, куда им придется уехать всей семьей, — жена год будет плакать не осушая глаз, дети никому в лицо не посмеют смотреть в убогой местной школе, где все классы ютятся в одной комнате. И он пришел сорвать на миссис Эшли свою ярость и свое отчаяние. — Да не вздумайте что-нибудь важное утаить, не то вам же худо будет. Говорите, кто были те шестеро, что вломились в вагон и утащили вашего мужа?
Ближайшие полчаса, миссис Эшли только твердила ровным голосом: ни о каких планах освобождения мужа ей ничего не известно. Мало кто мог в это поверить — одиннадцать человек, не больше, в том числе один преследуемый беглец, в это самое время прятавшийся в лесной чаще где-то неподалеку. Капитан Мэйхью не верил; начальник полиции не верил; читатели газет от Нью-Йорка до Сан-Франциско не верили, и меньше всех склонен был верить полковник Стоц в Спрингфилде. Дочери потихоньку спустились с лестницы и в страхе смотрели на мать. Роджер все время стоял с нею рядом. Наконец допрос был прерван появлением одного из подручных шерифа с какой-то телеграммой. Непрошеные гости ушли. Беата Эшли поднялась в свою комнату. Она упала на колени у супружеской постели, зарылась в покрывало лицом. Мысли ее кружились, не оформляясь в слова. Она не плакала. Она была лань, заслышавшая в долине выстрелы охотничьих ружей.
Роджер сказал сестрам:
— Ступайте займитесь своими делами.
— С папой ничего не случится? — спросила Констанс.
— Надеюсь, что нет.
— А что папа станет есть?
— Что-нибудь раздобудет.
— А он вернется домой, когда стемнеет?
— Пойдем, Конни, — сказала Софи. — Пойдем на чердак, посмотрим, нет ли там чего-нибудь интересного.
Несколько позже в дом, словно бы ненароком, заглянул доктор Гиллиз. Он много лет был другом семьи, хотя его профессиональная помощь требовалась редко. На суде он показал, что Джон Эшли был его другом и пациентом (как-то раз тот к нему обратился по поводу легкой ангины), ему часто и подолгу приходилось беседовать с обвиняемым на глубоко личные темы (беседовали они разве что о распространенности среди углекопов силикоза, туберкулеза и обмороков) и он убежден, что Эшли никогда не питал недобрых чувств к мистеру Лансингу.
Миссис Эшли приняла его в опустошенной гостиной. Там стояли стол, диван и два кресла. Доктору Гиллизу уже не первый раз вспомнились слова Мильтона: «Прекраснее всех дочерей своих праматерь Ева». Он скоро заметил ее хрипоту и прерывистое дыхание. Как он потом говорил своей жене, ее речь походила на мольбы избиваемого. Он поставил на Стол коробочку с пилюлями.
— Принимайте, как сказано на ярлыке. Вы мать трех подрастающих дочерей. Вам нужно поддерживать свои силы. Это просто железо. Пилюли растворяются в небольшом количестве воды.
— Спасибо вам.
Доктор помолчал, глядя в пол. Потом вдруг поднял глаза и сказал:
— Удивительная история, миссис Эшли.
— Да.
— Джон умеет ездить верхом?
— Ездил, кажется, когда был мальчиком.
— Ммм. Вероятно, он будет пробираться на юг. Он не говорит по-испански?
— Нет.
— В Мексику ему нельзя. В этом году нельзя. Думаю, он и сам понимает. Везде будут расклеены объявления. У меня спрашивали, есть ли у него шрамы на теле. Я сказал, что не видел. Возраст укажут — сорок лет. Ему не дашь и тридцати пяти. Скорей бы только отросли волосы. Все будет хорошо, миссис Эшли. Я уверен, что все будет хорошо. Если я чем-нибудь могу быть полезен, только скажите.
— Спасибо, доктор.
— И не нужно предупреждать события. Что думает делать Роджер?
— Он как будто говорил Софи, что хочет уехать в Чикаго.
— Так, так… Передайте ему, пожалуйста, пусть сегодня зайдет ко мне в шесть часов.
— Передам.
— Миссис Гиллиз просила узнать, может быть, вам что-нибудь нужно?
— Нет, спасибо. Поблагодарите от меня миссис Гиллиз.
Пауза.
— Фантастическая история, миссис Эшли.
— Да, — откликнулась она еле слышно. Обоих вдруг пробрал холодок, будто чем-то сверхъестественным повеяло в комнате.
— До свидания, миссис Эшли.
— До свидания, доктор.
Как только на городских часах пробило шесть, Роджер постучался в кабинет к доктору Гиллизу. Доктора поразило, насколько он вырос за последнее время. И еще его поразило, как неказисто он одет. В семье Эшли привыкли довольствоваться малым, не деньги, а душевный покой составляли ее богатство. На Роджере все было домодельное, но чистое и опрятное. Он смахивал на деревенского парня. Рукава едва доходили ему до запястий, штаны — до щиколоток. Эшли не беспокоились о мнении соседей, а это, пожалуй, дороже денег. Роджер был первым учеником, капитаном бейсбольной команды. Как и его отец, он возвышался над обыкновенными школьниками провинциального городка. Во всем основательный, уравновешенный, немногословный.
— Роджер, я слышал, ты собираешься в Чикаго. Работу ты там найдешь. Но если уж очень туго придется, вот тебе письмо к моему старому другу. Он врач одной из чикагских больниц. Санитаром он тебя всегда сможет устроить. Только это очень тяжелая работа. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы делать все, что приходится делать санитару, и смотреть на все, что ему приходится видеть. А жалованье ничтожное. Без крайней необходимости не прибегай к этому письму.
Роджер спросил только одно: получают ли санитары питание в больнице?
— А вот это — рекомендательное письмо, которое ты можешь предъявить где угодно. Тут сказано, что ты честен и заслуживаешь доверия. Для имени я пока оставил пробел. Подумал, может быть, ты захочешь взять другое имя — не потому, что стыдишься своего отца, но просто чтобы избежать дурацких расспросов. Нет ли у тебя какого-нибудь давно облюбованного имени? Мне надо отлучиться на минутку, кое-что сказать жене. А ты пока пройдись взглядом по корешкам книг на полках. Подбери себе имя, какое понравится. Имя и фамилию.
Роджер читал и прикидывал в уме. Хаксли, Кук, Холм, Гумбольдт… Роберт, или Луи, или Чарльз, или Фредерик. Его любимым цветом был красный. На глаза попалась книга в красном переплете: Эварист Трент, «Опухоли мозга и позвоночника», а потом еще одна: Гулдинг Фрезир, «Закон и общество». Может быть, ему предстоит стать врачом или юристом? Он скомбинировал два имени в одно, и доктор Гиллиз вписал в свои письма: «Трент Фрезир».
Утром 26 июля Роджер уехал в Чикаго. Он не счел нужным обсудить с матерью принятое решение. Отношения матери с дочерьми были точно мирный ландшафт, холодноватый и ясный; отношения матери с сыном — как тот же ландшафт, но в бурю. Сын любил горячо, неистово, и любовь сочеталась в нем с чувством глубокой обиды. Мать сознавала, что виновата, и не прощала себе этой вины. Она всю свою любовь отдала мужу; для детей осталось немного. Мать и сын редко смотрели друг другу в глаза: каждый слышал мысли другого — при таких отношениях нежности не всегда есть место. Каждый выше меры ценил другого — и страдал. Между ними долго стоял Джон Эшли, а ему страдание было чуждо, и он еще не научился замечать страдания своих близких.
Софи молча наблюдала, как брат укладывает в один из двух почему-то не проданных маленьких саквояжей то, что она ему принесла, — белье, которое выстирали и выгладили мать и Лили, и сверток с несколькими ломтями хлеба, намазанными вместо масла каштановой пастой и повидлом из яблок домашнего изготовления. Было семь часов утра. Они вместе вышли из дома и, дойдя до крокетной площадки, остановились с той стороны, которая не видна была из окоп. Там Роджер опустился на одно колено, его лицо оказалось на уровне ее лица.
— Ну, Софи, ты только смотри не падай духом. Я даже мысли такой не хочу допустить. Держись, как держалась до сих пор. Нам с тобой нельзя иначе.
Он помолчал с минуту тяжелым от всего, что не вместилось в слова, молчанием.
— Раз в месяц мама будет получать от меня письмо и деньги. Но ни своего нового имени, ни адреса я ей не сообщу. Ты понимаешь почему? Потому что полиция станет вскрывать все письма, адресованные в «Вязы». А я не хочу, чтобы полиция узнала, где я. Значит, писать мне мама не сможет; но я пока и не хочу получать от нее письма — первые полгода во всяком случае, а может быть, и больше. У меня сейчас должна быть одна цель, один интерес — ты знаешь какой?
Софи отозвалась полушепотом:
— Деньги.
— Да. Но тебе я тоже буду раз в месяц писать. Только не сюда, а на имя Порки, чтобы никто ничего не знал. Слушай меня внимательно, Софи. После пятнадцатого числа каждого месяца ты должна хоть раз в день проходить мимо окошка Порки, у которого он всегда сидит и работает. Иди, не поворачивая головы, но краешком глаз постарайся увидеть, не висит ли в окошке календарь, который я ему подарил к рождеству, — помнишь, с хорошенькой девушкой на картинке. Если висит, значит, для тебя есть письмо. Но ты сразу не входи, а вернись домой, захвати пару туфель и тогда спокойно иди, будто тебе надо отдать туфли в починку. Никто, Софи, слышишь, ни одна живая душа не должна знать, что мы с тобой сносимся через Порки. Иначе мы и его можем подвести. Весь этот план он придумал. Он — самый лучший наш друг. Теперь так: в каждое мое письмо будет вложен листок бумаги и конверт, уже с марками и с надписанным адресом. Ты мне напишешь и вечером, после того как стемнеет, пойдешь опустить письмо в тот почтовый ящик, что около дома Гибсона. Это довольно далеко, но так будет лучше. И пиши мне обо всем, что у вас тут делается, слышишь, обо всем. Как мама, как вы все. И главное — всю правду пиши, ничего не утаивай.
Софи торопливо кивнула.
— И еще вот что запомни, Софи. То, что произошло с папой, не самое важное. Самое важное начинается только сейчас. И оно зависит от нас с тобой. Будь и дальше такой, как ты есть. Не увлекайся разными глупостями, как это часто бывает с девушками. Нам нужно сохранять ясную голову. — Он еще понизил голос. — Предстоит борьба, нелегкая борьба ради денег. Деньги у мамы будут, для нее я бы даже украсть не побоялся.
Снова Софи торопливо кивнула. Ей это было понятно. Другое ее сейчас беспокоило и казалось ей неизмеримо важнее. Она сказала негромко:
— Ты мне тоже должен кое-что обещать, Роджер. Обещай, что и ты ничего не будешь утаивать. Если, например, заболеешь или еще что.
Роджер поднялся на ноги.
— Об этом ты меня не проси, Софи. Мужчина — совсем другое дело… Но я обещаю в общем писать правду.
— Нет, Роджер, нет! Вдруг ты заболеешь, тяжело заболеешь, или тебе нечего будет есть, а ты совсем один. Вдруг с тобой что-нибудь случится вроде того, что случилось с папой. Если ты мне не дашь слова писать всю правду, я тебе тоже не дам. Нельзя требовать от человека мужества, лишая его возможности это мужество проявить.
Две воли скрестились.
— Ладно, — наконец сказал Роджер. — Обещаю. По рукам.
Софи посмотрела на него долгим взглядом, который запомнился ему на всю жизнь. «Взгляд Жанны, слушающей голоса» — так он потом любил говорить.
— Потому что — ты это знай, Роджер, — если тебе когда-нибудь что-то будет нужно, деньги или другое что, я сумею достать. Я все для тебя сумею.
— Знаю, Софи. Знаю. — Он сунул руку в карман и достал пятидолларовую бумажку. — Слушай, в тот вечер, когда отца увозили, он послал мне свои золотые часы. Вчера я их продал за сорок долларов мистеру Кэрри. Тридцать отдал матери, пять оставил себе и пять отдаю тебе. Мне кажется, мама сейчас как-то далека от мыслей о деньгах. Покупками занимаешься ты, вот и спрячь эти пять долларов на черный день.
Больше он ничего не сказал, но вместе с деньгами протянул ей свое величайшее сокровище — три кангахильских наконечника для стрел из зеленого кварца, или хризопраза.
— Ну, мне пора.
— Роджер, а папа нам будет писать?
— Я сам все время об этом думаю. Но это грозило бы новыми бедами нам и ему самому. Понимаешь, он ведь теперь лишен гражданских прав. Может быть, со временем, несколько лет спустя, он изыщет какой-нибудь путь. А пока лучше нам не думать о нем. Мы должны жить, вот и все.
Софи кивнула, потом спросила шепотом:
— Роджер, а что ты собираешься делать? Кем то есть стать?
Смысл вопроса был — в какой области он собирается прославиться, и Роджер это понял.
— Сам еще не знаю, Софи. — Он посмотрел на нее с чуть заметной улыбкой, слегка наклонив голову. Не поцеловал. Только взял обеими руками за локти и крепко сжал их. — А теперь ступай в дом и постарайся устроить так, чтобы мама не выходила на кухню, пока я там. Я только возьму свою куртку и уйду через лаз за курятником.
— Роджер, ты меня извини… Ты меня извини, но тебе нужно попрощаться с мамой. Ты ведь у нас теперь единственный мужчина в семье.
Роджер шумно глотнул и расправил плечи.
— Хорошо, Софи, будь по-твоему.
— Она шьет в гостиной, словно сейчас восьмой час вечера, а не утра.
Роджер по черной лестнице поднялся наверх, будто забыл что-то у себя в комнате. Потом спустился в холл и вошел в гостиную.
— Ну, мама, мне, пожалуй, пора.
Мать встала в нерешительности. Она знала, что он, как и все в семье Эшли, не признает поцелуев, как не признает дней рождений, рождественских праздников, вообще таких случаев, когда принято выражать вслух то, что предпочитаешь хранить про себя. Снова ее дыхание сделалось прерывистым и частым. Когда она заговорила, едва можно было расслышать слова. Беата Келлерман из Хобокена, штат Нью-Джерси, перешла на язык своего детства.
— Gott behute dich, mein Sohn[51].
— До свидания, мама.
Дверь за ним затворилась. Первый и единственный раз в своей жизни Беата Эшли потеряла сознание.
В разговоре Софи с братом на крокетной площадке слышался отголосок чего-то не названного вслух.
Тех, которым нечем было платить налоги, насильно отправляли в дом призрения в Гошене, в четырнадцати милях от Коултауна. Тень дома призрения нависала густым черным облаком над существованием многих жителей Кангахильского и Гримблского округов. Попасть и Гошен было большим позором, чем попасть в тюрьму. А между тем Гошен предоставлял своим постояльцам удобства, о которых те прежде не могли и мечтать. Кормили в Гошене регулярно и сытно. Два раза в месяц меняли постельное белье. С широких веранд открывались отрадные для души виды. Воздух был чистый, не пропитанный угольной пылью. Женщины шили белье для больниц штата, мужчины работали и огороде и на молочной форме, а зимой занимались изготовлением мебели. Правда, в коридорах постоянно пахло капустой, но запах капусты не так уж неприятен для тех, кто всю свою жизнь провел в нищете. Нашлось бы там время и для дружеской беседы, но никто никогда не улыбался в Гошене и никто никому не говорил ласковых слов; слишком уж придавило всех бремя позора. Пять дней в неделю это была тюрьма, а в дни посещений близких тюрьма превращалась в ад: «Как ваше здоровье, бабушка?», «Тебе тут неплохо, дядя Джо?» Все мы живем в оковах, и каждый из нас надевает оковы на ближнего. Если ты попал в Гошен, это значит, что из твоей жизни, единственной твоей жизни, ничего не вышло. По христианскому учению, как его толковали коултаунские пастыри, существовала прямая и неразрывная связь между божьей милостью и деньгами. Впасть в нужду — это было не просто потерей человеком своего места в обществе, это было знаком, что всевышний от него отвернулся. Праведного бог до нужды не допустит. Так неимущие оказывались пасынками и земного, и небесного строя.
Для детей Гошен обладал притягательной и пугающей силой. Среди школьных сверстников Роджера и Софи немало было таких, у которых в Гошене содержались родные. Их дразнили со свойственной иногда детям жестокостью: «Эй ты, гошенский!» Весь Коултаун обошел в свое время рассказ о переселении в Гошен некой миссис Кэвено. Жила она в большом заложенном и перезаложенном особняке рядом с Домом Масонов и не платила налогов много лет подряд. Прихожане баптистской церкви, ее собратья по вере, не давали ей умереть с голоду, каждый день, по заведенному порядку, кто-то из них оставлял сверток с провизией на заднем крыльце особняка. Но грозный день наступил. Она убежала на чердак и сидела там притаясь, пока приехавшая за ней женщина связывала ее пожитки в узел. Когда ее вели вниз, она упиралась при каждом шаге, цеплялась за каждый дверной косяк. С крыльца ее почти что снесли на руках и силком втолкнули в повозку, точно бодливую корову. Стоял июнь, окна в соседних домах были распахнуты настежь. У многих екнуло сердце, когда разнесся ее отчаянный вопль: «Помогите! Заступитесь хоть кто-нибудь!» Когда-то миссис Кэвено была горда, богата и счастлива. Но господь отвернулся от нее. Роджер и Софи знали: случись такое с их матерью, она села бы в гошенскую повозку, как королева в дворцовую карету. Но знали они и другое — уберечь ее от такой участи некому, кроме них двоих.
Софи не мешкая принялась за дело. Лето было в разгаре. Она купила десяток лимонов. Взяла маленькую тележку, на которой возила корм своим курам, отправилась с нею в льдохранилище мистера Биксби и купила на пять центов льду. Написала два четких плакатика: «Мятный лимонад — 3 цента стакан» и «Книги — 10 центов штука». Соорудила себе стойку на вокзальном перроне, перевернув кверху дном ящик из-под апельсинов, и за четверть часа до прихода и отправления каждого из пяти дневных поездов располагалась там со своей торговлей. Поместила рядом ведро с водой — мыть стаканы. Около кувшина с лимонадом поставила вазу с цветами. Начальник станции дал ей небольшой столик, на нем она разложила книжки, которые отыскались на чердаке и в старых шкафах, — томики, завалявшиеся со времен Эрли Макгрегора, и старые технические учебники ее отца. На другой день она подобрала еще товару и сделала новые плакатики с ценами: «Музыкальная шкатулка — 20 центов», «Кукольный домик — 20 центов», «Колыбель — 40 центов». Улыбаясь, она сидела и ждала покупателей. За несколько часов весть об ее предприятии разнеслась по всему городу. Женщины пришли в волнение («Нашлись у нее покупатели?», «Много она наторговала?»). Мужчинам стало не по себе. Улыбка Софи — вот что давно уже удивляло и оскорбляло коултаунцев. Эта дочь опозоренного преступника смела еще улыбаться. Зрелище чужого несчастья, разлетевшегося вдребезги благополучия, отчаянной борьбы за существование рождает противоречивые эмоции. Даже те, кто настроен сочувственно, обнаруживают в своем сочувствии некоторую примесь облегчения, порей даже торжества — или страха, или беспокойства, или отвращения. Подобные перебои чувств часто именуются «трезвым взглядом».
Количество ротозеев, для кого развлечение — околачиваться на вокзальном перроне, увеличилось чуть ли не вдвое. Юная продавщица сидела у своей стойки одиноко, точно актриса на сцене. Первый стакан лимонаду купил Порки. Не показывая виду, что знает Софи, он минут десять простоял около нее, со смаком потягивая питье из стакана. Нашлись и еще покупатели. Проезжий коммивояжер взял «Основы инженерных расчетов», начальник станции мистер Грегг — «Проповеди» Робертсона. На следующее утро ватага мальчишек затеяла на перроне игру в мяч. Заводилой был Сай Лейендекер. Мяч летал взад-вперед над Софи и ее товаром — ясно было, что озорники метили в кувшин с лимонадом.
— Сай, — сказала Софи, — нашли бы вы себе для игры другое место.
— Вот новости, еще ты нам указывать будешь!
Свидетели этой сцены молчали. Вдруг со стороны Главной улицы вышел на перрон высокого роста мужчина с курчавой бородой. Тоном, не допускающим возражений, он приказал игрокам убраться. Софи, подняв на него глаза, сказала «Спасибо, сэр!» с учтивостью светской дамы, благодарящей кавалера за услугу. Человек этот был ей незнаком, но она уже не первый раз убеждалась, что помощи и защиты нужно ждать от мужчин, а не от женщин.
Только на четвертый день Софи решилась признаться матери. Уходя, она оставила на кухонном столе записку: «Дорогая мама, я сегодня немного задержусь. Продаю лимонад на вокзале. Целую, Софи».
Мать сказала:
— Софи, я не хочу, чтобы ты торговала на вокзале лимонадом.
— Но, мама, я сегодня выручила три доллара десять центов.
— Хорошо, но больше я этого но хочу.
— Если бы ты напекла овсяных лепешек, какие для нас печешь, я уверена, их бы у меня вмиг расхватали.
— Люди сейчас добры к тебе, Софи, но их доброты ненадолго хватит. Больше я этого не хочу.
— Хорошо, мама.
Через три дня мать нашла на кухонном столе новую записку: «Я у миссис Трэйси, там и поужинаю».
— Что ты делала у миссис Трэйси, Софи?
— Ей надо было уехать в Форт-Барри. Она меня попросила сварить ужин детям и накормить их и дала мне за это пятнадцать центов. А еще она просила, чтобы я переночевала у них, и тогда она даст мне еще пятнадцать. Она боится, чтобы дети оставались одни, Питер балуется со спичками.
— Когда она тебя звала ночевать, сегодня?
— Да, мама.
— Так сегодня иди, но, когда миссис Трэйси вернется, ты ее поблагодаришь и скажешь, что нужна матери дома.
— Хорошо, мама.
— И денег у нее ты не возьмешь.
— Но почему, мама, я ведь заработала эти деньги?
— Софи, ты еще девочка, и тебе не понять. Мы не нуждаемся в помощи посторонних. Обойдемся и без нее.
— Мама, скоро зима наступит.
— Что? Что ты хочешь этим сказать? Пожалуйста, не учи меня, Софи, я сама все знаю.
Через три недели после отъезда Роджера почтальон принес в «Вязы» письмо. Приняла его Софи. Жестом набожной мусульманки она прижала конверт ко лбу и к сердцу. Потом внимательно осмотрела со всех сторон. Нетрудно было заметить, что его вскрывали и опять запечатали — довольно топорно и грубо. Она понесла письмо матери на кухню.
— Смотри, мама, по-моему, это от Роджера.
— Ты думаешь? — Мать медленно распечатала конверт. На пол выскользнула двухдолларовая бумажка. Беата Эшли растерянно всматривалась в строчки письма, потом протянула его дочери. — Прочти… ты мне прочти, Софи, — хрипло выговорила она.
— Он пишет: «Дорогая мама, у меня все хорошо. Надеюсь, и у вас все хорошо тоже. Скоро я начну зарабатывать больше. Работу здесь нетрудно найти. Чикаго очень большой город. Адреса своего не даю, так как пока не решил, где обоснуюсь окончательно. Ты только подумай, я еще вырос. Пора бы мне уже перестать расти. Сердечный привет тебе, Лили, Софи и Конни. Роджер».
— Он здоров?
— Да.
— Покажи письмо сестрам.
— Мама, ты уронила деньги.
— Да… Возьми… спрячь их куда-нибудь.
Софи в точности выполнила все наставления брата. Вышла из дому и пошла в сторону мастерской Порки. За стеклом окошка белел календарь. В час пополудни, когда на улицах всего меньше народу, она вышла снова, со старыми туфлями Лили под мышкой. Какой-то заказчик, сидя в одних носках, дожидался срочной починки. Софи и Порки, отроду не бывавшие в театре, разыграли длинную слаженную сцену на тему о подметках и набойках, во время которой из рук в руки скользнуло письмо. Потом Софи пошла дальше, до самого памятника героям Гражданской войны. Здесь, присев у подножия, она вскрыла конверт. В нем лежал другой конверт, с маркой и с надписью «Мистеру Тренту Фрезиру, до востребования. Главный почтамт, Чикаго, Иллинойс», долларовая кредитка, чистый листок почтовой бумаги и письмо. В письме говорилось: он здоров. Растет так быстро, что она его не узнает при встрече. Работает в ресторане: сперва мыл посуду, а теперь получил повышение и состоит подручным при кухне. Целый день только и слышно: «Трент, сюда!», «Трент, туда!» Есть надежда в будущем получить место портье в отеле. Чикаго очень большой город, наверно, в тысячу раз больше Коултауна. Трудно даже представить себе, чем заняты все эти люди, что здесь живут. Он заранее радуется тому дню, когда Софи приедет к нему сюда. На днях он видел вывеску на одном доме: «Школа медицинских сестер». «Вот, Софи, туда ты и поступишь». Только Роджер, отец, да еще доктор Гиллиз знали о мечте Софи выучиться на медицинскую сестру. «Ты, наверно, знаешь, что я послал маме два доллара. Скоро, надеюсь, смогу посылать больше. А в это письмо вкладываю доллар для твоего тайного банка. Зайди к мистеру Боствику, узнай, может быть, он купит у нас каштаны. Больше нигде в округе каштанов не найти. Здесь, в Чикаго, они стоят двенадцать центов за бушель. Прошлогодние; конечно. Если тебе нечем будет писать, попроси карандаш у мисс Томс. У нее их девать некуда. Ты пиши поубористей, чтобы больше слов уместилось на листке. И ответь мне сразу же, как только прочтешь мое письмо. Наверно, никто на свете так не радовался полученному письму, как обрадуюсь я, получив твое. Как мамино горло? Чем вы там питаетесь все? Читаете ли вслух вечерами и смеетесь ли, если попадется что смешное? Помни, ты ведь обещала не падать духом. Я знаю, ты сдержишь обещание. И мы победим, Софи, вот увидишь. Я забыл сказать, чтобы ты не говорила маме о нашей переписке, но ты, наверно, и сама догадалась. Роджер. P.S. Я теперь жалею, что переменил имя. Пусть миллиарды людей думают, что хотят. Мы-то знаем, что папа ни в чем не виновен. P.S.2. РОВНО В ДЕВЯТЬ ЧАСОВ каждый вечер я думаю о тебе, и о маме, и о нашем доме. Сделай себе зарубку в памяти на этот счет. P.S.3. Принялись ли дубки, которые посадил папа? Измерь, насколько они выросли, и напиши мне».
Время шло. Благодаря огороду и курятнику семья в «Вязах» еще не голодала. Вместо чая пили отвар липового цвета — липа росла на участке. Кофе Софи не покупала больше; для Беаты это было тяжелым лишением, но она молчала. А деньги уходили и уходили: мука, молоко, дрожжи, мыло… Задолго до наступления холодов Софи начала подбирать уголь у железной дороги по примеру городской бедноты. Многие жительницы Коултауна, молодые и старые, повадились, лишь стемнеет, словно невзначай проходить мимо «Вязов». Шесть вечеров из семи в окнах дома не зажигался свет. Город настороженно ждал: сколько времени сможет просуществовать без всяких средств вдова — фактическая вдова — с тремя дочерьми?
Констанс была еще ребенком. Она не могла понять, почему ее забрали из школы, почему запрещают ходить за покупками вместе с Софи. Иногда она днем пробиралась украдкой в верхний этаж, к окну, выходившему на Главную улицу. Оттуда ей было видно, как идут из школы ее бывшие подружки. Лили, мечтательница по своему душевному складу, во время процесса как бы не намечала того, что происходило. Теперь она не то чтобы жила как во сне, она словно бы не жила вовсе. Три вещи всегда значили для нее больше всего: музыка, беспрестанная смена лиц вокруг и толпа молодых людей, удостоенных счастья восхищаться ею, — и все три перестали существовать. Она не тосковала, не дулась. Она с готовностью и добросовестно исполняла все, что от нее требовалось. В семье Эшли дети взрослели медленно, а Лили медленнее всех. Ее небытие таило в себе ожидание. Так морская анемона лежит на отмели, неподвижная и лишенная красок, пока не подхватит ее набежавшая волна.
Беата Эшли по-прежнему держала себя в руках. Никто из семьи никогда не оставался без дела. В доме царила образцовая чистота. Чердак и погреб приведены были в порядок. При разборке нашлось немало такого, что можно было еще починить и пустить в дело. За садом, огородом и курами ухаживали тщательней, чем когда бы то ни было. Без уроков не проходило ни дня. Ужинали рано, а после ужина занимались чтением вслух, пока на стемнеет. Прочли все четыре романа Диккенса, что имелись в доме, все три — Вальтера Скотта, прочли «Джейн Эйр» и «Les Miserables»[52]. Пришли к общему мнению, что мисс Лили Эшли особенно удается Шекспир. По четвергам разговаривали только по-французски, вечером зажигали свечи и не гасили до десяти часов. Каждый второй четверг в доме давался пышный бал. Танцевали под музыку старого граммофона. У прелестных мисс Эшли от кавалеров отбоя не было. Каждый бал украшала своим присутствием какая-нибудь выдающаяся особа — то прекрасная миссис Теодор Рузвельт, то посол французского короля. После танцев гостей ожидал изысканный ужин. На проволочной подставке выставлялось для общего обозрения меню: Consomme fin aux tomates Imperatrice Eugenie, a Puree de navets Bechamel[53] Лили Эшли и Coupe aux surprises Charbonville[54]. К утонченным яствам подавалось Vin rose Chateau des Ormes[55] 1899. Все дети Эшли с малолетства немного знали немецкий. В доме торжественно отмечались дни рождения немецких поэтов и композиторов. С лекцией выступала знаменитая Frau Doctor Беата Келлерман-Эшли, которая часами могла наизусть читать Шиллера, Гете и Гейне. К сожалению, торговец из Сомервилла увез фортепиано в своем фургоне, но девочки с малых лет по многу раз слышали сонаты Бетховена, прелюдии и фуги Баха. Стоило промурлыкать мелодию, и вся вещь оживала в памяти.
То, что вдруг обрушилось на Беату, не поразило ее, даже не озадачило. Она восприняла это как катастрофу, нелепую и бессмысленную. Но она не плакала и не жаловалась. Она ничем не выдавала своих чувств, разве что не желала показываться на городских улицах. Она как будто вполне владела собой, только один сдвиг произошел в ней. Она потеряла способность мыслить во времени. Ее разум отказывался заглядывать в будущее. Он ускользал от соприкосновения с завтрашним днем, с предстоящей зимой, со следующим годом. Не хотел он обращаться и к прошлому. О муже Беата упоминала вслух очень редко и всякий раз с видимым усилием. Хрипота, затуманившая было ее звучный, красивый голос, постепенно исчезла. Появлялась она опять лишь в те дни, когда полицейские чиновники являлись в «Вязы» допрашивать хозяйку дома, — и не во время этих грубых допросов, а после.
Беату Эшли томила мука, о которой она никому не говорила ни слова, — мука бессонницы. То была бессонница одинокой постели, бессонница долгих ночей, когда будущее предстает узким коридором без света, никуда не ведущим. Ей было горько, она понимала, что это изнурит ее и состарит раньше времени, и ей было страшно, она опасалась, как бы в конце концов не сойти от этого с ума. В довершение беды она не могла даже коротать время за книгой — ведь пришлось бы тогда жечь огонь по ночам.
Томило ее еще и другое — глубокое беспокойное чувство, которое она не умела определить словесно. Ни в одном из трех известных ей языков для него не находилось названия. Беата была женщиной строгих нравственных правил. Чутьем она угадывала опасность, подстерегающую впереди. Апатия? Безразличие ко всему? Нет. Душевное оцепенение? Нет. Но одним из проявлений этого безымянного чувства была стойкая неприязнь ко всему противоположному — воле Софи к жизни, тоске Констанс по школьным подружкам, молчаливому убеждению Лили, что ее ждет блестящая будущность.
Все матери любят своих детей. Это общеизвестно. Только материнская любовь — это как погода. Она есть всегда, но замечаем мы главным образом ее перемены. Материнской любви Беаты Эшли всегда чужды были внешние изъявления. Кто-то слышал однажды, как Констанс говорила Энн Лансинг, своей закадычной подруге: «Мама больше всего любит нас, когда мы болеем — вот когда я сломала руку, например». Вероятно, утрата одного из детей потрясла бы Беату больше, чем исчезновение ее мужа, ибо горе всегда сильней там, где к нему примешиваются укоры совести. Любимицей матери в семье была Лили — и принимали это как нечто само собой разумеющееся. Но любовь Беаты к мужу и по силе, и по характеру была такова, что оставляла не много места для других привязанностей. К тому же в ее отношении к дочерям сквозила тень присущего ей инстинктивного пренебрежения к женскому полу, унаследованного, как это часто бывает, от матери. Клотильда Келлерман, geborene фон Дилен, не слишком уважала мужчин, еще меньше — женщин, но зато была очень высокого мнения о собственной особе. Беата сначала боялась матери, потом восстала и одержала победу, но так и не освободилась от невольно заимствованного у нее взгляда на женщин. Ей не нравился женский склад ума, женские разговоры, женская доля, предопределенная жизнью. (Единственное, что ее раздражало в муже, — у него все обстояло наоборот. Ему скучно было разговаривать с мужчинами, если только речь не шла об общих деловых интересах. Вот со штейгерами он легко находил общий язык.) В первые месяцы после драматического события, круто переломившего судьбу Беаты Эшли, на нее иногда находила злость и усталость от того окружения, в котором теперь приходилось существовать, от этого непрерывного женского общества, от этого духа девической непорочности. Она сурово осуждала себя за такие вспышки. Она была врагом всякой несправедливости, а тут понимала, что несправедлива сама. Дочери чувствовали ее настроение. Все три — даже Лили — угадывали, что в чем-то не соответствуют ее требованиям, а может быть, требованиям самой жизни, и это затрудняло им даже общение друг с другом.
Софи еще раньше решила про себя, что у матерей с дочерьми «всегда так»; девочек больше любят отцы. Пошел уже шестой месяц с тех пор, как Джон Эшли в последний раз переступил порог своего дома. Особенно трудно Беате было с Софи. От Софи так и веяло энергией. Ее радовала ответственность, возложенная на нее братом. Эти первые месяцы Беата, при всей ее внешней выдержке, подобно иудейскому царю Езекии, «отворотила лицо свое к стене». Она безвольно скользила навстречу чему-то завершающему. Навстречу благодетельному концу. Она была точно потерпевшая кораблекрушение, которая вместе с другими в утлой шлюпке носится по волнам. Ни голод ни жажда уже не ощущаются ею, и с глухим раздражением она наблюдает, как ее спутники в чаянии спастись выкидывают сигналы бедствия, пытаются вычерпать воду из суденышка, жадно всматриваются в даль — не замаячит ли там островок, поросший пальмами.
А Софи не сдавалась. Все ее помыслы были теперь сосредоточены на долларах — красивых, труднодоступных, могущественных долларах. Во всем, что ей приходилось читать, видеть, слышать, она старалась найти реальную почву для своих надежд. Героини романов Диккенса часто становились швеями или модистками, но ей успеха на подобном поприще ждать не приходилось — об этом красноречиво свидетельствовали ледяные взгляды жительниц Коултауна. К тому же городских щеголих обшивала мисс Дубкова, добрая знакомая семьи Эшли. Столовых в городе было две: ресторан при гостинице «Иллинойс» и пропахшая кухонным чадом обжорка у вокзала; третьей не требовалось. Белье все хозяйки стирали сами, а холостяки и заезжие коммерсанты отдавали свое прачке-китайцу. Но был один проект, все настойчивее занимавший воображение Софи. Она пестовала его, обдумывая положение с разных сторон. На первый взгляд препятствия казались непреодолимыми. Нашлись, однако, и обнадеживающие соображения — одно, другое, третье. На южной окраине городка, напротив усадьбы Лансингов, стояло необитаемое полуразвалившееся строение; когда-то это был особняк с претензией на роскошь. Теперь во дворе пышно разрослись сорняки. На колонне, еще поддерживавшей крышу веранды, криво висели две заржавелые вывески: «Продается» и «Сдаются комнаты со столом». Пережив свою славу, дом какое-то время служил пансионом, а потом пристанищем для бродяг, для безработных шахтеров, для увечных и престарелых. Софи вспомнила читанную в дни детства книгу под названием «Ковчег миссис Уиттимор». В ней повествовалось о том, как одна вдова, обремененная кучей детишек обоего пола, открыла на взморье пансион для приезжих. Девочек Эшли эта книга в свое время очень веселила. С большим юмором говорилось там об угрозе дома призрения, нависшей над героиней. В открытом ею пансионе обитали главным образом милые рассеянные старички и суматошные, но добрые старушки. Впрочем, был среди жильцов и красивый молодой студент-медик, не замедливший влюбиться в старшую из дочерей хозяйки. Однажды упомянутая молодая особа отправилась в мрачную лавку ростовщика, чтобы продать украшенный жемчугом медальон своей матушки. Софи недоумевала, почему у автора получилось так, что лишь от полной безвыходности можно было решиться на столь унизительный и отчаянный шаг. Будь в Коултауне одна-две такие лавки, это пришлось бы очень и очень кстати. В конце концов миссис Уиттимор получала от одного богача приглашение стать домоправительницей в его горном замке, и все завершалось к общему благополучию. Софи разыскала на чердаке растрепанный томик и перечитала его вновь, на этот раз без улыбки. Из этого чтения она почерпнула немало ценных для себя сведений. Выяснилось, что содержательницам пансионов часто грозят убытки из-за недобросовестных жильцов, норовящих сбежать ночью, не расплатившись по счету. Миссис Уиттимор боролась с этой угрозой, протягивая поперек лестницы нитки с привязанными к ним коровьими колокольцами. А если злостный неплательщик, испугавшись нежданно произведенного им шума, бросался спешно к парадной двери, он обнаруживал, что предусмотрительная миссис Уиттимор намылила дверные ручки. А бывало и так, что сама хозяйка желала избавиться от кого-либо из жильцов (например, от мистера Хэзелдина, имевшего обыкновение наваливать себе на тарелку половину поданного к столу мяса, или мисс Ример, всем всегда недовольной), — в таких случаях ее дети и добровольцы-союзники, следуя полученным инструкциям, принимались разглядывать самым пристальным образом-то подбородок, то носки башмаков намеченной жертвы. Подвергнутый этой процедуре, которая в тесном кругу именовалась «выкуриванием», как правило, срочно подыскивал себе менее обременительное для нервной системы местожительство. В кухне миссис Уиттимор, экономя спички, пользовалась огнивом и кремнем; под видом жареной курицы подавала тушеного кролика; мыло варила домашним способом из свиного сала и просеянной печной золы. Софи сочла счастливым совпадением тот факт, что эта книга снова попала ей в руки, но жизнь тех, кто умеет надеяться, всегда полна счастливых совпадений. Она твердо решила открыть в «Вязах» пансион, а решив, сразу же начала действовать. Прежде всего она пошла в шахтное управление к мисс Томс, приятельнице и сослуживице отца. Мисс Томс прожила жизнь только что не в нужде и особым умением надеяться похвастать не могла. Она отнеслась прохладно к планам Софи, однако пообещала дать два стула, этажерку и кое-что из посуды. Затем Софи удалось тайком переговорить с Порки. Услышав новость, Порки подумал немного и сказал: «Знаете что, Софи, прежде всего начните по вечерам зажигать свет в гостиной. На темный фасад неприятно смотреть со стороны. (В тот же вечер он принес и оставил на заднем крыльце бидон с керосином.) Моя мать плетет коврики. Я вам могу дать два коврика ее работы. И один стул. А вы сейчас же ступайте в «Иллинойс» к мистеру Сорби и расскажите ему о том, что задумали. Иначе вы рискуете нажить в нем врага, а это не годится. И цены у вас не должны быть дешевле, чем у него. Бывает, что в «Иллинойсе» нет свободных номеров, и людям приходится ночь просиживать в холле. Может, он в таких случаях станет посылать их к вам. У моего дяди вроде бы есть кровать, которая ему не нужна».
После Порки Софи зашла к мистеру Кенни — маляру, плотнику и гробовщику.
— Мистер Кенни, мне нужна вывеска, прибить у входа в дом. Если я заплачу полдоллара и дюжину яиц, сможете вы за такую цену сделать?
— А что должно быть написано на этой вывеске, милая барышня?
Софи развернула оторванный от обоев лоскут, на котором ее рукой было выведено: «Пансион «Вязы». Комнаты со столом».
— Понятно, понятно. И к какому вам это требуется сроку?
— Хотелось бы к завтрашнему вечеру, мистер Кенни.
— Ну что ж, можно. (Вылитый отец! Каких только шуток не шутит жизнь! Стало быть, они решили пускать жильцов. Так-так. Сомнительно что-то.) А с платой не торопитесь, подожду до конца года.
— Благодарю вас, мистер Кенни. — Прямо как в светском разговоре.
На обратном пути она встретила Порки. Он скороговоркой забормотал:
— Раздобыл для вас столик. Комнаты в «Иллинойсе» пятьдесят центов и семьдесят. Завтрак — пятнадцать центов, с мясом — двадцать пять. Обед — тридцать пять центов. Вот вам несколько кнопок. Прикрепите записку к стене на почте, где вешают объявления насчет пропавших собак и потерянных кошельков. Коммивояжеры наведываются на почту по нескольку раз в день. Школьным учительницам, которые обедают в «Иллинойсе», не нравится, как там кормят. Я не раз слышал такие разговоры. Напишите: «Домашняя кухня».
— Хорошо, Порки.
— И вот что, Софи. Все у вас выйдет, только нужно запастись терпением. Может, потребуется время. Если я еще что придумаю, я вам дам знать. Не нужно рассчитывать, что люди так сразу валом повалят.
— Ну что вы, Порки, я понимаю!
Спасти семью Эшли Софи помогла надежда. Выражение «спасти» принадлежит ее брату и сестрам, так они называли то, что ей удалось совершить.
Она умела надеяться, у нее был в этом деле изрядный опыт. Надежда (если это глубокое, органичное чувство, а не исступление минуты, что порой исторгает у нас судорожные выкрики и мольбы и больше напоминает отчаяние) есть состояние духа и форма мировосприятия. Поздней мы поговорим о соотношении надежды и веры в характере отца Софи, человека, который был силен своей верой, хоть он сам о том не подозревал.
У Софи в четырнадцать лет была уже за плечами целая жизнь, хлопотливая, полная служению долгу, изобиловавшая радостями и печалями. Она умела врачевать. Она управляла целой ветеринарной лечебницей. Помимо забот о курятнике, у нее находилось множество других дел — то нужно было наложить шину собаке с переломанной лапой, то вырвать кошку из рук мучителей-мальчуганов, не знающих, чем скоротать долгие летние сумерки. Она подбирала выпавших из гнезда птенцов, заметив в придорожной пыли синеватое, еще не оперившееся тельце; она выкармливала лисят, барсучат, сусликов, а когда они подрастали, выпускала их на волю. Ей знакомы были жестокость, и смерть, и спасение, и вновь зарождающаяся жизнь. Знакома была непогода. Знакома была необходимость терпеть. Знакомо было поражение.
Надежде, как всякому проявлению творческих сил души, нужен побудительный импульс — любовь. Таково это странное, легкоуязвимое чувство. Надежду Софи питала ее любовь к матери и сестрам, а еще больше — к двоим далеким изгнанникам, брату и отцу.
Так беззащитна надежда перед судом разума, что постоянно должна сама создавать себе новые и новые опоры. Она тянется к героическим сагам и легендам, она не гнушается суеверий. Льстивые утешения ей не нужны; она дорожит победой, добытой в бою, но склонна к ритуалам и фетишам. Ложась спать, Софи не забывала положить под подушку три зеленых наконечника для стрел. В котловине, где теснится Коултаун, радуга — небывалое зрелище, но Софи два раза в жизни видела радугу, гуляя близ Старой каменоломни. Она знала, что это добрый знак. Над тайничком, куда она прятала деньги, была начерчена едва приметная дуга и у концов ее выведены инициалы: «Дж. Б.Э.» и «Р.Б.Э.». Иррациональная по природе своей, надежда тяготеет к тому, что кажется проявлением сверхъестественного. Софи черпала силу в необъяснимой тайне, окружающей побег ее отца. Но у надежды, пусть самой смелой, бывают свои периоды спада, свои черные часы. Когда такой час наступал для Софи, она замыкалась в себе, сворачивалась клубочком, точно зверек, пережидающий снежную бурю. Все члены семейства Эшли но воскресеньям ходили в церковь, но дома никаких религиозных обрядов не совершали. Молиться о чудесном спасении свыше Софи сочла бы слабостью. Если она и просила чего-нибудь у бога, то лишь чтобы он вразумил ее в борьбе с повседневными трудностями, ниспослал ей «ясность мысли».
И вот назавтра, после переговоров с мистером Кении, Софи поздно вечером проскользнула в комнату к старшей сестре. В одной руке она держала зажженную свечку, в другой — яркую вывеску, на которой значилось: «Пансион «Вязы». Комнаты со столом». Она села у кровати на пол и прислонила вывеску к коленям.
— Лили! Проснись, Лили!
— Что случилось?
— Смотри!
— Софи! Что это такое? — Ответа не было. — Ты с ума сошла, Софи!
— Лили, ты мне должна помочь уговорить маму. Тебя она слушает. Ты должна объяснить ей, как это важно. Лили, для нас это единственный выход. Иначе мы просто умрем с голоду. И потом, Лили, это нам даст возможность видеть людей. Так ведь нельзя жить, совсем никого не видя. Люди будут стучаться — старые, молодые, подумай, как интересно. Вы с мамой займетесь стряпней, а нам с Констанс останется уборка и постели.
— Но, Софи, такие ужасные люди!
— Почему же непременно ужасные? Поставим лампы в каждую комнату. А вечерами все будут собираться в гостиной и слушать твое пение. Я знаю место, где можно раздобыть пианино.
Лили приподнялась на локте.
— Но мама не захочет терпеть чужих людей в доме.
— Ну, если явится какой-нибудь неприятный человек, она всегда может сказать, что все комнаты заняты. Ты мне только помоги уговорить ее, Лили, хорошо?
Лили опустила голову на подушку.
— Хорошо, — тихо сказала она.
— Я-то каждый день вижу людей, но ведь ты и Конни не видите никого. Это очень плохо. Вы так одичаете. Может быть, даже подурнеете.
На следующий день после ужина Лили читала вслух «Юлия Цезаря». Мать шила. Младшие сестры, сидя на полу, распускали старые детские одеяльца, наматывая клубки пряжи. Лили дочитала сцену до конца и глянула на Софи.
— Устали глаза, дорогая? — спросила мать. — Давай я почитаю немного.
— Нет, мама. Вот Софи что-то хочет тебе сказать.
— Мама, — медленно начала Софи. — Наш дом очень большой. Слишком большой для нас. Как ты думаешь, что, если нам приспособить его под пансион?
— Что? Что ты такое говоришь, Софи?
Софи выхватила из-за спины вывеску и поставила себе на колени. Мать несколько секунд смотрела, ошеломленная, потом в гневе поднялась с места.
— Софи, ты не в своем уме! Как тебе могло прийти в голову что-либо подобное? И где ты откопала эту пакость? Сию же минуту выбрось ее вон! Ты просто по молодости лет не понимаешь того, что говоришь. Удивляюсь тебе, Софи.
В «Вязах» не принято было повышать голос. Констанс заплакала.
Лили сказала:
— Мама! Мамочка, дорогая, не торопись, подумай.
— О чем тут думать?
Софи подняла голову и, глядя матери прямо в глаза, сказала размеренно и веско:
— Папа одобрил бы это. Папа сам посоветовал бы нам так поступить.
Мать вскрикнула, точно от удара.
— С чего ты это взяла, Софи?
— Кто любит, тот постоянно думает о тех, кого любит. Вот и папа думает о нас. И надеется, что мы найдем выход — именно что-нибудь вроде этого.
— Девочки, ступайте, оставьте меня вдвоем с Софи.
— Я тоже останусь, мама, — возразила Лили. — А ты, Констанс, иди погуляй в саду.
Констанс обхватила колени матери.
— Я не хочу уходить одна. Мамочка, позволь мне не уходить.
Слова Софи так потрясли Беату, что после первой вспышки ей не удавалось вновь овладеть своим голосом. Вся дрожа, она отошла к дальнему окну. Она чувствовала, что ей некуда деться, что ее силон втаскивают обратно в жизнь.
— Наверно, папе было бы неприятно знать, что мы ходим в обносках, вечерами сидим без света. Он надеется, что мы здоровы и благополучны, — как мы надеемся, что здоров и благополучен он. Скоро зима. Пусть ты запасла овощей и фруктов, но придется покупать муку, да мало ли еще что. И потом Констанс — она ведь растет, ей нельзя совсем без мяса. Так сказано в книжке, которую мы недавно читали. А как чудесно было бы написать Роджеру, что он может больше не посылать нам денег. Ведь, наверно, они ему еще нужнее, чем нам. Я знаю, содержать пансион не так просто, но ты такая прекрасная хозяйка, мама, ты сразу сумеешь наладить дело.
Лили подошла к матери и поцеловала ее.
— Давай попробуем, мама, — сказала она негромко.
— Но, Софи, Софи, как ты не понимаешь — никто в наш дом не пойдет.
— Мистер Сорби из «Иллинойса» всегда очень добр ко мне. Как-то раз во время дождя он разрешил мне продавать лимонад у него в холле и сказал, чтобы я и впредь приходила, когда захочу. Иногда в «Иллинойс» наезжает столько народу, что там не хватает места, и многим приходится всю ночь просиживать в креслах внизу — даже дамам. Раньше он в таких случаях посылал кое-кого к миссис Блейк, но миссис Блейк сломала ногу и теперь не может брать постояльцев. А еще, говорят, школьным учительницам не нравится, как в «Иллинойсе» кормят. Я думаю, они бы охотно столовались у нас. И даже жить им наверняка было бы приятней у нас, чем у миссис Боумен или у миссис Гаубенмахер.
Мать растерянно покачала головой.
— Но, Софи, ведь у нас ничего нет: ни стульев, ни столов, ни кроватей, ни постельного белья.
— Мы с Лили отлично обойдемся без своих письменных столиков и можем спать в одной кровати. Два стула мне обещала мисс Томс. А Порки даст кровать, стул, стол и два коврика на пол. И еще он починит ту старую кровать, что стоит на чердаке. Две комнаты можно обставить хоть сейчас. Вот уже кое-что для начала.
— Попробуем? — сказала Лили.
Констанс подбежала к матери и обняла ее.
— Неужели мы опять станем жить как все люди!
— Ну хорошо, — сказала мать. — Зажгите кто-нибудь свечку. Пойдем посмотрим верхние комнаты.
— Мама, — сказала Софи. — У меня есть керосин. Позволь мне сегодня же засветить лампу и гостиной. Кому охота селиться в доме, где всегда словно траур.
На следующее утро — это было 15 сентября — Лили взобралась на лестницу-стремянку и приколотила вывеску к одному из вязов у ворот. Вечером прогуливающихся мимо дома прибавилось — коултаунские жительницы спешили взглянуть на этот вещественный знак смехотворного самообмана.
— «Приют уголовника» — куда более подходящее название.
— А еще лучше: «Арестантская услада».
Назавтра, когда Софи проходила по Главной улице, около нее остановился тарантас доктора Гиллиза.
— Привет, Софи!
— Доброе утро, доктор Гиллиз.
— Что с тобой сегодня? Сияешь, будто именинница.
— Да, пожалуй, вроде того.
— Что это я слышал, будто вы надумали открыть в «Вязах» пансион?
— Мы правда надумали, доктор Гиллиз. И вот что мне сейчас пришло в голову, доктор Гиллиз: может, у вас случится выздоравливающий пациент, которому нужен покой и домашний уход. Мама очень вкусно готовит. А насчет ухода — это уж мы все постараемся…
Доктор Гиллиз хлопнул себя по лбу.
— До чего ж кстати! — воскликнул он. — Скажи своей маме, что я к ней зайду сегодня часиков в семь. — И в тот же вечер было решено, что миссис Гилфойл, поправляющаяся после тяжелой болезни, на две недели поселится в «Вязах». «Куриный бульон, ваш прославленный яблочный компот, иногда яйцо всмятку».
Софи зашла в «Иллинойс» и поделилась своими планами с мистером Сорби. «Может, иной раз, если у вас будет переполнено, мистер Сорби, вы кого-нибудь направите к нам. Сейчас у нас живет миссис Гилфойл и очень довольна». Три дня спустя явился от него странствующий проповедник, брат Йоргенсен, который чересчур уж усердно занимался в баре «Иллинойс» спасением душ.
С новой учительницей коултаунской средней школы Софи сама заговорила на улице. «Мисс Флеминг, меня зовут Софи Эшли. Моя мать недавно открыла пансион в «Вязах» — вон в том доме, что виднеется за деревьями. Обед у нас в полдень. Цена — тридцать пять центов, но кто обедает каждый день, раз в неделю получает обед бесплатно. Моя мать очень вкусно готовит». Дельфина Флеминг сразу же пришла пообедать, попросила показать комнату и прожила два года. В школьном совете к этому отнеслись неодобрительно, но мисс Флеминг была «с востока» — если быть точным, из Индианы, — и от нее не приходилось ждать особой щепетильности в моральных вопросах. Попал как-то в «Вязы» пожилой торговый агент, за ним еще один, им понравилось. Куриный бульон с клецками и Rostbraten[56] Беаты Эшли приобрели популярность в коммивояжерских кругах, и голос Лили Эшли тоже. «Можешь мне верить, Джо, я в жизни не слышал ничего подобного. «О край родной, милей тебя нет в мире!» А ведь дочь убийцы, подумать только!» Пришлось оборудовать третью комнату, а потом и четвертую. Поддавшись на уговоры Софи, Беата пекла по праздникам свои знаменитые немецкие имбирные пряники, а Софи продавала их в холле «Иллинойса». Памятуя пример миссис Уиттимор, она экономила на чем могла. В дни забоя свиней она отправлялась с тележкой за три мили на ферму Беллов, где Роджер, бывало, на каникулах помогал полоть грядки, доить коров, управляться с сенокосом. Оттуда она привозила свиной жир и сама варила мыло, а мать прибавляла в него лаванды для запаха. Закваску для теста она тоже готовила сама. Плита на кухне разжигалась с помощью стального бруска и кремня. Экономить по мелочам — занятие, которое не назовешь монотонным. Софи, не робея, торговалась в лавках. Вместо жалостливой снисходительности к ней стали относиться с недоуменным уважением. Мужчины дружелюбно здоровались с нею при встречах; порой уже и кое-кто из женщин отвечал на ее приветствия коротким кивком. Бывшие одноклассницы перешептывались и хихикали, когда она проходила мимо. Мальчишки дразнили ее: «Старье берем! Старье берем! Почем нынче старье, Софи?»
А между тем происходили странные вещи.
Неделю спустя после того, как у ворот «Вязов» появилась пресловутая вывеска, в сапожную мастерскую Порки вошла Юстэйсия Лансинг в глубоком трауре, который был ей удивительно к лицу. Она выбрала послеобеденный час, когда на улицах Коултауна почти не бывает прохожих. У туфель Фелиситэ прохудились подметки. Уже сговорившись о починке, Юстэйсия вдруг спросила:
— Порки, вы, кажется, бываете у Эшли?
— Захожу время от времени.
— Верно это, будто они решили открыть пансион?
— Так говорят.
— Порки, вы из тех людей, что умеют хранить секреты. Я хочу попросить вас об одной секретной услуге.
Лицо Порки не выразило ровно ничего.
— Нужно, чтобы вы зашли ко мне, взяли сверток, который я приготовлю, отнесли его в «Вязы» и оставили там на заднем крыльце — но так, чтобы никто ничего не знал об этом. В свертке будет дюжина простынь и по дюжине наволочек и полотенец. Возьметесь вы это сделать, Порки?
— Да, мэм.
— Только придите за свертком после того, как стемнеет. Вы найдете его в кустах, у самой калитки.
— Да, мэм.
— Спасибо, Порки. И сверху, пожалуйста, положите вот эту карточку.
На карточке было написано: «От доброжелателя».
В другой раз к Порки наведалась мисс Дубкова, городская портниха, ей понадобилось прибить отвалившийся каблук.
— Порки, вы как будто знакомы с семейством Эшли?
— Да, мэм.
— У меня нашлись два лишних стула. Могли бы вы нынче вечером захватить их у двери моего дома, снести в «Вязы» и оставить на заднем крыльце?
— Да, мэм.
— Только чтобы, кроме нас с вами, никто не знал.
И много чего еще в эти первые недели неведомо как попало на задворки «Вязов»: кресло-качалка, три одеяла, не новые, но чистые и аккуратно заштопанные, большой картонный короб, а в нем набор ножен, вилок и ложек разных размеров, чашки с блюдцами и суповая миска — возможно, то был дар прихожанок методистской церкви.
Молодые коммивояжеры, как правило, в «Вязы» не обращались. Им это было не по карману. Они ночевали — двадцать пять центов за ночь — в большой общей комнате в «Иллинойсе» под самой крышей, где беспрепятственно разгуливал ветер. А если кто и являлся, миссис Эшли отказывала с ходу. У нее было три дочери, а злых языков в городе хватало. Но однажды январским вечером она отступила от своего правила и сдала комнату человеку лет тридцати, который пришел, держа в одной руке саквояж, а в другой — чемодан с образцами товара. В половине десятого Беата выгребла из плиты золу, заперла оба хода, парадный и черный, и везде погасила свет. Ночью, около двух часов, ее разбудил запах гари. Она подняла с постели дочерей и мисс Флеминг, учительницу математики. Все вместе они спустились вниз и увидели, что кухня полна дыму. Учительница бросилась вперед, задыхаясь и кашляя, пробежала к черному ходу и настежь распахнула дверь. Густой пахучий дым шел из топки, где догорала куча какой-то розовой бумаги. С огнем справились легко. Потом сварили какао на всех и, подкрепившись горячим питьем, подождали, пока окончательно не выветрился дым. Вернувшись к себе в комнату, миссис Эшли обнаружила там разгром точно после обыска. Содержимое ящиков было разбросано по всему полу. У пальто, висевшего в гардеробе, оказалась распорота подкладка. Ножом был взрезан матрац, располосована подушка. Даже картины валялись отдельно от рам.
Полковник Стоц из Спрингфилда ненавидел семью Эшли лютой ненавистью. Он рассчитывал, обыскав комнату миссис Эшли, напасть на след организаторов побега. Найти какие-нибудь письма, быть может даже недавно полученные от беглеца. Или хоть фотографию, которую можно будет воспроизвести на розыскных афишах.
За всю свою супружескую жизнь Джон Эшли всего четыре раза уезжал из дому, и то не больше чем на одни сутки. У Беаты не было никаких его писем, кроме тех, что он ежедневно писал ей из тюрьмы. Эти письма исчезли. Исчезла и единственная его фотография, старый выцветший дагерротип, на котором он улыбался во весь рот, высоко подняв на руках двухлетнего сына. Утром дочери с изумлением смотрели на свою мать. По ее лицу никогда нельзя было угадать, что творится у нее на душе; не было на нем и сейчас следов страха или тревоги. Казалось, прямой выпад врага еще придал ей силы.
Время текло, и Беата Эшли постепенно выходила из оцепенения. Работа требовала всех сил. У тех, кто держит пансионеров, отдыха не бывает. Для Констанс это была увлекательная игра. Она никогда не уставала, даже по понедельникам, после целого дня стирки. Лили словно вернулась на землю из дальней страны грез, где постоянно витала раньше. В доме с утра до вечера шла уборка, стряпня, мытье посуды. Но в город по-прежнему никто, кроме Софи, не ходил. У Лили и желания не было. Констанс хотелось до смерти, но Софи понимала: девочка еще недостаточно закалена, чтобы выстоять под косыми взглядами вчерашних школьных подруг. Роджер теперь каждый месяц посылал матери долларов по десять-двенадцать. При этом он коротко писал, что все у него идет хорошо, но не сообщал ни имени, ни адреса, по которому она могла бы ответить. Софи делала все покупки, получала деньги от жильцов, добывала мебель, обставляла еще и еще комнаты и носилась все с новыми «идеями». Брату она слала длинные письма. Каким счастливым был для нее тот день, когда она смогла написать ему, что уплатила налоги. Город полувраждебно, полувосхищенно следил за ее делами. Про нее говорили, что она «на два ярда под землей видит». В Коултауне редко бывали аукционы, но порой вдруг станет известно, что в том или другом доме распродается имущество — то ли за смертью хозяев, то ли по случаю переезда в другой город. И Софи уже тут как тут. А то где-нибудь натворит бед огонь вкупе с чрезмерным усердием добровольной пожарной команды — Софи и здесь окажется вовремя, чтобы задешево приобрести поврежденные простыни, оконные занавески, матрацы, старые платья и ночные горшки. Когда баптистская церковь у пруда Старой каменоломни прекратила существование, Софи выторговала старенькое пианино церковной воскресной школы за пятнадцать долларов с рассрочкой на пять месяцев. Она купила вторую корову. Завела уток, попробовала завести и индеек, но тут у нее ничего не вышло. К концу мая 1904 года в доме сдавалось уже восемь комнат. В теплую погоду даже «Убежище» использовали под жилье. Миссис Свенсон снова появилась на кухне в качестве наемной служанки. После истории с обыском Лили пришло в голову — считалось, во всяком случае, что это пришло в голову Лили, — предложить Порки, чтобы он поселился в «Вязах», в маленькой комнатке около кухни. За стол и квартиру он делал всю тяжелую работу по дому и приходил на помощь в тех экстренных случаях, без которых никогда не обходится в гостиницах и пансионах. То с кем-нибудь приключится сердечный припадок, то конвульсии. Один из жильцов запьет, другой вдруг окажется лунатиком, у третьего случится покража. Миссис Эшли изучила психологию разъездного торговца — вечного кочевника, хвастуна поневоле, лицедея в принудительной роли баловня удачи («Ах, миссис Эшли, столько заказов сегодня, не представляю даже, как я их выполню»); такой пьет, чтобы легче уснуть, а уснув, всю ночь борется с кошмаром, навеянным издевательской бессмыслицей бытия. Она знала и о тех черных минутах, когда лезвие бритвы подрагивает в руке. Первое время мать и дочери, перемыв посуду, уходили наверх и, собравшись в комнате миссис Эшли, занимались, как и прежде, чтением вслух. Но вскоре Беата поняла, что не хорошо в этот час предоставлять постояльцев самим себе; мысль о живых человеческих существах, томящихся наедине со своей тревогой, тоской или отчаянием, не давала ей покоя. Она чувствовала, как с наступлением сумерек нарастает внутреннее беспокойство у обитателей дома. И тогда в обычай вошло коротать вечера в большой гостиной внизу. Мать садилась за пианино, Лили пела. Один за другим квартиранты тихонько пробирались в гостиную. Многие оставались и дольше — послушать чтение. Летом в жаркие вечера переходили в беседку над прудом; зачастую просто сидели там молча, завороженные лунной дорожкой, серебрящейся на пруду, и глухой воркотней медленно скользящих по воде уток.
Беата Эшли превосходно справлялась с ролью содержательницы пансиона. Чтобы предупредить возможные нарушения порядка, она, как это делают опытные учителя в школе, установила твердые правила, превышавшие обыкновенные нормы житейского обихода. Она требовала, чтобы к столу являлись точно в назначенное время, чтобы никто не начинал есть, пока не будет прочитана молитва, чтобы мужчины были в пиджаках и при галстуке, не забывали бы пропускать дам вперед, соблюдали приличия в разговоре и воздерживались от неумеренных комплиментов прислуживавшим за столом. И кое-кому случалось, явившись в «Вязы» вторично, получить отказ. Неудачники потом острили в баре, что их не сочли достойными общества висельников, но такие остроты все чаще повисали в воздухе. А слухи о «Вязах» множились — и курятина там отменная, и кофе, какого больше нигде не отведаешь, и простыни пахнут лавандой, и утром тебя будит не удар сапогом в дверь, а ангельский голосок, окликающий тебя по имени. Пока длился процесс и в первые месяцы после побега Эшли сестры не раз замечали во время вечернего чтения, что мать словно не слышит того, о чем говорится в книге, — даже если читает она сама. Перелом наступил летом 1903 года. По вторникам читали тогда французский перевод «Дон Кихота». Приключения рыцаря, видевшего мир полным недобрых волшебников и жестоких несправедливостей, которые взывали об исправлении, показались Беате не смешными, а глубоко правдивыми. Застыв с иголкой в руке, она слушала рассказ о беззаветной верности рыцаря крестьянской девушке, которую он объявил прекраснейшей из дам. Потом читали «Одиссею». Там речь шла о человеке, подвергавшемся многим испытаниям на чужбине; богиня мудрости, сероокая Афина Паллада, являлась поддержать его дух в минуту уныния и обещала, что он благополучно вернется домой к любимой жене. Намаявшись за день, умиротворенная чтением, Беата спокойно засыпала.
Как ни трудились миссис Эшли и ее дочери, доходы были скудны. Хорошо, если удавалось сводить концы с концами. Одни квартиранты сменялись другими, но гости в «Вязах» бывали редко. Доктор Гиллиз являлся по вызову, всякий раз говорил хозяйке несколько добрых слов, но только на ходу. В воскресенье заглядывала иногда миссис Гиллиз или Вильгельмина Томс. Впрочем, была одна постоянная гостья — мисс Ольга Дубкова, городская портниха. Каждую вторую среду вечером она неизменно появлялась в доме. Миссис Эшли встречала ее с прохладцей, но девочки всегда радовались ее приходу. Она приносила городские, и не только городские, новости.
Ольга Дубкова — если верить молве, русская княжна — застряла в Коултауне не от хорошей жизни. Ее отец, преследуемый полицией за революционную деятельность, бежал в Константинополь с больной женой и двумя дочерьми. Оттуда он перебрался в Канаду, в углепромышленный городок, где русские друзья помогли ему устроиться, но тамошний климат оказался вреден для его жены, и он с готовностью-принял предложенное ему место в Коултауне. К двадцати одному году Ольга Дубкова похоронила всех близких и, оставшись бед всяких средств, начала зарабатывать на хлеб шитьем. Большинство жительниц Коултауна сами шили и перешивали себе платья, сами обшивали и своих детишек. Значительным событием местной жизни издавна являлись свадьбы; мисс Дубкова еще повысила их значение. Она была признанным авторитетом по части мод и приданого; ее советы насчет разных тонкостей брачной церемонии ценились не меньше ее швейного мастерства. Не много было матерей, которые положились бы только на собственные силы в столь ответственном деле, как изготовление нарядов для дочери и для себя к этому торжеству. Свадьбы стали оперными премьерами Коултауна. Впрочем, к счастью, у мисс Дубковой был еще один, более регулярный источник дохода — место кастелянши в гостинице «Иллинойс». Как иностранке, ей прощались многие чудачества, которые город осудил бы и не потерпел ни в ком из своих. Она курила сигареты с длинным желтоватым мундштуком. Она была идолопоклонницей — один угол в ее комнате был увешан иконами, перед которыми горели светильники, и, входя или выходя, она крестилась на них. Она говорила то, что думала, и некоторые ее речения передавались потом из уст в уста неодобрительным шепотком. Рослая и худая, она держалась очень прямо. Изжелта-смуглая кожа обтягивала выступающие скулы. Глаза, длинные, узкие, но мнению некоторых, напоминали кошачьи; дети иногда пугались их взгляда. Рыжеватые волосы были уложены в высокую прическу, украшенную бантиками из черной бархатной ленточки. Одевалась она с подчеркнутой элегантностью, всегда туго затянутая, шуршащая шелком. Зимой ходила в высокой меховой шапке и в венгерке с отделкой из шнура наподобие аксельбантов. Жила она бедно; весь город знал, как бедно она живет. Говорили, что весь ее рацион составляет овсяная каша, капуста, яблоки и чай да по воскресеньям баранья котлетка. Единственная роскошь, которую она себе разрешала, — это хорошо одеваться и один раз в год принимать гостей. Приглашала она их на русскую пасху, двадцать человек, не больше и не меньше. Сборища эти были отмечены сугубо иностранной, чуть устрашающей торжественностью — большие круглые кексы, ритуальный обмен приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», трехкратный поцелуй, яйца, украшенные символическими рисунками, зажженные светильники у икон. Все знали, что мисс Дубкова откладывает деньги, чтобы вернуться в Россию, и, когда ее поезд отойдет от перрона, она даже и не оглянется на Коултаун. Откладывать деньги, когда откладывать почти не из чего, — все равно что пытаться обогнать время. Ольга Сергеевна не хотела вернуться в Россию нищенкой. Она была не княжной, но графиней, и настоящая ее фамилия была не Дубкова.
Мисс Дубкова никогда не была близка с семьей Эшли. Если она и дружила с кем-либо в Коултауне, то с Юстэйсией Лансинг. Юстэйсия и ее старшая дочь Фелиситэ шить умели не хуже, если не лучше, самой Ольги Сергеевны, но они постоянно обращались к ней за советом, за помощью, а то и просто потому, что находили удовольствие в беседе с нею. Втроем они сшили немало затейливых и красивых нарядов. Мисс Дубкова восхищалась Юстэйсией Лансинг («Девушки, — говаривала она подружкам очередной невесты, собравшимся поработать иглой под ос руководством, — самое важное в женщине — это шарм. Берите себе в пример миссис Лансинг»). Зато Брекенриджа Лансинга она терпеть не могла и ничуть этого не скрывала. Как-то раз она отчитала его у него же в доме за какое-то пренебрежительное словцо, сказанное им по адресу своего сына Джорджа. Она разразилась целой тирадой на тему о воспитании мальчиков, потом надела шляпу и шаль, простилась с Юстэйсией и Фелиситэ и ушла из «Сент-Киттса» — ей казалось, что навсегда. Хоть она и пс была близка с семьей Эшли, весь город знал, какого высокого она о них мнения: и дети их самые благовоспитанные в Коултауне, и дом ведется так, что лучшего и пожелать нельзя. Поначалу миссис Эшли с недоверием отнеслась к ее регулярным визитам, не сразу поняв, что приходит она не из любопытства и не из сострадания. Просто сказалось то, что было заложено в мисс Дубковой с детства. Она была аристократкой. Благоденствуя, аристократы не навязывают друг другу своего общества; в беде они сплачиваются воедино. Они сомкнутым строем пытаются противостоять варварам. Хотя во время суда над Эшли зал был набит до отказа, около Беаты и ее сына всегда несколько мест оставались незанятыми — то ли из уважения, то ли оттого, что горе и преступление кажутся людям заразительными. И только мисс Дубкова, мисс Томс или миссис Гиллиз садились иногда на эти места, молча кивнув Беате Эшли, точно вдове на похоронах.
И еще одно обстоятельство побуждало мисс Дубкову регулярно посещать «Вязы». Подобно Софи, она жила надеждой. Мы уже говорили, ничто так не укрепляет надежду, как чудо. Таким чудом явился для Ольги Сергеевны побег Эшли. В нем повторилось для нее самое важное событие ее прошлого, и в нем она видела залог надежды на будущее. Когда-то в России был приговорен к смертной казни ее отец. Ему, как и Эшли, удалось выскользнуть из рук полиции. Теперь ожидать чуда приходилось ей самой, ибо только чудом она могла вырваться из Коултауна. Но она не теряла надежды, что вернется на родину, встретит родных, остаток дней посвятит служению соотечественникам. Она не мечтала вернуться с почетом и славой — только бы не зависеть ни от чьих милостей, снисхождения и участия. Она уже скопила на билет до Чикаго (три года — начальные, самые трудные годы ее одиночества), на дорогу до порта Галифакс в Новой Шотландии (семь лет) и на морской переезд до Санкт-Петербурга (двенадцать лет). Теперь она откладывала деньги на первое время жизни в России, пока она не получит места гувернантки или учительницы. Ей недавно исполнилось пятьдесят два года. Чтобы не перестать надеяться, нужна была повседневная закалка. Она могла заболеть, могла умереть; ее сбережения могли сгореть при пожаре или стать добычей воров; их могла обесценить девальвация доллара. Надежда, как и вера, немыслима без мужества, немыслима и без некоторой доли нелепости. Крах надежды ведет не к отчаянию, а к смирению. Но кто силен был в надежде, тот и в смирении остается сильным.
Задолго до удивительного происшествия на железной дороге близ Форт-Барри Ольга Сергеевна уловила в воздухе «Вязов» веяние чего-то необычного. Она была чуть-чуть влюблена в Джона Эшли — и но она одна; при всей своей, казалось бы, заурядности он нравился женщинам. Ее иногда приглашали в «Вязы» поужинать; в точение семнадцати лет она почти ежедневно встречала Эшли на улице и обменивалась с ним двумя-тремя общими фразами. Загадочные события весны и начала лета 1902 года показали, что интуиция со не обманывала. Уют человек был отмечен судьбой. Он нес в себе знамение. И теперь, приходя в его дом, она обретала новые силы — она согревала свой дух жаром явленного здесь откровения истины. При каждом своем посещении мисс Дубкова просила Лили спеть. Не зная никакой другой школы, Лили старалась подражать голосу madame Нелли Мольби, выходившему из похожей на цветок вьюнка трубы полуразбитого граммофона. Результаты были поразительны. Мисс Дубкова предсказывала с волнующей убежденностью, что когда-нибудь Лили станет великой певицей и прославится на весь мир. Тронув свои так медленно увеличивающиеся сбережения, она выписала из Чикаго двухтомную «Методику бельканто» madame Альбанезе. Она в лицах показывали Лили, как madame Карвалло под гром аплодисментов выходила к рампе кланяться публике и как Ла Пикколомини en recueillement[57] молча стояла у рояля, пока зал не замирал в тишине, весь — внимание. Дочери Эшли говорили по-французски грамматически правильным книжным языком; она приобщала их к вольной идиоматике живой разговорной речи. Беату Эшли она уважала, но не любила. Ничего удивительного в том не было, она вообще не любила женщин. Она считала, что миссис Ушли неправильно поступает, отказываясь выходить в город. Будь Ольга Сергеевна на ее месте, она бы каждый день прогуливалась но Главной улице из конца в конец, испепеляя взглядом тех, кто посмел бы с нею не поздороваться. Софи ее не интересовала. Она отлично видела, как много та трудится, чтобы дела пансиона шли успешно, но ни разу не предложила помочь хотя бы советом. Ей самой приходилось бывать в трудном положении, и она считала, что людям из общества на такие темы беседовать не к лицу. Сталь существует, чтобы выдерживать давление. Суть же дела заключалась в том, что ее интересовали только мужчины, хотя она знала, что среди них много ничтожеств. Ни одного мужчины не было в ее жизни после того, как умер ее отец и позорно сбежал жених, но весь смысл ее бытия сводился к тому, чтобы поражать мужчин резкостью своих суждений о них, своим трезвым умом и элегантностью осанки. С женщинами ей было скучно.
Бельевая гостиницы «Иллинойс» находилась в подвале, в длинном, низком, никогда не проветриваемом помещении. Слабый свет проникал через зарешеченное помытое окошко под самым потолком. Почти каждое утро мисс Дубкова спускалась сюда с двумя керосиновыми фонарями, которые подвешивала ко вделанным в потолок крюкам. На полках вдоль стен, прикрытые от пыли холстиной, лежали стопки белья. Фонари приходились прямо над длинным столом, она всякий раз тщательно вытирала его, прежде чем взяться за работу. В одно июньское утро 1903 года в бельевую постучались. Она осторожно приотворила дверь на несколько сантиметров — сквозняком тотчас наметало пыль от ящиков с углем, стоявших в коридоре.
— В чем дело?
— Мисс Дубкова?
— Да.
— Вы, я нижу, заняты. Можно мне войти и подождать, когда вы найдете возможным уделить мне минуту?
— Я всегда занята. Что нам нужно?
— Меня зовут Фрэнк Радж. Я хотел бы поговорить с вами по секретному делу, если вы меня впустите.
— Что еще за секретные дела? Ну входите. Сядьте и обождите немного, пока я тут разберусь.
Она усадила его под одним из фонарей и окинула быстрым цепким взглядом. На вид ему было лет тридцать пять, он был красив и знал это. Секунду спустя он уже знал и другое — что мисс Дубкова чувствительна к мужской красоте и оттого именно будет с ним нелюбезна и даже груба. Для начала она задала ему работу. На полу громоздились кучи только что принесенных из стирки простынь. Она велела навалить их на стол, а сама занялась чем-то в другом конце комнаты. Потом закурила и обратилась к нему.
— Так что вы от меня хотите?
— Хочу предложить вам тридцать долларов жалованья в месяц за очень несложную работу.
— Вот как!
— И указать вам возможный способ заработать несколько тысяч долларов.
— Ишь ты!
— Хочу, словом, поговорить с вами о Джоне Эшли.
— Мне ничего не известно о Джоне Эшли.
— Знаю. Уже год и два месяца, как о нем никому ничего не известно.
— Перестаньте валять дурака и скажите, что вам нужно.
— Нам нужна правда, мэм. Правда, и ничего больше.
— Так вы из полиции! Вы от полковника Стоца!
— Полковник Стоц больше не прокурор штата. А я действительно служил в полиции, но был уволен. Сейчас я представляю одно частное лицо.
— Полковник Стоц — старый дурак.
— Его ведомство в данном случае действовало не очень удачно. Мы это понимаем.
— Называйте вещи своими именами! Они действовали как идиоты!
— Мм…
— Идиоты и кретины! Не отнимайте у меня времени но пустякам.
— Мисс Дубкова, не могли бы вы три минуты послушать меня, не перебивая?
— Ладно, только сперва вы три минуты помолчите.
Опять ему пришлось дожидаться. Она сделала вид, что подсчитывает сгонки полотенец. Ее руки слегка дрожали. Она ненавидела полицию, любую полицию любой страны. Вот так же, должно быть, русская полиция подбиралась к ее родному дому; так же, должно быть, уже после их отъезда «вынюхивала» что можно у соседей. Но — тут маячили деньги, много денег, много рублей. Наконец она закурила новую сигарету и повернулась к нему, прислонясь спиной к полкам, уперев руки в бока.
— Говорите, я слушаю.
— Спасибо, мэм. Значит, так, мэм, в прокуратуре штата есть специальный отдел, который занимается розыском исчезнувших лиц, особенно если это осужденные преступники. Отдел этот до сих пор не сумел напасть на след Эшли или хотя бы тех шестерых людей, что помогли ему бежать. За сведения, которые дадут возможность арестовать Эшли или этих шестерых, назначено четыре тысячи долларов вознаграждения.
— Три тысячи.
— Цифра недавно увеличена.
— К чему вы это говорите мне?
— Потому что вы единственный человек, бывающий в доме Эшли, мисс Дубкова, — я хочу сказать, единственным, кто способен что-то заметить. Там, в доме, находится ключ ко всем загадкам. Как только миссис Эшли сколотит полсотни долларов, она начнет расплачиваться с освободителями своего мужа. Пройдет еще немного времени, и она станет получать письма и деньги от него самого. Очень может быть, она и сейчас уже что-то получает, только не на свое имя.
— Ха! Теперь понятно, зачем это полиции вздумалось вскрывать мои письма.
— Только два письма, мисс Дубкова. И я к этому не причастен. Я же вам сказал: я теперь представляю частное лицо. Но за домом установлена тщательная слежка. — Он встал, обошел вокруг стола и, подойдя к ней вплотную, заглянул ей прямо в глаза. — Так или иначе эти сведения будут получены, и теперь уже скоро. Найдется немало охотников заработать четыре тысячи долларов. Так не лучше ли, чтобы они достались вам? А? Если вы сумеете разузнать главное, обещаю устроить, чтобы право на вознаграждение было признано за вами.
— И вы своими грязными умишками рассудили, что я помогу отправить на смерть ни в чем не повинного человека?
— Не будьте ребенком, мисс Дубкова. Губернатор в штате сменился. Очень нужно новому губернатору совать голову в это осиное гнездо. Эшли будет помилован, но, чтобы его помиловать, необходимо раньше узнать всю правду. Факты — вот что нам требуется.
— Зачем же столько хлопот из-за человека, которого вы все равно собираетесь помиловать? Объявите, что казнь ему не грозит, и он сам вернется домой.
— Вернуться он, может, и вернется, мэм, но ничего нам не скажет о тех, кто ему помог бежать. Вы, видно, не представляете себе, сколько в этом деле загадочного и непонятного. Кто устроил побег? Сам он не мог, сидя в тюрьме, это и думать нечего. Если люди рисковали головой для его освобождения, значит, им хорошо заплатили. Есть у Эшли богатые, влиятельные друзья? Постарайтесь узнать имена. Кто финансирует пансион в «Вязах»? Нам известно в точности до одного цента, сколько денег было у миссис Эшли. У нас на учете каждый стул, оставшийся в доме. Даже очень умная женщина не могла бы наладить такое предприятие без помощи, а миссис Эшли не из очень умных женщин. Вы ей денег в долг не давали, доктор Гиллиз тоже не давал, у мисс Томс у самой ничего нет. Мы проверили их родню. Мать мистера Эшли умерла, но отец жив, заправляет небольшим банком в северной части штата Нью-Йорк. О сыне он не пожелал разговаривать — попросту выставил нас из своего дома. С родителями миссис Эшли нам не больше посчастливилось. За всем этим кроется тайна, мисс Дубкова, и не одна. После того как эти тайны будут раскрыты, мистер Эшли может вернуться домой.
Мисс Дубкова отошла от него и закурила еще одну сигарету. Мистер Радж выложил на стол свою визитную карточку.
— Вы мне будете писать один раз в месяц, в последний день каждого месяца. Сообщайте обо всем, что, на ваш взгляд, может иметь малейшее отношение к делу. А я в свою очередь буду писать вам, чтобы вы были в курсе тех сведений, которые к нам поступают со стороны. Какой адрес молодого Эшли в Чикаго? Через кого миссис Эшли сносится с ним? Как вам кажется, получает миссис Эшли письма от мужа?
— Нет!
— Вы имеете возможность выяснить точно. И вот я нам еще что подскажу. Вы ведь и у миссис Лансинг бываете, верно? Не исключено, что путь к вашим четырем тысячам лежит через «Сент-Киттс».
— Что-о?
— Вам никогда не приходило в голову, что побег Эшли могла организовать миссис Лансинг?
— Что вы такое мелете?
— Мистер Эшли и миссис Лансинг были — извините за откровенность — любовниками.
— Никогда в жизни!
— Почему вы так уверены? Возможно, миссис Лансинг ссудила деньги для пансиона. Всякое возможно.
В ответ он услышал негромкий, раскатистый, звенящий презрением смех. Мисс Дубкова взглянула на карточку, лежавшую на столе.
— Мистер Радж, — сказала она. — Ничего вы не знаете об Эшли и Лансингах. Вы даже своей задачи не понимаете. Тычетесь не туда, куда надо. Прежде всего вы должны установить, кто убил Брекенриджа Лансинга.
— Но нет никакого сомнения, что Эшли…
— Вы — сыщик?
— Да.
— Так прекратите болтовню. Начните присматриваться и прислушиваться. Вы еще здесь пробудете день-другой?
— Ну… если это нужно…
— Это необходимо. Ваше учреждение превратило процесс в комедию. Не превратите в такую же комедию свое расследование. Попытайтесь узнать, что здесь на самом деле произошло. И для начала переоденьтесь. Вы слишком похожи на полицейского. Побродите вдоль Приречной дороги. Зайдите выпить в одно из тамошних злачных мест — в «Коновязь» Хэтти или в «Глиняный кувшин» — и притворитесь пьяным. Брекенридж Лансинг проводил там половину своих вечеров. Не может быть, чтобы он ни с кем не поссорился. Заведите знакомство среди шахтеров. Брекенридж Лансинг был никуда не годным администратором. Не может быть, чтобы он ни в ком не нажил врага. Заведите знакомство с человеком по имени Джемми, это старый охотник из местных. Брекенридж Лансинг неделями пропадал на охоте с ним вдвоем. Кажется, тридцать долларов я уже заработала. В общем, я согласна писать вам в течение четырех месяцев. Я человек честный. Если за это время никаких полезных сведений вы не получите, считайте наше соглашение расторгнутым. Платить вы мне будете каждое первое число, а не по получении письма от меня. И первые деньги заплатите немедленно.
— Сегодня же пошлю вам по почте чек.
— Нет! Никаких чеков. Тридцать долларов наличными, из рук в руки.
Радж провел в Коултауне еще восемь дней. Четырежды он заходил в бельевую — поговорить с мисс Дубковой о деле Эшли. Многое он услышал о Брекенридже Лансинге, ничего, впрочем, такого, что проливало бы свет на загадку убийства. Мисс Дубкова выдвигала все новые гипотезы, подсказывала, где и как искать. Она энергично принялась за выяснение кое-каких обстоятельств, но с Раджем достигнутыми успехами не делилась. Между ними возникла своеобразная дружба. Иногда они затевали игру в карты. Несметные состояния выигрывались и проигрывались в душной полутемной бельевой — для расплаты служил сушеный горох, добытый в кладовке по соседству. Они рассказали друг другу свои истории. Под конец Радж признался, что был одним из вооруженных конвоиров, охранявших Эшли в ночь побега. После этого-то его и уволили из полиции. Теперь он занялся частным сыском, его нанимают страховые компании, банки, отели, ревнивые мужья. Его специальностью в некотором роде являются поджоги. Работа в общем интересная. Еще служа в полиции, он пользовался благосклонностью полковника Стона и теперь выполняет его поручения в частном порядке. Полковник Стоц сейчас не у дел, но продолжает розыски на собственные средства. Он человек очень богатый и за деньгами не стоит, только подай ему Эшли, живого или мертвого. Мисс Дубкова выведала у Раджа все подробности побега. Ее дотошные расспросы заставили его вспомнить разные мелочи, которые в ту ночь прошли мимо его сознания и в протокол следствия не попали. Разговор с ним лишний раз показал мисс Дубковой, что полиция тупа и бездарна. Некоторые выводы из этого разговора напрашивались сами собой, но она о них умолчала.
Боже, до чего глупы мужчины! Недели не прошло, как у мисс Дубковой сложилось совершенно твердое мнение насчет того, кто помог Эшли бежать. Кто убил Лансинга, она догадалась еще раньше.
Об этих долгих беседах в бельевой знал только один человек — дворник Солон О'Хара. Как и Порки О'Хара, его родич — не то внучатый племянник, не то троюродный брат — Солон принадлежал к общине ковенантеров, религиозной секте, перекочевавшей сто лет назад в южный Иллинойс из Кентукки и обосновавшейся на Геркомеровом холме. Большинство членов общины были индейцы или метисы, хоть и носили английские и ирландские фамилии. Немало ходило толков о причудливых религиозных обрядах ковенантеров, немало давалось им издевательских прозвищ, всем, однако, было известно, что это люди честные, безупречные по своему образу жизни, не болтливые и надежные. Работали они дворниками и сторожами во всех коултаунских учреждениях — в банке, в суде, в тюрьме, в Мемориальном парке, в школах, в гостинице «Иллинойс», на кладбище и в железнодорожном депо. Ремесленников, за исключением Порки, среди них не было, делами, требующими усидчивости, не занимался никто. Солон время от времени заходил в бельевую, приносил выстиранное белье или подавал утюги, когда мисс Дубкова заштопает и перечинит что нужно.
Поставив перед собой задачу, мисс Дубкова немедля приступила к ее выполнению. Она пригласила миссис Эшли с двумя старшими дочерьми «на чашку чаю по-русски». Миссис Эшли от приглашения отказалась, сославшись на невозможность отлучиться из пансиона, зато Лили и Софи приняли его с радостью. То был первый за год с лишним случай, когда Лили вышла из дому. Пройдись по Главной улице жирафа, это не произвело бы большего впечатления. А мисс Дубкова во время своих визитов в «Вязы» с удвоенной бдительностью следила за всем происходящим вокруг.
Одни квартиранты сменялись другими. Меньше стало капитальных затрат, связанных с оборудованием дома, и Софи теперь удавалось откладывать чуть побольше. Мать никогда не спрашивала о ее сбережениях, не интересовалась их суммой. Шла вторая зима существования пансиона. В день нового, 1904 года Лили должно было исполниться двадцать лет. Она окончательно вернулась из своего «небытия», но но выказывала нетерпеливого стремления к другой, менее монотонной жизни. Она словно бы знала, что скоро ее захлестнет такая волна поклонения и успеха, с какою не всякой молодой женщине под силу справиться; можно было позволить себе и подождать. Среди квартирантов не попадалось никого, кто привлек бы внимание миссис Эшли, Лили и Софи. Лишь Констанс приглядывалась к каждому лицу, старалась постичь каждый характер. Ко всем она относилась с живым любопытством, а к некоторым даже с симпатией. Она искала отца. В семье Эшли она одна не старалась скрывать свои чувства. То, что из ее жизни исчез отец, было не только больно, но и странно. Она не понимала, почему мать избегает говорить о нем. И навсегда сохранила обиду на мать за это, не прошедшую даже тогда, когда сама она уже помнила его только памятью сердца. Сидя во главе стола, миссис Эшли была неизменно ровна и приветлива. Она поддерживала общий разговор, вставляя порой банальные замечания, казавшиеся глубокомысленными благодаря прекрасному звучному голосу, их произносившему. Доктор Гиллиз часто с тревогой останавливал взгляд на своей любимице Софи, которой весной должно было сравняться шестнадцать. Она похудела, но и в ней уже угадывалась будущая незаурядная красота. Ее заветной мечтой было стать сестрой милосердия, об этом они с доктором Гиллизом шептались порой вечерами. Беспокоило доктора, что в ней словно бы развивались одновременно две Софи. Одна, трезвая и практичная, ходила из лавки в лавку по Главной улице, торговалась при покупках, сбывала выращенную ею птицу, запасала муку, сахар, овсяную крупу, а дома умела быть непреклонной к неаккуратным плательщикам, обнаруживая житейскую сметку, какая впору особе лет двадцати пяти, и притом наделенной недюжинными способностями. Другая словно делалась еще моложе, краснела и утрачивала дар речи в любой ситуации, не требовавшей проявления деловых качеств. В ее улыбке была теперь какая-то отрешенность, пугавшая доктора Гиллиза. Слишком уж, видно, тяжелую ношу она взвалила на свои плечи. В рождественское утро третьего года повой эры доктор встретил ее у ворот «Вязов» и вложил ей в руки небольшой сверток.
— Счастливого рождества, Софи.
— Счастливого рождества, доктор Гиллиз.
— Взгляни, нравится тебе мой подарок?
Покраснев, она развернула бумагу и на переплете книги прочла: «Жизнь Флоренс Найтингейл». «Девочка даже в лице переменилась», — рассказывал потом доктор жене. Язык не повиновался ей. Она уставилась на доктора словно в испуге, потом пробормотала какие-то слова и убежала на кухню. «Она изголодалась душой, — подумал он. — Ей одиноко без отца и брата». В атмосфере «Вязов» недоставало тепла. Каждый из членов семьи существовал сам по себе. «Слишком все туго натянуто здесь. Вот-вот что-то лопнет», — мысленно рассуждал доктор.
Миссис Эшли по-прежнему не выходила из дому. Дня через два после рождества она засиделась вечером позже обычного. Пансион был закрыт с сочельника до третьего января. Одной только старушке разрешили остаться, при условии что обедать и ужинать она будет в «Иллинойсе». Порки тоже на это время закрыл свою мастерскую и переселился к деду на Геркомеров холм. Миссис Эшли с дочерьми ели на кухне. Внезапное нарушение установившегося порядка отозвалось в них невероятным чувством усталости. Они поздно вставали, рано ложились спать. А у миссис Эшли опять сел голос и возобновилась бессонница. Тоска о муже, о сыпе томила ее, хотелось надеяться, хотелось верить в грядущие перемены. В этот вечер, вместо того чтобы лечь пораньше в постель, она испекла шесть штук своих знаменитых лепешек. Мистер Боствик, бакалейщик, всегда был готов выставить их у себя в лавке на самом почетном месте. В половине двенадцатого сверху спустилась Лили и увидела, что мать, задумавшись, сидит на скамеечке перед остывшей печкой, а на столе красуются шесть румяных лепешек.
— Мама, иди ложись! Что это тебе вдруг вздумалось стряпать? Лепешки твои — прелесть, но зачем ты сегодня затеяла эту возню?
— Лили, тебе не хотелось бы пойти погулять немного?
— Мама! Ты еще спрашиваешь!
— Оденься и разбуди Констанс. Пусть тоже оденется, она пойдет с нами.
— Ах, мама, как это ты чудесно придумала!
В городке уже погасли огни. Ночь была ясная и холодная. Они направились в сторону вокзала, прошли под тюремными окнами, миновали здание суда. Заглянули в окошко почты, силясь разглядеть афишу с фотографией Джона Эшли. Прошли Главную улицу из конца в конец. Остановились у входа в «Сент-Киттс» и долго-долго смотрели на дом, где проведено было столько счастливых часов за игрой, за варкой помадки, за рассказыванием всяких историй и упражнениями в стрельбе из ружья. Сказать, что Беата любила Юстэйсию Лансинг, было бы преувеличением; чувства любви у нее едва хватало на близких. Они были очень разные, эти две женщины — креолка и немка, — но обеим была чужда мелочность, и они отлично ладили между собой. Сейчас на Беату нахлынуло что-то очень похожее на нежность к бывшей подруге. Если б можно было хоть просто посидеть вдвоем, презрев то уродливое и страшное, что их вдруг разделило. Беате Эшли так нужен был кто-то, с кем бы поговорить или помолчать вместе о женской судьбе, о том, как протекают годы, о блекнущей красоте, о детях, о мужьях, есть они или нет, о приближении старости и смерти.
— Идем, девочки.
Домой они возвращались переулками, мимо приходской церкви, мимо дома доктора Гиллиза. Постояли с минуту на мосту через Кангахилу, прислушиваясь к всплескам воды под топкой коричневой корочкой льда, похожим на сдавленные смешки.
— Ах, мамочка! — воскликнула Констанс, бросаясь на шею матери, как только они вошли в дом. — Давай будем ходить так почаще.
А ведь в одну из таких полуночных прогулок они могли бы натолкнуться на Юстэйсию и Фелиситэ Лансинг и во взглядах, устремленных на «Вязы», прочесть ту же тоску о чем-то, известном только из книг, а может быть, и не существующем вовсе, — о дружбе.
Прекрасна весна в Коултауне. Тюльпаны и гиацинты, правда чуть рябоватые, пробиваются из болотистой почвы. Желтеют, хоть и недолго, одуванчики, сирень полна обещаний. Шумит Кангахила, дробя кромку закопченного стекла у берегов. Влюбленные ищут приюта в Мемориальном парке, а когда там уже не найти места, то на кладбище. А в шахтах весной учащаются катастрофы. Отчего это так — остается непонятным. Плотник мистер Кенни, он же и гробовщик, всю зиму заготовлял товар в ожидании весеннего спроса. В шесть часов, когда клеть поднимает из шахты отработавших углекопов, они с удивлением видят, что на земле еще светло; можно перевести дух и вновь найти в себе силы, чтобы завтра опять зарабатывать хлеб для семьи. Туберкулезным больным становится лучше; вняв уговорам миссис Хаузермен, они принимают решение меньше кашлять — может быть, выздоровеют?
Во всей красе явилась в Коултаун весна 1904 года — и с нею Ладислас Малколм. В «Вязы» редко стучались молодые люди, а если стучались, то получали отказ. Почти два года Лили и Констанс не видели близко ни одного молодого человека, кроме Порки, и ни один молодой человек не видел их. Софи, та встречала молодых людей каждый день и привыкла к дерзким смешкам и недобрым шуточкам по ее адресу; лодыри и хулиганы — иначе о них не скажешь. В книгах, читанных вечерами, изображались герои, как, например, Лохинвар и Генрих Пятый, или смятенные души, жаждущие женской любви и заботы, как Хитклиф и мистер Рочестер. Но среди тех, кто селился в «Вязах», никого похожего не было, большинство постояльцев казались сестрам столетними стариками.
Случилось так, что мистеру Малколму отворила дверь Лили.
— Добрый день, мэм, — сказал гость, обмахиваясь соломенной шляпой. — Найдется ли у вас комната до послезавтра?
Голубые глаза удивленно посмотрели в другие голубые глаза; их взгляд посуровел.
— Да, пожалуй, найдется. Будьте добры вписать в эту книгу свое имя и адрес. Вот здесь изложены наши условия. Ваша комната — номер три, это наверху, вторая дверь слева. Она не заперта. Ужин в шесть часов. Курить просьба только в зимнем саду за гостиной. Если что-нибудь понадобится, вам достаточно кликнуть. Наша фамилия — Эшли.
— Благодарю вас, мисс Эшли.
Мистер Малколм снес свой саквояж и чемодан с образцами в комнату номер три, потом вышел из дома и отсутствовал около часа. В начале шестого женщины, работавшие на кухне, услышали непривычные звуки. Кто-то играл на пианино в гостиной так, как здесь никогда не играли раньше. Музыка была громкая, с подчеркнутым ритмом, мелодию украшали арпеджированные пассажи по всей клавиатуре. Миссис Эшли вышла в холл, чтоб получше слышать. Младшие дочери последовали за ней.
Поздней, на кухне, Констанс сказала:
— Какой он красивый. Про таких пишут в книгах.
— Софи, — помолчав немного, сказала мать, — ужин сегодня будешь подавать ты.
— Я буду подавать, — возразила Лили. — Сегодня моя очередь.
— Лили, этот молодой человек неподходящий для нас жилец.
Но Лили, холодно посмотрев на мать, повторила:
— Сегодня моя очередь.
Ровно в шесть Лили понесла супник в столовую. Вернувшись, она сказала:
— Мама, там ждут, чтобы ты пришла разливать суп.
— Пусть остальное подает Софи, слышишь, Лили?
— Мама, он музыкант, а музыка для меня все. Я подам ужин, а после ужина буду петь.
— Лили, девочка моя. Это приведет только…
— Мама, мы живем, как в тюрьме. Вечно так жить нельзя. Иди, тебя ждут.
Первый раз Лили отказалась повиноваться матери.
Была среда, одна из тех сред, когда приходила мисс Дубкова. В этот раз миссис Эшли позвала ее к ужину, чего никогда не делала прежде. Дочери ели обычно на кухне, по очереди помогая миссис Свенсон прислуживать за столом жильцам.
Мистер Малколм был воплощенная любезность. С величайшим вниманием слушал он рассуждения миссис Эшли о погоде и рассказы миссис Хопкинсон о ее ревматизме. Когда Лили меняла тарелки, он даже не поднял глаз на нее. Зато он то и дело посматривал на мисс Дубкову, не сводившую с него пытливого взгляда. От нее не укрылось, что он тайком снял обручальное кольцо с пальца и опустил в жилетный карман.
— Вы, мистер Малколм, настоящий музыкант, — сказала миссис Хопкинсон. — Да-да, но отнекивайтесь. Любители так не играют, но вы не единственный музыкант в этом доме. Миссис Эшли, уговорите Лили спеть мистеру Малколму после ужина. Она поет, точно ангел — другого слова не подберешь. — И, понизив голос, старушка прибавила: — А до чего хороша, а? Просто красавица.
Мистер Малколм повременил с ответом, пока не вернулась Лили. Тогда он скромно сказал:
— Да, я немножко играю, и пою тоже. По правде сказать, я хочу стать профессиональным артистом. Для того пока и разъезжаю с товаром, чтобы заработать необходимые деньги.
После ужина все перешли в гостиную. Лили и мистер Малколм пели поочередно. Потом каждый хвалил пение другого. Всем присутствующим было ясно, что мистер Малколм потерял голову. А Лили — как мы уже говорили выше, — она за полтора года, кроме Порки, ни одного молодого человека близко но видела. Никогда не бывала в городе крупнее Форт-Барри. Но держала она себя как принцесса, которую грубые революционеры временно лишили трона. Случайно она очутилась в Коултауне, штат Иллинойс, случайно прислуживает за столом в пансионе. Случайно проводит сегодня вечер в обществе симпатичного молодого человека, которого ни одна принцесса в здравом уме и твердой памяти не приняла бы всерьез — разве что он мог оказаться ей чем-нибудь полезен. Она подшучивала слегка над его песенками, подшучивала над его манерой подолгу не отпускать педаль. Но в то же время можно было предположить, что он ей в общем нравится — точнее, что она готова числить его среди двух десятков молодых людей, являющихся порой в дом помузицировать после ужина.
Миссис Эшли спокойно занималась шитьем, покуда не нужно было аккомпанировать дочери. Репертуар мистера Малколма отличался от репертуара Лили, но ничего рискованного в нем не было. Пел он громко, приятным сочным баритоном. Голос Лили обычно звучал не в полную силу, но в этот вечер она обнаружила, что может петь и громко. Он пел о том, как созревают арбузы на бахче, она о том, как Маргарита нашла у себя шкатулку с драгоценностями. Он пел о храбрых ребятах из роты Б, она о Диноре, в лунную ночь танцующей со своей тенью. На этажерке в гостиной дрожали морские раковины; соседские собаки откликались заливистым лаем.
Мисс Дельфина Флеминг, учительница математики, сказала:
— Лили, спойте, пожалуйста, арию из «Мессии».
Миссис Хопкинсон захлопала в ладоши.
— Да-да, душенька. Спойте непременно.
Лили кивнула в знак согласия. Она выпрямилась и устремила в пространство строгий взгляд, требуя полной тишины, как ее учила мисс Дубкова. Наконец оглянулась на аккомпаниаторшу и начала: «Я знаю, жив Спаситель мой».
Пела Генделя двадцатилетняя девушка из пыльного иллинойского захолустья, не слыхавшая ни одного настоящего певца, кроме как в механической записи. Мисс Дубкова слушала, и у нее дрожали руки. Поистине все в этом доме исполнено было значения. Лили унаследовала красоту матери, была так же свободна от всякого налета провинциализма или пошлости, но к этому в ней прибавилась отцовская внутренняя гармония, непринужденность бытия. То был голос веры, истой и бескорыстной. Джон Эшли и его предки, Беата Келлерман и ее предки — десятки поколений, переселившихся в мир иной, — своей творческой силой, инстинктом свободы, в них заложенным, создали это чудо.
В половине десятого миссис Эшли встала, сославшись на поздний час. Мисс Дубкова молча поцеловала Лили на прощанье. Она видела, как та поблагодарила мистера Малколма за его музыку и пожелала ему доброй ночи. Принцесса Трапезундская милостиво разрешила дотронуться до ее руки, улыбнулась сияющей улыбкой и побежала по лестнице наверх. Он стоял и смотрел ей вслед будто громом пораженный.
Назавтра Лили за ужином не показывалась. Вечер был теплый. Миссис Хопкинсон предложила сразу после еды перейти в беседку. Туда пришла и Лили. Сперва атмосфера не располагала к разговорам. Все сидели околдованные отраженным в воде мерцанием звезд, плеском волн пол дощатым полом беседки, ароматом листвы, воркотней круживших по воде уток. Лили тихо мурлыкала одну из тех песенок, что пел вчера мистер Малколм, словно желала загладить свои давешние насмешки. Миссис Эшли попросила мистера Малколма рассказать о себе, о своем детстве. Он сказал, что его отец и мать родом из Польши, эмигрировали в Америку за год до его рождения. Малколмом он назвал себя сам, потому что никто не мог ни произнести, ни правильно написать его настоящую фамилию. Потом он заговорил о своем влечении к сцене.
— Как интересно! Как интересно! — восхищалась миссис Хопкинсон.
— Уверена, что вы добьетесь успеха, — вторила ей мисс Маллет.
Миссис Эшли его рассказы казались невыносимо скучными. Вечер прошел без музыки. Утром мистеру Малколму предстояло покинуть пансион. Миссис Эшли предупредила заранее, что со следующего дня его комната обещана другому. Она решила уже, что завтрак подаст ему сама; ее дочерей он больше не увидит. Все воротились в дом. Миссис Хопкинсон, мисс Маллет и Констанс чуть не в слезах простились с мистером Малколмом; он же ни на кого не смотрел, кроме Лили. Миссис Эшли все еще не опомнилась после дочернего неповиновения, с которым ей пришлось столкнуться накануне. Весь вчерашний вечер Лили, как всегда, добросовестно исполняла свои обязанности, но ни разу не глянула в сторону матери и обращалась к ней только по необходимости. Даже спокойной ночи ей не пожелала. Сегодня Беата целых четыре раза пыталась сказать Лили о кольце, спрятанном мистером Малколмом в карман — она тоже это заметила, — да все как-то не выходило. И теперь она была озабочена тем, как бы предотвратить слишком долгие проводы. Но, к ее удивлению, Лили только подала мистеру Малколму руку, о милой улыбкой молвила «доброй ночи» и беспечно побежала наверх.
В доме шла неделя весенней уборки, мебель передвигалась с места на место. Софи спала в комнате у Лили. Когда ужо были погашены все огни, Констанс постучалась в дверь и вошла, не дожидаясь ответа.
— Лили! Ты не спишь?
— Нет.
— Тебе очень грустно, да? Оттого что он уезжает завтра?
— Нет.
— Но ведь он тебе правится, да?
— Конни, я очень устала.
— А он в тебя влюблен, даже слепому видно. А почему мама так неласкова с ним? А тебе, Софи, понравились его песни?
— Да, кроме «Эбенезера».
— А как было весело, Лили, ты еще никогда не пела так, как вчера, ничуть не хуже, чем граммофон. А почему тебе не жалко, что он уезжает?
— Я спать хочу, Конни. Спокойной ночи.
— По-моему, если кто кому очень нравится, можно и опять приехать, чтобы повидаться.
В дверь постучали. Вошла миссис Эшли.
— Уже поздно, девочки. Вам давно пора спать.
— Сейчас иду, мама. Я только зашла сказать Лили, как мне жалко, что мистер Малколм завтра уезжает.
— Одни постояльцы уезжают, другие приезжают. Это в порядке вещей, Констанс. Постояльцы — не личные друзья.
— А когда же у нас снова будут друзья, мама? Нельзя же вечно жить без друзей.
— Вот что, девочки, раз уж мы тут сейчас все вместе, я вам хочу рассказать, что я надумала в последние дни. Завтра пойду вместе с Софи за покупками.
— В город?.. Мама!
— И мы с ней зайдем в банк. Отныне мы будем держать в банке деньги, которые удается отложить. И у этих денег будет особое назначение — они пойдут на оплату хорошего, очень хорошего, учителя пения для Лили. И еще одно. Помните, какие званые ужины мы с вашим отцом устраивали когда-то? Вот теперь мы с вами раз в месяц станем устраивать такие же. На первый раз пригласим доктора с женой, миссис Гилфойл и Дэлзилов, а в следующем месяце мисс Томс и мисс Дубкову. Кроме того, каждая из вас может назвать гостя, которого ей лично хотелось бы пригласить.
— Мама!..
— А с будущей осени, я думаю, Софи и Констанс начнут опять посещать школу.
Констанс повисла у матери на шее.
— Мама, мамочка! Больше ни у кого на свете нет такой мамы!
— Теперь, Констанс, ступай к себе. Мне нужно поговорить еще кой о чем с твоими сестрами.
Констанс вышла из комнаты. Лили, притворно зевнув, сказала:
— Мама, я очень устала за день. Мне сейчас не хочется разговаривать.
Софи сразу почувствовала, как больно уязвили мать эти слова.
— Знаешь, мама, мне кажется. Лили немного простужена. Схожу согрею ей молока с медом. И пожалуй, лучше всего пусть выпьет и постарается уснуть.
Но все смелые планы так планами и остались. Спустя три часа миссис Эшли разбудил чей-то голос, окликавший со из коридора. Она зажгла лампу и отворила дверь. Мистер Малколм, растрепанный, с лихорадочным румянцем, попросил грелку и горчичников. От предложения послать за доктором Гиллизом он отказался. Он знает, что у него, это не в первый раз. «Застудил, видно, печенку». Ему очень больно, но как-нибудь он перетерпит.
Утром доктор Гиллиз все-таки навестил больного. Миссис Эшли подкараулила его внизу у лестницы.
— Что с ним, доктор Гиллиз?
— Ничего серьезного — небольшое расстройство желудка.
— Доктор, я вас прошу, сделайте так, чтобы он как можно скорей убрался отсюда.
— Но…
— Я не верю в эту болезнь. Ничем он не болен, доктор Гиллиз.
— То есть как?
— Помогите мне! Отправьте его в больницу в Форт-Барри, или в лазарет шахтного управления, или просто пусть перебирается в «Иллинойс». Что хотите, только чтобы здесь он не оставался.
— Но у него жар. Небольшой, правда, но есть.
— Свесил голову с кровати и подержал так. Каждому школьнику эта хитрость известна. Доктор Гиллиз, я просила его освободить сегодня комнату, но беда в том, что он влюблен в Лили.
— Вот оно что. Бедный малый… Ладно, миссис Эшли, попробуем взять его измором.
— Доктор Гиллиз, вы ангел.
— Чашку чаю и яблоко на завтрак. На обед бульон с сухарем и на ужин то же самое.
— Спасибо! Спасибо! Только вы это напишите на бумаге — и еще напишите, что ему запрещается вставать. Пусть сидит безвыходно в комнате, мошенник!
Ухаживать за больным поручили Софи. Среди дня Лили пришла его проведать. Мистер Малколм полулежал на постели, облаченный во франтовской шелковый халат. Дверь Лили оставила открытой. Говорила она безлично участливым тоном королевы, навещающей своих раненых воинов. Предложила почитать вслух из Шекспира.
— «…при дворе никаких новостей, сэр, кроме тех, что уже не новы. Я говорю о свержении старого герцога…»
— Мисс Эшли, я знаю отличного преподавателя, который взялся бы учить вас и танцам, и всему, что требуется. Вы можете стать звездой первой величины.
— Поберегите свой голос, мистер Малколм. Если вы не умолкнете, мне придется уйти… «отправились за ним в добровольное изгнание, а тем временем новый правитель богатеет, пользуясь его землями и доходами».
— Лили! Лили! Едем со мной! Мы сделаем парный помер, какого еще не видала Америка. Почему вы не слушаете меня? Двух недель не пройдет, как нас уже станут приглашать для выступлений на банкетах и разных клубных собраниях.
— Хотите, чтобы я ушла, мистер Малколм?
Когда она и в самом деле ушла, с милой улыбкой пожелав ему выздоровления, мистер Малколм в тоске заметался из угла в угол. Вдруг какой-то предмет на комоде привлек его взгляд. Это был большой кусок пирога, прикрытый папиросной бумагой. Он вспомнил, что Лили пришла с сумкой, где были книги. И потом она словно бы наводила порядок в комнате.
На другой день — снова чтение вслух, снова страстные мольбы, а в ответ укоризненные замечания.
— Лили, если вам больше по душе серьезная музыка, я могу познакомить вас с маэстро Лаури. Это лучший преподаватель в Чикаго. Он готовит певцов для оперной сцены. Ручаюсь, вам он будет давать уроки бесплатно.
— Вы слишком волнуетесь, мистер Малколм, придется мне уйти.
— Лили, если только вы захотите, начнете сразу же зарабатывать деньги пением в церкви. Я сам это делал, а что я такое в сравнении с вами!
— Успокойтесь, прошу вас.
— Не могу я успокоиться. Я люблю вас, Лили. Я люблю вас.
— Мистер Малколм!
Он соскользнул на пол. Судорожно вцепился в коврик ногтями.
— Скажите, как я могу вам помочь Скажите хоть что-нибудь по-человечески. Вы вчера принесли мне пирог. Вы понимаете, почему я остался здесь. Поедем в Чикаго. В этом Коултауне вас ждет медленное увядание.
Она смотрела на него с немым любопытством. Она не знала еще, что она великая актриса, что ей дано постичь тайну поведения человека в критических обстоятельствах и что воплощать постигнутое перед зрителями станет делом всей ее жизни. Не торопясь, она сунула руку в сумку и достала кусок самого вкусного яблочного пирога, когда-либо испеченного в южном Иллинойсе.
— До свиданья, мистер Малколм. Поправляйтесь.
Десятью минутами позже Лили снова шла по Главной улице Коултауна. Под мышкой она посла туфли, завернутые в бумагу. Был час, когда на улицах особенно много пароду. Лили то и дело кланялась встречным, слегка улыбаясь при виде их озадаченных физиономий. Она зашла на почту, постояла в задумчивости перед портретом отца на розыскной афише. Потом пошла дальше, к мастерской Порки. Тот нимало не удивился ее появлению.
— Порки, денег у меня нет. Но я с вами расплачусь немного позднее. Можете вы починить эти туфли так, чтобы они не развалились в ближайшие месяцы? Постарайтесь, пожалуйста. И вы мне их отдадите в пятницу в «Вязах», хорошо?
От Порки она направилась в другой конец улицы, к дому, где в верхнем этаже жила мисс Дубкова. Мисс Дубкова ползала на коленях пород манекеном, выравнивая подол платья.
— А-а, Лили!
— Мисс Дубкова, я решила бежать с мистером Малколмом в Чикаго.
Мисс Дубкова встала с колен — медленно, но без натуги.
— Время чай пить, — сказала она. — Присаживайся к столу.
Лили терпеливо ждала. Наконец, когда были сделаны первые глотки, мисс Дубкова кивнула в знак, что готова слушать.
— Он сказал, что я первых же порах смогу начать зарабатывать — петь в церквах, в клубах. У него там много знакомых учителей пения. Обещал свести меня с одним очень хорошим учителем, который готовит оперных певцов.
— Дальше!
— Вы меня не переубедите, мисс Дубкова. Я пришла только попросить вас о небольшом одолжении. Могу я ему дать ваш адрес, чтобы он писал мне сюда на ваше имя?
— Пей чай, остынет.
Пауза.
— В Коултауне я месяца лишнего не останусь. Я должна стать певицей, а для этого я должна учиться. Еще немного, и мне уже поздно будет начинать. Я должна лучше узнать жизнь. Сидя в Коултауне, жизни не узнаешь. Еще я хочу научиться играть на рояле. Для этого нужно много упражняться, что в пансионе невозможно — даже если иметь время. А я с утра до ночи работаю, мисс Дубкова.
Она развела руками и сразу же уронила их, ладонями вниз.
— Ты любишь этого человека?
Лили рассмеялась, слегка порозовев.
— Конечно же, нет. Кто он — никто и ничто! Но он может помочь мне, а большего мне пока не нужно. Сердце у него доброе, это и со стороны видно. Уеду в Чикаго и выйду за него замуж.
— Он что, делал тебе предложение?
— Он… ну, падал передо мной на колени, плакал, говорил, что любит меня.
— Но предложения не делал. Понятно. Лили, он женат.
— Откуда вы знаете?
Мисс Дубкова рассказала про кольцо.
— А кроме того, он поляк и католик.
Лили отозвалась не сразу. Наконец она вымолвила, глядя в пространство:
— Не думаю, чтобы много нашлось охотников жениться на девушке по фамилии Эшли.
— Эх ты! — сказала Ольга Сергеевна, вставая. — Допивай-ка свой чай да помолчи немного.
Она вышла в дверь, которая вела в спальню и в кухню. Деньги были припрятаны у нее по разным местам, как белка прячет свои запасы на зиму. Спустя несколько минут она возвратилась с потрепанным шелковым кошельком в руках.
— Вот пятьдесят долларов. Поезжай в Чикаго. Пусть этот человек укажет тебе хорошего учителя, но больше чтоб ты никаких дел с ним не имела.
— Я возьму у вас тридцать долларов в долг. Верну, как только смогу.
Мисс Дубкова отделила двадцать долларов, а кошелек с остальными деньгами сунула Лили в карман пальто. Лили встала.
— Так можно, я дам мистеру Малколму ваш адрес?
— Можно. А теперь сядь на место и помолчи еще немного. — Сосредоточенно, закусив нижнюю губу, она принялась открывать дверцы шкафов и внимательно просматривать их содержимое. — Ну-ка, сними платье.
Во время примерки хорошо думается вслух.
— Подними руки… Повернись лицом к окну.
— Софи тоже надо уехать отсюда. И Конни. Дело даже не в работе, от которой мы все с ног валимся. Главное, это что мама упорно отказывается выходить из дому и никогда не говорит об отце. Мне бы давно пришел конец, мисс Дубкова, если бы не вы и не ваши похвалы моему голосу.
— Теперь повернись лицом к образам.
— А эти чтения вслух по вечерам! Шекспир, и «Джейн Эйр», и «Мельница на Флоссе», и «Евгения Гранде»!.. И ведь вовсе не в мамином это характере постоянно сидеть взаперти. Мне сначала казалось, она боится смотреть людям в лицо или, может быть, возненавидела их. Но мама никогда ничего не боялась. Ей все равно, что о ней думают и говорят другие. И ненависти к людям у нее тоже нет. Просто они ей безразличны. К постояльцам она относится так, будто это фигурки из папье-маше. Мистер Малколм — первый из постояльцев, который вызвал у нес какие-то чувства. Его она и в самом доле возненавидела. За то, что он человек живой и пылкий.
— Согни руки в локтях и подними повыше, будто хочешь поправить на затылке прическу.
— Знаете, почему она не говорит об отце? Потому что хочет, чтобы он принадлежал ей одной. Даже с нами, его дочерьми, она не желает делиться. А на улицу не выходит из страха повстречать миссис Лансинг. Боится, вдруг та помнит о нем по-своему. Я вам сейчас что-то расскажу, чего до сих пор никому не рассказывала. Вскоре после начала процесса кто-то бросил в наш почтовый ящик письмо. Оно было без подписи. А на конверте значилось только: «Миссис Эшли». Мы вообще редко получали письма. Со своими родными отец и мама не переписывались. Я отнесла письмо маме, но мама тогда ни о чем и думать не могла, кроме процесса. Она мне велела вскрыть письмо, прочитать и пересказать ей в двух словах… Там сперва шли всякие рассуждения про кару господню за грехи, про ад, ожидающий грешников, а дальше говорилось, что отец уже несколько лет встречается с миссис Лансинг в Форт-Барри, в гостинице «Фермерской». Я маме солгала. Сказала, что это насчет церковного благотворительного базара. Потом пришло еще одно такое письмо, потом еще — всего три или четыре. Я их все сожгла… Это мерзкая и глупая ложь. Отец ездил в Форт-Барри примерно раз в год и всегда в тот же день возвращался обратно. А миссис Лансинг ездила каждое воскресенье к обедне вместе с детьми, потому что у нас в Коултауне нет католической церкви… Но мне кажется, миссис Лансинг действительно любила папу. Я хочу думать, что это так и что он знал об этом. А любил ли он ее — кто знает, ведь он со всеми женщинами вел себя так, будто он к ним неравнодушен. Правда?
— Правда, правда. Стой смирно.
— Если б даже отец и миссис Лансинг любили друг друга, я бы ничего страшного в этом не увидела. Миссис Лансинг, она совсем другая. Ей люди никогда не бывают безразличны… Этих глупых писем мама не видела, но, быть может, она все-таки знает, что у миссис Лансинг было к папе глубокое чувство. Мама не из тех, кто станет ревновать или устраивать драму, но, может быть, она не выходит в город именно потому. Как-то раз ночью мама предложила мне пойти погулять, и знаете, мисс Дубкова, мы долго стояли у дома Лансингов, просто стояли и смотрели. И мне казалось, маме хочется и не хочется представить себе тот образ нашего отца, что, может быть, живет в душе миссис Лансинг.
— Пройдись до дверей и обратно — только помедленней.
— Во многом виновата я, мисс Дубкова. Ведь я старшая. Я должна была что-то изменить. Должна была добиться от мамы, чтоб она не молчала об отце. Должна была больше помогать Софи. Должна была выходить в город, будто ничего не случилось. Сама не знаю, что на меня такое нашло. Скажите мне, что на меня нашло, мисс Дубкова? Почему я оказалась такой дурой? Я должна была больше любить всех… Где Роджер? Как он живет?.. Теперь уже не поправишь ничего. Ох, папа мой, папа, папа!
— Лили, на шелку останутся пятна.
— Оттого-то я и решила ехать в Чикаго; буду учиться петь — хоть одно дело сделаю на свете.
— Все, можешь одеваться.
Вечером после ужина миссис Эшли долго возилась на кухне. Дочери следили за ней с недоуменном. Она сняла все консервы с полок и перетащила в подвал. Унесла хлеб печенье и пирожки в столовую и заперла в буфете.
— Мама, зачем ты все убираешь из кухни? — спросила Софи.
— Так сегодня нужно.
Лили поняла сразу. Она украдкой отозвала Софи в холл.
— Слушай, Софи, нужно раздобыть мистеру Малколму чего-нибудь поесть. А то смотри, как бы он не умер с голоду — он ведь на твоем попечении.
Вернувшись в кухню, Софи увидела, что мать запирает на ключ дверь в погреб и черный ход.
— Ступайте, девочки, и, пожалуйста, больше сегодня на кухню не спускайтесь.
В первом часу ночи мистер Малколм ощупью пробрался на кухню и зажег там свечку, которую захватил с собой. Ледник оказался пуст, на полках ничего не лежало. Дверь в погреб — как пахло всегда оттуда яблоками! — была на запоре. Только посреди стола, словно в насмешку, стояло блюдечко с кормом для цыплят. Ничего больше Софи не удалось утаить от матери. Мистер Малколм, плача от ярости и голода, дергал дверцу за дверцей, ящик за ящиком — все было напрасно. В конце концов он схватил блюдце с куриным кормом и высыпал содержимое себе в рот. Сзади вдруг послышался шорох; он круто повернулся. В дверях с лампой в руке стояла миссис Эшли и наблюдала за ним. На ней был толстый, грубый халат, сшитый из конской попоны.
— Миссис Эшли, я умираю с голоду.
— Неужели? Значит, вам уже лучше?
— Да-да, лучше.
— Приступ печени прошел?
— Да-да, прошел.
— Ну что ж, мистер Малколм, если вы настолько поправились, что не позже половины восьмого можете отсюда уехать, я, пожалуй, готова накормить вас.
Она приготовила ему несколько сандвичей. Поджарила яичницу. Поставила перед ним кувшин с молоком. Потом села напротив, подперев руками лицо, и смотрела, как он все это истребляет. Но глаза ее то и дело косились на палец его левой руки.
— Миссис Эшли, я люблю вашу дочь.
Она никак не отозвалась на эти слова.
— Миссис Эшли, ваша дочь может сделать блестящую карьеру на эстраде. Она в самое короткое время может стать звездой. Я убежден в этом. У меня такая мысль: мы с ней подготовим номер вдвоем и покажем его хорошему импресарио.
— А моя дочь отнеслась к этой мысли с одобрением?
— Миссис Эшли, она и бровью не повела в ответ. Даю вам честное слово. Я ничего но могу понять. Можно подумать, она даже не слышала того, что я ей говорил. Но я ведь люблю ее, миссис Эшли. Люблю!.. — Он заколотил по столу кулаками. Громко всхлипнул. — Да я скорей с жизнью расстанусь, чем сделаю что-нибудь ей во вред.
— Не надо шуметь, мистер Малколм.
Он бросил на нее оскорбленный взгляд, но продолжал есть. Он был ей глубоко противен.
— Моя дочь говорила вам, что разделяет ваши чувства?
— Вы, видно, меня не слушали, миссис Эшли. Я же сказал. Материнской могилой готов поклясться, что она вообще мне ни слова не ответила. Ни единого слова. А я знаю людей, которые стали бы с ней заниматься. Она быстро усвоила бы все, что нужно. Она способна и умна. Но здесь, в Коултауне, чему она может выучиться? Вы не имеете права всю жизнь держать ее здесь. Ее ждет лучшая участь.
— Мистер Малколм, у вас есть жена.
Он густо покраснел. Ему не сразу удалось справиться со своим замешательством. Но в конце концов он справился и заговорил снова:
— Да, я виноват. Виноват и сознаю это. Но будь я даже свободен, я все равно не мог бы на ней жениться. Она не католичка. — Он вдруг перегнулся через разделявший их стол. — Но я не тот, за кого вы меня принимаете, миссис Эшли. У меня в виду серьезная цель. Очень серьезная цель. Я тоже могу сделать карьеру, и я ее сделаю. Начало уже положено. Я пел однажды на съезде ордена Лосей. Увидите, я стану знаменитым певцом. Слыхали вы когда-нибудь об Элморе Дарен? Или о Терри Маккуле? Как он был бесподобен в «Султане Сватском»! Я пойду по его стопам. И ваша дочь тоже! Слыхали вы о Митци Карш в «Бижу»? Помилуйте, да где вы живете? Ну хоть о Белле Майорсон вы слыхали? Тоже нет?
— Не надо шуметь, мистер Малколм.
Но мистера Малколма шум не смущал. Он вскочил и заорал полным голосом:
— Быть не может, чтобы вы не слыхали о госпоже Моджиевской в «Марии Стюарт»! Она из поляков, как и я. Все это — звезды, понятно вам? Такие же яркие, как звезды на небе. Ведь если б в небе не было звезд, мы все ходили бы точно овцы, пригнув к земле голову. И ваша дочь — звезда, и я, надеюсь, тоже. Не так уж много звезд можно у нас насчитать одновременно — пятнадцать-двадцать, не больше. Они все отмечены судьбой. На них лежит великое бремя. Они живут особой жизнью, непохожем на жизнь других людей. Иначе и быть не может. Что им до того, кто женат, кто не женат. Им важно лишь одно — делать свое дело все лучше и лучше. Достигать совершенства. А вы хотите задушить свою дочь в этом Коултауне. Вы радоваться должны, что сюда попал я.
Миссис Эшли встала.
— Помните, вы обещали не поздней половины восьмого покинуть «Вязы». Без четверти семь я постучу к вам и дверь.
Она подняла лампу повыше и знаком приказала ему идти за ней. У двери ее комнаты он прошептал с беспощадной прямолинейностью:
— Миссис Эшли, ваша дочь рождена для искусства. Знакомо вам такое слово: «искусство»? Кто вы — всего лишь содержательница пансиона в иллинойсском городишке. Советую вам подумать над моими словами. Чем скорей ваша дочь сменит имя и уедет отсюда, тем лучше.
Миссис Эшли даже не дрогнула.
В своей комнате, на полу за дверью, Ладислас Малколм нашел записку. Мисс Лили Сколастика Эшли желает ему счастливого пути. Не исключено, что она в самом деле решит переехать в Чикаго. Если он может дать совет, как ей лучше наладить там свое обучение, пусть попишет по адресу: Коултаун, мисс Дубковой, для нее. Она заранее благодарна.
Никто не замечал, чтобы Лили грустила о мистере Малколме, однако что-то в ней изменилось после его отъезда. Теперь она уже никогда не бродила точно во сне. К матери была внимательнее обычного, но отчуждение не исчезало. На просьбы спеть после ужина она отвечала отказом. А мать больше не заговаривала об открытии счета в банке и не обмолвилась ни словом, что видела на руке мистера Малколма обручальное кольцо.
Три недели спустя Лили Эшли уехала из Коултауна ночным поездом — тем же, что в свое время вез под конвоем ее отца. С собой она взяла чемодан, с которым за двадцать один год до этого — тоже в июне — уехала тайком из дому Беата Келлерман.
Прекрасна осень в Коултауне. Распахиваются двери школ, и дети вновь приступают к учению, пресытившись бесцельной вольностью лета. А матерям не по себе от тишины в доме; у них даже появляется досуг и болит голова с непривычки. Деревья разубраны с языческой пышностью. Дни становятся все короче. Углекопы теперь много месяцев не увидят дневного света. Осенние каникулы ожидаются с тревогой. Джордж Лансинг, правда, уехал из Коултауна, но в канун праздника Всех святых его банда, того и гляди, подкопает воротные столбы в усадьбе у мира или выломает стрелки у городских часов. Закаленные в борьбе члены Женского христианского общества трезвости мужественно сражаются за то, чтобы в День выборов все кабаки были закрыты. Даже самый косный домовладелец настраивается на философский лад, глядя, как догорает — в который уж раз — куча палого листа у него на задворках. А когда выпадет первый снег, глаза горожан словно раскрываются шире — белизна волшебно преображает Коултаун.
Софи и Констанс так и не вернулись этой осенью в школу. Теперь при встрече многие из взрослых здоровались с Софи, но дети были непримиримы по-прежнему. Мальчишки норовили подставить ей подножку, когда она проходила мимо. Девочки помоложе прикидывались, будто боятся — не подстрелила б она кого-нибудь по примеру злодея отца. Они то окружали ее тесным кольцом, то, как стая испуганных голубей, разбегались во все стороны. А ведь как часто жалуются родители, что дети не хотят брать с них пример!
Без Лили работы в доме еще прибавилось. Гнет повседневной рутины был особенно тяжким для Констанс осенью 1904 года и последующей весной, тринадцатой в ее жизни. Февраль и март — самые унылые месяцы в году. Констанс, единственной из семейства Эшли, случалось порой шумно расплакаться или дать волю своему гневу. Она жаждала ходить в школу, в церковь, свободно гулять по городу. Софи поручила ей своих уток, мать пыталась для отвлечения приохотить ее к занятию, скрашивавшему некогда ее собственную юность в Хобокене, штат Нью-Джерси, — уходу за виноградом, которым была увита беседка, и приготовлению «вина весны», но ни птицы, ни растения не интересовали Констанс. Ее влекло к людям — и чтобы людей вокруг нее было как можно больше. На помощь, уже летом, пришла мисс Дубкова.
— Беата, вы совершенно правы, что хотите уберечь Констанс от жестокости городской детворы. Но мне кажется, ей нужны воздух, движение. Помню, в ее годы, в России, мы с сестрой целыми днями бродили по лесу, собирали ягоды, грибы. Возьмите с Констанс обещание не разгуливать по городским улицам, и пусть себе два-три раза в неделю отправляется в лес.
Ничего лучшего нельзя было и придумать. Теперь Констанс через день вставала на час раньше и бралась за работу — мыла, чистила, скребла. А в одиннадцать часов она незаметно выбиралась из города узкой тропкой в обход железнодорожной станции. За какие-нибудь три недели она стала желанной гостьей на многих окрестных фермах, но матери об этом не рассказывала. Она слушала разговоры на кухнях, слушала разговоры во дворах, помогал соседкам развешивать выстиранное белье. Она охотно сидела с дедушками и бабушками, прикованными к постели. Ей нравилось следить за лицами разговаривающих, смотреть им в глаза. Застенчивость ей была чужда с малолетства. Она подсаживалась к косарям, закусывавшим в тени деревьев. Забрела однажды в цыганский табор. Дома больше не бывало ни слез, ни вспышек гнева.
В семье Эшли не привыкли болеть. Но в одно октябрьское утро Софи встала с постели, надела шляпу, сошла вниз и в ночной рубашке направилась к вокзалу. Она упала без чувств на Главной улице, ее принесли домой и уложили в постель. Порки сбегал за доктором Гиллизом. Миссис Эшли ждала внизу, когда доктор выйдет. Она была бледней, чем тогда, когда слушала чтение приговора. Она снова охрипла и говорила с трудом.
— Что… что с ней такое, доктор?
— Боюсь сказать, миссис Эшли, но только не нравится мне это. Оттого и не нравится, что я слишком хорошо знаю Софи. Впрочем, ничего неожиданного для меня тут нет. Девочка переутомлена до предела.
— Я знаю.
— Сегодня часа в три я заеду за ней и отвезу ее на ферму к Беллам. Софи там знают и любят. Мне и раньше случалось устраивать у Беллов своих пациентов. Думаю, денег они с вас не возьмут.
Миссис Эшли тяжело оперлась о перила рукой.
— Сегодня…
— Учтите, Софи ехать не хочет. Она рассердилась на меня. Волнуется, кто же будет ходить за покупками. Ей кажется, все тут без нее рухнет. Я ей дал лекарство, и сейчас она успокоилась. Я пришлю миссис Хаузермен посидеть с ней пока.
— За покупками буду ходить я, доктор Гиллиз.
— Софи обрадуется, услышав это. Я сказал ей, что отец, будь он здесь, непременно отправил бы ее к Беллам отдохнуть недели на две. И пусть первую неделю никто ее не навещает — даже вы, даже Конни. А вот если бы мы посылали ей каждый день по письму, было бы очень хорошо. Пишите, что в «Вязах» все в порядке, что все скучают по ней. Ничего, миссис Эшли, я считаю, захватили это вовремя.
— Захватили?.. Что захватили, доктор Гиллиз?
— Когда я к ней вошел, она меня не узнала и вспомнила, кто я, только минут через десять. Ломовая лошадь и та порой не выдерживает, миссис Эшли. Тащит, тащит тяжелый воз, да и свалится. Хорошо бы, Роджер приехал повидаться хоть ненадолго. Напишите ему об этом, если будет возможность. Беллы любят Софи, они ее полюбили с того дня, когда она первый раз пришла попросить свиного жира на мыло. А Роджер у них давно общий любимец в семье — ведь он столько лет работал на их ферме во время каникул… Так я заеду около трех.
— Спасибо, доктор.
На улице доктор Гиллиз сказал себе: «Есть люди, которые смотрят только вперед, а другие предпочитают оглядываться в прошлое».
Беата Эшли вошла в зимний сад и села. Несколько раз она пыталась заставить себя встать. Чувство непоправимой вины накатывало на нее волнами.
Утром она оделась и приготовилась идти за покупками. Она спустилась со ступенек крыльца, дошла до ворот. Выйти за ворота она не смогла. Не нашла в себе сил выдержать любопытные взгляды, приветствия, рукопожатия тех самых коултаунцев, чьи злобные смешки раздавались так часто в судебном зале, — может быть, даже присяжных… или их жен. Она возвратилась в дом. Составила список необходимых продуктов, и с этим списком в лавки пошла миссис Свенсон. Писать Софи каждый день она тоже не смогла. Письма выходили натужные. Ей не о чем было в них говорить.
А Софи получила на ферме письмо от брата. Он писал, что приедет в Коултаун на рождество. Об этом же он известил и мать, приложив к письму «для ее развлечения» пачку вырезок из чикагских газет со статьями за подписью «Трент».
Как-то раз, уже в ноябре, Беату Эшли разбудил среди ночи шум за окном. Что-то шуршало, шелестело, потом послышался тихий стук. Ее первой мыслью было: дождь, а теперь он сменился градом, но небо в окне было ясное, светили звезды. Она села на кровати, спустила одну ногу и прислушалась. Сердце у нее захолонуло. Кто-то швырял камешки в открытое окно. Она сунула ноги в туфли, накинула свой халат из попоны. Прислонилась к стене и замерла, не отрывая глаз от крокетной площадки внизу. Она ясно увидела, как из кустов выступила мужская фигура и метнулась за угол, к фасаду дома.
Она спустилась в холл. Решившись, отворила наружную дверь. Никого не было видно. Она пошла в кухню, зажгла там свет. Согрела молока и долго пила его маленькими глотками.
Вот так, под покровом ночи, вернется домой Джон Эшли. Вот так он оповестит ее, что вернулся. Она снова поднялась наверх. Сняла туфли. Прошлась по комнате взад и вперед.
Камешков на полу не было.
II От Иллинойса до Чили 1902–1905 гг
Каждый вечер в кафе «Aux Marins»[58] в портовом районе Нового Орлеана приходил молодой человек с шелковистой бородкой цвета спелой пшеницы. Приходил он в одиннадцать и засиживался до двух пополуночи. Записные пропойцы кафе «Aux Marins» не жаловали, пьяных стычек там никогда не бывало. За столиками велись беседы вполголоса о фрахтах, о грузах, о судовых экипажах. Стоило показаться на пороге чужому, разговор становился громче и переходил на политику, женщин, погоду или карты. Кафе было на заметке у полиции, оттого Жан Ламазу — Жан Кривой — и его постоянные посетители в каждом незнакомце подозревали шпика. К молодому человеку долго присматривались. Но он мало обращал внимания на то, что происходило вокруг, не делал попыток с кем-либо вступать в разговоры. Говорил он вообще немного (зато выговор у него был как у настоящего француза из Франции), но, входя, всегда дружелюбно и приветливо здоровался со всеми. Время он проводил большей частью за чтением газеты или же штудировал странички, вырванные из самоучителя «Испанский язык в пятьдесят уроков» («Си, сень-ор, тен-го, до-си, пе-сос»). Время шло, и недоверие к нему Жана Кривого исчезло; на третьей неделе хозяин и клиент уже поигрывали в картишки по маленькой. Молодой человек рассказал, что он канадец, зовут его Джеймс Толланд. Он здесь ожидает приятеля-северянина, у которого сахарные плантации на Кубе.
Джон Эшли был человеком, умеющим верить. Он не знал, что умеет верить. Он бы рьяно стал отрицать, если бы его назвали человеком религиозным, но ведь религия — только платье истинной веры, и платье это зачастую прескверно сшито, если судить по Коултауну, штат Иллинойс.
Как многие люди, умеющие верить, Джон Эшли был в некотором смысле невидимкой. Вы вчера задели плечом человека в толпе — этот человек из таких; нынче женщина за прилавком продала вам пару перчаток — эта женщина тоже из таких. Это самое в них существенное, но это не привлекает к ним людского внимания. Лишь изредка обстоятельства высветят кого-то из них — и высветят ослепительным светом. Одна пасла овец в Домреми; другой был мелким ходатаем по делам в Нью-Сейлеме, штат Иллинойс. Таким чужд страх, неведомо себялюбие; способность неустанно дивиться чуду жизни — вот что питает их корпи. Они для других не интересны. В них отсутствуют те черты, что неотразимо притягивают людской интерес: честолюбие, напористость, воля к власти, инстинкт разрушения и саморазрушения. Они не окружены ореолом мученичества. Персонажей трагедии из них, как ни напрягай воображение, не получится (а попытки бывают, и нередко; но, когда у зрителя высохнут слезы, оказывается, плакал он лишь ради удовольствия поплакать). У них не развито чувство юмора, связанное так тесно с сознанием собственного превосходства и с равнодушием к чужим бедам. Они не умеют красно говорить, особенно о своей вере вообще. Интеллектуальные предпосылки коры развиваются и укрепляются в человеке благодаря наблюдательности и цепкой памяти — мы это увидим, сопоставив веру Джона Эшли с его математическими способностями и талантом игрока. Вера создает учения, но она от учений независима. Некто, к чьему голосу стоит прислушаться, нам сказал: легче найти истинную веру у старухи уборщицы, что скребет на коленях полы в общественном здании, нежели у епископа, восседающего под балдахином.
Говоря о людях, умеющих верить, мы главным образом пользовались характеристиками «от противного»: не трусливы, не своекорыстны, не интересны, лишены чувства юмора, зачастую необразованны. Так в чем же, спрашивается, их человеческая ценность?
Мы не выбираем дня своего появления на свет, не дано нам выбирать и день своей смерти; между тем способность выбирать есть драгоценнейшее из свойств разума. Мы не выбирали себе родителей, цвет кожи, пол, здоровье, природные способности. Нас просто вытряхнули в жизнь, как игральные кости из стаканчика. Заграждения и тюремные стены окружают нас и наших ближних; мы повсюду наталкиваемся на препятствия, внутренние и внешние. Людям, о которых мы говорим, наблюдательность и память помогают рано расширить свой кругозор. Они знают самих себя, но их собственное «я» не единственное окошко, через которое они смотрят на жизнь. По их твердому убеждению, некоторой, пусть малой, частью всего, что человеку дано, человек вправе распоряжаться свободно. Это чувство свободы они постоянно укрепляют в себе. Их взгляд устремлен в будущее. И в грозный час они выстоят. Они отстоят город — а если погибнут, потерпев неудачу, их пример поможет потом отстоять другие города. Они вечно готовы бороться с несправедливостью. Они поднимут упавших и вдохнут надежду в отчаявшихся.
Но на что же обращена вера этих людей?
Им трудно было бы подыскать слова для ответа на наш вопрос. Для них это самоочевидно, а самоочевидное плохо поддастся определению. Зато те, кто на деле не верят ни во что, никаких затруднений в таких случаях не испытывают. Во весь голос безостановочно разглагольствуют они о вере «в жизнь», в «сущность бытия», в бога, в прогресс, в человечество, не стесняясь пускать в ход все запретные словеса, все истрепанные ярлыки, все заемное краснобайство предателей.
Не может быть творчества без надежды и веры.
Не может быть надежды и веры без стремления выразить себя в творчестве. Люди, о которых мы говорим, — прежде всего работники. К тунеядству они непримиримей, чем к ошибкам, невежеству или жестокости. Их работа порой не видна, оттого она кажется незначительной, как нее действия тех, кто ни мгновения не рассчитывает на публику.
К этой породе людей принадлежал Джон Эшли. История к нему требований не предъявляла, и мы не знаем, как он выполнил бы требования истории. Он медленно взрослел и никогда не был любителем умствовать. Он так и остался почти что невидимкой. Многие потом пробовали увидеть его в его детях. Он был звено в цепи, стежок в ткани гобелена, один из тех, что сажают деревья и дробят камень на старой дороге, ведущей пока еще неясно куда.
Эшли понятия не имел, кому он обязан своим освобождением. Может быть, чудеса всегда совершаются так — просто, буднично и непостижимо. Освободители действо вали быстро и четко, не произнося ни единого слова. Прежде всего они разбили все фонари. Конвойные с криками заметались в наступившей тьме, выстрелили раз-другой но сразу же прекратили стрельбу. Наручники на запястьях Эшли разомкнулись. Его вывели — скорей, вынесли — из вагона, и он очутился в лесу. Кто-то из неизвестных друзей положил его руку на седло лошади. Другой дал ему поношенный синий комбинезон, кошелек с пятнадцатью долларами, компас, карту и коробок спичек. На голову ему надели старую шляпу с обвислыми полями — по-прежнему молча и не зажигая огня. Только под конец один чиркнул спичкой, и Эшли на миг увидел их лица. Эти лица, грубо вычерченные сажей, делали их похожими не на негров-железнодорожников, а на клоунов из ярмарочного балагана. Самый высокий жестом указал ему направление, потом отвел вытянутый палец градусов на пятнадцать вправо.
Эшли сказал: «Спасибо вам».
Они канули в темноту, стука лошадиных копыт не было слышно.
Просто, буднично и непостижимо.
Оставшись один, он зажег спичку и сверился с компасом. Путь, указанный высоким, лежал сперва на юго-запад, потом на запад. Эшли знал, что находится у железной дороги, невдалеке от станции Форт-Барри. В шестидесяти милях к западу текла Миссисипи. Он быстро пере оделся, свернул свою арестантскую одежду в узел и привязал к передней луке седла. К седлу были приторочены два мешка — с яблоками и с овсом.
Изумление перед свершившимся переполняло его. Он засмеялся едва слышно: «Ну и ну! Ну и ну!»
Он уже был готов к тому, что умрет, только для Джонов Эшли «умереть» никогда не означает сегодня, сейчас; всегда впереди есть еще месяц, день, час, пусть хоть минута жизни. Страх был ему незнаком. Страха он не испытывал, даже слушая приговор в суде, даже отправляясь в свое, как, наверно, писали газеты, «последнее путешествие». Джоны Эшли самый худший исход не представляют себе как реальный.
Когда в темноте леса вспыхнула спичка, он посмотрел на лошадь, и лошадь посмотрела на него. Он вскочил в седло и выжидательно замер. Лошадь неторопливым шагом пошла вперед. Различала ли она незаметную для человека тропку в густом подлеске? Возвращалась ли инстинктивно к своему стойлу? Минут через десять он снова чиркнул спичкой и поглядел на компас. Они неуклонно продвигались на юго-запад. Он разломил яблоко, половину дал лошади, половину съел сам. Они ехали не останавливаясь. Через час они выехали на широкий проселок и взяли вправо. Дважды он заслышал за собой всадников, направлявшихся в ту же сторону. Но оба раза успел съехать с дороги и спрятаться в чаще деревьев. Спустя немного под копытами лошади застучал деревянный настил моста; переехав мост, они спустились к воде и напились. После этого они прибавили шагу. Эшли словно бы с каждым часом молодел. В нем нарастала дерзкая, непозволительная радость. Тюрьма, не сломившая его нравственно, но измучившая физически, была позади. Время от времени он спешивался и шел с лошадью рядом. Он чувствовал потребность говорить. Лошади, должно быть, правилось, что с ней разговаривают: в мерцающем свете звезд видно было, как она прядет ушами.
— Как твое имя? Бесси?.. Молли?.. Белинда?.. Мне ведь тебя подарили. Не часто случается получать такие подарки ценой в целую человеческую жизнь. Узнаю ли я когда-нибудь, что побудило этих шестерых рискнуть собственными головами, чтобы спасти мою? Или так и умру, не узнав этого?
— Угадал! Евангелина, вот как тебя зовут, — Евангелина. Приносящая благие вести… А странно, не правда ли? Кто мог предвидеть, когда ты появилась на свет, что тебе предстоит стать участницей необыкновенного приключения, подвига великодушия и отваги. Кто мог знать, когда тебя объезжали — а страшно это, наверно, когда тебя объезжают, Евангелина, страшно и тягостно! — кто мог знать тогда, что тебе суждено на своей спине унести человека к жизни, к свободе!.. Ты — знамение, Евангелина. Мы с тобой оба отмечены судьбой.
Поговорив, он окончательно развеселился. Краем уха прислушиваясь, не едет ли кто-нибудь следом, он даже мурлыкал обрывки своих любимых песенок «Нита, Жуанита», «Китайская прачечная» и песни студенческого братства, к которому он принадлежал в годы учения в техническом колледже: «Мы до гробовой доски будем Каппа Кси верны».
Небо над горизонтом заалело. В Коултауне зори были тусклые и безрадостные. А сейчас его поразило развертывавшееся перед ним зрелище. Так вот что стоит за словами «Во всей красе занялся новый день». У дорожного перекрестка он прочитал указатели: на юг «Кеннистон, 20 миль», на северо-восток «Форт-Барри, 14 миль», на запад «Татум, 1 миля». Он проехал через Татум, по-рассветному белесый и пустой. Проехал он еще две мили и, следуя течению неширокого ручья, свернул в лесную чащу налево. Сняв прикрученную к седлу веревку длиной семь ярдов, он привязал Евангелину. Насыпал овса в шляпу (сперва подув сверху, понюхав и взяв щепотку в рот) и поставил перед нею на землю. В мешке с яблоками нашлось несколько печеных картофелин. Он сел и стал есть, временами поглядывая на Евангелину.
Мальчишкой Эшли доводилось ездить верхом во время летних каникул на ферме бабки Мари-Луизы Сколастики Дюбуа-Эшли. До двадцати лет он никого так не любил, как эту чудаковатую, нравную старуху с серыми глазами, и никто не любил его такой суровой, взыскательной любовью. Она, кроме всего прочего, была настоящим ветеринаром без диплома. Со всей округи приводили к ней больную скотину. И многих окрестных фермеров она допекала нелестными замечаниями об их хозяйственных способностях. С лошадьми она вела себя так, будто понимала их язык. Рогатый скот, кошки и собаки, разная лесная тварь от косуль и до скунсов — все ее принимали как свою. И днем, и нередко ночью при свете керосиновой лампы Джон помогал ей давать пилюли, делать впрыскивании, ставить припарки. Они вместе принимали телят и жеребят, вместе усыпляли животных, которым уже нельзя было помочь иначе. Он запомнил навсегда некоторые из ее наставлений: «Никогда не смотри в глаза лошади, собаке или ребенку дольше чем несколько секунд — их это смущает. Не гладь лошадь по шее, лучше похлопывай, а потом сразу похлопай по ляжке и себя. Не делай неожиданных движений ногами. Помни, что у лошади ноги и зубы служат для нападения и защиты от врага. Вон Джо Деккер имеет привычку закрывать дверь конюшни пинком, и все конское поголовье фермы его ненавидит. Если знаешь, что придется пустить в дело кнут, стегни кнутом самого себя, так чтобы лошадь видела это. Прежде чем задать лошади овса, зачерпни немного, понюхай, пожуй, дунь, чтоб он разлетелся по сторонам, и тогда только поставь перед ней, будто нехотя». В Коултауне Эшли завел лошадь и тарантас. Лошадь, по кличке Белла, досталась ему задешево — чересчур была норовиста и хозяин хотел от нее избавиться. Он ездил на ней десять лет в таком добром ладу и согласии, какие только в сказках бывают. И вот теперь он со стороны украдкой оглядывал Евангелину: кобыла немолодая, но ухоженная, и подковы в порядке.
Он заснул, несмотря на зуд от блошиных укусов. Блохи изводили его в тюрьме, но в своих ежедневных письмах Беате он про это не упоминал. Он писал только, что тоскует о своей постели, о простынях, пахнущих лавандой. Проснулся он уже далеко за полдень. Жара была нестерпимая даже здесь, в гуще леса.
— Ну, в путь, Евангелина. Поедем вдоль ручья, может, попадется заводь, где можно будет искупаться. Давно пора.
И заводь попалась. Он опять привязал Евангелину. Он лежал в воде и, закрыв глаза, думал: «Беата теперь уже знает. Наверно, и до Роджера дошло. Раньше всех, наверно, услыхал Порки, а от него Роджер. «Мама, отец бежал!» Он попробовал представить себе, как все будет дальше, но у него были слабо развиты те стороны воображения, которые связаны с заботой человека о себе. Он почти — чтобы не сказать, совсем — не умел строить планы, он не привык тревожиться о будущем. Люди, для которых тревога — обычное состояние, день и ночь заняты планами на будущее. Натуры безмятежные для таких непонятны; спокойствие они принимают за лень и готовность плыть по течению. Но Джон Эшли все-таки строил планы, сам об этом не ведая. Восемь дней он проспал в лесу. И каждый раз просыпался с планом, уже сложившимся в его сознании. Планы эти были дарами сна. Проснувшись в тот первый вечер, неподалеку от Татума, он уже знал: он — канадец, едет работать на чилийский рудник. Он не был горным инженером по образованию, но имел большой опыт в горном деле. О Чили он знал совсем немного, но это немногое ему подходило в его положении. До Чили было далеко. В среде студентов технических колледжей издавна повелось считать, что чего-нибудь стоящий выпускник своей волей в Чили не поедет. Условия жизни и работы там были неимоверно тяжелы. Селитру добывали в пустыне — настоящем пекле, где не бывало дождей. Знаменитые медные рудники в Андах находились на высоте одиннадцати тысяч футов. Жену в таком месте не поселишь. Развлечений там никаких. Даже выпивка на такой высоте не выпивка — по крайней мере для нормального человека. И Эшли решил ехать в Чили. Он не только поедет туда, он станет чилийцем.
Следующий день принес новую подробность: вниз по Миссисипи он спустится на лесовозной барже. Лет пять назад он однажды нанял экипаж и повез все свое семейство поглядеть на великую реку. Поездка была задумана как увеселительная, взамен поездки по железной дороге в Чикаго, что обошлось бы дороже. Родители и дети долго сидели на высоком утесистом берегу, увлеченные зрелищем. Любопытно было смотреть, как баржи всех родов, короткие и приземистые или длинные и узкие, скользят вниз по течению либо, натужно пыхтя, поднимаются вверх. Местный житель, случившийся рядом, пояснил им, что длинные и узкие — это лесовозные баржи, идущие с грузом с севера в Новый Орлеан. «Команда там все больше шведы. По-нашему ни бе ни ме». Эшли со студенческих лет не пробовал плавать, но почему-то был уверен, что доплыл бы до середины реки.
На третий вечер ему открылось, что он чересчур быстро двигается вперед. Добравшись до реки, он должен был рискнуть войти в какой-нибудь городок или поселок — чем меньше, тем лучше, — чтобы запастись пищей и продать Евангелину. Это было опасно, пока у него не отросли волосы и борода. Каждое утро и каждый вечер он внимательно изучал свое отражение в воде. Голову ему наголо обрили в тюрьме накануне оглашения приговора — за пять дней до того, как его посадили в поезд, чтобы везти на казнь. Теперь она точно покрылась коричневым плюшем, ворс которого с каждым днем становился пышнее. Подбородок тоже зарастал понемногу смешным подобием бороды цвета меди. Борода была нужна ему, чтобы скрыть отметину у левого угла рта — тридцать лет назад, работая на бабкиной ферме, он упал и напоролся на вилы. Нужно было подольше задержаться в этих малонаселенных местах. Он стал проводить по две ночи на одном месте. Он пальцами массировал себе череп.
Каждый день ему приходили в голову новые планы: вот так он доберется до побережья Тихого океана, вот так станет зарабатывать деньги. Но были вопросы, на которые и в его вещих снах не находилось ответа, — каким способом дать знать о себе жене, когда придет время, как ей пересылать деньги, как получать вести из дому?
А между тем страна просто кишела Джонами Эшли. В Спрингфилд к полковнику Стоцу летели сотни писем и телеграмм со всей Америки (а поздней и из Африки, и из Австралии) с сообщениями о том, когда, где и при каких обстоятельствах видели Эшли; иногда тут же следовала просьба безотлагательно выслать вознаграждение, успевшее возрасти до четырех тысяч долларов. Путешественников в возрасте от двадцати до шестидесяти лет стаскивали с лошадей, выволакивали из экипажей, догоняли в чистом поле и первым делом спешили сорвать с них шляпу. У шерифов уже рябило в глазах от количества лысых, которых к ним доставляли, не слушая гневных или робких протестов. Газетчики без конца орали на улицах: «Последние новости! Экстренный выпуск!» То Эшли обнаружили в индейской резервации в Миннесоте, где он жил, выкрасив лицо соком ореха. То выяснилось, что он скрывается в дорогой частной лечебнице для душевнобольных в Кентукки. Слухи о богатых и влиятельных покровителях беглеца множились с каждым часом.
Эшли делал зарубки на седле, чтобы вести счет дням, но очень скоро сбился со счета. Овес и другие припасы подходили к концу. Но в лесу созревали ягоды, у воды можно было сорвать листья кресса. Внешний вид лошади и всадника изменился, они оба помолодели. Выбираясь из чащи на дорогу, Евангелина припускала бойкой рысцой. Шкура у нее стала лосниться. Эшли заметил это еще до того, как приладился чистить ее пригоршнями сухих веточек и мха. Ему иногда сдавалось, что эта лошадь не первый раз служит человеку, спасающемуся от погони, что у нее есть навык настороженной чуткости, потребной беглецу. На дорогах теперь чаще попадались проезжие. Но Евангелина всякий раз успевала раньше хозяина услыхать цоканье копыт и спрятаться в чаще. Если откуда-то доносился собачий лай, она сама, не дожидаясь приказа, переходила в галоп. Когда Эшли в третий раз спешился и зашагал с нею рядом, она явно выказала неудовольствие, и ему вдруг пришло в голову — ведь собаки могут быть пущены по его следу. Если вдруг среди дня им овладевало уныние, она словно старалась отвлечь его от мрачных мыслей — принималась рыть землю копытом или фыркала, сунув морду в ручей, так что по сторонам летели брызги. Если мучили его боли в желудке, она смотрела вдаль задумчивым взглядом, будто говорила: потерпи, пройдет.
Иногда, поздно ночью проезжая мимо какой-нибудь фермы, он замечал свет в окне верхнего этажа. Как и всякому семейному человеку, ему непременно казалось — это мать не спит у постели больного ребенка. И тотчас же в душе поднималась целая буря чувств. Он знал, что нельзя часто позволять себе думать о прошлом, но воспоминания подступали, незваные и мучительные. Вот он в первый раз держит на руках чудо из чудес — новорожденную Лили. Вот в первый раз видит страх в обращенных на него глазках трехлетнего Роджера (пришлось проявить строгость, отшлепать мальчонку за то, что он взял себе моду посреди Главной улицы вырываться от матери и кидаться на мостовую чуть не под колеса проезжающих экипажей). Вот он вернулся домой, и Констанс встречает его радостным визгом, а Лили корит ее: «Нечего устраивать папе собачий концерт, когда он приходит с работы». Изредка ему случалось заночевать в Форт-Барри, когда он ездил туда по делам шахты, и однажды он слышал, как Софи говорила: «Я не могу уснуть, когда папы нет дома. Как-то все в доме не так». А Беата, добрая, терпеливая, сдержанная красавица Беата.
— Я семьянин, Евангелина. Семьянин, и только. Я лишен особых талантов. Я и инженер-то никакой. Больше я ничего не нажил, больше ничего не оставлю после себя, кроме своей семьи. Так скажи хоть ты мне, зачем случилась со мной эта дикая, бессмысленная история?
В Коултауне, даже у себя в доме, Эшли никогда не был разговорчив, но сейчас, с Евангелиной, он говорил и говорил без конца.
— Я знаю, отчего ты так славно выглядишь последнее время. У тебя на уме то же, что и у меня. Пятьсот миль нам с тобой не проделать. Мне придется продать тебя, и ты хочешь, чтобы за тебя дали хорошую цену. Расставание всегда тягостно. Оно точно смерть — я помню, как умирала моя бабка. Тут нужно одно: понять это, проникнуться этим и потом перестать об этом думать. Память сама вернет тебе прошлое, когда оно тебе будет нужно. А так гнаться за ним не стоит… Я тебе рассказывал про свою бабку, как она знала и понимала лошадей. С тех пор как мы с тобой пустились в дорогу, я о ней думаю все чаще и чаще. Она мне нужна сейчас, и память мне ее вернула. Она меня научила не бояться. Заметила ты, что ни один охотник не охотился в лесах, которые мы проезжали, ни одному фермеру не взбрело на ум выйти метить деревья, ни один шериф не подкараулил нас ночью. Черт! Обидно было бы, если б этот рискованный путь, начало которому было положено таким порывом мужества и великодушия, — обидно было бы, если бы нее кончилось новым железнодорожным путешествием в Джолиет. Но и люди достойнее нас попадали в засаду, и мечты посмелее наших рушились, точно карточный домик. И поверь, Евангелина: если бы, став свидетелем одного поражения, даже ста поражений, человек терял надежду, цивилизация давно пошла бы в тупик. Не было бы ни правосудия на свете, ни больниц, ни приютов, не могла бы существовать дружба, как та, что связала тебя и меня. Люди бессильно ползали бы по земле и стонали. Будем же поумнее.
Эшли рассказал ей все про суд.
— В смерти ничего ужасного нет; ужасно только сознавать, умирая, сколько дел ты не успел довести до конца. Вот хотя бы, представь себе, — я не оставил никаких средств на то, чтобы дети мои получили образование. Как я мог быть так глуп! Беата каждый месяц откладывала малую толику — на уроки пения для Лили, но все это, конечно, съел процесс. Вероятно, я рассуждал так: Роджер и сам сумеет пробиться, а младших девочек, когда подрастут, отправлю в какую-нибудь школу получше. Если бы Беата настаивала, я бы мог в свое время что-нибудь предпринять. Поискал бы себе другое место, или добился бы прибавки, или что-то получил от своих изобретений… Ты только не думай, что я виню Беату. Во всем виноват я сам. Я был счастлив и глуп. Счастлив, бездумен и глуп.
К концу недели волосы у него отросли настолько, что торчали короткой щеточкой. Он слегка намазал их жидкой глиной, обрызгал соком каких-то пурпурных ягод — результат превзошел ожидания. В таком виде, пожалуй, можно было уже днем или двумя раньше вернуться в цивилизованный мир. Редкая поросль, покрывавшая подбородок и щеки, придавала ему вид замученного учением студента-теолога. Вот только узкая извилина шрама просвечивала чересчур отчетливо. Он попробовал затереть ее соком выбранных наудачу стебельков и кореньев. Шрам потемнел, стал похожим на боевой рубец.
Назавтра около двух часов пополуночи перед ними открылась Миссисипи. Было это около Гилкрайст-Ферри. Городок спал, погруженный в темноту. Вдоль крутого, обрывистого берега шла дорога на юг. Он поехал по этой дороге. Спустя час с небольшим впереди завиднелось десятка два темных строении, сгрудившихся вокруг церкви и школы. На одном чернела вывеска; подъехав ближе, он с трудом разобрал: «Почта Соединенных Штатов. Джайлз, штат Иллинойс, население 410 чел.». «Нет уж, нам почтовые отделения ни к чему», — молвил он вполголоса и снова тронул Евангелину. Прошло еще около часа, и тут наконец он увидел то, что ему было нужно. Мелочная лавка с длинной коновязью у входа, напротив — кузница у лесной вырубки (навес и наковальня под ним), а дальше несколько деревянных хибар и мостки, ведущие вниз, к причалу. Посреди же реки светились огни, вероятно, там был остров. Он повернул лошадь, проехал с милю обратно, к северу, выбрал укромное местечко среди береговых утесов, прикорнул там и крепко заснул. Проснулся он, когда уже светало. Длинной тенью в предутреннем тумане маячила на реке лесовозная баржа, шедшая вниз по течению. В рубке горел огонь. Ему почудилось, будто он слышит голоса. Ноздри явственно защекотал запах кофе и бекона.
На большой высоте порой довольно дуновения ветерка, чтобы вызвать горный обвал. Запах кофе и бекона, рожденный воображением, сокрушил мужество Джона Эшли. Этот запах оживил в памяти «Вязы», работу, которую он любил, мучительно долгие дни суда и осунувшийся гордый профиль Беаты всего в нескольких шагах от него, пение Лили, уверенность Роджера, вдумчивую серьезность Софи, шумную любовь Констанс — все, все, все. Эшли уронил голову на колени. Повалился на бок, перекатился на другой. Он стонал, он хрипел, он мычал. Душевные муки взрослого человека не видны и не слышны миру, но Эшли так и не стал вполне взрослым человеком.
Солнце уже было в зените, когда он вновь въехал в тот маленький поселок. Привязав Евангелину, он отошел к краю обрыва и долго стоял там — лицом к реке, спиной к лавке. Он рассчитывал привлечь побольше внимания к себе и побольше оценивающих взглядов к своей лошади. Наконец он повернулся, размашистым шагом пересек улицу и вошел в лавку, дружелюбно кивнув группе людей у входа. Внутри пятеро мужчин — кто сидя, кто стоя — расположились вокруг остывшей печки. При его появлении все, кроме хозяина лавки, поспешно опустили глаза. Эшли бормотнул междометие, которое можно было счесть за односложный вариант слова «здравствуйте». Ему ответили тем же. Он купил пачку имбирного печенья и, расплачиваясь, дал окружающим заметить несколько долларовых бумажек. Раскрыв пачку, он вынул одну штуку и принялся сосредоточенно грызть. Любопытство вокруг накалялось. Еще несколько человек вошли в лавку.
— Откуда будешь, сынок? — спросил хозяин.
Эшли с улыбкой показал большим пальцем через плечо, на север:
— Из Канады.
— Не близкий свет! — Замечание хозяина подхватили невнятным рокотом остальные.
— А я особенно не спешил. Поболтался немного в Лионе. Братишку разыскиваю.
— Вот оно как.
Эшли задумчиво продолжал жевать. В дверь заглядывали все новые лица, мальчишечьи и мужские. Перед лавкой остановился шарабан.
— А нельзя ли у вас тут позавтракать? Пару яиц, бекону? Доллара чтобы на два.
— Что ж… Эмма! Эмма!.. Поджарь человеку яичницу с беконом да прибавь мамалыги.
Из двери за прилавком выглянула женщина и уставилась на Эшли. Он сбил набок шляпу.
— Чувствительно благодарен, мэм, — сказал он.
Женщина скрылась. Последовала новая долгая пауза.
— И где ж ты надеешься найти своего брата?
— Был слух, вроде бы он в Новый Орлеан подался.
— Вот оно как.
Эшли посмотрел на хозяина и небрежным тоном проговорил:
— Мне один тип в Гилкрайст-Ферри предлагал двадцать четыре доллара за мою лошадь… Кстати, как это ваше местечко называется?
— Ходж. Просто Ходж.
Головы теснившихся на пороге дружно повернулись в сторону Евангелины. Кое-кто даже выбрался бочком наружу, чтобы примкнуть к уже собравшемуся вокруг нес кольцу любопытных. Слышно было, как там переговариваются вполголоса. Эшли вышел из лавки, все еще продолжая жевать, и поглядел сперва вверх по течению реки, потом вниз. Не обращаясь ни к кому в частности, он спросил:
— А что, эти лесовозы не нанимают людей за проезд?
— Которые нанимают, а которые нет.
— Они сюда заходят?
В ответ хихикнули.
— Они вообще-то от берегов стараются держаться подальше. У берегов им опасно. Вон видишь остров, чуть пониже? Бреннан называется. Туда, бывает, заходят. Там и сейчас целых два стоят. Видишь?
Какой-то парень оттянул у Евангелины губу и рассматривал ее зубы. Евангелина, прижав уши, фыркала. Эшли не смотрел в ее сторону.
— Двадцать долларов я бы, пожалуй, за нее дал, если с седлом вместе, — громко сказал парень.
Эшли словно бы не слышал. Он вернулся в лавку, сел на бочонок с гвоздями и понурился. Эмма принесла в оловянной миске обещанный завтрак. Снаружи заржала Евангелина. Вошли две покупательницы и с натянутым видом подошли к прилавку. Снова заржала Евангелина. В дверях произошло движение, зеваки расступились, освобождая дорогу. Коренастая, плотная женщина лет пятидесяти протопала в лавку и остановилась перед Эшли. Она была в юбке и жакете из грубой бумажной материи, какая идет на комбинезоны. На жестких стриженых волосах плотно сидела надетая козырьком назад мужская кепка. Обветренные щеки были почти одного оттенка с ярко-алым шарфом, повязанным вокруг шеи. Вся повадка ее была грубоватая, но в серых глазах то появлялись, то гасли веселые искорки.
— Тридцать долларов, — сказала она.
Эшли вскинул на нее быстрый взгляд, проглотил ложку мамалыги и спросил:
— Это вы приехали в шарабане?
— Я.
— Можно глянуть на вашу лошадь?
Женщина пренебрежительно хмыкнула. Эшли не торопясь отправил в рот еще ложку мамалыги и вышел на улицу. Он внимательно осмотрел со всех сторон запряженную в шарабан лошадь. Женщина подошла к Евангелине, и та ткнулась ей мордой в плечо, учуяв запах овса, шедший от ее жакета.
— Тридцать два, — сказал Эшли, — и еще вы найдете кого-нибудь, кто бы переправил меня на остров Бреннан.
— По рукам. Езжайте следом за мной.
Эшли заплатил за еду, обменялся прощальными междометиями со всей компанией в лавке и поехал за тронувшимся уже шарабаном. Минут десять спустя они въехали в ворота, над которыми красовалась вывеска: «Миссис Т.Ходж. Сено и фураж». Женщина позвала: «Виктор! Виктор!» Из амбара выбежал паренек лет шестнадцати. Эшли спрыгнул на землю.
— Лошадь свою кличку знает?
— Да. Ее зовут Евангелина.
— Откуда у вас это седло?
— Приятель подарил.
— Только раз видела такое раньше. Индейская работа. Виктор, поставь Евангелину в стоило Джулии и задай ей овса. Потом сходишь за своими веслами. А я пока зайду в дом взять кое-что. Шарабан пусть постоит здесь. Да, еще принесешь мешок кукурузы.
Евангелина не оглянулась ни разу.
Миссис Ходж оставалась в доме довольно долго. Вернулась она с потрепанным саквояжем, который подала Эшли.
— Виктор, ты отвезешь этого человека к Динклеру. Ступай с мешком вниз и жди там у лодки.
Взвалив мешок на спину, Виктор пошел к проложенным по откосу мосткам. Миссис Ходж вынула из кармана старый, бесформенный кошелек и сунула Эшли в руку.
— Лошадь с этим седлом стоит никак не меньше полусотни. Кукурузу передадите Уину Динклеру — у него на Бреннане лавка. Скажете, что от миссис Ходж. И что миссис Ходж просит устроить нас на сплавную баржу к шведам.
С минуту он молча смотрел на нее. Только у одной женщины видел он похожие глаза — у своей бабки.
— Советую вам держать язык за зубами. И без крайней необходимости в людей не стрелять. Снимите-ка шляпу.
Он повиновался. Она кивнула и засмеялась низким, рокочущим смешком.
— Растут. Еще неделю-другую не надо мыть голову.
Эшли взял ее за руку повыше кисти. Он спросил тихо, почти с мольбой:
— Вы бы не могли… не сейчас, попозже… передать как-нибудь весточку моей жене?
— Идите вниз и садитесь в лодку… Зачем это еще растравлять ей душу? Положите себе сроку семь лет. Запаситесь терпением, не мальчишка. А теперь прощайте. Вам пора.
Он медленно зашагал к мосткам. Она сказала вдогонку:
— Полагайтесь на женщин. От мужчин вы теперь добра не ждите.
Она повернулась и вошла в дом.
Следующие четыре дня Эшли провел в заведении Динклера, совмещавшем в себе бакалейную и мелочную лавку с салуном. Там же можно было купить порошок от блох и клещей. Баржи приставали и отчаливали снова. Когда в лавку набивалось слишком много народу, Эшли отсиживался в дощатом сарайчике у самой воды. В саквояже, полученном от миссис Ходж, он нашел носки, нижнее белье, рубашки, мыло, полбаночки заживляющей мази, бритву, растрепанный томик Бернса и воскресный черный костюм старомодного покроя, который ему был велик. В кармане лежал выцветший конверт, адресованный миссис Толланд Ходж, Джайлз, Иллинойс. Письмо начиналось обращением «Дорогая Бет», дальше он читать не стал. Но оно помогло ему в выборе нового имени: отныне он будет Джеймс Толланд из Канады. На пятый день Уин Динклер пристроил его на баржу с норвежской командой — сорок центов в день и еще двадцать центов за спиртное, сколько сумеет выпить. Нет и не может быть ничего более скучного, чем жизнь на барже, сплавляющей лес по Миссисипи. Чтобы убить время, играли в карты. Он отыграл почти половину платы за проезд и за выпивку. Он подружился с командой. Матросы называли его попросту: «малый». В объяснение своей молчаливости он наплел небылиц, и к нему не приставали. В ясные ночи он спал на пахучих досках палубы под открытым небом. За столом он старался почаще наводить разговор на Новый Орлеан. Он узнал названия нескольких заведений, где играли далеко за полночь и, как правило, некраплеными картами. Он получил совет обходить стороной некое кафе «Aux Marins»: там обычно собираются контрабандисты, нелегальные перевозчики оружия и тому подобный сброд, люди «без бумаг». Он немало наслышался о том, как много значат для человека «бумаги», и уже стал задумываться над способом избежать встречи с портовой инспекцией. Но способ представился сам собой. Милях в двадцати выше Нового Орлеана, сказали ему, к барже пришвартуется лодка. Пойдет долгий торг. Им станут предлагать беспошлинный ром, виски, возбуждающие наркотики. Эшли заранее приготовился, и, как только гребцы взялись за весла, он, подхватив свой саквояж, спрыгнул в лодку, помахал на прощанье новым друзьям и был доставлен на берег.
В Новом Орлеане Эшли старался не показываться на люди, пока не стемнеет. Ходил он все в том же рабочем комбинезоне и не тратил усилий, чтобы содержать его в чистоте. Причесывался, запустив пятерню в густые короткие волосы, а лицо еще пачкал сажей. Он выдавал себя да матроса-канадца, ищущего работы. Никогда дольше четырех дней не жил на одном месте, неизменно, однако, выбирая жилье в районе улиц Галлатэн и Гаске. Ничего подозрительного в его личности не было, но любопытство он возбуждал повсюду и знал об этом. Он только не знал, и узнал не скоро, каким удивительным образом изменилась его наружность. Завитки соломенно-желтых волос шли от висков по щекам и соединялись с короткой бородкой. Такие же светлые завитки обрамляли высокий лоб. Заурядные черты Джона Эшли из Коултауна обрели утонченную индивидуальность. Он теперь походил на одного из апостолов, Иоанна или Иакова, как изображает их живопись (преимущественно плохая), поздравительные открытки «с днем ангела», образки, что вешают на шею паломники, и гипсовые или восковые статуэтки. Встречные останавливались посмотреть на него, а в стране южного полушария, куда он попал поздней, даже крестились украдкой. Но Эшли об этом не догадывался, как не догадывался и о другом — что полиции и в голову не пришло бы заподозрить в молодом человеке столь благочестивого облика разыскиваемого ею кровожадного убийцу, который хладнокровно пустил пулю в затылок своему лучшему другу и в одиночку отбился от десятка вооруженных конвойных.
Каждый вечер в одиннадцать часов он отворял дверь кафе «Aux Marins», вежливым «Bon soir»[59] приветствовал всех присутствующих и с газетой усаживался за столик. Иногда он вынимал из кармана карты и подолгу раскладывал их, пробуя разобраться в тех играх, которым его выучили на барже. Жан Кривой, хозяин, страдал бессонницей. Каждый вечер он оттягивал и оттягивал час, когда нужно будет подняться по винтовой лестнице наверх и, улегшись рядом с распухшей от водянки женой, ожидать сна, который не приходил. Насмотревшись, как канадец колдует над картами сам с собой, он однажды предложил ему сыграть. Потом это вошло в привычку. Играли они по маленькой. Везло то одному, то другому. Жан научил Эшли новым играм — la manille[60], три валета, пикет. Поначалу играли больше молча, дальше стали с полуслова понимать друг друга. Наконец Эшли был вознагражден за свое терпение. Он узнал, что через неделю или две — а может быть, через месяц или два — от заброшенной, полуразвалившейся пристани на одном из островов дельты отправится корабль на Панаму — якобы с грузом риса.
Нужны были деньги. Эшли отдал пригнать по фигуре черный костюм. Завел стоячий воротничок и галстук. Стал являться по вечерам в «La Reunion du Tapis Vert»[61] и «La Dame de Pique»[62], платил положенное за вход и подсаживался к играющим. Завсегдатаями этих заведений были мелкие коммерсанты да еще младшие сынки богатых плантаторов, избегавшие более фешенебельных клубов, где их могло настигнуть бдительное родительское око. Эшли первую половину ночи почти ничего не выигрывал и не проигрывал, но часу в четвертом утра ему вдруг приваливала удача. Прибегая иной раз к жульническим уловкам, делал это с большой осторожностью и никогда не зарывался.
Эшли был человеком, умеющим верить, но не знал этого, он был также талантливый математик, может быть даже с проблесками гения, но и этого он не знал. Он лет двадцать не брал в руки карт, а между тем был прирожденный картежник. В общежитии студенческого братства в хобокенском техническом колледже игра шла днем и ночью не меньше чем на шести столах. Азарт был Эшли чужд, в деньгах он не нуждался, но его чрезвычайно интересовали возникающие в процессе игры карточные комбинации. Он составлял разные таблицы, вычисляя элемент вероятности в различных играх. У него была прекрасная память на числа и знаки. Он внимательно следил за тем, чтобы не выигрывать слишком много, и, будучи президентом братства, старался не допускать слишком крупных выигрышей и у других. Теперь — на барже, у Жана Кривого и в игорных залах — его научили новым играм; наедине с собой он их анализировал.
Людей, умеющих верить, и людей, гениально одаренных, роднит одна общая черта: они многое знают из наблюдений и по памяти, даже не сознавая, что знают. И тем и другим интересна взаимосвязь явлений, их смена, их ход, их так называемая закономерность. Подобный настрой мыслей свободен от своекорыстных стимулов, таких, как стремление выдвинуться, честолюбие или поиски оправданий собственным действиям. Сеть, закинутая мыслителями этого склада, может принести улов, о каком они и не помышляли и какой не всегда умеют оценить. Ясность представлений — великая добродетель, но тот, кто прежде всего ищет ясности, рискует и упустить что-то важное, ибо есть истины, для уяснения которых необходимы терпение и время. Требование ясности, или хотя бы логики, немедленно и во всем сушит ум, постепенно суживает кругозор. Спустя несколько лет после описываемых событий один малоизвестный ученый, служащий швейцарской палаты мер и весов, искал, как и многие другие ученые, формулу, которая выразила бы природу энергии. Формула эта, по его собственным словам, однажды открылась ему во сне. Проснувшись, он воспроизвел, уже наяву, всю цепь своих рассуждений и даже расхохотался — до того все было самоочевидно. Некий древний философ толкует познание как узнавание: человек радуется, когда его память подсказывает то, что уже было ему когда-то известно. Эшли не мог понять, как это получилось, что он оказался превосходным игроком. Поддаваясь суеверному чувству, он приписывал свой успех мистическим совпадениям и сам того стыдился.
Вера — неисчерпаемый источник ясности, берущий начало за пределами человеческого сознания. Все мы знаем гораздо больше, чем думаем.
Отплытие корабля все откладывалось. Он ждал.
В иные вечера, вновь надев свой замасленный комбинезон, он кружил но городским улицам. В нем опять пробудилась заглохшая было любознательность к жизни других людей. Всего больше интересовала его семейная жизнь, отношения внутри семьи. Как только сгущались сумерки, он пускался в свои долгие скитания. Он без зазрения совести подслушивал чужие разговоры. Выбирал какую-нибудь супружескую пару и шел за нею по пятам, а особенно жадно ловил беседы отца с подрастающей дочерью или сыном. По обрывкам таких подслушанных разговоров он старался представить себе отношения между разговаривающими. Он бродил вокруг богатых особняков, словно собирался ограбить их. Но внимательней всего он приглядывался к жизни квартала, в котором обитал сам. Иногда он начинал казаться себе мужем, отцом или дядей, который вернулся после долголетнего отсутствия и стоит, неузнанный, на пороге родного дома — новый Енох Арден или Улисс. Потребность убедиться в чужом счастье томила его. Он не хотел ничего знать о людской жестокости, о язвах и болезнях, но почему-то чаще всего наталкивался именно на это. Годы работы на шахтах Коултауна научили его распознавать кашель туберкулезных больных; здесь на каждом шагу он слышал кашель, видел кровавые сгустки мокроты на мостовой. Лезли на глаза и отметины других страшных болезней — вытекшие глаза, провалившиеся носы. По улицам взад и вперед ходили проститутки, охраняя «свою» территорию от вторжения соперниц — так, говорят, охраняют свой улей пчелы. Но ни разу он не отважился заглянуть на широкую площадь Сторивилл, средоточие музыки и песен, где веселится цвет молодости и красоты, заботливо выпестованный, отобранный среди тысяч. Женщины, его окружавшие, не могли и мечтать о Сторивилле, а некоторые, быть может, отслужили свой срок там в далеком прошлом. В сумерки люди садились за семейную трапезу, из окон слышался смех, довольные голоса. Потом наступало время прогулок и отдыха, сидения на галерейках и крылечках, воркованья влюбленных, негромких споров в кафе о политике, о высоких материях. К половине одиннадцатого атмосфера начинала меняться. Словно зловещая туча надвигалась на город. В полночь тишину взрывали внезапные крики, брань, шум, грохот опрокидываемой мебели, плач и жалобные причитания. В Коултауне рассказы о мужьях, особенно из шахтеров, которые бьют своих жен, воспринимались как смехотворная выдумка. Здесь Эшли увидел это своими глазами. Раз он в узком переулке набрел на такую сцену: мужчина избивал женщину, а та, корчась под его ударами, упрямо кричала свое — он зверь, а не отец. В другой раз он увидел, как мужчина, схватив женщину за волосы, методически ударял ее головой об стену лестничной клетки. Видел он, как дети, съежившись, пытаются увернуться от побоев. Однажды из дверей выбежала девчушка лет шести и бросилась ему на грудь, ища спасения, как белочка на дереве. За ней выскочил мужчина, пригнув голову, размахивая ножкой от стола. Они втроем свалились в канаву. Но Эшли поспешил убежать. Человек, укрывающийся от погони, не может вступаться за обиженных. Скорей бы уж в море, в Анды, на вершину самой высокой из гор.
Он ждал.
Он спускался все ниже.
Заходил он и в другие кафе. Раз провел вечер у Брессона, раз у Джоли, чаще же всего бывал у Кедебека. В низах общества существует своя иерархия. Эшли принадлежал к париям и должен был помнить об этом. У Брессона собирались те, кто стоял ступенькой выше его на общественной лестнице, — грабители, взломщики, карманные воры, «шептуны»; с ипподромов и петушиных боев. Это были шустрые быстроглазые человечки, прожектеры, пьяницы, горлопаны, безудержные лгуны. Если вдруг между столиками кафе появлялись полицейские, в форме или в штатском, завсегдатаи даже не оглядывались, даже не понижали голоса. Они попросту делали вид, что не замечают пришельцев, только чаще отпускали ехидные шуточки в разговоре. Бесшабашные весельчаки, они и компанию себе подбирали соответствующую. Эшли не был весельчаком и, кроме того, опасался стать предметом пристального любопытства. Следующая ступенька вела на самое дно — в кафе Джоли, пристанище сутенеров, куда посторонний мог попасть разве что по недоразумению. Сутенеры общаются только друг с другом.
Эшли, ничего об этом не зная, забрел в кафе Джоли как-то по дороге. Перед закрытием к нему подошел сам хозяин и спросил полушепотом:
— Ты из Сент-Луиса?
— Нет.
— А я тебя принял за Херба Бенсона из Сент-Луиса. Es tu au tambour?[63] Эшли не понял, какое отношение может иметь к нему барабан, но на всякий случай ответил утвердительно.
— Где работал?
— В Иллинойсе.
— В Чикаго?
— Неподалеку.
— Эх, верно, и житье в этом Чикаго, а?
— Да, неплохое.
— Так слушай, парень. Ты Бэби знаешь? Толстуха только сейчас вышла отсюда. Ее Луису пришлось недавно податься в верховья. Вот она и просила передать тебе: если ты желаешь взять ее на свое попечение, она не против. Будет приносить тебе тридцать долларов в неделю, а если поднажмешь, то и больше.
— С какой стати она будет приносить мне тридцать долларов?
У Джоли даже дыхание сперло. Глаза выкатились из орбит.
— Вон отсюда, слышишь! Вон сию же минуту! Вон! Вой!
Эшли уставился на него с недоумением, потом положил монету на стойку, повернулся и вышел из кафе. Вслед ему полетели вышвырнутые хозяином деньги.
Место Эшли теперь было среди отщепенцев, тех, что не сумели ни ужиться с законом, ни преуспеть, нарушая закон. Таковы были посетители кафе Кедебека — вышедшие из тюрьмы арестанты, неудачливые громилы, неудачливые шулера, бывшие сутенеры и бывшие «шептуны», потерявшие себя люди с трясущимися руками, с подергивающимся лицом. Днем они собирались на задворках монастырей, где монахини раздавали бесплатную пищу. Иные порой пристраивались в ресторан мыть посуду, иные порой зарабатывали на хлеб самым грязным трудом — нанимались в больничные санитары. Эшли, слушая их рассказы, стал подумывать об этом. Он уверен был, что сумеет подавить отвращение; он ничего не страшился, кроме самого себя. Разборчив тот, кто труслив. Вот только узнать бы, спрашивают ли у санитаров «бумаги». А пока он искал среди новых знакомых таких, которые говорили бы по-испански, — и в конце концов нашел одного, подрядившегося за выпивку учить его языку. Бывали у Кедебека и проститутки — самого последнего разбора.
— Мсье Джеймс, угостите абсентом.
— Сегодня не могу, Туанетта. Стакан пива, если угодно.
— Мерси, мсье Джеймс.
Когда говорят «подонки», часто вкладывают в это слово нечеткий смысл. Здесь был мир настоящих подонков. Непристойности так и сыпались в разговоре, но непреднамеренно, просто в силу привычки. Гнев и обида подонкам чужды, ими давно утрачено право на подобные чувства. Общество вынесло им приговор, и они с этим приговором согласились. Они редко лгут. Им нечего скрывать и нечего выгадывать. К своим они щедры, но отнюдь не от широты душевной. Просто на самом дне и деньги уже не имеют цены.
Для Эшли все это было внове. Даже если бы в нем еще сохранилась способность сочувствовать кому-либо, у Кедебека никто ни от кого сочувствия не требовал. Но царивший здесь дух еще усиливал сумятицу у него внутри — сумятицу неразрешимых вопросов, настойчиво требовавших разрешения. А между тем дух этот не был ему противен; толкая знакомую дверь, он всякий раз замирал от смутного ожидания. С ним небрежно здоровались. Мерный ход разговоров за столиками не нарушался его приходом. В процессе познания жизни боль всегда перемежается мимолетными вспышками радости, тоже похожем на боль. Год и еще две недели сверх года понадобилось ему, чтоб добраться до Чили. Он все время двигался вдоль побережья; когда удавалось, проезжал часть пути на каботажных пароходиках, старательно избегая больших городов. Не так уж трудно найти временную работу человеку, умеющему считать, не слишком замкнутому и наделенному известным апломбом, — если только на нем одежда рабочего; для принадлежащего к более высоким слоям общества это было бы гораздо трудней. Он вел отчетность в пакгаузах. Работал весовщиком на плантациях. Если спрашивали «бумаги», у него наготове был рассказ о пожаре в Панаме, уничтожившем все его имущество. Ему верили — или смотрели сквозь пальцы.
Он принимал по накладным грузы в Буэнавентуре.
Он был надсмотрщиком у ловцов черепах на островках близ Сан-Барто.
Джоны Эшли целиком отдаются делу, которое делают. Его всюду пытались удерживать, но он, поработав немного, торопился дальше. Вечера он просиживал в барах, иногда играл в карты. В его речь все органичней входил матросский жаргон. Если ничего лучшего не подвертывалось, всегда можно было заработать какую-то мелочь писанием писем за неграмотных.
Три месяца он провел в Ислайе. Общеизвестна, хоть и не часто произносится вслух, истина, что любой иностранец годится в начальники партии эквадорских рабочих лучше эквадорца. Он спал на вонючих палубах барж, перевозивших груз гуано, и внимательно приглядывался к действиям человека за штурвалом. После нескольких рейсов ему предложили пойти на такой барже капитаном. Баржа потерпела крушение среди стада серебристых барракуд, и треть команды погибла. Это вышло, наверно, по его вине — ведь он взялся управлять судном, не имея понятия о навигации, но угрызения совести не тревожили его сон. Отщепенцы постоянно рискуют налететь на подводный риф, погибнуть в бурю, умереть с голоду; море на большой глубине постоянно кишит акулами. Со временем миру предстояло узнать, что Джоны Эшли неисправимо безнравственны.
На нефтяных промыслах Салинаса он быстро сумел занять должное место. Он мог бы обосноваться там прочно, с хорошими видами на будущее. Как и везде, там много играли в карты — под легким навесом, при свете фонаря «молнии», засиживаясь далеко за полночь. Среди его обычных партнеров был симпатичный датчанин, доктор Андерсон. Был Биллингс, американец, коммивояжер компании, торгующей медикаментами.
— Вам ходить, Биллингс, не зевайте… Ну как, список крыс уменьшается?
— Медленно, очень медленно.
— Толланд, вы знаете, что такое «список крыс»?
— Нет.
— Это список беглых преступников, за поимку которых назначено вознаграждение. Кто у вас там на очереди. Биллингс?
— Вице-президент банка из Канзас-Сити. Сбежал с шестнадцатилетней девчонкой, прихватив с собой сотню тысяч долларов.
— Думаете, в этих местах околачивается?
— Скорее всего. В Мексику нынешний год никто не бежит.
— Во сколько оценена его голова?
— Не то три, не то четыре тысячи.
— А приметы какие?
— Сорок четыре года. Лицо румяное, круглое. Два золотых зуба.
— Вам ходить, Биллингс!.. А того судью так и не поймали?
— Нашли в Санта-Марте мертвым. Кажется, покончил с собой. Устал, видно, находиться в бегах. Да и много ли найдется охотников подкармливать беглых? Говорят, он весил двести фунтов, дошел до девяноста… А недавно вот еще розыск объявили — четыре тысячи. Некто из Индианы — лучшего друга уложил выстрелом в затылок. Жуткий тип. Не хотел бы я повстречаться с таким темной ночью. В одиночку отбился от двенадцати человек охраны и бежал.
— Молодой, старый?
— Дети взрослые.
— Есть особые приметы?
— Не запомнил… А знаете самый верный способ поймать беглого преступника? — Биллингс сощурил глаза в щелочки и заговорил полушепотом. — Они все ведь живут под вымышленными именами. Так вот, если ты в ком-нибудь учуял крысу, надо зайти сзади и неожиданно выкрикнуть его настоящее имя — вот так: «ХОПКИНС!» или «ЭШЛИ!»
В Кальяо Эшли устроился на работу в китайскую фирму, занимавшуюся импортными операциями. До него хозяевам фирмы редко приходилось встречать белых людей, которые не были бы мошенниками. Очень скоро он занял положение, близкое к положению младшего компаньона. Но дело требовало постоянных поездок в Лиму, общения с крупными торговыми предприятиями. Он заявил об уходе.
Он поселился в убогой хижине у моря близ Кальяо. Он прошел и проехал несколько тысяч миль. Он побывал в мостах куда более диковинных, чем те, о которых пишут географы. Теперь впервые за много времени он ничего не делал. Просто ждал каботажного судна, которое повезет его дальше. До сих пор необходимость всегда быть в действии не давала ему сосредоточиться на том новом, что он узнал за эти месяцы. Сейчас оно тяжким грузом легло на его сознание. Он заболел. Отчаяние, подбираясь к человеку, всегда ищет и организме уязвимое место, куда легче всего нанести смертельный удар. Его спасли от смерти монахини — молодые и старые, они поочередно дежурили у его постели. Выздоравливая, он слышал их радостный смех. «Don Diego, el canadiense»[64].
Тогда, может быть, он и начал вновь подниматься вверх.
— Чили! — сказал капитан, указывая на пологий берег, темнеющий впереди.
У Эшли на миг зашлось сердце. Он добрался до Чили. Он дожил. Вот она, его новая, им самим выбранная родина. Но об Арике или Антофагасте еще было рано думать. Он попросил высадить его в Сан-Грегорио. Там он узнал, что в порту ожидается норвежское торговое судно — через несколько дней, а может быть, несколько месяцев.
Туго было с деньгами. Большую часть полутораста долларов, скопленных в Кальяо, у него украли. Уцелела лишь заветная пачка, которую он зашил в подкладку своего пояса, но эти были неприкосновенны: они предназначались для заключительного броска игральных костей — переезда в Антофагасту и приведения себя в приличный вид, чтобы можно было явиться в горнорудное управление и предложить свои услуги. И потому в Сан-Грегорио он сразу же начал искать заработок. Но заработок не подворачивался. Он снял койку у Паблито, содержателя бара, самое дешевое, что только нашлось, — не койку даже, а соломенный тюфяк на полу в закутке конюшни. Он своими руками отскреб и отчистил, сколько смог, застарелую грязь. Он научился властвовать над своими чувствами и не разрешал себе страдать от голода, испытывать отвращение к паразитам, которыми кишело его ложе. Весь день и часть ночи он просиживал в баре Паблито.
Не прошло и недели, как он уже играл в карты с миром, с начальником полиции, с видными городскими коммерсантами. Он проигрывал понемножку, а на третий или четвертый вечер возвращал весь свой проигрыш с лихвой. Он загорел дочерна, волосы отросли и висели длинными космами. И все же, несмотря ни на жаргон, ни на убогое жилье, его называли дон Диего или дон Хаиме — последнее имя он предпочитал. Он в короткое время исходил весь городок и его окрестности. Он перезнакомился с местными жителями. Как-то само собой получилось, что он опять стал чем-то вроде городского писца. Плату брал он недорогую — несколько медяков за письмо. Люди, годами никому не славшие писем, вспомнили своих престарелых родителей, детей, давно разлетевшихся кто куда. Много писем приходилось писать по вопросам наследства; диктовали их те, кого горький опыт научил держаться подальше от юридического сословия. Коммерсанты желали, чтобы их деловая переписка велась на изысканном castellano[65]. Он писал и любовные послания, и послания угрожающие, которые городской фактотум, горбун и умница, доставлял адресатам после наступления темноты. Он писал даже молитвенные тексты для подвески над детскими изголовьями вместо амулетов. Он подолгу слушал сбивчивый, лихорадочный шепот жаждавших излить свою душу. Он давал советы, корил, утешал. Ему с жаром целовали руки. Don Jaimito el bueno[66].
За игрой в карты он разузнавал у партнеров подробности о медных рудниках в Андах, о работавших там шотландцах и немцах, о резкой смене жары и холода на высоте в десять тысяч футов. К одиннадцати часам отцы города расходились по домам ужинать, оставляя Эшли в обществе тишины, кружки теплого пива и Марии Икасы.
Мария Икаса была повитухой, занимавшейся и абортами, сводницей, niaga[67], гадалкой, толковательницей снов и мастерицей изгонять дьявола. В ней смешались чилийская и индейская кровь, но смуглая ее кожа отливала синевой, и сама она себя называла «персиянкой». Почти совсем синими были тяжелые веки, клобуками прикрывавшие глаза. По ее утверждению, ей перевалило за восемьдесят. Вероятно, она прибавляла себе для внушительности, на самом деле ей было лет семьдесят. Она сидела, привалившись к стене, погруженная в думы о болезнях, преступлениях, безумии, смерти. Время от времени ее отвлекали клиенты, иногда уводившие ее с собой. К Эшли тоже то и дело подсаживались люди, которым нужна была его помощь или совет. Оба вели прием шепотом, не мешая один другому. У ног каждого лежала собака, от хозяина — ни на шаг; у Марии Икасы — Фидель, у Эшли — Кальгари, верные друзья за неимением лучших. По земле ползали букашки, в воздухе вилась мошкара; лишь часу в третьем ночи чуть-чуть веяло прохладой.
Вначале они только здоровались при встрече.
Потом она к нему направила одного из своих клиентов: требовалось написать письмо. А он одного из своих направил к ней: требовалось помочь в щекотливом деле. После этого они стали вдвоем играть в карты, положив кучку камешков на стол перед собой. Играли больше молча, лишь изредка перебрасывались короткими фразами. Порой мучительный кашель сотрясал все существо Марии Икасы. На конце длинного красного шарфа, который она прижимала к губам, выступали бурые полосы крови. Чувствуя приближение особенно сильного приступа, она вместе с Фиделем величественно удалялась в пристройку, и надрывные звуки ее кашля доносились оттуда в долгой ночной тишине.
— Где это вы так простудились, Мария Икаса?
— Наверху… Наверху, в Андах.
Дружба их родилась в часы, когда они вместе молчали; одинаковые невзгоды скрепили ее; нищета, царившая в Сан-Грегорио, послужила благодатной почвой.
На вторую неделю он стал «доном Хаиме», на третью — «Хаимито», на четвертую — «mi hijo»[68]. Она часто раскидывала на него карты или, сдвинув брови, вглядывалась в линии его руки. Он сказал ей, что ни во что такое не верит. Она, употребив грубое слово, отвечала, что ей это безразлично.
Как-то раз вечером, на третьей неделе, она ткнула в одну карту синеватым указательным пальцем и подождала, пока он не поднял на нее глаза. Тогда она обвела рукой вокруг шеи, изображая накинутую петлю. Глядя на нее, он повторил то же движение, но конец петли вывел круто вверх.
— Не знаю, — ответила она хмуро.
Как-то раз, заглянув в только что разложенные карты, он спросил:
— Сколько у меня детей?
— Ты что, проверять меня вздумал? Не веришь, так иди стань в кучу дерьма вниз головой. Четверо у тебя детей. Четверо или пятеро.
— Они здоровы?
— А с чего им болеть?
Как-то раз он решился было рассказать ей свою историю. Но она перебила:
— Меня не интересует то, что случается с людьми.
— Что же вас интересует, Мария Икаса?
— Бог, — сказала она и стукнула пальцем по лбу сперва себя, потом его.
Мария Икаса умела петь как никто, если только ее не душил кашель. До полуночи городским проституткам вход в бар Паблито был запрещен, чтобы не ронять репутации заведения. Только изредка, после того как отцы города уходили домой, старый Паблито милостивым кивком разрешал войти одной-двум из самых заслуженных — Консуэло или Маридолорес, при условии что они будут скромно сидеть за столиком, потягивая вино из стакана.
Иногда это оборачивалось на пользу дела. Маридолорес, развеселая Маридолорес, просила вполголоса:
— Мария Икаса, сердце мое, спой вам! Одну песню! Дон Хаиме, попросите Марию Икасу спеть одну песню!
Фидель сразу вроде бы понимал, о чем речь. Клал передние лапы Марии Икасе на колени и тоже просил. Эшли поднимал на нее полный ласкового ожидания взгляд. Старый Пабло с поклоном ставил перед ней стакан рому.
Мария Икаса начинала без подготовки, голосом удивительного объема и мощи. За душу берущая каденция раскатывалась по комнате: «А-а-а!» Потом начиналась сама песня:
Кружевница сидит у окошка, Слепая она! Слепая! Расчеши свои волосы, девочка. Еще много печали впереди.Или
В Вифлеем ли лежит ваш путь, Сыновья мои, дочери мои?Фидель пытливо всматривался во все лица по очереди, желая удостовериться, что слушатели достойны оказанной им чести. Девицы аккомпанировали припеву, постукивая о блюдца ложечками. Маридолорес срывалась с места, каблучки ее отбивали барабанную дробь. Аптекарь, живший и соседнем доме, проснувшись, спешил одеться и являлся с гитарой. Бар наполнялся публикой. Ах, что за минуты! Что за страсть!.. Что за картины в памяти! На улице перед баром собиралась толпа. Что за бурные рукоплескания!
— Мария Икаса, ной еще! Пои еще, красавица!
Под конец Ушли не выдерживал и шептал:
— Не надо больше петь, Мария Икаса! Ради всего снятого, поберегите спои легкие!
Празднику наступал конец. Фидель ложился у ног хозяйки, уткнувшись носом в ее чулки. Радость озаряла Сан-Грегорио лишь ненадолго.
Мария Икаса просила Эшли, чтобы он ей рассказал свои сны. Он отвечал, что не помнит их. Она только презрительно смеялась.
На четвертой неделе она сказала:
— У тебя круги под глазами. Ты плохо спишь. Хочешь, я расскажу тебе твои сны? Тебе снится пустота мира. Ты идешь, идешь, ты выходишь в долину с известняковыми склонами, а там ничего, пусто. Ты заглядываешь в пропасть, оттуда тянет холодом. Ты просыпаешься весь иззябший. Тебе кажется, ты уже не согреешься никогда. И повсюду — пустота, nada, nada, nada[69], — но эта nada смеется, точно в пустоте лязгают зубы. Ты открываешь дверь комнаты, дверь чулана — и нигде ничего, только лязгающий смех. И пол — не пол, и стены — не стены. Ты просыпаешься и дрожишь и не можешь унять эту дрожь. Нет смысла в жизни. Жизнь — смех слабоумного в пустоте… Зачем же ты лгал мне?
Он медленно выговорил:
— Я не мог никому этого рассказать.
Он вышел из бара и долго стоял над накатывающими волнами, облокотясь о береговой парапет. Когда он вернулся, она молча протянула ему колоду карт.
— Вы мне ничего не скажете, Мария Икаса?
— Потом. Сдавай карты.
Через час она молвила:
— Не мудрено, что тебе такие сны снятся, mi hijo.
— Не мудрено? А почему?
— Господь в своем милосердии посылает их.
Он ждал.
— Он не хочет, чтобы ты и дальше жил, ничего не зная. Ведь ты ничего не знаешь. Не знаешь и не понимаешь… Ну-ка, сними. Хочу посмотреть, что говорят карты.
Она разложила карты, но словно бы и не взглянула на них.
— Лет тебе сорок один или сорок два. — Она провела по лицу пальцем. — У тебя нет морщин здесь, где они бывают от дум и забот. Нет и здесь, где они бывают от смеха. Твой разум точно младенец в утробе, жалкий, крошечный недоносок, корчащийся в попытках родиться. Если господь возлюбит одно из своих созданий, то даст ему познать высшее счастье и глубочайшее горе, прежде чем наступит час его смерти. Даст изведать все, чем богата жизнь. И это самый ценный господень дар.
Не глядя на нее, Эшли проговорил негромко:
— Я был очень счастлив.
Она презрительно повела рукой над разложенными на столе картами — сколком прожитых им лет.
— Это? Это ты называешь счастьем? Нет! Нет! Счастье лишь в понимании всего вместе, как оно есть. Ты возлюблен господом, особо возлюблен. И сейчас ты рождаешься вновь.
Тут она закашлялась и кашляла долго, прикрыв рот красным шарфом. Когда приступ миновал, она сунула руку в глубокий, оттопырившийся карман своей юбки. Оттуда она вытащила небольшое распятие, грубо вырезанное из терновника.
— Всякий раз перед сном смотри на это подольше. Смотри и думай о том, что он выстрадал. Я не о ранах от гвоздей говорю. Гвозди — это неважно. У каждого есть свои гвозди. Думай о том, что он выстрадал здесь. — Она дотронулась до середины своего лба. — Он, ежечасно помнивший о сотнях тысяч Сан-Грегорио, и Антофагаст, и Тибуронесов, и… Как называется город, где ты жил?
— Коултаун.
— И о сотнях тысяч Коултаунов. Когда насмотришься, положи себе в изголовье. И будешь спать без кошмаров. Не может быть счастлив по-настоящему тот, кто не изведал ужаса nada.
Он взял распятие.
Он накрыл ее руку своей и спросил приглушенным голосом:
— А вы знали высшее счастье, Мария Икаса?
Она распрямила спицу. Вздернула подбородок. Посмотрела в раскрытую дверь, потом искоса глянула на него с высокомерной усмешкой, означавшей: «Уж я-то знала».
На минуту она забрала у него распятие. Показала пальцем на вделанные в дерево красные стеклянные бисеринки, изображавшие капельки крови. Заговорила снова.
— Красное. Красное. Вглядись в это красное. У тебя голубые глаза, и за них тебя любят люди — мужчины, женщины, дети. Но есть и другая, лучшая любовь. Голубой — это цвет веры. А красный — цвет любви. Сразу видно, что ты человек, умеющий верить. Но верить может и Фидель. Одной веры мало. Если тебе посчастливится, ты родишься вновь для любви.
Эшли опустил глаза и понизил голос:
— Мария Икаса, дорогая Мария Икаса. Пусть мне суждено родиться вновь, изведав все лучшее и все худшее в жизни, — а как же мои дети? Ведь я произвел их на слег еще тогда, когда жил, ничего не зная.
Мария Икаса сердито ударила его по руке.
— Тупица! Дурень! Если господь избрал тебя, чтобы одарить своим самым ценным даром, значит, ты всегда был этого достоин. — Тут Мария Икаса, никогда не видавшая в глаза дуба, привела испанскую поговорку «В желуде уже заключен дуб». И затем продолжала: — Если бы Симон Боливар в шестнадцать лет произвел на свет сына и назавтра умер, все равно этот сын был бы сыном Освободителя.
С того дня Эшли спал без кошмаров. Через неделю норвежское судно вошло в порт. Денег у Эшли только-только хватало на переезд, но он послал Марии Икасе в больницу бутылку рома. К бутылке он прикрепил карточку красного цвета. А распятие потерялось при сборах в дорогу.
В Антофагасте Эшли снял комнату в рабочем квартале и принялся не спеша разрабатывать план действий. С пяти часов пополудни и до поздней ночи он просиживал или в «Cafe de la Republica», или в «Cafe de la Constitucion», углубясь в одну из немецких газет, которые выходили на тысячу миль южнее, в той чилийской провинции, что можно назвать новым Вюртембергом. Оба эти кафе находились в «крысоловной зоне»; посещать их было рискованно, но необходимо. Вокруг него разговоры шли только о меди и селитре. Вскоре он обнаружил среди завсегдатаев еще одного изгоя. «Старый Персиваль» был выброшен на свалку после того, как всю жизнь проработал в горнорудной промышленности; в свое время он занимался и селитрой, и серебром, и медью. Любовь или взрывчатка сделали его кривым на один глаз. От вина и давних обид, которые он никак не мог забыть, у него иногда путались мысли. Он подсаживался к столикам более преуспевших знакомцев в надежде на бесплатное угощение. Иногда его угощали, иногда тут же спроваживали; впрочем, грубо не гнали никогда. Эшли он церемонно представился: «Родерик Персиваль, бывший коммерческий директор медеплавильных заводов Эль Росарио. Изобретатель сепараторной дистилляционной системы Персиваля — именно так, сэр, хоть идея и была у меня украдена братьями Грэм — Иеном и Робертом, о чем я не боюсь заявлять во всеуслышание». Это было прелюдией к монологу, длившемуся в общей сложности часов пятьдесят. Эшли, пообещав ему выпивку, уводил его в менее фешенебельное заведение. Терпеливо выслушивал по многу раз одно и то же. Ему даже казалось порой, что не все в жалобах Персиваля так уж безосновательно. Но в конце концов его выдержка и на этот раз была вознаграждена.
— Вот что я вам скажу, мистер Толланд, никогда не нанимайтесь на рудник, расположенный выше десяти тысяч футов над уровнем моря. Зачем укорачивать себе жизнь, сэр? Люди там не раскроют рта, чтоб сказать лишнее слово, — берегут свои легкие. А у многих от высоты развивается черная меланхолия. Совсем недавно один тип в Рокас-Вердес снес себе полчерепа пулей. И еще скажу вам, сэр, не нанимайтесь на рудники, удаленные от железнодорожной магистрали. Человеку надо же иногда хоть ненадолго съездить проветриться. А есть такие места, где сообщение с ближайшей станцией раз пять за лето прерывается из-за обвалов. С утра до ночи видишь кругом одни и те же лица, уже и смотреть невмочь… И еще: выбирайте только такие рудники, в которые вложен американский капитал. Это, я вам скажу, сэр, совсем другое дело. Взять хотя бы Эль-Тепиенте. Там живешь словно в хорошем отеле на курорте Саратога-Спрингс. Круглые сутки горячий душ. Дома для женатых инженеров! Спиртное, конечно, под запретом, но умный человек всегда извернется. Да что — там тебе в каждой шахте, на глубине полтораста футов, буфет: сандвичи с ветчиной, лимонад. А в Рокас-Вердес? Хорошо, если плошку овсянки получишь в столовой. И полным-полно немцев, шотландцев, швейцарцев. А рабочие все больше боливийские индейцы, эти и по-испански ни слова.
Эшли сделал свой вывод. Разработки месторождений меди в Рокас-Вердес велись горнорудной компанией Киннэрди. Ее представителем в Антофагасте был мистер Эндрю Смит, в любую погоду носивший сюртук из черного альпака, застегнутый до самого подбородка, украшенного черной ковенантерской бородой. Все самообладание понадобилось Эшли, чтобы не дрогнуть под пронизывающим взглядом мистера Смита. «Джеймс Толланд из Бемиса, провинция Альберта… инженер-механик, хотел бы изучить меднорудное дело… к сожалению, паспорт, диплом и прочие документы погибли при пожаре гостиницы в Панаме… Рекомендательное письмо от доктора Кнута Андерсона с салинасских нефтяных промыслов в Эквадоре…» Мистер Толланд представил также свои чертежи механического оборудования для угольных шахт. Впрочем, Эшли мог бы и не стараться сверх меры. Мистер Смит взял его сразу же, лишь задав два-три вопроса о состоянии его сердца и легких. На первых порах ему поручался технический надзор за жилыми помещениями для руководящего персонала и шахтеров — отопление, кухни, канализация, — а также разработка проекта электрификации их. Мистер Смит пообещал дать письмо к управляющему, доктору Маккензи, с просьбой предоставить новому инженеру возможность всесторонне ознакомиться с процессом добычи меди. Получил он и указания по части личной экипировки — вместе с деньгами на покупку всего необходимого.
— Компания хотела бы, — сказал мистер Смит, — чтобы вы для начала недельку пожили в Манантьялесе. Это без малого семь тысяч над уровнем моря, будет вам подготовкой для больших высот. Как приедете после обеда подписывать контракт, я вам дам письмецо к миссис Уикершем. Она там держит гостиницу — отель «Фонда», лучшего во всей Южной Америке не найти. Может, она сдаст вам комнату, а может, и нет. Она такая. Поезд на Манантьялес идет в пятницу в восемь часов — а не в пятницу, так в субботу. Из Рокас-Вердес раз в месяц пишите мне, чего вам не хватает.
Эшли еще порасспросил Родерика Персиваля. Сперва тот и о докторе Маккензи, и о миссис Уикершем отзывался уклончиво. С обоими у него были связаны малоприятные воспоминания: с рудника в Рокас-Вердес его прогнали, в отеле «Фонда» отказали от номера. Но потом посыпалось: Маккензи — псих, слишком долго прожил наверху, дальше своего носа не видит, а воображает о себе невесть что, старый павиан. А миссис Уикершем настоящая фурия, ведет себя с постояльцами так, будто это ее личные гости… Сплетница, суется во все, сама себя называет «газетой Анд»… помнит все анекдоты семидесятых и восьмидесятых годов, пересказывает их по сто раз, умереть от скуки можно. Персиваль знал ее еще в ту пору, когда она была просто стряпухой в партии искателей изумрудов. На одно, впрочем, у нее хватило ума: открыла свою гостиницу в единственном славном местечке, на севере Чили. Там у нее не только горячий источник рядом, но и единственная речка на сотни миль вокруг… Здесь ведь не текут реки, мистер Толланд. И дождей не бывает. Поверите ли, в Антофагасте можно встретить восьмилетних детишек, ни разу не видевших дождевых капель. Кактусы и те здесь не растут… Да-да, конечно, весной снег и лед на вершинах подтаивают с краев, и тогда вниз бегут бурные потоки — но бегут-то они недалеко. Сверху их сушит солнце, а снизу всасывает земля. Даже Антофагаста не имела бы воды, если бы не водопровод, проложенный Петером Весселем. Датчанин, большой мой друг. Хотел тут устроить увеселительный сад вроде копенгагенского «Тиволи». И не такая уж это безумная затея, как может показаться. На здешней азотистой почве розы цвели бы, как в Эдеме. Если б только вода и тень. А у миссис Уикершем в Манантьялесе есть и то и другое. Овощи, которые подаются у нее к столу, заслужили бы первую премию на любой сельской выставке в Штатах. И богоугодные заведения, состоящие под ее покровительством, тоже их получают… Воображаю, как она обращается со своими подопечными — наверное, так же, как с постояльцами. «Убирайтесь вон, мне ваша физиономия не нравится!» Берите костыли, и чтобы через двадцать минут духу вашего не было в больнице!»
В Антофагасте Эшли часто бродил после заката по городу, как и в Новом Орлеане и во всех портовых городах, где ему приходилось задерживаться на пути. Но теперь точно пелена спала с его глаз, он всюду видел только голод, болезни, нужду и жестокость. Двери домов и лавок допоздна оставались распахнутыми настежь. Смех и ласковые слова звенели в вечернем воздухе. Казалось, от семейного очага здесь исходит тепло, какого не знают в более северных широтах. Но к ночи все изменялось. Только он больше не убегал от вздохов и стонов, брани и проклятий. Напротив, он устремлялся им навстречу, точно думал извлечь какой-то урок, найти ответ на свои неотступные «почему» и «откуда». В своей прежней жизни Эшли не привык размышлять. В его лексиконе даже не было слов и оборотов, потребных для размышлений, — кроме тех, которые он давно отверг, которыми говорили проповедники в методистской церкви Коултауна. И ему стало страшно — ему, Эшли! — что он так и не поймет ничего, так и кончит свои дни «закоснелым невеждой». Вот, например, мужья, которые бьют своих жен, — как можно понять такое?
Наудачу он постарался припомнить один вечер в Салинасе и услышанное в тот вечер от доктора Андерсона. Играли в карты в доме, что навис на сваях над самым берегом, на веранде, затянутой противомоскитной сеткой. Был день популярного в тех местах святого, нестройный гул праздничного веселья доносился из отдаленных рабочих кварталов. Кто-то пошутил насчет мужних побоев, ожидающих нынче вечером многих жен. Доктор сказал сухим, неприязненным тоном:
— Эти люди не могут бить нас. Мы — иностранцы, обладатели баснословных богатств, полубоги. Не могут они бить и тех, кто командует ими на работе, — хоть порой и случается, что кого-нибудь подстрелят из-за угла. Они дерутся друг с другом, но не вкладывают души в эти драки. Знают ведь, что все заперты в одной общей клетке. Вот побои и достаются тем, кто всегда под рукой. Бьют жену и детей, а метят в судьбу, в обстоятельства, в господа бога. Хорошо еще, что даже самый оскотиневший муж и отец никогда не бьет своих близких по лицу или в живот — потому что для этого нужны двое: кто-то должен развернуть съеживающуюся под ударами жертву. А чужого Педро не допустит до участия в семейной расправе.
— Но… — нерешительно попробовал тогда возразить Эшли, — но ведь все это от пьянства.
— Слишком примитивное объяснение, сэр. Это любящие мужья, любящие отцы. Они и пьют для того, чтобы ожесточиться, чтобы придать себе смелости замахнуться на господа бога.
— Не могу понять… — Игра продолжалась. Спустя несколько времени Эшли спросил: — А в Европе тоже бьют жен и детей?
— В Европе? Вы хотите сказать, в моей родной Дании? Ну что вы, мистер Толланд. Нам, людям цивилизованным, доступны более утонченные пытки.
— Что?.. Что вы такое говорите?
— Вам сдавать, Смитсон… Страдание, мистер Толланд, оно как деньги. Постоянно находится в обороте. Мы расплачиваемся тем, что получаем сами… Мистер Смитсон, вам сдавать.
И доктор Андерсон пробормотал что-то вроде: «Иногда цепочка рвется».
Теперь мучения Эшли еще обострились оттого, что во многих жителях Антофагасты ему начали чудиться его близкие. На первый взгляд местные женщины, низенькие, смуглые, в черных платьях, ничем не напоминали Беату; но какой-нибудь мимолетный жест или слово — и сходство вдруг проступало. Как и у нее, у любой из них жизнь замыкалась тесным кругом, в центре которого стоял изменчивый в своих настроениях мужчина; он был кормильцем, он спал ночью рядом, и он жил своей жизнью, далекой от ее извечного женского удела — стряпать пищу, растить детей и стареть прежде времени. Нередко, переходя улицу, Эшли вдруг видел перед собой Лили. Роджер бросал на него суровый взгляд и быстро проходил мимо. Софи продавала ему фруктовые соки. Другие Софи обслуживали его в ресторанах. Не раз ему доводилось сражаться в шашки с Констанс. А чаще всего попадалась ему навстречу Юстэйсия Лансинг.
По расписанию поезд должен был прибыть в Манантьялес в четыре, пять или шесть пополудни, пройдя расстояние в восемь — десять миль за восемь — десять часов. Вначале он весело бежал по долине. Потом стал зигзагами карабкаться в гору. Через длинные шаткие мосты полз, едва продвигаясь вперед. Подолгу стоял в оживавших с его приближением поселках — горсточках шахтерских домишек, сгрудившихся на выжженной земле вокруг водонапорной башни, где перемежающаяся тень и скудная утечка воды в почву породили одно-единственное перечное дерево. На стоянке все пассажиры высыпали из вагонов. Машинист, кочегары и кондуктор шли в буфет пропустить стаканчик с начальником станции. Час за часом окрестный ландшафт становился все более зловещим. Тихий океан уходил все дальше вниз, плоский, как доска для резания хлеба. А вершины гор пододвинулись ближе и как будто клонились навстречу поезду. Из Гуаякиля Эшли уже видал Чимборасо, почти на двадцать одну тысячу футов возвышающийся над уровнем моря («Если б Беата могла взглянуть на него! Если бы дети могли это увидеть!»); но здесь были горы Чили — отныне его горы.
Деревянные скамьи вагонов заполнились в Антофагасте задолго до отправления поезда. Рядом с Эшли и на противоположной скамье разместилось большое семейство. Он сдержанно поздоровался, но в разговоры вступать не стал. Он читал или делал вид, будто дремлет. На вокзале семейство провожали соседки, и он волей-неволей успел узнать имена всех своих спутников: вдова Роса Давилос, Мария дель Кармен, шестнадцати лет, Пабло, Клара, Инес и Карлос. Соседки тоже были одеты в черное и явились в сопровождении дочерей. (Как говорит пословица: «Дочка что лихорадка — никуда от нее не денешься».) Все они принесли на дорогу гостинцы, которые принимались после столь долгих возгласов удивления и протеста, что поблагодарить уже не хватало времени. Когда поезд наконец тронулся, все набожно закрестились и в двадцатый раз напутствовали вдову советом покориться господней воле — знакомой уже Эшли формулой последнего повелительного призыва к человеческой стойкости.
То один, то другой из детей оглядывался на господина в углу. Потом решено было, что столь важная особа не удостоит вниманием их разговор, даже если понимает диалект, на котором он ведется. Вдова, вся уйдя в свою скорбь, прислонилась лицом к оконному стеклу. Старший мальчик, сидевший напротив Эшли, хмуро уставился в пол, отгородясь презрением от неумолчной бабьей болтовни крутом. Младшие дети скоро начали клянчить гостинцы из свертков, лежавших на коленях у четырнадцатилетней Клары. Ей, как видно, доверено было исполнение материнских обязанностей. Час прошел, а ребята все еще хныкали и жаловались на голод. Наконец мать открыла глаза и сказала: «Дай им». Клара все разделила на шесть частей и дала по одной Инес и Карлосу. Четверо старших членов семьи от еды отказались, сказав, что не голодны. Это состязание в великодушии быстро переросло в шумную свару. Пабло уговаривал мать поесть. Мать надрывно-истерическим тоном требовала, чтобы поел Пабло. У Марии дель Кармен пропал аппетит.
— Боже милостивый, за что ты меня наказал такими детьми?
— Мама, — тихо сказала Клара, — у тебя сумка упала. Вот, возьми.
— Сумка? Она очень тяжелая, моя сумка. Держи ты.
— Хорошо, мама.
К середине дня дети снова проголодались. Клара занимала их длинными и путаными рассказами про младенца Иисуса. Как он ходит по комнатам, где спят малыши. Как маленьких мальчиков делает умными и храбрыми, а девочек — хорошенькими-прехорошенькими. Потом, не повышая голоса, стала расписывать чудеса, которые их ожидают в Манантьялесе.
— Знаете, что это значит — Манантьялес? Это значит, что из-под земли там бьет вода. И холодная, и горячая. И всюду, куда ни глянь, цветут цветы. Бабушка скажет: «Инес, сердце мое, ступай в сад, нарви роз, мы поставим их перед богоматерью». Помните, что рассказывала бабушка, когда приезжала повидать нашего папу перед тем, как его господь взял на небо? В Манантьялесе одна госпожа англичанка открыла школу для девочек, и Карменсита сможет выучиться там на портниху, а я, может быть, даже на медицинскую сестру, и мы каждую субботу будем приносить маме деньги — деньги — деньги! Эта госпожа очень добрая: когда какая-нибудь девушка соберется замуж, она ей дарит постель и сковородку.
— И туфли, Клара?
— Ну конечно, и туфли тоже. И жених тогда сам торопит со свадьбой.
— А для мальчиков она ничего не делает?
— А ты слушай дальше! Как она увидит Паблито, так сразу скажет: «Вот послал мне господь удачу! Я давно ведь жду ловкого и честного паренька, чтоб ходил за моими лошадьми и мулами!» А когда подрастет Карлос, она скажет: «Я уже много времени присматриваюсь к этому Карлосу Давилосу. У меня для него кое-что есть на примете».
Тут вдова Давилос открыла глаза, потянулась вперед и отвесила Кларе звучную пощечину.
— Mamita!
— Ты еще пищать! Набивает детям голову всякой чепухой! Англичанки, сковородки, туфли! Скажи им лучше, что нам больше не для чего жить! Вот это им скажи!
— Хорошо, мама!
Снова начался дележ пищи. На этот раз Мария дель Кармен отказываться не стала. Долю Пабло Клара положила ему на колени. Поезд, сильно замедлив ход, потащился по мосту, перекинутому через ущелье. Мария дель Кармен вздрогнула и закрыла глаза руками. Мать сердито стала отрывать ее руки от лица.
— Не будь дурой, дочка! Загляни, загляни в пропасть! Чего боишься? Для нас всех было бы лучше, если бы мы туда свалились!
Клара неодобрительно посмотрела на мать и перекрестилась. Мать почувствовала себя уязвленной.
— Это что значит, дрянь этакая?
— Мы хотим, чтобы ты была жива и здорова, мама. Больше всего на свете мы этого хотим.
— А зачем? Ответь мне — зачем? Ваш отец ничего нам не оставил. Ничего. Ничего. От бабушки тоже ждать нечего. У нее и так три беспомощные женщины в доме. А от твоего дяди Томасо пользы как от козла молока. Вспомни, что сталось с детьми Аны Ромеро.
— Я буду просить милостыню, мама. Буду брать с собой Инес и Карлито. Они будут петь.
Мать снова ударила ее по лицу. Клара, не моргнув, продолжала:
— Господь не отворачивается от нищих. Он от тех отворачивается, кто нищим отказывает в подаянии. Раз папа не оставил нам ничего, значит, на то была господня воля.
— Что, что такое?
— Раз папа упал и разбился насмерть, значит, на то была…
— Ваш отец был святой человек, да, святой!
Пабло метнул на мать взгляд, полный гневного презрения.
— А ты что на меня волком смотришь? А? Ты никогда не ценил своего отца — никогда! У-у! Если ты вырастешь хоть чуточку на него похожим, так я кой-кого знаю, кто этому очень удивится. Очень!
— Мама! — шепнула Клара.
— Ну что «мама», «мама»?
— Ты ведь сама при мне говорила сестре Руфине, что гордишься нашим Паблито. Что он самый умный и самый храбрый мальчик во всем квартале.
— Ах ты!
Пабло встал и отчетливо произнес:
— Дурак он был, наш отец.
— Ангелы небесные, вы только послушайте его! Я двадцать лет прожила с вашим отцом. Я ему родила девятерых детей. Я была самой счастливой женщиной в Антофагасте.
— Ты-то была счастливой! Ты-то была!.. А мы?
Роса Давилос открыла было рот, чтобы возразить, но Клара опередила ее. Обращаясь ко всем, она сказала с убеждением в голосе:
— А ведь папа сейчас смотрит на нас.
Эшли вытер ладонью взмокший лоб. Он едва удержался, чтобы не застонать. Ему показалось, что он видит сон — присутствует на одном из тех многоактных спектаклей, где человек одновременно и завороженный зритель, и главный герой, и непризнанный автор пьесы. Четверть часа прошло, и его взгляд вдруг встретился со взглядом Росы Давилос. Тень удивления, смешанного с испугом, прошла по ее лицу. Она вся подобралась, стараясь придать себе вид светской дамы. Когда пассажиры вышли на следующей станции, она пересела со всем семейством в другой вагон. Эшли пошел под палящим солнцем по единственной улице поселка. Дошел до водонапорной башни и остановился у перечного дерева: через равные промежутки времени сюда доносился грохот взрывов — это вспарывали динамитом землю, добывая селитру, которая пойдет за море, чтобы превратиться в орудие смерти или в удобрение для полей. «В жизни если что раз не удалось, другого раза не будет, — думал он. — Не это ли и значит стареть — видеть все ясней и ясней то, что прежде пропускал без внимания». В вагоне он застал на месте вдовы с детьми другое семейство, столь многочисленное, что оно заняло еще несколько скамеек. Все были немного навеселе. Справляли, как оказалось, семейное торжество — именинница, маленькая старушка, сидела напротив Эшли и сонно хихикала. Каждую минуту кто-нибудь из родных тянулся к ней с поцелуями и шумными возгласами: «Mamita, золотая моя!», «Абуэлита, голубушка!» Заставили выпить и Эшли. Его тут же перезнакомили со всеми, и он тоже поздравил именинницу. Жизнь пестра и разнообразна — оттого так трудно ее осмыслить. Даже новичкам в философии случалось докапываться до сути страдания — но какой великий мудрец постигнет суть счастья?
В Манантьялесе он снял себе комнату в рабочем квартале. Тяжесть спала с его души. Он был молод; он был здоров; он ушел от своих преследователей. Впервые за целый год он очутился в умеренном климате: ночи были холодными. И он не сидел без дела, что было всего отраднее. Он исправил дымоход у хозяйки на кухне. Расшевелил ее увальня сына, и вдвоем они вычистили бак для воды. Он пел за работой. Он охотно чинил что нужно соседям, в благодарность его приглашали обедать. Подумать только — ведь из господ, а не боится замарать руки простой работой! Со всех сторон только и слышно было «Дон Хаиме!» да «Дон Хаиме!».
Не раз потом говорилось о детях Эшли, что все они взрослели медленно. Так оно и было, но медленнее всех взрослел их отец. Вред замедленного, равно как и ускоренного, развития состоит в том, что чрезмерно затягиваются либо сжимаются, а то и вовсе выпадают отдельные фазы, через которые растущему человеку положено пройти в жизни. Мальчик Джон Эшли из Пулли-Фоллз, штат Нью-Йорк, видел себя в мечтах юным Александром Македонским, завоевывающим страну за страной, но его никогда не воодушевлял пример человека, посвятившего свою жизнь работе в колонии прокаженных; он мысленно повторял подвиги крестоносцев, но не мечтал в качестве государственного деятеля бороться с несправедливостями общественного строя. Его юношеского бунтарства хватило лишь на то, чтобы воздвигнуть стену между собой и боготворившими его родителями и низвергнуть кумиров, которым они поклонялись. Став студентом технического колледжа, он сразу же объявил себя атеистом, а между тем оставался в плену предрассудков похуже религиозных; не веря в бога, он безотчетно верил в свою власть над судьбой: с кем угодно может случиться несчастье, только не с ним; обстоятельства всегда будут благоприятствовать любым его желаниям. А главное — он почти миновал тот период, когда каждый нормально развивающийся юноша задается философскими проблемами бытия. И теперь в Манантьялесе Эшли испытывал муки разума, которые должен был испытывать на двадцать лет раньше. По ночам, лежа на кровле дома, он вглядывался в созвездия, мерцавшие между горными пиками, и его мысли перекликались с мыслями другого молодого человека, персонажа книги, написанной за тысячи миль от Чили: «В бесконечности времени, пространства, материи возникает организм, который, как пузырь, существует короткое время и лопается; я — такой пузырь».
Еще одна тень прошлого его мучила — воспоминания о родителях. Джон Эшли бежал с Беатой Келлерман на следующий день после того, как получил диплом об окончании технического колледжа в Хобокене, штат Нью-Джерси. Его родители специально приехали из Пулли-Фоллз, штат Нью-Йорк, чтобы присутствовать на выпускных экзаменах. У них на глазах успех следовал за успехом, награда за наградой. Наутро они уехали домой; сын должен был в ближайшие дни последовать за ними. К рождеству он послал им поздравительную открытку без обратного адреса. Он так и не написал ни разу, хоть и собирался было на радостях, когда родилась Лили. Без всякой обиды и без всякого повода к обиде и он и Беата отрезали себя от родителей раз и навсегда. И за все прошедшие годы ему не случилось пожалеть об этом или упрекнуть себя. Лишь сейчас, когда все его помыслы были устремлены к семье и к тому, что с ней связано, встал перед ним тревожный вопрос: где, в чем его вина? Может, он был бессердечным сыном? Может, это его бессердечие отразилось пагубным образом на жизни его собственной семьи? Может, и его дети так же уверенно и хладнокровно уйдут в большой мир, когда придет пора? Может, был какой-то изъян в жизни в «Вязах»? Но ведь эта жизнь текла счастливо и безмятежно целых семнадцать лет!
Отчего же, когда он сказал это Марии Икасе, она лишь презрительной усмешкой ответила на его слова?
Отец Эшли был человек почтенный — президент банка в Пулли-Фоллз, один из столпов местного общества. Джон рос единственным ребенком в семье, хотя знал о том, что до него были еще двое, две девочки, обе умерли совсем крошками. Мистер Эшли говорил мало, держался замкнуто, быть может, в противовес экспансивности, свойственной его жене. Мать обожала сына, ее любовь поистине не знала границ. Подобный накал чувства, даже если это чувство религиозное, таит в себе неосознанный расчет. Беззаветное и самозабвенное обожание как бы позволяет предъявлять особые права на обожаемое существо — вплоть до права собственности. Джон был от природы добродушен; материнские притязания вызывали у него протест, но он никогда не выражал его в резкой форме. Он попросту делал вид, что не замечает этих притязаний. Жизнь дала ему и пример иной любви, которая не ущемляет свободы того, кого любят, а, напротив, расширяет ее границы; каникулам, проведенным на ферме бабушки Эшли, суждено было стать надолго счастливейшим временем его жизни. Теперь, задним числом, он верно оценил одну черту в отцовском характере, в свое время казавшуюся ему неприятной, но малозначительной. Отец был скуп, хоть и старался не показывать этого. Дом велся на широкую ногу; церковь получала положенное; но всякий расход, выходящий за рамки установленного в семье бюджета, причинял мистеру Эшли настоящее страдание. Его жена немало сил и изобретательности тратила на то, чтобы скрыть от соседей это болезненное свойство натуры мужа; тем не менее в городе ходили легенды о тех сложных комбинациях, на которые он пускался ради грошовой экономии. И лишь сейчас сын впервые уяснил себе, что отец был богат, вероятно, очень богат. Кроме своей банкирской деятельности, он беспрестанно что-то покупал и перепродавал — дома, фермы, торговые предприятия. Здесь, в Манантьялесе, Эшли понял вдруг, что стремился стать противоположностью своему отцу, но жизнь повела его, как и отца, по неверному пути. Скряжничество вырастает из страха перед возможными невзгодами. Противоположность скряге — не мот из притчи, не блудный сын, растрачивающий себя в беспутном житье, а та стрекоза, что лето целое все пела. Эшли жил, ничего не боясь и ни о чем не задумываясь.
— В этом, стало быть, суть семейной жизни? — громко простонал он. — Люди, испорченные неразумием, слепотой в страстями своих родителей, калечат потом собственных детей; из-за наших ошибок страдают и уродуются наши дочери и сыновья? Так, звено за звеном, тянется бесконечная цепь поколений?
Бабка Эшли была личностью замечательной и оригинальной. Он мало что знал о ее детстве и юности. Родилась она в Монреале, воспитана была в католической вере. Выйдя замуж за его деда, мелкого фермера, хозяйничавшего на каменистых землях, она стала ходить вместе с ним в методистскую церковь. Она уговорила его перебраться на пятьдесят миль южней, где почва была более плодородной. Но отношения между супругами разладились. Она примкнула к одной из распространенных на севере штата Нью-Йорк религиозных сект, проповедующих крайний аскетизм. Муж вскоре подался на Аляску, искать золото. Она повела хозяйство сама, с помощью ненадежных и часто сменявшихся батраков. Тогда-то и проявился ее удивительный дар понимания животных. Она была энергична и неутомима, напориста в труде, но скупа на ласку. Сына она послала учиться в небольшой колледж, окончив который он занялся банковским делом в Пулли-Фоллз — ушел в мир малых достижений и больших тревог, из которых слагается жизнь скряги. И они стали друг другу чужими. Что же, богатство души матери обернулось в сыне заурядной жадностью к деньгам?
Так, звено за звеном, тянется бесконечная цепь поколений?
В те летние, каникулярные месяцы бабка по средам брала его на вечерние молитвенные собрания своей общины. Он помнил, как в первый раз его удивило отсутствие проповедника. Молились одни стоя, другие сидя, третьи на коленях. Иногда подолгу царила тишина. Иногда негромко звучали короткие гимны. Иногда раздавались отрывистые мольбы о ниспослании ясности духа, терпения или смерти. С того времени любая церковная служба казалась ему скучной по сравнению с непосредственностью этих самозабвенных обращений к богу. Прихожане обычно ждали, когда заговорит бабушка Эшли. Ее словом завершалось собрание. Она поднималась и, не закрывая глаз, начинала говорить. Речь ее, с сильным французским акцентом, в минуты большого душевного напряжения становилась почти непонятной. Говорила она обычно недолго, мысли ее были сосредоточены на одном — на устройстве мира, как его замыслил творец. Она просила указать ей ее место в этом мире. Жаловалась, что великий замысел осуществляется слишком медленно. Просила о милосердии к тем, кто по злобе или по неведению противодействует его осуществлению. Воздух в комнате накалялся от ее слов. Было ясно, что это себя она обвиняла в злобе и в неведении, но все слушавшие ее принимали обвинение на свой счет. Ропот проходил по рядам, люди вскакивали, падали ниц, зажмуривались. Джон не понимал, зачем бабка говорит о себе так. Для него она была самым лучшим человеком на свете. В заключение она выражала надежду, что господь даже прегрешения наши заставляет служить своим благим целям. И заканчивала призывом спеть «Снизойди, святой дух, к нам, в свою обитель».
Теперь он ее понял.
Он лежал на кровле, созерцая созвездия в небе. Потом страшная усталость сморила его, и он заснул.
Настал в его новом развитии такой период, когда у него появилась потребность перед кем-то преклоняться. Все чаще приходила ему на ум миссис Уикершем, о которой он слышал так много. Он побывал в ее больнице, ее приюте, ее школе кружевниц для слепых. Приют и больница официально числились при муниципалитете, но и больные, и сироты, и ходившие за ними сестры, да и все вообще в городе считали их заведениями миссис Уикершем. Эшли не воспользовался письмом Эндрю Смита и не пытался устроиться в «лучшей гостинице Южной Америки» — там проходила крысоловная зона. Но он не раз видел миссис Уикершем на улице, когда она ехала за покупками или навестить одно из своих заведений, — всадница на вороной лошади, прямая, осанистая, тугой узел седых волос на затылке под широкополой испанской шляпой, красная роза в петлице. Лавочницы и продавщицы выбегали на улицу поцеловать ей руку; мужчины, смиренно опустив голову, слушали ее назидательные речи. Она получше Эшли владела языком рабочего люда. Она часто смеялась, и все кругом смеялись вместе с ней. Эшли вообще смеялся редко; не то чтобы он считал себя выше этого, просто ему казалось, что смеются люди по пустякам, а смех отвлекает их от необходимых житейских дел. Миссис Уикершем возбуждала в нем интерес, она казалась ему достойной преклонения. Разузнав, в какие часы она обычно отлучается в город, он в одно прекрасное утро вошел в вестибюль гостиницы и попросил вызвать хозяйку. Ему ответили, что ее нет. Он сказал, что готов подождать, и, не обращая внимания на портье, направился в приемную.
В свое время многие из конкистадоров пожелали окончить свои дни в Новом Свете. Трудно поверить, что их не тянуло вернуться в Испанию, повинуясь ее неотразимой влекущей силе, — вновь увидеть Бискайю, колыбель моряков, даже Эстремадуру, красоты которой раскрываются только неторопливым. Они прочно осели в Америке, настроили себе домов, народили плосконосых ребятишек. Но позади осталось нечто дороже родины, дороже края, на который они эту родину променяли, — океан, исхоженный их судами во всех направлениях. Дома новых поселенцев были белыми и снаружи и внутри. Только в одной комнате, той, что предназначалась для приема гостей, стены от пола до уровня глаз человека красились в синий цвет; все четыре стены были наполовину синие, точно море, когда светит солнце и дует легкий бриз. И в приемной миссис Уикершем в отеле «Фонда» это было — и море, и горизонт. Над столом висела модель галеона XVI века. На одной из стен эта строгая пресвитерианка, не смутясь, поместила огромное, выцветшее от времени распятие. К распахнутым настежь окнам подступал сад во всей своей роскоши, грозя затопить комнату многоцветным разливом. Эшли привык считать, что комната должна соответствовать своему назначению; ему никогда не приходило в голову, что она может быть и красивой. Ему, лишенному многих человеческих свойств — честолюбия, юмора, тщеславия, склонности к размышлениям, — было чуждо представление о красоте. Ему нравились картинки на календаре в бакалейной лавке. Правда, в колледже его постоянно хвалили за «красоту» его чертежей. Вспомним, как поразила его красота зари, впервые увиденная им в Иллинойсе после побега, а поздней — красота Чимборасо и чилийских гор, ставших для него родными. Он присел на стул и огляделся по сторонам. Незнакомое прежде ощущение перехватило горло; он всхлипнул. Он не мог отвести глаз от головы на стене, свесившейся в бессильной муке. Жестокость, боль и смятение царят в мире, но людям дано превозмочь безнадежность, создавая прекрасные вещи, достойные изначальной красоты этого мира.
Его мысли путались в полудреме. Резкий звук незнакомого голоса вернул его к действительности. В дверях стояла миссис Уикершем и смотрела на него.
— Кто вы такой? — спросила она воинственным тоном.
Он поспешно встал.
— У вас остановился Джеймс Толланд?
— Джеймс Толланд? Первый раз слышу это имя.
— Я рассчитывал найти его здесь. Извините, миссис Уикершем. Если позволите, я зайду в другой раз. Всего хорошего.
Наутро он поехал дальше. На высоте девять тысяч футов у него впервые пошла носом кровь. Он лег на пол вагона. Он тихонько смеялся, и от этого ему было больно, но удержать смех он не мог. На узловой станции, где отходила ветка на Рокас-Вердес, его ждали двое индейцев, говорившие по-испански. Они сказали, что сообщение прервано из-за обвала, придется продолжать путь на муле. Пять часов он ехал верхом, поминутно засыпая, потом заночевал в хижине близ дороги. До рудника он добрался назавтра к полудню, и доктор-голландец уложил его на сутки в постель.
Он несколько раз просыпался, чувствуя то запах фиалок, то лаванды. Фиалками пахли всегда платья его матери от саше, которые неизменно дарил ей к рождеству муж. А у Беаты были клумбы лаванды в «Вязах»; ее платья и все постельное белье в доме благоухали лавандой. Денег это не стоило. Временами комната, где лежал Эшли, наполнялась людьми. Его мать и жена стояли с обеих сторон кровати и поочередно подтыкали края одеяла. Они не встречались ни разу в жизни, но явно успели поладить друг с другом. Одеяло тяжело давило на грудь. У обеих женщин были озабоченные лица.
— Завтра ты в школу не пойдешь, — тихо сказала мать. — Я напишу мистеру Шеттаку записку.
Он попробовал сбросить с себя одеяло.
— Мама, зачем меня спеленали, как мумию?
— Ш-ш-ш, милый, лежи спокойно.
— Я думаю, нам тут поправится, — сказала Беата.
— Ты всегда так говоришь!
— Постарайся уснуть, дорогой.
— А где дети?
— Только что были все здесь. Не знаю, куда они девались.
— Я хочу их видеть.
— Ш-ш, ш-ш! Сейчас тебе нужно спать.
Когда он проснулся опять, в комнату вошла Юстэйсия Лансинг. На ней было кричащее платье в лиловых и красных разводах, похожих на тропические цветы и плоды в густой зелени листьев. Чуть пониже правого глаза темнела знакомая милая родинка. В тысячный раз он убедился, что у нее неодинаковые глаза: один сине-зеленый, а другой черно-карий. Как это часто бывало, она с трудом сохраняла серьезную мину; что-то веселое, может быть рискованный анекдот, насмешило ее так, что казалось, она вот-вот прыснет.
Джон Эшли давно уже положил себе за правило: поменьше задумываться об Юстэйсии Лансинг. Короткий взгляд, мимолетное прикосновение — вот все, чем он иногда себя тешил. Но на больших высотах с человеком про исходят странные вещи.
— Стэйси! — воскликнул он и захохотал так, что в боку закололо.
— Здесь не так еще высоко, — сказала она по-испански. — Дети хотят забраться повыше.
— Стэйси, ты ведь не знаешь испанского языка! Где это ты научилась говорить по-испански? Какие дети? Чьи дети?
— Наши дети, Хуанито. Наши.
— Чьи-чьи?
— Наши с тобой.
Тут он от хохота наполовину свалился с кровати. Пальцы его касались пола.
— Но у нас с тобой нет детей, Стэйси.
— Глупый! Не стыдно тебе так говорить! У нас много детей, и ты это прекрасно знаешь.
Он вдруг перестал смеяться и спросил в некоторой растерянности:
— Как же так? Я ведь только однажды тебя поцеловал, и то Брек стоял рядом.
— Неужели? — отозвалась она с загадочной усмешкой. — Неужели? — И вышла в закрытую дверь.
В этой книге был уже разговор о надежде и вере. О любви рассуждать пока рано. Еще не рассеялась первозданная мгла, в которой рождается последнее из трех великих начал. Еще все в нем зыбко и переливчато — жестокость мешается с милосердием, созидание с разрушением. Пройдет еще много тысячелетий, и, быть может, оно отстоится, как отстаивается мутное вино.
Его сотоварищи были люди озлобленные. Покинув родные края, отказавшись от семьи и от дома, они уехали за тысячи миль в места, где климат почти непереносим для человека, с одной только целью: разбогатеть. Но таким способом богатели в семидесятые и восьмидесятые годы; сейчас на добыче меди наживали состояние другие — те, что каждый вечер ели на ужин бифштексы в обществе женщин, сверкающих драгоценностями и белизной обнаженных плеч (так это выглядело в ночных наваждениях обитателей Рокас-Вердес). Для трудившихся на рудниках было неписаным правилом экономить силы на чем возможно, в том числе и на разговорах. Даже за игрой в карты слова заменялись жестами и неопределенным мычанием. Дело было не только в разреженном воздухе; свойства металла отчасти передавались людям, его добывавшим. Они стали инертны, как инертна руда. Под надзором доктора Маккензи работали все (кроме рудничного врача) превосходно, но инертность вполне совместима с усердием в заданных пределах. Инертность — благодатная почва для ненависти к себе и к другим; ненависть нависла, как облако, над карточными столами в клубе. Но в условиях вынужденной экономии сил она редко получала открытое выражение. Раз-другой в году кто-то, впрочем, срывался: набрасывался на соседа с бешеной руганью или в припадке умопомешательства катался по полу, грызя собственные кулаки. Доктор ван Домелен давал успокоительное. Доктор Маккензи, спешно вызванный в клуб, помогал несчастному с достоинством выйти из положения: «Все мы слишком перерабатываемся, а вы, Уилсон, особенно. Работник вы золотой, поистине золотой. Что, если вам съездить в Манантьялес, отдохнуть недельку? Я думаю, миссис Уикершем вас примет. Даже если в отеле «Фонда» не найдется свободного номера, обедать вы там, во всяком случае, сможете».
Эшли, если не считать доктора ван Домелена, был самым молодым членом клуба. Прочим двадцати двум инженерам приятно было смотреть на него сверху вниз, как на младшего, со скептическим прищуром наблюдать ту горячность и предприимчивость новичка, которую он вкладывал в свое дело, а к самому этому делу относиться чуть ли не издевательски. Для них он был «эконом», нечто чуть повыше китайца-повара.
Что удерживало этих людей в Рокас-Вердес? На рубеже века специалисты горного дела во всем мире были нарасхват. Разрешить это недоумение Эшли помогла года полтора спустя миссис Уикершем, с которой уже началась у него к тому времени великая дружба.
— Видите ли, мистер Толланд, горные инженеры — чудной народ. Руда — страсть их, единственная страсть. Им самим кажется, будто их влечет то богатство, которое сулят разработки, но это неверно! Их влечет сам металл. Исторгать его из ревущей и стонущей горы для них наслаждение. Рокас-Вердес — рудник небольшой, расположен он на смертоубийственной для человека высоте, но… нигде в Андах нет лучшей меди. Ваши товарищи по работе — мрачные, угрюмые люди, но каждый из них всем своим существом гордится, что работает там, где добывается первоклассная руда. Всякий человек стремится быть причастным к самому что ни на есть лучшему в той области, в которой он трудится. Трудиться в Рокас-Вердес — честь для горняка. Доктор Маккензи известен по всем Андам своим удивительным чутьем на медь и умением добывать ее. Он бы мог стать управляющим Эль-Тениенте, если бы захотел, но ему больше правится в Рокас-Вердес. Горные инженеры — чудной народ, им всегда нравится там, где труднее. За этим самым столом, мистер Толланд, мне случалось видеть людей, которые в присутствии доктора Маккензи смущались, как школьники, первый раз надевшие длинные штаны, а между тем каждый из них зарабатывает вчетверо, впятеро больше, чем он. На тех рудниках, где они работают, дело поставлено с миллионерским размахом. Их жены и дети живут вместо с ними, у них штат прислуги, душевые с горячей водой…
— У нас теперь тоже душевые с горячей водой, миссис Уикершем.
— …виски с содовой — пей сколько хочешь. Но они уже не настоящие горняки. Они всего лишь бухгалтеры. Работа на этих рудниках идет точно на обувной фабрике. Настоящий горняк молчалив, необщителен, знает только одно: свое дело. Жены у него чаще всего нет, ушла, вот как у доктора Маккензи. Но заметьте себе, сам он ничего этого не понимает. Ему кажется, он такой, как и все, только лучше. Тот же самообман, что и его надежда разбогатеть. Взгляните, как хитро действует ваша компания — всем ее служащим полагается прибавка к жалованью в конце каждого четвертого года. Эта прибавка — все равно что вязанка сена перед мордой осла. Она создает иллюзию верного пути к богатству. Но, на мой взгляд, истинная причина, удерживающая людей в Рокас-Вердес, в том, что это рудник-аристократ — труден, крут, привыкнуть к нему немыслимо, но медь там самого высокого качества.
Инертность предшественника Эшли на всем оставила свои следы. Понадобилось около двух недель, чтобы навести чистоту в столовой и кухне, наладить систему горячего водоснабжения. Он подружился с китайцем-поваром, выказав интерес к особенностям кухонной технологии на больших высотах. Потом занялся дверьми и окнами в домиках для технического персонала. Действовал он, импровизируя на ходу, так же как в свое время в Коултауне. Отправлял на свалку полусгнившие деревянные рамы, прохудившиеся кастрюли и ветхие одеяла. Предшественник, видимо, не решался просить у конторы в Антофагасте новое оборудование. В роду Эшли нерешительных не бывало. Ежемесячные письма, которые Джон Эшли слал Эндрю Смиту, содержали длинные перечни нужных ему вещей — и на рудник стали прибывать грузы хозяйственного назначения. В столовой прежде кормили одной солониной и мясными консервами. Он добился разрешения заказывать мясо и овощи в Манантьялесе — его предшественнику это попросту не приходило в голову, инертность мешала. На столе появились ананасы и яблоки. Арауканские домотканые коврики заменили фабричные половики.
Лучше всего Эшли чувствовал себя в горняцких поселках — чилийском и индейском. Его непосредственные помощники по работе были боливийскими индейцами. Однажды один из них пригласил его на крестины недавно родившейся дочки. Когда праздник подошел к концу, Эшли захотелось еще раз взглянуть на мать и младенца. Это было не в обычаях племени, но мать с девочкой все же к нему вышла. Хотя он много лет уже не держал на руках ребенка, в нем не вовсе заглох отцовский инстинкт.
Доктора ван Домелена в эти поселки вызывали редко, в индейский — почти никогда. Индейцы — стоики по природе, кроме того, у них есть свои средства против сильной боли. И они даже болезнь и смерть предпочитали его микстурам, его блестящим инструментам, его дыханию, отдающему спиртным, откровенной презрительности его взгляда. У него было двое детей в индейском поселке, мать их он вызывал к себе условным знаком — вешал фонарь над дверью.
Эшли подметил у местной детворы признаки рахита. Хоть это было и не по его части, он телеграммой затребовал у Эндрю Смита ящик рыбьего жира. Быт индейцев не уступает в церемониальности быту испанского двора, но Эшли удалось получить право доступа в хижины поселка. Он старался добиться, чтобы жилища проветривались, чтобы соблюдались элементарные правила гигиены, чтобы пища была здоровее. Он и советовал, и упрекал. На улицах то и дело можно было услышать:
— Buenos[70], Антонио!
— Buenos, дон Хаиме!
— Buenos, Текла!
— Buenos, дон Хаиме!
— Ta-hili, Ксебу!
— Ta-hili, Клезу!
— Ta-hili, Бекса-Ми!
— Ta-hili, Клезу!
А время бежало, как того и хотелось Эшли, бежало быстро. Миссис Ходж сказала: «Семь лет».
Инженеры к нему относились враждебно. За все, что он делал, чтобы им легче жилось, он ни разу не слышал и слова благодарности. Он посягнул на ту мрачную усладу, которую они извлекали из тягот своего существования. Когда он спускался в шахту, стремясь постичь основы дела, которым они занимались, его встречали недовольные лица. Он редко садился с другими за карты после ужина — как, впрочем, и доктор Маккензи. Обычно управляющий, встав из-за стола, церемонно желал инженерам спокойной ночи и шел домой. В отличие от других обитателей Рокас-Вердес у него было пристрастие, которому он посвящал весь свой досуг. Он любил читать и проводил вечера за чтением, прихватывая иногда и часть ночи. Книги он выписывал из Эдинбурга; они приходили к нему, обогнув мыс Горн, или же поезд мчал их через саванны Панамы. Его интересовали религии древнего мира. Он читал Библию по-древнееврейски, Книгу мертвых — по-французски, Коран — по-немецки. Немного знал и санскрит. Дни его были отданы мыслям о меди, ночи — утешительным или грозным видениям судеб человечества. Он был стар и безобразен, но при более близком и долгом знакомстве оказывалось, что не так уж и стар и безобразен, как на первый взгляд. Он прихрамывал; нос у него был перешиблен, и, возможно, не один раз; глаза смотрели сурово, и сурово были сжаты сухие губы. Но порой в выражении его лица вдруг мелькал неожиданный отблеск веселья или насмешки, запрятанной глубоко внутри. Он внимательно наблюдал за своими людьми, в том числе и за Эшли.
Однажды, возвратясь после работы, он застал Эшли за прочисткой дымохода в его доме.
— А-а, Толланд! Здравствуйте, Толланд!
— Здравствуйте, доктор Маккензи. Беда с этими брикетами — то и дело от них засоряются дымоходы.
— Верно, верно… Кстати, Толланд, зачем вы укрепили эти жестяные щиты близ уборных?
— А это отражатели дли солнечных лучей, сэр. Мне пришло в голову, что, если направить их туда, где в складках гор лежит лед, может набежать немного воды шахтерским женам на стирку. За ночь она, конечно, замерзнет, но днем то же солнце растопит ее опять.
— Хм… хм… Помнится, я что-то читал насчет использования солнечной энергии в одном из старых журналов, которых у меня много. Надо будет поискать. Знаете что, Толланд, приходите сегодня после ужина ко мне. Захватите с собой чашку, выпьем чаю.
За этим первым чаепитием у доктора Маккензи последовало много других. Тактически тут была допущена ошибка, и Эшли это понимал. Инженеры, враждовавшие между собой, к управляющему относились с уважением. Эшли был первым, кто удостоился приглашения к нему домой. Это вызвало лютую зависть.
Как-то раз, уже на шестой месяц своей жизни на руднике, Эшли услыхал, что в чилийском поселке умер ребенок. Накануне у одного из рудокопов праздновались именины. Женщины и дети теснились в углу комнаты, а мужчины пили чичу, плясали, пели. (То, что официально алкоголь был под запретом, вносило некоторый интерес в жизнь горняков.) В пьяной кутерьме кто-то опрокинул тыквенную бутыль с горячей чичей на сынишку Мартина Рамиреса, родившегося всего неделю назад. Доктор ван Домелен несколько часов провозился с младенцем, но спасти его не смог. Эшли знал родителей и, услыхав о несчастье, поспешил в скромную хижину, которую те делили еще с одной семьей. Он постучался и вошел. В комнате находились пять или шесть женщин в темных платках, низко надвинутых на лоб, и несколько ребятишек. Все мужчины поселка были на работе, один Мартин Рамирес сидел в углу, насупившись больше от раздражения, чем от горя. Эка невидаль — ребенок умер. Бабья забота. Маленький покойник лежал на полу, завернутый в материнскую кофту.
— Buenos!
Женщины и дети нестройно загудели в ответ. Эшли, спиной к двери, ожидал, когда его глаза привыкнут к полутьме. Тем временем все посторонние бесшумно потянулись из комнаты, уступая ему место. Остались только родители и какая-то старуха. Эшли повторил свое приветствие, добиваясь отклика от Рамиреса.
— Buenos, Мартин!
— Buenos, дон Хаиме!
— Поди сюда, Ана, сядь рядом.
Ана была совсем еще девочка, кривая на один глаз. Она робко присела на кровать около Эшли.
— Как имя мальчика?
— Сеньор… у него нет имени. Священник не приезжал.
Священник являлся сюда раз или два в месяц с другого большого рудника, расположенного севернее.
— Но имя у него все-таки есть. Вы же знаете, как хотели его назвать.
— Я… Мне… — Ана нерешительно оглянулась на мужа. — Наверно… Мартином. — Ее начала бить дрожь. — Сеньор, он некрещеный.
Эшли вспомнил: если обращаешься к латиноамериканцу и хочешь, чтобы он тебя слушал, нужно дотронуться до него рукой. Он легонько сжал пальцами тонкое запястье Аны и сказал удивленно и укоризненно:
— Но, Ана, дитя мое! Неужели ты верить в такие глупости?
Она бросила на него короткий испуганный взгляд.
— Твой Мартинито еще безгрешен.
— Да, сеньор! Да.
— Что ж, ты хочешь меня уверить, будто господь бог карает безгрешных младенцев?
Она молчала.
— А тебе не известно, что сам папа римский с высоты своего золотого престола обличал перед всем миром это злостное заблуждение? Господь наш, сказал он, скорбит о том, что находятся люди, подобным образом заблуждающиеся. — Еще несколько минут Эшли углублял и растолковывал сказанное. Ана слушала, не сводя с него глаз. Наконец он заключил с улыбкой: — Мартинито уже не здесь, Ана.
— Где же он, сеньор?
— Там, где ему хорошо. — Эшли округлил перед собой руки, будто бережно держа в них младенца. — Где ему очень, очень хорошо.
Ана что-то произнесла еле слышно.
— Что ты говоришь, mi hija?[71]
— Он ничего не мог сказать. Смотрел, широко раскрыв глаза, а сказать ничего не мог.
— Ана, у меня четверо детей. Я знаю, как это бывает, когда они еще совсем маленькие. Нам, родителям, они могут сказать все, что захотят. Ты это и сама знаешь.
— Да, сеньор… Он спрашивал: «За что?»
Эшли крепче сжал пальцами ее запястье.
— Ты права. Он спрашивал: «За что?» И еще кое-что он сказал.
— Что, сеньор?
— «Помните обо мне!»
Ана заволновалась.
— О сеньор, я никогда не забуду Мартинито, — торопливо проговорила она.
— Никогда, никогда!
— Мы не знаем, за что мы страдаем. Не знаем, за что страдают бесчисленные миллионы людей. Но одно мы знаем. Вот ты страдаешь сейчас. Лишь тому, кто страдал, дано умудриться душой.
— Как, как вы сказали, сеньор?
Он вполголоса повторил свои слова. Ана растерянно огляделась. До сих пор она понимала то, что говорил дон Хаиме. Но эта последняя его мысль была слишком сложна для ее понимания.
Эшли между тем продолжал:
— У тебя будут еще дети — и сыновья будут, и дочери. Потом ты состаришься, станешь бабушкой. И когда-нибудь, в день твоих именин, все твои дети и внуки соберутся вокруг тебя. Они будут тебе говорить: «Mamita Ана, золотая ты наша», «Mamita Ana, tu de oro», и ты тогда вспомнишь о Мартинито. В этом мире лишь тот знает настоящую любовь, Ана, кто умудрен душой. Так ты не забудешь Мартинито?
— Нет, сеньор.
— Никогда не забудешь?
— Никогда-никогда, сеньор.
Он встал, чтобы распрощаться и уйти. Тогда, глянув на него снизу вверх и сделав едва заметный жест в сторону ребенка, она обратилась к нему с тихой просьбой. Она просила свершить обряд. Ведь он был из мира великих, тех, у кого есть деньги, кто обедает за столом и умеет читать и писать, — из мира избранников божьих, наделенных волшебным могуществом. Эшли не был уверен, помнит ли он, как нужно складывать пальцы для крестного знамения. Хоть он и состоял семнадцать лет прихожанином коултаунской церкви, ему всегда было ненавистно все связанное с церковной обрядностью, а ненавистнее прочего — слова молитвы. Раз он оказал Беате, когда не опасался, что дети могут услышать: «Молиться надо бы по-китайски». Чтобы не отказать Ане, он дважды прочитал наизусть Геттисбергскую речь Линкольна, сперва полушепотом, затем в полный голос. Ана слушала, опустясь на колени. Он прочитал: «В тени каштановых ветвей там кузница стоит». Начал было монолог шекспировской Порции, который так вдохновенно декламировала Лили: «Не знает милосердье принужденья», но запутался в первых же строках. И тогда стал говорить, обращаясь к своим детям: «Полагаюсь на тебя, Роджер, ты теперь главная опора у матери. Нам пока непонятно то, что с нами случилось. Будем жить так, Софи, словно мы верим, что какой-то смысл в этом есть. Будем жить так. Забудьте обо мне. Вычеркните меня из памяти и живите. Живите. Аминь! Аминь!»
Он пошел домой. Непонятная слабость овладела им. Он с трудом волочил ноги. Едва успев закрыть за собой дверь, он рухнул во весь свой рост на пол. Голова его стукнулась о выступ камина. Когда он пришел в себя — это было часа через четыре, — оказалось, что на голове у него настоящий колтун. Волосы слиплись от крови, и их нельзя было расчесать.
Раз в неделю, а то и чаще, Эшли приходил пить чай к доктору Маккензи. Приходил первое время в надежде потолковать о специфике меднорудного дела, но хозяин сразу же недвусмысленно дал понять, что после захода солнца медь для него больше не существует. Своих товарищей по работе они по безмолвному соглашению в разговоре не касались; говорить лично о себе ни один, ни другой не был склонен. Оставалась одна лишь тема, подсказываемая названиями книг, которыми были уставлены полки вдоль стен, — восточные религии и религии древнего мира. Эшли рад был побеседовать и об этом, однако же скоро понял, что ни пользы, ни удовольствия от этих бесед не получит. Ко всем видам человеческой деятельности — кроме горного дела — доктор Маккензи относился иронично и бесстрастно. Эшли был чужд иронии сам и не понимал ее у других; и ему представлялось недопустимым с бесстрастием исследователя подходить к тем верованиям, что несли утешение, а порой и душевную пытку бесчисленным миллионам людей. Его коробило от снисходительно-отрешенной улыбки, сопровождавшей рассказы о человеческих жертвах во славу религии — о карфагенских девственницах, обреченных на заклание, о младенцах, сожженных на алтаре Ваала, о вдовах, вместе с мужьями горевших да погребальных кострах. Эшли хотелось вникнуть в суть этих жертвоприношений, он даже пытался вообразить себя их участником. Улыбка при таком разговоре казалась ему кощунственной. Было и еще одно обстоятельство, от которого Эшли становилось не по себе во время бесед с доктором Маккензи. Почти всякий раз, точно по заранее обдуманному плану, хозяин задавал гостю заведомо недозволенные вопросы. Так уж повелось издавна, что люди, силою обстоятельств закинутые далеко от родных мест, иногда кое-что рассказывают о себе, если пожелают, но расспрашивать их не полагается. Доктор Маккензи постоянно нарушал этот неписаный закон. «Скажите, мистер Толланд, вы были когда-нибудь женаты?», «У вас и мать и отец — уроженцы Канады?» Эшли складно лгал в ответ и спешил вернуть разговор к древним религиям.
Он узнал, что египтяне на протяжении десяти тысяч лет истово верили: любой из них, если будет сочтен достойным, может стать после смерти богом Озирисом. Да, и перевозчик душ умерших повезет душу будущего «Маккензи-Озириса» или «Толланда-Озириса» вниз по Нилу, в чертог высшего судии. Там, если она не угодит по дороге в пасть крокодила или в пасть шакала, ее взвесят на весах и решат ее участь. Эшли слушал как зачарованный грозную формулу Исповеди от Противного («Я не отводил воду в сторону от того русла, где ей назначено течь», «Я не…»). А миллионы индийцев верили и сейчас верят, что умерший рождается снова и снова и в конце концов, если будет сочтен достойным, может стать Бодисатвой, одним из воплощений божества. Эшли все эти образы и представления не казались удивительными. Бывали даже минуты, когда он готов был сам поверить в нечто подобное. Другое удивляло его — тон, которым об этом повествовал доктор Маккензи. Много разных вопросов теснилось в сознании Эшли, но он не решался задать их собеседнику. Он только слушал. Иногда он брал у Маккензи книги и пробовал читать дома, но это случайное, бессистемное чтение мало что ему разъясняло. Да он и не привык много читать. Книгочеем в семье всегда была Беата.
Как-то раз он все же отважился спросить:
— Доктор Маккензи, вот вы часто возвеличиваете древних греков. А почему они поклонялись стольким богам?
— Ну, на этот вопрос можно ответить по-разному — проще всего так, как учили нас в школе. Когда Грецию наводняли переселенцы из других стран, или она заключала новый союз, или завоевывала город-государство противника, греки давали чужим богам место среди своих, а иногда отождествляли часть из них со своими. Форма гостеприимства, если хотите. Но в общем они следили, чтобы число главных богов не превышало двенадцати — хотя эти двенадцать не всегда были одни и те же. Я, впрочем, считаю, что тут надо смотреть глубже. Замечательный это был народ — древние греки.
Время от времени доктор Маккензи — вот как сейчас — забывал об иронии и настраивался на более серьезный лад. Первым признаком такой перемены служило появление в его речи долгих пауз. Эшли терпеливо ждал.
— Эти двенадцать богов соответствовали двенадцати основным типам человека. Греки брали за образец самих себя. Меня, вас, своих жен, матерей, сестер. Они изучали разные людские характеры и наделяли ими своих богов. В сущности, они просто возводили самих себя на Олимп. Переберите их главных богинь: одна — мать и хранительница домашнего очага, другая — возлюбленная, третья — девственница, четвертая — ведьма из преисподней, пятая — хранительница цивилизации и друг человека…
— Это кто же? Кто пятая, сэр?
— Афина Паллада. Минерва римлян. Ей плевать на стряпню и пеленки, которыми занимается Гера, на духи и косметику Афродиты. Она подарила грекам оливковую ветвь; кое-кто считает, что она им дала и коня. Она хотела, чтобы город, носящий ее имя, стал маяком на высокой скале, указывающим путь человечеству, и она, черт возьми, своего добилась. Она верный друг всякого, кто заслуживает ее дружбы. Мать не помощница сыну, как и жена мужу, как и возлюбленная любовнику. Всем трем нужно, чтобы мужчина принадлежал им. Служил бы их личным интересам. Афине же нужно, чтобы он возвышался и совершенствовался сам.
Эшли, пораженный, с трудом перевел дух.
— Какого цвета глаза были у Афины, сэр?
— Какого цвета глаза?.. М-м… Дайте подумать. «И явилась Одиссею-скитальцу сероокая Афина под видом седой старухи, и он не узнал ее. «Встряхнись, — сказала она. — Нечего тут сидеть и лить слезы на берегу, море и так соленое. Возьми себя в руки, приятель, и следуй моим советам. Вернешься еще домой, к своей дорогой жене, будь спокоен!» Серые глаза… Нередко приходится огорчаться этой сероглазой.
— Отчего?
— А оттого, что ей никогда не достается золотое яблоко. Оно всегда достается Афродите, а та сразу же начинает мутить все кругом. Но и у нее, бедняжки, есть свои огорчения. — Тут доктор Маккензи весь затрясся от беззвучного смеха и не мог продолжать, пока не проглотил одним духом полную чашку чаю. Чай на больших высотах действует как хмельное.
— Отчего бы огорчаться Афродите?
— А как же! По ней ведь любовь — это весь смысл жизни, начало ее и конец, и решение всех задач. На время ей удается внушать это и своим поклонникам, но только на время. А там поклонник уходит от нее — воевать, или строить города, или добывать медь. И тогда Афродита приходит в неистовство. Мечется, рвет подушку в клочья. Бедняжка! Единственное ее утешение — зеркало. Кстати, знаете, почему считается, что Венера вышла из моря?
— Нет.
— Море при тихой погоде — то же зеркало. И приплыла она к берегу в раковине. Улавливаете связь? Жемчуг. Венера одержима страстью к драгоценностям. Потому она и взяла в мужья Гефеста. Чтобы он добывал ей алмазы из горных недр.
Снова смех. У Эшли начиналась головная боль. Что толку разговаривать, если разговор не всерьез!
— А вы — кто? — вдруг спросил доктор Маккензи.
— Как это «кто»?
— На кого из богов вы похожи?
Эшли не знал, что сказать.
— Вы непременно похожи на одного из них, Толланд. Тут никуда не денешься.
— А вы сами, доктор?
— Ну, это просто. Конечно, я — Гефест, кузнец. Все мы, горняки, — кузнецы и землекопатели. Копошимся в утробе гор, преимущественно вулканов… Но давайте все же выясним с вами. Вы ведь не нашего, не горняцкого племени. Вы только играете в горняка. Может быть, вы — Аполлон, а? Исцелитель, поэт, пророк?
— Нет-нет!
— Тогда Арес, воитель? Едва ли. Может быть, Гермес — делец, банкир, враль, плут, газетчик, бог красноречия, помощь и утешение умирающих? Нет, для Гермеса вы недостаточно веселый.
Эшли потерял уже всякий интерес к этой беседе, но из вежливости задал еще вопрос или два.
— Доктор Маккензи, чем же враль и мошенник может помочь умирающему?
— У греков может. Ведь мы говорим о греках. Все их боги и богини двулики. Даже Афина Паллада, если ее раздразнить, легко превращается в разъяренную фурию. Гермес был еще и богом странствий, расстояний, дорог. При всем своем озорстве он любил вести людей по начертанному им пути. Взгляните на эту гемму. На ней изображен Гермес. Видите? В одной руке у него жезл, а другой он ведет женщину, чье лицо скрыто покрывалом. Красиво, правда?
Это и в самом деле было красиво.
— Мой отец был Сатурн. Мудрец. С утра до вечера наставлял всех кругом — на улице, дома, с церковной кафедры по воскресеньям. Только наставления его немногого стоили. А мать была Гера — хлопотунья, хозяйка, свивательница гнезда. Но при этом от всех требовала подчинения. Страшная женщина. У меня еще есть два брата, оба Аполлоны. У Сатурнов часто рождаются Аполлоны, вы не замечали?
— Нет, сэр.
— Возможно, это мне только кажется. Один мой брат отбывает долгосрочное заключение. Он прозрел, увидел, по его словам, свет — и потому сделался анархистом. А сестра у меня — Диана. Она так и не повзрослела с годами. Так и осталась школьницей! У нее трое детей, но ни брак, ни материнство на ней не сказались… Однако вернемся к вам, Толланд. Может быть, вы пошли в иного, не греческого бога? Греки ведь знали не все. Некоторые типы человеческие были им незнакомы. В Элладе они встречались редко и потому в число богов не попали. Ну хотя бы те, что несут на себе отпечаток христианского учения. Христианство возникло в Иудее. С греками ничего общего. Может быть, тут и надо искать ключ к вашей личности? Иудеи пришли и сбросили нас, язычников, с наших тронов. Принесли с собой свою беспокойную совесть, свои вечные нравственные терзания, будь они неладны. Может быть, вы — христианин по натуре? Из тех, что отказывают себе в малейшем удовольствии, карают себя за малейшее прегрешение. Так, что ли?
Эшли ничего не ответил.
— Ведь мы теперь — свергнутые божества. Догнивающие обломки былого величия. Знаете, мистер Толланд, это ужасно — лишиться своей божественной сущности, поистине ужасно! Больше нам ничего не осталось, как только искать забвения в жалких земных утехах. Сатурны без мудрости, как мой отец, Аполлоны без лучезарности, как мои братья. Вот мы и превращаемся в деспотов и смутьянов. Или полубезумных чудачек вроде миссис Уикершем.
— Доктор Маккензи, а что дурного в этих… этих «Свивательницах гнезд»?
— Что дурного? Да хотя бы то, что все их мужчины — мужья, сыновья, даже отцы — всегда остаются для них только детьми. Такая Гера или Юнона произведет на свет несколько ребятишек и думает, что уже все постигла. Нашла разгадку всех тайн бытия. У них одна цель — ублажать. Как сами они это называют — «устраивать счастье ближних». Они стараются отучить своих мужчин видеть, слышать и думать. Бойтесь слова «счастье», если его произносит Гера: в ее устах это означает сонную одурь.
Ему вдруг сдавило голову нестерпимым приступом боли. Он встал, чтобы пожелать хозяину покойной ночи.
— Доктор Маккензи, но вы сами… вы же не верите в то, что вы говорили?
— Понятно, не верю. Знаете, мистер Толланд, у нас в Эдинбурге есть клуб философов. За обедом там много говорится о том, во что верили и верят другие; но, если вдруг кто из членов употребит этот глагол в первом или втором лице настоящего времени, с него полагается штраф. Он должен опустить шиллинг в череп, стоящий на каминной полке. Это быстро избавляет от такой привычки.
Время бежало, как того и хотелось Эшли, бежало быстро.
В компании Киннэрди был заведен порядок, согласно которому каждый из инженеров, восемь месяцев проработав на высокогорном руднике, получал месяц отпуска, чтобы дать передышку сердцу и легким. Накануне отъезда в первый свой отпуск Эшли простился с товарищами по работе. Его напутствовали сердечней, чем он ожидал. Таково уж свойство многих людей — становиться любезными в час расставания. Публично прощаться в поселке он не собирался, но на улице его поджидала целая делегация из закутанных чуть не до глаз горняков-индейцев. Они принесли ему скромных гостинцев на дорогу. Они целовали его руки.
Он зашел попрощаться к доктору Маккензи.
— Хорошо бы вам поселиться в отеле «Фонда». Погодите минутку. Я вам напишу рекомендательное письмо к миссис Уикершем.
— Спасибо, доктор, но я еду в Сантьяго. В Манантьялес поеду в следующий раз.
Когда Эшли уже был на пороге, управляющий его окликнул:
— Послушайте, Толланд, что я вам посоветую: возвращайтесь сюда не один.
— Как это не один, сэр?
— Привезите себе «горную женку». Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Компания ничего против не имеет, даже идет навстречу.
Доктор Маккензи был от природы бестактен. Их дружба давно уже ослабевала, сейчас он ее окончательно добил. Есть стороны жизни, о которых мужчине старше двадцати пяти лет советов не дают — даже по его просьбе, а без просьбы тем более, — и доктор Маккензи это знал.
Многие инженеры рудника, так же как доктор ван Домелен, держали «туземных» наложниц в одном из горняцких поселков. Сами они к ним не ходили; в отпуск их с собой не брали; детей своих видели редко. Принято было делать вид, будто всего этого попросту нет.
На сей раз бестактность, совершенная управляющим, была особенно грубой. Эшли всегда думал о себе прежде всего как о семьянине. Но в силу причин, от него не зависевших, именно тут он оказался несостоятельным. Он не знал, защищена ли Беата от оскорблений. Сыты ли все его домашние. Есть ли у детей на зиму теплая одежда. Он откладывал деньги; он твердо верил, что через семь лет вновь увидит жену и детей. А пока что он мог лишь одно, и пусть это было нелепо, но шло от сердца, — хранить верность жене. Мысленно он называл это «подпирать стены дома».
Есть люди, которые легко обходятся в жизни без суеверий, фетишей, заклинаний, молитв. Они не помнят никаких дат, не салютуют никаким флагам, не связывают себя никакими клятвами. Они полностью полагаются на слепой Случай, который завтра может бездумно отнять то, что вчера так же бездумно даровал. Верность Эшли не зависела от обетов, данных в церкви или в ратуше, — как мы дальше узнаем, брак Беаты и Джона Эшли не был узаконен. Истинно благородные свойства души выходят за рамки долга — таково умение сочувствовать не правым, а виноватым, прощать неблагодарных, хранить преданность, не предписанную формальными обязательствами. Воздержание было для Эшли мучительно, как мучительна слепота или вынужденная неподвижность. На помощь приходил строгий расчет. Он обдуманно так заполнял свои дни трудами, чтобы к ночи замертво валиться в постель, не помня себя от усталости. Он властно подавлял в себе то, что наши предки назвали бы «тягой к прелюбодеянию». Но чтобы обуздывать свою плоть, достаточно иметь твердый характер; Эшли же приходилось вести борьбу потруднее. Он не знал никогда другой женщины, кроме Беаты; опыт не научил его отделять любовь от всего, что должно ей сопутствовать: дружбы, смелости, взаимной поддержки и утешения, наконец, созидательного начала — через отцовство. Не раз во время поездок на юг вставал на его пути соблазн. Женщины, вероятно, ловили в его взгляде безотчетное ожидание и с готовностью откликались. Но ему запал в память обычный совет доктора Гиллиза пациентам-алкоголикам: «Не лишайте себя того, к чему вы привыкли, пока не отыщете чего-либо лучшего на замену». Эшли остро ощущал то, чего был лишен; на замену он создал себе суеверное, фантастическое убеждение: если он сорвется хоть раз, стены «Вязов» задрожат, пошатнутся и рухнут. Люди, ставшие на путь воздержания — если только они сделали это по призванию и свободному выбору, а не выполняя ненавистную повинность, — легко распознают друг друга. Впоследствии, когда Эшли жил уже в Манантьялесе и дорабатывался до мертвецкой усталости, занимаясь ремонтом, перестройкой и всяческими усовершенствованиями в больницах и школах миссис Уикершем, как легко подружился он с монахинями! Сколько было улыбок, шутливых общих затей и даже легкого флирта, даже кокетства!
Итак, доктор Маккензи совершил бестактность. Он это сам сразу понял, и его чуть презрительное отношение к Эшли переросло в неприязнь тем большую, что питал ее внутренний разлад доктора с самим собой.
— Благодарю вас за совет, — сказал Эшли. — Я подумаю.
В Антофагасте он пересел на другой поезд, не заходя к представителю компании мистеру Эндрю Смиту. По приезде в Сантьяго он сразу же принялся искать работу. За эти восемь месяцев в его внешнем облике многое изменилось. Присущая ему моложавость исчезла, и он теперь выглядел на все свои сорок два года. Он дочерна загорел — на больших высотах загар пристает быстро. Его волосы потемнели и перестали по-юношески кудрявиться. Голос сделался басовитым. Его принимали за чилийца с примесью ирландской или немецкой крови, что в Чили не редкость. Пытался он наняться садовником, конюхом, могильщиком, рабочим в увеселительный парк «Эдем», но всюду терпел неудачу. В конце концов он нашел себе место на строительстве новой дороги, уходившей на север, к Вальпараисо и Антофагасте. Когда отпуск его подошел к концу, ему жаль было расставаться с этой дорогой: в цемент, что пошел десятка на два уложенных под него дренажных труб, было вмешано немало его труда. На обратном пути он опять делал пересадку в Антофагасте, но на этот раз на день задержался. Переночевав в знакомой уже гостинице, он утром отправился в контору мистера Эндрю Смита. Тот не сразу узнал его и явно был недоволен, что инженер, занимавший ответственный пост на руднике компании Киннэрди, явился к нему в одежде простого рабочего. Тем не менее он обрадовался случаю кой о чем поговорить с мистером Толландом. Компания обычно вела свои дела осмотрительно и предпочитала держать их в секрете. Мистер Смит и таинственная Дирекция были бы вне себя, узнай они, что досужие языки усердно распространяют слух о новых богатых залежах медной руды, якобы обнаруженных в Рокас-Вердес, и о предполагаемом расширении эксплуатационных работ. Эшли получил задание подготовить проекты и сметы строительства новых домиков в горняцких поселках. В горы уже шли, как выяснилось, составы с грузом строительных материалов. Нашлось и еще немало вопросов, которые требовали детального обсуждения. Когда наконец пришло время прощаться, мистер Эндрю Смит вроде бы даже немного потеплел. Он в сдержанных выражениях похвалил деятельность молодого инженера. И намекнул, что Дирекция также ценит ее и в ближайшее время, возможно, ему будет дано это почувствовать.
Эшли, уже поднявшийся с места, вдруг решительно сел опять.
— Мистер Смит, — сказал он, — у меня есть два предложения, которые я хотел бы вам высказать.
— Что за предложения?
— Во-первых, было бы очень хорошо, если б компания объявила о прибавке жалованья рудокопам — пусть самой незначительной. — Мистер Смит сердито уставился на него. — Вы сами знаете, сколько часов в неделю у нас теряется из-за болезни рабочих.
— Знаю. И знаю, что все это симуляция, мистер Толланд. Ваши рудокопы просто отъявленные лентяи. Доктору ван Домелену приходится вести с ними нескончаемую борьбу.
— Тут вы ошибаетесь. Они вовсе не лентяи. Когда я поручаю им какое-нибудь дело в поселке, они работают так, что не удержишь. Просто нужно дать горняку почувствовать, что в нем уважают человека. С индейцами, сэр, порой бывает, что у них словно бы парализуются разум и воля. Это своего рода нравственный столбняк — не знаю, как назвать иначе.
— Неисправимая лень — вот самое верное название.
— В такие минуты они как бы видят со стороны всю свою жизнь — вечный труд под землей, без просвета, без перспективы. Однообразие угнетает само но себе; еще больше угнетает безнадежность. Но что поистине убийственно, — тут Эшли встал, — это недостаток человеческого внимания. У ваших инженеров холодная кровь, мистер Смит, а индейцы в самом деле болеют, и первопричина болезни в том, что они чувствуют себя отверженными, презираемыми.
Мистер Смит то открывал, то снопа закрывал рот; наконец он произнес:
— Всякому в этом мире приходится зарабатывать хлеб свой, мистер Толланд; вам и мне тоже. А прибавка жалованья рабочим — не ваша забота. Все равно они эту прибавку пропьют. За спиртным у них дело не станет, уж не знаю, как они его ухитряются добывать.
Эшли прошелся но комнате взад и вперед. Потом остановился перед столом мистера Смита и, понизив голос, сказал:
— Чича — не единственное, что неведомо как попадает на рудник. Проникают туда и разные слухи. Паши люди отлично знают, сколько платят рудокопам в Ла-Рейна, в Сан-Томас, в Лос-Кумбрес, и прежде всего это знают боливийские индейцы, а они — паши лучшие рабочие. Вы собираетесь строить новые домики для горняков; смотрите, как бы не вышло, что вам некого будет туда селить. Вернейшая гарантия прибыльности рудника — благосостояние и душевное равновесие рудокопов. Знаете горняцкую поговорку «Руда не сама на-гора выходит»?
Мистер Смит глотнул воздуху. Переставил на столе чернильницу с пером. Кашлянул.
— А второе ваше предложение?
— Нужно, чтобы в Рокас-Вердес был свой священник. Эти наезды от случая к случаю — не дело.
— А на кой черт вашим горнякам священник? Он столько дерет за брачный обряд или крестины, что большинство предпочитает обходиться без обрядов. Они вовсе не обрадуются священнику. Приезжает раз в месяц, и хватит. Позвольте вам сказать, мистер Толланд, католичество — это вообще сказки для детворы. У чилийцев оно не в почете.
— Не нам судить о том, как другие относятся к религии, мистер Смит. Очень плохо навязывать бога тем, кто не верит в него. Но еще хуже чинить препятствия тем, кто без бога не может. Я этих людей знаю! Я живу среди них!
Ему вдруг стиснуло голову невыносимой болью. Он закрыл глаза и едва не упал со стула. Снова мистер Смит уставился на него так, будто получил неожиданный удар. Морализировать мистер Смит умел сам. Он это умел лучше чего другого. Среди шотландцев всегда преобладали Сатурны. Еще недоставало, чтобы какой-то молокосос из Канады поучал его, Смита, в вопросах религии.
— Что с вами, мистер Толланд, вы нездоровы?
— Если можно, дайте мне стакан воды.
Мистер Смит не спускал с него глаз, пока он пил. Потом вернулся к прерванному разговору.
— И откуда мы им возьмем священника, хотел бы я знать? В Чили даже таких, «разъездных», не хватает. Приходится ввозить из Испании.
Об этом Эшли не думал. К собственному удивлению, однако, он тут же нашелся:
— Вероятно, компании следует обратиться к епископу. Может быть, посулить ему что-то. Например, взять на себя уплату жалованья священнику в первые пять лет — да мало ли что.
Мистер Смит опять на него уставился, на этот раз мрачно. Эшли продолжал:
— И лучше, если пришлют молодого. Разрешите мне выстроить ему домик для жилья, а заодно перестроить и расширить церковь в поселке. Сейчас это не церковь, а хлев. И я думаю, будет не бесполезно, если вы также разрешите мне задержаться еще на день в Антофагасте, побывать в местных церквах, побеседовать с духовенством.
Мистер Смит преодолевал внутреннее сопротивление. Когда он наконец заговорил, в его речи сильней обычного слышался шотландский акцент, который я тут не пытаюсь воспроизводить.
— Хорошо, я вам это разрешаю. Только не увлекайтесь сверх меры, мистер Толланд.
Уже с порога Эшли — вполне оправившийся, помолодевший на десять лет — оглянулся с улыбкой.
— Рокас-Вердес может стать таким же прекрасным, как все то, что его окружает. — Он повел рукой по воздуху, словно рисуя венец из горных вершин.
Через две недели после его возвращения в Рокас-Вердес было объявлено о повышении заработной платы рудокопам. Люди встретили новость с опаской и недоверием, словно ждали, какая за этим последует напасть. Но прошли две получки, и ничего не стряслось — тогда они стали по одиночке, по двое, по трое приходить благодарить Эшли. Они это связали с его поездкой в Антофагасту.
А Эшли сказал себе: «Это за Коултаун!»
И вот он стал строителем. Все население поселка смотрело с благоговейным трепетом, как растет в высоту и в ширину убогая церковка. Нашлось немало добровольцев рабочих, и стройка шла ночью, при ярком свете ацетиленового фонаря. Женщин и детей нельзя было уговорить разойтись по домам. Они стояли вокруг, глядя, как из-под рук их мужей, сыновей и отцов понемногу выходит купол — пусть небольшой, но все-таки купол. В Антофагасте, посоветовавшись кой с кем из духовенства, Эшли на свои деньги приобрел напрестольную пелену, распятие и шесть сотен свечей. Когда в очередной раз приехал священник с севера, его завалили просьбами о бракосочетаниях и крестинах. Пламя свечей отражалось в счастливых глазах, и после свершения обряда на улицах еще долго толпился народ — супруги, только что освятившие свой союз, люди всех возрастов, чьи имена наконец были закреплены за ними отметкой в небесном реестре. Эта внезапная тяга к обрядности была вызвана не только увеличением заработной платы или появлением купола на церкви. До горняков уже дошел слух о том, что скоро у них появится свой священник, который будет жить в их среде, знать каждого по имени, вспоминать о них не только в час исповеди, спрашивать с них по всей строгости (этого им особенно хотелось) и там, где нужно, даровать прощение от имени Всевышнего — короче говоря, настоящий padre. И перед этим padre они желали предстать в полном порядке, окрещенными и обвенчанными, как положено добрым христианам.
Через четыре месяца приехал дон Фелипе.
Эшли не вышел его встретить. Он долго внушал доктору Маккензи, какое благоприятное это произведет впечатление — если сам управляющий первым поприветствует padre и отведет в приготовленный для него дом. Доктор Маккензи лишь пожимал плечами; для него христиане, магометане, буддисты — все были одинаковы, все пресмыкались перед идолами в чаянии незаслуженных благ. За обедом Эшли оказался соседом дона Фелипе. Рука его, державшая вилку, дрожала так, что он не в силах был поднести кусок ко рту. Это Роджер сидел рядом — ни одной схожей черты, совсем другой голос, и все-таки это был Роджер, только старше на несколько лет; такой же весь чуть напряженный, неулыбчивый, сосредоточенный, молчаливый, с острым взглядом и чутким ухом, а главное, такой же независимый во всем. Как и Роджер, он не нуждался в советах, в помощи, в дружбе. (Без дружбы, заметим кстати, тоже нетрудно обойтись, если найдешь что-либо лучшее на замену.) Как и Роджер, он был отменно учтив.
Священник оглядывал инженеров, сидевших кругом. От него не укрылось, что все они смотрят на него сверху вниз. Он был на одиннадцать лет моложе самого младшего здесь.
У доктора Маккензи это чувство своего превосходства нашло выражение в том, что он засыпал «мальчишку» вопросами личного свойства, каких ни один благовоспитанный испанец не позволит себе задавать не только при первой встрече, но даже и при пятой. Дон Фелипе отвечал ему в точности, как отвечал бы Роджер — коротко и в то же время с легким оттенком отвращения, заметить которое мог бы лишь человек его круга. В Латинской Америке он восемь месяцев. Был приходским священником в Ла-Пасе. Изучает некоторые индейские диалекты. Лет ему двадцать семь. Родился в Севилье, шестой, самый младший ребенок в семье.
— Наши горняки — народ грубоватый, увидите сами, — сказал доктор Маккензи, щегольнув разговорным испанским выражением, которое могло означать и «неотесанный», и «тупой от природы». Эшли перехватил взгляд, искоса брошенный священником на управляющего; в этом взгляде была едва уловимая усмешка, словно говорившая: «Ну, верно, уж не тупей вас, протестантов».
Соседу своему, Эшли, он сказал:
— Я слышал от Педро Киньонеса, дон Диего, что это благодаря вам расширено помещение здешней церкви.
Эшли поперхнулся.
— Все сделали сами рудокопы, отец мой, они трудились в свое свободное время.
Дон Фелипе оставил эти слова без ответа, лишь внимательно посмотрел на него своими черными глазами.
Немного позже он спросил:
— Эти господа родом из разных стран?
— Да, отец мой. Управляющий наш — шотландец. Доктор — из Нидерландов. Четверо инженеров — немцы, трое — швейцарцы, но большинство из Англии и из Штатов.
— А вы сами, сэр?
— По причинам, которых пока не могу назвать, я выдаю себя за канадца.
Дон Фелипе принял этот ответ так, будто в нем ничего необычного не было.
Дон Фелипе был молод, но не страдал неуверенностью. Назавтра он объявил, что будет обедать и ужинать в кухне, где быстро подружился с поваром-китайцем. Как и Роджер, он всего себя отдавал своему делу. Его сутана мелькала то тут, то там, так что казалось, будто в Рокас-Вердес прибыл не один padre, а по меньшей мере шесть. У него был красивый голос, и, когда он запевал, ему сразу же принимались подтягивать. В самый сильный мороз он выводил на улицы процессии молящихся — церкви ему было мало, — и звезды на небе перемигивались с зажженными свечками в руках. Его проповеди были точно путешествия в дальние страны, точно ослепительные сны, после которых трудно бывает опомниться и невольно ищешь опору дружеского плеча. Он был беспощаден в обличении грешников, не оставлял самой крохотной лазейки греху, и, по слухам, когда он давал отпущение кающимся, бывало, что какой-нибудь здоровенный детина лишался чувств. Самым удивительным в его поведении, к чему паства долгое время не могла привыкнуть, был почет, который он оказывал женщинам. Это не замедлило отразиться на его прихожанках. Стали говорить, что у них осанка дочерей Андалузии. Кое-кто из моих читателей, несомненно, догадался уже, что речь идет тут о молодых годах архиепископа Фелипе Очоа, «Пастыря индейцев».
Эшли довольно часто встречался со священником, но беседовать им не приходилось. Как и Роджер, дон Фелипе, если смотреть ему прямо в лицо, выглядел решительным и уверенным, но в профиле и затылке его было что-то отрочески-беззащитное. Эшли угадывал его скрытую тоску о прекрасной и любимой Севилье, об отце и о матери, чувствовал, как ему недостает профессоров и товарищей по семинарии, с детства знакомых звуков органа во время мессы в соборе, общества тех, кто, подобно ему, принял Великое Решение. Эшли скоро понял, что священник лишь смутно представляет себе, где находится Канада, Шотландия, Швейцария. Образование, им полученное, сосредоточено было вокруг предметов куда более важных. Трудно было измерить всю глубину его безотчетной неприязни к протестантам. Не так уж много он их и видел на своем веку — разве что среди тех туристов, что святотатственно расхаживали по собору, как по вокзалу, с путеводителем в руках. Но он твердо был убежден, что протестанты — это презренная горстка людей, которые пресмыкаются по земле, чувствуя собственное ничтожество, но из сатанинской гордыни не желают признать свои заблуждения вслух.
А время все бежало. Уже подходил к концу второй восьмимесячный срок, и Эшли предстояло снова спуститься с горных вершин на отдых. Незадолго до этого он получил от компании письменное уведомление о том, что ему решено повысить оклад. Он теперь будет получать столько, сколько платят обычно инженерам, проработавшим на руднике двенадцать лет. Компания Киннэрди желает и далее пользоваться его услугами, но о повышении пока не должно быть известно никому, кроме рудничной администрации. Между тем работы по электрификации и благоустройству поселка, которыми руководил Эшли, были в полном разгаре. Перспектива отъезда страшила его. Он просил доктора ван Домелена его освидетельствовать и получил разрешение еще на два месяца задержаться в Рокас-Вердес. Но прошли эти два месяца, и в мае 1905 года он собрался в путь.
Он ни минуты не помышлял о том, чтобы не вернуться в Рокас-Вердес, но в то же время… В то же время его томило желание покинуть горы навсегда! Работа давала ему удовлетворение, к людям своим, и чилийцам и индейцам, он искренне привязался, но внутри у него все изныло от одиночества, и прежде всего от тоски по жене и по детям — а об этом и мысли нельзя было допускать. В последнее время ему часто снился один и тот же сон, и не только снился, но даже иной раз виделся наяву: он стоит в предрассветно редеющем сумраке ночи под знакомыми вязами… над ним окно угловой комнаты, выходящее на юго-восток… подобрав с земли горсть камешков, он бросает их в это окно. Она проснулась, она спускается с лестницы, отворяет парадную дверь… Он понимал — это безумие. Опрометчивая поспешность может лишь навлечь новые несчастья на всех. Миссис Ходж сказала: семь лет, а семь лет — это значит июль 1909 года.
Он не помышлял о том, чтобы не вернуться, но пожитки свои уложил все, как будто уезжал навсегда. Наличные деньги он зашил в подкладку одежды, чеки на жалованье можно было предъявить к оплате в любом большом городе. Первый раз в своей жизни Джон Эшли радовался деньгам.
Прощание с товарищами прошло примерно так же, как и в первый раз. Опять он зашел вечером к доктору Маккензи.
— Ну, теперь-то уж вы непременно должны заехать в Манантьялес, хотя бы на недельку. Надо вам посмотреть, что собой представляет отель миссис Уикершем. Я уже ее известил телеграммой о вашем приезде, а вот это письмо вы передадите ей лично. Вы, наверно, немало слыхали о ней разных толков?
— Кое-что слышал.
— Гейдриха она отказалась принять во второй раз, ван Домелена и Плятта тоже. Объявила, что терпеть не может угрюмых людей. В Манантьялесе есть еще два приличных отеля, но с «Фондой» они ни в какое сравнение не идут. Ванны там облицованы медью, а какие постели, Толланд, какой стол, какая прислуга! И, конечно, главное, это сама миссис Уикершем. Я ведь ее знаю уже больше тридцати лет. Собственно говоря, ей я обязан своим первым местом. Когда-то она тут заменяла горнякам все — и почту, и банк, и даже бюро найма. Больше того: она вроде бы следила за соблюдением определенных порядков на разработках. Помню такой рудник, «Suevia Eterna», принадлежал он одной немецкой компании (позднее перешел в другие руки). Компания эта считала свое предприятие лучшим в округе, а между тем условия там были из рук вон плохи: никудышное жилье, хамство по отношению к персоналу не немецкой национальности, постоянные задержки жалованья и все такое прочее. Так вот, миссис Уикершем отговаривала молодых инженеров поступать на этот рудник. Сама наущала другие компании переманивать оттуда лучших работников. В конце концов дирекция «Suevia» отправила к ней комиссию для переговоров. Ну, комиссии этой не поздоровилось; она им целую лекцию прочитала о методах управления рудником. Лично я не хотел бы работать на руднике, где она была бы управляющим, если бы она вела дело так, как у себя в отеле. Как-то раз один американский бизнесмен завел за обедом речь насчет того, что белый человек есть венец творения, а индейцы и всякие там полукровки для того и созданы богом, чтобы служить ему и на него работать. Так она даже не дала этому американцу доесть за общим столом. Велела отнести ему последнее блюдо в его комнату. А наутро выставила его вон и даже денег с него получить не пожелала.
— Она что, англичанка?
— Да, и родилась, верно, в тридцатых годах. Сюда приехала с мужем, чуть ли не сразу после свадьбы. Муж был из этих, из охотников за изумрудами. Она сама рассказывала, как первое время была стряпухой в поисковой партии где-то на востоке Перу, где дожди льют без всякого просвета, — кухней служила тростниковая хижина, и над котлом, в котором варилось мясо тапира, приходилось держать раскрытый зонт. Потом они попали на какой-то рудник еще повыше, чем Рокас-Вердес, — там всю кухонную науку пришлось постигать сначала. Муж скоро умер, оставив ее с маленькой дочкой на руках; вот тогда-то она и открыла гостиницу. Теперь у нее три главных интереса в жизни: во-первых, ее больницы и приюты, во-вторых, приятное общество и приятные разговоры за табльдотом и, в-третьих, ее прочная слава человека, которому известно все, что происходит в Андах… Кстати, есть у вас галстук?
— Нет, сэр.
— Тогда вот, возьмите мой. Она требует, чтобы к столу все мужчины являлись при галстуке.
— Спасибо… Скажите, доктор Маккензи, какую же из греческих богинь напоминает миссис Уикершем?
— А, так вы не забыли тот разговор! Я, знаете ли, однажды изложил ей самой свою теорию. — Тут доктор Маккензи затрясся от свойственного ему беззвучного смеха. — Она меня обозвала старым дураком. И объявила: каждый мужчина действительно принадлежит к какому-то одному типу, оттого с мужчинами так скучно. А вот в женщинах чаще всего перемешаны все пять или шесть главных богинь. Каждая женщина, по ее словам, хочет быть Афродитой, но на деле уж там как выйдет, приходится мириться с судьбой. Сама она, по ее уверению, побывала всеми шестью. Счастлива, говорит, та женщина, что из Артемиды созревает в Афродиту, потом в Геру, а заканчивает свой путь Афиной Палладой. И плохо той, которая на всю жизнь застревает на чем-нибудь одном… Вот вернетесь, послушаем, что вы сами о ней скажете.
Вечером накануне отъезда Эшли бродил по поселку. Стоял сильный мороз. Дойдя до церкви, он распахнул двери и заглянул внутрь. Там было темно и пусто, только в одном углу теплилась лампада. От красного стекла ложились слабые отсветы на куполок вверху. На коленях перед лампадой замер в почти противоестественной неподвижности дон Фелипе. Эшли тихонько отошел от дверей. На губах у него была улыбка.
Он сказал себе: «Это за Роджера!»
С благоговейным — и благодарным — чувством он думал об удивительной возможности, которую нам дает жизнь, — платить старые долги, искупать старые ошибки, допущенные по слепоте, по глупости. Когда-то бабка ему посулила такую возможность.
Эшли решил заранее, что не пойдет в «Фонду». К чему безрассудный риск, говорил он себе. Он сошел с поезда в Манантьялесе, когда солнце уже погружалось в воды Тихого океана. Ветви деревьев нависали над улицей, по которой он шел, птицы летали совсем низко. От резкого перепада высоты голова у него слегка кружилась. Медленным, крадущимся шагом он добрел до отеля, толкнул калитку и очутился в саду. Он почти рухнул на ближнюю скамейку. Перед скамейкой был небольшой водоем с фонтанчиком в центре. Из дома не доносилось никаких звуков. Но кое-где уже зажигались в окнах огни. Эшли думал о знакомой гостиной, сверху белой, а снизу — морской синевы. Думал о распятии на стене. Но больше всего думал он о миссис Уикершем. Ему так нужен был кто-то, с кем можно поговорить по душам. Так нужно было дружеское участие.
— Ладно, — сказал он, вставая. — Ради этого стоит рискнуть.
Он расправил плечи и вошел в холл отеля. Миссис Уикершем сидела в своем кабинетике, склонясь при свете лампы над счетными книгами. Она подняла глаза и увидела его в раскрытую дверь. Как и в тот раз, она спросила голосом сержанта на плацу:
— Кто вы такой?
— Меня зовут Джеймс Толланд, сударыня, я из Рокас-Вердес. У меня к вам письмо от доктора Маккензи.
— Войдите, пожалуйста. — Она сняла с лампы зеленый абажур, чтобы свет без помех лился на Эшли. Внимательно оглядела его с ног до головы. — Мы с вами никогда не встречались раньше?
— Нет, сударыня.
Она испытующе посмотрела на него снова. Легкая тент, прошла по ее лицу. Она вышла в холл, хлопнула в ладоши и громко позвала:
— Томас! Томас! — На зов торопливо прибежал подросток-индеец. Она стала отдавать распоряжения на местном диалекте: — Переведешь доктора Перец-с-Солью в десятый — живо, раз-раз! Тересите скажешь, пусть уберет четвертый, да так, чтобы все сияло, как в раю. Когда она кончит, наносишь горячей воды в ванну и придешь сюда сказать. Мистер Толланд, комната и ванна будут готовы через пятнадцать минут. Ваш номер — четвертый, подняться по этой лестнице. Вот тут газеты из Сан-Франциско, почитайте пока. Обед в девять часов. Проспать не бойтесь, Томас постучит к вам в дверь без четверти девять. Если захочется выпить перед обедом — смотрите, только разбавленного. Первые сутки после спуска с больших высот нужна осторожность.
— Благодарю вас, миссис Уикершем.
Он повернулся и пошел к двери в гостиную. Толкнул дверь и сразу же посмотрел направо. Распятия на стене не было. От удивления, от растерянности он выронил газеты из рук. Миссис Уикершем следила за ним внимательным взглядом. Она вполне отдавала себе отчет, что побудило ее с такой готовностью предоставить этому человеку номер в «Фонде». В его личности ничего особо привлекательного не было; телеграмма и письмо доктора Маккензи значили для нее очень мало. Она потому его приняла, что он солгал ей. Она твердо знала: он уже был здесь однажды. В ее памяти не сохранились слова, которыми они тогда обменялись, но самый факт она помнила отлично. И заинтересовало ее не столько то, что он сказал заведомую ложь, сколько то, как он ее сказал — не задумавшись, с непосредственностью правды. Доктор Маккензи был прав, когда называл миссис Уикершем «до чертиков любопытной». Она не сомневалась, что Эшли по натуре не лжец, а между тем в разговоре с ней он солгал. До причин этого ей и хотелось докопаться.
Она никогда не выходила в столовую к ленчу. Но в девять часов вечера неизменно спускалась сверху в пережившем свою молодость черном шелковом или кружевном платье со шлейфом, отделанным блестящим стеклярусом и бантиками из пунцовой бархатной ленты. Три первых вечера Эшли сидел на указанном ею месте в дальнем конце стола. Наблюдая за ним, она все больше жалела, что раскрыла для него двери своего дома. Он почти не участвовал в разговоре. Только слушал швейцарцев-ботаников, шведов-археологов и баптистских миссионеров, слушал бизнесменов и инженеров (среди которых нашелся земляк-канадец) и представителей неистребимого племени профессиональных путешественников, уже засевших за сочинение главы о «Стране кондоров». Она посадила его между чилийцем-врачом из ее больницы и мэром Манантьялеса. Мужчинам он был неинтересен. Мужчины только старались поразить его собственным богатством или общественным положением. Женщинам он нравился, но женщинам нравится всякий, кто готов безраздельно отдавать им свое внимание. Ладно, пусть уж поживет до конца недели. Но на четвертый вечер она усадила его по левую руку от себя; и это стало его постоянным местом.
— Мистер Толланд, зачем вы сегодня ходили на кухню?
— Там вспыхнул пожар, сударыня.
— И что же вы сделали?
— Погасил его. Может быть, вы позволите мне заняться вашей кухней и прачечной, пока я здесь, и привести там все в порядок? От частых землетрясений многое в доме порасшаталось, котлы, трубы, дымоходы неисправны. Кое-что даже представляет опасность.
— В Чили не принято, чтобы джентльмены занимались грязной работой, мистер Толланд. У меня есть свои слесари и водопроводчики.
Он взглянул ей прямо в глаза.
— Да, я видел их работу… Миссис Уикершем, я труженик по натуре. Мне очень скучно без всякого дела. Я хотел бы, чтоб вы показали мне ваши больницы и приюты — с той стороны, которую посетители обычно не видят. Пока еще не повзрывались котлы и не полопались трубы.
— Ха!
Он достал из чемодана рабочую одежду. Нашел себе инструмент и подручных. Его представили сестрам, учительницам, врачам и кухаркам. К концу недели везде уже шла работа — пилили, паяли, копали, приколачивали. К концу второй недели добрались до перегородок; разрушали одни, устанавливали другие. Сестер он привел в восторг, понаделав им множество всяких полок и полочек. Он чистил дымоходы, колодцы, отхожие места.
Работая, он пел «Нита, Жуанита», «Китайскую прачечную».
Он говорил себе: «Это за Софи».
Казалось, он молодел с каждым днем. Когда он приходил утром, его встречали улыбающиеся, розовые от смущения лица. «Дон Хаиме, el canadiense». Больные к нему привыкли. Воспитанники приютов к нему привыкли. Слепым девочкам в школе подавали знак, когда он входил, и они вставали и пели для него хором. Всем казалось непостижимым, что столь, судя по всему, важная особа отлично говорит на их языке, а главное, не гнушается физическим трудом. В больничных палатах и соляриях у него всегда находилось доброе слово для каждого старика, каждого молодого калеки. Он обладал редкостной памятью на имена. В приюте поутру, еще не успев перепачкаться на работе, он подхватывал на руки какого-нибудь малыша и держал его так сноровисто, словно был к этому издавна привычен. Он происходил из породы людей, что как будто излучают спокойствие и надежду. Мать-начальницу особенно изумляло его отношение к женщинам и совсем юным девушкам — дух рыцарственности, в которой было что-то от полузабытых преданий старины.
Миссис Уикершем обороняла свое сердце, как могла. Старым людям трудно поверить, что молодые и в самом деле могут нуждаться в их дружбе. От молодых можно ждать в лучшем случае вежливости, но их все равно влечет к обществу сверстников. К тому же они — старые — страшатся того, что новая дружба предъявит новые требования; слишком часто они видели в жизни, как распадаются дружеские узы, и сами уже начали забывать некогда дорогие сердцу привязанности. Быть может, дружба — всего лишь слово, во многом стершееся и многое стирающее. Но что же тогда так ярко светилось в обращенном к миссис Уикершем взгляде Эшли? Что, если не дружба? Надо сказать, что Эшли появился в «Фонде» в критическую для миссис Уикершем пору. Тот руль, с помощью которого она всегда направляла ход своей жизни, заколебался в ее руках. Она стала терять вкус к своим добрым делам. Все эти девушки, которых она призревала, воспитывала и выдавала замуж, все слепые, которые в ее школе учились ткачеству и плетению кружев. Ох, ох, ох! Сколько раз ее поднимали среди ночи с постели и она шла кого-то спасать — попавшегося воришку от жестокости полицейских или полицейского от расправы потерявших терпение рабочих. Она была гражданкой Чили и не раз получала награды от благодарного правительства. Ей случалось ходатайствовать перед самим президентом о помиловании полупомешанного рудокопа, осквернившего церковную святыню, или доведенной до отчаяния девушки, утопившей в колодце свое дитя. У тех, кто всю жизнь отдает добрым делам, тоже бывают свои периоды слабости. Они твердо уверены; нет ничего более пошлого, чем ожидать благодарности и восхищения от людей, но иногда они позволяют себе поддаться убаюкивающему соблазну жалости к себе. «Хоть бы кто-то сделал что-нибудь для меня, и притом бескорыстно». Миссис Уикершем успела утратить непосредственность душевных движений, когда-то побудившую ее заняться благотворительной деятельностью. А что хуже всего, ее стали раздражать женщины — женские разговоры, женская манера цепляться за любую надежду, любой повод к тревоге, и то и другое преувеличивая, женская беспомощность в случаях, когда приходится выбирать меньшее из двух зол. И как все, в ком решительный нрав сочетается с преимуществами житейского опыта, она сделалась нетерпима к проявлениям независимости у других. Она плохо ладила с самой собой. Она впустила цинизм в свою душу, стала зла на язык. Она решила прожить остаток жизни в свое удовольствие — а доступных ей удовольствий оставалось всего лишь два: распоряжаться по мере сил чужими жизнями и слыть «оригиналкой». Она создала себе личину но собственному вкусу — эта занятная, чуть страшноватая, мудрая, непогрешимая и достойная восхищения миссис Уикершем. Человеку не свойственно стоять на месте: одни двигаются вперед, другие назад. Словно бросая вызов чужому мнению, она спускалась по вечерам в столовую, декольтированная по моде середины прошлого века, и не пыталась скрыть, что по ее щекам прошлась заячья лапка с румянами.
И вот тут-то в «Фонде» появился Джон Эшли и предложил свою дружбу.
— Мистер Толланд, вы играете в карты?
— Играю, сударыня.
— Мы иногда садимся за карты в курительной комнате. Играем на деньги. Но я не желаю, чтобы говорили, будто у меня тут игорный притон, поэтому ввела строгое правило: ничей выигрыш не может превысить двадцати долларов. Все, что сверх этой суммы, кладется в кружку пожертвований на нужды моей больницы. В «dos picaros»[72] играете?
— Да.
— Так приходите сегодня в курительную после одиннадцати.
Наконец-то Эшли мог взять в руки карты, не боясь обнаружить свое мастерство игрока. Его партнерами были люди богатые — путешественники, земледельцы из долин, промышленники, занимавшиеся добычей селитры и меди. Он их всех обыграл. Он и миссис Уикершем обыграл тоже. На стене висела большая грифельная доска. В конце вечера миссис Уикершем записала на ней сумму, очистившуюся в пользу больницы. Глаза ее заблестели. Сто восемьдесят долларов! Рентгеновская установка стоила шестьсот!
Несколько дней спустя:
— Мистер Толланд, вы обычно завтракаете на крыше?
— Да, сударыня.
— Поднимитесь туда нынче вечером после обеда. Я вас угощу добрым ромом. Посидим, потолкуем.
Так положено было начало их долгим беседам под звездным небом. Они сидели лицом к горной гряде, разделенные низеньким столиком, на котором стоял кувшин с ромом. Неоглядные пики, величественные, древние как мир, словно притихли в ожидании катаклизма, который, быть может, низринет их с высоты, расколет или покорежит. Была весна. Время от времени слышалось вдалеке глухое урчание, нотой словно бы раскат грома и наконец гулкий удар — сорвалась где-то тысячетонная глыба. Всходила луна, заливая сиянием небо и землю. Пики оживали, казалось теперь, они качаются и поют — черные башни, высящиеся над застывшими в безмятежности плато. («Если бы Беата могла это видеть! Если бы дети могли это видеть!») Разговор шел о Чили, о первых разработках рудных месторождений в Андах, о больницах и школах, о людях — мужчинах и женщинах. Эшли, уставший за день, с благодарностью нежился в тепле дружеской беседы, но миссис Уикершем была разочарована и недовольна. Любопытство теснило в ней все прочие чувства. Кто этот человек? Какова его история? Чем больше она привязывалась к нему, тем сильней ее задевало это упорное нежелание что-либо рассказать о себе. Она как-то наведалась к нему в комнату в его отсутствие и перебрала все его вещи. Среди них нашлись две-три выцветшие фотографии; на одной высокая молодая женщина стояла около пруда с младенцем на руках, трое детишек постарше сидели у ее ног. Даже на полустертом голубом отпечатке все тут словно дышало здоровьем, красотой и гармонией. Миссис Уикершем долго рассматривала фотографию с каким-то горьким чувством. Любого другого она — «гроза», «варварка» — не поцеремонилась бы спросить прямо: «Что вас привело сюда, одного, без семьи? Зачем вы солгали мне?» — но Эшли она побаивалась. Временами злая обида переполняла ее до того, что она готова была выставить его из отеля. В своей жизни она часто имела дело с людьми, укрывающимися от полиции, но ни разу ей не пришло в голову, что и он может быть из таких. На пятнадцатый вечер пребывания Эшли в «Фонде» за обедом возник оживленный разговор о «ловле крыс»; назывались имена, знаменитые в прошлом или в настоящем, обсуждалось, сколько можно заработать на поимке преступника, каким умом и бдительностью должен обладать тот, кто за это дело берется.
Часа за два, за три до обеда, о котором идет речь, в коридорах «Фонды» поднялся необычный шум и суета; смеялись мальчишки-рассыльные, сдавленно повизгивали горничные. В отель прибыл один из любимых клиентов, всем известный мистер Веллингтон Бристоу, делец из Сантьяго, где у него была контора по импорту и экспорту. Он себя называл американским гражданином, но родился, по его словам, в Риме, от отца-англичанина и матери-гречанки; впрочем, версия о его происхождении иногда подавалась в несколько измененном виде. Карманы у него были набиты визитными карточками, свидетельствовавшими, что он есть единственный представитель десятка фирм, поставляющих в Чили американские медикаменты, шотландскую шерсть, французскую парфюмерию, баварское пиво и много чего еще. Враль, хвастун и мошенник, не пропускавший случая поживиться за счет ближнего, он был, однако, всеобщим любимцем. Его маленькая курчавая голова покоилась на широких плечах атлета. За картами поздним вечером ему можно было дать лет тридцать, в обед — сорок, но при свете дня он выглядел на все шестьдесят, на лице проступали следы усталости и забот, и видно было, что кожа его исчерчена мелкими морщинками, и не только от привычки много смеяться. Одевался он по самой изысканной лондонской моде тридцатилетней давности — носил жилеты ярких тонов и клетчатые брюки. У него были беспокойные руки, все в перстнях, тузы так и липли к этим рукам. Из пообтрепавшихся обшлагов выглядывали манжеты не всегда снежной белизны. Он был постоянно занят крупными денежными операциями и частенько сидел впроголодь. Лучшего собеседника и партнера трудно было найти.
Веллингтон Бристоу являл собой законченный образец бизнесмена, притом незаурядных способностей, но его больше занимал сам процесс обделывания дел, чем конечный результат — деньги; кроме того, он был весельчак и широкая натура. Все три эти обстоятельства шли ему не на пользу. Он неизбежно осложнял каждую свою сделку, втягивая лишних участников, нагромождая кучу оговорок и дополнений. Но был не прочь подтолкнуть ход переговоров намеком на взятку или припугнуть нерешительного партнера призраком шантажа. Раздувать перспективы, вуалируя риск, было для него лучшей утехой. Ему ничего не стоило поступиться даже своими комиссионными ради придания ситуации большей остроты. Он любил бизнес ради самого бизнеса. Деньги у него в руках не задерживались. Он обожал делать подарки не по средствам, в чем прежде всего и сказывается широта натуры. Каждый свой приезд в «Фонду» он привозил миссис Уикершем какую-нибудь сногсшибательную новинку большого мира — первую в Манантьялесе пишущую машинку, первое вечное перо, первую банку черной икры, вечернюю накидку от Ворта. На этот раз он явился в стоптанных башмаках и рваных носках, но с дюжиной шампанского. Веселый человек не может быть преуспевающим дельцом, веселость идет от умения непосредственно радоваться жизни и невозможна у тех, чья жизнь ограничена узкими рамками практической цели. Веселость мистера Бристоу была самой высокой марки, он ее отвоевывал у опасностей и тревог. А уж что за краснобай он был» что за мастер убеждать и уговаривать! Любые предметы у него окрашивались в те цвета, в которых ему угодно было их изобразить. Чтоб уметь уговорить, надо быть беспринципным, честность косноязычна.
О появлении мистера Бристоу Эшли оповещен был громким негодующим возгласом миссис Уикершем, донесшимся снизу, из холла: «Ну уж нет, мистер Бристоу, гроба я здесь не потерплю!.. А мне все равно, что он черного дерева, в моем доме его не будет!»
Речь шла всего лишь об очередной шутке мистера Бристоу. Привезенная им дюжина шампанского была упакована в узкий продолговатый ящик. Шутка… но в то же время и не совсем шутка. Мистер Бристоу питал особое пристрастие ко всему связанному со смертным одром, с гробами и похоронами. Тут он становился не просто серьезен, он преисполнялся высокого торжественного достоинства. Он охотно навещал умирающих. Он им облегчал переправу, пробуждая в них стремление к дальнему берегу. Он уступал место священнику со святыми дарами и, нетерпеливо постукивая йогой, ожидал, когда тот кончит свое дело, но у многих страдальцев последние минуты озарены были видением прекрасного юноши, ведущего их в благоуханные сады. В дверь его дома в Сантьяго мог всегда постучаться человек любого сословия с просьбой сочинить текст для газетного извещения о смерти. Некоторые из этих текстов приобретали потом легендарную славу: «О люди, лишь тот, кто знал величайшее счастье, может понять наше горе. — Семья Касильды Ромео Вальдес». «Прохожий, знай! Смерть не страшна тому, кто видел страдания своего ребенка. — Семья Мендо Касареса-и-Кастро».
Веллингтон Бристоу приезжал в Манантьялес раза три-четыре в год. Манантьялес называли «маленьким Амстердамом» Андов, здесь был черный рынок изумрудов, отсюда они, чаще всего тайно, отправлялись через горные перевалы в дальний путь. Подпольный маршрут, оканчивавшийся во многих столицах мира, проходил через жалкие лачуги на окраине этого тихого городка. Запасшись в Манантьялесе изумрудами, мистер Бристоу поднимался дальше в горы, за шкурками шиншиллы. Миссис Уикершем всегда бывала ему рада. Он привозил последние сплетни с побережья, он вносил оживление в карточную игру, он подстегивал — и оставлял неудовлетворенным — ее любопытство по отношению к его собственной персоне. Кто он такой? Что за человек в действительности? В первый же вечер за обедом он выкладывал ей все новости. Она сажала его на другом конце стола, чтоб все общество могло насладиться хроникой происшествий — судебных процессов, банкротств, смертей и похорон («Мистер Бристоу, про похороны и слушать не желаю!»), арестов, поспешных браков («Флердоранж, миссис Уикершем, — такой цветок, что зацветает до времени, если под ним разложить костер», «Мне это известно, мистер Бристоу»), и дальше в том же роде: выстрел в спальне, подлог завещания, еще смерть и похороны («Мистер Бристоу, про похороны я слушать не желаю!»), деревенский знахарь исцеляет безнадежных больных, принцесса инков оказалась мисс Беатрисой Кэмбел из Ньюарка, штат Нью-Джерси, последний крик моды — шляпы величиной с колесо и рукава до середины пальцев, опять смерть и похороны («Ну будет, довольно!»). Не удивительно, что она брала с него всего доллар в день.
— Как ваши дела по части ловли крыс, мистер Бристоу? Удалось что-нибудь за последнее время?
— Нет, сударыня, а вот один мой знакомый недавно поймал в Лиме крупного зверя.
— Мистер Толланд, вы знаете, что называют ловлей крыс?
— Знаю, сударыня.
— Так что же было в Лиме, мистер Бристоу?
— Мне просто не повезло, миссис Уикершем. Этот тип непременно вскоре объявился бы здесь. Я уже два года его выслеживаю. Вице-президент одного канзасского банка, приметы: лицо круглое, глаза голубые, щеки румяные, лет сорока с небольшим. Сбежал с несколькими сотнями тысяч долларов и шестнадцатилетней девицей.
— А сколько обещано за его голову?
— Четыре или пять тысяч от банка да еще столько же от родителей девушки. Узнали его по рубцам от карбункула на затылке. Мой знакомец подсыпал ему в стакан снотворного и снял у него с шеи шарф… Сапожник-пирожник тоже попался.
— Что еще за сапожник-пирожник?
— Растратчик, которого поймали в Аляске. Он там работал в гостинице поваром. Как говорится, жил — не тужил. Это у него вроде давняя была мечта — кухарить. Жене предложили его выкупить, так она отказалась. Мне, говорит, он не нужен. У меня есть кому пироги печь.
— А много еще остается в списке?
— О, не одна сотня, миссис Уикершем. Есть такие, что значатся там по тридцать лет. Но нас, понятно, интересуют только те, за кого назначено крупное вознаграждение. Уж хлопотать, так не зря. Вот, например, субъект, который похитил миссис Бичем в девяносто девятом. Ему тогда было тридцать лет, и лицом он, говорят, походил на Пита Дондрю, знаменитого жокея.
— Особые приметы есть?
— Есть один пустячок, только мне неудобно тут говорить об этом, миссис Уикершем.
— Ну что ж, главное не зевать. Рано или поздно вас ждет удача.
Лучше всего мистер Бристоу чувствовал себя за ломберным столом и легко мог бы каждый вечер класть в карман долларов двадцать, если бы не то обстоятельство, что играл он не ради денег и не ради победы, а прежде всего ради удовольствия жульничать за игрой. Эшли не уличил его ни разу, предоставляя это другим. Впрочем, будучи уличен, мистер Бристоу смеялся как ни в чем не бывало: «А мне интересно было, заметите вы или нет!» Все взгляды обращались на миссис Уикершем — любой другой гость мигом вылетел бы из «Фонды» за такие проделки.
— Так он же записной плут! Я это много лет знаю. Извольте играть честно, мистер Бристоу, иначе вы больше не сядете здесь за карточный стол.
Мистер Бристоу сразу же почувствовал горячую симпатию к Эшли, а тот отвечал ему сдержанным и заинтересованным расположением, какое мы часто испытываем к людям, ни в чем с нами не схожим.
Спустя несколько дней Веллингтон Бристоу собрался ненадолго в горы. Он рассчитывал приобрести партию шиншилловых шкурок, а кстати завернуть в Рокас-Вердес, провести вечерок со старинным своим знакомцем, доктором Маккензи. Отъезд всегда повод для пирушки, и, после того как миссис Уикершем ушла спать, в баре было выпито еще немало спиртного и рассказано немало историй. Подобных историй Эшли никогда прежде слышать не доводилось. Это не были вымыслы — все, о чем рассказывал мистер Бристоу, приключилось с ним самим в разных странах, на разных континентах. Сперва речь все больше шла об избавлениях от неминуемой смерти, когда все решал случай, небывалое стечение обстоятельств. Сколько раз он тонул, просыпался в горящем доме, сколько раз помощь подоспевала, когда над ним уже был занесен нож бандита. Под конец Эшли остался единственным слушателем, все прочие заснули (прочими были ученый-ботаник, владелец селитряного рудника и миссис Хоббс-Джонс, автор «Азии для детей», «Африки для детей» и т. п.).
В заключение мистер Бристоу, понизив голос, спросил:
— А вам, мистер Толланд, приходилось когда-нибудь быть на волосок от смерти?
— Нет, — отвечал Эшли. — Такого со мной не бывало.
Потом пошли рассказы о смертях, которым мистеру Бристоу пришлось быть свидетелем; во всех этих случаях смерть оказывалась спасительной, своевременной — достойно завершала рискованное предприятие, или избавляла от позора, или снимала с плеч непосильное бремя. У рассказчика блестели глаза, он словно помолодел.
— Смерть всегда справедлива. Мы не выбирали дня своего появления на свет, и день, когда мы его покинем нам тоже не дано выбрать. Он назначен свыше.
Эшли не привык задумываться о смерти. Он слушал с напряженным вниманием — как в свое время слушали его-дети, когда он рассказывал им о приключениях маленького Эйба на Северном полюсе или о путешествии маленькой Сюзанны на Луну, — и, как это случалось с детьми, вдруг заснул.
Утром миссис Уикершем остановила мистера Бристоу у выхода.
— Мистер Бристоу, что вы вчера днем делали в комнате мистера Толланда?
— Я? Я? Да я даже не знаю, где его комната!
— Я вас спрашиваю, что вы делали в его комнате вчера днем?
— Ах, вот вы о чем! Так это была комната мистера Толланда? Я просто искал, где бы раздобыть склянку чернил.
— Что вы там взяли у него в комнате?
— Ничего.
— Мне известно, что вы там пробыли двадцать минут.
— Двадцать минут! Да я там и секунды не пробыл.
— Я не желаю, чтобы моих гостей беспокоили… На сколько времени вы уезжаете?
— Дней на пять, самое большее на шесть.
Она повернулась и, не попрощавшись, пошла прочь. Сразу же после его отъезда она позвала Томаса.
— Мистер Бристоу оставил свой чемодан в кладовой?
— Да, Padrona[73].
— Я хочу быть спокойна, что он не пропадет. Принесешь его наверх, ко мне.
Ей и раньше приходилось проверять содержимое чемодана мистера Бристоу. На самом дне она обнаружила экземпляр «списка крыс». Один абзац на последней странице был отчеркнут красным карандашом.
ЭШЛИ ДЖОН Б. Родился в Пулли-Фоллз, шт. Нью-Йорк, около 1862 г. Рост 5 ф. 8 д. Вес 180 фунтов. Волосы каштановые. Глаза голубые. Справа на подбородке продольный шрам. Судя по виду, из образованных, выговор как у жителя восточных штатов. Работал горным инженером в Коултауне, шт. Иллинойс. Женат, четверо детей. В мае 1902 г. убил выстрелом в затылок Брекенриджа Лансинга, своего начальника. Приговорен к смертной казни. 22 июля того же года бежал из-под стражи во время следования в Джолиет, к месту казни. Личность особо опасная, связан с преступным миром. Вознаграждение за поимку 3000 долларов. — Прокуратура штата, Спрингфилд, шт. Иллинойс. Дополнительное вознаграждение 2000 долларов — Дж. Б.Левитт, Броккерт, Левитт и Левитт. Почт. ящ. 64, Спрингфилд, шт. Иллинойс.
Миссис Уикершем долго сидела над этой бумагой, закрыв глаза; казалось, ее вдруг сморила неодолимая усталость. Не впервые она задавала себе вопрос, на который могла бы сама дать несколько разных ответов: «Почему хорошие люди глупее дурных?» За один час она вытравила из памяти и из сердца речь, которую давно уже сочинила. Она ее убрала и спрятала — так девушка, услыхав о гибели своего нареченного, прячет в сундук ненадеванное подвенечное платье. Речь была хорошо отрепетирована и с каждой репетицией выигрывала в лаконизме и выразительности. Как раз сегодня она собиралась произнести эту речь во время вечернего бдения за кувшином рому на крыше.
«Мистер Толланд, я вам предлагаю уйти с рудника Рокас-Вердес, переехать в Манантьялес и поступить на работу ко мне. Вы будете моим помощником и в управлении «Фондой», и в городских предприятиях. Ведь уже и сейчас вы стали незаменимым в больницах и в школах. Не представляю себе, как мы там обойдемся без вас. Кроме того, с вашей помощью я смогла бы осуществить и другие начинания, Которые мне одной не под силу. Вода источника Санта-Каталина обладает удивительными целебными свойствами. Можно разливать ее по бутылкам и продавать оптовыми партиями. Далее — можно построить здесь большой санаторий. Люди будут приезжать туда принимать ванны из этой воды. Мы превратим Манантьялес в маленький город здоровья, где торговля и промышленность будут служить лишь одной цели — благу человека».
Обогащаясь от репетиции к репетиции, речь становилась все более вдохновенной.
«За то время, что я живу здесь, больше тысячи детей получили благодаря нам образование. Эти дети вырастают, женятся, у них в свою очередь родятся дети. Они разъезжаются по округе, открывают лавки, харчевни, извозчичьи дворы. Иные становятся земледельцами. Но того, что мы делаем, недостаточно. Нам нужны учебные заведения для подготовки учителей. Смешение испанской и индейской кровей облагораживает человеческую породу. Индейцы суровы, замкнуты, подозрительны, но у них очень развито психологическое чутье и стремление помогать друг другу. Колонисты более энергичны, но тщеславны и не склонны к сотрудничеству. И те и другие проявляют себя с лучшей стороны, живя вместе, я особенно в таком климате и на такой высоте, как здесь. Давайте же, мистер Толланд, откроем колледж, откроем медицинское училище, создадим город здоровья. Заложим основы прекрасного будущего, когда Манантьялес станет образцом и примером для всей области Андов и для всех городов Чили».
Эта речь так и не была произнесена.
Наконец миссис Уикершем поднялась, положила список на прежнее место в чемодан мистера Бристоу, приказала подать к крыльцу ее верховую лошадь, надела черную испанскую шляпу и приколола алую розу к лацкану. В такой виде она поехала в город и целый час просидела в больнице, запершись с главным врачом, доктором Мартинесом. Ему она поручила заказать вместительный гроб для мужчины пяти футов и восьми дюймов росту и поставить его в заразный барак, расположенный в дальнем углу больничного двора. Усталости ее как не бывало. В голосе и во всей повадке появились решительность и твердость. От доктора Мартинеса она поехала к начальнице приюта. За окном кабинета начальницы то и дело мелькала фигура Эшли, распоряжавшегося на стройке новой прачечной, но миссис Уикершем позаботилась сесть так, чтобы, видя его, самой оставаться вне поля его зрения. Ей пока еще нечего было сказать ему. Сестра Геронима восторженно рассказывала о том, как дон Хаиме велел сделать выше подставки для корыт — «чтобы у девушек спина не болела. А столы кружевниц, напротив, сделал пониже. Диву даешься, Padrona, до чего верно он чувствует, какая где требуется высота». Но миссис Уикершем пресекла эти восхваления и заговорила о вещах более важных.
В «Фонде» все были предупреждены, что обед нынче состоится на полчаса позже обычного. Миссис Уикершем с большей, чем когда-либо, тщательностью приготовилась к этому обеду. Она вышла в платье, которого почти никто на ней прежде не видел, в ушах переливались опаловые серьги. Платье было белое. Оно было сшито к тому торжественному дню, когда президент республики вручал ей орден. Орден она тоже надела. Ее близкие (впрочем, кто у нее остался из близких? Друзья все умерли, дочь жила в Индии) сразу усмотрели бы в столь парадном туалете, не оправданном обстоятельствами, верный признак мрачного состояния ее души, а уж орден на груди просто вопил об отчаянии. Эшли она на этот раз усадила на противоположном конце стола, между финном-ботаником и его супругой. Время от времени она смотрела на него через стол — смотрела словно откуда-то издалека. К десерту было подано шампанское мистера Бристоу. Отводя взгляд от Эшли, миссис Уикершем сосредоточивала свое внимание на немце-географе, известном ученом, сидевшем по правую руку от нее. За столом становилось все оживленнее. Эшли и его соседи-финны были явно увлечены разговором.
— О чем это вы с таким интересом беседуете, молодые люди? — окликнула их миссис Уикершем.
— У доктора и миссис Тиконен замечательные идеи насчет того, какие деревья сажать в нашей долине, — отозвался Эшли. — Они мне составят список и план посадки.
Таким ликующим тоном это было сказано, что все кругом замолчали, прислушиваясь.
— Да-да, — воскликнул немец-географ, захлопав в ладоши. — Нет на свете радости большей, чем радость сажать деревья.
Тиконены тоже захлопали в ладоши. К ним присоединились и все остальные, одна только миссис Уикершем не хлопала.
А доктор фон Стрелов продолжал:
— Человек сажает растения и этим отличается от животного. Животному неизвестно, что существует будущее; ему неизвестно, что его ожидает смерть. Мы умрем, но сады, нами заложенные, останутся жить. Из всех дел человека на земле посадка растений — наименее эгоистичное. Это акт чистой веры — в большей степени даже, чем порождение потомства. Доктор Тиконен, поведите нас завтра в долину и покажите нам те леса и рощи, которых мы никогда не увидим.
Все снова зааплодировали.
— Но вы, миссис Уикершем, не должны ограничиться лишь посадкой деревьев в этой прекрасной долине. Вы должны сделать больше. Вы должны основать там город!
— Что, что такое?
— Да, новый город, в долине, в пяти милях от Манантьялеса. Всю свою жизнь, милостивая государыня, я занимаюсь изучением природных условий, наиболее благоприятных для человека, его физического и умственного развития, наилучшего применения его способностей. У вас здесь выпадает очень мало дождей, но зато есть источники, горячие и холодные. Большой город здесь немыслим, возможности сельского хозяйства ограниченны, но трудно найти лучшее место для процветания наук и искусств. Мне уже видятся стройные здания университета в кольце отелей, больниц и медицинских училищ. Мне видятся концертный зал и театр. Из всех городов побережья потянутся сюда люди за обновлением духа. Верней, не сюда, а туда — пятью милями дальше по долине. Я завтра покажу вам точное место. Вы совершили много замечательного здесь, в Манантьялесе, миссис Уикершем. Теперь вам надлежит совершить еще больше замечательного там.
Это было встречено приветственным звоном бокалов.
— Но как нам назвать город здоровья и света? Боюсь, скромность не позволит миссис Уикершем дать ему свое имя. Давайте назовем его Атенас — Афины. Я завещаю университету свою библиотеку.
— Я подарю ему свою коллекцию растений Анд, — подхватил доктор Тиконен.
— А я уже сейчас жертвую пять тысяч долларов на это дело, — сказал горный инженер, сидевший по левую руку от миссис Уикершем.
Миссис Уикершем слушала эту восторженную перекличку, крепко вцепившись пальцами в край обеденного стола. Наконец она встала и без улыбки на лице объявила:
— Леди и джентльмены, кофе будет подан в клубной комнате.
От ее холодного тона общее воодушевление сникло. Гости переглядывались растерянно, точно дети, получившие выговор. Она пошла впереди, высоко держа голову, но потупив взгляд. Когда Эшли брал чашку из ее рук, она тихо сказала:
— Встретимся в полночь на крыше. Мне нужно с вами поговорить. — Потом, сделав над собою усилие, обратилась ко всему обществу: — Я хочу поблагодарить доктора фон Стрелова и доктора Тиконена за чудесные планы будущего вашей долины. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы так горячо эти планы поддержали.
Она хотела сказать еще что-то, но не нашла нужных закругляющих слов.
На крыше, за столиком, на котором стоял кувшин с ромом, разговор долго не начинался. Эшли чувствовал, что в воздухе нависло что-то серьезное.
— Мистер Толланд, это правда, что вас разыскивает полиция?
— Да, правда.
— Ваше имя значится в «списке крыс» мистера Бристоу?
— Очень может быть. Я этого списка не видел.
— И вы уверены, что вас не поймают?
— Совсем не уверен. Я знаю, что рискую. Но лучше уж рисковать, чем всю жизнь убегать и прятаться. От себя мне убегать нечего. Я неповинен в том, в чем меня обвиняют.
— Мистер Толланд, из вашей комнаты ничего не пропало за последнее время?
— Пропало несколько очень для меня дорогих фотографий. Я уверен, что их у меня украли.
— А не случилось ли чего-нибудь необычного, что можно поставить в связь с исчезновением этих фотографий?
— Я как раз думал рассказать вам, но все не решался. Дело в том, что несколько дней назад кто-то подмешал снотворного в вино, которое я пил в клубной комнате. Я вообще сплю очень чутко, но на этот раз я далеко не сразу почувствовал среди ночи, что в комнате кто-то есть. А когда почувствовал, то не смог стряхнуть с себя сон. Кто-то дергал меня за бороду. На меня падал свет фонарика — над кроватью склонялся человек, может быть, не один, а двое. Почти бессознательным движением я попытался оттолкнуть его руку от своего подбородка. В ответ послышался смех. Даже не смех, а хихиканье. Я замахнулся, чтобы ударить, но рука у меня была как ватная. Потом его — или их — не стало. Я было подумал, что все это мне привиделось в ночном кошмаре. С большим трудом я поднялся с кровати и зажег лампу. Мне не привиделось. Все вещи в комнате были сдвинуты с места.
— Как вы объясняете это?
— Ну, я решил, что это очередная шуточка мистера Бристоу.
— Если ваше имя стоит в «списке крыс», мистер Толланд, нет ли у вас на теле рубцов или шрамов, которые могут быть указаны в качество особых примет?
Эшли поднес руку к подбородку.
— Есть шрам. — Он погладил подбородок у правой щеки, потом пристально посмотрел в темноте на свою собеседницу. — Вот, значит, в чем дело!
— Он хочет получить деньги, обещанные за вашу голову, мистер Толланд.
— Но как это возможно?
— У него есть какое-то удостоверение, с которым он не расстается. О том, что он — почетный помощник шерифа в каком-то городишке Соединенных Штатов. Никаких официальных полномочий оно ему, вероятно, не дает, но выглядит достаточно внушительно, чтобы произвести впечатление на здешнюю полицию. Все там есть в избытке — и гербы, и печати, и национальные флаги.
— И как же он, по-вашему, станет действовать?
— Для начала он отправился в Рокас-Вердес, чтобы поговорить о вас с доктором Маккензи.
— Доктор Маккензи мне друг.
— Мистер Толланд, доктор Маккензи предаст кого угодно просто так, для удовольствия… Который теперь час?
Эшли чиркнул спичкой.
— Четверть второго.
— Зажгите, пожалуйста, лампу… Я нашла «список крыс» в чемодане мистера Бристоу. И переписала оттуда параграф, который относится к вам. Вот, прочтите. — Он взял из ее рук листок бумаги. — Почему вы не рассказали мне об этом раньше? Поверили в свою удачу? Поверили в особое провидение, которое вас будто бы охраняет? Нет никаких особых провидений, мистер Толланд, есть только человеческая смекалка. Почему вы не открылись мне? Чтобы иметь друзей, нужно доказать свое право на дружбу. Вы сейчас находитесь в большой опасности. Поскольку уже известно, кто вы такой, остается один только выход: Джеймс Толланд должен умереть. Джон Эшли и Джеймс Толланд должны умереть удостоверенной по всем правилам смертью, так чтобы никто не мог в этом усомниться. Если станет официально известно, что вы умерли, розыск будет прекращен. Вы получите от нас подложные документы. Вас тайно переправят в маленькую гавань под названием Тибуронес близ перуанской границы. Туда заходят небольшие грузовые суда, перевозящие селитру. На одном из них вы доберетесь до Центральной Америки. Мы вас сделаем чилийцем по отцу и немцем по матери. Деньги у вас есть?
— Больше, чем мне требуется.
— Этой ночью вы тяжело заболеете. Вас сразит редкий и опасный недуг. Мы подобрали такой, который страшен, но не заразен, иначе пришлось бы тут объявить карантин. Слыхали вы о ядовитом сумахе? Так вот, вам предстоит заболеть кой-чем в десять раз хуже отравления ядовитым сумахом. Вы умрете от tachaxa espinoso, мистер Толланд, умрете в страшных мучениях. Доктор Мартинес напишет свидетельство о вашей смерти. Мэр, мать Лауренсия и я сама скрепим его своими подписями. Консульский отдел в Сантьяго его зарегистрирует. Газеты оповестят о случившемся весь мир. Беглый преступник Джон Эшли умер, добропорядочные люди могут спать спокойно. Ваши похороны станут сенсацией дня. Вас положат в землю, которая считается чуть ли не священной, неподалеку от моей будущей могилы. А потом вы вторично родитесь на свет. Допивайте свой ром.
— Я не достроил новую прачечную.
Миссис Уикершем сердито фыркнула.
— И вы не помогли мне возвести новые Афины. Жизнь — это цепь разочарований, мистер Толланд. Цепь надежд, которым не суждено сбыться… Ну, я устала говорить. У меня даже голос сел. Теперь говорите вы. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все — и про убийство, и про то, как вам удалось бежать из-под стражи.
Он говорил около получаса. Рассказал все, что мог, и замолчал.
— Так, — сказала она. — Так… Стало быть, его застрелил кто-то другой.
— Никого другого поблизости не было. Но если б и был, не мог этот другой выстрелить с точностью в ту же секунду, что и я. А все слышали только один выстрел.
— И вы не догадываетесь, кто были те люди, что устроили ваш побег?
— Понятия не имею.
— Вероятно, шахтеры, чувствовавшие себя обязанными вам.
— Миссис Уикершем, шахтеры почти всю жизнь проводят под землей. Они малоподвижны. Их мысль работает туго. Невозможно предположить, чтобы они придумали такой план и осуществили его с ловкостью цирковых акробатов.
— Все это очень странно, мистер Толланд. От вашего рассказа я даже словно помолодела лет на двадцать. В чудеса я не верю, но я не могла бы жить, если бы не знала, что вокруг меня каждый день происходит что-то очень похожее на чудо. Конечно, все, что вы рассказали, имеет свое объяснение, но объяснения существуют для тех людей, которые скучно мыслят и скучно живут. Я словно даже на тридцать лет помолодела. А вот сегодня за обедом мне просто кричать хотелось, когда я слушала все эти бредни про новый город в долине и про университет и медицинские училища и даже про театр и концертный зал! В самых своих смелых мечтах я не заходила так далеко! И кто должен осуществлять эти прекрасные замыслы — семидесятилетняя старуха и человек, который не смеет открыть свое настоящее лицо? Этот старый ученый осел собрался строить новые Афины в местности, где бывает по двести землетрясений в год. А при землетрясении случаются пожары. Обваливаются потолки. Церкви в наших краях так часто рушатся, что строители уже не рискуют сооружать купола… Опера! Да на такой высоте у певцов перехватывает дыхание. Почему идеалисты так глупы?
Мысли ее неслись беспорядочно, обгоняя друг друга.
— А вы знаете, отчего здесь так часты землетрясения? Оттого, что Анды растут. Скоро они будут выше Гималаев. Они будут самыми высокими горами в мире. Но потом снова начнут уменьшаться — солнце и льды сделают свое дело. Вот вершины Альп, говорят, уже осыпаются понемногу, Оглянуться не успеешь, как земля здесь станет ровная, точно ладонь. И величие не одних маленьких Афин канет в прошлое подобно величию настоящих Афин. Города возникают и разрушаются, мистер Толланд, как те песочные замки, что детишки строят на берегу океана. Человеческая порода не становится лучше. Люди злы, ленивы, вздорны и эгоистичны. Будь я помоложе, а вы вольная птица, может, нам и удалось бы что-нибудь сделать — тут или там. У нас с вами есть одно большое достоинство, которое не часто встретишь. Мы трудимся. И в труде умеем забывать себя. Люди чаще всего только воображают, что трудятся, даже если усердствуют до потери сил. Воображают, что строят Афины, на самом же деле только начищают до блеска свои башмаки. В молодости я дивилась тому, как ничтожен прогресс, достигнутый в мире, — как мало стоят все прекрасные речи, все благородство тех, кто их охотно произносит, все планы, все краеугольные камни, все идеальные конституции для идеальных республик. Все это и краешком не задевает обыкновенного человека. По-прежнему жены, как Далила, в любую минуту готовы остричь своих мужей; по-прежнему отцы душат свое потомство. Время от времени со всех сторон поднимается шум вокруг нового чуда цивилизации — то это прививка оспы, то пуск первого поезда железной дороги. Но потом все стихает, и оказывается, мы те же, что были, — волки и гиены, волки и павлины… Который теперь час?
Ей было стыдно за себя. Она плакала. Давно уж ей не случалось обронить слезу, лет тридцать, а может быть, и сорок. Но, плача, она в то же время и смеялась — тем протяжным, негромким, почти беззвучным смешком, который так часто вторил ее размышлениям в одиночестве.
— Да, — продолжала она. — Все кругом безнадежно, а мы все же остаемся рабами надежды. Ну ладно. Уже ночь, и я, кажется, пьяна. Вам пора в постель, мистер Толланд. Проснетесь вы тяжелобольным. Около половины восьмого вас понесут на носилках по городским улицам, так чтобы все видели, что вы при смерти. Вот пузырек красных чернил. Разрисуйте себе ими грудь, да постарайтесь, чтобы у ключичной ямки «сыпь» была поярче. В паху и под мышками у вас должны появиться большие бубоны. Их вы тоже изобразите с помощью красных чернил. А тут черные чернила. От этой болезни должны почернеть зев и вся слизистая оболочка во рту. Разевайте как можно шире рот, лежа на носилках. Нам нужно успеть вас похоронить до того, как вернется мистер Бристоу. Завтра, уже после вашей смерти, я приду к вам и объясню, что нужно делать дальше. Спокойной ночи, мистер Эшли.
Он поставил стакан на стол, по-прежнему улыбаясь.
— Я вернусь. Мы еще поработаем вместе над будущими Афинами.
— Нет! Но найдутся другие глупцы — другая Ада Уикершем, другой Джон Эшли и, конечно, другой Веллингтон Бристоу.
В пятом часу утра миссис Уикершем разбудил громкий стук в дверь ее комнаты. Стучался Томас.
— Что случилось?
— Padrona, полицейские уводят дона Хаиме.
— Какие полицейские?
— Капитан Руи, а с ним Ибаньес и Нанчо.
— Скажи капитану Руи, чтобы подождал, пока я сойду вниз. Кто там еще есть?
— Дон Велантон («Веллингтон» в произношении Томаса).
— Дон Велантон вчера уехал!
— Он там.
— Скажи капитану, пусть ждет меня в холле вместе с арестованным. И еще скажи, что я просила его вспомнить Фернана.
Фернан был сын капитана. Миссис Уикершем однажды выручила его из большой беды. Она принялась одеваться. Она не торопилась. Двадцать минут спустя она входила в холл. Эшли, в наручниках, сидел между двумя полицейскими. Веллингтон Бристоу бросился ей навстречу, захлебываясь словами.
— Миссис Уикершем, мистер Толланд — беглый преступник. Он убил своего лучшего друга…
— Вы как будто вчера уехали из Манантьялеса?
— …убил выстрелом в затылок. Он очень опасный человек…
— Подтяните штаны, мистер Бристоу. — Эта грубая фраза, которой часто шпыняют друг друга мальчишки, в устах взрослого выражает крайнюю степень презрения.
— Миссис Уикершем!!!
— Капитан Руи!
— Да, Padrona.
— Как поживает ваша жена?
— Хорошо, Padrona.
— А Серафина и Люс?
— Хорошо, Padrona.
— А Фернан?
У капитана чуть дрогнул голос.
— Хорошо, Padrona.
— Здравствуйте, Панчо. Здравствуйте, Ибаньес.
— Здравствуйте, Padrona.
Пауза.
— Вчера я навещала вашу матушку, Панчо. Она себя чувствует уже лучше, должно быть, скоро совсем поправится.
— Да, Padrona. Спасибо, Padrona.
Она села и устремила тяжелый взгляд в пространство перед собой. Смотреть на Эшли или на Бристоу она избегала.
— Капитан Руи, вот уже много лет я держу гостиницу в Манантьялесе. Дело это нелегкое. Одинокой, беспомощной женщине оно не под силу. И если я как-то справляюсь, то лишь потому, что есть сильные и честные люди, на которых я всегда могу опереться, — вы в том числе, капитан Руи. («О, Padrona!») Я — мать, у меня материнское сердце. Простите мне мое волнение… Капитан Руи, можете ли вы припомнить хоть один случай, когда в «Фонде» произошло бы что-то скандальное, что-то неподобающее? («Нет, Padrona!») Пусть я старая, беззащитная женщина, но с божьей помощью дом мой всегда был почтенным домом!
Снова пауза, на этот раз более длительная. Миссис Уикершем концом шали отерла глаза.
— Но вот вчера здесь случилось нечто позорное, нечто чудовищное. Этого человека — дона Велантона Бристоу — я считала своим другом. Я считала его порядочным человеком. А он оказался гадом!
— Миссис Уикершем, у меня есть доказательства, что…
— Он пробрался в комнату к одному из моих постояльцев и украл очень ценную вещь. Нет, не могу рассказывать… мне стыдно! Капитан Руи, кто тот, кого вы схватили?
— Padrona… Дон Хаиме Толан.
— Верно. Человек, который от зари до зари трудился на благо жителей Манантьялеса, трудился безвозмездно, не получая от меня ни единого цента. Он сделал нашу больницу достойной принять короля — ту самую больницу, Панчо, где сейчас лежит ваша матушка.
— Я это знаю, Padrona.
— А знаете ли вы, как недавно назвала дона Хаиме Толана мать Лауренсия? Ангел — вот какое слово произнесли ее святые уста.
Веллингтон Бристоу упал на колени.
— Миссис Уикершем! Он — Эшли, убийца. У меня есть доказательства…
— Капитан Руи, этот гад, что теперь пресмыкается на полу, по своей несказанной, чернейшей гнусности обвинил этого ангела в преступлениях, которые язык мой не поворачивается упомянуть… Так снимите же наручники с дона Хаиме Толана и наденьте их на этого вора и лжеца, да простит ему бог!
Приказание было выполнено.
— Смилуйтесь, миссис Уикершем! Обещаю вам половину вознаграждения!
— Капитан Руи, когда поведете его в тюрьму, не причиняйте ему вреда. Будьте терпеливы, как подобает христианину. Но не вступайте с ним в разговоры. И не давайте ему разговаривать ни с кем другим. Утром я пойду к мэру и расскажу ему всю эту позорную историю. А вы поместите дона Велантона в «закром». Первые три дня — хлеб и тарелку супу в полдень. Не будьте чересчур круты с ним, но смотрите, чтобы никаких разговоров — даже с вами, даже с тюремными надзирателями… Поздно теперь лить слезы, мистер Бристоу!.. Дон Хаиме, что с вами, вы нездоровы?
Эшли пальцем показал на свое горло в знак того, что не может говорить. Он расстегнул пуговицу воротничка.
— Откройте-ка рот, дон Хаиме!
Миссис Уикершем глянула ему в горло, вскрикнула и в ужасе отшатнулась.
— С нами крестная сила!
Она шепнула что-то капитану Руи, тот побледнел и перекрестился. Она позвала, выглянув в холл:
— Томас! Беги скорей к доктору Мартинесу! Пусть немедленно явится сюда!.. Встаньте с полу, мистер Бристоу. Успеете настояться на коленях, когда будете в «закроме».
Эшли понесли по городским улицам и положили в палату смертников. К полудню все было кончено. Зазвонил церковный колокол; слепых девочек повели на молитву; сестры с трудом проталкивались среди больных. После полудня в палату к умершему пришла миссис Уикершем. Для новой жизни ему требовались «бумаги». Она принесла целую кучу новых и старых метрик, документов о подданстве и паспортов. Все это было набрано в похоронных бюро, у содержателей кабаков, даже в ссудных лавках. Все это удостоверяло личность людей разного возраста в общественного положения с указанием на особые приметы — отсутствие десятка зубов, рубец на спине или бородавку на груди, грыжу, геморрой или заячью губу. Принесла она также перочинный ножик и склянки с чернилами и с кислотой. Эшли чувствовал себя в своей стихии. Они долго возились, пробуя разные способы подчистки и подделки, упражняясь в писарской каллиграфии. Результатом их стараний явился документ, в расплывшемся от сырости и пота тексте которого с трудом можно было прочесть, что владелец его, «Карлос Сеспедес Рохас, родился в Сантьяго 7-го или 9-го марта 1862 года, рост имеет средний, глаза голубые, волосы каштановые, зубы все целы, справа на подбородке шрам, семейное положение: холост, профессия: геолог».
В полночь миссис Уикершем пришла снова; с нею пришел старик по имени Эстебан и пять мулов. Он должен был доставить Эшли в Тибуронес. Путь был неблизкий, более двухсот миль — сто двадцать миль по прямой, как летят птицы, если только птицы когда-нибудь там летали. Дождь в тех, краях выпадал раз в сто лет. Идти предстояло через старые селитряные рудники, заброшенные после того, как линия железной дороги прошла в стороне. У этих рудников была дурная слава — будто вокруг них скитаются души беглых преступников, нашедших там свою смерть.
К седлам мулов приторочены были бурдюки с водой, свисавшие по бокам, точно гигантские осиные гнезда; сверху навьючены были мешки с сеном и припасами для людей — хлебом, фруктами и вином. Голову Эстебана прикрывала широкополая шляпа, другую такую же он держал в руках.
— Ну, с богом, — сказала миссис Уикершем.
Эшли молча смотрел в серые глаза на покрасневшем лице, точно хотел, чтобы знакомые черты покрепче отпечатались в его памяти. Она достала из ридикюля шелковый платок.
— Я намочила его. Повяжите себе лоб.
Эшли протянул ей конверт.
— Вот, опустите в кружку для рентгеновской установки.
Пауза.
— Надо, пожалуй, выпустить мистера Бристоу из тюрьмы на час-другой. Он ведь такой любитель похорон… Мистер Толланд, вы когда-нибудь слышали об английском поэте Джоне Китсе?
— Слышал.
— Он однажды назвал жизнь «долиной созиданья души». Мог бы добавить: и разрушения души тоже. Мы движемся или вверх или вниз — или вперед или назад. Я уже заскользила назад. Может быть, мне еще остается несколько лет. Несколько камней в фундамент каких-нибудь маленьких Афин. Пишите мне. А я буду писать вам и рассказывать, как тут идут дела… Эстебан, пора!
Эшли взял ее правую руку и медленно поднес к губам. Для умеющих верить прощание похоже на первое узнавание. Время не кажется им беспрерывной вереницей концов.
Через двенадцать дней Эстебан вернулся в Манантьялес по железной дороге. Он привез миссис Уикершем письмо от Карлоса Сеспедеса. Сена и воды мулам только-только хватило. Второе письмо, посланное медлительной каботажной почтой, дошло лишь спустя несколько недель. Завтра, говорилось в этом письме, он отплывает на север. Больше писем не было.
Он утонул в пути.
В газетах не появилось ни известий о поимке Джона Эшли из Коултауна, ни сообщений о его смерти и похоронах. Веллингтон Бристоу сумел убедить консульского уполномоченного не полагаться на утверждение миссис Уикершем, будто знаменитый преступник погребен на манантьялесском кладбище, — «что-то тут не так». Мистер Бристоу еще много лет продолжал свои поиски.
III Чикаго 1902–1905 гг
В начале 1911 года, когда по всей стране заговорили о семействе Эшли, особенно много недоумений пришлось на долю Роджера. Никто не мог обнаружить ту скрытую пружину, что приводила в действие и направляла его неуемную энергию. Честолюбие, казалось, ему было чуждо; он всегда норовил стушеваться, хотя и без успеха. С тех пор как ему минул двадцать один год, его подпись ни разу но появилась под передовой статьей хотя бы одной из тех газет, которые он то и дело приобретал, реорганизовывал и затем передавал в другие руки. Он был человек твердых взглядов, но не боец. Читатели узнавали его но тону — уверенному, но не запальчивому, рассудительному, но не скучному и всегда лаконичному. Это был тон человека, привыкшего убеждать нравственными доводами. В конце концов и поклонники, и противники объявили его старомодным и на этом определении успокоились. Он словно говорил от лица Америки наших дедов, еще не узнавшей засилья больших городов. Старомодными были и его попытки возродить искусство трибунного красноречия. Вплоть до рубежа двадцатого века американцы питали страсть к ораторскому слову — именно эта страсть побуждала их часами просиживать в церквах, в аудиториях или просто под брезентовым навесом. Кроме звучного, красивого голоса, унаследованного от матери, Роджер и Констанс Эшли владели тем редким видом красноречия, для которого первое условие — полная внутренняя непринужденность. Роджер соглашался произносить речи только в особо важных случаях и на особо важные темы и никогда не говорил дольше получаса. Надвигалась первая мировая война. Его взгляды зачастую резко расходились со взглядами его слушателей и читателей. В редакциях его газет не раз били стекла и марали фасады, его имя заглазно предавали анафеме, но в отличие от Констанс он почти никогда не подвергался оскорблениям со стороны тех, кто его слушал. Он был старомоден, провинциален, немножко смешон и — неотразим.
Восемнадцатый год шел Роджеру Эшли, когда он пешком явился в Чикаго — голодный, грязный, измученный, суровый и полный непреклонной решимости. С виду он походил на крестьянского паренька, и никто не дал бы ему больше шестнадцати, но он о том не догадывался. Его синий костюм, из которого он давно уже вырос, пообтерся местами до зеркального блеска. Под мышкой он нес серый бумажный сверток, содержавший кое-что из белья и одежды. В свои ранние годы он, как и его отец когда-то, был юным владыкой захолустного городка. Он первенствовал во всех классах, возглавлял все спортивные команды. Он не ведал никогда ни страха, ни застенчивости. Останавливал на скаку понесшую лошадь, разнимал сцепившихся в драке собак, врывался в горящий дом, точно был особо избран для таких подвигов. Он с одиннадцати лет каждое лето работал на ферме у мистера Белла, был силен и ловок. Чикаго в то время стремительно рос. Получить там работу было нетрудно, только платили за нее гроши. Он мог выбирать и часто менял места.
Его первой заботой было прокормиться. Жилье имело меньше значения. Летом можно спать в парке или под мостом. Но он должен был зарабатывать достаточно, чтобы посылать матери. А главное — нужно было поскорей найти то, что могло стать его жизненным призванием. Случалось, он неделями существовал впроголодь; случалось, нанимался на место с заведомо мизерным заработком, хоть это и означало уменьшение суммы, посылаемой в Коултаун; но все время он упорно искал — вникал, взвешивал, наблюдал и отбрасывал непригодное. Он не хотел тратить годы на ошибочно выбранную профессию и в то же время стремился как можно скорей начать подготовку к главному делу своей жизни.
Две другие задачи не меньшей важности стояли перед ним, но он еще не осознал их в полной мере. Нужно было получить образование. И нужно было приладиться к обществу, в котором ему предстояло жить. Ему казалось, что, если проявить некоторое усердие, образование придет само собой. Ему казалось, что мрачное чувство обиды, переполнявшее его разум и сердце, — естественная броня мужчины, расставшегося с бездумными иллюзиями юности.
Много времени спустя доктор Гиллиз скажет о нем: «Роджер Эшли пришел в Чикаго круглым невеждой. Через пятнадцать лет, не переступив порога ни одного учебного заведения, он был самым образованным человеком в Америке. Правда, у него имелись некоторые преимущества перед всеми нами. В социальном плане он был парией. В философском — только что у него на глазах его семью сглодало живьем цивилизованное христианское общество. В экономическом — он не имел никакой собственности, даже лишней пары башмаков, чтобы снести в заклад. В академическом — он в жизни не слышал ни одной лекции и не держал ни одного экзамена».
Были у Роджера и другие преимущества, доктором Гиллизом не упомянутые.
Он не обладал развитым чувством юмора. В голове у него не сидел некий второй Роджер. Чувство юмора заставляет рассматривать свои и чужие поступки под более широким углом и с более дальних позиций, от чего они выглядят нелепыми. Это чувство охлаждает энтузиазм, высмеивает надежду, оправдывает недостатки, утешает в неудаче. Оно склоняет к умеренности. Широкий угол и дальняя позиция не дары выдающейся природной мудрости, но всего лишь сгусток мнений данного общества в данный момент. Роджер был юноша очень серьезного склада. Прочие его преимущества, выгоды и невыгоды его положения еще проявятся в ходе нашего рассказа.
Придя в город голодным, он прежде всего стал искать работу по ресторанам. Он начал свою трудовую жизнь с самой нижней ступеньки всякой служебной лестницы — с мытья посуды. Есть нечто комичное в стараниях выполнять черную работу не просто добросовестно, но мастерски. Роджер, лишенный чувства юмора, этого не понимал. Все Эшли привыкли отдавать себя без остатка любому порученному делу. Он был молчалив, но не угрюм, усерден, но не въедлив, и притом, как и его отец, отличался изобретательностью. Одно за другим он вводил небольшие усовершенствования, помогавшие работать быстрее, эффективнее и с меньшей затратой сил. Первым делом он поставил лохань с водой на деревянный ящик. У мойщиков посуды болит спина, ноет грудь, теряет гибкость шея и случаются порой припадки настоящего бешенства — все от того, что приходится но десять часов кряду стоять согнувшись в три погибели. На новичка обратили внимание. Он был переведен в кухню, чтобы надзирать за порядком загрузки и разгрузки подносов с кушаньями. Ресторан, как и Чикаго, рос быстрее, чем можно было уследить. В короткое время Роджер сделался незаменим. Его имя слышалось во всех концах: «Трент! Трент! Wo ist der verfluchte Kert?»[74], «Трент! Как мне, черт побери, работать, если все время не хватает рыбы?» Любые неполадки валили на него, но никто так не умел утихомирить расходившихся поваров и официантов. Его ругательски ругали в напряженные часы от двенадцати до трех и от шести до девяти, зато, когда наступало время поесть и прислуге, ему на тарелку накладывали больше, чем всем другим. В экстренных случаях его вызывали и в обеденный зал. Он переставил по-своему все буфеты и сервировочные столы. Один раз ему прибавили жалованье, но молчаливым и нетребовательным прибавки даются редко. Проработав три месяца, он ушел из ресторана. «Уволился» — чересчур солидное выражение для получающих семьдесят центов в день. Ему опротивело это занятие — кормить людей. Что-то в этом было несерьезное, невзрослое. Кроме того, он решил подыскать себе ночную работу — так у него появится возможность днем бродить по Чикаго, знакомиться с городом. А потом можно будет, оставив время на короткую передышку, взять и вторую работу, дневную. «Вязам» нужны были деньги, а ему нужна была новая пара штанов. Сон — это для лентяев. Его товарищи по работе пришли в ужас, некоторые даже плакали, но он ушел без сожалений. Его все любили — он не любил никого.
Он попытался устроиться ночным портье в гостиницу. В отелях получше ему сразу отказывали, видя его молодость и простоту. Наконец он получил место ночного дежурного в гостинице «Карр-Бингем». Платили тут еще меньше, чем в ресторане, зато после смены можно было отсыпаться в кладовке под самой крышей. На восходе солнца он кипятил себе воду и выпивал стакан чаю. Ел он раз в день, у буфетной стойки. В любой немецкой пивной по соседству можно было, спросив кружку пива, в придачу взять что-нибудь из закуски — рядом на блюдах лежали горы вестфальских пряников, ломтики холодной грудинки, сыр и пикули. «Карр-Бингем» был четвероразрядной гостиницей. Гостиницы шестиразрядные — омуты нищеты и порока; в четвероразрядных для тех, кто способен на тень усилия, еще брезжит лучик надежды. Молчаливым, скромным и умеющим слушать здесь поверяются сокровенные тайны. Не одну историю человеческой жизни довелось узнать Роджеру в часы между десятью вечера и восемью утра. И с разных сторон перед ним постепенно вырисовывалась истина, с которой прежде он никогда не сталкивался, разве когда речь заходила о Гошене: самоуважение, а тем более независимость невозможны без денег. В первые дни своей службы в «Карр-Бингеме» он получил от Софи письмо, где говорилось про пансион в «Вязах», про мисс Гилфойл, брата Йоргенсена и учительницу из городской школы. Немедля он приискал себе еще и дневную работу. Не проходило вечера, чтобы кто-то из постояльцев не пытался выклянчить у него денег в долг. «Всего пятьдесят центов, Трент, — будь человеком!», «Завтра же верну, можешь не сомневаться». Но он не годился в заимодавцы: кто нуждался в деньгах больше его самого? Он взял себе пару башмаков, брошенных гостем, который удрал, не заплатив. Ему часто приходилось водворять в номер загулявших постояльцев. Дважды он положил в карман деньги, оброненные на лестнице кем-то из гуляк: один раз доллар, другой — горсть мелочи. В нем зрело сознание: деньги должны принадлежать тому, кому они действительно нужны. Малодушен тот сын и кормилец, который не составляет сам свой нравственный кодекс. Впрочем, он стал рассуждать по-другому, после того как у него украли две из его трех рубашек, а потом и деньги. Еще работая в «Карр-Бингеме», он твердо решил, что никогда но примкнет к племени постоянных обитателей гостиниц. Ведь он вырос в семейном доме. И теперь многому научился, из ночи в ночь слушая сонную воркотню постояльцев, наблюдая их внезапные пробуждения, тяжелый, неосвежающий сон бездомных людей.
Рекомендательное письмо доктора Гиллиза пригодилось. Он целый день продавал мужское белье, стоя за узким магазинным прилавком. Через три недели он бросил это место, чтобы отоспаться. Когда он заявил, что уходит, ему предложили повышение, но он отказался. Он целый день сортировал чеки, сидя за столом в банке. Он нанялся посыльным в адвокатскую контору, с утра до вечера бегал из помещения в помещение — «работа для краснокожего», как говорили многие. Он использовал все возможности быть полезным, подчас даже создавал их сам. И всюду он наблюдал, вникал, взвешивал и отбрасывал профессию за профессией. Он присматривался к начальникам — к их рукам и глазам, их взаимоотношениям с подчиненными, их манере здороваться и прощаться. Ни разу в жизни он не бывал в театре, но, когда в Коултауне в воскресной школе устраивались представления на сюжеты из Библии, ему случалось изображать царя Ирода и Артаксеркса, и он усвоил, что, играя на сцене, главное — это быть как можно менее естественным. По-видимому, чем более высокое положение занимал человек, тем больше он «играл». Приходя утром в контору или магазин, начальники не здоровались с подчиненными — они «играли» начальников, здоровающихся утром с подчиненными. Каждая их улыбка, неодобрительный взгляд или покашливание рассчитаны были на то, чтобы подчеркнуть их высокое положение, деловитость, и вспыльчивость. Они ятю боялись — да, именно боялись сделать хоть один естественный жест, естественно сказать хоть одно слово. Не укрылись от Роджера и разрушительные последствия неподвижного образа жизни — бунт организма против долгих часов, просиживаемых в конторском вертящемся кресле: одутловатость черт, раннее брюшко, быстрая утомляемость во второй половине дня, прерывистое дыхание, растущая раздражительность, таблетки соды и плевательница рядом. Роджер редко размышлял о своем отце, но отец оставался для него эталоном Мужчины. Вот уж кто никогда в жизни не «играл»! Интересно, думал он, все эти коммерсанты, банкиры и адвокаты, каковы они дома, перед женами и детьми? «Играют» ли они так же мужей и отцов? Разумеется, да. Он это много раз видел в Коултауне — вот хотя бы отец Джоэля Миллера или отец Джорджа Лансинга, несравненный и незабываемый Брекенридж Лансинг. Джон Эшли начинал свой день, громко распевая перед зеркалом для бритья. Потом в доме поднималась веселая кутерьма: «Эй, поросята, ванная свободна! Кто опоздает к завтраку, тот растяпа!» Уж, наверно, никто из этих деятелей не поет за бритьем. Джон Эшли уезжал на работу в отменном настроении и за день успевал побывать всюду — и в конторе, и в шахте, и в мастерских, и в лазарете, и в лавке компании. Роджер твердо решил, что никогда не изберет для себя «сидячей» профессии. Кроме прочего, он еще смутно догадывался, что все это лицедейство в значительной мере связано со стремлением представить жизнь бизнесмена более сложной, чем она есть на самом деле.
Житейский опыт сам по себе не может служить образованием, хотя нередко приходится слышать такие речи, да еще и с оттенком похвальбы. Близость к чужому горю сама по себе не делает человека отзывчивей. Тут должен сыграть свою роль случай.
Роджер был ошеломлен многолюдьем Чикаго. Кишащая человеческая толпа действовала на него угнетающе. По дороге на службу он иной раз останавливался и наблюдал толчею на Ла Саль-стрит. (Первое время ему казалось, что перед ним снуют взад и вперед одни и те же люди.) У каждого мужчины и каждой женщины было свое «я», своя душа. Каждый для себя значил не меньше, чем значил для себя он, Роджер. А через семьдесят лет никого из них, включая и его самого, уже не останется в живых, кроме разве нескольких дряхлых уродцев. И целый миллион новых будет вот так же спешить, суетиться, смеяться и болтать. «Не путайтесь под ногами. Я вас не знаю. Мне некогда — тороплюсь жить».
«Мистер Джош говорил, китайский город Пекин в восемь раз больше Чикаго. Толпа наводит на мысли о смерти; смерть наводит на мысль о толпе… Меня не спрашивали, хочу ли я родиться на свет. Вытолкали в жизнь обманом. На кладбище, вот где, должно быть, всем толпам толпа. «Хорошо съездил, сынок?», «Приятно провели время, мэм?»… Чикаго похож на огромную часовую мастерскую — так и стучат молоточки со всех сторон. На улицу люди выходят в личине, чтобы нельзя было заглянуть к ним в душу. Толпа судит строже, чем друзья и родные. Толпа — это бог. Ла Саль-стрит — ад в своем роде, здесь тебя судят со всех сторон… Так и до самоубийства дойти недолго.
В пруду Старой каменоломни были миллионы пескарей. Мистер Марден говорил, когда рыбы становится слишком много, она поедает свою икру. Война — это когда недостает пищи.
Толпа наводит на мысль о деньгах. У каждого лежат деньги в кармане. Металлические, бумажные. Эквивалент определенного количества труда, и качества тоже. Большей лжи не бывало на свете. Мистер Джош мне рассказывал про Пульмановскую забастовку девяносто четвертого года…
Толпа наводит на мысль о взаимном притяжении полов. У мужчин на улице глаза так и бегают, все выглядывают хорошеньких девушек. А женщины будто надели шоры: смотрят только вперед. Делают вид, что никого не замечают. Все то же влечение к другому полу, оно словно Морковка, подвешенная перед мордой осла. Поддерживает интерес. Как у Шекспира: «Безумцам освещает путь к пыльной смерти».
Толпа наводит на мысль о религии. Для чего господь создал такие несметные множества? Нет, я еще лет пять не стану размышлять о религии. Не знаю, с чего начать. Тоже, верно, морковка перед мордой. Возвышает людей в собственных глазах. Может быть, отец умер. Но для нас с Софи он никогда не умрет. Он живет в нас даже тогда, когда мы о нем и не думаем.
Воображение — это умение видеть сквозь толщу стен. И сквозь толщу черепных костей тоже. Тюрьма, где сидит Юджин Дебс, всего в миле отсюда. Хотел бы я быть мухой на стене и узнать, что она думает о людях, о кладбищах и еще о многом другом».
Порой ему вдруг начинало казаться, что он становится тенью, никем — холодным, одиноким, ненужным. Чтобы превозмочь это чувство, он мысленно ставил Софи рядом с собой. «Смотри, Софи! Ты только смотри!»
Он решил взглянуть, что такое жизнь с точки зрения медицины Не взяв с собой письма доктора Гиллиза, он пошел в больницу и попросился на работу санитаром. Его сразу же приняли. Платили там не больше, чем за мытье посуды в ресторане, но, кроме денег, полагались харчи и конка в общежитии. Он скреб шваброй полы в операционных и выносил ведра с ошметками плоти. Раз ему стало дурно, впрочем, дурно стало и сиделке, работавшей рядом. Он обтирал умирающих и держал на руках стариков и обессиленных болезнью, пока сиделки меняли им постельное белье. Он никогда не болел, до поступления в «Карр-Бингем» ему почти не приходилось видеть больных. А в том, что он видел там, явно были виноваты сами люди — их пороки, их глупость. Прошло немало времени, пока он сумел освободиться от этого предубеждения. На повой службе он оставался все таким же — молчаливым, безотказным и неутомимым. Другие скоро привыкли и тому, что он никогда не считается с часами дежурств, и принимали это как должное. Есть нечто комичное — помните? — в мастерском выполнении черной работы. У санитара Трента отсутствовало чувство меры. Уже после сигнала гасить свет в палатах он по нескольку раз в ночь заходил то к мистеру Кигану, у которого была желудочная фистула, то к Барри Хочкиссу, мучившемуся от ущемления грыжи. Его верность долгу ошибочно принимали за сочувствие. Он никогда ничего не упускал, никогда ничего не забывал. На прежних местах к нему относились по-приятельски; здесь за его работу ему платили любовью. Но сам он никого не любил. Когда в третьем часу он бесшумно прибирался между кроватями, в воздухе стоял стон «Трент! Трент!» — точно над полем боя, проигранного с большими потерями. Большой спрос был на него как на писца писем. («У меня времени не больше чем на двадцать слов, мистер Уотсон», «Вы мне уже задолжали за три марки, судья».) Случалось, его призывали и в женские палаты. Миссис Розенцвейг, уцепившись за его руки, шептала с чувством: «Хороший вы мальчик. Господь вознаградит вас за вашу доброту». Но Роджеру не нужно было господне вознаграждение. Ему нужны были двадцать долларов, чтобы послать матери в Коултаун.
С каждым месяцем вокруг все меньше оставалось такого, что могло его удивить. Общение с сотоварищами расширяло его жизненный опыт. Доктор Гиллиз в свое время умолчал о том, что в санитары идут главным образом те, кому больше некуда податься, — вчерашние заключенные, дезертиры из иностранных армий, лишенные сана церковнослужители, эпилептики, маньяки-поджигатели, состоящие под надзором, шифровальщики, работающие над текстами шекспировских пьес, коллекционеры кукольных нарядов, бывшие штангисты, преобразователи мирового устройства. Работали санитары в несколько смел, и оттого в общежитии почти никогда не бывало тихо. Роджер, ложась спать, затыкал уши ватой, не столько, впрочем, от шума — он уснул бы и под завывание бури, и под грохот канонады, — сколько от разговоров кругом. Образ женщины постоянно витал в комнате, неотвязный, как туча мошкары, возникая то здесь, то там в смешках, шепоте, гоготе и долгих возбужденных рассказах.
Привычку затыкать уши ватой он перенял у Клема, самого старшего из санитаров. Клем большую часть свободного времени тратил на чтение; тратил бы и все, если бы не слабеющие глаза. Полчаса почитав, он полчаса сидел неподвижно, закрыв лицо руками, в позе то ли молящегося, то ли впавшего в отчаяние. Он был философом. В тесном углу, где стояла его койка, он ухитрился соорудить себе отшельничью келью, отгородясь ящиками из-под лекарств и консервов, которые служили и стенами и книжными полками. Больше всего книг было на латинском или на английском, казавшемся не более доступным, чем латынь, попадались также французские и немецкие. СПИНОЗА… ДЕКАРТ… ПЛАТОН. Вот и приходилось затыкать уши ватой. Роджер подолгу задумчиво созерцал звуконепроницаемую голову Клема, склоненную над книгой.
Большинство пациентов покидало больницу слабыми, но излечившимися. На прощание многие делали Роджеру небольшие подарки — сигары, подтяжки, образки, виды чикагской набережной на почтовых открытках, карманные гребешки, календари с рекламой бакалейных товаров. («До свидания, Трент, голубчик, спасибо за все!», «До свидания, Трент, вы были очень добры к моему мужу. Смотрите же, не забывайте — у нас в доме всегда найдется для вас комната, если будет нужно».) Его любили, а он не любил никого. Ему часто приходилось иметь дело с умирающими. Он твердо решил не задавать себе тех вопросов, что неминуемо возникают, когда много раз близко видишь смерть; но есть решения, выполнить которые не так-то легко.
В тех случаях, когда агония затягивалась или становилась особенно тяжкой, больного перекладывали на каталку и везли в специально отведенное помещение. У санитаров оно было известно под довольно грубым названием, которого Роджер никогда не употреблял. Священники входили туда и выходили в любое время. Родственникам разрешалось минутку постоять на пороге. Санитары забегали покурить втихомолку. Разговаривать мешал хрип умирающих, их дыхание с присвистом. Многие звали мать — так бывает чаще всего перед концом, даже если человеку уже лет под сто. (Это первое и последнее слово легко выговорить; в любом языке оно начинается со звука «м».) На каминной доске стояла чашка с приготовленными монетками. Роджер научился довольно точно угадывать приближение мига смерти. Он всякий раз напряженно ждал этого мига. Ему нравилось выражение «испустить дух». (Вопрос: куда потом дух девается?) Если умирал старый человек, он бестрепетно глядел в лицо умирающему. Если молодой, он отворачивался. Временами ему все же становилось невмоготу, слишком тяжким было бремя таких впечатлений для восемнадцатилетнего. Он с нетерпением дожидался ночи. Если ночь была ясная, он выносил на крышу охапку одеял, расчищал местечко в снегу и ложился навзничь, обратив глаза к небу. Из ущелья, в котором теснился Коултаун, виден был только узкий лоскут неба. Он лежал и думал о том, что бог, создав такое множество людей, создал также и множество звезд, и в этом было что-то отрадное. Должно быть, тут существует некоторая связь. Среди мириад звезд есть такие, что светят сейчас и обитателям «Вязов», а может быть, и его отцу, где бы тот ни был. Мысль о несметности человечества уже не подавляла, как прежде.
Невольно ему все чаще приходили на память загадочные утверждения одного из его сотоварищей. Питер Богардус прежде был парикмахером, но бросил свое ремесло из-за расходившихся нервов: стало боязно брать бритву в руки. Он был совершенно лысый, с рябым от оспы лицом. Пить он не пил, но за ним водились другие пороки. Зато дело свое он делал едва ли не лучше других санитаров — куда лучше Роджера, потому что знал не в пример больше. («За ним только поспевай, — говорила старшая медицинская сестра Бергстром. — Каждый год человек двадцать от верной смерти спасает».) Он принадлежал к какому-то обществу, зажимавшемуся изучением загробного мира и жизни его обитателей. Раз он хотел взять Роджера с собой на собрание этого общества, но Роджер отказался, испугавшись, как бы не пришлось платить за вход. Да к тому же Питер Богардус бесплатно ему все пересказывал.
Однажды утром они оба коротали время в палате умирающих. Роджер заглядывал сюда по нескольку раз в день, просто проведать несчастных. Многих, очень многих он сам проводил в последний путь. Другие санитары давно заметили, что у него словно особый дар действовать успокаивающе на тех, кто вот-вот должен был «сыграть в ящик».
(«Трент, а зачем ты этих сморчков все за руку держишь?» — «А я держу? Как-то не думал. Может, им от этого легче».) Дежурным в тот день был Богардус. Он расхаживал из угла в угол и одну за другой курил длинные желтые сигареты, стряхивая пепел в чашку с монетками.
— Знаешь, Трент, — говорил он, — каждый человек живет столько раз, сколько песчинок на дне Ганга.
Роджер подождал немного. Но ничего не дождавшись, спросил:
— Как это понимать, Пит?
— Мы рождаемся снова и снова. Вот, посмотри на этих троих! — Роджеру смотреть было незачем, он и не глядя знал, что увидит: тоскливый взгляд из-под полуопущенных век, трясущийся подбородок и щеки. — Им осталось жить несколько часов. А через сорок девять дней — семь раз по семь! — они родятся снова. И будут рождаться снова сотни и тысячи раз.
Роджер вспомнил, он уже слышал когда-то об этой причудливой идее. В коултаунской церкви его отец не раз вносил свою лепту на посылку за океан миссионеров для вразумления темных и невежественных люден, веривших в подобные же нелепицы. Но сейчас Роджер больше созрел для восприятия любых идей, старых и новых, а Коултаун, как ему пришлось убедиться, был и сам не чужд довольно причудливых идей.
— Представь себе, друг, огромную лестницу. В каждой новой жизни человек может явить добродетели, которые позволят ему подняться выше на ступеньку-другую, а может совершить проступки, которые стащат его ниже. Добродетели самого Гаутамы Будды и его ближайших последователей тянут человечество вверх. И в конце концов, прожив столько жизней, сколько песчинок на дне Ганга, люди окажутся на пороге высшего счастья. Но — слушай меня внимательно! — никто из них не переступит этого порога. Они сами откажутся от высшего счастья. Они предпочтут и дальше рождаться снова и снова. Предпочтут ждать, когда достигнет порога все человечество — а оно бесчисленно, как песчинки на дне Ганга, и попадается в нем немало жестоких и злых. Пока же достойнейшие живут среди нас неузнанными и помогают нам одолевать ступени той лестницы. Но и тогда, когда порога достигнут все люди, все это несметное множество, — даже и тогда никто не переступит его и не шагнет в царство высшего счастья, потому что, кроме нашей земли, есть еще много обитаемых планет, столько, сколько песчинок на дне Ганга. И мы должны ждать очищения всех людей на всех планетах. Разве можно желать себе счастья, покуда не стали счастливыми все обитатели вселенной?
Роджер смотрел на него с недоумением. Он сам и его близкие были когда-то счастливы в «Вязах». А Питер между тем продолжал:
— Видишь ты эту лестницу — эту огромную лестницу, Трент? Попробуй сосчитать человеческие существа, что толпятся на ней. Вот в одном месте словно рябь пробежала по толпе: это кто-то поднялся сразу на четыре ступеньки — Сократ, или миссис Безант, или Том Пэйн, или Авраам Линкольн. Вот в другом месте возникла сумятица — будто обвал в Скалистых горах: кто-то — какой-то миллионер или Нерон — упал, споткнувшись, и упустил пятьдесят или тысячу своих жизней. Никто не стоит неподвижно на месте. — Он продолжал расхаживать взад-вперед, куря свои длинные желтые сигареты. Но вдруг круто повернулся и крикнул: — Долой все, что сковывает дух! Жена, дети — пустые иллюзии! Доброе имя, честь, достоинство — все суета сует! Посмотри на этих троих! Иногда умирающим бывает дано заглянуть на миг в свои прошлые — или будущие — существования. Ты понимаешь, Трент, человек на миг наклоняется над бездной времени и видит все долгие тяготы прожитых жизней. А другой, напротив, устремляет взор ввысь, где маячит вдали порог блаженства. И открывается им, что однажды наступит конец существованию в нашем полном печалей мире и земная юдоль будет покинута навсегда.
Роджер вздрогнул. Ему знакомы были эти мгновенные вспышки сознания перед концом — и внезапный ужас в тускнеющем взгляде, и просветление надежды. А Богардус меж тем остановился рядом в продолжал, понизив голос:
— Запомни, Трент, — даже число песчинок на дне Ганга не беспредельно. Настанет час, когда последний житель земли и последний инопланетянин обретут наконец свободу, и тогда каждый из нас станет Буддой.
Возбуждение Питера передалось двоим из больных. «Судья» Бартлет ворочал глазами, полными тоскливой мольбы. Пальцы беспокойно теребили одеяло, и Роджеру понятен был смысл их движений, как понятен был и тот сдавленный клекот, что слышался в горле умирающего. Он подошел и полотенцем вытер Бартлету рот. Потом прокричал ему в самое ухо: «Сейчас я не могу писать письмо, судья. У меня карандаша нет. Напишу завтра. А сейчас вы постарайтесь заснуть. Да-да, непременно. Поспите немного — и сразу почувствуете себя лучше». Пальцы Бартлета едва ощутимо сжали его-руку.
Из другого угла неслось хриплое бормотание: «Hab kei Gelt… Mutti… Hilf!.. Lu…u…ft…»[75]
— Alles gut, Herr Metzger, — крикнул ему Роджер. — Schlaf a bissl! Ja![76] Питер Богардус заговорил снова:
— Вы, христиане, так долго ждать не согласны, какое там! Вам подавай высшее блаженство не поздней ближайшего вторника. А ждать десятки миллиардов лет — это вы не согласны. Нетерпение было пороком Иисуса Христа, ведь он то и дело возвещал конец света — через неделю, через месяц. И весь христианский мир унаследовал это нетерпение — жги, пытай, убивай, сей распри! Пусть крестятся, а кто не хочет креститься — живьем в огонь! Пусть веруют в меня, а кто не верует, к чертям в ад! Проклятие ада — вот что такое нетерпение. — Он вытер пот со лба. — Видишь, как я разволновался. Видишь, сколько сил я кладу — будто по обязанности, чтобы довести кое-что до твоего разумения. Казалось бы, что мне за дело, поумнеет или останется дурнем какой-то сопляк из Чикаго, штат Иллинойс? А все это окаянное нетерпение, которое я впитал в себя, когда был христианином. Видишь, я весь дрожу.
Он уселся на пол, поджав под себя ноги.
— Надо сделать несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться. Впрочем, нет! Лучше постою на голове. Самое верное средство.
Пятки Питера вскинулись к потолку. Роджера это уже давно не удивляло. Он сосредоточенно думал о лестнице возрождений.
— Питер, ты на самом деле во все это веришь?
Питер, кверху ногами, не сводил с Роджера своих опрокинутых водянисто-белесых глаз. Он ответил не сразу.
— Никогда не спрашивай человека, во что он верит. Присматривайся к тому, как он поступает. «Верит» — мертвое слово и несет в себе смерть.
В палату вкатили нового больного, с сине-багровым лицом.
— Здорово, Трент. Здорово, Пит, — сказал привезший его санитар.
— Здорово, Герб.
— Знаком вам этот тип?
— Да, — сказал Роджер. — Это старый Ник. Ночной сторож из Флетчер-билдинг.
Он успел хорошо узнать старого Ника за те несколько недель, что ухаживал за ним. Если хоть доля истины была в учении о Великой Лестнице, то Ник, наверное, стоял на одной из самых верхних ступеней. На памяти Роджера это был первый человек, так, казалось, легко сумевший освоиться и с больницей, и со своими страданиями. Несмотря на унизительную зависимость во всем от чужой помощи, несмотря на неумолчные крики, стоны и исступленную ругань кругом, он всегда лежал тихо, устремив в пространство кроткий неподвижный взгляд. Так, должно быть, умирает олень. Он никогда ни о чем не просил. В ответ на предложение Роджера написать кому-нибудь из его близких он продиктовал коротенькое письмецо к дочери в Бостон, но попросил, чтобы отправлено оно было не раньше чем через неделю после его похорон. Когда душа его освободится от тела, говорилось в письме, братья-мормоны зароют тело в землю. Роджер повернул свой стул так, чтобы оказаться к Нику спиной. Старику неприятно было бы сознавать, что друг видит его плотские муки, которые, в сущности, не имеют значения. И тут Роджеру пришло в голову, что и Джон Эшли, его отец, стоит на одной из верхних, самых верхних ступенек лестницы. О том свидетельствовало все его поведение в долгие дни суда в Коултауне: разве не держался он так, словцо любопытство и злоба людская до него не доставали, разве, судя по всему, не освоился без труда и со скамьей подсудимых, и с той крайностью, что его туда привела?
Роджер вышел в коридор, а из коридора на улицу. Он стоял на солнышке у черного хода больницы и поеживался в своем белом халате. У него не было вопросов, которые он хотел бы задать отцу. Не было потребности сесть с ним за стол и повести долгий доверительный разговор, но он охотно отдал бы то немногое, что имел, чтобы увидеть его издали в уличной толпе. Квартал за кварталом он шел бы за ним следом — просто чтобы наглядеться на человека, достигшего таких высот.
И еще потому он хотел бы повнимательней рассмотреть отца, что знал: придет срок, и он, Роджер, тоже станет отцом. А потом умрет, а дети его останутся жить.
Так раздумья об умирающих, об отверженных, о неродившихся приближали его к жизни, шедшей вокруг.
Запоздалое повзросление, характерное для всех Эшли, сказывалось у Роджера, между прочим, и в нестерпимой тоске по родному дому. Мелькнувшая в отдалении женская фигура вызывала перед глазами образ матери, какая-нибудь вещь, запах, звук девичьего голоса остро напоминали «Вязы». У него вдруг темнело в глазах. Приходилось хвататься рукой за фонарный столб или прислоняться к стене, пережидая, когда уляжется боль. Но так сладка была эта боль, рождавшая почти физическое ощущение дома, что иногда он нарочно, чтобы разбередить ее, шел к вокзалу, с которого отправлялись поезда на Коултаун. Вокзал находился почти у самого озера. Прежде Роджер никогда не видал водного пространства большего, чем пруд. Зрелище мерно катящихся волн действовало на него успокоительно. «Как представишь себе, сколько тысячелетий стоит мир и сколько людей жило в нем и живет, невольно является мысль: не так уж редко парням моих лет случается уходить из дому — вот хоть на войну, например».
Вопросы, мучительные вопросы.
Нет более верного пути к знанию, чем поиски ответов на вопросы, которые не дают покоя. Тревоги и тяготы приучают к пытливости неокрепший ум. Роджер еще не понимал, что борьба за существование сделала особенно восприимчивыми его и его сестер. Как растения в засушливой почве, они пустили в эту почву глубокие корешки. С малых лет они привыкли ощупью добираться до истины, спрашивая: «Что?», «Почему?», «Как?». Беата Эшли была превосходной матерью, она много давала своим детям, она давала им все, кроме самого главного (оттого, наверно, что ей самой этого недоставало в детстве). Как мы уже знаем, она умела любить по-настоящему только кого-то одного. Джон Эшли способен был дать детям и самое главное, и немало сверх того — но он взрослел очень медленно, воображение его еще до многого не дозрело. Но дети замкнулись в себе. Общение с ними давало радость отцу, и это спасло их от бесплодных самокопаний. Так Лили стала Спящей Красавицей. Софи нашла себя в любви к животным. Констанс, дочка без матери, уже с детства готовилась к своему удивительному призванию — заменить мать миллионам людей, из которых добрая половина была старше ее самой. Роджер едва избежал катастрофы, которая могла поломать его жизнь. Странное это происшествие случилось летом 1891 года. Ему тогда шел седьмой год. Весь город знал его как примерное дитя — такой умница, такой благовоспитанный. И вот однажды, в отсутствие родителей, он схватил стульчик младшей сестры и, размахивая им, перебил стекла во всех пяти окнах гостиной. А потом убежал из дому, рыдая, словно от безграничной обиды. Захватил только по дороге котенка Софи, чтоб не так одиноко было на долгом пути до Китая, куда он намерен был добираться пешком. Родители ни словом не упрекнули его. И никогда больше Роджер не поддавался подобным порывам. Но он очень переменился после этого случая. Шалун и болтунишка стал молчаливым. Он теперь охотнее слушал, чем говорил «Что?», «Почему?». На его лице словно застыло одно выражение. Он скоро сделался лучшим учеником и лучшим спортсменом своей школы. Все в городе любили его, но ему это было глубоко безразлично. Он знал только одного друга — Порки. Он принимал нежность только одного человека — Софи. Доверие к отцу служило ему нравственной опорой, а страстная привязанность к матери обрекала его на одиночество.
Вопросы. Вопросы. А теперь ему — как и отцу, находившемуся за тысячи миль, — недоставало слов, недоставало логических навыков, чтобы доводить до конца свои раздумья. Как найти единую суть во все множащейся пестроте впечатлений и событий его жизни? Драма в Коултауне; застывшее лицо матери, рядом с ним шагающей в суд; неразгаданная тайна отцовского побега; полдневное многолюдье Ла Саль-стрит; смерть, которой каждый день приходилось быть свидетелем; божья воля, обрекавшая на страдание детей, кошек, собак, лошадей; Юджин Дебс за тюремной решеткой совсем неподалеку; разговоры о женщинах сотоварищей-санитаров; его, Роджера, неустанное стремление найти дело, которое стало бы делом всей жизни. А мир труда? Несправедливость повсюду: хозяева обманывают рабочих, рабочие — хозяев и друг друга. Ведь и ему случалось уже пускаться на обман.
Однажды он заглянул в келью Клема.
— Скажи, Клем, вот эти книги, что ты все читаешь — студенты в колледжах тоже изучают их?
— Некоторые — да.
— А ты когда-нибудь в колледже учился?
— Учился.
— Что дает человеку образование?
— Помогает связывать воедино все, с чем приходится сталкиваться в жизни.
Роджер вздрогнул как от неожиданного удара.
— Скажи, Клем, а возможно получить образование самоучкой?
— В одном случае на миллион — пожалуй.
— Но образование главным образом получаешь из книг?
— Тот, кто рассчитывает постичь что-то, не прочтя этих книг, — все равно что пернатый кенгуру. Вроде Пита Богардуса. Ты у меня попусту отнимаешь время.
— Извини, Клем.
Не было у него желания поступать в колледж или — пока, во всяком случае, — взяться за чтение тех пресловутых книг. Сколько он бродил по чикагским улицам в самые разные часы. Сколько выслушивал рассказов о чужих жизнях. Человек человеку враг, и даже тот, кто добр к своим ближним, жесток ко всем прочим. Не доброта нужна, а справедливость. Быть добрым — значит неумело пытаться возместить причиненное несправедливостью зло. Мир устроен неправильно, это уже стало ему ясно. Что-то есть неправильное в самой основе мироустройства, и он докопается, что именно. Книги и колледжи существуют уже сотни лет — а какой от этого прок?
Те немногие серьезные книги, которые он пробовал читать, показались ему многословными, туманными и полными трескучей болтовни — точно церковные проповеди или речи политиков. Подобно всем Эшли, он не желал ничьей помощи. Мы дальше увидим, как его отец «придумал» брак и отцовство. А сам он хотел придумать объяснение человеческому бытию и такие житейские правила, которые позволят людям сосуществовать разумно и мирно, — быть первым философом, первым строителем справедливого общества. Независимый дух (которым похваляются многие люди) не знает покоя. Роджер уже был одержим этой великой задачей. В голове его теснилось множество идей, которые требовалось записать как можно скорее. Работая в «Карр-Бингеме», он сумел накопить немалый запас бумаги. На обороте выброшенных счетов, объявлений, программок, листков календаря можно было писать — и он писал. В долгие ночные часы — сперва там, в гостинице, а потом на больничных дежурствах — он строчил и строчил, давая выход одолевавшим его мыслям. У него никогда не было друга его лет, если не считать Порки, еще более молчаливого, чем он сам. Ему не довелось, как обычно бывает у юношей, в спорах со сверстниками созидать и разрушать бога, общество, нравственные устои. И вот теперь он искал в одиночку объяснение природы вещей, из устройства вселенной выводил законы человеческого общения, — намечал конституцию идеального государства. Но в один прекрасный день эта лихорадочная жажда писать кончилась так же внезапно, как и возникла. Он собрал в охапку исписанные листки и отправил их в печь для сжигания мусора. Он зашел в тупик; но то не была потеря веры в себя, то было прозрение: он понял, что ничего не знает, что даже учиться ему будет трудно — но все-таки возможно. Внутренне он созрел для серьезного чтения. Мы увидим, как он пришел в мир книг с черного хода.
Проработав в больнице три месяца, Роджер возвратился в «Карр-Бингем» — с повышением, на должность дневного портье. Он хотел зарабатывать больше денег и, кроме того, успел прийти к определенному представлению о медицине. У него сложился образ непрерывной, извечной вереницы страждущих, тянущейся к больничной двери. Не бывало случая, чтобы койка в палате пустовала более трех часов. Весь смысл медицины, казалось ему, в том, чтобы заплатами, подпорками, скрепками временно продлить срок службы обреченного на слом корабля. Невежественный провинциальный паренек, он не догадывался, что сама медицина может по-иному понимать свое назначение.
В этот раз Роджер ближе познакомился с десятком газетных репортеров, ютившихся по соседству с ним в тесных клетушках под самой крышей гостиницы. Коридор, куда выходили эти клетушки, давно утратил свое казенное однообразие. Многие двери, в свое время выломанные озорства ради или в припадке ярости, были потом вовсе сняты с петель. Стулья администрация предусмотрительно заменила табуретками и пустыми ящиками. Мужчины без женщин могут жить и в пещере.
В воздухе застоялся смешанный запах джипа, виски, лимонной цедры, лекарств и остатков пищи. Обитатели этого этажа редко ели, спали, умывались, еще реже молчали. Денег они получали мало, честолюбие проявляли лишь от случая к случаю, но были твердо убеждены, что их профессия самая важная в мире. Они одни разбирались, что к чему, в отличие от прочих людей — простофиль, все принимавших за чистую монету. Они знали, что государственные учреждения заражены коррупцией, благотворительность — фарс для дураков, духовенство лживо и лицемерно, а в большом бизнесе царят волчьи нравы, особенно на железных дорогах и на скотобойнях. Они задыхались от сведений, которые им не разрешалось предавать гласности. Обилие сведений, так же как мужество и добродетель, ведет к изоляции; они вынуждены были вариться в собственном соку. Невозможность писать о том, что им было известно, заставляла искать новых средств самовыражения, и таким средством становился живой разговор. Разговор был для них ареной в лучах прожекторов и полем боя. Здесь одерживались победы и наносились сокрушительные поражения. Изо дня в день и из ночи в ночь шло состязание в словесной акробатике высшего класса, оттачивалось мастерство острословия. Под видом приятельских шуток сыпались беспощадные удары. Соперники листали словари в погоне за словами и образами ядовитой меткости, изощрялись друг перед другом в непристойностях и богохульствах. Репортажи их были бездарны потому, что их интересы лежали в другой плоскости — плоскости живого разговора. Роджер слушал их молча. Они были находчивы, они многое знали, хотя их знания были пестры и бессистемны. А главное, у них имелась исходная позиция: человек ничтожен, и все его усилия измениться к лучшему бесплодны. Любые проявления стойкости, героизма, благочестия, даже просто человеческого достоинства их раздражали. Они хвастались своей глухотой к любым впечатлениям. Малейший проблеск восхищения или сочувствия к кому бы то ни было они тут же спешили превратить в насмешку и издевательство. Некоторые из них присутствовали на суде в Коултауне и сразу узнали нового портье. Они было попробовали взять его в оборот по этому поводу, но быстро отстали. Не стоило принимать его всерьез. Провинциальный недотепа, деревенщина. Да еще и молокосос к тому же.
Однако были у Роджера два качества, привлекательных для всей этой компании. Он умел слушать внимательно, хоть к без улыбки, и на него можно было положиться. Всякому виртуозу нужно, чтобы публика время от времени обновлялась. «Этот Трент слушает не только ушами, но и глазами, и носом — даже подбородком, ей-богу!» У самого отпетого шалопая есть потребность иметь хоть одного верного друга. Роджер стал для своих новых знакомцев и банкиром, и центром связи. «Трент, возьми мои деньги к себе до завтра. Черт меня знает, как я проведу сегодняшний вечер», «Трент, скажи Гербу, пусть не высовывает нос из дому — Гретхен его ищет», «Трент, передай Спайдеру, что партийные боссы собираются в десять, в Сент-Стивенс-холле».
Постоянно слыша, что профессия журналиста самая важная в мире, Роджер решил вникнуть глубже в ее суть и особенности. Ему пока непонятно было, откуда у репортеров это презрение ко всем делам человеческим и ко всем людям, не принадлежащим к их тесному кругу. Непонятно было, отчего, видя процветающую везде коррупцию, они не спешат разоблачать ее в своих заметках. Как-то вечером, возвратясь домой, Спайдер положил перед Роджером большой конверт. В нем оказалась куча газетных вырезок, относящихся к процессу Эшли — Лансинга. В доме Эшли во время суда газет не читали. Роджер по нескольку раз перечел все эти статьи и отчеты. Его поразило то, как верно и обстоятельно описывался ход судебного разбирательства и какими слабыми и расплывчатыми были редакционные комментарии, даже те, где сурово критиковался и приговор, и само ведение дела. Долго он бродил в эту ночь по набережной озера Мичиган и в конце концов принял торжественное решение: он будет журналистом.
Лишь годы спустя Роджер сумел оценить в полной мере, сколь многим он был обязан обитателям верхнего этажа «Карр-Бингема»; ведь это они приобщили его к газетному делу, к оперному искусству, к дьявольским ухищрениям словесной полемики, без которой, однако, всякое образование остается неполным, — иными словами, к беседам с Т.Г.Спиделом — и, наконец, к чтению книг.
До чтения они были великие охотники, читали, когда только позволяло время. В верхнем этаже «Карр-Бингема» повсюду валялись книги — под кроватями, на шкафах, в уборной, в чулане для тряпок и веников, около мышеловок. Большей частью это были издания карманного — скорей, даже кармашкового — формата, в обложках из рыхлой синей бумаги или в переплетах под кожу. На них стояли заглавия вроде «Перлы мудрости полковника Роберта Дж. Ингерсолла», «Из великих мыслей Платона», «Избранные страницы Казановы», «Ницше о суеверии», «Толстой об искусстве», «Сокровища наследия Гете», «Сокровища наследия Вольтера», «Конфуций о Центре истины». Все это Роджер перечитал. Как уже было сказано, он пришел в мир книг с черного хода. Попробовал он наведаться в публичную библиотеку, но там ему не понравилось. Он сделался завсегдатаем букинистических магазинов. Поиски книг стали для него самыми увлекательными приключениями. Но о своих находках и о своих неудачах он не рассказывал никому.
Еще до своего решения стать журналистом Роджер узнал об одной из неоценимых выгод этой профессии — газетчики иногда получают бесплатные билеты в театр. Как-то раз сосед-репортер дал ему такой билет в оперу. Попал он на «Фиделио». Спектакль его ошеломил.
Роджер на своем недолгом веку уже многое успел вытерпеть. Ни разу стойкость духа не покидала его. Но дух нуждается в пище. Пришло время увидеть воочию более высокие примеры упорства и верности. Выносливость можно черпать в собственном существе, но для поддержания мужества важен пример. У воинов кангахильского племени в обычае было перед боем слушать сказы о подвигах предков; они слушали долго, молча, устремив неподвижный взгляд вдаль. И быть может, не случайно, что в первый свой вечер в театре Роджеру привелось узнать историю женщины, отважно проникшей в темницу, чтобы спасти мужа, несправедливо осужденного на казнь. А неделей спустя другая опера познакомила его с судьбой юноши, который претерпел пытку огнем и водой ради того, чтобы соединиться с любимой, а в конце концов был допущен, в содружество мудрых и справедливых. Если все оперы таковы — если они повествуют о вещах по-настоящему важных (и так прекрасно, так убедительно повествуют, хоть и несколько шумно порой для непривычного уха), — значит, надо наладить свою жизнь так, чтобы не пропускать ни одной.
Он стал упрашивать своих новых друзей подыскать ему место в газете. Его пристроили для начала рассыльным, «марашкой» на местном жаргоне. Теперь он всегда ходил перемазанный типографской краской. Он оглох от грохота печатных машин. Целый день он носился по лабиринту узких железных лестниц — то спешил с материалом от репортеров к редакторам, то спешил с материалом от редакторов к наборщикам. Он скоро научился угадывать, что кому нужно, прежде чем ему говорили хоть слово; он предупреждал заторы, смягчал неизбежные трудности. Его имя звенело во всех концах: «Трент! Трент! Куда запропастился этот Трент?», «Трент, ну-ка, эти гранки вниз, да поживее!» Репортер, не поспевавший закончить один отчет, совал Роджеру свои заметки для следующего: «На, приведи в человеческий вид! Помни: главное — КТО, ЧТО, КОГДА, ГДЕ». Он ждал своего часа — и этот час настал. В редакцию сообщили, что у извозчичьего двора Хеффернона мужчина задушил женщину, а ни одного репортера не оказалось на месте. «Трент, бегом туда, и чтоб был отчет! Живо!» За этим случаем представился другой, потом третий. К концу августа 1903 года он уже числился репортером. Пошел второй год его жизни в Чикаго. Ему было восемнадцать лет и восемь месяцев.
Наконец-то он не просто исполнял свои обязанности и удовлетворял свое любопытство — он делал дело. Его облик провинциального юнца позволял ему бывать там, откуда человека постарше и посолидней тотчас же выгнали бы. Он простаивал в задних рядах на закрытых политических митингах; он умел шмыгнуть мимо сторожей в помещение, где тренировались чемпионы бокса; он однажды прошел служебным ходом в ту больницу, где раньше работал, и получил от умирающего важное признание. Не раз ему удавалось, опередив полицию, проинтервьюировать вдов, еще не знавших о гибели своих мужей. Он набросал в свой блокнот описание зала ресторана «Олимпия» во время банкета греческих патриотов, когда гости со всеми признаками пищевого отравления валялись на полу, точно вороха цветного тряпья. В декабре 1903 года он писал сестре: «Я уже сотни четыре чикагцев знаю в лицо и по имени». Спустя еще немного времени он начал писать статьи и очерки специального характера; многие из них становились, что называется, «изюминкой» номера. «Чикагцы, берегите свое побережье!», «Мы должны лучше знать своих братьев поляков», «Черный рынок на Висконсин-авеню!», «Мы должны лучше знать своих братьев китайцев». Под всем этим стояла подпись «ТРЕНТ». Роджер исправно посылал Софи вырезки. На доске заданий стали появляться записи типа: «Т.Ф.
— 500 сл. к пятнице. — Интересы женщин». Главного редактора статьи Роджера повергали в смущение; многие из них он отклонял, полагая, что они вряд ли заинтересуют читателя, а в иных случаях могут оскорбить читательские чувства. Когда редактор сменился, Роджер представил отклоненные статьи снова. Он создавал журналистику нового типа. Читатели стали вырезать его статьи и наклеивать в альбомы; редакцию осаждали просьбами выслать старые номера. При этом каждый раз Роджеру выплачивалась премия в двадцать пять центов.
Вот заголовки еще нескольких его сочинений. Они волновали и возбуждали сочувствие; казалось, взгляд автора проникает сквозь толщу стен и черепных костей.
«День в Гулл-хаусе».
«Дитя на чикагских бойнях» (отклонялась дважды).
«Четвероразрядная гостиница».
«Статуи в наших парках».
«Спасибо, Беттина!» (Это было якобы интервью, взятое Трентом у лошади, которая возила последнюю чикагскую конку. Заканчивалось оно так: «Когда читатель газеты прочтет эти строки, из копыт Беттины уже будет вариться клей».) «В дальнем плаванье». (Ночной рейс на Милуоки.) «Мы должны лучше знать наших братьев венгров». (Немедленно последовало приглашение на банкет в его честь от ассоциации «Hungaria Eterna», от которого он вежливо отказался.) «Собачьи конуры для младенцев». (Отклонялась дважды. После публикации особенно возмущенные читатели прислали заявления об аннулировании подписки.) «Пат Квигган и «Trovatore»[77]. (Содержание знаменитой оперы в пересказе рабочего сцены. Роджер не обладал чувством юмора, зато был наделен чутким слухом. Правда порой куда забавнее вымысла. Как и другие «изюминки», очерк подхватили и перепечатали многие газеты страны, причем всякая приукрашивала его по-своему.) «Добрый вечер, господа!» (После посещения вновь открытого дома для престарелых «Приют св. Казимира». За этот очерк Роджер получил письменную благодарность от архиепископа.) «Милли строчит на машинке». (После посещения потогонной швейной мастерской. Несколько читателей прислали автору текст «Песни о рубашке» — стихотворения, которое он никогда не читал раньше.) «Семь лучших проповедников Чикаго». (Цикл из трех статей. Роджер по неведению растревожил целое осиное гнездо сектантских пристрастий и склок. Еще долго после напечатания этого материала в редакцию приходили письма на имя автора — от пятидесяти до сотни штук в день.) «Чепец Флоренс Найтингейл». (Октябрь 1905 года. Очерк был написан специально, чтобы доставить удовольствие Софи. Из письма Порки Роджер только что узнал о том, что ее пришлось отправить на отдых к Беллам, и был очень потрясен этим известием. Он стал писать ей каждый день и в одно из писем, содержавшее обещание приехать к рождеству в Коултаун, вложил эту «изюминку», вырезанную из газеты. Редактор поначалу отклонил было очерк, сочтя его чересчур наивным для массовой печати. Тогда Роджер сказал, что пойдет с этим материалом в другую газету, и редактор тотчас же уступил. В очерке описывались мысли и чувства отца, присутствующего на выпускной церемонии в Чикагской школе медицинских сестер, которую окончила его дочь. Девушку зовут Софи, она выросла в Южном Иллинойсе, в усадьбе, которая называлась «Вязы». При виде белого накрахмаленного чепца, увенчавшего голову его дочери, отец вспоминает, как она с детства любила и жалела животных, как накладывала лубок из щепочек белке, сломавшей лапку, как из глазной пипетки кормила вывалившихся из гнезд птенцов. Чувствовалось, что автор хорошо знает все, что касается ухода за больными, что ему знакомы и мучения, и радости, связанные с этим нелегким трудом. Очерк перепечатывали много раз, и он вызвал целый поток читательских писем. Вскоре после его публикации в редакцию газеты доставлен был большой торт, испеченный главной сестрой больницы «Мизерикордиа», вместе с письменным обещанием денно и нощно молиться за автора.) В отделе городской хроники у Роджера был свой стол, колченогий и весь покрытый чернильными пятнами, но он редко сидел за этим столом. О нем ходили самые разные слухи — то будто он сын опасного преступника (впрочем, это считали досужими сплетнями завистников), то будто ему еще нет и двадцати лет, что уж вовсе казалось какой-то несусветицей. Большинство, однако, сходилось на том, что он — юноша из хорошей чикагской семьи, успевший самостоятельно многого достичь в жизни. Живет он в старинной усадьбе, не то в Уиннетке, не то в Ивенстоне, со множеством родственников и домашних животных. Так или иначе, Роджер приобрел довольно обширные знакомства среди «людей дела», называвших его обычно так: «Тот самый малый, что пишет в газетах те самые статьи». Немало нажил он и врагов, особенно в спортивных и политических кругах, не раз случалось ему защищаться и от кулачной расправы. Но все это шло словно где-то в стороне от той серьезной журналистской работы, представление о которой постепенно складывалось у Роджера. Он верил, что сумеет положить начало журналистике особого рода, какой раньше не бывало. И он но торопился. Своих «изюминок» он всерьез не принимал. К тому же он сознавал, что они хромают по части грамматики и правописания. Он предусмотрительно показывал каждый очерк или статью старому мистеру Бранту, и тот, надвинув на глаза свой неизменный зеленый козырек, приводил все в годный для печати вид. А Роджер потом внимательно изучал и переваривал каждую правку, сделанную мистером Брантом. Имя «Трент» уже начало славиться в Чикаго; те, кто никогда не стремятся к славе, не сразу распознают ее, когда она к ним приходит, а распознав, зачастую не знают, что с нею делать. Роджер считал по-прежнему, что пишет исключительно ради денег.
За весну 1904 года лицо у Роджера вытянулось, взгляд стал более острым, в голосе появились басовитые нотки. Тучи, омрачавшие его внутренний мир, понемногу рассеивались, он научился смеяться. Может быть, его научили этому Деметрия, Лорадель и Идзуми — о них речь еще впереди; а может быть, сказывалось удовлетворение, которое давала работа. Все его движения отличались легкостью и быстротой; он носился по городу из конца в конец, точно у него были крылья на ногах. К рождеству он послал матери целую пачку своих «изюминок» и впервые дал адрес для ответа. Никаких извинений за то, что он не давал его до сих пор, в письме не содержалось — она должна была понимать: это делалось для того, чтобы ей поменьше докучала полиция. И она понимала; на любом расстоянии эти мать и сын без слов угадывали мысли друг друга. В своем ответном письме она говорила о том, как порадовали ее полученные газетные вырезки. Благодарила за регулярную присылку денег, уверяя, однако, что больше в этом нет надобности. Рассказывала, как хорошо идут дела пансиона, и особо подчеркивала при этом заслуги Софи. Сообщала, что Лили уехала из Коултауна в Чикаго учиться пению; теперь и от нее регулярно приходят почтовые переводы, но неизвестен ни ее адрес, ни имя, под которым она живет в Чикаго. (Странное это было семейство.) Выражала надежду, что Роджер скоро приедет в Коултаун повидаться с родными. В его комнате теперь тоже живут квартиранты, но к его приезду она будет свободна. Письмо не содержало и намека на душевные пытки, через которые им вместе пришлось пройти два с половиной года тому назад. В последней фразе, написанной по-немецки, она просила сына прислать фотографию. Много бумаги было изведено, прежде чем сложился окончательный текст этих двух писем; много чувств осталось в черновиках, брошенных в корзину.
Большую часть своих дней и ночей репортеры проводили в пивной немца Краусса на Уэллс-стрит, находившейся примерно на равном расстоянии от редакций, где работало большинство из них. Там писались заметки, там шла карточная игра, растягиваясь порой на недели, а то и на месяцы, там оспаривали друг у друга славу наиболее остроумного собеседника. Роджер скоро перерос их остроумие, но беседы их были ему нужны. Эти беседы не отличались ни содержательностью, ни тонкостью психологических наблюдений, но они обогащали его словарь. Разговор обычно вертелся вокруг выпивки (в голове муть после вчерашнего перебора), женщин (жадны, воображают о себе невесть что, ох, и разделал же их Шопенгауэр), политики (что творится в муниципалитете, водят население за нос), редакторов (такому долго не уцелеть — слетит), литературы (Омар Хайям — нет и не было поэта лучше), философии (полковник Роберт Дж. Ингерсолл — столп оной), чикагских богатеев (посади свинью за стол, она и ноги на стол), религии (балаган, опиум для народа), венерических болезней (в Гэри, штат Индиана, объявился, говорят, врач, который творит чудеса). Роджер получил у Краусса немало щелчков по самолюбию. Первое время собратья просто не желали замечать его рост как журналиста. Провинциальный юнец, невежественный, безграмотный — откуда вдруг такие успехи? Пошла молва, что за него пишет кто-то другой, может быть даже не одна «кто-то». Но к июню 1904 года безосновательность таких утверждений сделалась очевидной. И тогда снисходительное третирование перешло в острую неприязнь. Дважды Роджер припер к стене очередного противника и потребовал, чтобы тот взял обратно сказанные слова. Кончилось тем, что у Краусса к нему перестали относиться как к своему. Но еще до того, как лишиться этой высокой чести, он успел завести друга, близость с которым пошла ему на пользу. Патриарх и Нестор крауссовского застолья, Томас Гаррисон Спидол, «Т.Г.», принял его в качестве человека, перед которым можно упражняться в красноречии, поучать его и помыкать им.
Т.Г. был нигилистом. Одно время он состоял в двух клубах — анархистов и нигилистов, и там и тут выступая с речами, которые вызывали сперва восторг, потом все усиливающееся недоумение и наконец полную ярость аудитории. Из обоих клубов его в конце концов выгнали — и но заслугам. С одной стороны, он красноречиво показывал необходимость упразднения всех и всяческих политических и общественных институтов, с другой же — не упускал случая поиздеваться над дерзновенностью революционной мечты. Его авторитет среди собратьев репортеров основывался на непримиримости, с которой он готов был все отвергать, и еще на том обстоятельстве, что он выступал не часто. В сорок пять лет достигнув положения старейшины, он напоминал английского дога среди беспородных щенят. У него было тонкое лицо, изрезанное морщинами, и все в синих точках, похожих на следы пороха. Родители его были циркачи; когда ему сравнялось пять лет, стало ясно, что акробата из него не получится, и он был отдан в деревню на воспитание. Воспитатели били его, секли, запирали в темный чулан, случалось, ошпаривали кипятком и никогда не кормили досыта. История его детства была историей побегов, скитаний, воровства для бродяжьих шаек, отбывания сроков в исправительных заведениях, потом какое-то время он снова жил в приемышах у фермеров, иногда добрых, иногда злых, потом снова ударялся в бега. Чем только не зарабатывал он на пропитание! Пристраивался в балаганы на сельских ярмарках, давал сеансы гипноза. Пробовал даже свои силы в качестве знахаря-врачевателя. На одном общественном сборище в Кентукки ему удалось исцелить трех больных, и эти чудесные исцеления привели толпу в такое восторженное неистовство, что он насилу унес ноги. Больше он за такие дела никогда не брался. В конце концов он попал репортером в газету и на том успокоился; работа эта не принуждала к сидячему образу жизни, позволяла всегда выкроить время, чтоб пропустить стаканчик, не требовала непрерывного усилия мысли и создавала лестную иллюзию всеведения. Т.Г. был женат три или четыре раза. Нередко у подъезда редакции или в пивной Краусса его дожидался ребенок, а то и двое. Вели себя дети примерно — все жены Т.Г. были женщины незаурядные, такими же оказались впоследствии и его дочери. Человеку пьющему трудно выкроить много десятицентовых монет, получая двенадцать долларов в неделю. Но зато разговаривал Т.Г. со своими детьми всегда серьезно и неотразимо ласково. (Презрительный тон он приберегал для тех, с кем был знаком покороче.) И дети уходили довольные; в сущности, им ведь только и нужно было, что взглянуть ни родного отца.
Была у Т.Г. одна мучительная тайна. Дело и том, что он написал несколько драм и стихах. И дни своего трудного детства и отрочества он ухитрялся много читать. На беду он не столько читал книги, сколько вчитывал в их содержание самого себя. Надолго отрешаться от собственной персоны Т.Г. не умел. Он так и не дочитал до конца «Исповедь» Руссо или даже «Анну Каренину» — чересчур велика была сумятица чувств, разбуженных в нем этим чтением. То же происходило и с музыкой — он был ее жертвой. Звуки оркестра лишали его воли и мужества. Еще мальчишкой он подолгу простаивал, притаившись у раскрытых окон, откуда слышалось пение или игра на музыкальных инструментах. Он даже прокрадывался иногда в церковь во время службы. Он не отличал хорошую музыку от дурной — разве что самая низкопробная действовала на него сильнее. Одна из его драм была озаглавлена «Абеляр», другая — «Ланселот»; само собой разумеется, не обошлось и без «Люцифера». Ни одного своего сочинения он не дописал и ни одной написанной строчки не прочел никому.
Дружба Т.Г. и Роджера напоминала вооруженное перемирие. Каждый из них нуждался в другом. Т.Г. нужен был неискушенный слушатель, способный воспринимать его доктрины и по его примеру освобождаться от всяких иллюзий. Новообращение Роджера стало его задачей. А Роджеру нужны были поучения старшего собеседника: они оттачивали, кристаллизовали его незрелую еще мизантропию. В самом начале их знакомства Т.Г. пролил бальзам на его душу, изобразив общество как бутафорский фасад, за которым укрываются хищники, паразиты, самовлюбленные павлины, змеи и скорпионы. Роджеру предстояло многому научиться, но и забыть многое из того, что он знал. Эти двое помогали друг другу и в прямом, практическом смысле. Работали они в разных газетах. Побывав врозь на судебном процессе, боксерском матче или политическом митинге, они потом обменивались сделанными в блокнотах заметками. Если Т.Г. был в запое, Роджер писал два отчета об одном происшествии или событии и один отдавал другу. Однако если что и вносило в их отношения некоторую напряженность, то не столько ниспровергательский или порой скабрезный характер речей Т.Г., сколько ругань и оскорбления, с которыми Роджеру приходилось мириться. Т.Г. приходил в бешенство от всякой реплики, содержавшей ссылку на моральные ценности или хоть чуточку отдававшей идеализмом. «Ах ты дерьмо! Ах ты сопляк! Ах ты безмозглое ничтожество! Да у тебя ни одной мысли в голове нет! Она у тебя забита обломками коултаунского угля да соломенной трухой с гумна твоей бабушки!» Тут Роджер вставал, с минуту молча глядел в глаза собеседнику, потом, отшвырнув стул ногой, направлялся к двери. Но Т.Г. окликал его, нехотя бормотал какие-то извинения, и перемирие снова входило в силу.
Членов семейства Эшли нелегко было оскорбить или унизить. Они в таких случаях не сосредоточивались на испытанной обиде, а стремились понять причины злобы и враждебности обидчика. Лили в начале ее карьеры не раз освистывали на европейских оперных сценах; она спокойно ждала, когда в шуме и крике можно будет уловить преобладающее мнение, а после спектакля старалась выяснить для себя, чем, собственно, было вызвано неудовольствие публики. Констанс не принимали во многих частных домах, ей, случалось, отказывали даже в гостиничном номере. Она говорила мысленно: «Люди прежде позволяют себе роскошь возмутиться, а потом уже начинают рассуждать. Самые мои верные последователи начинали как злейшие мои враги. Но отчего это так?» Долготерпение Роджера объяснялось, кроме прочего, тем, что он упорно искал ответа на вопрос: почему все мы поступаем именно так, как поступаем, — все, неудачники и счастливчики, агрессоры и покорные жертвы? Он не мог отделаться от пугающей мысли, что представление человека об истине — всего лишь крохотное окошечко в крохотном домике. Так стоило ли принимать близко к сердцу какие-то личные обиды, отвлекаясь от решения важных проблем бытия?
ИЮНЬ, 1904
— Ты что ж, не знаешь, почему твой отец строил из себя дурака, а? Не знаешь, почему весь процесс был разыгран, как скверный водевиль? Да потому, что ваш Коултаун и все его жители были в чаду ядовитых испарений, поднимающихся из-под земли. Может, ты и того не знаешь, что заработная плата шахтера в Коултауне ниже, чем где бы то ни было в Штатах?
— Нет.
— Что даже шахтеры Кентукки и Западной Виргинии благодарят бога, что работают не на коултаунских шахтах?
— Нет.
— Ну а твой отец знал?
— Едва ли.
— Да полно меня морочить! Что ж он, по-твоему, жил во сне? Факты всегда остаются фактами. Там у вас чуть не в каждой шахтерской семье по полдюжины ребятишек, а то и больше. Если у шахтера семья невелика, он еще может сменить место, поискать, где платят побольше. Малосемейные так и поступают. А когда у тебя семеро детей, тут уж податься некуда. Да еще если ты по уши в долгу у компании за все, что приходится покупать в поселковой лавке. По материалам Бюро Эммы Голдмен, коултаунские шахты стоят на последнем месте в стране по условиям труда и оплаты. Каким-нибудь разнесчастным батракам и то лучше, чем рабочим, в которых вцепилась мертвой хваткой компания твоего отца.
— Мой отец никакого касательства не имел к политике компа…
— Заткни хайло! Никто ни к чему не имеет касательства. Восемнадцать миллионов прибыли в год извлекались из Коултауна, из Дохинеса, из Блэк-Вэлли-хиллз. Куда они шли, эти восемнадцать миллионов? В Питтсбург и в Нью-Йорк, вот куда. На покупку яхт. На покупку бриллиантов актрискам. На постоянную ложу в опере. На постоянные места в церкви. А что тем временем происходило в Коултауне? Джо начал кашлять кровью. «Сожалеем, Джо, но держать тебя больше не можем; ты уже одной йогой в могиле». А в Дохинесе шестьдесят три человека задохлись под землей. Пятьдесят одна вдова. Около трехсот малолетних сирот. «Сожалеем, друзья! Несчастный случай, ничего не поделаешь. От души сожалеем! На все воля божья. Будем уповать, что в другой раз такое не повторится!» Обратил ты внимание, как мало нашлось охотников замолвить за твоего отца доброе слово? Я изъездил тогда всю округу, хотел взять интервью о суде у кого-нибудь из местных. «Какой суд?», «Над кем?», «Из-за чего?» Где несправедливость, там всегда и страх. А где страх, там и трусость. Но первые звенья этой цепочки надо искать дальше: где деньги, там и несправедливость.
— В Коултауне богачей нет, Т.Г. Мой отец никогда не был богат.
— Придержи свой дурацкий язык! Твоего отца богачи держали на поводке. Ты ведь происходишь из среднего класса общества, так? Иначе сказать — из пресмыкающегося класса. Ты даже не умеешь правильно употреблять слова «богатый» и «бедный». Вас в семье было шестеро. По две пары обуви у каждого было?
— Было.
— Мясо вы каждый день ели, так? А то, может, и по два раза в день. Трепло несчастное! Да тебе рассуждать о бедности — это все равно что слепому китайцу описывать Ниагарский водопад. Запомни мои слова! Только тот смеет говорить о бедности, кто ее испытал на себе.
— По настоянию моего отца компания построила клуб для шахтеров.
— Ну еще бы! Я так и предполагал. Запомни: благотворительность — шлагбаум на пути к достижению социальной справедливости. Благотворительность — как отравленный дождь с неба; она пагубна и для дающего, и для принимающего.
— Как это понимать, Т.Г.?
— Ты, кажется, был на прошлой неделе в цирке? Сходи-ка туда еще раз. Попроси, чтоб тебя впустили в львиную клетку в час кормления львов. И попробуй вырвать из пасти льва кус конины, в которую он уже запустил зубы. Это возможно. Вполне возможно — только прежде понадобится убить льва. Вот так же и богач относится к своей собственности. Пойми это хорошенько. Еще не бывало случая, чтоб богач отдал хотя бы грош без пользы для себя. Не бывало и не будет. Если он расстается с небольшой суммой денег, значит, рассчитывает на том нажить много больше. Паук выпускает из себя клейкую нить ровно на такое количество паутины, какое нужно, чтобы попались несколько мух, нужных на прокорм его и его ближних; богач же ткет, и ткет, и ткет свою паутину, не зная удержу. Его не остановишь. Уже весь его дом полон этой паутиной. Все его банковские сейфы ею полны — и притом, в отличие от паука, он не из себя выпускает нить, а добывает ее из чужих внутренностей, чужих легких, чужих глазных яблок. Ты скажешь, на крохи, упавшие со стола богачей, строятся церкви, библиотеки. Церкви! Цистерны с успокоительным сиропом! Нет союза тесней, чем у банкиров со священнослужителями. Пусть бедняк довольствуется той участью, которую богу было угодно ему уготовить. На то божья воля, чтобы он всю свою жизнь промаялся в шахте или над швейной манишкой. Запомни, Трент: бедняк обязан воровать! Густое ядовитое облако висит над Чикаго. Его видно каждому. Неравное распределение благ — вот чем образовано это облако. Его удушливые поры травят младенцев в колыбели. Оно оскверняет домашний очаг. От него так темно во Дворце правосудия, что за два шага невозможно разглядеть истину. Собственность — самое священное и этом мире. Священней, чем совесть. Дороже, чем доброе имя женщины. И никто никогда не пытался определить суть этого столь важного понятия. Собственность может быть незаработанной, незаслуженной, приобретенной грабежом или вымогательством, ею можно злоупотреблять, растрачивать ее попусту — от этого не изменится ни на йоту ее священный, ее божественный характер. Когда-то за кражу буханки хлеба человека вздергивали на виселице. Теперь этого не делают; теперь ломают его жизнь и уродуют жизнь его детей. Я однажды был приговорен к восьми месяцам тюрьмы за то, что украл велосипед — игрушку маленького богача. Но мне удалось бежать и украсть еще один. Потому что мне нужен был велосипед. Слушай меня, Трент: нас ждет землетрясение. Не два-три подземных толчка, от которых у миссис Кобблстоун свалится картина со стены. Не какой-нибудь пустяк, но нечто огромное, от чего весь мир пойдет кувырком. Потому что не только под Коултауном прогнила земля — прогнил весь земной шар. Слишком долго мы слушаем эти россказни про священную собственность. Уже даже школьники начинают понимать правду. Нас ждет…
У него тряслись руки. Он встал, дико озираясь по сторонам:
— Я что-то разволновался. Пойду к Корали.
ИЮЛЬ, 1904
— Это ты писал? Напечатано в твоей газете.
— Что именно?
— «Шестеро маляров работали в люльке, красили фасад здания в чикагском порту. Из-за неисправности оборудования люлька загорелась». Ты писал?
— Да, я.
«Трое рабочих получили смертельные ожоги. Остальные трое упали в воду и утонули. Строительная компания Магилвэйни великодушно взяла на себя все расходы по погребению погибших». ВЕЛИКОДУШНО! О чем ты думал, когда писал это? Впрочем, я забыл — ты ведь вообще никогда не думаешь. Написав слово «великодушно», ты должен был тут же пойти и удавиться. Но ты теперь член Чикагского хорового общества, распевающего песни во славу богачей. Строительная компания не позаботилась об исправности оборудования. Шестеро рабочих погибли. «Сожалеем, друзья. Несчастные случаи всегда возможны. На все божья воля. Будем уповать, что в другой раз это не повторится».
ИЮЛЬ, 1904
Т.Г. часто удавалось читать мысли Роджера, высказывать вслух то, чего сам Роджер не смел додумать до конца.
— Тебя, сопляка, испугало многолюдье Чикаго, верно? Тебе приходило на ум, что мир вообще перенаселен? И что самим людям лучше было бы, если бы по крайней мере половина их перемерла. Ай-ай-ай — добропорядочный молодой американец мысленно убивает людей. Не вздумай лгать мне, будто это не так! И слушай, что я тебе скажу. Все этим занимаются. Разве ты не радуешься про себя, читая, что где-то произошло крушение поезда, пожар, землетрясение? Конечно, радуешься. Больше места останется нам, уцелевшим. Больше останется пищи. Ради чего еще читают наши газеты? «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Потонуло экскурсионное судно со всеми, кто был на борту. Экстренный выпуск! Три цента. Читайте подробности в нашем экстренном выпуске!» И читают. И ужасаются. Такое несчастье! Но тихонький голосок внутри нашептывает: «А ведь в последнее время что-то тесно стало у кормушки». И в глазах довольный блеск: «Хорошо, меня там не было, на этом судне!» Побольше бы умирало! Побольше бы умирало! Живым ведь это приятно. Вот скоро разведется много автомобилей, то-то радость будет! Не описать словами! Особенно в праздничные дни… Но самое верное дело, конечно, воина. Во время испанской войны каждый американец с утра брался за газету в надежде, что всех этих распроклятых испанцев вчера уже наконец перебили. Каждый американец ел на завтрак убитых испанцев. Война чем хороша — она узаконивает убийство. Она дает право мистеру Джонсу и миссис Джонс вместе с Джонсом-младшим и милой крошкой Арабеллой Джонс выскочить из кустов с воплями: «Бей его!» Это называется — патриотизм. Во время войны люди ложились спать, обессилев за день от благородных проявлений патриотизма. Скажи, когда ты сидел в зале коултаунского суда, тебе не хотелось убить всех, кто теснился кругом?
— Хотелось.
— Спасибо за откровенность. А вся эта орава хотела убить твоего отца. И зачем — ради торжества справедливости? Чтобы преступник понес кару? Да ничего подобного! Всем им было в глубокой степени наплевать на усопшего Брекенриджа Лансинга. Я в этом убедился. Просто они хотели, прикрывшись именем закона, убрать твоего отца с дороги. Способность человека желать смерти ближнему своему поистине неисчерпаема. Только ты меня правильно пойми! Я вовсе не утверждаю, что все мы желаем смерти всем. Каждый из нас принадлежит к особому небольшому сообществу. Так вот, мы желаем смерти членам другого сообщества, а члены нашего пусть только но растут и не развиваются дальше. Этого муж желает жене и жена мужу; этого желает отец сыну и сын отцу.
Кстати об отцах. Тебе было семнадцать лет, когда твой отец бежал. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло! Запомни мои слова: всякий отец ненавидит своего сына. Ненавидит — и это первое! — оттого что знает: сын будет, посвистывая, греться на солнышке, а отцовские кости уже сгниют в земле. Под сыном, облапившим женщину, застонут пружины матраца, а отец будет кряхтеть в инвалидном кресле. Страшная мысль! Второе. Всякий отец боится: вдруг сын не так изгадит свою жизнь, как он сам ухитрился изгадить свою. Нестерпима мысль, что вот этот, кого ты знал сосунком в мокрых пеленках, несмышленышем-малолеткой, прыщеватым юнцом, вечным источником беспокойства, — этот самый сумеет добиться большего, чем добился ты. Нестерпима! А поскольку никому никогда не удавалось обрести удовлетворенность и счастье внутри себя, там, где складывается истинная оценка прожитой жизни, исключений нет и быть не может. Не было еще в мире такого отца, чей совет и поддержка помогли бы сыну смелее мыслить и творить. Какое там! Папаша, исходя потом, заламывая руки, уговаривает сына не спешить, соблюдать осторожность, держаться всегда середины дороги. И это именуется отеческой любовью. Всем известно, что семейная жизнь — вечный ад; а если ты хочешь увидеть пример гармоничной семейной жизни, ступай в зоопарк. Полюбуйся на львов, тигров, медведей. Вот они любят своих детенышей. Любят по-настоящему. Нет прелестнее зрелища, чем пара львят, резвящихся у самой морды папы; а рядом мама, делая вид, будто дремлет, одним глазом косится на детей, а другим — на омерзительные двуногие существа за стальными прутьями клетки. Единственный раз, когда в человеке просыпается истинная родительская любовь, это когда одного из детей принесут домой на носилках. Тогда сказывается атавистический животный инстинкт. Матери надрываются от горя, но причина их горя — прежде всего сознание, что они не умели своевременно дать своим отпрыскам настоящую любовь. Видишь ли, Трент, когда человеку дарован был разум, это перепутало все на свете. Вместе с разумом пришло представление о будущем и о конечности бытия. Человек — это животное, которое сеет хлеб, откладывает деньги и знает, что впереди у него старость и смерть.
Да, мир перенаселен. У природы одна забота: создать на земле как можно более плотный слой протоплазмы — растений, рыб, насекомых, животных. Случалось ли тебе видеть поле, сплошь покрытое муравейниками? С биллионами, триллионами муравьев. Или наблюдать нашествие саранчи? Природа не слишком расчетлива. Ей дела нет, хватит ли пищи для всех нас или не хватит. Ей только бы заполнять сцену актерами, и чем их больше, тем лучше. Оттого мы и обречены умирать. Кто больше не может производить потомство, тот уже не нужен. «Еще порцию жареного картофеля, миссис Кэйси». Природа словно одержима вечным страхом, как бы не прервался этот грандиозный и бессмысленный процесс созидания. Вот и множатся в мире рыбешки и деревца, блохи и суслики, и Эшли. «Еще порцию жареного картофеля, миссис Кэйси».
Что-что? Что ты такое говоришь? Слушай лучше меня: нет никакого смысла в устройстве вселенной. Нет плана. Не потому рождаются люди, что это нужно. Растет трава; рождаются дети. Таковы факты. Тысячелетиями люди пытались найти истолкование этим фактам: жизнь дана нам во испытание; награда и кара ждут после смерти; во всем промысел божий; рай аллаха с прекрасными гуриями для всех; буддистская нирвана — это хотя бы понятно — означает: «ничего не видеть, ничего не чувствовать»; эволюция, высшие формы, улучшение социальных условий, страна Утопия, летательные аппараты, неразвязывающиеся шнурки для ботинок — все гниль, тополиный пух, дунул, и нет его! Вбей это себе покрепче в башку!
Миллиарды людей верили и верят в действенное влияние солнца, луны, планет. Миллионы смеются над этими верованиями. Миллионы верят, что отдельные люди отмечены покровительством того или иного светила по выбору, часто случайному, ошибочному, даже нелепому — но неоспоримому. Дети Солнца наделены чертами Аполлона, ведущего хоровод муз, обладающего даром исцелять, очищать светом, разгонять туман, пророчествовать; таков Томас Гаррисон Спидел.
Дети Сатурна тоже влияют порой на ход человеческой жизни.
Большую часть дня Роджер проводил, бродя по Чикаго и по его окрестностям. Но время от времени он появлялся на своем месте в шумной комнате отдела городской хроники, куда к нему приходили посетители — одному требовалась заметка, популяризующая благотворительное начинание, другому — некролог об умершем родственнике (Роджер отлично писал некрологи), третьему — объявление о пропаже любимой собачки. Некоторые приходили просто выразить свое одобрение или возмущение. Однажды, когда он уже собирался уйти из отдела, к его столу подошел почтенный мужчина с бородой, в котором он узнал известного адвоката Авраама Биттнера.
— Мистер Фрезир?
— Да, это я, мистер Биттнер. Садитесь, пожалуйста.
Мистер Биттнер уселся, неторопливо стянул перчатки и молча уставился на Роджера.
— Чем могу быть вам полезен, мистер Биттнер?
Мистер Биттнер поигрывал агатовым брелоком, свисавшим с его цепочки от часов. Взгляд Роджера невольно привлекла надпись, вырезанная на обеих сторонах камня. Заметив это, мистер Биттнер вытащил часы вместе с цепочкой и брелоком и положил на стол перед Роджером. Тот нагнулся, пытаясь прочесть надпись, а мистер Биттнер все так же молча смотрел на него.
— Это по-гречески, мистер Биттнер?
— По-древнееврейски.
Роджер поднял глаза с немым вопросом.
— Слова, вырезанные здесь, — девиз общества, к которому я принадлежу. Я пришел к вам в качестве представителя этого общества.
— Что же это за слова, сэр?
— У вас есть тут в комнате Библия?
— Была, да кто-то унес.
— В вашей Библии вы найдете их в Книге пророка Исайи, глава сороковая, стих третий: «Прямыми сделайте в степи стези богу нашему».
— Можно я возьму это в руки, мистер Биттнер?
— Возьмите. Итак, я пришел в качестве представителя общества, в частности его руководящего комитета, который состоит из двенадцати человек. В знак уважения ко всему, что вы делаете для города Чикаго, комитет хочет позаботиться об удобствах вашего существования. — Он сделал паузу. — Вы живете в Терстон-хаус, комната номер четыреста сорок один. Ваши два окна выходят на улицу, где шум не утихает до поздней ночи, а рано утром еще усиливается. А виден из них только кирпичный брандмауэр товарного склада Коуэна. Верно?
— Верно, мистер Биттнер.
— Так вот, комитет решил предоставить вам в пользование квартиру на четвертом этаже дома номер 16 по Боуэн-стрит сроком на три года за плату один доллар в год. Четыре из окон квартиры выходят на озеро. Предложение это делается без каких-либо оговорок или условий. Оно продиктовано исключительно заботой о вашем благополучии и дальнейшей полезной деятельности. Вы можете переехать сейчас же. Вот ключи. Вот расписка, где вы поставите свою подпись.
Роджер все смотрел на него не мигая. Наконец он раскрыл рот, готовясь заговорить, но мистер Биттнер предостерегающе поднял руку.
— Имена членов комитета останутся для вас неизвестны. Никаких благодарностей им не нужно. Десятеро из двенадцати — люди состоятельные, очень состоятельные. Они чикагцы. Они любят свой город. Они рады сделать все возможное для того, чтоб Чикаго стал величайшим, прекраснейшим, цивилизованнейшим городом в мире, самым близким к гуманистическому идеалу. Их усилиями в городе увеличена площадь парков, сооружены фонтаны, расширены улицы. Они щедро жертвуют на университеты, больницы, приюты, на помощь бывшим заключенным. Вы в своих статьях призывали сажать деревья. Комитет насадил новые дубовые аллеи в парках и не раз препятствовал вырубке старых. — Он понизил голос; легкая улыбка тронула его губы — так улыбается человек, сообщая тайну другому, кого он считает способным оценить ее важность. — Они мечтают, что здесь когда-нибудь будет новый, свободный Иерусалим. Или новые Афины… Вы, мистер Фрезир, делаете то, чего никто, кроме вас, делать не может. Вы с участием писали о чикагцах иностранного происхождения. Вы научили многих сыновей и дочерей больше уважать своих престарелых родителей. Вы привлекли внимание читателей газет к прискорбным явлениям, которые они в силах искоренить. Все это вы делали, используя свои средства. Наш комитет опасается одного: как бы вы вдруг не захотели уехать из Чикаго и продолжать свою плодотворную деятельность в Нью-Йорке или в другом каком-нибудь городе.
Он медленным движением водворил на место часы и брелок.
Распахнулась дверь в кабинет главного редактора. Старый Хиксон появился на пороге с пачкой желтых листков в руке и сердито закричал:
— Трент! Трент! Эту сентиментальную ерунду мы печатать не будем! Кого, к черту, интересует старая кляча, когда-то возившая конку? Нельзя ли найти тему повеселее? Жизни побольше, жизни!
Тут только он заметил, что Роджер беседует с посетителем солидного вида. Он вернулся в свой кабинет, с силой хлопнув дверью.
Роджер накрыл ключи рукой.
— Я вам очень признателен, мистер Биттнер, за ваши добрые слова. Я признателен также членам вашего комитета. Но я… мне как-то непривычно получать подарки. Извините меня, мистер Биттнер, таков уж я есть. — Он тихонько пододвинул ключи к тому краю стола, где сидел мистер Биттнер. — Спасибо, и простите меня.
Мистер Биттнер встал и с улыбкой протянул Роджеру руку.
— В ноябре я зайду к вам опять.
Два вечера спустя Роджер, выйдя из дому, направился по указанному адресу на Боуэн-стрит. В четвертом этаже не видно было света. Не он легко представил себе расположение комнат по соответствующей квартире первого этажа, где окна были раскрыты и освещены. Софи имела бы здесь свою отдельную комнату, мать могла бы приезжать в гости. Он долго стоял и смотрел на озеро. Ему только-только исполнилось девятнадцать лет. Эта квартира подошла бы вполне взрослому человеку. А он еще не хотел быть вполне взрослым. В ноябре мистер Биттнер повторил свое предложение и снова получил отказ. Эшли не принимают подарков. Но у Роджера осталось смутное, глубоко внутри притаившееся чувство, что кто-то мудрый и добрый следит за его судьбой. Люди, которые сняли с его отца наручники и дали ему лошадь, тоже себя не назвали.
Он попытался припомнить надпись, вырезанную на агате… что-то о степи… о стезях…
От чикагского архиепископа пришло письмо, в котором он благодарил Трента за очерк об открытии приюта св. Казимира. В письме говорилось также, что «Чепец Флоренс Найтингейл» он послал своей сестре, заведующей большой больницей в Тюрингии. После появления очередной «изюминки» Роджера, где описан был крестный ход в одной чикагской церкви накануне для ее святого патрона («Тысяча огоньков, тысяча голосов»), пришло новое письмо с приглашением к обеду. Роджер предпочитал уклоняться от приглашений особ богатых и влиятельных («Не переношу застольных разговоров» — так он говорил себе), но из письма можно было понять, что, кроме него, гостей не ожидается. Роджер обещал быть.
Молодой священник, отворивший Роджеру дверь, вытаращил глаза от удивления. Им не раз приходилось встречаться в больнице.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, отец Берс.
Они пожали друг другу руки.
— Э-э… Вы по какому-то делу из больницы?
— Нет. Архиепископ Крюгер пригласил меня обедать.
— О, входите, пожалуйста… Но — вы уверены, что не ошиблись днем? Сегодня архиепископ ждет к обеду одного человека, который пишет в газетах.
— Это я и есть.
— По фамилии Фрезир.
— Именно так.
Роджер привык к подобным недоразумениям.
Архиепископу говорили, что Трент молод. Он предполагал встретить человека лет сорока. А Роджер предполагал встретить внушительной наружности прелата. И тот и другой ошиблись. Архиепископ оказался сгорбленным старичком, у него был странный скрипучий голос (точно сверчок стрекочет, отметил мысленно Роджер) — последствие горловой операции. Обоим присущ был такт в обращении с людьми: Роджеру особенно со старыми, архиепископу особенно с молодыми. Архиепископ наслаждался, развлекался и умилялся. Роджер наслаждался и умилялся.
— Вы с отцом Берсом были знакомы раньше? Я так понял, услышав ваш разговор в прихожей.
— Да, отец мой. Мы часто встречались в больнице на Южной стороне. Я там работал санитаром.
— Вот как! — Архиепископ — когда был хорошо настроен — любил пересыпать разговор невнятными бормотаниями вроде «Ну-ну», «В самом деле?», «Скажите на милость».
Мурлыча себе под нос, приподняв подбородок, приходившийся чуть ли не ниже уровня плеч, старик повел гостя в столовую. Там он произнес несколько слов по-латыни, перекрестился и, воздев обе руки, пригласил Роджера сесть.
— Очень любезно с вашей стороны… гм-гм… что вы, человек занятой, дали мне эту возможность выразить удовольствие… неизъяснимое удовольствие… которое я получил от ваших исполненных участия и понимания отчетов о… Почтенные монахини из общины святой Елизаветы… пришли в восторг… да-да, в восторг… читая ваш рассказ о выпускных экзаменах молоденьких сестер милосердия. Вы умеете видеть… да, видеть то, чего не видят другие. Вы не просто сообщаете нам что-то новое, вы расширяете наш кругозор. Именно, именно так.
Роджер рассмеялся. Он смеялся редко, и больше тогда, когда никаких поводов для смеха не было. А сейчас он смеялся, потому что заметил веселые искорки, которые то вспыхивали, то гасли в глазах хозяина дома. Он вдруг подумал, как хорошо, наверно, иметь то, чего у него никогда не было, — дедушку.
Была пятница, только что начался великий пост. Им подали по чашке супа из овощей, форель, картофель, немного вина и хлебный пудинг. С Роджером произошло еще нечто для него необычное. Он разговорился. Он подробно стал отвечать на вопросы хозяина. А тот расспрашивал о его детстве.
— Мое настоящее имя — Роджер Эшли. Я родился в Коултауне, у южной границы штата.
Он сделал паузу. Архиепископ, затаив дыхание, молча смотрел ему в глаза.
— Вы ничего не слыхали о суде над Джоном Эшли и о его побеге, отец мой?
— Слыхал в свое время… Но буду вам благодарен, если вы освежите мою память.
Рассказ Роджера длился целых десять минут. Архиепископ прервал его лишь однажды — чтоб позвонить в ручной колокольчик.
— Миссис Киган, будьте добры принести мистеру Фрезиру еще форель… У вас, у молодежи, хороший аппетит. Я этого не забыл. И доешьте, пожалуйста, свой картофель.
— Благодарю, — сказал Роджер.
— А теперь я готов слушать вас дальше, мистер Фрезир.
Когда Роджер кончил говорить, архиепископ с минуту глядел молча на картину, висевшую на стене за спиной гостя. Невнятного бормотания давно не было слышно. Наконец он сказал вполголоса:
— Удивительнейшая история, мистер Фрезир. И вы так и не знаете, кто были эти люди, освободившие вашего батюшку?
— Нет, отец мой.
— Даже не догадываетесь?
— Нет, отец мой.
— А что сейчас делает ваша добрая матушка?
— Она содержит в Коултауне меблированные комнаты со столом.
Пауза.
— И вы ничего… никакой весточки не получали от отца за все это… почти за два года?
— Нет, отец мой.
Пауза.
— Ваши родители — протестанты?
— Да. Отец возил нас по воскресеньям в методистскую церковь. И еще мы посещали воскресную школу.
— А дома… Простите, дома у вас не принято было читать молитвы?
— Нет, отец мой. Родители никогда не заговаривали о подобных вещах.
— Вы решили стать писателем? Думаете посвятить этому всю свою жизнь?
— Нет, отец мой. Я пишу только для того, чтобы зарабатывать деньги.
— А какую же вы намерены избрать для себя профессию?
— Сам еще пока не знаю. — Роджер медленно поднял взгляд, так, что он встретился со взглядом старика. — Отец мой, — сказал он почти шепотом, — мне кажется, у вас есть что сказать по поводу всего происшедшего в Коултауне.
— Да?.. Вы так думаете?.. Мистер Фрезир, вы мне рассказали необыкновенную историю. Необыкновенен и сам ваш рассказ о ней. Необыкновенно поведение вашего отца. Но то, что мне представляется столь необыкновенным во всем этом, ускользает, быть может, от вашего взгляда.
Роджер выжидательно молчал.
— Чтобы сделать более попятной свою мысль, позвольте и мне рассказать вам одну историю. Просто одну историю. Много лет назад в одной из южных провинций Китая вспыхнула вдруг непримиримая вражда к иностранцам. Многих живших там иностранцев убили. А весь персонал нашей миссии был захвачен в плен — епископ, четыре священника, шесть монахинь и двое китайцев-слуг. Все, кроме этих слуг, были немцы. Их рассадили поодиночке в тесные камеры в длинном низком глинобитном бараке. Общаться друг с другом им было запрещено. То одного, то другого уводили и подвергали пыткам. Каждый ждал со дня на день, что ему отрубят голову. Но по каким-то причинам казнь все откладывалась, и через несколько лет всех выпустили на свободу. Вы меня слышите?
— Да, отец мой.
— Епископ помещался в средней из тринадцати камер. Как вы думаете, мистер Фрезир, что он стал делать, попав в заключение?
Роджер на минуту задумался.
— Он… он, верно, начал перестукиваться с соседями, высчитал порядковый номер каждой буквы алфавита.
Архиепископ пришел в восторг. Он встал, подошел к стене и быстро отстучал сперва пять ударов, потом еще пять, потом два.
Снова Роджер на минуту задумался.
— «L», — сказал он.
— В немецком алфавите «I» и «J» считаются как одна буква.
— Тогда «М», — сказал Роджер.
Архиепископ возвратился на место.
— Делать это можно было только глубокой ночью, и слышен был стук только в камере рядом. И вот в ночной тишине стали передаваться из камеры в камеру слова любви, мужества, меры. Я не сказал вам, что обоих узников-китайцев тюремщики посадили в крайние камеры. Их предварительно ослепили, чтобы они не пытались бежать, воспользовавшись местоположением своих камер. Эти китайцы исповедовали христианство и понимали по-немецки, но не умели ни читать, ни писать. А китайских иероглифов не передашь стуком в стену. Как же, по-вашему, епископ сносился с этими людьми?
— Ума не приложу как, отец мой.
— Китайцы все очень музыкальны. Вот он и научил их непосредственных соседей отстукивать на стене ритмы известных им псалмов и простейших молитв — как «Отче наш», например. И они поняли и ответными стуками выразили свою радость. Они больше не чувствовали себя одинокими и забытыми. Но шло время, несколько заключенных умерли. Часть камер опустела, и в цепочке общения образовались разрывы. Потом в пустые камеры китайцы посадили других узников — торговца шелками из Англии, американского бизнесмена и его жену. Они по-немецки не понимали. Но епископ немного знал английский язык и немного — французский. Он стал передавать по цепочке послания на этих языках и в конце концов получил ответ по-английски. Тогда он обратился к новичкам с просьбой передавать дальше то, что им станут выстукивать по-немецки, заверив, что то будут лишь слова религиозного утешения. Для них выделили особое время. Американцы дали понять, что им нет дела до религиозных материй, но через восемь камер, разделявших их, муж ободрял жену, а жена мужа. Сколько же теперь человек передавали другим слова, которых не понимали сами?
— Все, кроме епископа.
— За первые месяцы в тюрьме из-за голода, помутившегося сознания и разных других причин узники-немцы потеряли счет дням. Английский торговец вернул им представление о месяцах, числах, неделях. Теперь они снова могли соблюдать воскресенья, пасху и прочие праздники — весь тот календарь, что размеряет наш шаг и греет радостью душу. Но вот опустела еще одна камера. В нее попал португалец, лавочник из Макау. Он говорил только по-португальски, по-испански и на кантонском диалекте. Но он оказался человеком добрым и сообразительным. Ночи напролет он отстукивал налево то, что слышал справа, и направо то, что слышал слева. Может быть, он думал, что его товарищи по заключению сговариваются о побеге — о том, как убить дежурного тюремщика и поджечь караульное помещение. Как вам кажется?
Роджер помедлил с ответом.
— Пожалуй, ели бы он думал так, ему бы за несколько недель надоело его занятие.
— Зачем я вам рассказал эту историю, мистер Фрезир?
— Вы хотели сказать, что мои мать и отец похожи на этого португальца.
— Мы все на него похожи. И вы, мистер Фрезир. Надеюсь, что и я тоже. Жизнь полна тайн, недоступных нашему ограниченному разуму. Ваши родители сталкивались с этим, как и вы и я. Мы передаем другим (надеемся, что передаем) многое, чего сами не можем оценить во всем его значении.
Пауза.
— Это на самом деле было, отец мой?
— Разумеется. Мне довелось беседовать с одной из тех монахинь.
— Какой она вам показалась, отец мой?
— Какой она мне показалась?.. Видите ли… Нет большего счастья для человека, чем получить подтверждение своей веры — пусть в самом незначительном ее проявлении, — веры в приют святого Казимира, в чью-то дружбу, в прочность и целостность одной семьи. Сестра Бенедикта была счастлива.
Роджер подумал про себя: «Может быть, и мой отец счастлив».
Уже прощаясь, Роджер испросил у архиепископа разрешение пересказать рассказанную им историю своим читателям. Месяц спустя она появилась в газете под заголовком «Стучите в стену». В конце был рисунок: прерывистый ряд вертикальных штрихов, похожий на ломаную изгородь. Тысячи жителей Чикаго пытались прочитать зашифрованную в нем фразу. Получалось нечто «УТИТЕ НЕ ЕНУ». Статью перепечатали в самых отдаленных концах страны. И даже за океаном.
Ледяной пласт, намерзший на сердце Роджера, понемногу подтаивал, или скажем так: стальные чешуйки его брони начали распадаться. Знакомство с несколькими молодыми женщинами и девушками помогло ему разомкнуть круг одиночества, в котором он жил.
Детей из семьи Эшли привыкли считать «скороспелками». Из четверых трое уже к двадцати четырем годам успели составить себе имя. По сути дела, все они чуть запаздывали в своем физическом и духовном развитии, но, когда годы наконец брали свое, упущенное наверстывалось основательно и прочно.
Работа заставляла Роджера целыми днями носиться по городу («Точно жук-плавунец в пруду», — говорил о нем Т.Г.). На банкетах, спортивных матчах, всякого рода празднествах он встречал много молодых женщин, большей частью одних и тех же. Особенный интерес вызывали в нем те из них, что были иной национальности, цвета кожи, принадлежали к иным слоям общества. Были они постарше его, жили самостоятельно, иногда сами держали служащих. В начале века это еще не стало привычным явлением. Они были из первых в своем роде, и респектабельные дамы смотрели на них косо. Роджер любил вступать с ними в продолжительные разговоры. Говорили преимущественно они, но он был таким внимательным, таким заинтересованным слушателем, что у них создавалось впечатление, будто и они многое вынесли из беседы. Они были не похожи на других молодых женщин, он был не похож на других молодых людей. Лишь много спустя Роджер сумел осознать все, чему научили его Деметрия, Руби и остальные. Лишь сколько-то лет спустя он понял, что общение с ними избавило его от опасных порой самозапретов. Неисповедимы пути полового отбора. Все эти молодые женщины были энергичны, предприимчивы и, главное, самостоятельны. Но для него существовала только одна — белокурая, высокого роста. Он боролся со своим воображением, старался — но настоятельной необходимости — изгнать из него победительный образ женщины, которую он так страстно любил, и, не встретив ответа, убедил себя, что никогда не будет любим и сам никогда больше не полюбит. Ни одна из его новых приятельниц не походила на его мать.
Деметрия была гречанка, но с примесью турецкой и ливанской крови, широкобедрая, живая, веселая и непреклонная в деловых вопросах. Ей было двадцать шесть лет; как и Роджер, она быстро сумела пробиться в Чикаго. Начала она в четырнадцать лет с того, что по двенадцать часов в день пришивала цветы к шляпкам в потогонной мастерской; в шестнадцать сделалась старшей мастерицей, в двадцать — закупщицей материалов и агентом по сбыту продукции. Когда ей исполнился двадцать один, она открыла свою потогонную мастерскую. В мастерской шили уродливые домашние платья, спрос на которые постоянно возрастал. По воскресеньям она ездила навещать своего ребенка, воспитывавшегося на ферме близ Джолиета. Там и познакомился с нею Роджер. (Так возник очерк Трента («Стойла для младенцев».) Мадам Анн-Мари Бланш, из провинции Квебек, маленькая, пухленькая, вся розово-золотистая, официальный возраст — двадцать девять, была устроительницей свадеб и поминок, а также съездов патриотических обществ и других подобных организаций. Как-то после очередного банкета Роджер — старый специалист ресторанного дела — пошел на кухню помочь упаковать в большие корзины с крышками серебро и посуду. При нем мадам Бланш расплачивалась со своей армией поваров и официантов. Он но заслугам оценил ее административный талант, и от нее это не укрылось. Она предложила ему посидеть, выпить чашечку кофе; наконец-то ей можно снять туфли и отдохнуть. Она страдала бессонницей и потому не спешила возвращаться домой. Он отважился ей заметить, что блюда, которые у нее подавались к столу, были не слишком аппетитны. Она расхохоталась в ответ: «Вы правы, конечно, но им-то нравится! Мне, мистер Фрезир, нужно только одно: деньги. Если вы хоть на пять минут — всего пять минут, мистер Фрезир, — дадите себе труд задуматься о жизни женщины, вам станет ясно, что прежде всего ей нужны деньги. Все равно, девушка она, мужняя жена или вдовица. Конечно, если это женщина разумная». Ей известно было, что он «тот самый Трент»; она постоянно читала и вырезала из газет его сочинения. Она страдала, кроме бессонницы, жгучей потребностью рассказать кому-нибудь историю своей жизни — но кому на этом свете охота слушать? И вот, сперва понемногу, а потом с устрашающей быстротой, Роджер узнал, что есть две разные Анн-Мари: бойкая деловая женщина, вся розово-золотистая, толстушка и хохотушка, и совсем юная робкая девушка, боящаяся смерти и ада, замученная воспоминаниями о трудном детстве, истосковавшаяся по человеческому слову, человеческому участию, человеческой близости. Дальше выяснилось, что для подкрепления сил она привыкла на ночь выпивать полбутылочки creme de menthe[78]. Не прошло и часу, как она бросилась в его объятия в порыве страха, доверия и признательности. Роджер в своей наивности даже не испугался; впрочем, не для того ли мы являемся в этот мир, чтобы приобретать опыт и приносить пользу? Лорадель, двадцатисемилетняя негритянка, была совладелицей «Танцзала Дикси для избранного общества», где также выступала с песенками. Роджер время от времени заглядывал в это заведение часу во втором утра — послушать, как Лорадель исполняет «Не пой ты, пташка, для меня» и «Бреду по водам я бесстрашно».
Руби Моррис, японка, двадцати шести лет, родилась на Гаванских островах. Ее удочерила чета миссионеров и увезла с собой в Америку. Американская система образования настолько пошла ей на пользу, что она скоро обогнала своих приемных родителей, учителей и разных сентиментальных благодетельниц — всех тех, кто, продолжая видеть в ней только хорошенькую куколку, умилялся ее успехам. Она отреклась от христианства, выучила вновь японский язык, стала последовательницей буддизма и решила начать самостоятельную жизнь. При поддержке немноголюдной японской общины Чикаго она открыла магазин, где продавалась всякая антикварная мелочь, кимоно и безделушки для подарков. Дела у нее шли отлично.
Своим любовным связям Роджер отдавался с неистовством, близким к ярости. Одно время их было у него несколько, так что даже богатырский запас здоровья, отпущенный всем Эшли, мог оказаться под угрозой. Впрочем, этот период распутства кончился почти так же внезапно, как и начался, и притом вполне мирно. Во всем соблюдался принцип сохранения независимости. Он никогда ничего не обещал и никогда ничего не требовал. Деметрия и Руби готовы были стирать его белье; Анн-Мари и Лорадель — покупать рубашки и обувь; и Руби и Анн-Мари предлагали ему жилье; но даже тень зависимости его отпугивала.
Все они догадывались: тут что-то не так, он не просто стремится удовлетворить свою чувственность или свое тщеславие. Они знали также, что он честен, но что-то в его жизни «неладно», хоть и неизвестно что. Сам того не зная, он обращался к их чуткости; сам того не зная, он открывал им возможность служения. А взамен предлагал им удивительный дар — в его пылкости было много неведения, любопытства, жажды открытий. Желали их многие, он их слушал, а это для них было ново.
Лорадель:
— Я тебя сразу замечала, как только ты приходил и садился в темном углу. Ты от меня не прятался, юноша. Я знаю, ты слушал мое пение. А когда я кончала, ты подходил, говорил что-нибудь любезное и клал двадцать центов на тарелочку. Я ничего никогда не забываю. А потом ты написал в газете про наш «Танцзал» и про мои песенки, к нам стали приходить белые люди, и пришлось даже поставить еще восемь столиков… Ты что, лопоухий, опять заснул?
— Нет-нет, я все слышу, что ты говоришь, Лорадель.
— Хочешь спать — спи… Ох, мужчины!.. Но когда я прочитала насчет того, что такой хорошей певице, как я, незачем петь песенки дурного вкуса, я просто взбесилась! Я даже не поняла, что это значит. Стала спрашивать у людей — говорят, это значит: вульгарные, пошлые, неприличные! Ох, я и взбесилась! Нужен мне твой дерьмовый вкус. На следующий вечер, когда ты появился, я хотела подойти к твоему столику и сказать: убирайся вон вместе со своим дерьмовым вкусом! Нам тут такие фу-ты ну-ты ни к чему. Вот тебе!.. Вот тебе!..
— Перестань меня колотить, Лорадель!
— Запомни: я всегда буду петь только о любви и о своей религии, больше ни о чем. И у вас разрешения спрашивать не намерена, мистер Тонкийвкус. Ладно, ты, писака, прости, что я тебя разок-другой стукнула. Ничего не повредила, надеюсь? И не стыдно тебе — лежишь тут, похожий на недочищенную редиску… Эх вы, жители срединных штатов, вы ведь и в глаза не видали океана! Ты знаешь, откуда я родом?
— Знаю.
— Ничего ты не знаешь. Я родом с острова близ берегов Джорджии, где только креветки, когда их сварят, бывают такого цвета, как ты. В Чикаго тоже иногда жарко светит солнце, но разве ж это настоящее солнце? В нем соли нет, в этом солнце. Слизняк пресноводный, вот ты кто.
— Лорадель, ты меня задушишь…
— Дурной вкус, слыхали? Вот что я тебе скажу. Вообрази на минутку, что в мире на сто дней прекратилась любовь! Ну вообрази, сделай удовольствие своей Лорадель. Что же происходит? Люди ползают по улицам, словно у них позвоночник из студня. Даже дети не прыгают через веревочку. Представь себе: входит покупательница в обувной магазин, спрашивает туфли, а продавец ей: «Туфли, мэм? Ах да, туфли — позвольте, а есть ли у нас туфли?» А какие у людей сделались глаза — пустые, как дырки, прожженные в картоне. Птицы так и валятся на землю, крылья перестали держать их. У деревьев обвисли ветви, и они стали похожи на старух, больных женскими болезнями. И тут проснется господь. Глянет с небес и воскликнет: «Это что ж делается на земле? Немедленно положить этому конец! И долой мистера Трента с его дерьмовым вкусом!»
Роджер соскользнул на пол, на колени, и пытался обнять ее. Она отбивалась, хохота, с царственной уверенностью в себе.
— «Сейчас же принимайтесь опять любить, сучьи дети, пока мир окончательно не остыл!» Вот о чем мои песни. Понял теперь?
— Лорадель, какая ты большая — как дом!
— И чтоб больше ты не морочил мне голову насчет того, что вульгарно, а что не вульгарно. Не тебе меня учить!
Все еще смеясь, она ногой пригнула его голову к полу.
— Пошел вон, щелкопер! Угораздило же меня связаться с этой бледной немочью.
— Ну бей, бей, Лорадель, бей, сколько хочешь.
— Ладно, лезь обратно в постель, хватит валять дурака. Коленки занозишь… Слушай, я ведь тебе рассказывала, через что мне пришлось пройти в моей жизни?
— Рассказывала.
— Так вот, если человек прошел через такое и уцелел — уж он понимает что к чему.
— Расскажи мне про своего дедушку Димуса.
— Подожди — я с тобой еще не все счеты свела.
— В чем же я еще провинился, Лорадель?
— Мистер Трент — я хочу сказать, мистер Фрезир, — вы оскорбили мои лучшие чувства, и я вам этого никогда не забуду. И вы сами знаете чем. — Роджер молчал. — Я вам послала в подарок пальто, а вы мне его отослали обратно. Порядочные люди так не поступают.
— Лорадель!
— Ну что «Лорадель, Лорадель»? Все равно ты меня не любишь.
— Лорадель, я не мог поступить иначе.
— Когда люди любят друг друга, деньги для них не имеют значения. Любовь убивает деньги. Я люблю делать подарки, мистер Трент. Был бы у меня миллион долларов, я бы вам подарила… шнурки для ботинок. Зачем ты отослал мне обратно пальто? Видеть не могу, как ты одет. Какое-то пугало воронье.
— Но плачь, Лорадель. Не надо плакать.
— Ты ведь мне тоже сделал подарок — подлинный пригласительный билет на похороны Авраама Линкольна.
— Но я же не покупал этот билет. Мне его дали. Одна старая дама дала мне его в благодарность за мою статью.
— А ты его отдал мне — не пожалел и отдал.
— Не надо плакать, Лорадель. Каждый из нас таков, каков есть, и тут уж ничего не поделаешь.
— А все-таки…
— Лорадель, я должен хоть немного поспать. Мне завтра с раннего утра нужно в муниципалитет. Спой мне, и я засну под твою песенку.
— Что же спеть тебе, мальчуган? Может быть, «Порой мне так грустно, словно я сирота»?
— Нет, только не это.
— Хорошо, я спою тебе песню, которой никогда раньше не пела. Песню на языке моего родного острова близ берегов Джорджии. Про то, зачем господь бог ракушки сотворил.
И Руби:
— Что это ты про себя шепчешь. Руби?
— Спи, Трент. Я читаю Писание Лотоса.
— Я не хочу спать. Я хочу держать твою руку и слушать тебя.
— Шш… Шш…
— А зачем это внизу прибивают над дверью новую вывеску, Руби?
— Я меняю свое имя и меняю название магазина. Я уже два года собиралась это сделать, но нужно было дождаться, когда прочно наладятся дела. Завтра великий день для меня, Трент. Прошу тебя, очень прошу никогда больше не называть меня Руби. Мое имя — Идзуми.
Целуя копчики ее пальцев, он повторил:
— Идзуми, Идзуми.
В своем мягко струящемся кимоно она легко соскочила с кровати и опустилась на колени. Слегка поклонилась ему, словно благодаря за любезность.
— Ты первый назвал меня моим новый именем, Трент.
— А что означает это имя — Идзуми?
— Слыхал ты когда-нибудь об учении, согласно которому люди, умирая, рождаются вновь и вновь?
— Столько раз, сколько песчинок на дне реки Ганг.
— Трент!
— И все мы либо восходим по широкой лестнице, ведущей к порогу блаженства, либо катимся вниз, увлекая и других за собой.
— Трент!
— А иногда сами становимся чем-то вроде Будды. Я забыл только, как это называется.
Она приложила два пальца к его губам.
— Госпожа Идзуми была поэтесса. И потому, что она писала прекрасные стихи и наизусть знала Писание Лотоса, она стала Бодисатвой.
— А ты тоже в это веришь, Идзуми, — что люди рождаются вновь и вновь?
Она опять приложила к его губам палец.
— Мы зовем этот мир Пылающим Домом.
— Как-как?
— Мы рождаемся вновь и вновь в надежде, что когда-нибудь придет день, и мы вырвемся из Пылающего Дома.
— Ты стоишь на самом верху лестницы, Идзуми.
Она выпрямилась, словно ее оскорбили. Потом положила голову на подушку, затылком к нему.
— А как узнать, стоит человек на верхних ступенях или на нижних? Если это хороший человек, значит, он стоит высоко, да?
— Никогда не говори «хороший». Говори «свободный». Я стою почти в самом низу лестницы, Трент.
— Ты?!
— Да. Есть много такого, что тянет меня вниз.
— Быть не может! Ну что например, Идзуми?
Костяшками согнутых пальцев она постучала себя между грудями.
— Вот здесь у меня гнойная язва.
— Руби! Руби! Идзуми!
— Злоба тянет меня вниз. Гнев тянет. Я не могу простить людям, которые мне желали добра. Они висят на мне всей своей тяжестью. А почему я испытываю к ним злобу? Это были невежественные, темные люди. Они были христиане. Вот уж кто жил в Пылающем Доме! Им в угоду я стала дрянной, лживой, фальшивой девчонкой. Они украли у меня детство украли отрочество. Вот видишь, как я полна злобы. Спи, Трент. Мне нужно дочитать Писание Лотоса.
— А еще что тебя тянет вниз, Идзуми?
Опять она повернулась к нему затылком. Шепнула, не поднимая головы с подушки:
— Ты.
— Неправда! — Он схватил ее за руку. — Скажи, что это неправда.
Приподнявшись на локте, она сказала:
— Вот ты, Трент, ты стоишь где-то на самом верху.
— Я? Ты сама не знаешь, что говоришь!
— Ты не привязан к вещам. Не гонишься за богатством или славой. Не стремишься подавлять людей своей властью. Не гордишься. Никому не завидуешь. Никого не ненавидишь. Ты сумел освободить себя от всего дурного, что было в твоей карме. Когда я тебя встретила, я сразу подумала: может быть, этот человек — Бодисатва. Но, узнав тебя ближе, я увидела, что ты все же умеешь быть и злым, это еще осталось в тебе, в твоей карме.
— А что такое карма, Идзуми?
— Это бремя судьбы, которую мы создали для себя за все тысячи наших прошлых жизней.
Он обошел вокруг кровати и, став на колени с ее стороны, приблизил свое лицо к ее лицу.
— Да, я тяну тебя вниз. Я не помогаю тебе подниматься по широкой лестнице выше.
— Не будь нетерпелив, Трент. Нетерпение еще никому не помогло вырваться из Пылающего Дома. А ты, кажется, поможешь мне простить людей, которые мне желали только добра. Ну, теперь спи.
— Хорошо.
Она снова зашептала священный текст.
— Переведи мне, Идзуми, те слова, которые ты сейчас произносила.
— Я как раз дошла до того места, где говорится о возродившихся растениях.
— Как, разве и растения попадают в рай?
— Трент, Трент! Все живое есть часть великого Единства природы. Ты ведь сам это знаешь. Иначе ты не мог бы так хорошо писать о животных. И о том, что нужно сажать дубравы. Все мы — часть великого Единства.
Понемногу бурление страстей улеглось. Если бывали в кармане деньги, он приглашал одну из своих подруг в ресторан. И сколько они рассказывали ему, как наслаждались его готовностью слушать! А он все чаще смеялся — вместе с ними, над ними, над собой.
Интерес Роджера к опере шел на спад. Теперь он пристрастился к чтению, и книги утоляли его жажду героического и благородного. Но все же он иногда посещал оперу, если пел кто-нибудь из любимых артистов.
Был конец весны 1905 года. После спектакля Роджер стоял невдалеке от главных дверей и смотрел, как расходится публика. Его внимание привлекла очень красивая молодая женщина, поджидавшая кого-то у мраморной колонны. Он ее замечал и раньше; она всегда сидела в одной из лож с господином и дамой почтенных лет и приятной наружности; он решил, что это ее родители. В тот вечер, о котором идет речь, матери в ложе не было. А отец задержался при выходе с окликнувшим его знакомым. Молодая женщина только что водрузила на голову огромную шляпу. Элегантная, туго затянутая в корсет, она сразу бросалась в глаза, но, как видно, привыкла к восхищенным взглядам, и минутное одиночество ее не смущало. Она умела смотреть как бы сквозь обращенные к ней лица. Рукой в перчатке она расправляла доходившую до подбородка вуаль, другая рука машинально играла концом страусового боа, накинутого на плечи. Женщины этого типа Роджеру никогда не нравились. Но его с первого раза заинтересовало что-то в ее облике: казалось, самоуверенность несла ее, точно крутая волна.
И вдруг он узнал свою сестру Лили.
Подошел ее спутник, и они вдвоем вышли из театра. Роджер последовал за ними. Им, видно, было недалеко. До него доносились обрывки итальянских фраз. Он слышал смех сестры — раньше она так смеяться не умела, ее смех разливался на целых полторы октавы, звенел но всей улице. Они подошли к серому каменному дому с медной табличкой у дверей: «Пансион для молодых дам Джозефы Каррингтон Джонс». Лили вынула из сумочки ключ и, прежде чем подняться на крыльцо, горячо поблагодарила своего спутника. Тот пошел дальше, напевая себе под нос. Когда Лили уже вставила ключ в замок, Роджер тихо окликнул ее по имени.
— Простите?
— Лили, это я — Роджер.
Она слетела вниз на крыльях своей широкой мантильи и бросилась ему на шею.
— Роджер! Милый, дорогой Роджер! Господи, как ты вырос! Господи, как ты похож на папу!.. Я должна познакомить тебя с маэстро Лаури, моим учителем пения. Мы с ним только что простились на этом самом месте.
Давно ли он в Чикаго? Что он тут делает? Господи, до чего ж он похож на отца — их прекрасного, удивительного отца!
— Может быть, зайдем куда-нибудь выпить чашку кофе? В этот дом после шести часов мужчинам вход запрещен. Подожди меня здесь, я только переоденусь… Нет, прежде я тебя еще раз поцелую. Роджер, что же это за чудеса такие произошли со всеми нами? — Она было побежала вверх по ступеням крыльца, но на середине остановилась и повернулась к нему. — Роджер, у меня есть маленький сын — он такая прелесть, такая прелесть. Роджер, мама очень сердилась, когда я убежала из дому? Я не могла иначе, Роджер. Я должна была вырваться из Коултауна. И я никогда туда не вернусь — никогда в жизни. Я маме каждый месяц посылаю деньги.
— Мне это известно.
— Скоро смогу посылать больше — много-много.
Полчаса спустя они сидели в немецком ресторанчике неподалеку. Лили была похожа на мать и на Констанс. А Роджер — на отца и на Софи. Первые минуты они больше друг друга разглядывали, чем слушали. И опять — эти переливы смеха.
— У меня ребенок — самый красивый мальчик на свете, — а я и не замужем.
— Смех. Она подняла руку к показала ему золотой обручик на пальце. — Купила у ростовщика в лавке. Я теперь — миссис Хелена Темпл. А мальчика зовут Джой Темпл. Он воспитывается в одной итальянской семье, где его любят без памяти. Уж и не знаю, когда он хоть немного научится говорить по-английски.
Роджер давно усвоил себе истину: меньше расспрашивай, больше узнаешь.
— Вчера я встретила на улице его отца. Он меня ненавидит. — Смех. — За то, что он меня бил.
— Что-о?
— Ну, два раза ударил. Я смеялась над ним, вот он меня и ударил. Мужчины не выносят, когда над ними смеются. Он все пытался разучивать со мной немыслимо идиотские песенки. Ему хотелось, чтобы я вместе с ним выступала на эстраде. Чтобы ногой сбивала цилиндр с его головы. Представляешь? (Смех.) Но в общем по-своему он совсем неплохой человек! И я всегда буду благодарна ему за то, что он познакомил меня с маэстро Лаури… Я спела две песни из тех, что певала в Коултауне, и маэстро сказал, что я — та ученица, о которой он мечтал всю свою жизнь. Я ему каждый месяц пишу расписку на число взятых уроков и, когда стану зарабатывать больше, начну постепенно возвращать долг. Я пою на свадьбах и на похоронах, а по воскресеньям пою утром в епископальной церкви, а вечером — в пресвитерианской. Похоронные бюро приглашают меня пять, а то и шесть раз в неделю — «Ave, Maria» Шуберта. Пятнадцать долларов — не хотите, не надо. Я не стану петь «Знаю сад, где розы дремлют». Я крепкий орешек, Роджер! Свадьба? Пожалуйста: «Куда ни ступишь ты» Генделя — пятнадцать долларов. А вот «О, дай мне слово» петь не стану. Многие возмущаются мной, но работы хватает… А у тебя какая работа, Роджер?
— Потом расскажу. Когда же ты разошлась с отцом твоего малыша?
— После того, как он меня ударил второй раз. Это случилось в душном гостиничном номере. Он захотел, чтобы я разучила песню и танец под названием «Канкан по-кентуккийски». Представляешь? Я сказала, что и не подумаю, и стала над ним смеяться. Тогда он меня ударил. Больно ударил. И тут же заплакал. Он ведь и в самом деле по-своему меня любил. Потом он ушел, а я выкрала его аметистовый перстень и отправилась в этот пансион для служащих молодых женщин. Сперва я туда нанялась мыть посуду и помогать на кухне. Но там быстро увидели, что в пансионском хозяйстве я разбираюсь лучше их. Мне предложили место экономки. Потом пришел срок, и в католической больнице я родила своего прелестного малыша. В больнице мне очень нравилось. Я пела товаркам по палате. Я пела, даже когда начались роды. И доктор и все сестры смеялись. Так он и родился, мой Джованнино, под смех и вопли и моцартовское «Аллилуйя». Он у меня семимесячный, но здоровый, как я сама. Мне бы хотелось иметь еще сотню мальчишек и девчонок — таких же красавцев и молодцов, как Джанни.
Роджер не мог отвести глаз от лица сестры. У матери их была прекрасная улыбка, но смеялась она редко — почти никогда.
— Ну, обо мне довольно. Расскажи, чем занимаешься ты?
— Пишу в газетах.
— Ах, как хорошо! Как хорошо! Со временем, может быть, станешь таким, как Трент. Ты когда-нибудь читал Трента?
— Да.
— Я храню вырезки всех его статей. Некоторые даже посылала маме. Маэстро о них самого высокого мнения, а синьора Лаури даже завела для них особый альбом.
— Лили, Трент — это я.
— Трент — это ты! Трент — это ты! О, Роджер, как бы тобой гордился папа!
Днем позже маэстро устраивал у себя музыкальный вечер. Он хотел представить друзьям трех своих учеников, в том числе и Лили. Роджер всегда знал, что у рассеянной мечтательницы Лили чудесный голос. Поразило его теперь благородство ее исполнения. Глубина и мощь. Стекла звенели в оконных рамах от страстных излияний счастья или горя. Он подумал: «Как будет гордиться мама!»
Роджер сделался общим любимцем в доме маэстро. Синьора Лаури приняла его в число своих сыновей, которых было трое живых, да еще двое умерли в детстве. Она сажала его рядом с собой на парадных обедах, которыми с миланским размахом — девять блюд! — отмечались семейные праздники, именины кого-либо из друзей и дни рождения Гарибальди, Верди, Манцони.
Маэстро было под семьдесят. Много лет назад он очутился в Нью-Йорке после банкротства оперной труппы, где он был помощником дирижера и хормейстером, а также заменял в случае надобности заболевшего баритона. Потом его пригласили в Чикаго преподавать пение в одном музыкальном училище, но и это предприятие скоро лопнуло. Он, однако, никуда не уехал, начал давать уроки и преуспел на этом поприще. Раз в пять лет все семейство отправлялось в Милан навестить родственников. Маэстро был высокого роста, худой, с фельдфебельской выправкой. Всегда изысканно одевался. Взбивал кок надо лбом, фабрил и помадил усы. Выражением лица он напоминал укротителя львов, у которого звери то и дело выходят из повиновения: глаза его часто метали молнии. Синьоре Лаури приходилось нелегко. На ней он вымещал все, что мешало ему жить. Она была леностью его учеников, расстройством его пищеварения; из-за нее три дня кряду шел снег, а термометр показывал сто четыре градуса. Но в то же время он решительно во всем зависел от нее. Умри она, он превратился бы в сварливого старого кривляку — старого и с пустой душой. Иногда в нем накапливалась бессильная ярость против житейских обстоятельств — и происходил взрыв. Он осыпал жену язвительными упреками, кричал, что она загубила его жизнь — вместе со своей кучей детей, не приученных уважать родного отца. Она в ответ только вздергивала подбородок, но от ее взгляда могла бы засохнуть виноградная лоза. Эти необходимые ему ссоры сильно отдавали оперной сценой; примирения были величественные и сопровождались обильным пролитием слез. Синьора Лаури относилась к ним философски. Такова семейная жизнь. Зато у нее есть дом, обручальное кольцо на пальце и она произвела на свет десятерых детей. Если что и огорчало ее, то лишь неверности мужа и ее собственная необъятная толщина. Однажды она показала Роджеру, своему новому сыну, фотографию, снятую с портрета кисти известного современного художника. «Оригинал, — объяснила она, — находится в одной из картинных галерей Рима…» На портрете прелестная девушка лет шестнадцати стояла у парапета над озером Комо. Роджер вопросительно поднял глава; она покраснела и чуть заметно кивнула головой. «La vita, la vita»[79].
Маэстро говорил на нескольких языках с точным выговором учителя пения и с удовольствием человека, для которого всякий язык сам по себе — плод художественного творчества. Он завел привычку после обеда уводить Роджера в свой кабинет — поговорить по душам. Лили и его дочери пробовали увязываться за ними, но получили суровый отказ: будет «мужской разговор», и им тут делать нечего.
Так в жизнь Роджера вошел новый Сатурн.
Что есть искусство?
Роджер ценил искусство очень невысоко. Он его вдосталь насмотрелся в Чикаго. Как репортеру, ему случалось бывать в богатых домах (свадьбы, самоубийства) и в самых лучших борделях (драки с увечьями); и там и тут было полно произведений искусства — лампы в виде бронзовых женских фигур, картины с изображением раздевающихся купальщиц. Еще на картинах часто встречались стада коров и монахи, рассматривающие на свет вино и бокалах. Было много искусства и в католических церквах. Но чаще всего искусство занималось красивыми женщинами.
— Произведения искусства, мистер Фрезир, — единственный ценный результат цивилизации. История сама но себе ничем похвалиться не может. История — это цепь неудачных попыток человека вырваться из пут собственной порочной природы. Те, кто в ней усматривают прогресс, заблуждаются так же, как те, кому она представляется постепенным вырождением. Несколько шагов вперед, несколько шагов назад, вот и все. Человеческая природа, подобно океану, вечна и неизменна. Сегодня штиль, завтра буря — но океан остается океаном. И человек таков, каков он есть, каким был и каким останется навсегда. Ну, а как же с произведениями искусства?
Позвольте, я расскажу вам кое-что из своей жизни. Семья наша издавна жила в Монце, небольшом городке близ Милана. Однажды моя мать решила поехать с нами, детьми, в Милан и сводить нас в знаменитую галерею Брера. Мать повсюду брала с собой старую служанку семьи, которую мы, дети, называли тетушкой Наниной. Тетушка Нанина никогда не бывала в картинной галерее, ей бы это и в голову не пришло. Такие места для богатых господ, для тех, кто умеет читать и писать, у кого с языка не сходит l'arte[80]. И что же! Вот уж поистине чудеса — в галерее Брера, среди бесчисленных мадонн и святых семейств, тетушка Нанина чувствовала себя как дома. Хлопотливо крестилась, преклоняла колени, вскакивала с колен, бормотала молитвы. Назвала ли бы тетушка Нанина окружавшие ее картины красивыми? Наверно, только ведь мы, итальянцы, произносим слово «bello»[81] четыреста раз на дню. А в картинах было для нее нечто куда важней красоты. В них было могущество.
— Я вас не совсем понимаю, маэстро.
— Вот увидела она на стене пресвятую деву. Однажды мы всей семьей — которая была и ее семьей — ехали на небольшом пароходишке по озеру Комо. Вдруг поднялась сильная буря. Казалось, спасенья нам нет. Но кто стал твердить молитвы с энергией динамомашины большого океанского лайнера? Тетушка Нанина. И богоматерь рассеяла тучи и своими святыми руками благополучно довела пароходик до берега. Не это ли могущество? А на другой стене был святой Иосиф. Однажды, когда мне было семь лет, у меня в горле застряла рыбья кость. Я давился. Я весь посинел. Но святой Иосиф вытащил кость из моего горла. Тетушка Нанина чувствовала могущество этих высоких особ каждый день и каждый час — как чувствовали его моя мать и мой дядя, а моя жена и дочери чувствуют по сей день.
Я в бога не верю. Я убежден, что и превознесенная в веках Мария из Назарета, и родственники ее давно уже превратились в прах, как миллиарды других умерших. Но их образы, запечатленные людьми, — величайшее достижение человечества.
Вы в этой комнате не в первый раз. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите?
— Вашу коллекцию, маэстро. Картины, скульптуры…
— В бога я не верю, но я люблю богов. Все эти изваяния и картины были созданы, чтобы запечатлеть могущество, о котором я говорил, более того — чтобы заставить людей почувствовать его. Каждая из собранных тут вещей в свое время внушала любовь, или страх, или трепетную надежду, а чаще и то, и другое, и третье вместе. Ни одна не была сделана просто для украшения. Вот взгляните — это из Мексики… Великие близнецы. Около трех тысяч лет пролежали они в соленой морской воде после кораблекрушения. К ним были обращены последние молитвы моряков… А вот африканская маска, ее надевали, чтобы плясать в честь победы или дождя… Вот драгоценная гемма. Поднесите ее к свету. На ней вырезан Меркурий — Гермес (греков), — ведущий душу умершей женщины к Елисейским полям. Есть в этом красота?
— Есть.
— А могущество?
С минуту Роджер внимательно всматривался, потом сказал:
— Тоже.
— А вот кхмерская головка из Ангкор-Вата — обратите внимание на эти полузакрытые глаза, эти губы, которые никогда не устанут улыбаться.
— Это Будда, — отрывисто бросил Роджер.
— Кто сочтет все молитвы, обращенные к богам, которых нот? Человек сам создавал для себя источники помощи, когда помощи ждать было неоткуда, и источники утешения, когда неоткуда было ждать утешения. И возникали вещи, какие вы видите здесь, — единственно ценное, что нам дала культура.
Священно искусство, Священны песни.
Берегите их, ибо ничто не вечно.
В дверь постучали: маэстро просят к телефону. Отвернувшись от картин и скульптур, Роджер подошел к окну, за которым сиял огнями город. «Что-то не совсем так и его рассуждениях, — думал он. — Какая-то есть ошибка. Я найду ее. Я должен ее найти».
По воскресеньям Роджер заходил за сестрой в церковь, где она пела. Они шли вместе обедать в ресторан «Старый Гейдельберг», а потом ехали за город, туда, где жил маленький Джованнино. Ему в июле должно было исполниться девять месяцев, и он уже пробовал делать первые шаги и что-то лепетал по-итальянски. Он рос в окружении одних женщин, которые его обожали, и с бурным восторгом потянулся к новообретенному дяде. Как будто у него было инстинктивное представление, что только мужчина может научить другого мужчину ходить. Ползком он проделывал миль десять в день, но ползать ему явно надоело.
Воскресный обед в «Старом Гейдельберге» (июнь, 1905).
— Как я одеваюсь? Пиратским способом. Одна девушка из нашего пансиона служит в отделе готового платья у Тауна и Каррузерса. Я прихожу туда и начинаю примерять платья — одно, другое, третье. Она делает вид, будто мы незнакомы: «Да, мэм» и «Нет, мэм». А я воровски запоминаю фасоны, и дома мы мастерим себе платья сами. Материя, правда, очень дорого стоит, но нам известно место, где продаются фабричные остатки. В общем это даже превесело. Мы всем другим товаркам по пансиону тоже помогаем, а они помогают нам. Знаешь, Роджер, когда женщина одинока, она должна уметь изворачиваться, иначе не проживешь. (Так возникла новая «изюминка» Роджера, озаглавленная «Вам письмо, мисс Спенсер».) Иногда, Роджер, я просто с ума схожу от мысли, что я же ничего, в сущности, не знаю. Мне хотелось бы выучить все языки, какие только существуют на свете. Мне хотелось бы знать, какие мысли были у женщин тысячу лет назад, и что такое электричество, и как устроен телефон, и все про деньги, и про банки. Не понимаю, отчего папа не потрудился дать нам более приличное образование. Меня без конца приглашают то на обед, то на чашку чаю, а я постоянно отговариваюсь нездоровьем. Лучше посижу дома и почитаю. Даже когда мы заняты шитьем платьев, кто-нибудь всегда читает остальным вслух. Вчера вот мы работали до двенадцати часов ночи. Забились всемером в мою комнатушку и по очереди читали «Письма из Турции» одной англичанки. Скажи, а ты какие книги читаешь?
Другое воскресенье (июль).
— Да, я, конечно, буду выступать в опере, но мне это не по душе. Большинство оперных героинь — гусыни какие-то. Мне больше хочется давать концерты, петь в ораториях. Но я буду выступать в опере ради денег.
— Ты можешь достаточно зарабатывать, делая то, что тебе по душе. Зачем тебе больше?
Лили удивленно вскинула на него глаза:
— Как зачем? Для детей, которые у меня будут.
— Детей твой муж и один прокормит.
— Роджер! Я слышать не хочу ни о каких мужьях! У меня будет дюжина детей, и каждого из их отцов я буду любить, но замуж не выйду никогда. Брак — это обветшалый пережиток вроде рабовладения или верноподданнических чувств к королевской фамилии. Я уверена, что через сто лет никаких браков не будет. Да и не позавидовала бы я тому, кто стал бы моим мужем. Я слишком занята своим пением, и своими детьми, и книгами, из которых узнаю что-то новое, и своими планами… Сейчас вот есть у меня русый маленький поляк. А будет еще американец или даже два американца — близнецы. И девочка француженка. И мальчик испанец… И еще много других детей, приемных.
— В этом и заключаются твои планы?
Вместо ответа она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом. У нее была большая квадратная бархатная сумка, в которой она носила ноты. Раскрыв ее, она вынула пачку рисунков, похожих на архитектурные чертежи, и молча разложила перед ним на столе.
— Как ты думаешь, что это? — спросила она вполголоса.
Он всмотрелся.
— Больница? Школа?
Из той же сумки она достала альбом, на переплете которого была наклеена головка младенца Христа с «Сикстинской мадонны». Первые две страницы занимали портреты Фридриха Фребеля и Жана-Фредерика Оберлена. Дальше шли вырезанные из журналов и книг изображения больниц, приютов, отелей, вилл, площадок для игр — общий вид и строительные детали. Она рассмеялась, видя озадаченное выражение его лица. Посетители ресторана оглядывались и тоже смеялись.
— Это мой детский город. Я буду разъезжать по всему свету, исполняя роли дурацких Изольд и Норм, пока не соберу достаточно денег на строительство. — Смех. — У Изольды и муж, и возлюбленный, и все мысли ее только о любви, а о детях она и не поминает. А у Нормы есть дети, так она рыщет повсюду с кинжалом, чтобы их заколоть — просто назло их отцу. Строить хочу где-нибудь в Швейцарии, над озером, и чтобы кругом были горы. Посажу целую дубовую рощу, о какой мечтал папа. Сама стану подбирать учителей для школ. Может ли быть что-нибудь лучше! Слышишь детский смех? Теперь ты понимаешь, отчего у меня всегда радостно на душе?
— Твои планы дают тебе эту радость.
Иногда беседа не получалась. На Лили вдруг нападало желание воскресить в памяти годы, прожитые в «Вязах», поворошить «ту историю». Судила она обо всем резко, ничего не смягчая, Роджер еще не созрел для таких разговоров.
— Не будем об этом говорить, Лили.
— Хорошо, не будем, но должна же я разобраться для себя. Не знаю, как у вас, у мужчин, но девушка только тогда становится взрослой, когда научится видеть своих родителей без всяких прикрас.
— Прошу тебя, Лили, перемени тему.
Она молча, но выразительно на него посмотрела. И при этом подумала: «Мамина вина».
Еще одно воскресенье (август).
Роджер попросил сестру в следующий раз встретиться с ним не среди дня, а вечером.
— Вечером не могу, Роджер. Сразу же после вечерней службы я уезжаю с одним другом на его яхте. Из-за того, что по воскресеньям я работаю, нам приходится сдвигать свой уик-энд. Уезжать в воскресенье и возвращаться в город во вторник утром. А в понедельник он просто не является на работу. Он добрый друг, очень порядочный человек, и от него я узнала много интересного. У него замечательная коллекция картин и скульптур, и он всякий раз берет что-нибудь оттуда на яхту и еще прихватывает парочку толстых книг.
— Это не маэстро?
— Что ты, Роджер! Вот уж действительно! Нет, он куда моложе. И здоровей. И он американец. И очень богатый.
Еще воскресенье (в сентябре).
— Роджер, мне придется уехать в Нью-Йорк.
— Совсем?
— Да. Придется подыскать себе другого учителя пения. — Смех. — Дело в том, что у меня опять будет ребенок — двойня, как я надеюсь. Мне трудно все объяснить в пансионе и в церкви, так что, пожалуй, лучше, если я уеду.
Роджер ждал.
— Он, я думаю, рад будет от меня избавиться. Мужчины от меня устают — не потому, что я такая уж ведьма, а потому, что они меня не понимают. Им со мной неуютно. Я равнодушна к тому, чем большинство мужчин гордится и хвалится. Ему вот не понятно и даже обидно, что я ни разу не приняла от него хотя бы простенькой брошки. Пока близнецам не исполнится полтора года, я разрешу ему присылать мне деньги — в конце концов, это же и его дети отчасти! — Смех. — К тому же он уже поделился со мной почти всем, что знает сам… Слушай, Роджер, — оказывается, беременность очень полезна для голоса. Эти дни я пою так, как еще никогда в жизни не пела. Даже самой страшно!
— Лили, знаешь, что мне пришло в голову? Наш отец то ли на Аляске, то ли в Южной Америке, а может быть, в Австралии. Домой, в Коултаун, он не может писать; нам тоже не может, потому что ничего не знает про нас. Ты скоро прославишься. Может быть, и я тоже. Давай примем опять свою настоящую фамилию?
— Давай!
— А имя для большей верности возьмем не первое, а второе — благо оно довольно чудное и у тебя и у меня. Знаменитая певица Сколастика Эшли и восходящая звезда журналистики Бервин Эшли.
— Гениально! Просто гениально! — Она расцеловала брата. Потом в волнении дважды обошла вокруг столика. — Мне всегда была противна эта игра в прятки с вымышленными именами. Да, я — Сколастика Эшли, дочь осужденного преступника; и если кто сочтет, что мне в церкви не место, — обойдусь без церквей. Завтра же всем объявим!.. И может быть, скоро получим письмо от папы!
— Мне кажется, лучше подождать, пока пройдет твои концерт. Ни к чему, чтобы на первом твоем концерте публика таращила на тебя глаза по этой причине. А на следующий день объявим.
Программа концерта миссис Темпл была повторена десять дней спустя мисс Сколастикой Эшли, выступившей затем также в Милуоки, Мадисоне и Галене. Читателям статей Трента было сообщено, что отныне он будет подписывать их своим подлинным именем. Сенсационное это сообщение немного запоздало, и первая книга Бервина Эшли вышла в свет под названием «Трент смотрит на Чикаго». Лили звала мать приехать в Чикаго на ее концерт. В ответ пришло сердечное письмо с пожеланиями успеха. Дальше мать писала, что дела пансиона, к сожалению, в настоящее время не позволяют ей отлучиться.
— Роджер, сегодня можно поговорить о Коултауне?
— Говори.
— Папа не убивал мистера Лансинга. Не убивал даже случайно. Это сделал кто-то другой. Кто и как, не знаю, но у меня нет сомнений. Я прочла в публичной библиотеке все газетные отчеты — сотни страниц, тысячи слов. Все искала какой-нибудь нити, но не нашла. А ты найдешь. Наступит время, в ты все приведешь в ясность. Но знаешь, что меня поразило в этих отчетах? Как там на все лады расхваливается мистер Лансинг — и шахтами он управлял, и во всех клубах и ложах был главным. Но ты же знаешь, что это неправда. Он был отвратительный человек. Хвастун и пошляк, да еще и лентяй, ручаюсь. Мы все делали вид, что не замечаем этого, только из добрых чувств к миссис Лансинг. Роджер, у него наверняка были враги. Может, он бывал груб, а то и жесток с шахтерами?
Роджер слушал ее, не прерывая. Потом возразил задумчиво:
— Порки знал все, что делалось в городе. Он бы сказал мне.
— А теперь я тебе расскажу еще кое-что, чего не рассказывала никому, кроме мисс Дубковой.
И она рассказала ему об анонимных письмах.
— Все это дикая чушь. Папа бывал в Форт-Барри не чаще чем раз в год и всегда возвращался вечерним поездом. Но я теперь думаю, что многие в городе в эту чушь верили. Потому-то почти никого не нашлось, кто сказал бы о папе доброе слово или пришел бы навестить маму. И, наверно, миссис Лансинг тоже получала такие письма — они так и дышали злобой против нее… Но кто же убил, Роджер?
— И кто помог отцу бежать?
Первое воскресенье ноября.
— Лили, ты говори о коултаунских годах, говори все, что хочешь.
— Зачем же я буду говорить, если тебе это неприятно?
— Нет, я послушаю. Я могу не соглашаться с тобой, но я послушаю. Выкладывай!.. Кстати, ты как-то говорила — и даже с насмешкой, — что мама обожала отца. Идиотское выражение — обожала.
— Согласна. Но я не говорила с насмешкой. Это слишком серьезно. Я хочу наверстать пробелы в своем образовании, Роджер. Но мне кажется, человек, не вправе чему-нибудь учиться, пока он не научился понимать самого себя. А для этого, я уже тебе говорила, ему нужно правильно понимать своих родителей. Мама боготворила отца, и это мешало ей замечать, что происходит вокруг. У мамы много редких достоинств, но человек она странный.
— Как и ты.
Лили на полторы октавы рассыпала смех.
— И не я одна за этим столиком.
— Продолжай, больше не буду перебивать.
— Раз как-то, с полгода назад, маэстро выгнал из-за стола Адриану, свою младшую дочь. Только за то, что она назвала свои новые туфли божественными и сказала, что обожает их. «Это слова религиозного содержания и к туфлям неприменимы», — прикрикнул на нее отец. А потом, обращаясь ко мне, добавил: «И к человеческим существам тоже». И еще посоветовал мне держаться подальше от тех жен и мужей, которые обожают друг друга. «Это просто дети, не ставшие взрослыми, — сказал он. — Нельзя обожать человека. Древние иудеи были совершенно правы, осуждая идолопоклонство. Женщины, обожающие своих мужей, опутывают их тысячами тонких бечевок. Отнимают у них свободу. Убаюкивают и усыпляют. Это ведь так удобно — иметь своего карманного бога». Должна признаться, в тот день мое образование сильно подвинулось вперед.
Она глянула на брата. Лицо у него было суровое, замкнутое. Глаза смотрели сердито и хмуро, но он молчал.
— Сознаешь ли ты, что у мамы никогда не было друзей? Она вовсе не плохо относилась к миссис Лансинг. И к миссис Гиллиз, и к мисс Дубковой. Сотни, если не тысячи, часов провела она в их обществе. Только ей всегда было безразлично, существуют они или нет. Один только человек на свете не был ей безразличен — наш отец. Его она обожала. Я раз сказала маэстро, что большинство оперных героинь мне кажутся глупыми гусынями. Он ответил: «Так оно и есть. Опера всегда прославляет ненасытную собственническую страсть. Женщины на сцене совершают одну роковую ошибку за другой. Это гибельный водоворот, втягивающий неосторожных. Первыми погибают баритоны и басы — отцы, опекуны или братья; потом настает очередь тенора. А к половине одиннадцатого сама героиня сходит с ума, закалывается, прыгает в огонь шла лезет в петлю. В крайнем случае умирает своей смертью. Таков исход ее собственнической, эгоцентричной любви. Женщины в зале прольют немного слез, но по дороге к выходу уже будут обдумывать меню завтрашнего обеда». Отец любил маму, но не обожал. Он был счастлив, однако счастью его чего-то недоставало. После того, как, ты уехал и мама открыла пансион…
— Пансион открыла Софи.
— Да, ты прав. Собственно, это должна была сделать я, но у меня ума не хватило. Итак, Софи снова наняла миссис Свенсон для всякой домашней работы. Я часами просиживала с ней на кухне, помогала чистить картошку, шелушить фасоль и прочее в том же роде. А она болтала без умолку. Вот тогда я узнала кое-что о нашем отце. Вспомни, в котором часу у нас дома садились ужинать — в прежние годы, до убийства. Позже всех в городе, в половине седьмого. Мы все думали, что папа задерживался в шахтоуправлении. Ничего подобного, там он кончал работу в пять, но потом запрягал свою старую кобылу и объезжал шахтерский поселок. В один дом зайдет, в другой. Тут просто поговорит. Там что-нибудь починит. Прочистит трубу или дымоход. Выслушает рассказ о чьей-то беде. Кому-то одолжит денег. И ровно в половине седьмого он въезжал в ворота «Вязов». Но вот что интересно: он никогда не рассказывал матери о своих друзьях из поселка. Он не был скрытным по натуре. А не рассказывал потому, что знал: ей это будет неинтересно. Она не умела замечать то, что происходило вокруг, и… и не умела сочувствовать другим.
Роджер, ничего не ответив, вызвал официанта и расплатился. Они сели в трамвай; до предместья к юго-востоку от города, куда они направлялись, путь был неблизкий. Трамвай был переполнен. Ехали семейства чехов, венгров и поляков навестить родственников в районе сталелитейных заводов. Ехали семейства итальянцев навестить родственников в огородном Кодингтонском районе. Ехали другие чикагские семейства провести последний воскресный день осени в дюнах Индианы. Роджер стоял на площадке, что-то теснило ему грудь. Мелькали мимо каменные громады — для многих там был родной дом; потом пошли небольшие деревянные строения — и в каждом был тоже для кого-то родной дом. Потом потянулись фермы — ряды яблонь в саду, детские качели — еще семья, еще чей-то родной дом. Они сошли с трамвая в итальянском поселке; от остановки с полмили надо было пройти пешком — до поворота между аптекой имени Гарибальди и спортивной площадкой имени Виктора Эммануила. Роджер вздохнул свободнее. Он смотрел по сторонам с легкой улыбкой на губах. Семья — это семья, какова бы она ни была. У него тоже это будет — семья, родной дом; и, черт побери, очень скоро.
На этот раз Джанни не обратил внимания на гостей. Он уже с грехом пополам научился ходить и теперь увлекся строительством. Как истинный Эшли он не желал, чтобы ему помогали. Мать и дядя сидели в увитой виноградом беседке и молча потягивали вино, обласканные теплом бабьего лета. Перед ними уходили вдаль бурые просторы. Урожай был уже убран. Земля перепахана. На рассвете чуть подморозило, и сейчас от разогретой солнцем почвы поднимался едва приметный пар — залог возрождения, такой же верный, как и в ранние апрельские дни. Джанни, устав, вскарабкался к матери на колени и уснул.
Роджер начал неспешно:
— Лили, главное, мы должны быть справедливы. Даже если мерить обыденными мерками, как мать семейства мама всегда была безупречна. У отца было очень мало денег. Но разве мы знали бедность? Всю жизнь, изо дня в день, она трудилась от зари до зари. Никогда не выходила из себя. Никогда не была пристрастна. Пусть даже она никого из своих приятельниц не любила, ни о ком из них она никогда не говорила дурно. Она читала нам самые прекрасные книги, знакомила нас с самой прекрасной музыкой. Но это лишь малая доля всего. Недавно мы с маэстро, как обычно, беседовали после обеда у него в кабинете. И вот что он мне, между прочим, сказал: «Я хотел бы знать больше о ваших с Лили родителях и о ваших более дальних предках. Я хотел бы знать больше о вашем детстве. Через мои руки прошло свыше сотни учеников и учениц, молодых американцев, обладавших отличными голосами. Пели они хорошо. Кое-кто теперь достиг славы. Но все они редко понимали то, о чем пели. И вот пришла ко мне ваша сестра. Я учил ее дыханию, постановке голоса и тому подобным вещам, но когда дело касалось стиля, вкуса, полноты чувств, тут бывало довольно одного слова, намека. Благородству исполнения она выучилась не от меня. Она умеет выразить горе, не впадая в сентиментальность. Умеет выразить гнев, не становясь крикливой». И дальше все в том же роде — да, вот еще что он сказал: «Она умеет быть кокетливой, не переходя в пошлость». Его удивляет, откуда у тебя это. Лили, нашей матери чуждо все мелкое. Вспомни, как она каждый день шла со мной вместе в суд. Как держала себя в то утро, когда полицейские ввалились к нам, требуя ответа, кто помог отцу бежать. Мама — настоящий человек. И ты у нее в большом долгу, неизмеримом, как Скалистые горы. В тебе много хорошего и от отца, но об этом в другой раз…
— Кости, брошенные из стаканчика, лежат так, как упали, — вот и любой из нас останется таким, каким рожден. Мы ничего не знаем о девических годах мамы. Может быть, отец вызволил ее из какой-то беды. Может быть, то, что ты называешь «обожанием», на самом деле безграничная благодарность.
— Mammi![82]
— Si, caro. Che vuoi?[83]
— Mammi, canta![84]
— Si, tesoro[85].
Лили тихо запела мелодию, под которую он родился на свет. Он уснул снова.
Роджер продолжал:
— В некотором смысле отец наш был как животное. Можешь ты это понять?
— Могу, конечно.
— Животные не знают о том, что их ожидает смерть. Тебе не пришлось каждый день видеть его в зале суда. Но ты навещала его в тюрьме. А сколько раз?
— Три раза.
— В том, как он держался, было не только мужество — ради мамы, ради всех нас. Он спокойно и просто относился к смерти — и к жизни, и к смерти.
— Я стараюсь вложить это в свое пение.
— Посмотри! Посмотри! Утки летят на юг!
— Как их много — сотни! — Пауза. — Тысячи!
— Я однажды слыхал речь доктора Гиллиза. Это было в гостинице «Иллинойс» в канун нового, 1899 года. Он говорил о том, что эволюция продолжается. Наступит время — не скоро, быть может, через миллионы лет, — когда человек станет совершенно иным. То, что свойственно людям сегодня, — страх, жестокость, инстинкт собственничества — есть лишь стадия, через которую проходит человечество на пути эволюции. Люди все это перерастут. Так он говорил.
— И ты думаешь, он прав?
Он смотрел в даль полей. Прекрасна земля. Он невнятно пробормотал что-то. Потом протянул руку и накрыл ею пыльную ножонку мальчугана.
— Я не расслышала, Роджер.
— Знаешь, пришлось бы прожить десять тысяч лет, чтобы заметить какую-то перемену. Надо ее чувствовать внутри себя — верить в нее.
Джанни проснулся и стал проситься к дяде. Роджер вскидывал его так высоко, что он касался зеленого свода беседки; раскачивал на весу меж своих расставленных ног; ухватив за ступни, опрокидывал вниз головой. Джанни визжал, обмирая от ужаса и восторга. Женщины так с детьми не играют. Присмирев, он опять устроился у матери на коленях. Спроси его сейчас кто-нибудь, любит ли он своего дядю Роши, он бы не знал, что сказать.
Роджер еще постоял, вглядываясь в даль полей.
— Помню, я где-то читал… Лет пятьдесят назад тысячи бенгальских крестьян обрабатывали хлопок и тем кое-как пробавлялись. Но вот правительство Великобритании запретило им заниматься ткачеством; теперь хлопок стали ввозить из Америки и ткать на манчестерских фабриках. Пришлось бенгальцам на четвереньках рыться в земле, выкапывая съедобные корешки. Голод, истощение, смерть. Но вот вспыхнула Гражданская война. Остался Манчестер без хлопка. Наступили в Манчестере черные дни — голод, истощение, смерть. Окончилась война, открылись вновь пути, но тут оказалось, что с развитием техники можно обходиться одним работником там, где раньше требовалось двадцать. И пришлось неграм на четвереньках рыться в земле, выкапывая съедобные корешки. Голод, истощение, смерть… Мир становится тесен. Людей слишком много. Никто не знает, как с этим сладить.
— Mammi, canta!
Лили подняла на брата жалобный взгляд.
— Тогда что же, Роджер? Мне, значит, нельзя иметь десятерых детей?
Он снова сел. Без улыбки посмотрел ей в глаза. Сказал невесело:
— Постараюсь, чтоб выжили все Эшли.
Спустив ребенка на землю. Лили встала перед Роджером на колени и протянула к нему сплетенные руки.
— Разберись в этом, Роджер, разберись. Подумай и найди для нас ответ. Умоляю тебя — ради отца, ради Джанни…
И тут произошло небывалое. У Роджера — Роджера Эшли! — брызнули слезы. Он вышел и зашагал взад и вперед по дороге.
— Mammi, canta!
Лили запела. Не раз потом она вкладывала в свое пение все перечувствованное в этот день. И на миланской сцене, и в Риме, и в Барселоне… и в Манчестере.
В беседку вернулся, улыбаясь, Роджер.
— Поеду на рождество в Коултаун, — сказал он.
Роджер выехал из Чикаго ровно в полдень двадцать третьего декабря. Никакого подъема он не испытывал, даже было подумал: «А не болен ли я?» За два с половиной года он ни разу не ездил в отпуск и вообще почти не отдыхал. Вещей у него было много — главным образом его и сестрины рождественские подарки родным. Он сразу закинул их все на багажную полку над своим местом в заднем конце вагона. Потом уселся поудобней и раскрыл книгу — без книги он не трогался никуда. На сей раз это была «Ломбард-стрит» Бейджхота. Читая, он подчеркивал отдельные фразы, размечал ход изложения, по два раза перечитывал каждый абзац. И незаметно уснул. Разбудили его несколько часов спустя шум и суматоха в вагоне. Поезд стоял в Форт-Барри, одни пассажиры выходили, другие садились. Вскоре поезд тронулся и, проехав четверть мили дальше на юг, остановился уже надолго — чтобы заправиться топливом. В этом самом месте два года и пять месяцев назад неизвестные помогли бежать отцу Роджера. Пассажиры высыпали из вагонов и прогуливались по гаревой дорожке между водокачкой и угольными складами. Среди них было много студентов, возвращавшихся домой на каникулы; кто-то уже затянул песню. Смеркалось. Редкие снежинки медленно проплывали в воздухе. Роджер повеселел. Он с интересом вглядывался в лица встречных. Его внимание привлекла высокая тоненькая девушка примерно его возраста; отделясь от своих спутниц, она быстрым шагом расхаживала взад и вперед одна. У нее были черные глаза, смуглые щеки. На ней была котиковая шапочка, воротник из того же меха доходил до ушей. Руки она держала в котиковой муфте. Своеобразная мягкая грация отличала ее движения. Роджер остановился, глядя на купу деревьев за выемкой — там, как рассказывали, отца дожидалась приготовленная освободителями лошадь. Потом он зашагал снова. Девушка в котиковой шапочке дважды попалась ему навстречу, на третий раз она загородила ему путь и сказала:
— Роджер, нам нужно поговорить.
— Простите?
— Не здесь. Когда приедем в Коултаун.
— Простите, но я вас не знаю.
— Я — Фелиситэ Лансинг.
— Фелиситэ! До чего же ты выросла!
— Вероятно.
— Я очень рад тебя видеть. Как твоя мама?
— Хорошо.
— Как вы все вообще? Как Джордж, Энни?
— Хорошо, Роджер, нам нужно поговорить.
Тон был серьезный, настоятельный. Роджер вдруг вспомнил одно из писем Софи, где говорилось, что Фелиситэ Лансинг «готовится в монахини». И в самом деле было что-то монашеское в стоявшей перед ним девушке; быть может, то, что она ничуть не стремилась привлечь к себе внимание.
— Что же такое ты мне хочешь рассказать, Фелиситэ?
— Кое-что очень важное… это касается твоего отца и моего.
Она смотрела мимо него в сторону, точно оттуда надвигалось что-то грозное, что нужно было встретить и одолеть.
— Ну что ж, Фелиситэ. В вагоне, наверно, сыщутся два места рядом.
— Нет, не сейчас. Мне надо собраться с духом. Может быть, то, что я тебе скажу, очень страшно. Я ведь не могла знать, что встречу тебя вот так, в поезде.
— Тогда завтра я приду к тебе, или ты приходи к нам, в «Вязы».
Фелиситэ все смотрела задумчиво поверх его плеча, но не потому, что избегала его взгляда, — когда она наконец взглянула ему в лицо, то взглянула открыто и смело. Сердце Роджера дрогнуло от оживших воспоминаний: глава у нее, как и у ее матери, были неодинакового цвета и такая же, как у матери, родинка темнела на правой щеке.
Она заговорила опять:
— Пока я не уверилась до конца в том, что хочу сказать тебе, ни моя мать, ни твоя не должны ничего знать. Джордж вернулся домой позапрошлой ночью. Он убежал из Коултауна накануне того дня, когда отец был убит. Ездил по всей стране товарными поездами, как настоящий хобо. Потом попал в Калифорнию, был актером. Перенес тяжелую болезнь. Мне много чего хочется тебе рассказать. Такого, о чем я ни с кем другим говорить не могла.
Снова она замолчала, глядя поверх его плеча. А Роджер меж тем думал: «Она мне не чужая. Сколько тысяч слов было, наверно, сказано между нами в свое время».
— Я читала некоторые из твоих газетных статей. Мисс Дубкова давала мне. Я думаю, ты поймешь. Вернее, я думаю, ты поможешь понять мне. — Она протянула к нему руку. — Может быть, нам потребуется много мужества и много сил.
Состав дернулся. Раздался свисток. Подруги Фелиситэ побежали к вагону, крича:
— Филли! Филли! Поезд трогается. Ты останешься.
— Видишь — как можно говорить, когда кругом столько людей? А тут тайна, страшная тайна… Вот что! У мисс Дубковой теперь мастерская на Главной улице. Я иногда хожу ей помогать, и у меня свой ключ. Она говорила, что в сочельник работать не будет. Можешь ты прийти туда завтра в половине одиннадцатого утра?
— Филли! Филли! Ты останешься!
— Я приду, жди меня там.
У нее потемнели глаза, и карий и голубой.
— Может быть, это все неправда. А может быть, правда, и очень страшная. Но мы должны ее знать. Самое важное — доказать всем, что твой отец невиновен.
Она торопливо сунула ему руку, шепнула: «Завтра в половине одиннадцатого» — и вошла в вагон. Роджер следом за ней вернулся на свое место. Он раскрыл книгу, но не мог оторвать глаз от котиковой шапочки, черневшей вдали. «Что за девушка!» Фелиситэ неподвижно сидела у прохода; подруги вились и щебетали над ней, точно голубиная стая. «Филли! Филли!» — то и дело слышалось через весь вагон.
«Эта девушка будет моей женой», — сказал себе Роджер.
IV Хобокен, Нью-Джерси 1883 г
Хобокен, штат Нью-Джерси, городок с голландским названием, некогда был населен преимущественно выходцами из Германии. Уютные домики из красного кирпича стояли под сенью густых лип и акаций. В хорошую погоду жители любили (и до сих пор любят) сидеть на скамейках на набережной и смотреть, как у входа в нью-йоркскую гавань снуют взад-вперед корабли. В Хобокене варили и пили много пива; пили, впрочем, в пивных степенно и в меру, без хмельного разгула. Был в городке технический колледж. Студенты, большей частью приезжие, вышучивали и Хобокен, и хобокенских пивоваров, а когда им хотелось по-настоящему кутнуть, переправлялись на пароме в Нью-Йорк, где жизнь, как известно, бьет ключом.
В 1883 году, воскресным весенним утром, Джон Эшли, двадцати одного года, сидел на скамейке с девятнадцатилетней Беатой Келлерман, дочерью процветающего пивовара. Джон был в новом костюме, купленном к пасхе. Костюм был зеленый, точней, даже бутылочно-зеленый. Котелок был коричневый. Новые желтые башмаки ярко блестели. Крахмальный воротничок сорочки подпирал подбородок. Лацканы бежевого пальто были из лилового бархата. Так одеваются сыновья богатых родителей, но подбор вещей был случайный и выдавал в нем парня из захолустья. В Джоне Эшли никогда не было ничего примечательного, если не считать большого носа, внимательных голубых глаз и молчаливости. Он был ни брюнет, ни блондин, ни высокий, ни низенький, ни толстый, ни худой, ни красавец, ни урод. Его молчаливость проистекала не из робости. Застенчивостью он отнюдь не страдал. Он просто боялся, как бы чего-нибудь не пропустить. Он постоянно был переполнен ощущением чуда: математика и физика — чудесны; такой день, как сегодня, — чудесен; чудесны эти корабли, чайки, облака на небе и законы сгущения пара, которым они подчинены; чудесно быть молодым и знать, что впереди долгая, богатая событиями жизнь. Но самое большое чудо — девушка, что сидит с ним рядом. Она станет его женой, и у них родится множество чудесных детей. У Беаты тоже все было как у дочки богатых родителей — от высоких ботинок на пуговицах, облегавших ее большие ноги, до митенок и зонтика с бахромой. Беата, однако, сразу привлекала к себе внимание. Она представляла собою немецкую разновидность греческой богини — «юноноподобная», говорил ее учитель рисования, — выпуклые, широко расставленные глаза, великолепный нос, полный округлый подбородок. Беата тоже была молчалива, но по другой причине. Она только недавно вырвалась из жизни, в которой решительно ничего не было чудесного. Теперь она познакомилась с Джоном Эшли. Уже одно это казалось ей чудом.
В то утро в Хобокене царила необычная тишина. Не слышно было даже церковных колоколов — в городе свирепствовала эпидемия, и церкви закрылись. Болезнь повторялась много лет подряд с разными симптомами и под различными названиями. В 1883 году ее называли «мэрилендской пневмонией». Почти ко всем дверям были приколоты красные билетики, предупреждавшие о заразе, а на некоторых был траурный креп. Многих студентов родители забрали из колледжа. Джону Эшли тоже велели вернуться домой, в Пулли-Фоллз, штат Нью-Йорк, но он оставил это без внимания. Он был единственным сыном боготворивших его родителей. Такие дети не отличаются благодарностью и послушанием. К тому же он не привык чего-либо бояться. Он был уверен, что болезни и беды приключаются с теми, кто их заслуживает. Сейчас он жил один в пустом доме. Люди, у которых он снимал комнату с пансионом, бежали в Пенсильванию, на ферму к родственникам. Родные Беаты уехали в церковь в Нью-Йорк и должны были вернуться только вечером. Беата, как и служанки, дала слово весь день не выходить из дома. Предполагалось, что сейчас она сидит в гостиной и разучивает сонату Бетховена, а рядом дымится жаровня с серой. Беата была на редкость послушной дочерью. Всю свою жизнь она провела в доме, который был для нее тюрьмой, полной страхов; от них ее лишь недавно освободила любовь к Джону Эшли. Теперь она больше не боялась ни матери, ни мнения материнских приятельниц, ни насмешек братьев и сестер. А главное, она освободилась от страха перед самой жизнью — от смутного ужаса перед «мужчинами» и «младенцами», перед маячившей впереди бесконечной вереницей дней в Хобокене. За какие-нибудь полтора месяца Джон Эшли рассеял все эти тучи. Венцом ее любви к нему стала благодарность.
Джон и Беата сидели на скамейке в зачумленном городе. Они смотрели на игру солнечных лучей в воде. Говорили они мало. Любые слова, кроме самых незначительных, могли лишь внести диссонанс в ту мелодию, которая все громче звучала в каждом из них.
— …восхитительное утро!
— Да. Да, вы правы.
Мы строим нашу жизнь, руководствуясь игрой нашего воображения, и потому, как говорил Гете, «берегитесь того, о чем вы мечтаете в юности, ибо ваши мечты сбудутся в зрелые годы», очевидно имея в виду, что это будут не столько сбывшиеся мечты, сколько жалкая пародия на них. У Джона Эшли было ограниченное воображение, но кое-что он знал твердо: он хочет иметь жену и много детей; хочет жениться к двадцати двум годам, чтобы его старшие дети подросли еще до того, как ему исполнится сорок; хочет жить вдали от Атлантического побережья в большом доме, опоясанном верандами, — быть может, несколько неряшливом и шумном из-за многочисленной детворы, — и чтобы при доме была мастерская с необходимым инструментом и оборудованием, где он мог бы заниматься своими опытами и работать над полезными и бесполезными изобретениями. Он никогда не желал себе ни богатства (средства на содержание семьи у серьезного и трудолюбивого молодого человека появятся сами собой), ни славы (известность, наверное, отнимает много времени попусту), ни учености (в книгах, которые он читал, ничто его особенно не заинтересовало), ни мудрости, ни «философских глубин», ни умения разбираться в людях (все это с годами, очевидно, тоже появится само собой). Он довольно ясно представлял себе свою жену — она будет красива и по своим душевным качествам близка к совершенству, то есть чужда тщеславия, зависти, злорадства и оглядки на чужое мнение. Она будет образцовой хозяйкой. Как и он, скупая на слова, она будет одарена звучным красивым голосом (у боготворившей его матери голос был гнусавый и лишенный интонаций).
Не все в своей будущей жизни Эшли представлял себе так ясно, но первые шаги у него сомнений не вызывали. Он должен быть первым в ученье, чтобы после окончания колледжа иметь право выбрать себе работу по вкусу. Жениться он решил на следующий день после получения диплома. Раз ему предстоит провести четыре года в Хобокене, значит, нужно искать жену именно здесь. Приезжая в Нью-Йорк, он во все глаза смотрел вокруг. Тамошних девиц он находил утомительно бойкими: они без умолку трещали, слишком громко смеялись на людях, да еще и руками размахивали. Он вырос в маленьком городке и жениться хотел на девушке тоже из маленького городка.
— …и такое мирное!
— Да. Да, вы правы.
Джон Эшли всегда был первым в ученье, и его постоянно выбирали президентом студенческого братства, но жизнь однокурсников мало его интересовала. (За год до окончания он отказался от поста президента и переехал из общежития на частную квартиру.) Наделенный способностями к спорту, он никогда им не увлекался. Дух соперничества был ему чужд, и честолюбие, судя по всему, тоже. Однако он никогда не терял времени зря; он изучал законы электричества и механики и охотился за будущей женой.
Профессора его побаивались. У многих бывали способные ученики, но никто еще ни разу не встречал студента, который относился бы к технике как к занимательной игре. В лаборатории ему отвели больше места, чем остальным, и предоставили дорогие приборы. Полученную электроэнергию он употреблял на то, чтобы заставлять колокольчики вызванивать «Нита, Жуанита» и проецировать на экран буквы и цифры. Несколько раз он был на волосок от смерти — во время его опытов из окон вылетали стекла, потолки покрывались сажей, а однажды чуть не сгорела дотла вся лаборатория. Но с молодыми Эшли несчастий не случается. Вежливо извинившись, его лишили привилегий, которыми он пользовался в лаборатории. Незадолго до выпуска декан и некоторые его советники поговаривали о том, не оставить ли его при факультете, но раздалось несколько голосов против такого назначения. «Изобретатели» всегда кажутся подозрительными, а в том, что Эшли принадлежит к их числу, сомневаться не приходилось. Впрочем, чертежи Эшли вывесили в коридоре колледжа — на редкость красивые и четкие, они провисели там много лет, — а его самого снабдили, отличными рекомендациями. У себя дома Эшли тоже забавлялся техникой. Его комната напоминала кабинет чудака-ученого из романа Жюля Верна. Ранним утром, как только стрелки часов доходили до половины шестого, с потолка ему на голову падала подушка; в холодную погоду одна длинная стальная рука закрывала окно, а другая зажигала спиртовку под чайником. Забавлялся он и математикой. В общежитии студенческого братства постоянно играли в карты не меньше чем на пяти-шести столах. Он составил таблицы анализа вероятностей для виста, пинокля и «Джека Галлагера». Поскольку он был чужд азарта, добродушен и не нуждался в деньгах, его интерес к картам ограничивался лишь тем, чтобы не допускать слишком крупных выигрышей у остальных игроков.
Если все эти занятия были для него только игрой, то к поискам жены он, напротив, относился необыкновенно серьезно. Интересовали его только благонравные девицы. Настоящий охотник знакомится с местностью, изучает повадки, привычные пути и пастбища дичи, и, будучи хорошо оснащен заранее, вооружается терпением. Приехав в Хобокен, Джон Эшли начал действовать по плану. Он записался на курс немецкого языка. Он стал ходить в лютеранскую церковь. У процветающих немцев взято было за правило, что их дочери не должны знаться со студентами, а студенты считали хобокенских девиц «косолапой немчурой», не достойной внимания порядочного молодого человека. Но Джону Эшли не было дела до мнения сверстников; его цели были недоступны их пониманию, а для его методов у них недоставало выдержки. На улице он ходил за девушками следом и старался узнать их адреса и фамилии. В церкви его встречали доброжелательно. Одно знакомство следовало за другим. Его приглашали на обед в воскресенье. Он в свою очередь приглашал девиц (вместе с мамашами) на лекции с волшебным фонарем — «Наше небо в декабре», «Goethe und die Tiere»[86] — и на эстрадные выступления певцов, загримированных под негров. В проходах между рядами по окончании программы он пожимал немало рук и заводил немало новых знакомств. Танцы и балы вошли в обиход жителей Хобокена задолго до того, как их начали признавать в других подобных городках. Эшли закинул широкую сеть. Девица вела к девице. Он выслеживал богатую добычу, еще не зная, существует ли она в природе. Он полагался на свое чутье. Охота отнимала много времени, но у нас всегда находится время для занятий, которые нам по душе. В конце концов — на втором семестре последнего курса, когда он уже стал терять надежду, — он увидел Беату Келлерман. Через месяц он был ей представлен. Через три месяца он с ней бежал.
Неисповедимы пути подового отбора. Эшли выбрал себе в жены Беату почти так же, как его сыну Роджеру предстояло впоследствии выбрать себе профессию, — методом исключения. Он был любимцем матерей и младших сестер; отцы и братья находили его неинтересным. Он вел девицам учет по системе очков. Труде Грубер и Лизель Грау он очень нравился, но они не могли удержаться от насмешек по его адресу. Все знали, что Хайди, двойняшка Лизель Грау, чуть-чуть в него влюблена, но Хайди вечно твердила, что терпеть не может стряпню, шитье и «прочие дурацкие домашние дела». Гретхен Хофер (он был знаком с четырьмя Гретхен) не могла себе представить, как это можно по доброй воле переехать из Хобокена на Запад, где водятся только краснокожие да гремучие змеи. На третьем курсе Эшли показалось, будто он нашел ту, кого искал, в лице Марианны Шмидт. По воскресеньям они сидели на набережной и смотрели, как у входа в нью-йоркскую гавань снуют взад-вперед корабли. Марианне было семнадцать лет, она была красива, задумчива и немногословна. Она, как никто, умела заставить Эшли говорить. Ее интересовало, какие науки он изучает в своем колледже. В конце концов она призналась, что сама мечтает поехать в колледж Маунт-Холиок в штате Массачусетс изучать химию. Она хочет стать женщиной-врачом и лечить детей. Она читала, что в Германии и во Франции женщина может стать врачом — настоящим врачом, как мужчина. Эшли долго ее слушал, прежде чем решился ответить. Марианна сначала даже не поняла, о чем он говорит. Она не верила своим ушам. Оказалось, по его мнению, все время иметь дело с больными очень вредно.
— А кто же тогда будет лечить их?
— Н-ну… Есть достаточно врачей, которым за это платят. Разумеется, кто-то должен это делать, но только не вы, Марианна.
Кончиком своего зонта Марианна чертила на земле круги. Потом она встала.
— Пойдемте домой, Джон… Джон, иногда мне кажется, что вы просто невежда… или вам чего-то не хватает. У вас нет никакого воображения! Никакого!
Это исключило Марианну Шмидт.
У Лотхен Бауэр был звучный красивый голос, и она славилась умением стряпать. Однажды он пригласил ее на каток Turnverein's[87]. Они катались с таким изяществом, что все прочие сошли со льда и стали ими любоваться. После катанья, помогая ей снять коньки, он случайно поднял глаза и увидел, что она плачет.
— Что с вами, Лотхен?
— Ничего.
— Скажите мне, что случилось?
— Жизнь ужасна! Сегодня утром я ужасно поссорилась с папой и мамой, а вечером поссорюсь с ними опять. Джон, вы говорили, что я прекрасно пою.
— Да, я ни в одном доме не слышал певицы лучше.
— Так вот. Я хочу стать оперной певицей, и я стану оперной певицей, и ничто на свете мне не помешает!
— Но, Лотхен!
— Что?
— По-моему, если вы станете оперной певицей, у вас не получится настоящей семейной жизни. Ведь вас по вечерам почти никогда не будет дома. А кроме того, днем, перед спектаклями, наверно, нужно ходить на репетиции.
Лотхен еще немного поплакала, но уже от смеха. Это исключило Лотхен Бауэр.
Его пригласили на ежегодный концерт учениц миссис Кессель, лучшей преподавательницы фортепьяно в Хобокене. Большинство хобокенских девушек обладали природной музыкальностью, прилежанием и апломбом. Перед публикой ученица сменяла ученицу. Вечер завершался выступлением лучших, в том числе трех мисс Келлерман. Эшли знал этих барышень в лицо, но знаком с ними не был. Их мать, Клотильда, geborene фон Дилен, свысока смотрела на других городских матрон и держала своих дочерей в большой строгости. Беата играла последней. Эшли не слишком разбирался в музыке и потому не мог понять, что ее исполнение было самым блестящим, но в то же время самым немузыкальным за весь вечер. В нем отражалась не ее красота, а ее холодное равнодушие к инструменту и вежливое пренебрежение к слушателям. В середине пьесы ей вдруг изменила память. Публику точно электрическим током поразило. Это был позорный, незабываемый провал. Но Эшли гораздо больше поразило то, что произошло. Беата не начала сначала и не пыталась, пропустив несколько тактов, пойти дальше. Застыв с поднятыми руками, она устремила невозмутимый взор в пространство. Потом встала и без всякого смущения поклонилась слушателям. Она покинула сцену с видом мировой знаменитости, превзошедшей все ожидания. Ей великодушно похлопали, что не могло, однако, заглушить возмущенных замечаний приятелей Эшли.
— Она это сделала нарочно!
— Ее мать этого не переживет!
— Всем известно, что она страшная задавака! У нее нет друзей, да она в них и не нуждается.
— Она это сделала матери назло. Она безобразно обращается с матерью.
— Нет, это не нарочно. Когда она читала стихи на вечере памяти Шиллера, она точно так же забыла слова.
Что с такой силой привлекло Эшли к Беате с первой минуты? Была ли то ее стойкость и невозмутимость? Достало ли у него воображения, чтобы расслышать крик терпящего бедствие, тонущего человека? Подстегнуло ли его легкое злорадство публики? (Он склонялся к мысли, что мнение общества всегда ложно.) Почувствовал ли он себя Персеем или святым Георгием, посланным в мир, чтобы вызволить из беды прекрасную деву? А может быть, в самом его характере было заложено стремление найти женщину, которая — по причинам, заложенным в ее характере, — будет самозабвенно любить его, и только его одного?
Он пошел по следу. Родные Беаты в воскресенье обычно ездили в церковь в Нью-Йорк и проводили там весь день. В хобокенских развлечениях они участвовали редко. Беата в школьные годы блистала своими успехами; она знала наизусть массу немецких стихотворений; она и ее сестры безупречно говорили по-французски (мать требовала, чтобы по пятницам в доме говорили только по-французски, что оставляло в дураках простолюдина-отца). Но ее не любили. Братья и сестры жестоко над ней издевались — за высокомерие, за презрение к молодым людям, за большие ноги. Матроны с притворным сочувствием, понизив голос, утверждали, что в смысле замужества она безнадежна.
Хотя хобокенские пивовары были ревностными протестантами, ежегодно накануне великого поста они давали большой бал (это был их Fasching[88], их Mardi Gras[89]) в честь короля Гамбринуса, изобретателя пива. Охотник Джон Эшли пришел с семьей Грубер. Он никогда не упускал случая быть любезным с мамашами, и именно миссис Грубер представила его Беате. Он пригласил ее на танец, но она отказалась. Она танцевала только со своими братьями. Через час он уже сидел возле великой миссис Келлерман. Он говорил о погоде и об оркестре. По счастливой случайности он упомянул, что подавно ездил в Нью-Йорк на представление «Der Freischutz»[90] в Музыкальной академии. Келлерманы уже двадцать лет абонировали ложу на субботние утренники в опере. Миссис Келлерман растаяла. Она пригласила его на обед в ближайший четверг. Она хотела познакомить его со своими сыновьями — один из них собирался поступить в технический колледж. Эшли снова пригласил Беату танцевать и снова получил отказ. (Впоследствии она призналась, что заметила его упорное преследование и «страшно его возненавидела».) В четверг Беата оказалась нездорова и к обеду не вышла. Ее отцу и братьям Эшли показался неинтересным, а сестрам смешным. Миссис Келлерман он очень понравился. У него были прекрасные манеры. Она ему понравилась тоже. Он одобрительно слушал ее рассказы о детстве в Гамбурге, о великолепных балах, где ей довелось присутствовать, и о членах королевских фамилий, которым она была представлена. Через два дня он отправился в Нью-Йорк и купил роскошное издание «Buch der Lieder»[91] Гейне в красном бархатном переплете с тиснеными незабудками. По этому важному вопросу он советовался со своим преподавателем немецкого языка. Он отнес книгу в дом Келлерманов и просил передать мисс Беате. Охотники оставляют в лесу куски соли. Три недели он не получал никакого ответа. В конце концов его пригласили на кофе. Колючие заросли, в которых всю жизнь блуждала Беата, бесследно исчезли.
Как? Почему?
Он не острил. Он ни над чем не подшучивал. Он сам завел разговор о случае на концерте и сказал, что отлично все понимает: прекрасная музыка — это одно, а полный зал людей, которые сидят на золоченых скрипучих стульчиках и слушают игру своих родственниц, — совсем другое. Он убежден, что, когда она одна или в обществе двух-трех близких друзей, она играет превосходно. Эшли, который так редко говорил, говорил без умолку. Он рассказал ей, что собирается покинуть восточное побережье и работать на Западе, где он никого не знает. Понизив голос, он признался, что любит своих родителей, но что у него с ними совсем разные взгляды.
Он перешел на немецкий:
— Здесь мне хорошо. Мне хорошо везде. Но у меня такое чувство, что я должен уехать от всего, что мне знакомо. Я хочу начать совершенно новую жизнь. У вас когда-нибудь бывает такое чувство?
Беата не нашла в себе сил ответить.
— В Конституции Соединенных Штатов говорится, что мы имеем право на счастье. Я был счастлив — когда гостил на ферме у бабушки в штате Нью-Йорк. Но бабушка умерла. Я бы мог быть счастлив с вами. Вы могли бы сделать меня счастливым. Я бы постарался сделать счастливой вас.
Она смотрела на него не мигая — голубые глаза удивленно смотрели в другие голубые глаза. В ее звучном красивом голосе появилась легкая хрипота. Она сказала:
— Я никого не могла бы сделать счастливым.
Он улыбнулся. Улыбка медленно осветила его лицо, которое так редко улыбалось.
— Ну что ж, — сказал он. — Поживем — увидим.
Здесь начинается история деда и бабки прославленных детей Эшли по материнской линии.
Существует теория (народная мудрость многих стран выразила это наблюдение в сжатой форме поговорки), что одаренные дети наследуют свои способности от дедов, что таланты передаются через поколение. Некоторые считают все это чепухой: сила духа отдельных лиц и народов (направленная к добру или ко злу) есть прежде всего результат смешения, бурного столкновения противоположных наследственных черт. И дети Эшли, и дети Лансингов несомненно обладали силой духа, но у детей Эшли было еще и другое — умение отрешиться от себя, страстность, лишенная эгоцентризма. Откуда взялось это свойство, эта внутренняя свобода?
Фридрих Келлерман с молодой женой Клотильдой, geborene фон Дилен, приехал в Америку из Гамбурга за двадцать пять лет до этого прекрасного беззвучного утра в Хобокене. Келлерман начал как ученик, стал подмастерьем, а затем мастером в искусстве и науке пивоварения. Это был плотный, добродушный малый, слабохарактерный и музыкальный.
Его жена была сделана совсем из другого теста. У нее была прямая спина и осанка королевского гвардейца. Запуганные соседи говорили, что она напоминает флюгер или женскую фигуру на носу древнего корабля (намек на яркость ее красок, румяные щеки, густые рыжеватые косы и брови и глаза точно сапфир en cabochon[92]). В любой зале она появлялась, словно церковный староста на торжественных похоронах. Она родилась в семье, где родители и дети (а еще раньше их деды и бабки) лезли из кожи вон, стараясь занять более высокое положение в обществе. Ее отец служил в Гамбургском морском институте; не профессор и даже не доктор, он был просто казначеем и управляющим институтскими владениями. В XVIII веке — когда подобным же образом поступали многие — его семейство, не имея на то никакого права, присоединило к своей фамилии частицу «фон». Фон Диленов время от времени приглашали на академические и муниципальные балы, на которых присутствовали Высокие Особы. Юная Клотильда пожирала глазами членов королевской фамилии и делала книксен. Мать изо всех сил старалась обучить Клотильду и ее сестер подражать этим Высоким Особам. Их заставляли подниматься и спускаться по лестнице, держа на голове том сонат Бетховена или географический атлас, выпрямляться после книксена так, чтобы не было слышно треска коленных суставов, и вальсировать в одну сторону вечера напролет. Снобизм — это страсть. Это благородная страсть, которая заблудилась среди внешних приличий. Ее порождает желание уйти от обыденности и проникнуть в число тех, кто не знает ни мелочных забот, ни скуки, у кого даже невзгоды носят возвышенный характер. В звездные ночи гуси на пруду за амбаром слышат в небесах песнь своих перелетных братьев. Им кажется, что у тех развлечения всегда волшебны, что уж те-то никогда не испытывают тоски и отвращения к самим себе. Брак Клотильды с Фридрихом Келлерманом был разочарованием для ее семейства и очень скоро стал разочарованием и для нее самой. Она никак не могла простить себе, что вышла замуж за пивовара, что последовала за ним на далекий континент, где ее благородное происхождение редко кто замечал, что любовь обманула ее, заставив соединить свою жизнь с жизнью красивого молодого ремесленника, одаренного сочным баритоном и твердо рассчитывающего преуспеть в жизни, — человека, который изъясняется прескверным немецким языком и который никогда, никогда не научится красиво сидеть в седле. Тем не менее Клотильда Келлерман высоко держала голову и уверенно смотрела вперед. Она умело изображала почтение к главе семьи. Детей ей, однако, обмануть было трудно. Возможно, главной причиной бунта Беаты против матери было молчаливое, но достаточно явное пренебрежение этой дамы к человеку, за которого она вышла замуж.
Клотильда Келлерман была одержима и другими страстями, молилась и у других алтарей. Она любила всю свою семью в целом, постоянно негодуя против каждого ее члена в отдельности. Все они принадлежали ей. Она бросилась бы в огонь за любого из них. В домашнем хозяйстве, как и в стремлении к более высокому положению в обществе, с ее точки зрения, заключались неоспоримые моральные ценности. Она жаждала совершенства, и это требовало жертв от ее домочадцев. Беата на всю жизнь запомнила один воскресный обед, когда ее мать, глянув на жаркое, которое поставила перед нею служанка, схватила обеими руками блюдо и швырнула его на пол. Жест был неистовым, но голос звучал спокойно: «Скажите Кетэ, что мы будем есть яичницу».
В семействе фон Дилен из поколения в поколение передавалась еще одна страсть, которая, впрочем, дошла до Клотильды Келлерман в несколько ослабленной форме. Музыка — каждый вечер дома и не менее двух раз в неделю на концертах — была неотъемлемой частью их существования. Ни Клотильда, ни ее дочь Беата не были музыкальны, но они этого не знали. Они считали себя музыкальными. Многие дальтоники понятия не имеют, что видимый ими мир отличается от мира, который видят их ближние. Они плакали под медленную музыку, они узнавали легко запоминающиеся мелодии и радовались при их повторении. Отец Беаты, напротив, обладал тонким слухом. В Хобокене он долгое время состоял президентом лучшего (из четырех) Sangervereine[93], пока ему не надоел его банальный репертуар. Он не мог больше слушать, как сорок толстяков ноют о радостях охотничьей жизни или умоляют пролетающих птичек сообщить их возлюбленным о страданиях их навек разбитых сердец. Он возил свое семейство в Нью-Йорк в оперу и, не стыдясь, проливал слезы, слушая Вагнера. Жена его очень любила бывать в театре, хотя и не особенно интересовалась тем, что происходило на сцене. Она знала, что хороша собой, что происходит из благородной семьи, что, присутствуя на спектакле, исполняет свой долг, а также оказывает честь тем, кто имеет возможность ее созерцать (пять часов кряду).
Фридрих Келлерман был искренне привязан к своим детям, особенно к Беате, но жена его держалась строгих взглядов на отношения родителей с детьми. Она мгновенно пресекала всякие проявления нежности. От них мальчики становятся слабыми, а девочки вульгарными. Перед каждой едой дети стояли за своими стульями, ожидая, когда сядут родители, а желая родителям покойной ночи, целовали им руки. Девочек Клотильда в глубине души презирала. Бог посылает их в мир для продолжения рода, и самое большее, что можно для них сделать, — это придать им стальной хребет и королевскую осанку, научить хорошо стряпать, стелить постели и поддерживать чистоту в доме, а затем найти им мужа из почтенной семьи. Однако не следует забывать, что сама Клотильда приобрела также некоторые (истинные или воображаемые) достоинства аристократки: в присутствии детей она бы никогда не обмолвилась худым словом о соседях. (У нее находились другие способы выразить свое неодобрение.) Она могла швырнуть на пол блюдо, но никогда не повышала голоса и не позволяла этого детям. Она давала понять, что руководствуется собственным мнением, а отнюдь не мнением окружающих. Она не допускала никаких пересудов о том, кто из знакомых богат, а кто беден. Если б ее муж в один прекрасный день пришел домой я объявил, что он разорился, она не произнесла бы ни слова жалобы. Она бы перебралась в трущобы и там бы занялась приобщением соседей к хорошему тону.
Беата была примерной ученицей, хотя вовсе не интересовалась наукой ради науки (фон Дилен и Келлерман), в совершенстве играла на рояле и отменно стряпала (фон Дилен). Она вкладывала душу во все, что делала (Келлерман). Она ни в грош не ставила свою красоту, быть может, потому, что считала своих старших сестер более красивыми. Молодые люди не обращали на нее внимания. Не было ни одного живого существа, к которому она могла бы привязаться, — ее собаку переехал на улице экипаж, а кошка окотилась. Она очень осторожно пробовала выказать свою любовь к отцу и получить хоть что-нибудь, хоть что-нибудь взамен. Она пыталась подать ему какой-нибудь знак — сигнал бедствия из засасывающих песков, но Фридрих Келлерман был бессилен. Он предложил Клотильде послать Беату в один из женских колледжей. «Какой вздор! Где ты набрался подобных идей, Фриц? Ты знаешь, в чем там ходят девицы? Они ходят в шароварах!» И Беата не просто замкнулась — она окаменела.
Было бы опрометчиво утверждать, что Джон Эшли пришел ей на помощь как раз вовремя. Может быть, она продержалась бы еще год-другой, прежде чем окаменеть окончательно. А может быть, он уже на год-другой опоздал. Не стоит заниматься подобными предположениями. Голод уродует одного, но закаляет другого.
Почему Беата была одинока и несчастна в родной семье? Потому что она сформировалась под влиянием лучших принципов и идей своих родителей, а родители, видя в ней воплощение этих принципов и идей, сами их не узнавали. Родители стареют. То, что мы называем их «творческой способностью» (существует «творческая способность» строить дом, растить детей), притупляется. В житейской толчее они теряют оперение и остаются голенькими. Семейная жизнь подобна зале с превосходной акустикой. Подрастающие дети не только слышат слова (и в большинстве случаев приучаются пропускать их мимо ушей), они различают мысли и намерения, скрывающиеся за этими словами. И главное, они узнают, что их родители действительно любят, а что действительно презирают. Джон Эшли был совершенно прав, желая, чтобы его дети подросли до того, как ему исполнится сорок лет. Обоим его родителям исполнилось сорок, когда ему было только десять, — иными словами, они уже начали смиряться с мыслью, что жизнь не оправдывает надежд, что она бессмысленна в самой своей основе; они изо всех сил цеплялись за ее второстепенные награды — уважение и (по возможности) зависть окружающих, поскольку их можно приобрести за деньги или добиться осмотрительностью, неизменно довольным видом и тем тоном морального превосходства, от которого, кажется, сам с тоски умрешь и других уморишь, но который так же необходим, как одежда.
Когда мы обратимся к рассказу о молодых годах Юстэйсии Лансинг, у меня будет случай заметить, что все молодые люди источают идеализм так же непреложно, как Bombyx mori[94] источает шелк. Восхищение жизнью и созерцание героев для них все равно что хлеб насущный. Они должны восхищаться. Должны восхищаться. Мальчишка в колонии для малолетних преступников (третья судимость за кражу со взломом) источает идеализм, как Bombyx mori источает шелк. Пятнадцатилетняя девчонка, которую принудили к проституции, источает идеализм — до норы до времени, — как Bombyx mori источает шелк. Новичкам жизнь кажется ярко освещенной сценой, на которой им предстоит сыграть роль храбрых, честных, великодушных и полезных обществу людей. С надеждой и трепетом вступая на подмостки, они чувствуют себя почти готовыми выполнить эти великие требования.
Прекрасная акустика семейной жизни помогла Беате впитать постоянные родительские призывы к самоусовершенствованию. От матери она усвоила чувство ответственности и безупречные манеры, привычные для аристократов, а от отца — честность и недремлющую готовность восстать против угнетения, свойственные рабочему люду. Все добродетели (даже смирение) требуют независимости. В матери Беаты с годами обозначились резче все изъяны аристократических взглядов на жизнь. Отец Беаты в молодости успел внушить своей любимой дочери те добродетели, которые из поколения в поколение передавались в его семье; начав стариться (в сорок четыре года), он внутренне опустился и стал безответно-смиренным. Отказ Беаты от попыток пускать пыль в глаза соседям выводил из себя ее мать; отказ подчиняться принуждению огорчал ее отца. Она была одинока и несчастлива.
Итак, Джон и Беата сидели на скамейке, любуясь игрой солнечных лучей на воде нью-йоркской гавани. Поднялся легкий ветерок. Кружева на воротнике Беаты затрепетали.
— Вам не холодно, Беата?
— Нет. Нет, Джон.
Он посмотрел на нее. Улыбаясь, она заглянула ему в глаза и тотчас же опустила свои. Потом медленно подняла их снова и устремила на него пристальный взгляд. Мы помним слова бабушки Джона о том, что нельзя долго смотреть в глаза детям и животным. До сих пор эти двое молодых людей лишь украдкой бросали друг на друга короткие взгляды — голубые глаза в другие голубые глаза, — полные сладостной боли и смущения. В повседневной жизни мы бросаем друг на друга лишь мимолетные взгляды; если смотрим подольше — это знак созревшего доверия или недвусмысленной вражды. У мальчишек есть такая игра — кто кого переглядит; обычно дело скоро кончается взрывом нервного смеха и вспышкой «жеребячьей энергии». Говорят, актера охватывает ужас, когда ему приходится надолго застывать в одной позе на сцене или перед камерой. Фотографы называют это «выдержкой». В любви это — исчезновение гордости и замкнутости, это — капитуляция.
Джон и Беата смотрели в глаза друг другу. Ими вдруг овладела негаданная, неведомая прежде сила. Она подняла им руки, она соединила их губы, она заставила их встать в вернуться в город.
Джон на это не рассчитывал. Беата этого не испугалась. Не сказав друг другу ни слова, они направились в его пустой дом. Через два месяца они вдвоем покинули Хобокен; с тех пор, в течение девятнадцати лет, они редко расставались более чем на сутки — покуда его не посадили в тюрьму.
Вечером того дня, когда Джон получил свой диплом, Беата ушла из дому незаметно для родителей, у которых в это время сидели гости. Еще в сумерки она спрятала под черной лестницей пальто, шляпу и небольшой саквояж.
Джон с Беатой так и остались невенчанными. Тогда на это не хватило времени, а потом все не представлялся подходящий случай. Джону посчастливилось найти себе невесту, столь же свободную от предрассудков, сколь и он сам.
Обряды придуманы для помощи и поддержки благих намерений людских. Беата с детства носила на пальце тоненькое золотое кольцо с гранатом. Джон вынул камень и спилил оправу.
— Может, надо найти кого-нибудь, кто бы нас обвенчал?
— Я уже обвенчана.
Через несколько дней они приехали в Толидо, штаг Огайо. Но дороге они останавливались посмотреть Ниагарский водопад. В фирме, куда Джона пригласили на работу, не знали, что он женат, но молодой чете был оказан самый сердечный прием, и когда шесть месяцев спустя родилась Лили, она получила кучу подарков — одеял, ложек и серебряных кружечек.
Во время эпидемий у жителей Хобокена, запертых в своих домах, обострилось любопытство ко всему, что можно было увидеть из окон. Визиты Беаты в дом, где жил Джон, не прошли незамеченными и сделались предметом пересудов. Однако долгое время никто не смел сообщить о них грозной Клотильде Келлерман. Она узнала последней. А узнав, запретила упоминать при ней имя Беаты.
Трудно как-нибудь оправдать отношение Джона к его родителям. Сразу же после выпускной церемонии он проводил их до Нью-Йорка и посадил в поезд, пообещав писать. К рождеству он прислал им открытку без обратного адреса. Он не сообщил, что женился и стал отцом.
Джон Эшли во всем хотел видеть новое, первозданное. Как будто никто до него не зарабатывал себе на хлеб, не женился, не производил потомства. Молодая жена, первое жалованье, младенец на руках — все это были чудеса. Написать о них людям, которые считают их чем-то будничным, значит поставить под угрозу собственное ощущение чуда.
Кроме того, ему надоели советы и предостережения; надоело слушать похвалы за то, что всякий дурак может сделать, и насмешки над тем, что далось тяжким трудом; надоело по команде восхищаться тем, что он презирал (трусливой расчетливостью отца), и осуждать то, чем он восхищался (независимым духом бабушки). Ему надоело быть сыном. Первый год его семенной жизни был подобен открытию нового континента. Его голос стал на пол-октавы ниже. Милю пути до места службы он проходил каждый день с таким же чувством, с каким Адам выполнял свой ежедневный урок, давая имена растениям и животным. Первые полмили его обуревала нежность к тому, что он оставил позади; вторые полмили — сознание своей ответственности, как основателя рода человеческого, и своей обязанности о нем заботиться и его защищать. Ему было неприятно думать, что его счастье, быть может, слишком бросалось в глаза. Ему казалось, что от него исходит сияние. («Доброе утро, Джек. Как живешь?» — «Отлично, Билл. А ты?») Он стал еще более молчалив, чем был от природы. Но потом страхи рассеялись. Никто ничего не замечал.
Единственным разочарованием его новой жизни была работа. В станках, которые он проектировал, допускались лишь незначительные отклонения от установленных образцов. Он называл свою деятельность «изготовлением формочек для печенья». Не было никакой возможности сделать что-нибудь новое, хоть как-то проявить свои знания. Случайно (а жизнь подобных людей изобилует случайностями) он услышал, что в Коултауне имеется вакантная должность, и написал туда. Жалованье было маленькое, но описание его будущих обязанностей показалось ему заманчивым. Ему предлагали место «инженера по ремонту оборудования» — прежний только что скончался в возрасте восьмидесяти двух лет. Под письмом стояла подпись «Брекенридж Лансинг». Итак, прожив два года и два месяца в штате Огайо, семейство Эшли отправилось в южную часть штата Иллинойс, где его ждала жизнь, полная радостей, чудес и всяких случайностей. Когда они сошли с поезда на станции Коултаун в сентябре 1885 года, Джону Эшли было двадцать три года, Лили — около двух лет, а Роджеру — девять месяцев.
Каждый из детей Эшли — благодаря особым качествам, свойственным всем Эшли, — стал, по выражению Лили, «предельно знаменитым», однако слава каждого из них «предельно» усиливалась тем, что они были дети одной семьи. Восхищение или неприязнь, которые они вызывали, увеличивались от этого втрое, любопытство — во сто крат. Воскресные приложения к газетам помещали фельетоны под интригующими заголовками («Есть ли у молодых Эшли тайна?», «Планы молодых Эшли на 1911 год»), юмористы всячески изощрялись. Журналы публиковали их популярные биографии. Любители и профессионалы прилагали нечеловеческие усилия, копаясь в их генеалогии. Статьи и брошюры о них выходили на множестве языков. Объекты этих исследований получали по почте посвященные им труды, но категорически отказывались давать о себе какие-либо сведения. Констанс вначале бросала их непрочитанными в мусорную корзину; Лили и Роджер поручали своим секретаршам отвечать авторам благодарственными письмами.
Ближайшие предки Джона Баррингтона Эшли были фермерами и мелкими торговцами с западного берега реки Гудзон. Под фамилиями Эшли, Эшлий, Когхилл, Баррингтон, Бэрроу и тому подобными они в 60-х годах XVII века покинули долину Темзы и бежали от религиозных преследований за Атлантический океан. На каждого человека их веры и положения, который сразу принял решение за себя и своих ближних, приходилось не менее десятка таких, которые колебались, медлили и в конце концов отступили («Братец Вилкинс, поедешь ли ты с нами?»). Высадившись в Новой Англии, переселенцы стали продвигаться на запад, валили деревья, строили молитвенные дома и школы, а потом шли дальше. (В XVII веке они говорили: «Если ты видишь дым из соседской трубы, значит, ты живешь слишком близко». В XVIII — не без внутреннего сопротивления — приспособились к жизни общиной.) В день субботний они укрепляли свой дух, слушая четырехчасовые проповеди, главным образом трактовавшие о грехе. («О возлюбленные братья и сестры, подумайте о том, как страшно навлечь на себя гнев господень!») В большинстве семейств бывало по дюжине детей, не считая умерших в младенчестве; («Патриарх почиет на холме со своими юными женами».) Некоторые представители рода Эшли породнились с шотландскими и голландскими семьями с противоположного берега реки. Голландцы приехали из Амстердама. Один специалист по генеалогии обнаружил у них в роду какого-то Эспинозу и утверждал, что они состоят в родстве с философом, но ведь среди сефардов, бежавших от религиозных преследований в Испании, было много людей, носивших имя Эспиноза-Спиноза. Родители Мари-Луизы Сколастики Дюбуа — бабушки Эшли с отцовской стороны — приехали в Монреаль из маленького местечка под Туром на Луаре. («Dis, cousin Jacques! Est-ce que tu viens avec nous a Quebec — oui ou non?»[95]) Предки Беаты были фермеры, ремесленники и бюргеры из северной Германии. Бабушка ее матери происходила из семьи ткачей-гугенотов, бежавших от религиозных преследований во Франции после отмены Нантского эдикта. Они нашли убежище в гордых и независимых ганзейских портовых городах.
Имена, сотни имен, имена из архивов и городских ратушей, из приходских книг, из завещаний, с надгробий.
Лили послала одну из таких брошюр Роджеру: «Пусть бы они поскорее отыскали мне предков в Италии. Я уверена, что я итальянка. И еще я уверена, что я ирландка. Впрочем, чего ради изводить столько чернил?» Роджер ответил: «А я хотел бы прочитать хроники о наших потомках — твоих, моих и Конни». В этих хрониках будет фигурировать множество и ирландцев и итальянцев.
Эти разнообразные документы можно было найти в любой большой библиотеке; их выдавали всем, кто ими интересовался. А интересовались многие, и с разных точек зрения.
В родословной Эшли оказалось очень мало лиц, занимавшихся умственным трудом. По линии Когхиллов, Макфейлов и Вандейков-Хойсемов разыскали несколько учителей и священников. Прапрабабушка Джона Эшли была дочерью Лориса Вандерлоо, голландского мореплавателя, чье «Путешествие в Китай и Японию» (1770) было в свое время широко известно. Никаких доказательств благородного происхождения не нашлось. Притязания Клотильды Келлерман не подтвердились. Были предприняты тщательные поиски наследственных способностей к музыке. Обратили внимание на то, что Фридрих Келлерман состоял президентом хорового общества в Хобокене. В семействе фон Дилен существовала легенда, что один из их предков, по фамилии Каутц, служил виолончелистом в оркестре Фридриха Великого в Потсдаме. Это было доказано. Бедняга Каутц страдал меланхолией и наложил на себя руки.
Было также установлено, что большинство предков Эшли отличалось крепким здоровьем. Наблюдалась ярко выраженная тенденция к долголетию, особенно среди мужчин. Правда, в XVIII и XIX веках она сочеталась с высокой детской смертностью, но ведь это было общим явлением в те времена. Непьющие мелкие торговцы и фермеры породнились с трезвенниками-голландцами с берегов Гудзона — Вантуйлами и Вандерлоо (харчевни, извозчичьи дворы), — не говоря уже о трезвости, унаследованной от ганноверских и шлезвиг-гольштейнских семейств.
Роджер писал Констанс: «Они трудились от зари до зари. Едва ли кому-нибудь из них удавалось днем хоть на минутку присесть. Ни одного адвоката, очень мало купцов, ни одного банкира (исключение — наш дедушка Эшли), ни одного фабричного рабочего. Но каждый, как теперь принято говорить, имел «самостоятельное дело». Констанс отвечала: «Да, все они были самостоятельны, самоуверенны, самонадеянны. Все так гордились своей независимостью. Независимостью в мелочах. Ненавижу их всех. Это из-за них у нашего дорогого папочки было так мало воображения, а у мамочки вообще никакого».
Но у всякой медали есть оборотная сторона. И в роду Эшли и в роду Келлерманов нашлись патологические элементы. «Свобода» Нового Света влекла к себе не только неукротимых, сильных духом патриархов. В Америку «удирали» негодяи, фанатики, перекати-поле, авантюристы — все гордые и независимые, одаренные пылким воображением, иными словами, прельщенные надеждой на золотое будущее. Специалисты по генеалогии обнаружили случаи недугов телесных и душевных. Тот самый bourgade[96] под Туром, откуда эмигрировали в Новый Свет Буажелены и Дюбуа, послужил объектом одного из первых французских социологических исследований, аналогичного нашим трудам о влиянии дурной наследственности. Более того, выяснилось также, что дед Джона Эшли, сбежавший от своей жены, урожденной Дюбуа, был повешен в Клондайке возмущенными согражданами. К счастью, широкому кругу читателей эти мрачные подробности остались неизвестны. Довольно и того, что тень «деда Эшли» осталась висеть над его детьми. Нельзя также отрицать, что многие исследователи считали всех Эшли — всех до единого, — говоря без обиняков, «безнравственными». «В них нет ни проблеска порядочности и христианской морали». «Они недвусмысленно дали понять, что плюют на мнение достойных, благонамеренных людей». Подобных высказываний тоже всегда было достаточно.
Но довольно об этом! Душевное и физическое здоровье непрочны, и за них приходится платить. Люди благополучные и здравомыслящие ничего не открывают и не изобретают, а, отжив положенный срок, превращаются в перегной. Как сказал доктор Гиллиз в первый час нового века (сам не веря ни одному своему слову): «Природа никогда не спит и никогда не стоит на месте. Ее детища испытывают постоянные неприятности от болезней роста. То, от чего они избавляются в процессе роста, равно как и то, что приобретают, неизбежно причиняет им страдания».
Лишь немногие из вышеупомянутых исследователей заметили (а тем более попытались описать) столь характерную для Эшли способность «абстрагироваться» или «отчуждаться». Возможно, лучше всего это увидели их враги. В частности, в книге «Америка в объективе телескопа», за свой счет изданной автором, который скрылся под псевдонимом Аттикус, Эшли фигурирует в главе под названием «Гракхи». Этот Аттикус просто не нарадуется тому, что покинул Америку ради берегов Темзы и Сены. Теперь с безопасного расстояния (приняв английское подданство) он обозревает ужасы и чудовищные нелепости своей родины. Он нападает на Эшли с поразительной злобой. Он, очевидно, хорошо знал их — особенно Констанс Эшли-Нишимура — и обогатил их портреты множеством дотоле не замеченных штрихов. Аттикус подчеркивает их полное пренебрежение ко всяким условностям. Он особенно негодует по поводу того, что их неуклюжие faux pas[97] нисколько их не смущают. Это справедливо — Эшли действительно не умели разбираться в тонкостях общественного, имущественного или служебного положения, а также происхождения и цвета кожи. Кроме того, Аттикус полагает, что они были начисто лишены уважения к самим себе. Они отличались сдержанностью. Они невозмутимо сносили оскорбления и обиды. Он не может отказать им в интеллекте, но утверждает, будто интеллект этот не обладает «гибкостью и обаянием». Наиболее язвительные эпитеты он приберег на конец главы. В последнем ее абзаце развивается мысль, что Эшли — вне всякого сомнения (ему очень не хочется об этом говорить, но истина все равно должна выйти наружу), — что они, вне всякого сомнения, американцы.
V «Сент-Киттс» 1880–1905 г
«Зачем Стэйси вышла за Брека?»
Доктор Гиллиз, как и многие в Коултауне, часто спрашивал себя, как могла Юстэйсия Симс настолько потерять голову, чтобы выйти за Брекенриджа Лансинга. Мы немного позже узнаем, как он сам объяснял себе это — довольно натянутое объяснение, да еще сформулированное фразой, которая неизменно возмущала его жену, утверждавшую, что так сказать нельзя.
— Принято говорить, что мы «проживаем жизнь». Вздор! Это жизнь проживает нас.
Брекенридж Лансинг родился в Кристал-Лейк, штат Айова. Мальчишкой он строил планы, когда вырастет, пойти в армию и сделаться знаменитым полководцем. Вместе со старшим братом Фишером он много времени отдавал охоте. Добрым баптистам не положено убивать или другим способом развлекаться по воскресеньям, зато уж по субботам и по праздничным дням они убивали вволю. Брекенридж был настолько метким стрелком, что решил поступить в академию Уэст-Пойнт. К большому его удивлению и разочарованию, оказалось, что от будущих офицеров требуется основательное знание математики. Дважды он держал экзамен и дважды проваливался. За время учения в Брокеттовском баптистском колледже он последовательно собирался в священники, в медики и в юристы. Стал он после окончания младшим продавцом в отцовской аптеке.
Отец его был большой шумный человек, заправила всех клубов и лож, расчетливый бизнесмен, неласковый муж и суровый отец. Повадки свои он унаследовал от собственного отца и впоследствии передал сыновьям. На протяжении многих лет он занимал разные посты — от устроителя банкетов до вице-президента Ассоциации фармацевтов Среднего Запада — и очень любил бывать на съездах Ассоциации. Во время этих съездов он все вечера допоздна играл в карты со своими коллегами. В ту пору каждый предприимчивый аптекарь старался пристроиться к производству патентованных средств («змеиного навара», как их тогда называли). Мистер Лансинг боялся и презирал своего старшего сына Фишера, который стал адвокатом; Брекенриджа, всем только докучавшего и в аптеке, и вообще в городе, он лишь презирал. Как несостоявшийся медик Брекенридж в свое время немного изучал химию. Отец отвел ему клетушку позади аптеки и велел заниматься изготовлением целительных смесей. Ему уже рисовались в воображении «Мазь Лансинга» или «Лансинговский эликсир из дикого меда». Но у Лансинга-младшего дело не пошло дальше подготовки спиртовой основы и сочинения текста для будущих рекламных проспектов. Зато его лаборатория стала чем-то вроде светского клуба, и «опыты» часто затягивались до рассвета.
Как-то за картами в Сент-Луисе один из партнеров предложил Лансингу-старшему войти пайщиком в только что созданную компанию по обработке эфирного масла из вест-индского лавра. В соединении с ромом, апельсиновым соком и другими ингредиентами оно может широко применяться и в лекарственной и в косметической практике. По слухам, его также потребляют в больших количествах дамы, имевшие несчастье дать зарок воздержания от спиртного. Лансинг продал два луга и пустошь под застройку и вложил солидную сумму в новое предприятие. По обыкновению он преследовал двойную цель — нажить деньги и выдворить Брекенриджа из Кристал-Лейк. Он поехал в Нью-Йорк, взял с собой сына и побывал с ним в главной конторе компании. Он даже дал обед в ресторане Халлорана (специальность — бифштексы и раки). Молодой человек произвел благоприятное впечатление. Так бывало всегда при первом с ним знакомстве. Его сделали агентом по закупке сырья. Ром и масла поступали с Антильских островов. Брекенридж отправился к Карибскому морю; там, на острове Сент-Киттс, он и повстречал Юстэйсию Симс.
Юстэйсия происходила из английской семьи, обосновавшейся в тех краях еще в начале XVIII столетия. Из поколения в поколение Симсы роднились с креольскими семьями округи. В жилах Александра Симса, отца Юстэйсии, текла лишь малая толика английской крови, и все же он был британцем до мозга костей. Он не забывал отмечать дни рождения всех членов королевской фамилии, мало того — двадцать первого октября, в годовщину славной победы при Трафальгаре, он с утра поднимал на доме английский флаг, а поздней приспускал его в знак траура по адмиралу Нельсону. У женской части семьи, весьма многочисленной — обе бабки хозяина и несколько двоюродных тетушек дожили до ста, — устремления были другие. Все в них было французское, за исключением подданства. На любом острове, от Шарлотты-Амалии и до Сент-Люсии, у них жили кузены и кузины. Гваделупа была раем их предков. Как все уважающие себя креолки, они числили в своей родне французскую императрицу Жозефину. Почтенные дамы целые дни сидели на верандах, обмахивались веерами и в ожидании очередной трапезы сплетничали о соседях. Мари-Мадлен Дютелье, болтливая, необъятных размеров женщина, была несчастлива, хотя, казалось, привыкла бездумно потакать всем своим прихотям. Происходило это от праздности, обид и скуки. Что до праздности, то в этом была виновата она сама. Она так хорошо поставила дом, что пятеро слуг управлялись со всеми надобностями семейства (от одиннадцати до шестнадцати душ, включая родственниц-приживалок), еще четверых держали для виду. Считалось, что слуги получают по три шиллинга в месяц, но им, в сущности, не нужны были деньги. Хозяева их кормили, одевали, лечили, пороли, заботились об их развлечениях. Себе madame Симс оставила одно только дело — распоряжаться. Обиды были те же, что и у всех прочих дам ее положения. Александр Симс имел в Бастерре другую семью. Жила эта семья на окраине, где теснились хижины с тростниковыми крышами, которые едва защищали от тропических ливней, а сильный ветер нередко сносил их напрочь. Каждому солидному горожанину полагалось или, во всяком случае, приличествовало иметь такую вторую семью. У Симса она так разрослась, что сосчитать всех полуголых мальчишек и девчонок можно было, лишь если б все они минуту постояли смирно, чего никогда не случалось. Он часто не узнавал своих отпрысков, встречая их на набережной принца Альберта или на проспекте королевы Виктории. Как только богатый, важный, гневливый белый отец появлялся на пороге их хижины, они поспешно прятались в окружающих зарослях. Не следует путать скуку с апатией, в особенности ту скуку, которой томилась миссис Симс. Скука — это энергия, не находящая выхода. Характер миссис Симс, действенный от природы, теперь проявлялся лишь в редких вспышках ярости. Ее предки, до того как осесть на земле и заняться выращиванием сахарного тростника, были моряками, пиратами, искателями приключений. Но она верила, что у истоков ее рода стоит фигура еще более романтическая.
В старину у этих островов часто бросали якорь невольничьи корабли, шедшие из Африки. Здесь свозили на берег больных и умирающих, здесь избавлялись от непокорных, кого не смирили ни побои, ни голод. То были по большей части люди молодые и сильные — даже после многих голодных дней за них дали бы на континенте хорошую цену. Капитаны, однако, рады были продать их островным плантаторам даже себе в убыток. Кораблям предстоял еще долгий путь. А эти люди и в оковах были опасны: они сеяли смуту. Вошел в историю Бель-Амаде, принц Ашанти, о нем сложены легенды и песни. Он был продан с аукциона к Гваделупе около 1759 года. Время шло, а он не спешил; сделавшись надсмотрщиком, вел себя так, что заслужил одобрение и даже доверие хозяина. Он был певец, у него был веселый нрав. Он любил детей, и дети его любили. Нередко его звали в дом развлекать пением гостей плантатора; дамы внимали ему, потягивая chocolimiel[98] из чашечек севрского фарфора. Вот как описывает его одна из дошедших до нас песен: «Стан его точно высокий кедр, глаза мечут молнии». В той же песне говорится, что у него было сто детей, сто потомков царского рода.
И вот настала ночь Святого Иосифа — 19 марта, ночь исступления, ночь разгула длинных серпов. С Мартиники виден был дым, стлавшийся над тринадцатью крупными плантациями. Увлеченные силой духа Бель-Амаде, даже верные слуги — старый дворецкий, повар, камеристка, кормилица — не пытались помешать резне. Ночь Святого Иосифа! Нельзя, разумеется, вспоминать о ней без ужаса. Но во всяком восстании угнетенных есть величие, заставляющее нас невольно сочувствовать восставшим, — это знает каждый читатель мильтоновской поэмы. Рабство и рабовладельца превращает в раба, и, когда оглянешься в прошлое, гордость представляется глупостью. Бель-Амаде схватили, кастрировали и повесили на суку дерева вниз головой, чтоб он умер не сразу, а в длительных мучениях. Потом долгое время им пугали детей; но народное воображение непоследовательно. И о каждом высоком стройном юноше, о каждой здоровой молодой красотке стали говорить шепотом: «Y a la une goutte du sang du beau diable!»[99] Как-то вечером на веранде дома Александра Симса шел разговор о ночи Святого Иосифа и о главном зачинщике событий этой ночи. Юстэйсия, которой было тогда восемь лет, подошла к матери и спросила:
— Maman, est-ce que nous… est-ce que nous?..[100]
— Quoi? Quoi, nous?[101]
— Est-ce que nous sommes descendues… de Lui?[102]
— Tais-toi, petite sotte. Nous sommes parentes de l'Imperatrice. C'est assez, je crois[103].
— Mais, maman, reponds…[104] Мать повернула к дочери темное, густо напудренное лицо, в ее строгом взгляде сквозила гордость. С минуту она молча смотрела на Юстэйсию. Глаза ее говорили: «Конечно, да». Но вслух она сказала:
— Tais-toi, petite idiote! Et mouche-toi![105] От кого-то унаследовали Юстэйсия Симс-Лансинг и ее дети буйный нрав, стремление к независимости, своеобразную матовость кожи — лишь Энн, пошедшая в отца, составляла исключение.
Александр Симс держал в городе мелочную торговлю. Четыре его дочери были красивы, одна сверх того была и умна. Как только Юстэйсия подросла, ей наскучили пересуды на террасе, и она предпочла помогать отцу в торговле. В семнадцать лет она уже одна управлялась за прилавком, и управлялась с успехом, хоть для нее это было непросто. Красота ей мешала и была в тягость. Приходилось весь день подвергаться упорной осаде не только со стороны местных молодых людей, но и моряков из чужих стран; каждую покупку надолго растягивали нашептываемые любезности, просьбы о встрече, признания в любви. Юстэйсия одевалась строго и скромно, сдерживала природную живость ума. Не насмешничала, да и не хотела насмешничать; только замыкалась в себе. Ее прозвали «La Cangueneuse» от слова «cangue» — шейная колодка, как называли мундирный воротник французских офицеров XVIII века, до того подпиравший подбородок, что нельзя было шевельнуть головой. Отец сперва удивился способностям, проявленным младшей дочерью, потом обрадовался. Теперь можно было осуществить давнишнюю мечту — стать таможенным чиновником и надеть мундир. Можно было послужить своему государю.
Дважды в день ледяной взгляд Юстэйсии теплел: во время ранней обедни, где можно не опасаться посторонних глаз, и поздно вечером, когда в долгожданном уединении она отпирала сундук, таивший в себе белоснежное чудо со приданого.
Она знала свое призвание. Знала, для чего родилась на свет. Для любви, для того, чтобы быть женой и матерью. Вокруг не было примеров такого брака, какой ей рисовался в мечтах. Она его сама придумала. Воздвигла воздушный замок. Птенец, вылупившийся из яйца в темном чулане и сроду не видавший гнезда, когда придет пора гнездования, безошибочно примется за дело. Она собрала милый образ по кусочкам: из наставлении священника, совершающего брачный обряд, из немногих «женских» романов, ходивших по рукам на острове, из церковных фресок, даже из знакомых супружеств, где господствовали усталость, подавленность, унижение, в лучшем случае покорность судьбе. Есть натуры, которым свойственно создавать идеал так же неуклонно и упорно, как Bombyx mori выделяет шелковое волокно. Юстэйсия Симс ожидала, что любовь поможет ей давать и получать все, чем богата земля; распрямиться во весь рост; родить десятерых детей — Рыцарей Баярдов и Жозефин; оправдать свою красоту и дожить до ста лет, лишь слегка согнувшись под ношей любви. При этом она всегда будет непритязательной и скромной и, оставив за дверьми церкви три дюжины детей и внуков, будет, как и теперь, в боковом притворе молиться лишь об одном: чтобы ей и впредь была счастьем женская доля — любовь. Уже ей исполнилось девятнадцать, а все не было видно мужчины, молодого или даже в годах, кого хоть на миг она могла бы вообразить своим спутником в той жизни, о которой мечтала. Юстэйсия была так же здорова духовно, как и телесно. Она не мнила о себе чересчур много, просто она знала наперечет всех женихов в округе (все они доводились ей родней), знала их кругозор, их хорошие черты и дурные. Нет, здесь, на этих островах, такого мужа, какой ей был надобен, не найти. Она оживлялась, заслышав иностранную речь. Ей казалось, что нет в мире места прекраснее, чем ее родной край, — но что есть места, где не так процветают тщеславие, злоба, лень и пренебрежительное отношение к женщине, она не сомневалась. Она с интересом поглядывала на немецких, итальянских, русских и скандинавских моряков, появлявшихся в порту, однако ухаживаний их сторонилась. Не нужен ей муж-моряк, обреченный три четверти года проводить в плаванье, вдали от домашнего очага, который они вместе построят.
Юстэйсия выжидала. Мать следила за ней из глубокой плетеной качалки, все видя и все понимая. Но у матери были свои заботы; ей нужно было выдать замуж трех старших дочерей, а все имевшиеся на острове женихи не замечали никого, кроме младшей. С ней то и дело заводил разговор кто-нибудь из столпов местного общества, а иногда и священник: «Madame Мари-Мадлен… Жан-Батист Антуан отличный молодой человек… виды на наследство… хорошее воспитание… без памяти влюблен в вашу дочь Юстэйсию. Не поговорите ли вы с дочерью, chere madame».
Как-то вечером она позвала Юстэйсию в свою комнату.
— Послушай, дочка, вот уже два года, как ты отказываешь всем, кто к тебе сватается. Сама не выходишь замуж и сестрам мешаешь. Чего тебе надо?
— Вы недовольны, что я работаю в лавке, maman?
— Вовсе нет.
— Тогда чем же вы недовольны? Разве моя вина, если Антуан и Меме и le petit a Beaurepaire[106] хотят на мне жениться? Они славные молодые люди. Я к ним хорошо отношусь. Но я их не люблю. И они отнимают у меня время, когда я занята делом.
— Вот как?.. Тогда слушай меня внимательно, Юстаси.
Оказалось, во Франции, если молодой девушке приходится одной ездить дилижансом или по железной дороге, путешествие часто бывает неприятным. Ее толкают и тискают и всячески, бога не боясь, донимают мужчины, молодые и старые. Что же делает скромная девушка, чтобы уберечь себя от этого? Натирает лоб и щеки соком остролиста. Коже он не вредит. Отмывается в одну минуту. Но, наложенный на лицо, он словно гасит сияние юности. Кожа становится землисто-серой — даже с прозеленью. И безобразники больше не привязываются!
— Что ты на это скажешь, Юстаси?
— Maman, ангел! А где его взять, этот сок?
— На наших островах остролист не растет, но у нас есть кое-что другое. Есть растение, которое называется borqui, или boraqui. Вот, взгляни.
— Скорей дайте мне его попробовать, maman! Скорей!
По острову пошли толки, что Юстэйсия слишком много трудится в лавке. Она постарела, подурнела. Остаться ей старой девой. А у старших сестер завелись поклонники. На рождество Маржолен стала невестой.
Но стоило появиться на Сент-Киттсе Брекенриджу Лансингу, как к Юстэйсии Симс вдруг вернулась былая красота.
За что бы ни брался Брекенридж Лансинг, начинал он всегда хорошо. Он переезжал с острова на остров, заключая сделки на поставку лаврового масла и рома. Всюду ему сопутствовала удача. Со складов плантаций выкатывали бочки, бутыли, бочонки и наклеивали на них адреса лабораторий компании, которую он представлял: Джелинек, штат Нью-Джерси. Попутно его развлекали кто как мог. Устраивали балы при свечах под открытым небом в просторном дворе плантаторского дома. Приглашали его на охоту. Матери принаряжали для него дочерей. Мужчинам, правда, с ним скоро делалось скучно. В нем было немало мальчишески привлекательного, но местные мужчины не привыкли общаться с мальчишками. Зато он покорил сердца всех женщин, включая Юстэйсию Симс.
Сколько лет потом Юстэйсия будет с тоской спрашивать себя: как? чем?
В одно ясное декабрьское утро, задолго до посещения Лансинга, жители Бастерра были поражены живописнейшим зрелищем: в порт входила большая четырехмачтовая шхуна, где на каждой рее стоял десяток подростков в белом, вытянув руки в стороны. Дальнейшее оказалось еще более удивительным. Учебный корабль польского флота «Гдыня» совершал кругосветное плаванье. На нем было двести гардемаринов в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет. Когда у людей, населяющих целый остров, у всех черные глаза и черные волосы, им кажется, что такая масть естественна, как и сопутствующие ей черты характера, что таков Человек. Тут нет для них тайн. Черты эти привычны и принимаются как должное — и хвастовство, и вероломство, и увертливость. И что же! Вдруг на берег сошли двести юных гардемаринов и их командиры и явили островитянам образ иного Человека — с беззащитной синевой ясных глаз, с волосами цвета меда, словно говорящего о чистоте и невинности. Когда Григорий Великий впервые увидел на римском невольничьем рынке рабов из Британии, он воскликнул: «Это не англы, это ангелы!» Четырехмачтовик «Гдыня» продолжал свой путь вокруг света, но в воображении женщин Сент-Киттса плыла на развернутых белых парусах другая «Гдыня» — с экипажем из непорочных рыцарей, синеоких и розово-золотистых.
Доктор Гиллиз обсасывал каждую свою идею, как собака обгладывает найденную кость, и доктор Гиллиз говорил:
— Природа не терпит крайностей. За последний миллион миллионов лет человечество чересчур расползлось. И вот читаешь в газетах, что во Франции все реже встречаются белокурые женщины; хористок для варьете приходится подбирать в Швеции и Англии. Будущее за шатенами. В российских церквах почти вывелись мощные басы, от которых звенели паникадила, а в Берлине тенора на вес золота. Будущее за баритонами. Когда-нибудь не останется ни высоких, ни низеньких, ни смуглых, ни белокожих. Природа стремится покончить с крайностями. Чтоб ускорить дело, она спаривает противоположные особи. Библия учит, что в конце всех концов, когда наступит Золотой век, лев и агнец возлягут рядом. Мне кажется, это уже не за горами.
— Перестань, пожалуйста, Чарльз.
— Мужчин буйного нрава начнут привлекать кроткие, благоразумные женщины. Сова и буревестник возлягут рядом. Сонная абстрактная мудрость станет сочетаться с кипучей энергией. А птенцы, птенцы, каковы будут птенцы! Взять хотя бы нас с тобой, Кора.
— Уж меня-то оставь в покое.
— Дарвин не щадил трудов, чтобы показать нам, как природа отбирает то, что способно приноровиться и выжить.
— Чарльз, я не хочу, чтобы в моем доме произносилось это имя.
— Может быть, теперь, спустя сотни миллионов лет, природа начала естественный отбор по признаку ума, интеллекта, духа. Может быть, природа вступает в новую эру. Глупцы будут вырождаться, мудрые развиваться и крепнуть. Может быть, оттого Стэйси вышла за Брека. Такова была воля природа. Ей требовалось интересное человеческое потомство для подтверждения ее новых идей… Принято говорить, что мы «проживаем жизнь». Вздор! Это жизнь нас проживает.
— Бессмысленные слова.
У Брекенриджа Лансинга было заурядное лицо продавца из айовской аптеки, но глаза его синели, как васильки, а волосы отливали серебристым золотом. Антильские плантаторы думали о том, что с ним можно заключить выгодную сделку; Юстэйсия Симс думала о том, что от него можно родить детей, похожих на крылатых младенцев с алтарных фресок.
В Нью-Йорке в правлении компании деятельностью Лансинга остались довольны. Он вернулся в Штаты, переполненный идеями и проектами. От предложения снова отправиться на берега Карибского моря он ловко увернулся. Он знал уже, что он не из тех, к кому удача приходит дважды. Он добился перевода в Нью-Джерси, на лабораторную работу. Склоняясь в облаках пара над колбами и ретортами, он многозначительно щурился и бормотал что-то невнятное. От людей, работавших рядом, он заимствовал обрывки познаний, связанных с проводимыми в лаборатории опытами. Он даже пробовал предлагать кое-какие усовершенствования, но благоприятного впечатления от знакомства с ним хватило ненадолго. При перегонке угля на деготь получаются некоторые побочные продукты, со сходной целью используемые в сходных производственных процессах. Компания направила Лансинга в Питтсбург выяснить возможности совместных исследований и получения совместных патентов. В питтсбургской компании пришли в восторг от его ума и энергии («Давно не встречали такого блестящего молодого человека!..», «Клад, да и только!») и предложили перейти к ним. Он немедленно согласился. Он любил перемены. Партнеров для игры в карты можно найти повсюду, дичь для охоты можно найти повсюду, женщин, какие ему нравились и каким нравился он, тоже можно найти повсюду. Но прежде, чем переехать в Питтсбург, он еще раз съездил в Бастерр и женился на Юстэйсии Симс. В Питтсбурге молодые супруги больше года не задержались. С любезностями и дружескими рукопожатиями Лансинга проводили в Коултаун, штат Иллинойс, на шахту «Убогий Джон».
Перед свадьбой Юстэйсия Симс провела немало мучительных часов в своей приходской церкви. Ведь она выходила за человека чужой веры. Но кое-какие события, происшедшие в городе за последние месяцы, укрепили ее в принятом решении. Она лишний раз увидела, какая участь ждет женщину, становящуюся женой черноглазого и черноволосого представителя мужского пола. Она распродала большую часть своего приданого и изъяла из отцовской кассы сумму, которая, на ее взгляд, причиталась ей по праву. Лансинг так и не узнал, что у нее было припрятано больше тысячи долларов — часть за рамой бабкина зеркала, часть в подкладке одежды. Насчет законности супружества Юстэйсии Симс могли бы возникнуть некоторые сомнения. Супружеский обет пришлось давать трижды — в королевской регистратуре, в баптистской церкви и в католической. Все три церемонии были втиснуты в три дня, так как Лансинг торопился в Питтсбург, к месту своей новой службы. Единственная из трех церемоний, которая что-то значила для самой Юстэйсии, была совершена в маленькой церковке на дальней окраине острова. Совершавший ее священник доводился ей дядей и нежно любил племянницу. Он постарался сделать свое дело со всей возможной обстоятельностью, несмотря на спешку (Лансинг дал слово, что приступит к работе в кратчайший срок). Юстэйсия не заметила — или не пожелала заметить — кое-какие пропуски в брачном обряде.
Так или иначе, брак ее был освящен церковью. Лансинг дважды надел ей на палец обручальное кольцо. Он купил его еще в Нью-Йорке, но, к несчастью, накануне отплытия проиграл сорок долларов каким-то случайным партнерам. От наметанного купеческого глаза Юстэйсии не укрылось, что кольцо — медное, позолоченное. Она копнула свои сбережения и тайком заменила его другим, из чистого золота.
Они привлекали всеобщее внимание на пароходе, которым плыли в Нью-Йорк, — он живостью ума, она красотой. (В ней природная живость ума не уступала красоте, но за три дня вся куда-то пропала; и возвратилась лишь через восемь лет, как возвращается оголодавший пес к родному порогу.) На седьмой и последний вечер их путешествия капитан поднял тост за самую обворожительную молодую чету, какую ему когда-либо выпадала честь везти на своем судне. Пассажиры аплодировали стоя.
У Юстэйсии было такое чувство, будто она одну за другой одолевает высокие горы отчаяния. Еще можно было как-то свыкнуться с тем, что муж оказался неравнодушен к богатству и общественному положению — черта, всегда отталкивавшая ее в отце; что он любит помыкать слугами — черта, отталкивавшая ее в матери; что он скуп в мелочах и расточителен в крупном. Но самым, пожалуй, невыносимым для нее была его страсть мысленно убивать людей. И на палубе и в кают-компании он то и дело наводил воображаемый пистолет на пассажиров корабля. «Пиф-паф! Ага, готов! Прицел повыше… Так! Прошу извинить, мадам! Всего хорошего! Дождемся, когда старый жираф покажется опять!»
— Да чем они тебе помешали, Брекенридж, пусть живут.
— Хорошо, Стэйси, раз ты так хочешь, моя радость. Вот еще только одного скормлю акулам.
Умолкал он лишь во сне. Всякому новобрачному супругу принадлежит завидное право приобщать вчерашнюю невинную девушку к сфере скабрезного остроумия. Почти во всех анекдотах на сексуальные темы, точно дубинка в букете роз, прячется воинствующее пренебрежение к женщине. Если Брекенриджу Лансингу и случалось слышать иные, в его памяти они не удержались.
Обворожительная молодая чета сошла на берег в Нью-Йорке в день Святого Валентина 1878 года. Юстэйсия никогда до того не видела снега, никогда не испытывала холода. Но, лишь немного придя в себя, она поспешила в католическую церковь по заснеженной, трудной для ее ног дороге. Час она простояла на коленях и к концу этого часа поняла: бремя ниспослано ей как небесная кара за ослушание. Она совершила ошибку, но, быть может, священные узы брака как-нибудь ей послужат поддержкой и опорой.
Назавтра они отбыли в Питтсбург, а из Питтсбурга вскоре переехали в Коултаун. Ни тот, ни другой город не мог похвалиться здоровым климатом — особенно для Юстэйсии, дочери солнца и моря. У нее родилось и умерло трое детей. Мы уже знаем, что Лансинг всегда рад был передать бразды правления другому — сперва мисс Томс, потом Эшли. Но каждому человеку нужно иметь в жизни такое место, где он пользовался бы признанием. Лансинг пользовался признанием в клубах и ложах, а пуще того в кабачках вдоль Приречной дороги, где своим смехом, анекдотами и грубыми шутками не раз помогал оживиться заскучавшей было компании. Частенько его коляска въезжала в ворота «Сент-Киттса», когда уже занимался день. Пошатываясь, он распрягал лошадей и оставлял их у крокетной площадки. Подниматься по лестнице вовсе не требовалось, всегда можно было лечь спать в угловой комнате первого этажа, когда-то служившей помещением для детских игр. Ни один рачительный хозяин не оставил бы лошадей у крокетной площадки — но он поступал так не спьяну, а от усталости. То была не простая усталость, а особое сокрушительное утомление, наступающее после надсадной гоньбы за весельем в попытках заглушить некий внутренний бассо остинато разочарования и неуверенности в себе. Юстэйсия рано убедилась, что одна беда ее миновала: ей не достался пьяница муж. Брекенридж Лансинг не переносил алкоголя. Для него это была глубокая драма, ибо умение пить составляло неотъемлемую черту того образа настоящего мужчины, что был внушен ему с детства. Но все же он делал вид, что пьет, еще больше распространялся о своем пьянстве. Он хороню изучил все уловки и хитрости трезвенника поневоле. Тайком выливал содержимое своего стакана в плевательницы и цветочные горшки, незаметно подменял свой полный стакан почти опорожненным стаканом соседа. Носил даже в кармане гусиное перышко, с помощью которого, укрывшись где-нибудь в сторонке, отдавал выпитое обратно.
Лансинг гордился своей женой, он даже питал к ней смутное чувство, похожее на влюбленность; но в то же время он ее боялся. Она образцово вела хозяйство и распоряжалась всеми доходами. Она отказалась от постоянной служанки и лишь время от времени нанимала женщину для уборки дома. Последнее крайне раздражало Лансинга, воспитанного в представлении, что, если жена обходится без прислуги, это роняет достоинство мужа. Но Юстэйсия приводила один веский довод: она не хочет, чтобы всему Коултауну было известно о бурных сценах, нередко разыгрывавшихся в «Сент-Киттсе». Она решала, как поместить свободные деньги, была советчиком Лансинга во многих делах, сочиняла речи, которые он произносил на собраниях лож и на празднике Дня независимости. Он был первым человеком в городе. Его уязвляло, что Юстэйсия неизменно оказывалась права, а еще больше — что она никогда не говорила о своих заслугах, никогда открыто не торжествовала. Он любил ее, но ему страшно было смотреть на свое отражение в ее глазах. А она научилась терпеть все его недостатки, кроме тех, что повторяли недостатки ее отца. Ничто так не приводит нас в отчаяние, как проявление в наших ближних слабостей, уже знакомых по прошлому; ведь в этом кроется предвестие будущего. Отец Юстэйсии был ленив. Она упрашивала Брекенриджа вернуться на работу в Нью-Йорк, предлагала ему отцовское предприятие в Бастерре. До брани она, однако, не унижалась. Шумные ссоры начались лишь тогда, когда она столкнулась с методами, которыми он пытался воспитывать их сына Джорджа.
Джон Эшли с семьей прибыл в Коултаун в 1885 году. Он купил дом, в котором, если верить молве, еще витал дух долгой трагедии семейства Эрли Макгрегора.
Лансингу, как управляющему шахтами, жилье предоставлялось компанией бесплатно. Это был кирпичный дом, потемневший от времени, без веранд; окружавшие его тисы и кедры смотрели невесело. За домом широкая лужайка, окаймленная разросшимся орешником, уступами спускалась к пруду. Прежде чем получить свое нынешнее название «Сент-Киттс», он был известен в городе как «дом Кэйли Дибвойза» — по имени предшественника Лансинга. При Дибвойзах, чадолюбивых и даже в себе сохранивших что-то детское, там всегда стоял дым столбом: у них росло одиннадцать человек детей — шестеро родных и еще пятеро усыновленных, племянников и племянниц. Ковры все были истерты, стулья расшатаны, часть оконниц заклеена оберточной бумагой — когда шел дождь, в мяч играли в комнатах. Столовой вообще не существовало. Поскольку ели всегда на кухне, а обеденный стол в столовой мешал играм, его давно вынесли в сад, под навес, увитый плющом. Часы в доме все стояли. Сломанных перил на крыльце никто не чинил. Что толку чинить, если в семье всегда есть не меньше трех ребятишек в возрасте от девяти до двенадцати лет? Крошка Николае и крошка Филиппина ходили в платьицах, которые до них носили по крайней мере трое старших братцев или сестриц, родных или двоюродных. Где-то вы ныне, счастливые Дибвойзы?
Лансингу сразу же понравился Эшли, и он принялся во всем подражать ему, причем довольно неловко. Зашел даже так далеко, что вздумал делать вид, будто и в «Сент-Киттсе» царит семейное счастье. Что сталось бы с обществом без этих видимостей порядка и согласия, которые именуют лицемерием и снобизмом? Эшли устроил в «Убежище» лабораторию для своих опытов и изобретений. Лансинг тоже выстроил себе на задах усадьбы «Убежище», где снова начал трудиться над давно позабытым «змеиным наваром». То ли сказалась атмосфера дома Дибвойзов, то ли подействовал пример Эшли, но следующий ребенок Юстэйсии выжил, а за ним и еще двое. Супруги Лансинг были старше супругов Эшли, но дети у них вышли почти ровесниками: Фелиситэ Маржолен Дюпюи Лансинг (она родилась в день Святого Феликса, а имена айовских Лансингов унесли с собой на небеса первые, умершие младенцы) — и Лили Сколастика Эшли; Джордж Симс Лансинг — и Роджер Бервин Эшли; потом шла Софи Эшли, одна, без пары, а за нею Энн Лансинг и Констанс Ушли. Юстэйсия высоко несла свой факел лицемерия — если называть это так. На людях, во время приема у мэра или парада в День павших, она играла роль преданной и гордящейся своим мужем жены. Креольская краса недолговечна. К тому времени, когда в Коултаун приехали Эшли, чайная смуглота Юстэйсии поблекла, линии тела утратили свою оленью мягкость, она располнела. И все же любой житель Коултауна, от доктора Гиллиза до чистильщика башмаков в «Иллинойсе», знал: две прекрасные, незаурядные женщины украшают местное общество. Миссис Эшли была высокая блондинка; миссис Лансинг — небольшая брюнетка. Миссис Эшли — дитя звуковой стихии, как все тевтонки, — не умела одеваться, но голос ее был завораживающе красив, а двигалась она как королева; миссис Лансинг — дитя стихии зрительной, как все латинянки, — обладала безошибочным чувством цвета и формы, но ее голос резал слух, точно выкрики попугая, и походка лишена была грации. Миссис Эшли была сдержанна и скупа на слова; миссис Лансинг порывиста и говорлива. Миссис Эшли не обладала чувством юмора, не говоря уж об остроумии; миссис Лансинг никогда не ленилась переворошить два языка и один диалект в поисках хлесткого словца, и горе тому, кого бы ей вздумалось передразнивать мимикой. Без малого двадцать лет обе дамы виделись каждый день, а то и по два раза в день, как и их дети. Они отлично ладили, не питая друг к другу и тени симпатии. Беате Эшли недоставало воображения и свободы мысли, чтобы проникнуть в печальную тайну старшей приятельницы. (Джон Эшли понимал все, но молчал.) Один у них был общий талант — обе были прекрасными кулинарками, одна общая особенность — обе были вырваны из того окружения, в котором с детства закладывались основы их характеров.
Первые десять лет прошли для обеих семей без сколько-нибудь примечательных событий. Беременность, пеленки и круп; корь и падения с дерева; гости в дни рождений, куклы, коллекции марок и коклюш. Джордж попался на краже у Роджера японской марки в три иены. Роджер чертыхнулся и в наказание должен был выполоскать рот с мылом. Фелиситэ, мечтавшую стать монахиней, нашли спящей на голом полу по примеру какой-то святой. Констанс поссорилась со своей закадычной подругой Энн и не разговаривала с ней целую неделю. Все как у всех.
В Коултауне по будням обедали в полдень. Ужинали в шесть часов, преимущественно остатками от обеда. Званые обеды и ужины были не в обычае — за одним исключением: в воскресенье прихожане по очереди приглашали к обеду священника с семьей. Приезжавшие родичи гостями не считались; женщины помогали хозяйке стряпать и мыть посуду. Беата Эшли удивила весь город, когда впервые устроила для гостей поздний ужин при свечах, в котором дети не участвовали. Бывали на таких ужинах всегда Лансинги, иногда доктор Гиллиз с женой, отставной судья, живавший в больших городах, и еще кое-кто. Миссис Лансинг в ответ стала приглашать к себе. Дважды в год в Коултаун наезжали представители центрального управления из Питтсбурга, совершавшие инспекционную поездку по штату. Останавливались они в гостинице «Иллинойс», но их непременно приглашали обедать и в «Сент-Киттс», и в «Вязы». Первый же такой обед произвел ошеломляющее впечатление, не изгладившееся и при повторных визитах. Поражало все — спокойное достоинство Беаты; живость ума Юстэйсии и ее красота, подчеркнутая ярким нарядом и той родинкой — grain de beaute, — что природа с таким художественным чутьем посадила у ее правого глаза; выбор тем застольной беседы, качество и разнообразие блюд. (Расплачиваться потом пришлось женам: «Что, на свете не существует другой еды, кроме ростбифа и тушеной курицы?», «Неужели ты ни о чем больше не способна разговаривать, как только о прислуге?») Джон Эшли чаще молчал во время этих обедов, но именно на нем сосредоточивалось общее внимание. Для него так здраво и непринужденно рассуждали мужчины, так мило улыбались женщины и с такой непривычной скромностью держался Лансинг. Его благодарили за то, что в шахтах повысилась выработка, а следовательно, и прибыль. Но он мягко, почти незаметно переадресовывал все похвалы Лансингу.
Одно примечательное обстоятельство все же возникло в эти десять лет. Юстэйсия Лансинг без памяти влюбилась в Джона Эшли.
Как мы уже знаем, Джон Эшли не делал сбережений. Ему в жены досталась образцовая хозяйка, при доме был небольшой фруктовый сад, огород и курятник. Если и закрадывалась порой ему в голову мысль, что надо бы позаботиться о более основательном образовании для детей, он эту мысль отгонял. Какие-то неопределенные надежды возлагались им на те изобретения, над которыми он трудился в «Убежище». Одно время он увлекся замками. Скупал ржавые сейфы, уцелевшие от пожаров. Разбирал часовые механизмы, ружейные затворы. Лансинг, усердный подражатель, бросил свои лосьоны и кремы и тоже занялся изысканиями в области механики. Эшли всячески старался поддержать в нем этот новый интерес. Его глубоко огорчали лень и распущенность старшего друга, его похождения на Приречной дороге, его невнимание к Юстэйсии. Они стали сообща разрабатывать технические идеи Эшли, причем тот усиленно делал вид, что ему бы не обойтись без столь ценного сотрудника. В сущности же вклад Лансинга сводился к расписыванию будущих успехов совместного предприятия и подсчету несметных доходов, которые оно принесет. Но время шло, а Эшли все медлил с посылкой заявок в Патентное бюро; ему всякий раз казалось, что изобретение можно усовершенствовать еще и еще. Чтобы Лансинг не охладел к делу, он красиво надписывал его имя рядом со своим на всех папках, содержащих технические чертежи. Но возня с проволокой, катушками, пружинами не могла надолго отвлечь Лансинга от той сферы жизни, в которой он себя чувствовал непревзойденным.
Отец Брекенриджа Лансинга третировал жену и детей — сын пробовал следовать его примеру. Нельзя сказать, чтобы такой подход был правилом в нашей стране, но встречался очень часто. В конце прошлого века патриархат изживал себя, его основа уже дала трещину. Когда патриархат, как строй общества и семьи (то же, впрочем, относится и к матриархату), находится в зените, ему не откажешь в известном величии. Он способствует ровному ходу общественной жизни и гармонии в жизни семейной. Каждый хорошо знает свое место. Глава семьи всегда прав. Отцовство придает ему вес, какого не придала бы одна только личная мудрость. Его положение напоминает положение короля, которого тысячелетия непререкаемой и освященной свыше власти еще в колыбели наделяют качествами, необходимыми для правителя. Представление это укоренилось настолько прочно и глубоко, что люди привыкли видеть в пороках, заблуждениях и глупости королей проявление божьей воли; если господу угодно покарать, умудрить и наставить провинившийся народ, он дарует ему короля злого или вовсе уж никчемного. Жены и подданные сами увековечили такой взгляд. Но в переходный период — ведь история есть непрерывное качание маятника от мужского полюса к женскому и обратно, — в переходный период в семье и государстве наступает хаос. Отцы чувствуют, что почва колеблется у них под ногами. Они начинают кричать, спорить, браниться и подвергать всяческим унижениям спутницу своей жизни и залоги супружеской любви. Авраам голоса никогда не повышал. В переходный период женщины защищаются, как могут. Хитрость — щит и меч угнетенных. Без вождя невозможно восстание рабов, но рабство — плохая школа для вождей. Мать Брекенриджа Лансинга была типичной женщиной периода рушащегося патриархата. Ее сыновья не знали иного примера семьи, чем деспот отец и запуганная мать.
Юстэйсия Лансинг выросла в условиях матриархата. Ей трудно было понять неписаные правила, которыми в Коултауне регулировалась семейная жизнь. Спасало ее врожденное чувство юмора. Рушащийся патриархат трагичен и очень смешон.
Больней всего переходный период отзывается на подрастающих сыновьях.
Даже в лучших семьях и в лучшие времена мальчишка всегда неправ. Мальчишки полны неуемной энергии; они любят шум; они одержимы любознательностью и жаждой приключений (а иначе что было бы с человечеством?). Они залезают на кручи и сваливаются в расселины, и сотни взрослых рыщут в поисках детей ночи напролет. У них потребность перебрасываться чем ни попало. Они легко привязываются к животным и не хотят расставаться со своими любимцами. Привычка к чистоте дается им не легче, чем уменье играть на скрипке. Они вечно голодны, но не так просто научить их есть прилично (вилки введены в обиход на сравнительно поздней ступени общественного развития). Их и четверти часа не заставишь усидеть на месте, разве что рассказом о насилиях или внезапных смертях (а иначе что было бы с человечеством?). Их одергивают по двести раз на день. Им претит унизительность их положения — не мужчины, хотя и существа мужского пола. Они стараются торопить время. Они курят и сквернословят. Их фантазию будоражат туманные предостережения против «грязи» и «разврата» — увлекательных областей жизни, куда доступ открыт только взрослым. Они часто смотрятся в зеркало в надежде усмотреть пробивающуюся бородку. Только в обществе сверстников им хорошо и свободно; после игр, напоминающих войну, они возвращаются домой порой с опозданием, все в пыли и в крови, но упоенные (хоть и не всегда) торжеством победы. Мы мало что знаем о детстве Ричарда Львиное Сердце; рассказ про Джорджа Вашингтона и вишневое деревце не все принимают на веру. Наставником Ахиллеса и Ясона был получеловек-полуконь. Росли они под открытым небом; в программу воспитания входило, должно быть, много беготни и свободное от запретов постижение тайн естества.
Брекенридж Лансинг воспитывал своего сына методом, в его время довольно распространенным. Целью метода было «сделать из мальчишки мужчину». Заключался он в том, чтоб и дома и на людях безжалостно высмеивать каждый промах, допущенный ребенком при выполнении этой программы закалки. В пять лет Джорджа бросили в воду и приказали ему плыть. В шесть — отец («лучший отец в мире», впрочем, все отцы — совершенство) затеял с ним игру в мяч на лужайке за домом. Шестилетнему малышу не всегда удается в должной мере координировать меткость глаза и меткость движений, и дело еще осложнялось отчаянным, страстным стремлением мальчика быть на высоте. Кончались эти веселые игры слезами. В семь лет ему подарили пони; он свалился три раза, и отец пони продал. В девять лет он получил в руки винтовку. При каждом очередном испытании насмешки сыпались градом и обо всех неудачах подробно рассказывалось соседям, почтальонам и рассыльным. Попытки Юстэйсии заступиться лишь навлекали подобные же глумления и на нее. Энн подкупала отца тем, что визжала всякий раз: «Девчонка! Девчонка!» Происходили тягостные сцены. Фелиситэ бледнела, но хранила молчание. Когда Джорджа выбрали помощником капитана школьной бейсбольной команды — только помощником, капитаном во всех командах был Роджер Эшли, — отец с ним три дня не разговаривал. На помощь Джорджу пришла природа, но слишком поздно. В шестнадцать лет он догнал отца ростом и превзошел силой. Он подвержен был приступам бешеной ярости. В один прекрасный день он замахнулся на своего мучителя стулом, но, так и не ударив, изломал стул на куски и бросил. После этого случая отец объявил во всеуслышание, что умывает руки. Это мать, сюсюкая над мальчишкой, превратила его в тряпку. Истинным Лансингом он никогда не будет.
Брекенридж Лансинг был прав. Джордж пошел в Симсов, в Дютелье и в Крезо. Он был смуглым, как мать. Товарищи в школе дали было ему прозвище «Нигер», но он быстро выколотил из них охоту этим прозвищем пользоваться. Мисс Добри, учительница, говорила, что лицом он похож на разозленную рысь. Он собрал под свое начало банду сверстников и окрестил ее «могиканами». Своими выходками «могикане» терроризировали город. То поменяют местами указатели на дорогах. То в неурочный час зазвонят в церковные колокола. То даже рискнут в воскресенье забраться на Геркомеров холм, чтобы подсматривать за вечерним молебствием ковенантеров. А уж в канун Всех Святых, когда проказы дозволены, с ними и вовсе сладу не было. Начальник полиции Лейендекер не раз появлялся в «Сент-Киттсе». Среднюю школу Джордж так и не окончил. Пробовали отправлять его и в военные училища, и на подготовительные отделения разных колледжей, но он нигде не задерживался долго.
Энн, любимица отца, ступала по земле с уверенностью, какую дает такое предпочтение. Жизнь почти не ставила на ее пути препятствий, которых напором, криком или грубостью нельзя было бы преодолеть. Уж она-то была чистокровная Лансинг — этакий ангелок с лазоревыми глазами, с пшеничными шелковистыми локонами, с врожденной ясностью представлений. В десять лет она уже была барышней, в тринадцать — солидной матроной. Но дружила она с Констанс Эшли — Констанс, девочкой из семьи, где никто никогда не повышал голоса и никому никогда не пришло бы в голову требовать особого к себе внимания. Дети обладают способностью к компромиссам, которой могли бы позавидовать дипломаты. Констанс четко обозначила границы, дальше коих ее отступать не заставишь, однако дружба частенько оказывалась под угрозой.
Мать Фелиситэ когда-то, на острове Сент-Киттс, знала две короткие радости каждодневно: полчаса ранним утром, перед алтарем, и полчаса поздней ночью, над своим белоснежным приданым. Фелиситэ обе эти радости мечтала слить в одну — посвятить свою жизнь религии. Она училась в школе при монастыре святого Иосифа в Форт-Барри, пока не почувствовала, что нужна дома. Тогда, отказавшись от милой ее сердцу монастырской школы, она возвратилась в Коултаун и продолжала учение в обычной городской. Лицом она походила на мать, но ростом была повыше и темперамента материнского не унаследовала. Училась она превосходно и легко преуспела бы в науке куда посложнее школьной. Как и большинство девушек ее возраста, она вела дневник, но ей не было надобности прятать его за семью замками от посторонних глаз: она писала по-латыни. Отличная рукодельница, она сама себя обшивала, удивляя даже Юстэйсию изысканной тонкостью вкуса. По негласному уговору никто не входил к ней в комнату, хотя дверь всегда была распахнута настежь. Ей хотелось, чтобы эта комната вся была белая, но белая комната в Коултауне означала бы напрасный труд. Пришлось при отделке дома согласиться на голубую, лишь отдельные цветовые пятна, темно-красные и лиловые, нарушали однообразие. В общем, комната вышла простая, но не скучная. Ко всему были приложены искусные руки хозяйки — к занавескам, к покрывалу на кровати, к дорожкам и подголовным салфеточкам. На Фелиситэ произвели огромное впечатление иконы, увиденные у мисс Дубковой, и она пыталась подражать им по-своему. Со стен глядели яркие картинки религиозного содержания, наклеенные на черный бархат и окантованные плетеньем из золотой тесьмы и цветного бисера. Подушечки на ее priedieu[107] менялись в зависимости от праздников и времен года. Это не была ни молельня, ни келья; это было место, где можно исподволь готовить себя к избранной благой участи. Иногда, если Фелиситэ не было дома, мать среди домашних хлопот останавливалась у распахнутой двери и, прислонясь к косяку, с порога заглядывала в комнату. «Вот они, дети, которых рождаешь на свет!»
Ребенком Фелиситэ, как и Энн, была шумлива и взбалмошна. Сдержанность ей далась ценой внутренней борьбы изо дня в день, из года в год и привела заодно к некоторой отрешенности от «мирского» начала. Чувства ее принимали все более отвлеченный характер. Она любила мать. Горячо любила брата. Но уже к этой любви примешивалась любовь ко всему живому вообще, предписываемая ее верой. Так, она постепенно научилась любить отца, любить младшую сестру. Подруг у нее не было. Относились к ней с уважением, но без симпатии. При очередной бурной сцене в «Сент-Киттсе» она не уходила из комнаты — даже когда Энн, катаясь по коврику у камина, истошно визжала: «Не пойду спать!», «Не надену синее платье!» — даже когда отец бросал оскорбленье за оскорбленьем в лицо жене и сыну. При этом она большей частью молчала, только подходила поближе к матери и брату и, глядя прямо в глаза отцу, слушала его брань. Нет строже судей у человека, чем его дети (и он это знает); самый же их строгий суд — тот, что обходится без слов. Мать чувствовала поддержку в дочери, но была между ними какая-то нерушимая преграда. Они вместе занимались шитьем, вместе читали французских классиков, вместе причащались. Одно и то же вызывало их восхищение, одно и то же заставляло страдать, но никогда они вместе не смеялись. Юстэйсии было свойственно от природы обостренное восприятие комических несуразиц жизни, и все испытания, выпавшие на ее долю, не отняли у нее умения забавляться тем, что смешно. Этого умения была лишена ее старшая дочь. (Вот Джордж, тот ловил на лету редкие теперь всплески остроумия матери, мог даже и ответить ей в лад.) Но так или иначе, годы шли, а Фелиситэ все откладывала Великое решение ради пользы, которую, казалось ей, она приносила своим близким в «Сент-Киттсе». Смерть отца в этом смысле не изменила ничего.
И все же у матери с дочерью общего было больше, чем думали они сами. Обе к чему-то шли, обе чего-то ждали, обе напряженно старались что-то понять. У них на глазах разыгрывалась тяжелая драма, но они твердо верили, что молитвы, любовь и терпение принесут желанную ясность — для всех. Мы в этот мир приходим, чтобы постигать истину. Удивительное сопутствовало им обеим всю жизнь. (Разве не удивительно, что они смогли победить в себе природную склонность к безобразным и бессмысленным вспышкам гнева?) И теперь они твердо верили: свершится чудо.
К счастью для Джорджа, у него нашлось двое друзей: Джон Эшли и Ольга Дубкова. Эшли не только «покрывал» никчемность управляющего шахтами, понемногу взваливая на себя все его обязанности; он старался приохотить его к полезному делу, побуждая участвовать в своих опытах и изобретениях. (На суде все эти благородные поступки были вывернуты наизнанку; его обвинили в стремлении захватить занимаемый Лансингом пост, в том, что он систематически присваивал блестящие идеи Лансинга.) Но куда труднее было повлиять на Лансинговские воспитательные методы, имевшие целью «сделать мужчину» из Джорджа. Эшли делал что мог. Он добился доверия мальчика, и тот поверял ему свои беспрестанно меняющиеся жизненные планы — в двенадцать лет он собирался строить летательные аппараты; в тринадцать — отправиться в Африку спасать от истребления львов; в четырнадцать — стать цирковым акробатом. Когда Джорджу шел пятнадцатый год, произошел случай, значительно укрепивший их дружбу.
Дети в семье Лансингов часто болели и терпели разные злоключения. Всю осень 1900 года Джордж не вылезал из простуд и ангин. Решено было удалить ему миндалины. Лансинг велел жене ехать с мальчиком к доктору Хантеру в Форт-Барри и снять номер в гостинице «Фермерской», чтобы провести там две ночи — перед операцией и после нее. Обе девочки поехали тоже, только Фелиситэ ночевать уходила в монастырскую школу.
Джон Эшли не часто выезжал из Коултауна, но по случайному совпадению в эту самую пятницу дела привели его в Форт-Барри. Покончить с ними до вечера не удалось, нужно было остаться еще на день. Он отправился на вокзал к вечернему поезду и через проводника Джерри Билэма передал коултаунскому начальнику станции просьбу дать знать миссис Эшли, что он вернется лишь завтра. Свободных номеров в «Фермерской» не было, но всемогущий мистер Корриган распорядился устроить его на ночь в буфетной. За весь день Эшли ни разу не встретил ни миссис Лансинг, ни ее сына; только входя в гостиницу, он натолкнулся на Энн, которая пространно и несколько важничая объяснила ему, каким образом она очутилась в Форт-Барри. Эшли не захватил с собой достаточно денег, чтобы поужинать в ресторане; пришлось ограничиться порцией супа в соседней закусочной. В десять часов все в гостинице уже мирно спали, кроме Юстэйсии и Джорджа. Мальчик метался, что-то бормотал. Мать встала, зажгла газовый рожок и подошла к сыну.
— Джордж! Джордж, дорогой мой! Не надо волноваться. Каждый месяц сотням людей вырезают миндалины. Через несколько дней ты об этом и думать забудешь. А зато прекратятся твои постоянные ангины.
— Уже скоро утро, мама? Который час?
«Это непривычная обстановка подействовала на его нервы», — уверяла она себя. За всю жизнь Джордж не больше семи-восьми раз ночевал не дома — изредка у Роджера в «Вязах» да еще когда отец брал его с собой на охоту. Ей и самой не много ночей пришлось провести вне дома с той поры, как семья поселилась в «Сент-Киттсе». Она старалась подбодрить сына: три дня после операции доктор велел ему есть одно мороженое; ничто больше не будет мешать его занятиям спортом.
Была у них одна тайна. Мать любила рассказывать сыну про прекраснейший в мире остров, про синее небо и синее море, про то, как она торговала в лавке, когда была чуть постарше, чем он сейчас, про свою большую красивую веселую мать с веером в руках на веранде дома, про отца в его щегольском белом мундире, про молодых людей острова, распевавших под окнами серенады. Ни с кем больше она обо всем этом не говорила. И у них считалось решенным: когда-нибудь она повезет Джорджа на свой остров; верней даже, он ее туда повезет. Джордж был набожен. Ему хотелось побывать в ее церкви, помолиться на том самом месте, где столько раз молилась она. Упоминала она порой и о том, как на Сент-Киттсе появился отец Джорджа, но мальчик в таких случаях упорно хранил молчание. Сам он об отце не заговаривал никогда.
Под конец она тихо спела ему песню на своем patois[108], и Джордж уснул. Она пересела в глубокое плетеное кресло у окна, выходившего на городскую площадь. Кругом было темно.
«Как в моей жизни», — подумала она, но тотчас же спохватилась. «Нет! Нет! Моя жизнь трудна, но не темна. Что-то уже готовится. Что-то вот-вот случится. Пусть я совершила ошибку, но меня ждет искупление». Как смеет она сожалеть о том, что ее жизнь не сложилась иначе ведь в иной жизни не нашлось бы места ее детям — их попросту не было бы! «Наша жизнь — это мы сами. Все связано одно с другим. Самый ничтожный поступок нельзя даже в мыслях повернуть по-другому». Она блуждала вслепую среди понятий необходимости и свободы воли. Да, все окружено тайной, но как нестерпимо было бы жить, если бы этой тайны не было. Она соскользнула на колени и, уронив руки на сиденье кресла, зарылась в них лицом.
Взошла луна.
Около полуночи Джордж громко вскрикнул и вскочил, расшвыряв простыни, точно рыба выпрыгнула из воды.
— Нет! Нет!
— Ш-ш, Джордж. Мама тут, с тобой.
— Где я?
— Мы в Форт-Барри. Ничего не случилось, милый.
Джордж разрыдался. Он мотал головой из стороны в сторону, бился о спинку кровати. Проснулась Энн и завела свое: «Плакса! Девчонка!» Он отмахнулся от стакана воды, поданного матерью. Сшиб ее руку со своего лба. Полчаса прошло, а он все плакал, словно томимый неизбывным отчаянием. Мать в полной растерянности металась по комнате. Послать за отцом Диллоном? Вдруг она услышала шум в коридоре — какие-то подгулявшие постояльцы возвращались к себе под конвоем самого мистера Корригана.
— Потише, господа, потише. В доме уже многие спят. Джо! Джо!.. Билл!!. Ты же не в свою дверь ломишься. Тебе вот сюда, сюда… Не шаркай ногами, Джо, — вот, правильно!
Юстэйсия Лансинг оделась и подняла Энн. Велела ей надеть платье и спуститься вниз.
— Скажешь мистеру Корригану, что у твоего брата нервный припадок. Пускай он разбудит мистера Эшли и попросит его прийти сюда попробовать успокоить Джорджа.
Энн, гордая своей миссией, выполнила ее пунктуально. Через несколько минут Эшли вошел в комнату.
— Джон, его мучают кошмары. Я с ним не могу сладить. Ему завтра предстоит операция — доктор Хантер должен удалить ему миндалины… Энн, уймись и ступай спать!
Энн, забравшись с ногами на материну постель, квохтала: «Девчонка! Девчонка!»
Эшли подошел и сел с нею рядом. Спросил негромко, доверительным тоном:
— Зачем ты так, Энн?
— А мальчики не плачут.
— Слыхал. Так принято считать в Коултауне.
— Все так думают.
— Коултаун — совсем крохотное местечко, Энн. Миллионам американцев оно неизвестно даже по названию. Есть много такого, о чем в Коултауне и понятия не имеют. Мне бы не хотелось думать, что вы с Констанс — просто маленькие коултаунские кумушки, ограниченные и невежественные. Маленькие провинциалочки, которые смотрят на все не своими глазами, а глазами Коултауна.
— Что вы хотите сказать, мистер Эшли?
— Разве ты не знаешь, что даже самым сильным, храбрым мужчинам случается иногда плакать?
— Нет… Папа никогда не плачет. Папа говорит, что…
— Авраам Линкольн плакал. Царь Давид плакал. Это-то ты должна знать. Мы тут совсем недавно читали вслух книгу, где рассказано, как плакал Ахилл — уж мужественнее Ахилла не было никого на свете. «И крупные слезы падали ему на руки», — говорилось в книге. Твой брат вырастет мужественным и сильным, а все-таки ему иной раз случится заплакать.
Энн притихла. Джордж лежал, затаив дыхание. Эшли пересел в кресло около его постели и незаметно сделал Юстэйсии знак отойти подальше. Склонившись над мальчиком, он заговорил вполголоса.
— Я знаю, каково это, когда снятся страшные сны, Джордж. У меня у самого это бывало. Тебе неприятна мысль о завтрашней операции?
— Нет. Операции я не боюсь. Тут… тут другое.
— Снов обычно не принимают всерьез, а между тем они могут быть очень страшны. И очень похожи на явь. Мне такие сна снились после того, как я пропорол себе щеку. Видишь шрам, вот здесь, у подбородка? Я копнил сено, и вилы ударили меня по лицу. Мне тогда было столько лет, сколько теперь тебе… А ты помнишь, что тебе снилось?
— Нет… Не все.
— Нас никто не слышит.
— Он за мной гнался.
— Кто?
— Какой-то… великан. В руке у него был нож, каким срезают высокую траву.
— Серп или коса?
— Скорей, серп — круглый.
— А ты знаешь, кто был этот великан?
— Нет, просто великан. И он смеялся, будто все это в шутку, только…
— Но тебе удалось убежать.
— Я теперь боюсь снова заснуть. Я повернулся и сделал ему что-то такое. И он… лопнул. Мистер Эшли, это было так страшно. У меня под ногами сделалось скользко и мокро, словно я его ранил или… или, может, убил. А я хотел только оттолкнуть его.
Джордж замолчал и отвернулся к стене. Он весь дрожал.
— Понимаю, все понимаю. Да, это очень страшный сон. Не мудрено, что он так потряс тебя. Но знаешь, в нем есть и что-то хорошее. Человек должен уметь защищаться, когда на него нападают. Этот сон означает, что ты растешь, Джордж!
— А он не приснится мне опять, если я засну?
— Подойди к окну и выгляни. Взошла луна, и на площади сейчас светло. Посмотри на Памятник павшим. Видишь фигуру солдата, как он стоит, высоко держа голову? Людям пришлось сражаться. Они вовсе не хотели сражаться, не хотели убивать, а пришлось. Знаешь ты кого-нибудь, кто участвовал в Гражданской войне?
— Да, я нескольких знаю, мистер Эшли. Мистер Киллигру с железнодорожной станции участвовал, и дедушка Дэна Мэя, и мистер Коркоран, кажется, тоже.
— Да, он был полковым барабанщиком. Подумай, Джордж, что пришлось испытать этим людям, а теперь вот все спокойно и тихо кругом… Ты набери побольше воздуху в легкие. Воздух тут куда лучше, чем в Коултауне, можешь мне поверить… А знаешь, тебе еще и потому снятся страшные сны, что у тебя горло все забито. Завтра доктор Хантер прочистит его, и все будет хорошо… Джордж, почему ты никогда летом не работаешь на ферме, как Роджер? Ты сильный паренек, но ничто так не развивает силу, как физическая работа. Это, конечно, нелегко — целыми днями мотыжить землю или копнить сено, доить коров или таскать свиньям корм… Ну, а теперь ложись.
— Папа не позволяет. Он говорит, у нас денег много, и работать мне незачем.
— Это он в шутку. Деньги тут совершенно ни при чем. Мы ведь с твоим отцом близкие друзья, я с ним поговорю, объясню, как это полезно. А у мистера Белла в летнее время каждая пара рук на счету. Ты не лодырь, Джордж, я тебя знаю. Такому работнику любой фермер рад будет.
— Спасибо вам, мистер Эшли.
— Скажи, Джордж, что вокруг чего обращается, Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца?
— Земля вокруг Солнца, мистер Эшли.
— А еще что, кроме Земли?
— Луна и… и планеты, наверно.
— А Солнце что в это время делает?
— Несется в пространстве быстро-быстро.
— И мы вместе с ним?
— Да.
— Будто мы на борту корабля, плывущего по небу. — Пауза. — Знаешь, я часто перед тем, как заснуть, ясно ощущаю это. И вот мы несемся с такой невероятной скоростью, а между тем ты видел, как спокойно и тихо сейчас на площади внизу. Удивительное явление, правда?
— Да, сэр.
— Удивительное явление.
Эшли постоял немного, глядя в раскрытое окно, потом возвратился на прежнее место у постели мальчика.
— А кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Джордж? — Ответа не было. — Все еще собираешься ехать в Африку спасать львов от истребления?
— Нет, я…
— Что, есть новый план?
— Я… Пожалуйста, наклонитесь ко мне поближе, мистер Эшли, я не хочу, чтоб кто-нибудь слышал, кроме вас… Вы когда-нибудь были в театре, мистер Эшли?
— Как же, был. Я видел «Гамлета» с Эдвином Бутом в главной роли.
— Правда?.. А мы с мамой и Фелиситэ прочли всего «Гамлета» вслух.
— Вот как!
— Брат Эдвина Бута убил президента Линкольна, верно?
— У них это, видно, было семейное, Джордж. Нервы не в порядке.
— Когда я учился в одной военной школе, нас водили на «Хижину дяди Тома»… Я хочу стать актером, мистер Эшли.
Затеяв с подростком серьезный разговор о жизни, мы ступаем на зыбкую почву, бредем узкими тропинками грез, по обе стороны обрывающимися в пропасть. Эшли не дано было знать, кто тот, с кем он разговаривает сейчас, что его ожидает впереди.
— Если есть у тебя талант и воля, Джордж, сможешь стать кем захочешь. В другой раз я расскажу тебе об Эдвине Буте поподробней. Но если ты о такой карьере мечтаешь — тем более тебе нужно поскорей избавиться от миндалин. Никаких великанов в гостинице «Фермерской» нет, Джордж. Спокойной ночи. И скажи матери, что ты теперь будешь спать, пусть она отдохнет тоже.
Юстэйсия проводила Эшли до двери. С трудом овладела своим дыханием, чтобы выговорить слово-два благодарности. Потом села у окна и просидела около часу молча, почти не шевелясь, точно слушая ритм движения того корабля, что несет в пространстве ее и ее близких. Голову она подпирала рукой, на губах была чуть заметная, неосознанная улыбка. За этот час она избавилась от остатков горького чувства, томившего ее много лет, — выбросила их за борт. Она перестала завидовать браку Беаты Эшли.
Лет двадцать тому назад, в свой медовый месяц в заснеженном, обледенелом Нью-Йорке, Юстэйсия увидела однажды в магазинной витрине копию «Благовеста» Милле. И ей показалось, что ничего лучше этой картины не может создать человеческий гений, что мир и покой навсегда поселятся в доме того, кому она будет принадлежать. А в соседней витрине красовалась алебастровая модель Тадж-Махала. Она никогда даже этого слова не слышала, но на плакатике рядом можно было прочесть всю историю сооружения знаменитого мавзолея — памятника супружеской любви. Благодаря хитроумному осветительному устройству он представал перед зрителем то будто на заре, то в лучах яркого полуденного солнца, то при лунном свете. «Как хорошо иметь много денег, чтоб можно было приобретать подобные сокровища», — подумала она тогда. Лишь много позже к ней пришло понимание, что прекрасное существует не для того, чтобы обладать им, но чтобы смотреть на него и радоваться красоте. В «Сент-Киттсе» она научилась справляться с внезапными приступами гнева. И вот теперь, в Форт-Барри, исцелилась от тягостного завистливого чувства.
Вторым другом Джорджа стала Ольга Сергеевна Дубкова. Она часто бывала в «Сент-Киттсе», когда он подрастал; потом в один прекрасный день высказала в лицо Брекенриджу Лансингу все, что думала по поводу его обращения с сыном, и ушла, гневно хлопнув дверью. Но до того она много часов провела с Юстэйсией и Фелиситэ у манекена и в увлекательных разговорах о клиньях, кокетках, оборках и рюшах. В иные вечера, если точно известно было, что хозяин дома вернется поздно, удавалось уговорить ее остаться к ужину. Поначалу младшие дети насупливались, когда приходила «тетя портниха», но прошло несколько времени, и они уже скучали без нее. Очень уж интересные вещи она рассказывала о своем детстве в далекой России. Воспитанием юных графинь, Ирины и Ольги, занимались гувернантки — француженки, англичанки и немки. Родители заходили в детскую под вечер, перед тем как переодеваться к обеду. Правда, два раза в месяц девочки получали приглашение по всей форме отобедать с отцом и матерью внизу. Известно было, что на балах, раутах и когда просто кто-нибудь гостил в доме разговор велся исключительно по-французски. Но с дочерьми во время семейных обедов родители говорили по-русски. И беседа никогда не касалась гувернанток, соседей, мелочей повседневной жизни. Мать говорила о дальних странах, о знаменитых художниках и музыкантах. Отец рассказывал детям о чудесах природы — кометах, вулканах, о великих открытиях, совершенных великими людьми: о паровой машине Джеймса Уатта, об оспенных прививках доктора Дженнера, о первых полетах на воздушном шаре. Больше всего говорилось о России, ее истории, ее величии, ее священном предназначении и ее будущем, которое удивит весь мир. Но никогда речь не заходила о возможных изменениях существующего в России порядка. Об этом отец впервые заговорил, когда семья уже была за границей.
Вот эти все разговоры и пересказывала мисс Дубкова, ужиная в «Сент-Киттсе», — про дальние страны, про великих художников, про лампочку Эдисона и первую говорящую машину, про то, что было найдено при раскопках в Помпеях. И еще мисс Дубкова умела тонко и ненавязчиво выражать свое восхищение хозяйкой дома. Как гордился Джордж, слыша лестные слова, адресованные его матери. Глаз не отрывал от ее лица, ища подтверждения, что и она слышала их, что она поняла. Иногда Ольга Сергеевна заговаривала даже о Лансинге — как он, мол, популярен в городе и какое положение занимает. А со временем дошла наконец очередь и до России, ее истории, ее величин, ее священном предназначении и ее будущем, которое удивит мир. Она рассказывала о великом русском царе, построившем свою столицу на болотах, и о другом царе, который дал свободу рабам; о гении Пушкина, о безграничных просторах и красоте своей родины.
Джордж спросил:
— Мисс Дубкова, а на каком языке говорят в России?
— На русском.
— Пожалуйста… пожалуйста, скажите мне что-нибудь по-русски.
Мисс Дубкова помолчала, внимательно вглядываясь в него, потом заговорила на чуждом его уху языке. Он слушал как зачарованный.
— Что это вы сказали, мисс Дубкова?
— Я сказала: «Джордж, сын Брекенриджа» — так у нас обращаются друг к другу взрослые люди. «Ты юн, но на душе у тебя нерадостно, потому что ты не нашел еще того дела, которое должно стать делом всей твоей жизни. Но ты найдешь его и будешь служить ему преданно, честно и бесстрашно. Бог перед каждым из людей поставил одну главную задачу. Мне кажется, та, которую предстоит решать тебе, потребует много мужества, много стойкости; путь твой будет нелегок, но ты победишь».
Она замолчала, молчали и все остальные. Джордж словно окаменел. Энн смотрела на брата круглыми глазами, словно никогда раньше его не видела. Наконец она первая нарушила тишину:
— А почему все это вы знаете, мисс Дубкова?
— Потому что Джордж мне напоминает моего отца.
Так началась эта странная дружба между головорезом-подростком, которому еще не минуло шестнадцати, и пятидесятилетней старой девой, русской эмигранткой. Началась и быстро стала крепнуть — и в беседах за ужином, и в других, что велись после ужина в гостиной. Правда, были в ней свои подъемы и спады, потому что подросткам, как молодым зверькам, свойственно вдруг охладевать к тому, что, казалось, захватило их целиком. Кроме того, возникали естественные перерывы — когда Джордж уезжал в очередную школу. Кто знает, не нарочно ли он добивался исключения, чтобы вернуться к застольным рассказам мисс Дубковой.
— Мой отец бежал из России под самым носом разыскивавшей его полиции. Он сбрил бороду и усы, сбрил даже брови. Переоделся в женское платье и вместе с нами примкнул к толпе женщин, шедших на богомолье. Мы пели псалмы и просили подаяния на дорогах. Мы были увешаны образками. Я показывала Фелиситэ некоторые из тех образков.
— Да, я видела…
— Мать в пути заболела. Мы купили двухколесную тележку и катили ее перед собой. У нас были вшиты в одежду деньги, но, чтобы не возбуждать подозрений, мы, как все, просили подаяния и на ночлег останавливались в монастырях.
— А за что вашего отца разыскивала полиция? — спросила Энн.
— У нас в доме был установлен подпольный типографский станок. Отец печатал на нем листовки.
— Что такое «листовки»?
— Да замолчи ты! — прикрикнул Джордж.
— Он считал, что единственная возможность спасти Россию — это свергнуть царскую власть. И надеялся так подготовить народ, чтобы переворот мог совершиться бескровно. Во всех русских городах, больших и маленьких, действовали его единомышленники. Но под конец он понял, что одними листовками дела не сделаешь. Люди читали их, а предпринимать ничего не предпринимали. Я часто слышала от отца фразу: «Русский человек любит разговорами отделываться от решений». И тогда он задумал другое.
Слушатели, затаив дыхание, ждали. А мисс Дубкова вдруг размахнулась и словно с силой швырнула что-то через всю комнату.
— Что это вы сделали, мисс Дубкова? — спросила Энн.
— Замолчи! — крикнул Джордж.
Юстэйсия решительно начала:
— Неужели нет лучших способов добиться разумной формы правления, чем это?
— Чем что, мама?
— Ш-ш, девочка.
— Энн, слушай, я тебе расскажу сказку. Ты когда-нибудь видела собаку в наморднике?
— А что такое «намордник»?
— Кожаный ремешок, которым собаке стягивают челюсти. Или плетеная корзиночка, которую ей надевают на морду.
— Это чтоб она не кусалась, да? А ест она как же, мисс Дубкова?
— Ты, конечно, знаешь, что лев — царь зверей, Энн. В джунглях власть его безгранична. Что ему вздумается, то он и делает. Так вот, жил-был когда-то в Африке великий царь Лев, и вздумалось ему надеть на всех других львов намордники — и на тигров тоже, и на пантер. На всех, в общем, кроме его супруги, и деток, и двадцати близких родственников. Теперь пасть у бедных зверей только чуть-чуть приоткрывалась. Если их мучил голод, приходилось довольствоваться самой мелкой лесной тварью — другой было не заглотать. Зато великий царь, его супруга и детки и двадцать близких родственников могли есть любую дичь — и антилоп, и газелей, и все что угодно. И наедались они до отвала. Но вот некоторые львы помоложе исхитрились растягивать немного свои намордники. Тогда царь нашел на них другую управу. Он стал связывать им передние лапы, чтобы они не могли бегать. Каждый вечер в царском дворце пир горой, а другие львы ковыляют вокруг вприпрыжку, да еще с этой пакостью на мордах. У царя каждый вечер веселье, а у других, как вы думаете?
— Нет! — закричали дети.
— А радовались ли другие рождению нового львенка, как вы думаете?
— Нет! Нет!
— Дети! Дети! Не надо так горячиться.
— И вот однажды другие львы собрались в отдаленном уголке джунглей на совет — как им быть, как облегчить свою жалкую участь. И согласились на том, что есть один только выход.
— Знаю какой! — отозвался Джордж, стукнув по подлокотникам кресла. В лице у него не было ни кровинки. Но мисс Дубкова продолжала, как будто и не слыхала его слов.
— Самое скверное тут — запомни, Энн! — самое скверное, это что лев — благороднейший из зверей. Русский народ — величайший народ, когда-либо живший на земле. Нет народа, более горячо любящего свою родину. Нет парода более самоотверженного, когда приходится встать на ее защиту — Наполеон убедился в этом ценой потери своей могущественной армии. Нет народа более трудолюбивого и более выносливого. Государства Европы с каждым днем все больше приходят в упадок. Я это наблюдала своими глазами. Их губит жажда богатства и наслаждений. Они позабыли бога. Мы, русские, храним бога в сердцах своих, подобно тому как прячут фонарь под полой, выходя из дому в бурную ночь. — Она перевела дух и продолжала, слегка понизив голос: — Русский народ — народ-богоносец. Россия — тот ковчег, где спасется человечество в час всемирного потопа. Вас, американцев, и народом не назовешь. Каждый прежде всего думает о себе и уже потом только — о родине… Да, так вот, невозможно было терпеть, чтобы один лев с горсточкой своих родичей, самых никчемных из всего львиного рода, обрек всех прочих львов на собачье полуголодное существование. И отец мой понял: есть один только выход.
— Убить его! Убить! — закричал Джордж, подскочил к стене и забарабанил по ней кулаками.
— Джордж! — воскликнула Юстэйсия.
— Убить! Убить! — кричал Джордж, бросившись на колени и молотя кулаками об пол.
— Джордж! — снова сказала мать. — Возьми себя в руки, пожалуйста. И доешь свой ужин.
Джордж встал, швырнул в окно несколько бомб и опрометью бросился вон из комнаты. Фелиситэ выскользнула вслед за ним.
— Мои дети очень легко возбудимы, Ольга. Креольская кровь сказывается.
— Юстэйсия подошла к двери, выглянула наружу, затем вернулась на свое место; лицо ее хранило тревожное выражение. — У моей матери был поистине бешеный нрав. А уж ее отец! Когда он, бывало, вспылит, никто с ним не мог управиться.
— Maman, с чего это Джордж так разбушевался?
— Ш-ш, девочка. Всякому трудно оставаться спокойным, слушая рассказ о несправедливости.
Фелиситэ нашла брата на крокетной площадке. Он лежал ничком, судорожно и шумно дыша. Долго они шептались о чем-то. Наконец оба вернулись в дом. Джордж на пороге столовой остановился.
— Мисс Дубкова, научите меня, пожалуйста, говорить по-русски.
Мисс Дубкова оглянулась на Юстэйсию, но та лишь переводила глаза с одного на другого, не находя что ответить.
— С ума ты сошел, Джордж, — сказала Энн. — Ты же ничему вообще выучиться не можешь. В нашей школе ты был самым худшим учеником, а потом тебя еще из трех школ исключили.
— Я всему могу выучиться, если только захочу.
— Но зачем тебе русский язык, Джордж? — спросила мать. — Ведь тебе, кроме мисс Дубковой, и говорить на нем не с кем.
— Тут не с кем, а когда я уеду в Россию, он мне понадобится.
— Ты пока доедай свой ужин, а потом мы это обдумаем.
— А я уже сам все обдумал.
Брекенриджу Лансингу решено было не говорить об этой затее. Уроки проходили в бельевой «Иллинойса» или в «Убежище». Юстэйсия настояла на том, чтобы платить за них, и мисс Дубкова в конце концов согласилась, наполовину уменьшив предложенную ей сумму. У мисс Дубковой не было опыта в преподавании языков, но чутье ей подсказывало, что успехи ученика незаурядны. Форму уроков Джордж изобрел сам: вот он будто приехал в Санкт-Петербург, входит в гостиницу, снимает номер. Заказывает обед в ресторане, потом этот обед подает, изображая уже официанта. В Москве покупает себе меховую шапку, собаку, лошадь. Идет в театр. Снова идет в театр, на этот раз с артистического подъезда. Задает кучу вопросов исполнителям главных ролей. Идет в церковь — он даже выучил несколько молитв на церковнославянском. Посещает трактиры и вступает в беседу с молодыми людьми своих лет (двадцать три — двадцать четыре года). Обсуждает с ними, какая форма правления лучше, какая хуже. Советует не забывать, что Россия — великая страна, самая великая в мире. Учительница не могла надивиться его успехам от урока к уроку. («А я когда гуляю, Ольга Сергеевна, воображаю, что я в России, и сам с собой разговариваю по-русски».) Мисс Дубкова подарила ему словарь, купленный тридцать пять лет назад ее отцом в Константинополе. Одолжила свое Евангелие, и он читал его, сверяя текст с французским Евангелием, взятым у матери. «Знаешь, мама, по-русски это совсем иначе звучит. Как-то больше по-мужски звучит, что ли». И вот однажды он обратился к своей учительнице с просьбой: повторить те слова, с которых все началось.
— Какие слова, Джордж, сын Брекенриджа?
— Первые русские слова, которые я услышал.
Она повторила, насколько могла припомнить, негромко и членораздельно. Он все понял без перевода. Для пламенной воли нет невозможного. Понемногу он нащупывал свой путь. В его голосе появились басовые нотки. Он теперь много помогал в доме. Чистил водосточные желоба, протягивал по двору бельевые веревки, выкуривал ос из гнезд, вытирал посуду. Не только минута в минуту являлся к столу, но в тех довольно частых случаях, когда отца не было дома, как бы брал на себя обязанность его заменить. Хвалил поданную еду. Вносил оживление в разговор. Пользуясь унаследованным от матери имитаторским даром, разыгрывал в лицах пространные сцены из жизни тех заведений, откуда был изгнан. Особенно удавался ему доктор Коппинг, протестантский священник, возглавлявший «Пайнз-Пойнтский учебно-развлекательный лагерь для мальчиков». Доктор Коппинг, «сам такой же мальчик в душе», любил завершать день короткой беседой у лагерного костра на тему о добродетелях истинного мужчины. Часто Энн, не дождавшись конца обеда, бросалась к брату: «Джордж! Джордж! Покажи хозяйку в Сент-Реджисе! Покажи еще раз доктора Коппинга!» Злая меткость этих карикатур смущала Юстэйсию. И не без оснований. При ней и при Фелиситэ Джордж никогда не «показывал» своего отца. Но если ни той, ни другой в комнате не было, Энн могла вволю натешиться сменой убийственных по портретному сходству картинок: отец на охоте стреляет перепелок и зайцев; отец возвращается после тяжелого трудового дня в шахтоуправлении; отец решает «махнуть рукой» на Джорджа; отец заискивает перед младшей дочерью — «папочкиным ангелочком». Немного понадобилось времени, чтобы брат сделался кумиром Энн; еще меньше — чтоб отец стал смешон в ее глазах. От Джорджа Энн готова была терпеть даже назидания. Знал же он откуда-то, что юная русская княжна не визжит и не топает ногами, когда ей напоминают, что пора спать. Она делает матери реверанс и говорит: «Спасибо, chere maman, за вашу доброту». И старшим сестрам тоже делает реверанс. А если она весь день себя хорошо вела, кто-нибудь из молодых князей, ее братьев, относит ее на руках наверх и, когда она ляжет, читает у ее постельки молитву по-церковнославянски. Если и в самом деле была у Джорджа мечта стать актером, он не дожидался, когда озарят его огни рампы; он со вкусом играл роль отца благородного семейства в «Сент-Киттсе».
Все Лансинги были страстными любителями поговорить; Фелиситэ вставляла свое слово реже других, но это слово всегда было продумано. В доме часто читали вслух, и любая сцена из Мольера или Шекспира становилась предметом длительных обсуждений. Каждый вечер Юстэйсия тщетно пыталась отослать детей спать хотя бы в половине одиннадцатого. Больше всех от этих затягивавшихся бесед выигрывала Энн. Она сильно изменилась за последнее время, взрослея не по дням, а по часам. В своем классе она училась лучше всех. Уроки готовила за каких-нибудь четверть часа, чтобы не пропустить вечерней беседы. Случалось, Брекенридж Лансинг возвращался домой неожиданно рано, часов в десять. На миг с порога он ощущал жар и увлеченность этого разговора в семейном кругу — разговора, который тотчас же умолкал при его появлении. Как-то раз он бесшумно отворил парадную дверь и, остановись в холле, прислушался.
— Maman, мисс Дубкова сказала, что русские писатели — величайшие писатели в мире. И самый из них великий был негр. А папа говорит, негры даже не люди и нет никакого толка учить их читать и писать. («Cheri, каждый человек вправе иметь свое мнение».) Если только оно не дурацкое, как большинство мнений папы. («Джордж, я не разрешаю тебе так говорить об отце. Твой отец…») Его мнения! Пусть говорит что хочет обо мне, но когда он утверждает, что у тебя… («Джордж! Переменим тему!») Когда он утверждает, что у тебя в голове не больше, чем бог вложил в голову суслика… («Это же шутка».) Очень плохая шутка! А помнишь, как он разбил ту раковину с каминной полки, которую прислала тебе твоя мать? («Джордж, ну стоит ли говорить о раковине?») Он ее растоптал каблуком! А это была память оттуда, где ты родилась! («Чем мы старше, тем меньше мы дорожим вещами, Джордж».) Но своей гордостью я дорожу, maman, и твоей гордостью тоже.
Больше Лансинг подслушивать не рисковал.
Юстэйсия делала что могла, для того чтобы эти семейные вечера были интереснее, — вырезала статьи из газет и журналов, выписывала из Чикаго книги и репродукции; в основе ее стараний между прочим лежало и то, что ей хотелось почаще удерживать сына дома. В стенах «Сент-Киттса» Джордж был теперь совсем другим; за этими стенами он оставался прежним — вождем «могикан», грозой всего города. Никакие материнские уговоры и мольбы не действовали. Он выслушивал их, мрачно сдвинув брови, скрестив руки на груди, глядя в одну точку за ее спиной.
— Maman, мне нужно же поразвлечься иногда. Ты не сердись, но мне это, право, нужно.
Юстэйсия понимала прекрасно, что за всеми его бесчинствами и озорными выходками кроется одно — желание разозлить отца. Отцовское гневное презрение его тешило. Он, казалось, со своей стороны ждал чего-то — быть может, что отец изобьет его, выгонит навсегда из дому? Под градом насмешек и обличений он стоял молча, не шелохнувшись, смиренно потупив глаза.
— Ты хоть понимаешь, что из-за тебя нам с матерью стыдно людям в глаза смотреть?
— Да, сэр.
— Понимаешь, что ни у одного порядочного человека в городе не повернется язык сказать о тебе доброе слово?
— Да, сэр.
— Так зачем же ты все это делаешь?
— Сам не знаю, сэр.
— «Сам не знаю, сэр!» Ну ладно же, в сентябре поедешь в новую школу, где, судя по всему, таким, как ты, спуску не дают.
«Могиканам» скоро наскучили детские забавы вроде перевешивания дорожных знаков и перевода стрелок на городских часах. Они не покушались на здоровье и имущество граждан, но они бросали вызов приличиям и благоразумию. Своими сложными, тщательно подготовленными проделками они выставляли на посмешище банки, собрания евангелистов, общепризнанные устои общества. А одно из любимых развлечений «могикан» заставляло порой наведываться в усадьбу начальника городской полиции. Для Юстэйсии это был источник постоянного страха. Мальчишки любили «кататься под брюхом» товарных вагонов. В те годы сотни и тысячи хобо, железнодорожных бродяг, колесили по всей Америке на товарных поездах. Когда такой поезд, обычно неестественно длинный, вползал на территорию железнодорожной станции, безбилетные пассажиры сыпались с него, точно спелые ягоды со смородинового куста. Некоторым удавалось забраться в пустой вагон, другие ехали, распластавшись на крыше или скорчившись на буферах — это на их жаргоне называлось «сидеть на насесте»; ехать же, уцепившись снизу за ходовую часть или привязав себя к ней ремнями, называлось «кататься под брюхом». Это было увлекательно и опасно. Джордж и его приятели часто ухитрялись за одну ночь проехаться таким способом в Форт-Барри или Сомервилл и обратно.
— Джордж! Обещай мне никогда больше не ездить на товарных поездах.
— Maman, вы же знаете — я дал зарок никогда ничего не обещать.
— Ради меня! Слышишь, Джордж, ради меня!
— Maman, можно я вас буду учить русскому языку — всего один час в неделю.
— О, cheri, мне никогда не выучиться по-русски. Да и зачем мне русский язык?
— А вот когда я уеду в Россию и устроюсь там, вы с девочками тоже ко мне туда переедете.
— Джордж, Джордж! А кто же будет заботиться и твоем отце?
Она упрашивала его хоть в одной школе пробыть подольше — ну хоть полгода!
— Я хочу, чтоб ты был образованным человеком, Джордж.
— Я и так образованней всех ребят в этих школах. Я знаю алгебру, химию, историю. Просто мне противно сдавать экзамены. И противно спать, в комнате, где спят еще трое, или десятеро, или сотни людей. От них вонь. И они не умнее грудных младенцев… Вы — мое образование, maman.
— Перестань говорить глупости.
— Отец окончил колледж, а образования у него как у кузнечика.
— Джордж! Я тебе запрещаю так говорить. Слышишь, запрещаю.
Была у Юстэйсии еще одна, более серьезная забота: не страдает ли Джордж припадками? Не душевнобольной ли он? Что такое «припадки», она сама хорошенько не знала, а о признаках, по которым распознается душевная болезнь, и вовсе не имела представления. В начале нашего века о подобных недугах и связанных с ними опасениях решались говорить разве что с домашним врачом, да и то вполголоса. Но доктор Гридли, домашний врач Лансингов, был крайне туг на ухо. Даже пользуйся он у Юстэйсии большим уважением, она не могла бы заставить себя кричать на весь дом о странностях поведения Джорджа. Прежде их врачом был доктор Гиллиз, но несколько лет назад Брекенридж Лансинг с ним рассорился. Доктор Гиллиз решительно возразил против какого-то его медицинского суждения. А Лансинг возражений не терпел. Он целый год в молодости проучился на подготовительном отделении медицинского колледжа. Его отец был лучшим фармацевтом штата Айова, и он, Брекенридж, два с лишним года помогал ему в его аптеке. Да у него в мизинце больше медицинских познаний, чем этот старый коновал приобрел за всю свою долголетнюю медицинскую практику. Он перестал здороваться с доктором Гиллизом на улице. Юстэйсии было объявлено, что отныне семью будет лечить доктор Джебез Гридли, врач шахтной амбулатории. Доктор Гридли был дряхлый старичок, кому место давно было на «Убогом Джоне» среди других таких же. Мало того, что он был глух как пень, у него еще с каждым днем слабело зрение. Чтобы получить от него хоть какой-нибудь полезный совет, нужно было достаточно наглядно описать ему спою рану, ожог, нарыв или сыпь. Юстэйсия обратилась к споим домашним лечебникам — «Руководству но оказанию первой помощи», «До прихода врача» — и установила, что классических симптомов эпилепсии у ее сына не наблюдается. Впрочем, она отлично знала, что при его актерских способностях трудно было бы отличить у него необузданные взлеты фантазии от признаков умопомешательства. Он мог вдруг заколотить кулаками по полу и завыть, как голодный волк; мог подолгу слепо кружить по комнате или же метаться с этажа на этаж, выкрикивая: «Махаон!», «Бегония!» В поисках сильных ощущений он вылезал лунной ночью в слуховое окошко и, балансируя, ходил по самому гребню кровли; или в четвертом часу утра взбирался на высоченный орех и, раскачавшись, перепрыгивал на соседние деревья, пониже. Держась за веревку, переходил он пруд Старой каменоломни под музыку трескающегося льда. Никто в Коултауне, даже его верные приспешники «могикане», не сомневался, что у него «мозги набекрень». Юстэйсия, высоко ценя доктора Гиллиза (для жены которого не составляло секрета, что в лице ее мужа миссис Лансинг имеет рабски преданного поклонника), продолжала потихоньку от главы дома вызывать его при любой тревоге — малокровие у Фелиситэ, воспаление среднего уха у Энн. Расплачивалась она за визиты из своих личных денег. Вот и на этот раз она поспешила к доктору Гиллизу. Доктор согласился серьезно поговорить с Джорджем. Джордж дал блестящее представление, в котором продемонстрировал все — ум, находчивость, уравновешенность и превосходные манеры. Но доктора Гиллиза нелегко было провести.
— Миссис Лансинг, нужно, чтобы мальчик уехал из Коултауна, иначе быть беде.
— Но как это сделать, доктор Гиллиз?
— Дайте ему сорок долларов и отправьте его в Сан-Франциско, пусть сам зарабатывает себе на жизнь. Он отлично справится, уверяю нас. Он не болен, миссис Лансинг, но он тут сидит в клетке. Это очень опасно, сажать к клетку полное жизни человеческое существо. Нет, нет, за эту консультацию я денег не возьму, миссис Лансинг. Она была очень поучительной для меня самого. — И доктор Гиллиз засмеялся негромким раскатистым смехом.
Юстэйсия и подумать боялась о том, чтобы исполнить полученный совет, но кошелек с сорока долларами держала наготове.
Чем скверней было на душе у Брекенриджа Лансинга, тем громче похвалялся он своими удачами. Счастливей его нет человека в Соединенных Штатах! Понадобилось двадцать лет напряженной работы и умелого ведения дел, но зато — черт побери! — шахты теперь выдают на-гора такое количество угля, о каком прежде и помышлять нельзя было. А что может быть лучше хорошей дружной американской семьи? Возвращаешься после трудового дня к семейному очагу — это ли не счастье? Люди, слушая, отводили глаза.
Ему было не только скверно, ему было тревожно. Он по-прежнему проводил много времени в своих клубах и ложах, но его — первого человека в городе — давно уже перестали выбирать там на руководящие посты. Все мужчины в Коултауне делились на две категории — те, кто даже в жару не расставался с высоким крахмальным воротничком, и те, кто таких воротничков вообще не носил. Первые не посещали злачных мест на Приречной дороге. Их не называли просто по имени в стенах «Коновязи». Они не являлись домой на рассвете из заведения Джемми, где игра в карты чередовалась со стравливанием в кровавых схватках петухов, собак, кошек, лис, змей или перепившихся батраков. Если почтенный отец семейства вдруг ощущал потребность поразвлечься и поразмяться немного, он устраивал себе деловую поездку в Сент-Луис, Спрингфилд или Чикаго. Лансинг долго не понимал предостерегающих намеков, которые ему делали руководители клубов. История не знала случаев, когда такая привилегированная организация исключила бы кого-то из своих членов, однако любое долготерпение может однажды иссякнуть.
Лансинг пекся об укреплении основы основ общества — благочестивой американской семьи. Центром этой семьи, по его понятиям, был муж и отец, которого все прочие должны любить, почитать, слушаться и бояться. Но выходило что-то не так, а почему? Пусть его можно кой в чем упрекнуть, но какой же мужчина без греха? И отец его не был безгрешен. Работник он превосходный, усердный, добросовестный. Правда, нет у него призвания разрабатывать в подробностях спои планы. Его дело — дать общую идею, наметить контуры; а разработку подробностей можно поручить лишенным воображения трутням. Но так или иначе Лансингу было не по себе, на душе у него становилось все более тревожно и смутно.
На суде Брекенридж Лансинг выглядел истинным образцом всех человеческих добродетелей. Мы охотно замалчиваем недостатки ближних, если это не грозит нашему благосостоянию и не обесценивает собственных наших достоинств. Эшли же оказался тем пришельцем извне — быть может, из будущей эры, — что везде и всегда обречен га участь изгоя.
В мире Лансингов, айовских и коултаунских, принято считать болезнь чем-то зазорным для мужчины. Болеют юнцы до пятнадцати лет и старики после семидесяти, и то если они не сумели приобрести достаточную закалку. Отсюда тонкая ирония реплик, которыми каждодневно обмениваются при встрече: «Привет, Джо, как здоровье?» — «Да как видишь, Билл, скриплю понемногу». Поэтому, когда в феврале 1902 Брекенридж Лансинг пожаловался жене, что чувствует себя неважно, что «пища в него не идет» и внутри «то жжет, то подпирает», Юстэйсия сразу поняла — дело серьезно. Поначалу он решительно отказывался показаться доктору Гиллизу и требовал доктора Гридли. Но Юстэйсия нашла убедительный довод: ведь, чтоб объяснить доктору Гридли характер своего недомогания, ему придется кричать так, что полгорода услышит. Это подействовало, и разрешение позвать «старого коновала» было получено. Юстэйсия дожидалась у подножия лестницы, когда доктор Гиллиз выйдет после осмотра больного.
— Он ничего не пожелал мне рассказать, миссис Лансинг. Вы думаете, ему действительно плохо?
— Уверена в этом.
— Он не дал мне даже ощупать его как следует. Ворчал, что я лезу не туда, куда надо. Указывал, в каком месте мне щупать. Я сказал ему, что его болезнь может оказаться серьезной. Посоветовал съездить к доктору Хантеру в Форт-Барри или даже к какому-нибудь чикагскому специалисту. А он заявил, что шагу не ступит из дому. Где можно присесть, миссис Лансинг? Я хочу дать вам кое-какие предписания.
Сев за стол, он несколько минут раздумывал с пером в руках. Потом, повернувшись к Юстэйсии, твердо взглянул ей в глаза.
— Я вам составлю список вопросов, касающихся хода болезни. По этому списку вы мне каждый день будете писать отчет о его состоянии и присылать с кем-нибудь из детей… Поймите, миссис Лансинг, весь город знает, что ваш муж уже шесть лет не здоровается со мной при встрече. В этих условиях я едва ли могу его лечить, уж не говорю — оперировать, если понадобится операция. Мой совет — попросите доктора Хантера приехать сюда осмотреть его. И чем скорей, тем лучше. Как он с доктором Хантером?
Юстэйсия молча шевельнула бровями.
— Вас ждут серьезные испытания, миссис Лансинг. Буду пока помогать вам, чем смогу.
Лансинг пожелал, чтобы постель ему была постлана внизу, в примыкавшей к столовой «оранжерее». Слово «боли» вслух в доме не произносилось; говорили только об удобстве и покое главы семьи. Питался он кашами и бульонами, впрочем, время от времени устраивал скандал, требуя бифштекса. Если его «покой» нарушался уж очень чувствительно, ему давали несколько капель опиевой настойки. Иногда на три, на четыре дня ему становилось лучше. При первом признаке улучшения он одевался и шел гулять по Главной улице. Джон Эшли приходил к нему каждый день и приносил толстую пачку документов на подпись; таким образом его плодотворная деятельность по управлению шахтами протекала как обычно.
Весь город следил за болезнью Лансинга с живым интересом. Впоследствии, во время процесса, и судья, и присяжные хранили невысказанную уверенность, что, прежде чем всадить Лансингу пулю в затылок, Эшли с помощью Юстэйсии Лансинг долгие месяцы пытался извести его ядом.
Ночь за ночью, ночь за ночью Юстэйсия проводила в кресле у постели больного или прикорнув на диванчике рядом. Керосиновую лампу под зеленым, мягко просвечивающим абажуром не гасила по его настоянию до зари. Спать ему не хотелось; он отсыпался днем. Но тишина действовала на него угнетающе, ее нужно было заполнять разговором, словами. Как будто слова, слова и еще слова могли изменить прошлое, послужить заклинанием будущего, создать новый, достойный образ Брекенриджа Лансинга в настоящем. Первое время Юстэйсия предлагала то сыграть с ним в шахматы или шашки, то почитать вслух из «Бен-Гура», но он слишком был поглощен мыслями о себе, чтобы отвлекаться на что-то другое. За стеклянной дверью, выходившей в сад, ухали вестницы весны — совы; в тихую ночь доносилось с пруда кваканье молодых лягушат. Юстэйсия шила под зеленоватым светом лампы или, лежа на диванчике, смотрела в потолок. А иной раз незаметно перебирала четки под длинной шалью, спускавшейся с плеч.
Даже у здорового человека, если его внезапно разбудить ночью, сердце колотится, словно вот-вот разорвется, и легкие дышат с натугой локомотива, тянущего непомерный груз по пустынным берегам Тихого океана к неведомой станции назначения. А Брекенридж Лансинг, больной, истомленный страхом, цеплялся за разговор, чтобы заглушить словами это бесконечное «жжет и подпирает» внутри. Но вот наконец редел ночной сумрак. Не много есть людских горестей, которые, хотя бы по видимости, не облегчает наступление утра.
Ночь за ночью длился этот бесконечный разговор. Временами у Брекенриджа в тоне появлялись плаксивые, жалобные нотки, но Юстэйсия была настороже. Она умела подстегнуть в нем слабеющую самоуверенность, чередуя утешения с суровыми окриками. Выслушать справедливый упрек порой даже приятно — разумеется, не слишком часто и в разумных пределах. Лансинг охотно признавал за собой кое-какие недостатки — не слишком, впрочем, существенные.
Три часа утра (пасха, 30 марта 1902 года).
— Стэйси!
— Да, дорогой?
— Неужели нельзя хоть на время отложить это дурацкое шитье?
— Милый, ты ведь знаешь, шитье никогда не поглощает всего внимания женщины. Мы шьем и в то же время все видим и слышим вокруг. Ты что хотел сказать?
Пауза.
— Стэйси, мне случалось тебе говорить такое, чего я на самом деле вовсе не думал. Честное слово, не думал.
Пауза.
— Да ответь же ты что-нибудь. Не сиди точно кукла.
— Видишь ли, Брекенридж, ты иногда и вправду бываешь очень глуп.
— То есть как это — глуп?
— Я не стану приводить тебе много примеров. Вот один только маленький пример. Помнишь, ты мне сказал позапрошлой ночью: «Стэйси, ты но можешь понять, что я чувствую. Ты никогда не страдала от боли». Помнишь?
— Ну, помню. Только что же тут глупого?
— Ты забыл, Брекенридж, что у меня трижды умирали дети. И всякий раз я испытывала то, что в медицине называется шоком — глубоким шоком, — в течение двадцати, а то и сорока часов.
Пауза.
— Понимаю, Стэйси… Да, я виноват перед тобой. Прости меня.
— Я тебя прощаю.
— Это ты только говоришь «прощаю». А ты в самом деле прости.
— Прощаю, Брекенридж, в самом деле прощаю.
— Стэйси, почему ты никогда не зовешь меня «Брек»?
— Ты ведь знаешь, я не люблю уменьшительных.
— Но я болен. Сделай мне приятное. Зови меня Бреком. Вот выздоровлю, тогда будешь опять звать как хочешь.
Юстэйсия вела крупную игру. В меру своих способностей, в меру своих ограниченных возможностей (faute de mieux[109], как сама она с невеселой усмешкой себе говорила) она готовила мужа к смерти. А для этого нужно было пробудить к жизни его душу, научить ее постигать себя, раскаиваться и надеяться. Для решения этой задачи приходилось преодолевать неимоверные трудности. Даже тень назидательности в словах жены приводила Лансинга в кощунственное неистовство. Он когда-то, хоть и недолго, готовился стать священнослужителем; назидательность он умел учуять издалека и владел мощным арсеналом эпитетов для ее осмеяния. На беду, у супружеских споров зачастую оказывался непредусмотренный слушатель. Уже несколько лет Джордж почти не пользовался обычным путем, чтобы входить в дом или выходить из него. Дверям он предпочитал окно своей комнаты в верхнем этаже, куда попадал с ветвей ближнего дерева, с крыши черного хода, пройдя по карнизу или вскарабкавшись по скобам, кое-где торчавшим в стене. За последнее время у него появилось обыкновение крадучись бродить вокруг дома. От слуха матери не могли укрыться его шаги по раскисшей от поздней весенней ростепели земле. Было однажды сказано, что Джордж «лицом похож на разозленную рысь»; под стать была и его походка, мягкая и бесшумная. Юстэйсия обостренным кошачьим слухом улавливала близость сына, притаившегося за полураскрытым окном. Лансинг то и дело сердито повышал голос; часто швырял со зла что подвернется под руку. Джордж был тут, готовый защитить мать, если потребуется.
Трудна была задача Юстэйсии, не только трудна, но, быть может, невыполнима.
Три часа утра (вторник, 8 апреля).
Лансинг, задремавший было, вдруг встрепенулся.
— Стэйси!
— Да, дорогой?
— Что ты там делаешь?
— Молюсь за тебя, Брек.
Пауза.
— О чем же ты молишься — о моем выздоровлении?
— Да. Или, как сказано в вашей Библии — мне это слово нравится больше, — о твоем исцелении.
Пауза.
— Понятно: ты думаешь, что я умру.
— Ты прекрасно знаешь, что об этом мне знать не дано. А вот что я действительно думаю, Брек, так это что ты серьезно болен. И мне кажется, надо тебе лечь в больницу, где за тобой будет лучший уход.
— Не хочу ни в какую больницу, не хочу. Никто за мной не сумеет ухаживать лучше, чем ты. Я там с ума сойду, в больнице.
— Но я буду там вместе с тобой.
— Тебе не позволят сидеть у моей постели. Посадят какую-нибудь старую клушу в полосатом платье.
— Жаль, что я сама не клуша в полосатом платье. Меня все время мучает мысль, что я слишком мало знаю.
— Стэйси, я ведь люблю тебя. Вбей себе это в свою глупую голову: я люблю тебя. Не желаю, чтобы меня заперли в дурацкую больницу, куда тебя больше чем на полчаса в день не пустят. Стэйси, выслушай меня — можешь ты хоть раз выслушать меня до конца? Лучше мне умереть, чувствуя, что ты рядом, чем жить годы и годы без тебя.
Юстэйсия ногтями впилась в подлокотники кресла. Мы в этот мир приходим, чтобы постигать истину.
Детям Лансинг запрещал входить к нему в комнату. Даже поглядеть на него с порога им не разрешалось. Он прихворнул немного; вот скоро поправится, тогда сам позовет их. Запретил он также Юстэйсии сообщать о его болезни отцу, сестре, брату Фишеру. Матери уже не было в живых. Эшли он велел передать, что являться в «Сент-Киттс» ежедневно нет надобности, достаточно и через день. Как-то под вечер Юстэйсию вызвали на парадное крыльцо. Беата принесла в закрытой посуде свою знаменитую куриную лапшу по-немецки. Лансинг рассвирепел. Такие гостинцы приносят только в дом, где лежит тяжелобольной.
День за днем, ночь за ночью Юстэйсия почти безотлучно находилась при муже. Она сделала наблюдение: сны ее пациента днем отличались от тех, что он видел в короткие часы забытья среди ночи. Днем ему снилась охота. Он стрелял крупную дичь. А иногда ему снилось, что он офицер, успешно командующий полком в испанской войне. Он стрелял испанцев. Убийство президента Мак-Кинли в минувшем году тоже часто вторгалось в его сны — он видел себя то убийцей, то жертвой. Ночью же он блуждал, не находя выхода, по каким-то незнакомым лестницам вверх и вниз, по бесконечным коридорам шахт. И во сне громко звал свою мать.
Никто в «Сент-Киттсе» не проводил ночи спокойно. Джордж бродил вокруг дома. Дочерей Юстэйсия заставала уснувшими в креслах и на диванах, то в гостиной, то в швейной. С раннего утра на кухне уже варилось какао.
Два часа утра (среда, 16 апреля).
— Девочки, несите свои чашки в гостиную. Я хочу обсудить с вами кое-что. Вот только Джорджа нигде не могу найти. Куда-то он запропастился.
Фелиситэ и Энн уселись у ее ног на ковре. Джордж вдруг появился в-дверях и, прислонясь к косяку, слушал тоже.
— Mes tres chers[110], может быть, пройдет еще некоторое время, пока папино здоровье восстановится окончательно. Мы по-прежнему будем делать все ради его удобства и покоя, но нам нужно подумать и о себе. Знаете то пустующее помещение на Главной улице, где мистер Хикс держал раньше скобяную торговлю? Я решила взять это помещение в аренду. Мы откроем там магазин и будем в нем торговать по очереди.
— Maman!
— Витрину мы поручим Фелиситэ, у нее безукоризненный вкус. Товары в витрине будут часто меняться. Помните, я рассказывала вам, как одна управлялась в отцовской лавке, когда мне не было и семнадцати лет? Энн кое-что унаследовала от меня. У нее есть и нюх, и деловая сметка. Она у нас будет главная продавщица и кассир.
— Maman! Ange![111]
— Найдется и Джорджу дело. Об этом скажу чуть попозже… Чем сейчас занята городская молодежь в вечерние часы после ужина? Слоняются взад-вперед по Главной улице просто так, чтобы убить время. В витринах темно, не заглянешь — да и заглядывать нечего: каждый наизусть знает, что там можно увидеть. Но витрина Фелиситэ будет ярко освещена до девяти часов вечера. Одну неделю в ней будут выставлены товары для женщин и девочек. Так и вижу творение Фелиситэ: фон из черного бархата, может быть уложенного в виде волн. А на нем — записные книжки и тетрадки для дневника в сафьяновых красных переплетах с замочками, и шелк, и шерсть. И вещицы для свадебных подарков и подарков ко дню рождения — хорошенькие футляры для карт, ножницы, сотни всяких мелочей. И книги вроде тех, что я выписывала из Чикаго, — «Все, что нужно знать о своей кошке», и «Путешествие Дэйзи в Париж», и «Золотая сокровищница поэзии».
— Maman!
— Так что люди привыкнут считать, что наш магазин только для женщин. Но тут их ждет ошеломляющий сюрприз. На следующей неделе в витрине оказываются товары для мальчиков и мужчин. Вот здесь нам и пригодится Джордж. Удочки, блесны; геологический молоток и топографические карты округов Гримбл и Кангахила. Джордж нам одолжит свою коллекцию минералов, а Фелиситэ сумеет расположить ее так, что люди часами будут простаивать у витрины. И опять книги — на этот раз «Змеи центральных штатов», «Индейские племена долины Миссисипи», «Грибы съедобные и ядовитые», «С Клайвом по Индии», книга о том, как воспитывать собак, и другие в том же роде. А у Роджера Эшли мы попросим на время его коллекцию индейских наконечников для стрел. Не кажется ли вам, что такие витрины будут не только возбуждать любопытство, но и желание кое-что купить?
Энн обхватила материнские колени.
— Ах, maman, скоро ли мы начнем?
— Заведем и библиотечку, чтоб давать книги на прочтение, и отдельный прилавок, где будут продаваться рисовальные принадлежности — альбомы, карандаши, краски — и руководства для начинающих художников. А когда магазин начнет давать прибыль, мы, пожалуй, откроем еще один и посадим туда — не догадываетесь кого? — мисс Дубкову! В подмогу себе она может взять Лили или Софи Эшли. Вот и еще одна витрина станет светиться вечерами. Но и это не все…
— Maman, у меня дух замирает.
— Здесь, в Коултауне, привыкли смотреть на танцы как на нечто дурное и грешное. Глупости! Коултаунцы на тридцать лет отстали от времени. Я арендую зал в Клубе Чудаков, и два раза в месяц там у нас будет танцкласс.
— Maman, но никто не пойдет!
— Вести уроки станет миссис Эшли. Мы поднимем все шторы на окнах, так что с улицы все будет видно, что происходит внутри. Четверо Эшли и трое Лансингов — это уже кое-что для начала. Я попрошу миссис Бергстром и миссис Кокс присутствовать на уроках, за это их дети будут обучаться бесплатно. А со временем станем устраивать и лекции для молодежи. Мисс Дубкова расскажет о России и о своих путешествиях по свету. Я могу преподать шесть основных правил французской кухни. Лили Эшли попросим спеть. А там, может быть, дойдет дело и до любительского спектакля — что-нибудь из Шекспира, например. Джордж исполнит монологи из «Гамлета» и «Венецианского купца». Лили тоже прекрасно читает. Объявим войну коултаунской скуке, чопорности и узости взглядов.
Из-за холла со стороны столовой донесся приглушенный расстоянием голос Лансинга:
— Стэйси! Стэйси!
— Сейчас иду, дорогой.
— Что ты там делаешь? Бу-бу-бу, шу-шу-шу — сколько можно?
— Иду, милый. Одну минутку. А вы, дети, ступайте наверх — и спать! Завтра мне расскажете, что вы думаете о моих планах.
Девочки, изнемогшие от работы растревоженного воображения, едва добрались до постели. А Джордж между тем все стоял на пороге, не сводя с матери напряженного, горящего взгляда.
— Что с тобой, Джордж?.. Что ты на меня так смотришь? Говори.
— Он тебя ударил.
— Господь с тобой, Джордж! Ударил? Папа меня ударил? Да ничего подобного не было.
— Он тебя ударил!
— Когда же это случилось, по-твоему?
— Вчера вечером. Вот в это время.
— Вчера вечером?.. Вечно ты что-нибудь придумаешь, Джордж. Вчера вечером папе было нехорошо. Он немножко разволновался из-за этого и, размахивая руками, столкнул со столика графин с водой.
— Стэйси! Стэйси!
— Иду, Брек!.. Mon cher petit[112], не надо ничего преувеличивать, да еще сейчас, когда всем нам особенно важно сохранить терпение и ясную голову. И еще одно я тебе должна сказать, Джордж. — Она подошла ближе и взяла его за руку. — Никогда не подслушивай чужие разговоры. Это непорядочно, и взрослые люди так не поступают. Хочу надеяться, что впредь это не повторится.
Джордж вырвал у нее свою руку и через черный ход опрометью бросился вон из дому. Но после этого случая у Юстэйсии никогда не бывало уверенности, что ее разговоры с больным мужем не подслушиваются. Ведь «могикане» похвалялись своим уменьем бесшумно пробираться даже в чаще темного леса, даже по сухой опавшей листве.
— Стэйси! Что ты там делаешь?
— Немного пожурила детей, Брек. Никто в доме теперь не спит в положенное время. Очень тебя прошу, постарайся не повышать голос, когда ты со мной разговариваешь. И не ронять на пол тяжелые предметы.
— Я слышал голос Джорджа тоже.
— Да, ему мне пришлось отдельно сделать внушение.
— Но не целый же час все это отняло. Бу-бу-бу… Знаю я, о чем вы там судачили.
Ночь за ночью — разве уж очень разбушуется непогода — она, улучив минуту, поплотнее закутывалась в свою шаль, выскальзывала через стеклянную дверь бывшей оранжереи и дорожкой, усыпанной гравием, шла к воротам, постоять немного у выхода на Главную, улицу.
Он с каждым днем становился все придирчивей и сварливее. Потребность в ее неусыпном внимании выливалась в потребность ее изводить.
— Уметь жить — значит уметь лягаться, когда нужно. Зарубите себе это на носу, мисс Симс. А когда у человека есть дети… Никто, надеюсь, не скажет, что это я распустил наших детей. Филли надута спесью, словно царица Савская. Джордж рано или поздно угодит в тюрьму и не выйдет оттуда до конца своих дней. Энн прежде относилась к отцу с должным уважением, но за последнее время с ней что-то произошло… А все ты и твои католические бредни! Набиваешь им головы дурацкими суевериями, которых набралась от своих черномазых земляков.
— Продолжай, Брек. Я радуюсь, когда слышу от тебя подобные речи. Верить ты сам не веришь тому, что говоришь, но это дает выход яду, накопившемуся где-то глубоко у тебя внутри. У нас есть поговорка: «Дьявол сильней всего брызжет слюной перед тем, как сгинуть». Ты выздоравливаешь, Брек.
— И еще Джон Эшли! Господи! Да он же слепой кутенок против меня. Тряпка, ничтожество жалкое, вот что он такое. А его изобретения! Консервный нож изобрести и то у него смекалки не хватит… Куда ты, куда?
Он боялся оставаться один; боялся тишины.
— Хочу пройтись по саду.
Когда она возвратилась:
— Что ты делала?
— Да ничего, Брек. Смотрела на звезды. Думала.
Пауза.
— Что ж, тебе целый час на это понадобился?
Пауза.
— А о чем это ты думаешь, когда думаешь?
— Все годы, что я прожила здесь, в этой стране, меня не покидает тоска по морю. Это как больной зуб, который всегда поет потихоньку. Море похоже на звезды. А звезды похожи на море. Мои мысли очень заурядны, Брек. Я думаю то же, что думают миллионы людей, когда смотрят на звезды или на море.
Он бы дорого дал, чтоб проникнуть в эти заурядные мысли. Дрожь пробрала его. Не желал он, чтоб она думала о каких-то там звездах, она должна думать только о нем. И, как часто бывало, он разозлился. Стал в гневе размахивать руками и, как часто бывало, сбросил многое, что стояло на столике у изголовья. Колокольчик упал на пол, громко задребезжал. Юстэйсия подошла к окну и выглянула.
В швейной комнате стоял большой стол. Иногда Фелиситэ с Джорджем играли тут в карты, но Джордж не мог заставить себя сосредоточиться на игре; ему безразлично было, выиграет он или проиграет. Дверь по его настоянию всегда оставалась открытой. С первого этажа, оттуда, где некогда резвились дети (где вы ныне, счастливые Дибвойзы?), а теперь лежал больной Лансинг, доносился неумолкающий гул разговора. Порой этот мерный гул прерывался злым выкриком или стуком падающих предметов, и Фелиситэ спешила положить на плечо брату предостерегающую руку. (С ним бывают «припадки». Он, может быть, болен душевно.) Но он выбегал вон, из окна по стене спускался на землю и долго рыскал вокруг дома.
Нередко они часами сидели в швейной, не говоря ни слова.
— Если он ударит maman, я убью его.
— Джорди! Никогда отец не поднимет на maman руку. Он хворает. Его, верно, мучают боли. Он легко раздражается. Но он понимает отлично, как она необходима ему. Никогда, никогда он ее не ударит.
— Ты не знаешь.
— Знаю. Даже… даже если бы у него помутился вдруг рассудок, maman бы сумела понять. И она бы простила его. Ты все любишь преувеличивать, Джорди.
Полчаса в молчании.
— Знай я наверняка, что maman ничего не грозит, я б отсюда уехал.
— Мне будет тоскливо без тебя, но, может, и в самом деле тебе хорошо бы уехать — ненадолго.
— У меня нет денег.
— Я скопила шестнадцать долларов. Могу дать их тебе хоть сейчас.
— Нет, твоих мне не надо… Я сегодня пытался продать мистеру Кэллихэну свое ружье. Но он больше двенадцати долларов не дает.
— Maman даст тебе деньги. Хочешь, я ее попрошу?
Мы уже видели, как Джон Эшли, скитаясь по Южному полушарию, утешал себя мыслью, что он «крепит стены своего дома». Мы видели, как старались подпереть эти стены и кровлю Юстэйсия и Софи. Фелиситэ год за годом откладывала свой уход в монастырь, чувствуя, что «Сент-Киттсу» нужна ее помощь. Джордж, быть может, и в самом деле был чуть-чуть не в себе. Так или иначе, в мозгу его шла тяжелая, мучительная работа. Фелиситэ знала три способа хоть на короткий срок отвлечь брата от мрачных мыслей. Прибегала она к ним не часто, понимая, что от повторения действенность их притупится. Можно было навести разговор на Россию; можно было пуститься в обсуждение тех прекрасных, овеянных славой путей, которые жизнь открывала перед ними обоими; наконец, можно было уговорить Джорджа прочесть вслух стихи или монолог из какой-нибудь любимой им пьесы. Одному лишь человеку Джордж поверил свою честолюбивую мечту — стать актером. И ни одному не признался в том, что мечтает стать актером в России; слишком дерзкой была эта мечта, слишком сокровенной, заветной, слишком переплетались в ней риск, надежда, неверие в удачу. Сестру он не стал разуверять в том, что по-прежнему намерен бороться против истребления африканских львов, пантер и тигров, а также хочет выступить с ними в цирке, демонстрируя публике их красоту и силу. Фелиситэ никогда не была в театре, даже «Хижину дяди Тома» не видела. Но все та же мисс Дубкова, давшая Лили Эшли первые наставления насчет того, как держать себя на концертной эстраде, учила Фелиситэ и Джорджа выразительно декламировать басни Лафонтена. От нее узнали они, как трудна эта задача — раскрыть голосом все содержание одной стихотворной строки. В Париже, где бежавшая из России семья задержалась на пути в Новый Свет, мисс Дубковой привелось услышать одну из величайших diseuses[113] того времени, заглянуть на миг в тайну простоты — путеводной звезды и тернистой основы подлинного искусства. Раз-другой в неделю, во время ночных бдений в швейной комнате, Фелиситэ удавалось склонить брата что-нибудь «представить». Вдвоем они разыгрывали сцены из «Гофолии» и «Британика» (роль Нерона особенно удавалась Джорджу), из «Гамлета» и «Венецианского купца». Хорош был Джордж и в комедии, изображая мольеровского Скупого с его шкатулкой или Фальстафа, разглагольствующего о своей рыцарской чести. Случалось, забывшись, он начинал декламировать в полный голос. От этого просыпалась Энн — более благодарной и восторженной публики трудно было желать. («А теперь ту, русскую, Джордж, ну пожалуйста!») Впрочем, у нее скоро начинали слипаться глаза. Появлялась на пороге мать и внимательно слушала до конца монолог или сцену.
— Милые вы мои! Спать-то ведь тоже надо. Давайте уговоримся так: каждый из вас читает мне что-нибудь очень хорошее и после этого все отправляются в постель.
Это была ошибка. У Юстэйсии, не плакавшей никогда, даже в час тяжких испытаний, при встрече с прекрасным глаза, как она сама говорила, оказывались «на мокром месте».
Причину ее слез сын истолковал по-своему.
Ночь за ночью.
На последней неделе апреля в состоянии больного наступила перемена. Ему явно становилось лучше. Уже не было надобности прибегать часто к опиевой настойке. Однако расставаться с постелью Лансинг не торопился. Ночные разговоры перешли у него в привычку, в жестокую, но любимую игру Он изощрялся, он хитрил, меняя тона и оттенки.
Сентиментальный: Он ее любит. А она любит ли его? По-настоящему любит? В какую пору их жизни она его больше всего любила? А в какую — меньше всего? Впервые увидев ее почти девочкой на острове Сент-Киттс, он сразу понял: о лучшей жене человеку и мечтать нечего. Да, сразу понял. Видно, не так уж он глуп.
Наступательный: Была ли у нее другая любовь после отъезда с родного острова? Не то что предосудительная связь, нет — просто любовь? Только пусть отвечает честно. И она готова поклясться, что нет? Ее голос звучит неуверенно. Дело ясное, кто-то у нее был. Она от него что-то скрывает. Уж не тот ли молодчик в Питтсбурге, как бишь его? Леонард — а фамилия позабылась. Все ворковал про то, как она мила и изящна. Такой долговязый, а усы точно ветки плакучей ивы. Он, да?
Коварный (убаюкивающие отступления, чтоб внезапным наскоком застать ее врасплох): Как она управлялась с торговлей в Бастерре! Кто бы мог ожидать! Другой такой умницы не сыскать было на всех островах Карибского моря. Сущий, маленький Шейлок в юбке!.. Офицеры с иностранных судов ей, должно быть, не давали проходу. Против военного мундира ни одной девушке не устоять… Не удивительно, если… В укромных уголках недостатка там не было… Да он просто слеп, как летучая мышь. Дело ясное, она его всю жизнь водит за нос. Эти поездки в церковь в Форт-Барри. Кому, интересно, она там назначала свидания?
— Ну вот что, Брекенридж, больше я этого терпеть не хочу. Я устала. За пять недель у меня в общей сложности не было и двенадцати часов отдыха. Завтра попрошу доктора Гиллиза, чтобы он прислал миссис Хаузермен ухаживать за тобой. Ты нарочно стараешься меня мучить, но от этого только хуже тебе самому. Меня ты не замучаешь, Брекенридж. А себе причинишь непоправимый вред.
— Так скажи мне по-честному, и больше мы к этому возвращаться не будем.
— Если ты мне не веришь, так и разговаривать не к чему. Если двадцать четыре года супружеской жизни не научили тебя хотя бы уважению к своей жене, мне тут около тебя нечего делать.
— Куда ты, куда?
— Я пойду прилягу в гостиной, Брекенридж. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони в колокольчик. Но не вздумай звать меня для того, чтобы снова начинать эти вздорные разговоры. В четыре я принесу тебе кашу.
Но именно в силу этих двадцати четырех лет супружеской жизни нельзя было допускать проявлений независимости с ее стороны. Уйти из комнаты — это все, чем она могла отплатить ему, единственная доступная ей форма наказания; но она не вправе наказывать его. Колокольчик звонил бешено, не смолкая. И она сдалась. Она вернулась в свое кресло под зеленым просвечивающим абажуром. Самым тягостным для нее в этот период было отсутствие всяких знаков духовного общения — но, быть может, и самым интересным тоже. Она нимало не сомневалась, что за грубостью его поведения кроется внутренняя борьба духа. Жестокость и лицемерие интересны сами по себе. Она угадывала — знала даже, что его злые нападки — лишь маска, скрывающая его чувство вины перед ней за столь частое небрежение, за все мелкие и безрадостные супружеские измены. Он намеренно изводил ее, надеясь вызвать на упреки и обличения; но это было бы слишком просто. Пусть предстанет перед судом собственной совести. «Дьявол сильней всего брызжет слюной перед тем, как сгинуть». Когда потребность оправдаться перед собой так настойчива, не означает ли это неизбежность раскаяния?
Доктор Хантер предписал Лансингу есть через каждые четыре часа.
Ровно в четыре она принесла ему кашу. До начала того периода, о котором говорилось выше, эта тарелка каши словно бы на какое-то время сближала их. Это тоже была своего рода игра. Юстэйсия, как могла, сдабривала унылую еду, посыпала щепоткой корицы или тертой лимонной цедры. Клала две-три изюминки внутрь. Добавляла несколько капель хересу. Но теперь с этой игрой было покончено.
— А может, ты вовсе не ради церковной службы ездишь в Форт-Барри? А может, весь город давно уже судачит о тебе — о тебе и докторе Хантере.
Сидя в кресле, она то и дело оглядывалась на стеклянную дверь, ведущую в сад. Потом вдруг вскочила и стремительным шагом вышла в холл. На ступеньках лестницы сидела Фелиситэ.
— Ступай спать, Фелиситэ. И никогда не слушай того, что твой отец говорит под влиянием боли.
— Я ничего не слушаю, maman. Я тут нарочно села, чтобы помешать слушать Джорджу. А то он иногда часами просиживает на этой лестнице.
Юстэйсия не сдержала судорожного смеха. Взгляд ее рассеянно блуждал по потолку.
— Va te coucher, cherie[114].
Возвратясь в комнату мужа, она легла на диванчик и рукой прикрыла глаза. Лансинг продолжал монотонно бубнить свое. Она время от времени вставляла короткие реплики, необходимые для поддержания разговора: «Может быть», «Нет!», «Давай переменим тему».
Да. Был другой, которого она полюбила. Но совесть ее оставалась чиста. Она сумела преодолеть свою тоску и свои страдания. Эта любовь была ее венцом, ее наградой. Мысль о ней всегда заставляла ее улыбаться. И часто служила поддержкой, вот как сейчас. Было время, она мучительно допытывалась у себя самой, у ночного неба — безответна ее любовь или, может быть, нет? Теперь это уже не имело значения. Сотни раз она встречалась с ним взглядами. Любовь окружает нас, сказываясь по-разному; она знала — и он ее любит.
Полночь (с субботы 3 мая на воскресенье 4 мая).
— Вот каша.
— Не хочу каши.
— Когда проголодаешься, я ее разогрею.
Пауза. Продолжительная пауза. Юстэйсия теперь знала, что если он на некоторое время умолкает, то это лишь ради эффекта. Он готовится устроить сцену. От природы он был в большой степени актером. Весь тот год, что они прожили в Питтсбурге, Юстэйсия каждую среду ходила на утренники в театр. За пятнадцать центов она покупала билет на галерку, и так продолжалось в течение многих месяцев — покуда беременность не сделала ее появление на людях «неприличным». Она любила театр и одновременно его презирала. Театр очень точно рассчитывает свои эффекты — совсем как теперь Брекенридж. От того, что он пытается ее перехитрить, опередить ее мысли, он становится еще более жалким.
Она его любила. Да, вот к чему привело ее замужество. Она любила его как некую тварь. Подобно большинству людей, для которых два языка — одинаково родные, она думала на обоих. О поверхностных жизненных явлениях она думала по-английски. Когда же дело касалось ее личной, внутренней жизни — переходила на французский. В обоих языках слово «тварь» имеет дна значения; во французском эти значения противопоставлены более четко. Ее любимые французские писатели, Паскаль и Боссюэ, постоянно обыгрывали двойной смысл этого слова: тварь — это отвратительное живое существо, но это также живое существо вообще — большей частью человеческое существо, — созданное богом. Любимый дядя Юстэйсии, благословляя ее брак, предсказывал, что они с мужем станут единой плотью; он был прав. Она любила эту тварь. Ей трудно было представить себе мир без Брекенриджа. Она чуралась даже мысли о том, что могла бы пожелать себе иной жизни. Именно за этих — а вовсе не за каких-то других, воображаемых детей — она была исполнена бесконечной благодарности богу. Это и есть судьба. Паша жизнь — одежда без швов. Все предопределено свыше. В конце концов Юстэйсия пришла к убеждению, сходному с убеждением доктора Гиллиза. Не мы проживаем свою жизнь. Бог проживает наши жизни.
Всю эту неделю, стоило ей бросить взгляд на мужа — небритого, страдающего, придумывающего изощренные способы ее обидеть, жалкого в своей зависимости от нее, мучительно ее любящего, — как любовь к нему тотчас пронзала ее острой болью.
— Стэйси!
— Что, Брек?
— Ты заметила, что я лежу спокойно?
— Да, милый. О чем ты думал?
— О каше.
Воздух был насыщен театральностью. На все пятнадцать центов.
Внезапно он наклонился вперед и ткнул в нее пальцем.
— Наконец-то я понял!
— Что ты понял?
— Я понял, кто этот мужчина.
— Какой мужчина, милый?
— Мужчина, с которым ты встречалась в Форт-Барри. Это Джек Эшли!
С минуту она изумленно на него смотрела. Потом разразилась смехом — отрывистым, горьким смехом. Нет, пощады ей не будет ни в чем.
— И подумать только, что все эти годы я ровно ничего не замечал! А ведь все было ясно как день. Сколько раз вы при мне бросали друг на друга влюбленные взгляды. А потом удирали в гостиницу «Фермерскую» в Форт-Барри! Ах, Стэйси! Сколько раз ты сидела при мне рядом с ним за столом и твоя нога прижималась к его ноге… Что ты делаешь?
— Закрываю двери. Продолжай, Брек, продолжай. Продолжай.
— Зачем ты закрываешь двери? Здесь жарко.
Юстэйсия дрожала.
— Я боюсь, вдруг нас подслушают. Вдруг кто-нибудь из твоих одноклубников вздумает прийти сюда, лечь на траву и подслушивать, о чем ты говоришь, — например, мистер Боствик из Клуба Чудаков или мистер Добс из масонской ложи. Или какая-нибудь девица с Приречной дороги — Хэтти или Берил. Я бы ничуть не удивилась, если б этот увалень Лейендекер…
— Ну и пусть! Ничего нового они не узнают. Сейчас же открой двери, Стэйси!
Но она их закрыла еще плотней. Потом прошла через столовую, заглянула в гостиную и холл. Лансинг схватил первое, что попалось под руку, швырнул и разбил дверное стекло. Грохот был оглушительный. Наверняка его слышал весь Коултаун. Она остановилась в холле и посмотрела на лестницу. Внезапно ею овладело чувство, похожее на восторг. Да, нарыв должен прорваться. Пусть будет как можно хуже, зато потом станет лучше. Она вернулась в комнату больного и Посмотрела на него долгим сумрачным взглядом.
— Вы с Джеком много лет меня обманывали… Что это ты теперь собираешься делать?
— Собираюсь лечь на диван и читать. А ты продолжай, Брек. Я только заткну уши ватой. Мне противно слушать, как ты говоришь гадости.
Он смотрел на нее с изумлением. Она неторопливо заткнула уши ватой, зажгла над диваном газ, легла и открыла книгу.
Почти в ту же минуту она поняла, что не может так поступать. Это слишком жестоко. Единую плоть разделить нельзя. И к тому же ведь это месть. Она обернулась к нему. Он все еще злобно смотрел на нее налитыми кровью глазами. У него был вид побитой собаки. Не спуская с него глаз, она медленно вынула из ушей вату.
— Вы с Джеком много лет меня обманывали.
— Подожди! Подожди минутку, Брек! Совсем недавно ты говорил, что ты меня любишь.
— Да, я и любил! Но тогда я еще не знал того, что знаю теперь. Держу пари, Беата тоже все знает. Держу пари, она ненавидит тебя.
— Брек! Брек! Ведь ты говорил, что ты меня любишь!
— Это он тебя любит. Утешься — Джек тебя любит.
Глаза ее все время возвращались к дверям. Он снова замолк. Актер готовил еще одну превосходную сцену.
Он тихо сказал:
— Я его убью.
— Что? Что ты говоришь?
— Я убью Джека Эшли, если даже это будет последнее, что я сделаю в жизни.
— Дорогой Брек, не говори таких слов.
— Любой суд присяжных меня оправдает. И знаешь почему? Знаешь? Знаешь? Знаешь? Потому что вы с ним давали мне яд. Я не болен. Меня просто-напросто отравили.
— Брек!
— Корица! Мускатный орех и изюм!.. Ты куда?
— Я иду за Джорджем.
— На что тебе Джордж?
— Я хочу послать его за миссис Хаузермен. Пусть она теперь дежурит около тебя по ночам. Расскажи ей все. Она будет готовить тебе такую еду, которую ты сможешь спокойно есть. Я больше ничем не могу помочь тебе, Брек.
Она вышла из комнаты. Поднимаясь по лестнице, она услышала, что он ее зовет. Она постучалась к Джорджу. Никто не ответил. Она открыла дверь в его комнату. Комната была пуста. Через холл она прошла в ванную, намочила руки и лоб холодной водой. Шепотом повторяя: «Все кончено, теперь я отдохну», она опустилась на пол и прижалась лбом к линолеуму. Dieu! Dieu! Nous sommes de pauvres creatures. Aide-nous![115] Она сошла по лестнице вниз. В холле стоял Джордж.
— Джордж! Ты подслушивал, что говорил отец?
Джордж ничего не ответил. Он смотрел куда-то поверх ее плеча.
— Отвечай, когда тебя спрашивают!
— Он выбил стекло. Чем он в тебя бросил?
— Стэйси! С кем ты там разговариваешь?
— Он ничем в меня не бросал. Меня даже не было в комнате. Он тяжело болен. Не обращай внимания на его слова.
— Стэйси! Почему ты не отвечаешь?
— Я разговариваю с Джорджем, Брек.
— Не посылай его за миссис Хаузермен.
Она торопливо зашептала:
— Джордж, Фелиситэ говорит, что ты хотел бы ненадолго уехать. Пожалуй, тебе действительно надо уехать. — Она вынула из кармана и положила ему в руку маленький парчовый кошелек. — Здесь сорок долларов. Уезжай завтра. Пиши мне, дорогой Джордж, пиши мне. Рассказывай мне обо всем, что с тобой будет. — Она поцеловала его. — Сокровище ты мое! Сокровище ты мое!
Отчаянный звон колокольчика.
— Стэйси! Я съем кашу. Иди сюда. Я ее съем, Джордж!
Пауза.
— Джордж!
— Что, папа?
— Зайди ко мне.
Джордж и Юстэйсия вошли в комнату.
— Не ходи за миссис Хаузермен. Слышишь?
— Да, папа.
— У меня есть для тебя другое поручение. Завтра рано утром сбегай к Эшли и попроси мистера Эшли прийти поупражняться в стрельбе в воскресенье днем — сегодня днем. Скажи ему, что мне лучше. Скажи, что я прошу его обязательно прийти со всей семьей.
— Дети не смогут прийти, папа. В пять часов в парке назначен пикник Эпвортской лиги.
— Ладно, тогда пусть придет с миссис Эшли.
— Хорошо, папа.
— А вы все трое тоже идете на пикник?
— Да.
— Но ведь вы католики.
— Роджер — президент. Он и Лили нас приглашают. Мама и Фелиситэ наготовили много бутербродов и пирожных.
— Ладно, ступай.
Джордж не двигался с места.
— Ты что? Я ведь сказал тебе — ступай.
Джордж смотрел на отца каким-то странным тяжелым взглядом. Он медленно подошел к столику возле кровати, взял оловянную миску с кашей и опрокинул себе в рот все ее содержимое. Потом, не поднимая глаз, вышел из комнаты. Лансинг ошарашенно смотрел ему вслед. Юстэйсия огромным усилием подавила смех. Стоит ей сейчас рассмеяться, и она уже не сможет остановиться. Утренники по средам — два билета по пятнадцати центов.
— Зачем он это сделал? Отвечай, Стэйси! Что он хотел этим сказать?
— Ты сегодня наговорил много глупых и жестоких слов, Брек. Я больше не хочу ничего слушать. Позволь мне заткнуть уши ватой. Я буду здесь сидеть и читать.
— Но зачем мальчишка это сделал?
— Если у тебя разумные дети, ты и сам должен вести себя разумно, Брекенридж Лансинг.
— Что все это значит?
Она молча показала на разбитое стекло.
— Ты думаешь, он слышал, о чем мы говорили?
— Я думаю, он слышал, как ты обвинял меня в прелюбодеянии и в убийстве. А ты что думаешь? Ты думаешь, он имел в виду что-нибудь другое?
Брекенридж возмущенно на нее посмотрел.
— Он слышал, как ты грозился убить Джона Эшли. Когда Джорджу понадобился добрый друг, Джон Эшли был ему другом. Брек, почему ты не можешь хоть немножко помолчать? От этих беспрерывных разговоров тебе только становится хуже. Можно мне на пятнадцать минут заткнуть уши ватой?
Он ворчал: «…подслушивает… неслыханная наглость… выпороть его как следует…»
— Можно, Брек?
Он в ярости буркнул:
— Да… Да, делай что хочешь.
Она заткнула уши ватой и прилегла с книгой на диван. О, благословенная тишина! О, волны, с плеском набегающие на берег! О, солнечный свет в бухте Нельсона!
Прошло минут десять. Она не слышала, как он шепотом повторял ее имя. Он встал с постели, прошел по комнате и тихонько коснулся ее плеча. Она обернулась и посмотрела на него. Он опустился на колени и прижался к ее руке лбом. Она вынула из ушей вату.
— Я хочу есть! — сказал он.
Она забыла подать ему в полночь кашу! Она хотела встать, но он ее удержал.
— Я позову Фелиситэ, — проговорила она.
Он заплакал.
— Прости меня, Стэйси. Не обращайся со мной так, Стэйси. Пожалей меня… Я совсем не то хотел сказать. Ты лучшее, что у меня было в жизни. Я ужасно не люблю болеть, и потому мне противно все на свете.
Она снова попыталась встать, но он своим лбом прижал ее руку к краю дивана.
— Меня, наверно, плохо воспитали. Все, за что я ни возьмусь, валится из рук. Скажи мне что-нибудь хорошее, Стэйси.
Она посмотрела вниз на эти все еще золотистые волосы. Васильковых, теперь налитых кровью глаз не было видно. Она взяла его руку и поцеловала.
— Ложись в постель. После каши тебе сразу станет лучше.
— Подожди минутку. Не уходи. Наклонись, я скажу тебе что-то на ухо. Может быть, даже лучше, что дело идет к концу. Я не буду огорчаться. Это ведь все равно что уснуть. Помолись за меня, Стэйси. Я знаю, все твои молитвы бывают услышаны. Помолись, чтобы я умер без мучений. («Ты мне больно придавил руку, Брек!») И еще помолись, чтобы все плохое, что я сделал, постепенно забылось. Слышишь, Стэйси? Чтобы дети думали обо мне… лучше. («Брек, милый, ты придавил мне руку!») Ах, Стэйси, Стэйси, будешь ли ты поминать меня добрым словом?
Он отпустил ее руку. Она погладила его по голове и тихо сказала:
— Все это лишнее, Брек. Конечно, я молюсь за тебя. Конечно, я всегда думаю о тебе с любовью. А теперь ложись в постель. Доктор велел тебе есть каждые четыре часа, а сейчас уже прошло почти шесть. Последнее время тебе стало лучше, а завтра ты должен чувствовать себя совсем хорошо, чтобы мы все могли приятно провести тут время, до того как дети отправятся на пикник.
Сердце ее громко стучало. Она укрыла Брекенриджа одеялом и поцеловала его в лоб. На кухне она медленно размешала ложкой ячневую кашу и вернулась в комнату с оловянной миской.
— Спасибо, Стэйси, — сказал он в первый раз за все время.
Маленькое блюдечко каши она принесла для себя.
— Ты тоже ешь эту дрянь?
— Да, я часто краду у тебя немножко. Эта каша полезна всем.
Оба молча и неторопливо принялись за еду.
— Стэйси, ты когда-нибудь бываешь счастлива?
— Да, и очень часто.
— А чем же ты счастлива?
— Просто тем, что я жена и мать.
Она поймала его взгляд и засмеялась. Она не отводила глаз, пока он не ответил ей коротким тихим смешком.
— Стэйси, Стэйси, какая ты…
Она не дала ему договорить, накрыв своей рукой его руку. Она сказала:
— Ах, Брек, у тебя есть нечто такое, чем ты можешь гордиться, а ты об этом даже не подозреваешь.
— Что это?
— Дети!
Лицо его потемнело. Он снопа уставился в тарелку.
— Да, дети. Знаешь ли ты, что Энн уже дна года идет первой по всем предметам? А мать Вероника говорит, что у нее никогда не было такси одаренной ученицы, как Фелиситэ. За свое латинское сочинение она получила премию на конкурсе четырех штатов в Чикаго.
— Ты очень умная, Стэйси. Это ты…
— Знаешь, что такое дети, Брек? Они — продолжение нас самих. Они становятся тем, чем хотели быть мы.
Пауза.
— Ты жив в них, как жива сердцевина в стволе дерева. У них очень много замечательных качеств, которых нет у моих родственников островитян. Эти качества они унаследовали от твоих айовских предков. Иногда меня даже смех разбирает, до того они кажутся мне чужими. Например, у нас, островитян, нет ни капли упорства. Больше чем на двадцать минут мы ни на чем сосредоточиться не можем. У меня иногда появляются умные мысли, но только от случая к случаю. А вот если Фелиситэ за что-нибудь возьмется, ее никакая сила не остановит. Это Айова! Это твоя кровь! Ты недавно сказал, что Фелиситэ слишком самоуверенна. Ты глубоко ошибался… Ей не хватает только одного. Ей не хватает чуточки жизнерадостности и уверенности в себе, а это может дать ей только любовь отца. Я Фелиситэ не нужна. Я ничем не могу ей помочь. Ей нужен ты!
Лансинг не верил своим глазам — Юстэйсия вынула из рукава носовой платок; Юстэйсия плакала! Он положил ложку. Чуть ли не с робостью он взял жену за руку.
— Ты не права, Стэйси. Ты совершенно не права. Ты — лучшая мать на свете… Я постараюсь исправиться. Я тебе обещаю.
Юстэйсия неожиданно расхохоталась.
— Посмотри, во что я превратила свою кашу. Получилась арестантская каша — арестантам дают кашу на воде! А насчет Джорджа ты прав. Он доставил нам много неприятностей и унижений. Не удивительно, что ты на него сердишься, Брек. Но я помню, что ты мне однажды сказал. Ты сказал, что вы, масоны, всегда выручаете друг друга.
— Да, это верно.
— А тебе не приходило в голову, что отец должен поступать так же со своим сыном? Когда масон совершает ошибку, ты даешь ему понять, что он неправ, но ты не рассказываешь об этом везде и всюду. Ты не твердишь ему об этом беспрерывно. Ты становишься плечом к плечу с ним — так, чтобы все видели, что ты в него веришь… За семнадцать лет ты очень редко хвалил Джорджа. Джордж очень чувствителен. — Она наклонилась вперед, понизила голос и очень отчетливо произнесла: — Если б он хоть раз почувствовал в тебе опору, он бы любил тебя как своего лучшего друга.
Лансинг затаил дыхание.
— А Энн? Разве ты не замечаешь, что она уже не любит тебя так, как прежде? А знаешь — почему? Потому что ты продолжаешь обращаться с ней как с маленькой. Ты не замечаешь, что она очень быстро растет. Она вот-вот станет очень умной молодой особой и хочет, чтобы с нею обращались соответственно уже сейчас. Мой отец совершил ту же ошибку со мной. Я тоже была младшей. Он называл меня птичкой и беспрестанно сюсюкал. Мне было очень противно, и я стала избегать его. Он переменился как раз вовремя, когда увидел, как хорошо я управляюсь в лавке. Теперь мы с ним большие друзья. Ты читал его письма. Он скучает без меня, а я скучаю без него. Ты спрашивал меня, бываю ли я когда-нибудь счастлива. Я очень часто бываю счастлива, потому что у меня есть муж и мои трое детей. И я хочу, чтоб ты тоже был счастлив этим.
Лансинг смущенно озирался. Он поднял колени и опустил на них голову.
— Ох, Стэйси, я хочу поправиться! Я хочу поправиться!
Она встала и поцеловала его в лоб.
— Ты уже поправляешься. А теперь я уберу лампу на буфет. Если ты сможешь ночью уснуть, это первый признак, что тебе лучше. Постарайся поспать хоть часок. Я буду здесь, рядом.
Он спал до пяти часов, проснулся, съел кашу, которую должен был съесть в четыре, снова уснул и проспал до половины восьмого. Проснулся он прежним, уверенным в себе Брекенриджем Лансингом.
— Джордж уже ходил к Эшли?
— Брек, сегодня утром я нашла у себя на зеркале записку. Джордж на несколько дней уехал.
— До четверти девятого нет пассажирских поездов.
— Боюсь, он уехал товарным.
— Где девочки?
— В четверть девятого они собираются ехать и Форт-Барри в церковь.
— Попроси их перед уходом подойти к моей двери.
Без нескольких минут восемь Фелиситэ и Энн — две барышни, принарядившиеся для поездки в церковь, — остановились у дверей его комнаты. Он посмотрел на них так, словно увидел впервые. Он не знал, что сказать им. Они не знали, что сказать ему. Они стояли, широко раскрыв глаза, и ждали. Они напоминали ланей, которых он так часто убивал на охоте.
Наконец он проговорил:
— Желаю вам хорошо провести время.
— Спасибо, папа.
— Там на комоде лежит доллар. Отдайте его за меня в церкви.
— Хорошо, папа.
— Вы успеете по дороге на станцию зайти к Эшли?
Девочки кивнули.
— Попросите Джека и миссис Эшли прийти сюда к половине пятого.
— Хорошо, папа.
— Вы хорошие девочки. Папа вами гордится.
Обвинительное заключение в большой мере основывалось на показаниях девочек. Они передали Джону Эшли приглашение, ничего не говоря об оружии. Обвиняемый спокойно заявил, что понял их так, будто его приглашают на обычные воскресные упражнения в стрельбе. Что в действительности имел в виду Брекенридж Лансинг, не известно, но, увидев, что гость принес с собой ружье, он послал жену в дом за своим. Мужчины подбросили монету, и Эшли выпало стрелять первым. В глубоком ущелье, где расположен Коултаун, даже в мае темнеет очень быстро. Лансинг был убит третьим выстрелом, когда он уже немного устал, а вокруг уже сгустились сумерки.
Вечером следующего дня брат Брекенриджа Фишер, лучший адвокат северной части штата Айова, приехал, чтобы заняться подготовкой погребальной церемонии, которая, надо сказать, удалась на славу. Члены братств явились в баптистскую церковь при всех регалиях. Оркестр Клуба Чудаков, выстроившийся на тротуаре, исполнял «Траурный марш» из «Саула» Генделя. Джон Эшли слушал его, сидя в своей камере. Из Питтсбурга прибыли представители главной дирекции и присутствовали на богослужении в цилиндрах. Две церковные скамьи были отведены для администрации шахт «Колокольчиковая» и «Генриетта Макгрегор». Славословия покойному могли растопить даже каменное сердце, но не произвели ни малейшего впечатления на Вильгельмину Томс. Коултаун еще не видывал подобных похорон.
Фишер Лансинг участвовал в это время в двух или грех громких процессах в Айове, но приезжал в Коултаун каждые две недели, чтобы влиять на ход следствия по делу Эшли. В начале процесса большинство жителей города были уверены, что гибель Лансинга припишут несчастному случаю, вызванному неисправностью ружья Джона Эшли. Враждебное чувство к обвиняемому начало сказываться лишь постепенно. Фишер посетил всех именитых граждан. Он по целым вечерам разглагольствовал в баре гостиницы «Иллинойс». «Уж я позабочусь, чтоб этот сукин сын получил по заслугам, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни. Он пятнадцать лет старался выжить моего брата, чтоб сесть на его место, и наконец решил его пристрелить, сволочь проклятая… Джесс Вилбрем и этот ваш доктор, как бишь его, болтают о каком-то дефекте в ружье. Все это чушь! У нас в Айове таких глупостей не услышишь. Нет, сэр!»
Еще во время отбора присяжных Юстэйсия нашла у себя на крыльце первое из целой серии анонимных писем. Она была благодарна их авторам. Они помогли ей подготовиться к допросу на суде. Она совершенно ясно и спокойно заявила, что ее муж никогда не жаловался на дурное отношение Джона Эшли. («Благодарю вас, миссис Лансинг».) В тот день, когда произошло несчастье, мистер Эшли, видя, что ее муж еще не совсем оправился после болезни, хотел отложить упражнения в стрельбе. Не он, а именно ее муж настоял на том, чтобы сделать несколько выстрелов. («Благодарю вас, миссис Лансинг».) В качестве душеприказчика своего брата Фишер Лансинг обошел «Сент-Киттс» и осмотрел все оценивающим взглядом. Дирекция шахт предоставила Юстэйсии право еще пять лет безвозмездно пользоваться домом. Большая часть мебели принадлежала ей. В «Убежище» Фишер нашел какие-то чертежи: «Тройной пружинный замок Эшли — Лансинга», «Ртутная ударная трубка Эшли — Лансинга».
— Что это такое, Стэйси?
— Они вместе работали над изобретениями.
— Что-нибудь путное?
— Не знаю, Фишер. Если в них и есть что-нибудь путное, то это изобрел Джон Эшли.
— Редкостной красоты чертежи. Бреку бы ни за что так не сделать. Это запатентовано?
— Нет. Они хотели отправить их в Патентное бюро, но так и не собрались.
— Я возьму их с собой и покажу одному приятелю.
— Но, Фишер, это работа мистера Эшли.
— Послушай, сестра, ты зря мне это говоришь. У Брека не хватило бы мозгов даже на то, чтоб изобрести консервный нож. Чертежи замечательные. Я возьму их с собой. Тут может быть заключено целое состояние. Тебе ясно?
— Фишер, это принадлежит Джону Эшли.
— Стэйси! Когда процесс будет окончен, Джон Эшли перестанет существовать. Преступники — не граждане. Живые или мертвые — они не правоспособны.
Фишер часто возвращался к вопросу об «имуществе» Юстэйсии. Оно было довольно значительным. На протяжении многих лет по ее совету муж приобретал то какой-нибудь участок в городе, то горный луг. Это свидетельствовало о недюжинной деловой сметке, потому что Коултаун не рос, а скорей находился уже в застое, и Юстэйсия это понимала. Более того, она убедила Брекенриджа открыть второй текущий счет в банке Форт-Барри, вне пределов досягаемости жадного любопытства Коултауна. Эта операция, а также ее многочисленные элегантные туалеты давали пищу для предположений, что она очень богата. Теперь у нее будет страховка и пенсия.
— Стэйси, у тебя достаточно денег для того, чтобы ты с девочками могла прекрасно жить. Впрочем, заработать еще кое-что на этих изобретениях вам не помешает. Тебе надо как можно скорей уехать из Коултауна и начать наслаждаться жизнью.
— Я никогда не уеду из Коултауна.
— Ты хочешь остаться здесь? В этой дыре?
— Фишер, я не уеду из Коултауна и прошу тебя больше не говорить со мной на эту тему.
— Где Джордж?
— Не знаю где. Он часто исчезает неизвестно куда на неделю-другую.
— Если хочешь знать мое мнение, то Джордж всегда был немного не в своем уме.
Юстэйсия посмотрела на него — долгий холодный взгляд. И легкая усмешка на губах.
Юстэйсия была на суде только однажды — когда ее вызвали давать показания. Ольга Сергеевна навещала ее почти каждый день и рассказывала о ходе процесса. В тот день, когда был объявлен приговор, Ольга Сергеевна пришла в «Сент-Киттс» с красной розой в руках. Юстэйсия встретила ее у дверей. Ни та ни другая не произнесли ни слова. Ольга Сергеевна перекрестилась, положила розу на стол в прихожей и вернулась к своим делам. Во вторник 22 июня Юстэйсия с дочерьми пришла утром на станцию, чтобы ехать в Форт-Барри в церковь. Мистер Киллигру попросил ее зайти к нему на телеграф.
— Миссис Лансинг, вы, верно, еще не знаете последние новости? — И он рассказал ей о происшедшем.
— Кто-нибудь ранен, мистер Киллигру?
— Нет, мэм. Полиция прочесывает лес. Я подумал, что вам будет интересно об этом узнать.
— Спасибо, мистер Киллигру.
Они продолжали свой путь.
К Юстэйсии приходили полицейские. Из анонимных писем она знала, что ее подозревают в том, будто она заплатила несколько тысяч долларов спасителям своего любовника. Незваные гости вначале были почтительны, но постепенно становились все более грубыми. Она оказалась достойным противником. Эти посещения очень ее радовали. Они доказывали, что главный герой еще жив. Будут потом и другие доказательства. Туман, скрывающий истину, рассеется. Таков закон жизни — рано или поздно все тайное становится явным.
Она ежедневно появлялась на улицах в глубоком трауре, который был ей очень к лицу. Она ухаживала за могилой мужа, стараясь посещать ее в такое время, когда на кладбище поменьше любопытных. От Ольги Сергеевны она узнала о том, что Софи торгует на станции лимонадом, и об открытии пансиона. Она послала через Порки кое-какие вещи. Каждую минуту она ожидала встречи с Беатой, пока наконец ее не осенила догадка, что Беата решила не показываться в городе. Почти ежедневно она встречала Софи и ласково с нею здоровалась. Как-то она пригласила ее в «Сент-Киттс» поужинать. Софи поблагодарила, но сказала, что не может надолго уходить из дому, так как должна помогать матери. Магазин подарков и библиотеку-читальню Юстэйсия открывать раздумала. Но помещение, где раньше была скобяная торговля мистера Хикса, она арендовала и, украсив его вывеской «Ателье дамских мод», передала мисс Дубковой. По ее просьбе мисс Дубкова пыталась пригласить себе в помощницы Лили Эшли, однако миссис Эшли ответила, что Лили нужна ей в пансионе.
Через год и восемь месяцев после исчезновения Джорджа — в январе 1904 года — Юстэйсия получила от него открытку из Сан-Франциско, на которой сделанное из слюды солнце садилось в Тихий океан. «Дорогая мама. Был болен. Теперь вполне поправился. Скоро напишу письмо. У меня хорошая работа. Китайская еда очень вкусная и дешевая. С любовью к тебе и к девочкам Джорди (Леонид). P.S. Все, что ты рассказывала нам об океане, — правда. Он замечательный. Je t'embrasse mille fois»[116].
В тот же день в «Сент-Киттс» прибежала мисс Дубкова. Она тоже получила открытку. Открытка была написана по-русски: «Милостивая государыня, я был болен. Теперь вполне поправился. Я познакомился здесь с одной русской семьей, и мы все время говорим на их языке — языке русских рабочих. Благодарю вас за вашу большую доброту. С глубоким уважением, Леонид». Обратного адреса не было. На пасху Юстэйсия получила четки, вырезанные из моржового клыка, а Фелиситэ — яркую разноцветную афишу: «Труппа Флореллы Томпсон и Кэлодина Барнса исполнит пьесу «Девушка-шериф с Лососевого Водопада». В роли Джека Беверли — Леонид Телье». Мисс Дубкова и Энн получили нефритовые пуговицы.
Наконец Юстэйсия дождалась и письма. Он чувствует себя прекрасно. Он читал стихи по-английски, по-французски и по-русски одному театральному антрепренеру, и тот немедленно его ангажировал. Пьесы ужасны. Одни названия чего стоят — «Король опиумной банды», «Мэдж из Клондайка». Он играет очень хорошо. Он написал пьесу, и антрепренер ее поставил. Она называется «Юный преступник из Ла-Гюэнь». Пьеса ужасно плохая, хотя ее лучшие сцены украдены из Les Miserables. Он пришлет свой адрес, когда окончательно устроится. Пусть она неплотно затворяет окно его комнаты, потому что в одну прекрасную ночь он может неожиданно вернуться. Его любовь к ним бесконечна, как Тихий океан. Письмо было подписано «Джорди (Леонид Телье)». «P.S. Пожалуйста, передайте привет мистеру Эшли и всем Эшли». Это письмо больше встревожило, чем обрадовало Юстэйсию, но она и виду не подала. Мы таковы, какими нас создало Провидение.
В конце ноября 1904 года Фелиситэ остановил на улице Джоэл Миллер, некогда исполнявший при Джордже обязанности помощника вождя благородного племени «могикан». Говорил он шепотом и с чрезвычайно таинственным видом.
— Филли, у меня есть для тебя письмо. Притворись, будто мы болтаем о пустяках.
— Какое письмо, Джоэл?
— От Джорджа. Он велел передать его тебе тайком от матери.
— Спасибо, Джоэл. Большое спасибо.
— Не говори никому, что это я тебе его передал.
— Я никому не скажу, Джоэл.
Она спрятала письмо в муфту. Несмотря на метель, она ускорила шаг. Она шла спокойно, но сердце у нее замирало. Она чувствовала, что ей предстоит тяжелое испытание.
ДЖОРДЖ — Фелиситэ (Сан-Франциско, ноябрь 1904 — февраль 1905):
«Chere Зозо, я буду писать тебе много писем. Я буду посылать их через Джоэла. Я послал ему денег, чтобы он абонировал ящик на почте. Родителям он скажет, что это для писем, которые он будет получать от коллекционеров марок. Не говори maman, что я тебе пишу. Если ты расскажешь ей или мисс Дубковой или еще кому-нибудь про то, о чем говорится в моих письмах, я больше никогда не напишу тебе ни слова. Я вычеркну тебя из памяти.
У меня было много неприятностей, но теперь все будет в порядке. Мне нужно с кем-то говорить, и мне нужно слышать, что кто-то говорит со мной, и это — ТЫ. Я буду рассказывать тебе почти все — хорошее, плохое и самое худшее. У maman забот и без того достаточно. Мы-то знаем. Как только получишь это письмо, сядь и напиши мне обо всем. Как поживает maman? О чем она думает? Опиши подробно, что вы делаете по вечерам. О смерти отца можешь мне не писать. Я прочел об этом в газете. Отец вечно толковал о своей страховке. Быстро ли ее выплатили? Как поживает мистер Эшли? Отвечай мне сразу, потому что труппа, в которой я играю, может скоро переехать в Сакраменто или в Портленд, штат Орегон. Je t'embrasse fort[117]. Леонид Телье, гостиница Гибса, Сан-Франциско.
P.S. Я всем говорю, что мать у меня русская, а отец — француз».
(Позднее):
«Со мной произошло вот что. Я уехал из Коултауна под брюхом товарного вагона. На сортировочной станции за Сент-Луисом поезд вдруг дернул и остановился. Я, наверно, дремал, потому что упал и расшиб голову. Меня арестовали, но, что было дальше, я не помню. Очнулся я в сумасшедшем доме. Там было вовсе не плохо, было много зелени и цветов. Я не сказал, кто я такой, потому что я не знал, кто я такой. Однажды пришла женщина петь нам песни, и она спела ту песню, которую всегда пела Лили, — «Родина, милая родина». Вдруг я все вспомнил. Нас часто навещал священник. Я попросил его помочь мне выбраться оттуда. Мне надо было получить мою одежду и деньги, которые были у меня в кармане. Со мной разговаривали много докторов. Я их убедил, что я не сумасшедший, а просто немного тупой. Я сказал, что я русский сирота из Чикаго. Через несколько недель меня выпустили и отдали мне мои деньги. Это было в сентябре. В Сент-Луисе я ходил во все театры и познакомился с актерами. Я хотел играть в театре. Мне сказали, что у них нет ролей, подходящих к моему типу. Чтобы сэкономить деньги, я нанялся официантом в салун. С трех часов дня до трех часов ночи (без жалованья, только за чаевые. На чай давали по нескольку центов). Я собираюсь написать maman, что я не пью, не курю и не сквернословлю. И это правда. На этот счет ты за меня не беспокойся. Но у меня другая слабость, похуже. Помнишь, как maman мечтала поехать в Сан-Франциско, чтобы увидеть океан? Мне все время казалось, что я хочу поехать в Сан-Франциско. К тому же актеры говорили, что это город прекрасных театров. Так оно и есть. Может быть, завтра я получу от тебя письмо. Может быть, у меня в жизни не будет ни одного счастливого дня, но мне все равно. Другие люди будут счастливы».
(На следующей неделе и позже):
«Ты написала такое замечательное письмо, о каком и мечтать трудно… Меня очень удивило то, что ты пишешь про мистера Эшли. Ничего не понимаю. Даже младенцу должно быть ясно, что он не мог это сделать. Что думают люди о том, где он? Возможно, он даже здесь, в Сан-Франциско.
…Я скажу тебе, какая у меня слабость. Я затеваю драки. Я ничего не могу с собой поделать. Такой уж у меня характер. Если кто заговорит со мной сверху вниз, словно я ничтожество какое-нибудь, я прихожу в бешенство. Я его оскорбляю. Я его спрашиваю: «Вы, кажется, сказали, что ваша мать — свинья (или еще хуже)?» И наступаю ему на ногу. Завязывается отчаянная драка. Я ничего не могу с собой поделать. Я еще ни разу не победил в драке, потому что, когда я начинаю драться, у меня делается головокружение. Меня избивают и выбрасывают на улицу. Три раза меня сажали в тюрьму. Один раз я очнулся в больнице. Я, наверно, бредил по-русски, потому что там была одна сестра милосердия, которая немножко понимала по-русски, и одна русская семья взяла меня к себе домой. Мисс Дубкова права. Русские — лучший народ в мире.
…Я пишу тебе такие длинные письма, потому что я не могу спать по ночам. Если я ночью засну, меня мучат кошмары, а днем почти никогда… Люди в белых масках входят через замочную скважину. Я выскакиваю в окно, и они гонятся за мной по горам, покрытым снегом. Это Сибирь. Я начертил мелом кресты на всех стенах и на двери. Но, наверно, мне уже ничто не поможет. Придется к этому привыкнуть. Были бы только другие люди счастливы.
Я знаю, что мне на роду было написано стать очень счастливым, но потом произошли разные вещи. Иногда я так счастлив, что готов задушить в объятиях всю вселенную. Это ненадолго. Ты, и maman, и Энн — будьте счастливы за меня. Я не в счет.
Я ненавижу антрепренера нашей труппы Кэлодина Барнса, а он ненавидит меня. Он старик, но до моего появления он играл всех молодых героев, а добрую половину играет и сейчас. Он красит волосы и даже на улицу выходит нарумяненным. Актер он ужасный. Я произношу все слова роли естественно, и потому, когда он рядом кричит и размахивает руками, он выглядит очень глупо. Все роли молодых героев, которые я играю, дурацкие, но я разучиваю их в номере своей гостиницы до тех пор, пока они не начинают звучать правдиво. Я люблю работать. Флорелла Томпсон — его жена. Она мне очень нравится. Она плохая актриса, но она очень старается. Некоторые сцены нам удаются очень хорошо, и публика это понимает. Флорелла тоже любит работать. Ей никогда не лень прийти днем в театр, и мы работаем. Потом нам приносят солонину с капустой. Она всегда хочет есть. Я люблю смотреть, как едят женщины, но не мужчины. Она много рассказывает мне о своей жизни. Знаешь, актеры, которые живут в соседнем с ними номере, говорят, что он отвратительно с ней обращается. Я всегда говорил: существует множество преступлений, против которых нет законов…
Я теперь пользуюсь большим успехом, но Барнс платит мне мало, потому что я иногда не прихожу на спектакль и кто-то должен играть вместо меня.
В прошлую субботу меня выгнали. Ты знаешь почему. Он меня ненавидит. Я снова устроился в салун официантом. Но он пришел и взял меня обратно. Он не может без меня обойтись. Я слишком популярен.
Нет, я не собираюсь стать актером. Я просто играю, чтобы зарабатывать деньги. Играть на сцене — это несерьезно. Может быть, я стану сыщиком, или бродячим рассказчиком, или разрушителем тюрем. Можешь ты вообразить, что я умею лечить людей? Когда я сидел в сумасшедшем доме в Сент-Луисе, я лечил стольких больных, что там были рады от меня избавиться. Я даже одну девочку вылечил. Сад — или луг — мужского отделения был отделен от женского высокой проволочной оградой. Каждое утро под деревом у ограды неподвижно сидела девочка. Служительница сказала, что она всегда молчит, так как ей кажется, что она — камень. Я стал тихонько с ней разговаривать, не глядя на нее. Я сказал ей, что она не камень, а дерево. Через три дня она сказала мне, что она — дерево, и стала шевелить пальцами. Я притворился, что не слышу. Я сказал ей, что она — прекрасное животное, может быть олень или лань. Через несколько дней она сказала мне, что она — олень, и стала ходить по лугу. И в конце концов она стала девочкой. Мужчины-больные подходили ко мне и спрашивали, когда мы будем петь «Слава, слава, аллилуйя»? Это такой способ лечить больных — с помощью пения и танцев. Но я не собираюсь заниматься лечением. У меня от этого страшно болит голова. Разрушитель тюрем — это профессия, которую я придумал сам. Это человек, который устраивает в тюрьмах такой переполох, что все заключенные могут выйти на свободу. Я придумал множество способов, как это сделать.
На каждого человека, который всегда ест досыта, приходится десять (а может быть, и сто) таких, которые голодают. На каждую барышню или даму, что гуляет по улице и выслушивает комплименты от знакомых, приходится дюжина женщин, которым с малых лет не на что было надеяться. За каждый час, уютно проведенный кем-то у домашнего очага, расплачивается кто-то другой. Кто-то, может быть, вовсе не знакомый. Дело не только в том, что на свете много бедняков. Тут все гораздо серьезнее. Посмотри, сколько кругом калек, уродов, больных и пропащих. Таким господь бог создал мир. Теперь уже ничего нельзя прекратить или переделать. Есть люди, которые так и на свет родились — пропащими. Ты тут, может, поморщишься, но я это точно знаю. Бог пропащих не отвергает. Они нужны ему. Они расплачиваются за остальных. На париях держится уют домашних очагов. И хватит об этом».
ФЕЛИСИТЭ — Джорджу (январь 1905):
«Дорогой Джорди, я еще раз прошу тебя — разреши мне показать твои письма maman. Ты забыл, какая maman. Она сильная. Ты будто бы хочешь, чтобы ей было лучше. Глупый ты, Джорди. Кому же лучше от того, что он ничего не знает? Чем больше maman узнает правды, глубокой и истинной, тем для нее будет лучше. Прошу тебя, разреши…
Почему ты считаешь себя козлом отпущения и парией? Ходишь ли ты к обедне, бываешь ли у исповеди? Дорогой Джорди, искренен ли ты? Почему ты думаешь, что никогда не будешь счастливым? Откуда ты знаешь? Может быть, тебе хочется изобразить себя интересным трагическим героем?! Мне трудно писать тебе, если я не уверена в твоей искренности. Помнишь, как ты мне проповедовал, что искренность — это привычка? Ты говорил, что Шекспир и Пушкин были великими писателями потому, что они с самого детства, как часовые, охраняли свои мысли, не допуская в них ни малейшей неискренности. Ты говорил об одном человеке, что он все время рисуется. Помнишь, как даже слово это было тебе ненавистно. Ходи в церковь, Джорди. Христиане рисоваться не могут».
ДЖОРДЖ — матери (Портленд, Орегон, февраль):
«Большое спасибо за твое письмо. Я прочитал в газете, что случилось с отцом, но я не знал про мистера Эшли. Как замечательно, что кто-то его спас… У меня все в порядке. Да, я хорошо питаюсь и хорошо сплю. Chere maman, приезжает ли еще каждый месяц в Коултаун мистер Вилле, фотограф? Больше всего на свете я хотел бы иметь фотографии — твою и девочек. И отдельно твой большой портрет, и еще портрет мисс Дубковой. Я кладу в этот конверт пять долларов. Я не писал тебе на прошлой неделе, потому что у меня не было ничего нового. Все хорошо. Может быть, я буду играть Шейлока и Ричарда III. Наша труппа никогда не играла Шекспира, но лет десять тому назад здесь, в Портленде, провалилась одна труппа, игравшая Шекспира. Костюмы и декорации лежат на складе, и наш антрепренер может дешево их получить. Они, наверно, совсем рваные. Я выучил обе роли и отлично представляю себе каждое свое движение».
ЮСТЭЙСИЯ — Джорджу (4 марта):
«Твоя сестра и я шьем тебе костюмы для Шейлока и Ричарда. Мы изучили все иллюстрации, какие удалось найти. Мисс Дубкова тоже много помогает. Опиши нам, хотя бы приблизительно, цвет лица и волос мисс Томпсон, а также сообщи ее мерку… Жаль, мой милый мальчик, что ты не можешь услышать, как мы порой смеемся за работой… Надеюсь, ты неукоснительно исполняешь свой христианский долг».
ФЛОРЕЛЛА ТОМПСОН — Юстэйсии (Сиэтл, Вашингтон, 1 мая):
«Дорогая миссис Лансинг, у меня никогда не было таких прекрасных костюмов. Этой весной я немного пополнела. Как хорошо, что вы оставили запас в швах и вытачках. Платья мне теперь совершенно впору. Здесь, на севере, дела у нас идут не очень хорошо, и мой дорогой муж был вынужден отложить шекспировские спектакли до осени… Ваш сын Лео — выдающийся актер. Вы можете не сомневаться, что его ждет большое будущее. Кроме того, он очень хороший человек. Воображаю, сколько радости он вам доставляет. От всего сердца благодарю вас за прекрасные костюмы и за то, что у вас такой талантливый и отзывчивый сын. Флорелла Томпсон. P.S. Прилагаю свою фотографию в одном из платьев Порции в пьесе «Тайна Берил». Узнаете своего сына? Слева — мой муж».
ДЖОРДЖ — Фелиситэ (Сиэтл, 4 мая):
«Это случилось ровно три года назад. Как сказал один человек — тоже актер: Sic semper tyrannis…[118] Я снял комнату очень далеко от театра. Дом стоит на прибрежной скале. Когда я сплю на берегу океана, я не вижу дурных снов. Мне хотелось бы сказать об этом maman. Дорога домой после спектакля занимает у меня два часа. Я пою и кричу… Я ненавижу искусство. Ненавижу живопись и музыку, но я хотел бы уметь рисовать и создавать свою музыку и свое искусство. Потому что мир в тысячу раз прекраснее и величественнее, чем представляется большинству людей. То, что они называют искусством, не стоит выеденного яйца, если только это не о том, о чем я пою, когда иду к океану. Я знаю это потому, что смотрю со стороны. Я отщепенец. И мистер Эшли тоже это знает, где бы он ни находился».
ЮСТЭЙСИЯ — Джорджу (4 мая):
«Я только что вернулась с могилы твоего отца. Нам дано с годами понимать более глубоко и любить более безоблачно.
Мой дорогой Джорди, я давно заметила, что люди, которые говорят со своими близкими только о том, что они едят, как они одеты, сколько денег зарабатывают, куда поедут или не поедут на будущей неделе, — такие люди бывают двух типов. У одних нет никакой внутренней жизни, а другим их внутренняя жизнь причиняет страдание, она отягощена сожалениями и страхами. Боссюэ, правда, считал иначе — что не существует двух видов людей, а что все люди одинаково ищут в житейской суете отвлечения от мыслей о смерти, болезнях, одиночестве и от угрызений совести. Мне очень дороги твои письма, но я не нахожу в них отсвета твоей внутренней жизни, которая всегда была такой глубокой, яркой и богатой. Как ты, бывало, спорил о боге и мироздании, о добре и зле, о справедливости и милосердии, о судьбе и удаче — вся твоя душа отражалась у тебя в голосе и в глазах! Ты и сам, верно, это помнишь. В одиннадцать часов я, бывало, взмолюсь: «Дети, дети, пора спать! Все равно нам сегодня не решить все эти вопросы».
Теперь я могу лишь предположить, что ты несешь какое-то бремя, которое «запечатало тебе уста». И мне кажется, это бремя связано с теми событиями, которые произошли здесь три года тому назад.
Твой отец часто был несправедлив к тебе. А его отец был несправедлив к нему, и к его матери тоже. А его дед, весьма вероятно, был несправедлив к своему сыну. И каждый из этих сыновей — к своему отцу. Прошу тебя, не добавляй новых звеньев к этой печальной цепи. Когда-нибудь у тебя тоже будут сыновья. Ни один мужчина не может стать хорошим отцом, пока он не научится понимать своего отца.
Так постарайся же, дорогой мой сын, быть справедливым к своему отцу.
Справедливость основывается на понимании всех обстоятельств. Всевидящий Бог и есть Справедливость. Справедливость и Любовь.
Когда мне выпадет счастье увидеть тебя опять (каждый вечер я проверяю, приотворено ли окно в твоей комнате), я многое расскажу тебе о твоем отце. А пока я хочу сказать одно: в последние недели своей жизни — в те самые ночи, когда тебе казалось, будто он хочет меня обидеть, — он увидел свою жизнь новыми глазами. Он понял, что был несправедлив к тебе и ко всем нам. Он искренне и с глубоким чувством надеялся начать совершенно иную жизнь.
Но случилось то страшное несчастье.
Последние слова твоего отца — а главное, его последний взгляд, хоть того и не заметил бы посторонний, — ясно свидетельствовали о происходящей в нем перемене.
Ты уехал из Коултауна в субботу вечером. А в воскресенье, ровно три года назад, мистер и миссис Эшли, как я тебе уже писала, пришли к нам в гости. Ты, наверно, забыл, что в тот день по соседству, в Мемориальном парке, происходил пикник Эпвортской лиги методистской молодежи. Дети Эшли пригласили на этот пикник тебя и твоих сестер. За минуту до того, как раздался выстрел, убивший твоего отца, в парке у костра запели песню. Мы все подняли головы и прислушались.
Твой отец сказал: «Джек, передайте своим детям, что мы благодарны им за то, что они пригласили наших детей на пикник. Вы всегда были нам добрыми друзьями».
Миссис Эшли вскинула на меня глаза. Мистер Эшли казался удивленным. У твоего отца не было привычки говорить людям приятное.
Мистер Эшли сказал; «Да что вы, Брек, когда у человека такие дети, как у вас, нет нужды благодарить за то, что их куда-то пригласили».
Пока мистер Эшли целился — ты помнишь, как медленно и старательно он всегда это делал, — твой отец оглянулся на меня со своего места по ту сторону лужайки. В его глазах были слезы — слезы гордости за всех вас.
Прости, Джорди. Прости и пойми.
Ты скоро будешь играть Шейлока. Подумай о своем отце, когда Порция тебе скажет:
Мы в молитвах О милости взываем — и молитвы Нас учат милости к другим[119].
Твой отец умер в ту пору, когда начала проявляться его истинная сущность. Но ведь эта истинная сущность заложена в нас со дня рождения. Всю нашу долгую жизнь с твоим отцом я сердцем чувствовала его истинную сущность, и именно ее я в нем любила и буду любить вечно.
Так же, как я люблю тебя. И как всегда буду тебя любить».
ДЖОРДЖ — Фелиситэ (Сиэтл, 10 мая):
«Некоторое время не жди от меня писем. Может быть, завтра я уеду пароходом на Аляску. Но ты мне пиши! Я устроил так, что твои письма будут мне пересылать. Представляешь себе фейерверк 4 июля? Вот так и здесь — все вдруг взлетело на воздух, завертелось огненным колесом и рассыпалось в прах. Меня выгнали. Меня арестовали. Мне приказано покинуть Сиэтл. Мне только жаль Флореллу Томпсон. Она, верно, теперь несчастна. Я подрался на сцене, прямо на глазах у публики. Драка была написана в пьесе. Мистер Кэлодин Барнс в больнице, но он не ранен. Зато я теперь знаю одно — когда я дерусь на сцене, голова у меня не кружится. Я побеждаю. Мэр с женой часто приходили в театр. Я им понравился. Завтра он выпустит меня из тюрьмы. Если завтра я не уеду пароходом на Аляску, то через два дня могу уехать другим пароходом в Сан-Франциско. Это должно было случиться. Я ни о чем не жалею, кроме того, что Флорелла несчастна. Да, об этом я жалею — ведь от того, что я сделал с ним, ничего не изменилось».
ФЕЛИСИТЭ — Джорджу (18 мая):
«Прошу тебя, Джорди, ради всего, что тебе дорого, ради maman, ради всего, что господь даровал «Сент-Киттсу», ради Шекспира и Пушкина, обязательно пиши раз в неделю. Закрой руками глаза и вообрази, как я буду страдать, не получая от тебя писем. Джорди, братец, я попрошу у maman сто долларов и поеду в Калифорнию. Я заеду во все города, где ты побывал. Я буду искать тебя повсюду. Не заставляй меня делать это без особой нужды. Ведь мне придется сказать maman, что я страшно о тебе беспокоюсь. Она будет настаивать, чтобы я взяла ее с собой. Всего лишь одно письмо в неделю, и нам не придется идти на такую крайность. Ты и Господь Бог — все, что у нас осталось».
ДЖОРДЖ — матери (Сан-Франциско, 4, 11, 18, 25 июня и далее на протяжении всего июля и августа):
«Все прекрасно… Я работаю… У меня комната на окраине возле так называемых Тюленьих Скал. Тюлени всю ночь лают… Я купил новый костюм… Я два раза был в китайском театре. Хожу туда с одним знакомым китайцем, и он мне все объясняет. Я узнал много нового… Я делаю кое-что очень интересное, скоро тебе напишу, что… Да, сплю я хорошо…»
ДЖОРДЖ — Фелиситэ (Сан-Франциско, 10 сентября):
«Сейчас я расскажу тебе, что я делал это время. Я снова поступил официантом в салун. Здесь в порту около сорока салунов. Наш — самый низкоразрядный. В других салунах выступают девицы или официанты, умеющие петь песенки, или еврейские и ирландские комики. А к нам и ходят-то одни старые моряки и старые шахтеры, которые засыпают за столом и не дают чаевых. И еще ходит один старый комик по имени Лев. Он грек и настоящий актер. А вообще он немножко блаженный. Но очень больной. Он много пьет, и я за него плачу. Мы с ним вместе сделали номер. Я откопал в лавке ростовщика цилиндр и старое рваное пальто с меховым воротником. Он изображает богатого клиента, а я его обслуживаю. Мы заводим шумные ссоры. Поначалу другие клиенты (и даже хозяин!) думали, что это всерьез. Потом постепенно мы приобрели известность. Он говорит по-гречески, а я — по-русски. Вскоре после полуночи в наш салун стало набиваться по полсотни человек, потом еще больше, так что даже сидеть было негде. Иногда я — официант печальный, который делится с ним своими горестями; иногда — сонный или же грубый. Репетируем мы по утрам в пустом складе. Мы любим репетировать. Мы оба очень хороши. Мы просто великолепны. Хозяин другого салуна, побольше, предложил нам дать четыре представления у него по десять долларов за вечер. На афишах написано: ЛЕО и ЛЕВ, ВЕЛИЧАЙШИЕ КОМИКИ ГОРОДА. Посмотреть нас приходят даже люди из общества. Номер очень смешной — не только потому, что мы тщательно отрепетировали каждый жест и даже каждую паузу, но еще и потому, что никто не понимает слов. Лев — великий актер. Теперь я знаю, кем я хочу быть. Я хочу быть комиком.
(29 октября):
Лев умер. Я держал его руку до конца. Все, за что я ни возьмусь, все разваливается, но это неважно. Я не живу. Я не живу по-настоящему. И никогда не буду. Но это неважно — пока живут другие люди. Лев сказал, что я подарил ему три месяца счастья. Я слышал, что в Индии подметальщики улиц имеют свой кастовый знак. Я горжусь своим кастовым знаком. Ты обо мне не беспокойся».
ФЕЛИСИТЭ — Джорджу (10 ноября):
«Ты много раз писал мне, чтобы я о тебе не беспокоилась, но мне становится все яснее и яснее, что ты, наоборот, хочешь, чтобы я о тебе беспокоилась. Поэтому-то ты мне и пишешь — ты хочешь, чтобы я разделила с тобой какое-то большое горе. Я не обвиняю тебя в том, что ты говоришь мне неправду; мне только кажется, ты так сильно угнетен чем-то, что это мешает тебе ясно думать. Вчера в десять часов вечера я пошла к себе и стала не спеша перечитывать все твои письма. Когда я кончила, было почти три часа ночи.
Во всех этих письмах ты только пять раз упомянул об отце (ты писал о его страховке, о его хвастливости; два раза о том, как он любил стрелять в животных, и один раз о том, что он «был плохо образован»). Нашего отца убили. Об этом ты не упомянул ни разу. Как ты, бывало, говорил — это «очень громкое молчание».
Джорди, у тебя на сердце какая-то большая тяжесть. Мне кажется, это угрызения совести или раскаяние в чем-то. Это тайна. Ты хочешь открыть ее мне, но не открываешь. Порой ты словно вот-вот заговоришь, но в последний миг уклоняешься. Я знаю, что ты не исповедуешься и не ходишь в церковь — иначе ты бы мне написал об этом. Если я — единственный человек, которому ты решил открыть эту тайну, я готова тебя выслушать. На свете есть много людей умней меня, но нет ни одного, кто бы любил тебя так же сильно. Позволь мне послать тебе пятьдесят долларов на дорогу. Приезжай! Помнишь, ты, бывало, просил меня почитать тебе «Макбета»? Ты не забыл эти строки:
Ты можешь исцелить болящий разум… Очистить грудь от пагубного груза, Давящего на сердце?[120]Твои страдания каким-то образом связаны с отцом. Тебе почему-то кажется, что ты виноват в его смерти. Этого не может быть. Когда ты лежал с сотрясением мозга в Сент-Луисе, какая-то смутная навязчивая идея возникла у тебя в голове. Прошу тебя, напиши мне! А еще лучше — приезжай и расскажи все.
Помнишь, как почти шесть лет тому назад ты вернулся со встречи Нового года в гостинице «Иллинойс»? Ты дождался, когда maman погасила у себя свет, а потом разбудил меня и рассказал мне, что доктор Гиллиз говорил об истории вселенной. Он утверждал, что сейчас рождается новый тип людей — дети Дня Восьмого. Ты сказал, что вот ты — настоящее дитя Дня Восьмого. Я это поняла. В городе многие думали о тебе иначе, но maman, и мисс Дубкова, и я знали. Мы знали, каким был твой путь.
А теперь мне страшно, что ты, быть может, позволил какой-то нелепой фантазии похитить у тебя четыре года жизни, изуродовать тебя, задержать твой рост. Отбросить тебя назад, в День Шестой или еще дальше.
Джорди, веруй в слова господа: «И истина сделает вас свободными».
Так выскажи эту истину:
Вырвись на свободу.
Я даже не могу вообразить, какое преступление ты на себя взваливаешь, но господь прощает всех нас, если мы признаемся в своей слабости. Он видит миллиарды людей. Он знает путь каждого.
Тебе известна заветная мечта моей жизни. Но я не могу дать обет до тех пор, пока мой любимый брат «не исцелится», как сказано в Библии. Приезжай в Коултаун».
ДЖОРДЖ — Фелиситэ (11 ноября):
«Некоторое время ты не будешь получать от меня писем. Вероятно, я скоро поеду в Китай, а оттуда — в Россию. Поэтому не будь дурочкой и не пытайся искать меня в Калифорнии, потому что меня там не будет».
В начале ноября 1905 года Юстэйсия открыла дверь на звонок почтальона. Он принес письмо от ее деверя. Она не сразу распечатала это письмо — все, что исходило от Фишера Лансинга, было ей неприятно. Час спустя Фелиситэ, подметавшая площадку верхнего этажа, услыхала, как ее мать отчаянно вскрикнула. Она быстро сбежала с лестницы.
— Maman! Qu'est-ce quo tu as?[121] Мать посмотрела на нее умоляющим взглядом и указала на письмо и чек, соскользнувшие с ее колен на пол. Фелиситэ подняла их и прочитала, Фишер писал, что показал одно из изобретений Эшли — Лансинга специалисту. Он выправил на него патент. Он заключил договор на передачу патентных прав с одной часовой фирмой. Прилагаемый чек на две тысячи долларов — первый платеж; дальнейшие она будет получать по мере их поступления. Постепенно он пристроит и остальные изобретения тоже. Пусть она не беспокоится — он защищает ее интересы. «Сумма может быть очень значительной, Стэйси. Подумай о покупке автомобиля».
Они обменялись долгим взглядом. Фелиситэ протянула чек матери, но та отвернулась.
— Возьми его. Спрячь. Я не хочу на него смотреть.
После ужина Энн отправилась наверх готовить уроки — с тем, чтобы сойти в гостиную в восемь часов, когда начнется чтение вслух. Фелиситэ ни разу не видела свою мать в таком волнении — даже во время болезни отца или когда приходили письма от Джорджа. Юстэйсия ходила из угла в угол.
— Maman!
— Это не мое. Это не наше.
— Maman, мы придумаем какой-нибудь способ передать эти деньги им.
— Беата Эшли никогда их не возьмет. Никогда.
Пришла Энн.
— Девочки, наденьте пальто и шляпы. Мы пойдем гулять.
Лампа за лампой гасли в домах, мимо которых они проходили. В воздухе уже чувствовалось приближение зимы. Время от времени Юстэйсия крепко сжимала пальцами руку Фелиситэ. Возле дома доктора Гиллиза она задержалась на минуту в глубоком раздумье, потом медленно двинулась дальше. Они подошли к «Вязам». Вывеска тускло блестела под звездами. Юстэйсия долго стояла перед домом, держась за калитку.
Фелиситэ прошептала:
— Я пойду с тобой.
Энн сказала:
— Пойдем, maman!
Мать тревожно переводила взгляд с одной на другую. Глаза ее были сухи.
— Но как, как? — с отчаянием в голосе проговорила она.
Юстэйсия отворила калитку. Они тихонько поднялись на веранду. Подошли к окнам гостиной и долго смотрели, не замеченные никем. Беата читала вслух. Констанс чинила простыни. Софи лежала на полу и вписывала колонки цифр в книгу расходов. Прислонившись к стене, дремал какой-то старик. Двое других играли в шашки. Старушка гладила кота, сидевшего у нее на коленях. Неожиданно Юстэйсия схватила обеих дочерей под руки и потянула за собой на улицу. Не проронив ни слова, они возвратились в «Сент-Киттс».
VI Коултаун, Иллинойс Рождество 1905 г
Здесь рассказана некая история.
Но история существует только одна. Началась она с сотворения человека и придет к концу лишь тогда, когда угаснет последняя искра сознания последнего человеческого существа. Все другие начала и концы — всего только произвольные условности, замены, прикидывающиеся самодовлеющим целым, утешая по мелочам или по мелочам заставляя отчаиваться. Неуклюжие ножницы рассказчика вырезают несколько фигур и кусочек времени из огромного гобелена истории. А вокруг прорехи топорщатся перерезанные нити утка и основы, протестуя против фальши, против насилия.
Время только кажется быстро текущей рекой. Оно, скорее, неподвижный, бескрайний ландшафт, а движется взгляд, его созерцающий.
Оглянитесь вокруг себя — только взойдя выше, как можно выше! — и вы увидите, как встают за горами другие горы, а среди них лежат долины и реки.
Эта история открывается фразой, которая как будто есть ее начало: «Летом 1902 года Джон Баррингтон Эшли из города Коултауна, центра небольшого углепромышленного района в южной части штата Иллинойс, предстал перед судом по обвинению в убийстве Брекенриджа Лансинга, жителя того же города». Но читатель давно уже убедился, насколько обманчивы эти слова — если их понимать как начало чего бы то ни было.
За горами горы: где-то над Луарой передается из поколения в поколение душевный недуг; где-то на Вест-Индских островах происходит резня; где-то в Кентукки религиозная секта откочевывает все дальше и дальше на Запад…
А вон — видите? — человек тонет при кораблекрушении близ берегов Коста-Рики. Знаменитый русский актер гибнет в стычке, в которой убивают без разбора. Похороны в Вашингтоне, в 1930 году; играет военный оркестр, среди провожающих немало официальных лиц в цилиндрах; а вслед за вдовой и детьми идут две немолодые женщины в черном — знаменитая оперная певица и неуемная поборница социальных реформ. (Но ведь и похороны лишь кажутся нам концом чего-то.) Две почтенные старушки садятся обедать в Лос-Анджелесе, в «Медном котелке», где так вкусно можно поесть за шестьдесят пять центов. («Телячью отбивную, Беата? Помнится, вы всегда любили телятину». — «Да не суетитесь вы из-за меня, Юстэйсия!») И дети, много-много детей.
История — цельнотканый гобелен. Напрасны попытки выхватить из него взглядом кусок шириною больше ладони. Некогда в древнем Вавилоне насчитывался миллион населения.
А теперь вернемся к судебной ошибке, допущенной при разборе не особо значительного дела в небольшом среднезападном городке.
Двадцать третье декабря.
Поезд опаздывал. Сгустились уже сумерки. Меж крутых склонов по сторонам Коултауна, медленно кружась в неподвижном воздухе, падали на землю хлопья снега.
На вокзале собралась целая толпа. Одни пришли встретить приезжих родственников. Другие — потому что привыкли приходить сюда из вечера в вечер. Но большинство привлек распространившийся слух о том, будто Лили и Роджер Эшли должны приехать сегодня, чтобы провести рождество с матерью и сестрами. В толпе перешептывались, перемигивались, подталкивали друг друга локтями. Констанс и Софи стояли в дальнем конце перрона. Уже который месяц носились по городу разноречивые, дразнящие любопытство слухи. Кто говорил, будто Лили Эшли сбежала с коммивояжером, а он ее скоро бросил (чему только не поверят люди!), и теперь она в юбочке выше колен поет и танцует в низкопробных увеселительных заведениях; кто — будто Роджер якшается с букмекерами, боксерами, греками, итальянцами и другим подобным сбродом, ввязываясь частенько в кабацкие драки, будто он Пишет в газетах о таких вещах, о каких порядочным людям и думать зазорно. А по словам других выходило, что Лили под именем сперва миссис Темпл, а потом мисс Сколастики Эшли поет на похоронах и свадьбах самых именитых чикагцев, а Роджера ценят и отличают влиятельнейшие лица и учреждения. Роджер, будучи журналистом, хорошо знал, как создаются и раздуваются слухи. Недаром он посылал вырезки со своими статьями мисс Дубковой и доктору Гиллизу — надежным и энергичным своим сторонникам. Послал им и корректурные оттиски своей еще не вышедшей книги. Он постоянно помнил, что он — глава семьи, защитник ее опороченной чести. При таких обстоятельствах приходится жертвовать даже скромностью. Чем слухи противоречивей, тем они упорнее. Бедные коултаунцы не знали уже, чему верить и кого осуждать.
Роджер одет был как человек с достатком. Над его экипировкой потрудилась Лили. Крахмальный воротничок резал шею; пальто сидело отменно; портфель был новехонький, ботинки блестели. В руках у него была куча нарядно упакованных свертков. Когда он спускался по ступенькам вагона, лицо его было сосредоточенно-строгим. Он силился проглотить ком, подступивший к горлу, удержать непривычно колотящееся сердце. Он еще не готов был переступить порог «Вязов».
Коултаун.
Он огляделся в бурлящей толпе. Сестры его не сразу запали. А он не приметил Порки, стоявшего под деревьями там, где кончался перрон. Наконец ему удалось совладать со своим волнением и войти в роль. Решительным шагом он направился к начальнику станции и, положив свертки на скамью, протянул ему руку.
— Здравствуйте, мистер Киллигру! Рад вас видеть.
— Да это же Роджер! Ну здравствуй, здравствуй! Добро пожаловать домой! Твои сестры где-то здесь — только что я их видел.
За горными кряжами горные кряжи, долины и реки…
Здесь, на этом перроне, три с половиной года назад закованный в кандалы отец Роджера с разрешения начальника охраны обратился к мистеру Киллигру: «Хорэйс, мне хотелось бы передать моему сыну эти часы». — «Будьте спокойны, мистер Эшли, я сам это сделаю». Здесь, месяцем позже, Софи поставила столик и начала торговать лимонадом, три цента стакан. Здесь миссис Гиллиз в скорбном безмолвии склонилась перед мужем, вернувшимся из Массачусетса с гробом их сына, который разбился насмерть, катаясь на санках с гор. Здесь когда-то сошел с поезда молодой Джон Эшли с семейством и огляделся по сторонам, полный радужных надежд. Ах, эти вокзальные перроны! Здесь Ольга Сергеевна навсегда распрощается с Коултауном, подтянутая, нарядная, готовая к возвращению на далекую родину; а Беата Эшли впервые за двадцать восемь лет сядет в поезд, чтобы съездить в Нью-Йорк повидать сына и внуков. Отсюда Джордж Лансинг отправится навстречу своей удивительной судьбе — впрочем, не совсем отсюда: он уедет тайком, прыгнув в поезд с высокой угольной кучи у подъездных путей в нескольких сотнях ярдов от перрона. Отсюда потом молодые коултаунцы уезжали на первую мировую войну и сюда же с войны возвращались. Но ко времени второй мировой войны здесь уже проложили шоссе, а железнодорожный путь спрямили, и новая колея прошла в одиннадцати милях к западу от Коултауна. Вокзал пришел в запустение. Он разрушался — словно сгорал понемногу, — и наконец морозной ноябрьской ночью там в самом деле возник пожар и ветхая постройка сгорела дотла — как все сгорает в этом мире.
Роджер оглянулся. К нему торопливо шла миссис Лансинг.
— Роджер! Милый Роджер! — воскликнула она и расцеловала его, как делала сотни раз в годы его детства. Эта неуместная ласка еще долго потом служила темой городских пересудов. С девочками Роджер поздоровался за руку.
— Веселого рождества всем вам, — продолжала Юстэйсия. — Ты, надеюсь, выберешь время побывать у нас?
— Непременно, миссис Лансинг. Я завтра же вечером к вам приду.
Прежде чем распрощаться, он успел обменяться с Фелиситэ многозначительным взглядом, говорившим: «Завтра утром, в половине одиннадцатого, в мастерской мисс Дубковой».
Констанс и Софи нерешительно приближались к брату.
Их опередило несколько уважаемых горожан, которые тоже подошли пожать ему руку. «Ну-ка, покажись, Роджер! Вид у тебя прекрасный! Отличный вид, сэр», «Привет, Роджер. Добро пожаловать в Коултаун. Как твои успехи в жизни?» Почти все они вели себя во время процесса подло и трусливо — но черт с ними! Разве мало таких на свете? Не из-за чего кипятиться.
Он пожимал руки, смотрел в несколько смущенные лица. И в то же время взглядом искал сестер; может быть, и мать тоже пришла его встретить?
— Роджер, — тихо окликнула Софи.
Как они выросли! Он расцеловал обеих — первый раз в жизни.
— Софи, Конни! Да какие же вы стали красавицы!
— Правда? — с живостью переспросила Констанс. — Некоторые квартиранты тоже так говорят.
— А мама здесь?
— Нет, — ответила Констанс. — Она дома. Она никогда не выходит на улицу, и я тоже очень редко. — Они помолчали, не зная, что говорить дальше, но вдруг Конни воскликнула:
— Роджер, да ты стал вылитый папа! Смотри, Софи, верно ведь, он вылитый папа! — И она обняла его крепко-крепко — за двоих.
Бывший мэр мистер Уилкинс (трус и предатель) тоже подошел поздороваться.
— Рад тебя видеть, Роджер. Добро пожаловать в Коултаун.
— Спасибо, мистер Уилкинс.
Шепотом он попросил Софи:
— Покажи мне то место, где ты продавала лимонад и книги.
Она, улыбаясь, показала.
— Ты молодчина, Софи. Иначе тебя не назовешь… А Порки где?
— Вот я, тут.
Друзья обменялись рукопожатием.
— Порки, мне много о чем нужно с тобой поговорить. Только раньше я должен поговорить с мамой, потом, после ужина, хочу пройтись с Софи. Скажи, ты сегодня уходишь на ночь к деду, в горы?
— Нет, буду у себя в мастерской.
Толпа на перроне поредела. Но многие еще стояли кучками, только теперь уже не толкались и не перешептывались, а молча глазели на детей Эшли. «Точно цыплят о двух головах увидели», — подумала Констанс. Но Роджер быстро заставил их разойтись: «Здравствуйте, миссис Фолсом. Как Берт и Делла?.. Здравствуйте, миссис Стаббс… Привет, Фрэнк».
Вчетвером они дошли до Главной улицы. Роджер увидел свет в угловом окне нижнего этажа, в окне столовой. Он все еще не был готов переступить порог «Вязов».
— Порки, будь добр, возьми это все и сложи на крыльце у парадной двери. Примерно без четверти девять я буду у тебя. А теперь, девочки, давайте пройдемся немножко по улице.
Когда они поравнялись с почтой, Констанс сказала:
— Афишу с папиной фотографией уже сняли со стены.
— У меня есть такая. Один мой приятель стянул ее для меня в полицейском участке в Чикаго. Я вырезал фотографию, вставил в рамку и привез маме в подарок к рождеству.
— О, Роджер! Значит, мы теперь сможем поносить у себя папин портрет и никто его не отнимет!
В Чикаго декабрь выдался мокрый; порывистый ветер с озера гнал над городом снежную крупу пополам с дождем. Только здесь, впервые в этом году, Роджер увидел настоящий снег. Белый, чистый, такой, как бывало в детстве. Ему вспомнилось, как Беатриче, дочь маэстро, задала раз отцу вопрос, часто приходивший в голову ему самому.
— Papa Bene (от Бенедетто), отчего это первый снег всегда так красив… смотришь на него, словно музыку слушаешь.
— Попробую объяснить тебе, Биче: первые месяцы нашей жизни нас окружает все белое — белые пеленки, белая колыбелька, в которой нас укачивают, чтобы мы спокойно уснули. Позже нам говорят, что небо — память о детстве — тоже бело. Нас поднимают и носят на руках; мы словно парим в воздухе. Вот откуда берется представление о летающих ангелах. Первый снег нам напоминает ту единственную пору в нашей жизни, когда мы еще не ведали страха. Нет более унылой картины, чем кладбище под дождем, потому что дождь, он похож на слезы; но то же кладбище, укрытое снегом, манит к себе. Воспоминания о другом мире оживают в нас. Зимой мертвые словно спят в колыбели.
— Si, papa. Grazie, papa Bene[122].
Они миновали гостиницу, потом бакалейную лавку мистера Боствика.
— Теперь здесь мастерская мисс Дубковой. Миссис Лансинг арендовала помещение, и Фелиситэ иногда приходит помогать Ольге Сергеевне. А вот мастерская Порки. Видишь, он ее расширяет. А тут жила миссис Кэвено — не так давно ее увезли в Гошен.
Не дойдя до «Сент-Киттса», Роджер повернул назад.
— Наверно, мама заждалась нас, — сказал он сестрам.
Констанс была уже совсем барышня — почти тринадцать лет как-никак, а по росту и больше дашь, — но от всего испытанного в связи с приездом брата (а в его лице и отца тоже) она за эту короткую прогулку словно бы странным образом возвратилась в детство. То и дело дергала Роджера за рукав, за локоть. Она явно не прочь была, чтобы он посадил ее себе на плечи и понес, как когда-то делал по вечерам отец, возвращаясь с работы.
Роджер остановился и глянул на нее с улыбкой.
— Ну, Конни, ты теперь слишком большая, чтобы тебя носить на плечах.
Она сконфуженно покраснела.
— Ладно, я только буду держать тебя за руку.
За горами горы…
Всю жизнь и друзья и враги говорили о ней: «Что-то в этой Констанс Эшли-Нишимура есть детское», «Это глупо, но какой-то стороной своего существа Констанс так и не повзрослела с годами». Во всех ею руководимых кампаниях она делала ставку на пожилых мужчин, как на отцов или старших братьев; безошибочное чутье определяло ее выбор. Были среди них два вице-короля Индии, был последний хедив, были президенты, премьер-министры («Против произвола землевладельцев», «За избирательное право для женщин», «За равноправие женщин в семье», «За урегулирование проституции» — она предлагала создать нечто вроде профсоюза проституток; «За детские глазные лечебницы» — она первая выдвинула принцип профилактической медицины); были миллионеры (какие суммы ей удавалось собирать для общественных нужд, а у самой часто недоставало денег на оплату счета в гостинице). Именно это детское в ней помогало ей выдержать самые трудные испытания — грубость полицейских, оскорбления и враждебные выпады публики. Ее бесстрашие было бесстрашием не взрослой женщины, а маленькой девочки. Прямота и уверенность в себе достались ей в дар от отца и брата. Самые ценные дары — а подчас и самые гибельные — те, о которых даритель не подозревает; они расточаются на протяжении долгих лет в бесчисленных мелочах повседневной жизни — через взгляды, паузы, шутки, улыбки, молчание, похвалы или упреки. Констанс нашла себе в жизни многих отцов и братьев. Нередко она раздражала их, иногда даже приводила в ярость; но почти не было случая, чтобы кто-то из них ее предал…
И вот они наконец подошли к дому. Роджер долго стоял у ворот, глядя на вывеску: «Вязы». Комнаты со столом». Ему вспомнились письма Софи, первый год, проведенный им и Чикаго, день, когда он узнал, что налоги уплачены сполна. Он крепко пригнал к себе локоть Софи.
Они пошли и дом.
— Мама! Роджер уже здесь.
Беата появилась из двери кухни. С минуту смотрела, не узнавая, на юношу, стоявшего посреди холла. Потом вдруг спохватилась, что на ней кухонный передник — это не входило в программу, — и принялась торопливо снимать его, путаясь в завязках. Чувство скованности, физической неловкости, даже страха покинуло Роджера. Он как будто стал выше ростом. Беата Эшли никогда не была хрупким существом, но сейчас, первый раз в жизни, она показалась сыну ранимой, беспомощной, нуждающейся в нем. Ведь, пока с ними жил отец, ему просто не представлялось никогда случая что-либо для нее сделать. Одета она была по-зимнему — в синее шерстяное платье без малейших претензий на красоту или изящество; но все равно — в его глазах она оставалась самой прекрасной женщиной в мире. Он подошел к ней, обнял и поцеловал — полдюйма, на которые он ее перерос, казались ему по меньшей мере двумя футами. Теперь он будет ее защитой, ее опорой. Он стал взрослым.
— Добро пожаловать, Роджер.
— Ты прекрасно выглядишь, мама.
— Мама, — сказала Констанс, — а миссис Лансинг поцеловала Роджера на вокзале. Весь город видел.
— Твоя комната ждет тебя, — сказала Беата.
— Спасибо, только мне хочется раньше обойти дом.
Гостиная с мебелью, собранной Софи по креслу, по стулу; все потертое, поцарапанное, но начищенное до блеска. Столовая — типичная «пансионская»: стол во всю длину комнаты, два буфета с выстроенными в боевом порядке тарелками, чашками, судочками. Засветив фонарь, они осмотрели курятник и инкубатор, навестили корову Фиалку, заглянули в сарайчик, сколоченный Порки для уток. Зайдя в «Убежище», проверили все зарубки на дверном косяке, которыми отец отмечал ежегодно рост детей: Лили с двух лет в 1886 году и до восемнадцати — в 1902; Роджера с одного года в 1886 и до семнадцати в 1902 и так далее. Обошли все дубки, посаженные отцом в 1888 году; молча подивились тому, как пышно они разрослись. В семье Эшли всех, за одним исключением, привлекало все, что растет, развивается, воплощает людские замыслы.
Беата, как бывало не раз, звала Порки поужинать вместе с ними. Но он никогда не соглашался участвовать в семейных трапезах. Ел он обычно в одиночку, на кухне. Сегодня же его вообще не было дома. За столом разговор шел о разных пустяках. Все будто сговорились не касаться серьезных вопросов, оставив их на тот час после ужина, когда Роджер с матерью усядутся в гостиной вдвоем, и тогда неизбежно встанет вопрос, о котором не принято было говорить в «Вязах», — вопрос о будущем. Станут ли девочки учиться дальше? Начнет ли мать выходить за ворота усадьбы? Появятся ли у них когда-нибудь снова друзья, знакомые? А пока Роджер показывал последние фотографии Лили и ее прелестного малыша. Передавал ее сожаления, что ей не удастся провести это рождество вместе с ними. Но она двадцать восьмого должна ехать в Нью-Йорк, после четырех исполнений «Мессии» — двух в Чикаго и двух в Милуоки. Потом он стал рассказывать о своей работе. Если б не беспрестанные вопросы Конни, разговор скоро затоптался бы на месте. Софи за все время не проронила ни слова. Когда наконец встали из-за стола, девочки направились в кухню.
Роджер спросил:
— Мама, нельзя ли, чтобы посуда полчаса подождала сегодня?
— Конечно, можно, милый. А что ты хочешь?
— Поздней мы с тобой посидим и поговорим в гостиной, но сперва мне хотелось бы прогуляться с Софи — покуда еще не очень темно и холодно. А твоя очередь будет завтра, Конни. По старшинству.
— Разумеется, Роджер. Софи, ты только оденься потеплее.
Они шли, взявшись за руки, что у членов семейства Эшли было не в обычае. Шли не Главной улицей, а дорожкой, когда-то протоптанной для тяги барж бечевой по реке. Рядом, под топким еще ледком, тихо струилась Кангахила.
— Софи, у меня для тебя есть новость. Думал приберечь ее к самому рождеству, но уж очень хочется порадовать тебя поскорее. На пасху вы с Порки приедете ко мне в Чикаго. Я сведу Порки в мастерскую, где ему сделают хорошую ортопедическую обувь. А тебя ждет сюрприз еще получше. Есть у меня одна знакомая, начальница школы медицинских сестер в Чикаго. Она прочитала очерк, который я написал о тебе, он ей понравился, и она меня пригласила в гости. Я ей много рассказывал про тебя, читал некоторые места из твоих писем, где говорится о том, как мама сама нанималась с тобой и с Конни. И она сказала, что примет тебя в свою школу среди учебного года, когда тебе будет семнадцать с половиной лет, — значит, через год и три недели, считая от сегодня. Я привез тебе от нее кой-какие учебники, чтобы ты пока готовилась понемногу.
Софи молчала.
— Ты что, не рада?
— Роджер…
— Да?
— Я не смогу поехать.
— Почему?
— А как же… как же пансион?
— Ты начала это дело. Это настоящий подвиг для девочки четырнадцати лет. Но ты сама писала, что сейчас все налажено и идет хорошо. Мама с помощью миссис Свенсон отлично управится, а с осени, когда вы с Конни пойдете в школу, можно будет нанять еще одну служанку.
Но Софи молчала, не поднимая глаз.
— Тебя беспокоит, кто будет делать закупки, все эти мешки с мукой, сахаром и прочим? И кто будет вести счета? Так вот, знаешь, зачем я, помимо всего прочего, приехал в Коултаун? Чтобы убедить маму начать выходить в город. Ты без труда за короткий срок всему ее научишь. Мать у нас умница, и она всегда была прекрасной хозяйкой. И вот еще что я тебе хотел сказать. Все равно пансион через год-полтора закроется. Мы оба, Лили и я, будем скоро зарабатывать достаточно денег, чтобы маме и вам не нужно было трудиться. Так что запомни мое слово, Софи: я не я, если в январе 1906 года ты не станешь ученицей школы медицинских сестер миссис Уиллс. А каких-нибудь полгода спустя пансион закроется.
Софи отозвалась полушепотом:
— А куры, а утки, а корова?
— Порки нам подыщет надежного работника, которому мы поручим уход за всей живностью. Платить ему жалованье буду я.
И тут он заговорил с ней о Самом Главном. Ей первой после Лили он поверил свою надежду, что рано или поздно слух о Сколастике и Бервине Эшли дойдет до того уголка земли, где укрылся их отец. И они получат письмо, истинный смысл которого будет понятен им одним. Например, они прочтут в этом письме: «Напишите, как поживает моя маленькая приятельница, та, что всегда заботится о больных животных», или: «Если у вас есть знакомая, чье имя по-гречески означает мудрость, передайте ей от меня сердечный привет». Будет там и обратный адрес. Тогда все они снимутся и пошлют свои фотографии отцу.
Роджер не сразу заметил, что Софи едва слушает его. Откуда ему было знать, что в ней давно отказала способность надеяться, как отказывает сработавшийся часовой механизм. Она уже не могла представить себе, что когда-нибудь пансион сделается не нужен, что когда-нибудь она снова увидит отца, станет ухаживать за больными, не должна будет расставаться ни с кем из любимых и близких.
Еще в начале прогулки Софи высвободила свою руку. Оттого он не сразу заметил, что все тело ее сотрясает мелкая дрожь.
— Роджер, — сказала она совсем тихо.
— Что, Софи?
— Знаешь… Мне, пожалуй, лучше вернуться домой.
— Ты устала?
— Немножко.
Он вдруг вспомнил — ведь она полгода назад серьезно болела, настолько серьезно, что пришлось отправить ее на две недели на ферму к Беллам и доктор Гиллиз запретил кому-либо, кроме Порки, навещать ее там. Ему стало стыдно, что он тогда без достаточного внимания принял это известие. Молодым всегда кажется, что молодые не бывают больны — разве что простуда какая-нибудь или там растяжение связок. Только теперь поднялась в нем безотчетная тревога.
— Ты хорошо ешь, Софи?
— Да.
— Хорошо спишь?
— Да, да… А теперь буду есть и спать еще лучше… раз я знаю, что ты вернулся… что ты опять в своей старой комнате.
— Знаешь что, войдем с черного хода. Кухня — самое теплое место в доме.
Его тревога еще усилилась, когда он вспомнил свой разговор с маэстро месяца полтора тому назад.
Дети маэстро, шестеро молодых талантов, привыкли шумно и требовательно отстаивать свои права — все, кроме отцовской любимицы Биче. Биче помогала матери вести хозяйство, заменяла отцу секретаря, а для себя ей никогда ничего не было нужно. Не зная усталости, она беспокоилась и заботилась о каждом из членов семьи, готовая каждому прийти на помощь. Домашняя жизнь в итальянских семьях — как и в ирландских, только там, пожалуй, не столь беззлобно — то и дело взрывается бурными, освежительными ссорами с полным набором взаимных обвинений, хлопанья дверьми и последних слов, выкрикнутых fortissimo: все это — полезная разрядка для организма, ведь словесные стычки очищают кровь. А затем следуют примирения, совершающиеся с оперным размахом — слезы, объятия, биения себя в грудь, покаянные и самоуничижительные клятвы в вечной любви. Такие шквалы всем в доме доставляли огромное удовольствие — всем, кроме Биче, которая их принимала всерьез. Она единственная в семье была бледна и часто страдала мигренями. Летом 1905 года она не смогла скрыть от родителей, что кашляет кровью. Отец повез ее в Миннесоту, в санаторий. Вернулся он оттуда другим человеком.
Как-то после обеда он сидел вдвоем с Роджером в своем кабинете, загроможденном произведениями искусства (то есть могущества, сведенного к красоте), которые больше не служили ему утехой. И тут он сказал:
— Знаете, мистер Фрезир, отношения в семье похожи на отношения между государствами: каждый борется за свою меру света и воздуха, земли и пищи, а в первую очередь за ту меру внимания и восхищения, которую именуют «счастьем». Как в лесу: всякое дерево отвоевывает свою долю солнечных лучей, а под землей корни переплелись в яростной схватке, силясь урвать влаги побольше. Говорят, некоторые даже выделяют при этом кислоту, ядовитую для всех прочих. Мистер Фрезир, в каждом здоровом, жизнедеятельном семействе кто-то один расплачивается за всех.
Софи пережила всех своих родных. Но когда годы спустя Роджер и сестры приезжали навестить ее, она их не узнавала. Лили тихо напевала любимые ее песенки. «У меня когда-то была сестра, она мне это пела». Ей казалось, что она в Гошене. В первое посещение Роджера она стала объяснять ему: вот, мол, люди страшатся и даже стыдятся Гошена, а между тем он сам может убедиться, как тут хорошо — и трава, и деревья, и птицы, и даже белки есть. Посетителей она встречала с церемонной любезностью, но уже через полчаса извинялась, что больше не может уделить им времени, так как ее ждут пациенты, которые хоть уже поправляются, но еще пока не встают. И указывала на ряд игрушечных кроваток у стены, где лежали укрытые одеяльцами куклы. Сиделки рассказывали родным, что она каждое утро одевалась с особенной тщательностью — к приезду отца, как она объясняла, а вечером, ложась спать, наказывала дежурной сестре разбудить ее завтра пораньше, «потому что так нужно». Один только был человек, от которого она пряталась и которого никогда не просила приехать еще. Софи не переносила запах лаванды.
Роджер довел сестру до кухни и посоветовал выпить стакан горячего молока. А сам пошел прямо в гостиную, где его дожидалась мать.
— Мама, я этот год проживу в Чикаго, а на следующий уеду в Нью-Йорк. Сможешь ты продержаться тут еще год-полтора, с тем чтобы потом закрыть пансион и переехать в Нью-Йорк ко мне?
— Покинуть «Вязы»? О нет, Роджер, этого я никогда не сделаю. Никогда, никогда!
— Но содержать пансион…
— Мне нравится это занятие.
— Осенью Софи должна начать учиться.
— Нет-нет, я не уеду из Коултауна.
— Мы с Лили рассчитываем, что к этому времени кто-нибудь из нас получит письмо от отца.
Она помолчала, потом заговорила опять, понизив голос:
— Если это случится, я, конечно, поступлю так, как ваш отец сочтет лучшим… Но мне приятно содержать пансион. Это дает деньги. Мне приятно думать, что когда-нибудь эти деньги пригодятся вашему отцу.
Роджер весь подался вперед, уперев локти в колени.
— Мама, давай на праздниках пойдем вместе к миссис Лансинг.
Она подняла склоненную над шитьем голову и посмотрела сыну прямо в глаза.
— Пока твой отец не вернется, Роджер, я не выйду за ворота «Вязов».
— Тебе ненавистен Коултаун?
— Нет, ничуть.
— Тогда почему же?
— Мне нечего сказать всем этим людям. И они мне ничего не могут сказать такого, что мне было бы интересно. Лучшие годы моей жизни прошли здесь, в этих стенах.
— И худшие тоже, мама.
— Об этом я не вспоминаю. Такое счастье, какое знала я, не проходит. Здесь оно всегда со мной. И я не хочу ничего, что могло бы его спугнуть, нарушить.
Однажды, семь лет спустя, сидя на террасе своей гостиницы в Манантьялесе, миссис Уикершем прочитала (верней, ей прочитали, так как она стала слаба глазами), что американская дива Сколастика Эшли, только что приглашенная петь в Ковент-Гарден, — родная дочь Джона Эшли, того, что в свое время безвинно был осужден в Коултауне, штат Иллинойс. Сан-францисская газета напоминала своим читателям, что настоящий убийца впоследствии сознался, однако о местопребывании бежавшего Эшли до сих пор ничего не известно. После некоторого размышления миссис Уикершем продиктовала длинное письмо в Лондон на имя madame Эшли — что заняло почти полных четыре утра. Заканчивалось письмо так: «С тех пор прошло около шести лет; я убеждена, что, если бы ваш отец был жив, он бы за это время непременно написал мне!» И подпись неверной рукой; «Ада Уикершем».
Вскоре после того, как Беата Эшли прочла это письмо, она закрыла свой пансион и переехала в Лос-Анджелес. Там она купила и отремонтировала старенький особняк на склоне крутого, хоть и невысокого холма неподалеку от центра города. Над входом появилась вывеска: «Buena Vista». Комнаты и стол». Оползни постепенно расшатывали фундамент дома, кругом все приходило в упадок. Немногочисленные квартиранты подобрались под стать: две-три девицы из мелких конторских служащих, несколько ревматических вдов и астматиков-вдовцов, да еще кой-какие жертвы житейских крушений. Стряпня Беаты скоро приобрела скромную, но устойчивую славу; нашлись такие любители в местных деловых кругах, что образовали нечто вроде обеденного клуба и пять раз в неделю не ленились после полудня одолевать два длинных ряда выщербленных ступенек, ведших к «Buena Vista». Беата не захотела превращать свое предприятие в открытый ресторан, и по вечерам за табльдотом сходились только постоянные квартиранты. Трое из ее четверых детей предлагали сообща купить ей дом в Пасадене и назначить постоянное содержание; но она не согласилась, слишком дорожа своей независимостью. В 1913 году Констанс и ее муж, готовясь к очередному агитационному турне по западному полушарию, привезли ей на полгода своего маленького полуяпончика-сына. Трудно описать ее радость. Когда пришла пора расставаться, и ребенок и бабушка были безутешны. Бывали в пансионе случаи, когда кто-то из квартирантов сбегал украдкой, не расплатясь по счету (хорошо еще, если не прихватив с собой пару простынь или что-нибудь из столового серебра). Как-то раз так исчезла одна супружеская пара, оставив вместо платы поломанный чемодан и трехлетнего глухонемого сынишку. Беата усыновила мальчика, отдала сто в специальную школу и сама обучилась азбуке глухонемых. Вероятно, в этом и заключалось ее настоящее призвание — быть бабушкой. Джеми много помогал ей по дому и оставался при ней до ее смерти. Ему и его детям она завещала свои скромные сбережения.
Время от времени какому-нибудь газетному репортеру удавалось проникнуть в «Buena Vista» — правда, не дальше холла. «Верно ли, миссис Эшли, что вы мать madame Сколастики Эшли и Бервина Эшли?» — «Благодарю за ваше любезное посещение, но я очень занята сегодня». — «И Констанс Эшли-Нишимуры тоже?»
— «Всего хорошего. Благодарю за любезность». — «Вы так и не получили известий от вашего мужа, мистера Эшли?» — «Простите, но у нас тут сегодня генеральная уборка, и я вынуждена просить вас удалиться». — «Миссис Эшли, мне необходим материал для моей газеты, иначе меня уволят». — «Еще раз простите — всего хорошего, всего хорошего».
Да, была в ней, несомненно, повадка бабушки, но скорей родовитой немецкой бабушки, чем обыкновенной американской. Все квартиранты чувствовали ее постоянную заботу. Дом велся безупречно, но и от его обитателей требовалось неуклонное соблюдение известных правил. Она не жалела времени на то, чтобы вразумлять и тех, кто питал пристрастие к табаку или алкоголю, и ветреников, и малодушных, легко впадавших в уныние. Но под ее внешней строгостью крылось истинно материнское отношение к своим подопечным: одним она ссужала деньги, другим делала подарки — что-нибудь из одежды, недорогие часы. День ее был заполнен до отказа. Золотистые волосы превратились с годами в тускло-соломенные, но прямая осанка сохранилась. Ходила она всегда в черном и, как многие немки, к старости научилась одеваться с особой изысканностью. Прохожие останавливались и смотрели ей вслед, любуясь снежной белизной фишю и манжет, оттенявших черный шелк или тонкое черное сукно ее платья, изяществом небольшого медальона на длинной золотой цепочке, в котором лежал локон маленького внука. Если в городе ожидался концерт Лили, лекция Роджера или выступление Констанс, она заказывала себе билет в последних рядах. И ни разу не согласилась пообедать с ними где-нибудь в ресторане, предпочитая приглашать их на чашку кофе к себе в «Buena Vista». Эти беседы за кофе могли быть утомительными, если бы не ее осведомленность во всех тех вопросах, что были существенными для каждого из них. Впрочем, не только это.
— Мама, — спросила однажды Констанс, — скажи, ты себя чувствуешь счастливой?
— Помнишь, как миссис Уикершем описывала жизнь вашего отца в Чили?
— Помню, мама.
— Так вот, все Эшли всегда работают, и в этом их счастье. Мне было бы стыдно не работать.
На склоне лет в ней появились крупицы юмора, чуждого ей прежде. Как-то раз Роджер, поднявшись по крутой лестнице, ведущей к дому, сидел вдвоем с матерью за чашкой кофе в ее гостиной. В тот день она рассказала ему, что ее брак никогда не был узаконен.
Оба долго смеялись.
— Мама! — воскликнул он наконец.
— А что? Я этим горжусь.
Но никому из детей она не призналась, что вступила в религиозную секту — одну из тех независимых сект, которых великое множество в южной Калифорнии. Ей казалось, что в учении этой секты, где причудливо сочетались спиритизм, индийская философия и вера в чудесные исцеления, она узнает отголоски идей великого Гете, которого она читала всю свою жизнь.
В половине десятого Роджер остановился у мастерской Порки и подал условный сигнал — крик совы. Впустив его, Порки снова сел на свое место у топившейся печки и принялся за работу.
— Порки, меня беспокоит здоровье Софи.
Порки не любил тратить слов там, где лучше можно было передать свои чувства взглядом.
— Я хочу, чтобы на пасху ты с ней приехал ко мне в Чикаго. — Роджер положил на стол несколько рекламных проспектов с изображением ортопедической обуви. — Ты пробудешь четыре дня; она останется на неделю. Как ты думаешь, если Конни вернется в школу, ее там не будут обижать?
— Может, кто и попытается, но Конни сумеет постоять за себя.
— Это у тебя на рождество столько работы?
— Я теперь много заказов получаю по почте. Знакомые коммивояжеры собирают всю обувь, которая требует починки, и присылают мне. А Софи надо бы опять поехать недели на две на ферму к Беллам, и не откладывая, сразу же после рождества.
— Если ты так считаешь, мы это сделаем. Я сам отвезу ее туда.
Стук-стук молотком.
— Я встретил в поезде Фелиситэ Лансинг. Мне кажется, она догадалась, кто застрелил ее отца. Может это быть, как по-твоему?
Стук-стук.
— Почему бы и нет.
— А ты не догадываешься. Порки? — На этот раз взгляд Порки не выразил ничего. — Если б еще узнать, кто помог бежать моему отцу.
Хорошо, спокойно было сидеть тут с Порки, слушать стук его молотка и его молчание.
— Ну, мне, пожалуй, пора. Я еще хочу поговорить с Софи до того, как она ляжет спать. Что это за чертеж на стене?
— Мой двоюродный брат взялся пристроить мне две комнаты к этой мастерской. Я в марте женюсь.
— Да что ты! — Роджер вдруг припомнил: Порки как-то ему рассказал под большим секретом, что у молодых людей секты ковенантеров принято жениться к двадцати пяти годам. — А кто она, я ее знаю?
— Кристиана Роули.
Роджер просиял. Кристиану он помнил по школе.
— Ну, чудесно! — сказал он, горячо пожимая другу руку.
— Я приучаю ее брата Стэндфаста к своему ремеслу; он будет мне помогать тут. А ты скажи матери, когда я переберусь из «Вязов» сюда, он может занять там мою комнатушку и делать всю тяжелую работу по дому, как делал я.
— Спасибо, скажу.
Они обменялись взглядами. Великое дело — дружба. Никогда ничего не упускает. Дает пищу воображению.
— Мой дед хочет тебя повидать.
— Буду очень рад. А где?
— У него дома.
Еще не было случая, чтобы кто-либо из коултаунцев удостоился приглашения на Геркомеров холм.
Надвигалось что-то значительное.
— Отлично, Порки. Когда именно?
— Приходи завтра сюда в четыре часа. Я буду ждать с лошадьми.
Из-за хромоты Порки. Здоровый молодой человек минут за сорок одолел бы подъем пешком.
— Уговорились. А как зовут твоего деда?
— Фамилия его О'Хара. Но ты называй его Дьякон. А если он вдруг заговорит обо мне — ты знаешь мое настоящее имя?
— Гарри О'Хара.
— Аристид О'Хара.
— Аристид! Это имя из «Жизнеописаний» Плутарха.
— Наш школьный учитель переименовал меня в Гарри. Он боялся, что «Аристид» покажется ребятам смешным.
— Значит, завтра в четыре… А сейчас мне пора домой, к Софи.
Слов прощания не было сказано. Только взгляд — острый, как наконечник стрелы, отточенный тремя с половиной годами разлуки.
Роджер отворил ворота «Вязов» и пошел в обход дома, намереваясь войти через кухню. Но в окне он увидел мать, сидевшую в глубоком раздумье за кухонным столом перед недопитой чашкой своего Milchkaffee[123]. Он вернулся к парадному крыльцу и, войдя в холл, бесшумно прокрался наверх. Дверь Софи была чуть приоткрыта. Он постоял немного, прислушался. Потом тихонько окликнул:
— Софи?
— Да, Роджер? Ты что?
— Хочешь, на первый день рождества пойдем вместе в церковь?
— Хочу.
— Как мы, бывало, ходили еще при отце. Ты, я и Конни. Открою тебе один секрет. Лили вам обеим прислала красивые платья, чтобы вы принарядились к празднику. Она заранее узнала у мамы ваши мерки. А на следующий день поедем на ферму к Беллам — надо же мне повидаться с ними… Ну, а теперь спи, и в мою честь раньше чем через девять часов не просыпайся, ладно?
— Ладно.
— Я свою дверь оставлю чуть приоткрытой, как папа делал. Ты помнишь?
— Помню.
Утром Роджер нашел у своей двери медный кувшин с горячей водой. Кончив бриться, он долго и пристально вглядывался а зеркало, в котором столько раз отражалось лицо его отца. Но зеркала сами по себе пусты. О нас они ничего не знают. Т.Г. любил говорить, что вселенная похожа на зеркало. Та же пустота. Снизу потянуло вкусным запахом кофе и жареного бекона. В комнатах сестер уже слышалась возня. Он вышел на лестницу и закричал: «Ванная свободна! Кто опоздает к завтраку, тот растяпа».
Констанс с визгом выскочила ему навстречу.
— Папа вернулся — то есть я хотела сказать, Роджер вернулся.
Софи пряталась за дверью.
Мать уже позавтракала. Но она налила себе еще чашку кофе и подсела к столу рядом с сыном. Говорить она остерегалась. Она чувствовала, что снова охрипла. Да и не о чем было говорить. Она просто смотрела с гордостью на этого незнакомого молодого человека, своего гостя.
— Мне бы кой-кого надо повидать сегодня, — сказал он. — Лили прислала подарки для Гиллизов и для мисс Дубковой.
— Я их пригласила поужинать с нами.
— Вот и чудесно. Только я, может быть, опоздаю немного. Днем я отправляюсь на Геркомеров холм с Порки. Его дедушка хочет меня зачем-то видеть… А после ужина думаю навестить миссис Лансинг. У тебя что-нибудь вкусное найдется послать ей?
— Конечно! Я уложу в коробку имбирных пряников и марципанов.
Сверху спустились девочки. Констанс так и распирало желание поговорить.
В половине одиннадцатого в мастерской мисс Дубковой уже потрескивала растопленная Фелиситэ печка. Роджер постучался и вошел. Фелиситэ сидела за столиком, прямая, строгая, как школьная учительница — нет, скорей как монахиня. С нею была и Энн (ведь ничто не могло укрыться от глаз обитателей Коултауна, ничто, кроме правды). По уговору с сестрой Энн тут же заткнула уши ватой и села у печки читать.
Роджер и Фелиситэ помолчали, глядя в глаза друг другу, словно бы через что-то неназванное и с каждой минутой становившееся весомей, что-то, объединявшее их обоих. Потом она негромко заговорила.
— Мне нужно сказать тебе две вещи. — И она рассказала, что недавно миссис Лансинг вдруг получила чек на крупную сумму за изобретения, сделанные его отцом. — Это очень расстроило maman. Она говорит, эти деньги ей жгут руки. Она даже не стала класть их в банк. Взяла все наличными и спрятала у себя в комнате. Ее первой мыслью было пойти в «Вязы» и передать эти деньги твоей матери, но она уверена, что твоя мать откажется брать их. И еще очень рассердится вдобавок. — Она сделала паузу, полувопросительно глядя на него.
— Вероятно, она права.
— Когда прошел слух о твоем приезде в Коултаун, у нее сразу полегчало на душе. За один день она стала совсем другая. Сегодня вечером, когда ты придешь к нам, она вручит тебе эти деньги. Вот я и решила предупредить тебя, чтобы это не было для тебя неожиданностью. Ты ведь не откажешься взять?
— Но твой отец тоже принимал в этих изобретениях участие?
— Maman говорит — самое ничтожное. — Фелиситэ невесело усмехнулась. — Она попросит тебя оставить ей десять процентов и раздаст их сиротам.
Роджер не в силах был усидеть на месте. Он встал и начал расхаживать по комнате.
— Подумать только! Так папины изобретения в конце концов оправдали себя… Он всегда знал, что на них можно заработать хорошие деньги, только ничего не хотел для этого делать.
— Значит, ты возьмешь эти деньги у maman?
— Возьму и положу в банк. А распоряжаться ими будем мы с тобой. Употребим их на то, чтобы дать нашим сестрам хорошее образование. Будь папа здесь, он потребовал бы, чтоб все было разделено поровну. Я так и скажу твоей матери… Ну а еще о чем ты собиралась со мной говорить?
Фелиситэ изменилась в лице. Закусила губы. Судорожно стиснула лежавшие на столике руки. В глазах ее появилось умоляющее выражение.
— Роджер, мне нужно тебе сказать что-то очень страшное. Я еще не была уверена, когда вдруг увидела тебя в поезде. А теперь уверена… Скажи, Роджер, что обычно делал твой отец перед тем, как выстрелить из ружья?
— Что, что такое? Что у тебя на уме, Фелиситэ?
— Вспомни, Роджер! Что он учил тебя делать, уже прицелившись, так как это будто бы помогает сосредоточиться?
— Считать…
— И при каждом слове он вдавливал в землю носок левой ноги, так? И считал всегда в одном темпе. А слов было четыре: раз, два, три — пли!
— Что же из этого?
Фелиситэ молчала. Вся кровь отхлынула от ее лица. Она смотрела на Роджера с отчаянной мольбой.
— Помоги мне! — выдохнула она.
И вдруг он понял.
— Кто-то другой мог точно рассчитать время и выстрелить в ту же секунду!
— Да. Из дома. Из верхнего окна дома.
— Но кто? Кто, Фелиситэ?
— Кто-то, кому известно было про этот счет.
— Я? Ты? Но мы были на пикнике в Мемориальном парке. А Джордж накануне убежал из дому.
Тогда она заговорила, торопливо, но внятно.
— Отец очень долго болел, несколько недель, даже месяцев. Мать ночи напролет проводила у его постели. Иногда он неистовствовал от боли, кричал, сбрасывал с ночного столика разные вещи. А Джордж вообразил себе, будто он бьет maman. Джордж тоже не спал ночами, бродил по всему дому, крадучись, точно животное — животное, которое вот-вот взбесится. Отец никогда бы и пальцем не тронул maman. Но когда ему становилось очень плохо, он иногда кричал на нее, говорил ей жестокие слова. Она все понимала, а Джордж понять не мог. Потом отец вдруг забрал себе в голову, что должен убить твоего отца. Это мне сказал Джордж. Он утверждал, что сам слышал его угрозы. Но отец не сделал бы ничего подобного. Он грозил сгоряча, от боли. Теперь тебе ясно? Джордж выстрелил в отца, чтобы защитить maman и спасти жизнь твоему отцу.
Роджер медленно поднялся.
— Да, так оно, видно, и было.
— Погоди! Погоди! Джордж никогда бы не допустил, чтобы за убийство судили твоего отца. Он об этом суде ничего не знал. Он тогда поспешил вскочить на товарный поезд и всю ночь ехал, скорчившись под вагоном. А под утро упал и сильно расшиб голову. Он почти целый год пробыл в больнице для умалишенных. О Роджер, Роджер! Что мне делать?
Роджер поспешно подошел к печке и тронул Энн за плечо. Она вынула вату из ушей.
— Принеси поскорее стакан воды.
Оба молча стояли над Фелиситэ, пока та пила воду. Энн ни разу в жизни не видела, чтобы у сестры так тряслись руки. Наконец Роджер тихо сказал ей:
— Заткни опять уши ватой.
Когда она отошла, он спросил у Фелиситэ:
— А где он теперь?
— Четыре ночи назад он вернулся. Влез через окно прямо в спою комнату. Мы ничего и не знали до утра. Если бы ты видел, Роджер, как он страдает. Даже отец во время своей болезни так не страдал. Мы ведь издавна боялись, как бы Джордж не сошел с ума. А теперь… я вижу, он что-то хочет сказать нам, но не может решиться.
— А ты думаешь, твоя мать?..
До сих пор Фелиситэ не проронила ни одной слезы. Но сейчас она ладонью зажала рот, и из-под ладони вырвалось глухое рыдание.
— Вчера ночью… Понимаешь, Джордж ни за что не хотел ложиться спать. И нас не отпускал, просил, чтобы мы с ним сидели до утра. Мы читали отрывки из Шекспира, из разных французских пьес. Потом разговаривали. Верней, Джордж говорил, а мы слушали. И так странно он говорил, иногда такое, что вовсе нельзя было понять. Я видела, что maman изо всех сил старается помочь ему сказать то, что он и хотел бы, да только никак не может. Ведь если бы он сказал ей… ты понимаешь? — Она выжидательно смотрела на него.
— Нет, я не понимаю, Фелиситэ.
— Он бы тогда, может, пошел к священнику. Ей бы удалось уговорить его.
— Вот оно что.
— Но он никогда не решится сказать maman. Мне бы он, пожалуй, сказал, но он сам все время старается так устроить, чтобы мы с ним ни на минуту не оставались вдвоем. Знаешь, Роджер, теперь, после разговора с тобой, я, кажется, знаю, что мне делать. Я скажу ему, что я все знаю — и все понимаю. Да, да, именно так. — Она понизила голос. — А maman тоже знает, я в этом не сомневаюсь.
— Вот что ты должна сделать, Фелиситэ. Возьми эти деньги, что получены за изобретения. Отдай их Джорджу и скажи ему, пусть уезжает куда-нибудь подальше — в Китай, в Африку. Но перед отъездом заставь его написать полное признание во всем. Мы выждем несколько месяцев, а потом перешлем это признание прокурору штата Иллинойс.
Фелиситэ схватила его за руки.
— Да, Роджер! Да! И тогда твой отец сможет спокойно вернуться.
Тут только у нее брызнули слезы.
— Но мне пора домой. Я так боюсь, что он вдруг исчезнет так же внезапно, как и появился. Помоги мне залить огонь в печке. Энн! Энн! Мы уходим. Спасибо тебе, Роджер, за все.
А в это же время, в этот же самый час, Джордж Лансинг лежал ничком на полу комнаты мисс Дубковой, головой в угол с иконами. Мисс Дубкова стояла над ним и читала покаянную молитву по-церковнославянски.
Он ей все рассказал. Временами у него перехватывало дыхание, и он не мог говорить, тогда она прикладывала ему к голове мокрое полотенце. Под конец он обессилел до того, что едва повторял за нею слова молитвы. Дойдя до конца, она склонилась над ним и поднесла к его губам распятие. Он это распятие поцеловал.
Он встал с пола. Она усадила его за бюро у окна и придвинула ему чернила, перо и лист бумаги.
— А теперь пищи под мою диктовку. «Я, Джордж Симс Лансинг, четвертого мая 1902 года выстрелом из окна убил своего отца, Брекенриджа Лансинга, находившегося в это время на лужайке за нашим домом. Накануне вечером я уехал из города, но наутро вернулся, проехав в ящике под вагоном товарного поезда. До полудня я скрывался в ближайшей роще…»
Продолжая диктовать, она расхаживала по четырем тесным комнаткам своей квартиры, доставая из разных потайных мест пачки денег.
— Теперь адрес на конверте: «Прокуратура штата Иллинойс. Прокурору штата». А теперь ступай в ванную, вымой лицо и жди в моей спальне, пока я тебя не позову.
Она написала письмо и тогда только позвала его.
— Ты сегодня же поездом 12:20 уедешь в Чикаго. Выйдешь из моего дома с черного хода. Пойдешь по тропке в обход здания суда. Не показывайся на вокзале; вскочишь в поезд тогда, когда паровоз будет въезжать на мост за водокачкой. Отправляйся прямо в Канаду — в город Галифакс. Там сядешь на пароход, идущий в Санкт-Петербург. Когда наша семья ехала в Америку из Парижа, мы тоже высадились в Галифаксе. Там тогда существовало нечто вроде русского клуба. Его члены встречали эмигрантов из России и оказывали им помощь на первых порах. Как только удастся, купи рабочее платье и хорошенько измажь его. Ты — из маленького городка в провинции Альберта: там одно время работал мой отец. Пока не приедешь в Россию, ты должен играть роль туповатого паренька, выросшего в захолустной глуши. Английского ты почти не знаешь, да и по-русски говоришь с трудом, потому что ты умственно отсталый… Только не связывайся ни с кем в пути. Не затевай никаких ссор. Пусть все видят, что ты — дурачок. Вот тебе рекомендательное письмо. Здесь сказано, что ты — сирота… честен, трудолюбив… добрый христианин. Ребенком ты перенес тяжелую болезнь, оттого и поотстал в своем развитии. Письмо написано по-английски, но под ним стоит подпись приходского священника из этого городка в Альберте. Когда попадешь в Галифакс, спрашивай русских. Говори всем, что ты едешь в Россию, чтобы найти свою бабушку; кроме нее, у тебя никого нет. Адреса ее ты не знаешь. Знаешь только, что она живет в Москве. Вот тут написано ее имя и фамилия… Не знаю, как ты со всем этим справишься. Не знаю, где раздобудешь документы. Будем надеяться, что бог поможет. Вот тебе двести долларов… А сейчас напиши несколько строк матери и сестрам, на большее у тебя времени нет. Я сегодня увижу твою мать. Я ей все расскажу. Могу я передать ей, что ты обещаешь не задержать своего признания властям?
— Да, Ольга Сергеевна.
— Когда доберешься до России, напиши мне. Пиши по-русски. Но матери первые годы не пиши. — Она перешла на русский язык. — Да благословит тебя бог, милый Георгий. Да ниспошлет он тебе истинное раскаяние и снимет с тебя тяжкое бремя совершенного тобою греха. Ты убил человека, и ты в двойном ответе перед творцом и его творениями. Матерь божия — источник утешения для всех, а особенно для нас — странников и изгнанников. Уповай на нее, и она не оставит тебя в беде. А теперь ступай! Ступай, мой мальчик!
Он низко склонился над ее рукой. Еще минута, и его уже не было в доме.
Около четырех часов Ольга Сергеевна пришла в «Сент-Киттс». Юстэйсии довольно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять: она принесла важные новости. Юстэйсия кликнула Фелиситэ, и та простояла за ее креслом все полчаса, пока длился разговор.
Ольга Сергеевна рассказала им все. Положила на стол коротенькую записку Джорджа. Повторила его торжественное обещание.
— Chere Eustachie, как только я получу известие, что Джордж прибыл в Россию, я отошлю написанное его рукой признание в Спрингфилд.
Юстэйсия сжала руку Фелиситэ. Потом тихо спросила у мисс Дубковой:
— Вы не думаете, что нужно рассказать все Беате?
— Это вам решать. Я бы не торопилась.
Скорбное, но не искаженное горем лицо Юстэйсии вдруг осветилось.
— Я знаю, что делать: я все расскажу сегодня Роджеру.
Фелиситэ тихо сказала:
— Maman, Роджер уже почти все это знает. Я с ним говорила сегодня утром.
Юстэйсия изумленно взглянула на дочь.
— Ольга, — сказала она. — Есть ли у него деньги?
— У него есть деньги. Есть надежда. Есть мужество. Есть вера. Есть ум. Идите к себе, Юстэйсия, вам нужно отдохнуть.
— И помолиться, — шепнула Юстэйсия, целуя ее.
Даль за далью… Горный кряж за горным кряжем…
Великий русский актер, прославившийся в начале нашего века, впервые привлек внимание публики в трактирах, где подавал кушанья гостям. Найдя себе партнера, опустившегося старого циркача, он разыгрывал с его помощью немудреные клоунады, сочетая их с исполнением прямых обязанностей трактирного слуги. Джордж говорил по-французски, партнер — по-немецки. Партнер всегда играл одну роль — привередливого клиента, а Джордж-слуга каждый день изображал новый характер: то это был слуга-мечтатель, то истый энтузиаст своего дела, то мрачный человеконенавистник. Лучше всего удавался ему слуга злобствующий; недаром было говорено, что лицом он похож на разозленную рысь. Джордж обливал своего «немца» супом, наступал ему на ноги, извлекал из его карманов хозяйские вилки и ножи. Шум поднимался страшный, число посетителей увеличивалось с каждым днем. Их стали приглашать «учинять скандалы» в более дорогие рестораны. Потом предложили ангажемент в качестве клоунов в загородный увеселительный парк. Появились первые афиши с крупно набранным именем «ГЕОРГИЙ». А там не замедлило последовать приглашение в местный театр на амплуа комика-буфф. Джордж оказался неподражаемым исполнителем фарсовых старичков. Но, впрочем, скоро он достиг положения, которое позволяло ему выбирать роли по собственному вкусу. Единственное, от чего он неизменно отказывался, это от заграничных гастролей. А между тем заезжие иностранцы, кому посчастливилось видеть, как Джордж играет — в собственных переводах — Гамлета, Лира, Макбета, Фальстафа, Тартюфа. Мнимого больного, по возвращении на родину рассказывали о нем, захлебываясь от восторга. В 1911 году Юстэйсия получила от Ольги Сергеевны из Москвы письмо, где говорилось, что у нее недавно гостила приятельница, молодая «оперная примадонна». Они много и любовно, мешая смех со слезами, вспоминали о годах, прожитых вместе во Франции, в Шарбонвилле. Наконец Джордж написал и сам. К письму были приложены фотографии его детей. Но после 1917 года ни от него, ни от Ольги Сергеевны письма больше не приходили. Оба, видно, затерялись в водовороте тех бурных времен.
Когда Роджер в четыре часа подошел к мастерской Порки, у дверей уже дожидался двоюродный брат Порки Стэн (Стэндфаст Роули), держа на поводу двух оседланных лошадей. Стэн, тоже старый знакомец, был еще более скуп на слова, чем его двоюродный брат. Он работал конюхом в платной конюшне Билбоу. Поздоровавшись, Стэн тотчас же исчез. А Роджер и Порки сели на лошадей и не спеша стали подниматься в гору.
Члены секты ковенантеров жили в одинаковых деревянных домиках, стоявших вокруг молельни на вершине Геркомерова холма. То была одна из довольно многих общин, что, подобно неким рудиментарным органам, уцелела от времен освоения Дикого Запада, двигаясь постепенно в глубь страны — из Виргинии в Кентукки, а оттуда в Теннесси и дальше. Обособленность ковенантеров объяснялась не только религиозными причинами, но и тем, что в их жилах текло немало индейской крови. В те далекие времена белые мужчины часто брали индианок в жены или сожительницы, но никогда не бывало, чтобы индеец женился на белой женщине; поэтому в семьях сохранялись фамилии белых людей. Большинство обитателей Геркомерова холма составляли Горумы, Роули, Коббы, О'Хара и Рэтлифы. Из поколения в поколение они жили охотничьим промыслом, но, когда дичь в окрестных лесах перевелась, младшие члены общины стали находить себе работу в Коултауне — сперва чаще всего на железной дороге и в конюшнях. Трезвенники в силу обычая и воспитания, добросовестные и трудолюбивые, они скоро заслужили в городе добрую славу. Их охотно нанимали швейцарами и дворниками в банк, в гостиницу, в суд, даже в тюрьму. Для них, привыкших вольно передвигаться на вольном воздухе, нестерпима была бы работа продавца в тесной лавке, и уж подавно — многочасовой труд шахтера под землей. В школе ребята с Геркомерова холма не заводили друзей вне своего круга — Порки тут был единственным исключением. Они мало говорили, редко улыбались и отличались незаурядным упорством. Их отцов и дедов можно было увидеть в городе лишь в те дни, когда они, зажав в кулак деньги, шли в банк платить налоги. Жила община бедно, это знали все. По словам одного выдающегося экономиста из бара при гостинице «Иллинойс», они были «бедны как церковные крысы». Женщины шили из домотканой материи платья и покрывала для кроватей. Мужчины мастерили разные поделки из конских и оленьих шкур. Но в Коултауне они своих изделий не продавали (многие испытывали непримиримую вражду к коултаунцам), предпочитая искать для них сбыт в других, куда более отдаленных районах. Правда, некоторые из женщин постарше нанимались в состоятельные коултаунские семьи служанками, но всегда оговаривали при этом, что не позже семи часов вечера должны быть уже дома, на Геркомеровом холме. При многих домиках на холме были ульи. Но мед везли продавать в другие места; только Эшли да Гиллизы получали его порой в подарок. Геркомеровская детвора, посещавшая городские школы, вела себя со степенностью маленьких мужчин и женщин, особенно в старших классах. Простая домотканая одежда их отличалась безупречной чистотой, и от нее всегда пахло щелочным мылом. Прочих школьников забавляли причудливые имена, данные им при крещении. Иногда эти имена заимствовались из Библии, но чаще — из двух книг, с которыми не расставались первые переселенцы, двинувшиеся на Дикий Запад: «Путь пилигрима» и «Жизнеописания» Плутарха. Были тут и Христианы и Добродеи и немало Ликургов, Эпаминондов, Солонов и Аристидов. У восточных плантаторов в ход шли больше имена плутарховых воинов и тираноубийц — Кассий, Цинциннат, Брут, Гораций; ковенантеры же отдавали предпочтение мудрецам. Их мальчики, сильные и физически хорошо развитые, сделали бы честь любой спортивной команде; однако старейшины секты запрещали им принимать участие в школьных субботних играх, считая, что прообразом этих игр служат ненависть, мстительность и стремление истреблять себе подобных.
В семидесятые и восьмидесятые годы горожане немало глумились над обитателями Геркомерова холма, называя их «кликушами», «трясунами», а то и просто «юродивыми»; но мало-помалу их образцовая честность и строгий аскетический образ жизни завоевали им своеобразное недоуменное уважение. В течение многих лет молодые ковенантеры женились только на девушках из своей же общины, так что каждый из нынешних жителей селения сам себе доводился родственником в каком-то колене. Правда, еще в середине шестидесятых годов они слышали о тех нежелательных последствиях, которые подобные браки могут иметь для потомства. Им об этом рассказывал предшественник доктора Гиллиза, так же как и сам он впоследствии, избранный конгрегацией на должность общинного врача. Старейшины слушали его внешне бесстрастно, однако же несколько встревожились — доктор Уинстид, по счастью, был превосходным лектором. После его лекции в общине был заведен новый обычай: время от времени тот или иной старейшина совершал путешествие в один из восточных штатов, где имелись поселения родственных сект. Оттуда они привозили невест и женихов для геркомеровской молодежи (но не на основе взаимности). Доктор Гиллиз догадывался, хотя и не мог знать наверное, что тут не обходилось без денежных расчетов.
А в то же время упорно держался неизвестно кем пущенный слух, будто жизнь на Геркомеровом холме отнюдь не так безгрешна, как кажется со стороны. Говорили, что воскресные вечерние службы в молельне заканчиваются беснованьем, плясками и выкриками «на непонятных языках» — словом, «настоящими оргиями», по выражению видных философов-моралистов из бара при гостинице «Иллинойс». Но поскольку ни один посторонний ни разу не пробыл и трех минут ближе, чем в пятидесяти ярдах от молельни, проверить эти рассказы не представлялось возможным.
Порки оставил Роджера перед домом своего деда, а сам пошел привязать лошадей.
Дьякон сидел в плетеном кресле-качалке на узенькой галерее, заменявшей парадное крыльцо. Ноги его были укрыты домотканым одеялом. Он был очень смуглый, с такими же, как и у внука, черными, лишенными блеска глазами. Индейские лица почти не меняются с тридцати лет до семидесяти.
— Извините, что не встаю вам навстречу, мистер Эшли, — сказал он и жестом пригласил Роджера сесть на стул рядом.
Он повернулся и долгим взглядом посмотрел на гостя. Роджер почувствовал благоговейный трепет, а потом нежность. У него никогда не было деда. Наконец Дьякон заговорил.
— Знаете ли вы, что ваш отец пришел на помощь нашей общинной церкви, когда ей понадобилась помощь?
— Нет, Дьякон, — с удивлением ответил Роджер.
Последовала одна из долгих индейских пауз, к которым Роджер привык с детства. Они были как глубокий живительный вдох.
— В то время вам было, наверно, лет одиннадцать. Наша церковь стояла тогда вон на том крутом холме. Весна принесла с собою неделю проливных дождей. Со всех склонов стала оползать земля. Однажды среди ночи церковь скатилась в долину. Она несколько раз перевернулась и разбилась в щепки.
Снова долгая пауза.
— На следующей неделе, как только дороги вновь стали проезжими, ваш отец приехал сюда. Он дал старейшинам сто пятьдесят долларов.
Пауза.
— Это было намного больше, чем он мог себе позволить. Вы знаете, что ваш отец не был богатым человеком?
— Я начал понимать это лишь в последние годы, Дьякон. Дома отец никогда не говорил о деньгах.
— Мы отдавали ему долг понемногу, частями, но каждый цент из тех денег, что мы ему приносили, он употреблял на помощь нашим же детям. Ваш отец жил с широко раскрытыми глазами, мистер Эшли. Знаете ли вы, что это он послал Аристида учиться сапожному делу в Спрингфилд?
— Нет, Дьякон.
— Рот вашего отца не был так широко раскрыт, как его глаза.
Долгая пауза.
— До того дня, когда он привез нам эти деньги, никто из нас, стариков, не сказал с ним ни единого слова. Но он знал всех наших молодых людей. Ваш отец любил молодежь. А молодежь это ценит, особенно в людях со стороны. Мы наблюдали за ним, а когда он привез нам деньги, мы поняли, что и он наблюдал за нами.
Пауза.
— Можете ли вы сказать мне, каких религиозных убеждений придерживался ваш отец?
Роджер помедлил.
— По воскресеньям он водил нас в методистскую церковь. Дома он ни о чем таком не говорил. Вечерами мы читали вслух Библию. Некоторые ее части он очень любил, но никогда не пытался толковать их. Я не знаю, что происходило в его душе. Когда доктор Бенсон пришел к нему в тюрьму, он попросил его больше не приходить. Вы, наверно, слыхали об этом. Я хотел бы ответить на ваш вопрос, Дьякон. Я хотел бы знать, что вам ответить.
Дьякон наклонился вперед и оперся на палку.
— Мы чувствовали, что его желание пожертвовать деньги нашей церкви имеет особый смысл. Мы чувствовали, что он пришел к нам не просто как добрый человек, а как человек верующий… И мы были правы.
Это было произнесено с такой многозначительностью, что Роджер невольно понизил голос.
— Как вы об этом узнали, Дьякон?
Дьякон медленно и с мучительным трудом стал подниматься с кресла.
— Через несколько минут я вам это скажу. Сначала я хочу показать вам церковь, которую ваш отец помог нам построить.
Опираясь на палку, Дьякон медленно повел Роджера узкой улочкой, огибавшей вершину холма. По обеим сторонам стояли совершенно одинаковые домики. На улице не было следов колес. Конюшни были расположены ниже, Им навстречу попалось несколько мужчин, женщин и детей. Все они слегка кланялись, проходя мимо, но никто не произнес ни слова и никто не взглянул на Роджера. Церковь некогда была выкрашена в коричневый цвет. Над главным входом возвышалась маленькая звонница, как в сельской школе. Церковь стояла на ровной площадке, а вокруг площадки часть глинистого склона была обнесена белой дощатой изгородью. Дьякон остановился, держась рукой за столб ворот.
— Это наше кладбище.
Никаких памятников или надгробных плит нигде не было видно. Роджер удержал вопрос, просившийся на язык.
— На небесах мертвым дают новые имена, мистер Эшли. Здесь наши имена и наши тела быстро истлевают и забываются. Мое имя Сэмюэл О'Хара. Здесь, на этой земле, покоится не менее десятка Сэмюэлов О'Хара. — Голос его зазвучал суше. — Зачем мне нужно объявление о себе здесь, когда я предстану пред лицом господа?
Пауза.
— Сколько миллиардов людей уже умерло? Никому не счесть их. Лишь одно имя из огромного числа имен остается в памяти людской на сотню лет. Остальные же — лишь перегной, на котором взрастут ливанские кедры.
Они вошли в церковь. В ней не было никакого рождественского убранства. Стоял только один стол и много скамеек. Церковь напоминала классную комнату. Пол был истерт и исшаркан, словно на нем возилась орава ребятишек. Было очень холодно. Роджера пробрала дрожь от холода и смутных предчувствий. Дьякон поднял руку и показал на доску, прибитую к стене возле двери. На доске была надпись: «Это здание — дар Джона Баррингтона Эшли. 12 апреля 1896 года». Роджеру страстно захотелось увидеть своего отца — так иногда хочется увидеть незнакомца, о котором слыхал много хорошего.
— Мой отец был когда-нибудь здесь, Дьякон?
— Нет… Вы — первый человек, не принадлежащий к нашей общине, который переступил порог этой церкви.
В противоположной стене отворилась дверь, и вошли трое мужчин с керосиновыми лампами в руках. При виде Дьякона они повернули было назад, но Дьякон громко сказал:
— Можете делать свое дело.
Мужчины стали прикреплять лампы к крюкам, свисавшим с потолка. Лампы были начищены до блеска; стекла сверкали, как хрусталь.
Дьякон вместе с Роджером воротились домой. Они вошли в первую комнату. В небольшом очаге горел огонь. Сильно пахло щелочным мылом.
— Сейчас вы поймете, почему я думаю, что ваш отец относился к нам как человек верующий. — Он вынул из кармана старый конверт. — Это письмо мы получили за четыре дня до того, как он отправился в путешествие, которое, он считал, приведет его к смерти. Ваша мать знала об этом?
— Думаю, что нет. Пожалуй, наверняка не знала.
— Вам, должно быть, приятно будет прочитать письмо в одиночестве. Лучше всего, если вы выйдете на крыльцо и прочтете его там. Потом принесите его обратно.
Ни разу у Роджера так не кружилась голова с тех пор, как он голодным юнцом пришел в Чикаго. В нем нарастало ощущение чего-то огромного и непостижимого. Он чувствовал себя как человек, который всю свою жизнь брел ощупью, не ведая о чудесах и опасностях, его подстерегающих, о глазах, следящих за каждым его шагом, о знамениях, начертанных на облаках. Он понял, что жизнь неизмеримо значительнее, глубже и рискованней, чем мы думаем. Он выронил из рук конверт и наклонился, чтобы поднять его. Ему вдруг стало страшно, что он так и пройдет свой путь, ничего — решительно ничего — не узнав о тех светлых и темных силах, что ведут меж собой жестокую схватку под покровом внешней благопристойности, — страшно, да, страшно, что ему суждено до конца жить жизнью раба или четвероногой твари с низко опущенной головой.
Он вышел на крыльцо. Он достал письмо из конверта. Слезы обожгли ему глаза. Он набрал побольше воздуху в легкие, словно изготовившись к бегу, и начал читать:
«Старейшинам религиозной общины ковенантеров.
Уважаемые друзья.
Не считая членов моей семьи, вы — единственные, кому я хочу нечто сказать на прощанье.
4 мая вечером я выстрелил из ружья в мишень. Человек, находившийся в нескольких шагах левее этой мишени, упал мертвым. Я не могу найти этому никакого объяснения. Я не повинен в убийстве — ни делом, ни помыслом.
Вы помните, что я всегда испытывал глубокий интерес к церкви и селению на Геркомеровом холме. В детстве бабушка водила меня в церковь, которая, как мне кажется, была похожа на вашу. Проведенные там часы, когда душа моя была полна тишины, смирения и веры, запомнились мне на всю жизнь. Нечто подобное встретил я и у членов вашей общины. Каждое воскресное утро, когда я присутствовал в Коултауне на богослужении совершенно иного толка, мысли мои уносились на Геркомеров холм.
У меня остается сын. Я не знаю никого старше его, кто бы мог наставить его словами совета, ободрения или порицания. В двадцать один год мужчина уже не терпит руководства. Если до того, как мой сын Роджер достигнет этого возраста, вы увидите, что он выказал малодушие или совершил нечто необдуманное и предосудительное, я прошу вас показать ему это письмо.
Я отправляюсь в Джолиет, повторяя про себя любимую молитву моей бабушки. Она молилась о том, чтобы наша жизнь служила осуществлению промысла Господня. Хочу надеяться, что я прожил свою жизнь не напрасно.
С глубоким уважением, Джон Эшли».
Роджер уронил письмо на колени. Он посмотрел на поднимавшийся перед его глазами промерзший склон холма. Дьякон хотел дать ему понять, что отца его спасли люди из общины ковенантеров. Они работали кто в тюрьме, кто на железной дороге. Они хорошо разбирались в механизмах замков, наручников и в расписании поездов. Они были безоружны, они были молчаливы, проворны и очень сильны. Нарушая закон, они рисковали своей жизнью и — что, вероятно, было для них значительно важнее — честью и достоинством своей церкви. Они повиновались законам более древним. Важная тайна была доверена Роджеру. Такой великий долг не оплатить никакой благодарностью.
Он возвратился в дом, положил письмо на стол возле Дьякона и сел. Дьякон пристально всматривался в домотканый коврик у себя под ногами. И Роджер взглядом последовал за ним. Коврик был соткан очень давно, но сложный запутанный узор из черных и коричневых ниток все еще можно было различить.
— Мистер Эшли, будьте так добры, поднимите и переверните этот коврик.
Роджер повиновался. С изнанки коврик представлял собой беспорядочную массу узлов, оборванных и свисающих нитей. Дьякон жестом попросил Роджера положить коврик на прежнее место.
— Вы журналист из Чикаго. Ваша сестра певица и живет в том же городе. Ваша мать содержит пансион в Коултауне. Ваш отец где-то в далеких краях. Это все — нити и узлы человеческой жизни. Узор, который они образуют, скрыт от вас.
Пауза.
— Слыхали ли вы о роде Иессеевом, мистер Эшли?
— Я… Если я не ошибаюсь, Иессей был отцом царя Давида.
Дьякон раскрыл лежавшую перед ним на столе огромную Библию. На развороте изображено было высокое тонкое дерево, с ветвей которого, подобно яблокам, свисали кружки с напечатанными на них именами.
— Это — древо рода Иессеева. Здесь потомки Иессея от Давида до Христа. Человек должен помнить о роде, из которого он происходит. Говорил ли вам Аристид, что мы происходим из рода, к которому принадлежал Авраам Линкольн?
— Нет, Дьякон.
— Это верно. Наши предки были выходцами из того округа в штате Кентукки, где он родился.
Пауза.
— Вы тоже из подобного рода. Вы отмечены знаком. Я вижу у вас на челе этот знак. В мире все время кто-то рождается. Одно из миллиардов рождений — рождение Мессии. Иудеи и христиане считали, что Мессия только один, но они ошибались. Каждые мужчина и женщина способны произвести на свет Мессию, но одни на древе ближе к Мессии, а другие дальше. Вы когда-нибудь видели океан?
— Нет, Дьякон.
— Говорят, что в океане каждый девятый вал выше других. Не знаю, так ли это на самом деле. Но в океане человеческих жизней одна волна из многих сотен и тысяч встает, вобрав в себя силу и мощь множества человеческих душ, — и рождает Мессию. Стон сотрясает всю землю в эти минуты — близится ее час. Рождение Мессии готовится в течение многих столетий. Взгляните на этот рисунок. Более тридцати колен отделяет Христа от царя Давида. Подумайте обо всех них — о мужчинах и женщинах, о дедах и бабках Христовых. Один ученый проповедник говорил мне, что мать Христа, вероятно, не умела ни читать, ни писать, как и ее мать до нее. Но им было сказано: «Прямыми сделайте в степи стези богу нашему».
Он положил палец на страницу и понизил голос.
— Здесь есть имена людей, о которых Библия говорит нам дурное. Не кажется ли вам это странным? Мы с вами в неведении своем сказали бы, что мужчины и женщины, столь близкие к родившим Мессию, наверно, были чисты и безгрешны. Но нет! Бог строит по-своему. Он может употребить камень, который обыкновенные строители отбросили бы. Есть старинное изречение: «Неисповедимы пути, коими бог творит чудеса свои». Вам оно знакомо?
— Да, Дьякон.
— Человеку не дано постигнуть эти пути. Бог непостижим. Нет ничего наивнее, нежели представлять себе бога в образе человеческом. — Он махнул рукой в сторону Коултауна. — Как это делают там. Нам, людям, его пути часто кажутся жестокими или смешными. — Он перевернул страницу назад. Открылась новая гравюра. — Вот родословное древо Христа от Адама до Иессея. Когда Сарре — вот она! — было сказано, что она родит сына, она смеялась. Она была старухой. И она родила Исаака — что означает «смех». Библия — это история семьи, из которой вышел Мессия, но это лишь одна Библия. А семей таких много, только их библии никогда не были написаны.
Пауза. Дьякон опустил глаза. Своей палкой он поддел угол коврика у себя под ногами, приоткрыв на миг путаницу узлов и незакрепленных нитей.
— Может ли быть, что ваша семья отмечена знаком? Может ли быть, что среди ваших потомков явится новый Мессия — завтра или через сотни лет? Что уже назревают предвестия этого? Ваш отец выстрелил из ружья; человек, находившийся близ него, упал мертвым, но ваш отец не убивал этого человека» Непостижимо. Ваш отец и пальцем не шевельнул, чтобы спастись, однако он был спасен. Непостижимо. Ваш отец говорил, что у него не было друзей, однако друзья спасли его. Ваша мать не выходила из дому после случившегося; у нее не было денег; несчастье ошеломило ее. Но дитя, никогда не державшее в руках долларовой бумажки, не дало погибнуть семье. Непостижимо, а? Ваша прабабушка обратилась к вам из могилы, через вашего отца. Отец ваш был прав, когда писал: нет счастья, равного сознанию того, что в общем переплетении судеб, подчиненном замыслу божьему, тебе назначена своя роль. — Он снова указал рукой на Коултаун. — Там бродят во мраке. Если бы нам потребовалось описать ад, мы сказали бы, что это место, где нет надежды и где ничто не может измениться: рождение, вскармливание, размножение и смерть — все повторяется словно на огромном вертящемся колесе. Есть такая муха — она живет, откладывает яйца и умирает — все за один день, — и от нее не остается ничего.
Он поднял голову и многозначительно посмотрел в глаза Роджеру.
— Может ли быть, что именно этой стране суждена такая великая участь — этой стране, причинившей столько зла моим предкам? Пути господни неисповедимы. Я не берусь ответить на все эти вопросы.
Он взял письмо Джона Эшли и вложил его в Библию.
— Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, я повинен в грехе нетерпения. Я читал, что людям, которые умирают от голода и жажды в пустыне, мерещатся источники и фруктовые деревья. Вы об этом читали?
— Да, Дьякон.
— Вы знаете, как называются эти ложные надежды?
— Миражи, Дьякон.
— Возможно, и эта семья, и эта Америка — миражи моих старых глаз. Или моего нетерпения. Есть другие страны и другие «родословные древа», о которых я ничего не знаю. Достаточно четырех или пяти таких за пять тысяч лет, чтобы поселить надежду… Я показал вам письмо вашего отца не для того, чтобы наставить вас словами совета, ободрения или порицания, мистер Эшли, а для того, чтобы в этот великий час разделить с вами радость торжества. Благодарю вас за ваш приход.
Спустилась тьма. Миновав последний дом поселка, Роджер бегом побежал вниз. Он спотыкался; он падал; он пел. За ужином он внимательно вглядывался в лица своих домашних и обитателей пансиона. Он недавно читал Лукреция; кто еще здесь знает об «огненной ограде мира»? Мисс Дубкова, подумал он. Софи видела ее, но, пожалуй, не видит больше. Доктор Гиллиз, возможно, тоже.
После ужина он напомнил матери о своем обещании погулять с Констанс и зайти в «Сент-Киттс».
— Постой, — сказала она и принесла коробку со своими знаменитыми имбирными пряниками и марципанами.
— Куда ты хочешь пойти, Конни?
— Мне больше всего нравится на Главной улице.
Они четыре раза прошли улицу из конца в конец. Конни сказала, что ей разрешают ходить по ягоды, но на Главной улице она обещала не показываться. Она рассказала ему обо всех, с кем познакомилась на фермах и в хижинах на склоне горы.
— Я про это ничего маме не говорила. Многие из этих людей старые и больные. Многие не очень счастливы. Они не очень хорошо обращаются со своими детьми.
— Семья Беллов счастлива.
— К ним я не хожу. Там нет ягод. И потом меня больше интересуют люди, которые не очень счастливы и не очень приятны.
Глаза ее скользнули по его лицу, она улыбнулась какой-то виноватой, но лукавой улыбкой.
— А ты счастлива, Конни?
— Пожалуй, да.
— Назови мне три вещи, которых тебе хотелось бы больше всего на свете.
Она задумалась.
— А можно четыре?
— Можно.
— Хочу, чтобы вернулся папа. Хочу жить недалеко от тебя. Хочу учиться в школе. И знать… знать сотни и тысячи людей во всем мире.
— Хорошо. А теперь я открою тебе одну тайну.
Роджер помнил, что куклы и тайны играют важную роль в жизни девочек. Он рассказал ей о деньгах, полученных за изобретения отца. На эти деньги ее и Энн Лансинг пошлют учиться в колледж. Он постарается найти колледж поближе к своему дому. Он сказал ей, что широко известные имена Сколастики и Бервина Эшли непременно заставят откликнуться их отца.
— А зачем тебе знать такое множество людей?
— У меня есть список людей, которых я знаю. Всего сто четыре человека. Это не считая тех, кто живет в пансионе. Их я записываю отдельно — тех, с кем только здороваюсь, когда подаю им на стол или убираю их комнаты. Я думаю о людях — а ты нет? — а чем больше людей знаешь, тем лучше о них думаешь. Роджер, можно я задам тебе несколько вопросов?
— Конечно, можно, Конни. Валяй.
Какие вопросы! Где больше счастливых людей — в таком большом городе, как Чикаго, или в Коултауне? Верно ли, что мужчины, как правило, счастливее женщин? Бывают ли счастливы девушки, которые не вышли замуж? Очень ли грустно, когда кто-то умирает? Верно ли, что не очень хорошо — и даже вовсе плохо — родиться девочкой?
— Знаешь что, Конни? Ты пиши мне по четвергам и в каждом письме задавай пять вопросов. А по воскресеньям я буду тебе отвечать.
— Можно я задам еще только один вопрос?
— Можно.
— Изменяются ли люди, когда вырастают?
— Конечно! Разве я не изменился? И Лили тоже изменилась — ты ведь помнишь, что раньше она никого и ничего не замечала кругом. Сегодня я убедился, что твоя лучшая подруга Энн Лансинг тоже изменилась.
— Разве?
— Я сейчас собираюсь навестить Лансингов. Хочешь, пойдем туда вместе?
— Еще бы, Роджер!
— Прекрасно! Только ты отойди куда-нибудь в сторонку и поболтай с Энн, а мне надо поговорить с ее мамой. И я открою тебе еще одну тайну: они сегодня узнали что-то очень плохое — почти такое же плохое, как мы, когда папа… ну, да ты сама знаешь!
Они подошли к воротам «Сент-Киттса». Конни вдруг обняла брата и воскликнула:
— Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!
Роджер приподнял ее с земли и сказал:
— Мы еще долго будем любить друг друга.
Из тени густого тиса вышла им навстречу Фелиситэ. Она поцеловала Констанс. Роджеру она шепнула:
— Джордж уехал. Он все рассказал мисс Дубковой. Он написал все как было.
— А твоя мама?
— Я теперь поняла, что она уже давно все знает.
Они вошли в дом.
— Конни, — сказал Роджер, — отдай миссис Лансинг печенье.
Юстэйсия вся сияла от радости.
— Милый Роджер! Милая Конни!
Констанс сказала:
— Это вам от мамы с пожеланием веселого рождества.
Вскоре Роджер уже сидел рядом с Юстэйсией. Она подробно рассказывала ему про деньги, полученные за изобретения его отца. Она объясняла ему, что ее сын Джордж ни за что бы не скрылся, знай он, что за убийство судят Роджерова отца.
За горами горы, долины и реки.
Юстэйсия уехала в Лос-Анджелес. Она поступила экономкой в исправительный дом для малолетних преступниц. Там ей не очень понравилось, и к тому же из окон дома не было видно моря. Она перебралась в частное заведение для мальчиков в Сан-Педро, в ту пору маленький портовый городок, где промышляли ловлей тунца. Она стала воспитательницей.
Горы и облака. Всходите выше, как можно выше.
Джонни, сын Роджера и Фелиситэ, в третий раз убежал из дому в начале 1917 года. Жили они тогда в Вашингтоне, надвигалась война, и его отец был завален работой, Фелиситэ поместили в больницу; она снова ждала ребенка и опасалась, что роды будут тяжелые. На поиски беглеца была брошена полиция пяти штатов. Вызвали лучшего друга Джонни — бабушку Лансинг. Прошла неделя. В конце концов мальчугана нашли в Балтиморе, спящим в одной постели с двумя другими детьми. Люди, которые его приютили, не читали газет и приняли его за сироту-беспризорника. В час ночи Юстэйсия постучалась к ним в дверь и попросила чашку чая. Джонни услышал голос бабушки и забрался к ней на колени. Он был теперь самым дорогим для нее существом. Юстэйсия едва прикоснулась к нему. «У нас есть только то, что мы теряем», — сказала она себе. Вся его дальнейшая жизнь была долгим и печальным самоистреблением.
История — цельнотканый гобелен. Напрасны попытки выхватить из него взглядом кусок шириною больше ладони…
После сорока лет у Констанс было подряд несколько ударов. Она сидела на веранде своего дома, откуда открывался вид на порт Нагасаки. Домашние по очереди читали ей вслух. Ее посещали делегации из дальних стран. Ни одной не удавалось пробыть дольше пяти минут — она прикидывалась усталой. Лишь те посетители, которые могли рассказать ей, как идет «работа», могли сидеть хоть целый час. Ко дню рождения император прислал ей цветок и стихотворение.
Немало споров идет о рисунке, который выткан на гобелене. Иным кажется, будто они видят его. Иные видят лишь то, что им велят увидеть. Иным помнится, что когда-то они видели этот рисунок, но потом позабыли. Иные толкуют его как символ постепенного освобождения всех угнетенных и эксплуатируемых на земле. Иные черпают силу в убеждении, что рисунка вообще никакого нет. Иные…
Примечания
1
Писатели США о литературе. Сб. статей, М., «Прогресс», 1974, с. 204.
(обратно)2
М. Gold. Prophet of the Genteel Christ. The New Republic, 1930, October, 22, p. 266–267.
(обратно)3
А. Старцев. Джон Дос Пассос. М., ГИХЛ, 1934, с. 25.
(обратно)4
М. С. Кuner. Thornton Wilder. The bright and the dark. New York, p. 207.
(обратно)5
М. С. Kuner. Thornton Wilder, p. 215.
(обратно)6
Король Людовик Святой — французский король из династии Капетингов Людовик IX (1214–1270), прославившийся своим благочестием. (прим. О.А. Алякринского)
Примечания О.А. Алякринского взяты из издания: Мост короля Людовика Святого. Мартовские иды. День восьмой: Романы / Т. Уайлдер. — М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2002. — 701 с. — (Золотой фонд мировой классики).
(обратно)7
Вавилонская башня — центральный образ библейского сюжета о попытке людей построить в Вавилоне башню «высотою до небес» (Бытие, 11:1–9). Однако бог Яхве, решив воспрепятствовать строителям, смешал их языки так, что они перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле. В более широком смысле — символ богоотступничества. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)8
Инквизиция — религиозно-политический институт, созданный в Западной Европе в XIII в. с целью борьбы с ересью в католических странах. Образован по инициативе папы Иннокентия III в связи с распространением еретических течений катаров (альбигойцев) на юге Франции. В Испании, второй крупнейшей католической державе Европы, и в испанских колониях инквизиция действовала вплоть до конца XVIII в. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)9
…пути Творца пред тварью оправдать… — Строка из поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» (пер. А. Штейнберга).
(обратно)10
…для богов мы как мухи, которых бьют мальчишки летним днем… — пересказ отрывка из трагедии Шекспира «Король Лир»: Мы для богов — что для мальчишек мухи: Нас мучить — им забава. (пер. М. Кузмина)
(обратно)11
…в окрестностях Пласы. — здесь: центральная площадь в Лиме.
(обратно)12
Катай — старинное название Китая.
(обратно)13
Чича — спиртной напиток, изготовляемый из маиса и ананасов.
(обратно)14
Гекуба — в греческой мифологии жена троянского царя Приама, мать Гектора, Париса, Кассандры; героиня одноименной трагедии Еврипида, по мотивам которой в Новое время был создан ряд драматических и оперных произведений. Гекуба упоминается в трагедии Шекспира «Гамлет», когда речь идет о выступлении бродячих актеров. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)15
Дон Хуан, если цените мою любовь, зачем думать, что полное доверие — глупость? Если вас сердят мои страхи, не надо упрекать меня в неделикатности (исп.).
(обратно)16
Гавриил — архангел, возвестивший Деве Марии о том, что у нее родится Спаситель. «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет… Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!.. зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Евангелие от Луки, 1:26–33). (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)17
…ненавидел настоятельницу ненавистью… Ватиниевой… — Имеется в виду Публий Ватиний, приверженец Юлия Цезаря, питавший лютую ненависть к Цицерону. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)18
…как Зевс перед Семелой. — Имеется в виду мифологический сюжет о любви Зевса и фиванской царевны Семелы. Громовержец являлся к Семеле с Олимпа под покровом ночи, но когда по совету его ревнивой супруги Геры Семела попросила Зевса предстать перед ней в своем истинном обличье, тот молнией сжег возлюбленную, носившую во чреве его сына — Диониса. Сюжет о Зевсе и Семеле нашел отражение в живописи Возрождения (полотна Тинторетто, Гверчино и др.). (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)19
Второе послание к коринфянам — послание апостола Павла христианской церкви в Коринфе, содержащее основные моральные постулаты христианства. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)20
Сид — герой испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» (XII в.), освободитель Испании от мавров. Прототипом Сида стал испанский рыцарь Родриго Диас де Бивар (XI в.). Образ героя эпоса впоследствии был воплощен в пьесе французского драматурга Пьера Корнеля «Сид». (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)21
Иуда Маккавей — предводитель народного восстания в Иудее в 166–160 гг. до н. э. в защиту иудейских религиозных обычаев и ритуалов, которые преследовались царем Антиохом IV. Одноименная оратория Генделя прославила героя Иерусалима. // Георг Фридрих Гендель (1685–1759). Имя этого немецкого композитора часто упоминается в романах Уайлдера. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)22
Арлекин — персонаж итальянских средневековых комических представлений, так называемой комедии дель арте. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)23
Мотет — полифоническое произведение для церковного хора. // Моралес, Кристобаль де (1500–1553) — испанский композитор, чьи произведения (в частности мотеты) пользовались большой популярностью у современников. // Витториа, Томас Луис де (1548–1611) — испанский композитор, автор многих церковных сочинений (в том числе и мотетов), считавшийся одним из крупнейших европейских композиторов того времени. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)24
…одним из самых язвительных людей Франции… — Имеется в виду Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), автор философских эссе и изречений. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)25
Сын мулата (исп.).
(обратно)26
«Стрелы, летящей днем» (лат.).
(обратно)27
Голгофа. — В переносном смысле — символ страданий и мук. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)28
Витториа, Томас Луис де (1548–1611) — испанский композитор, автор многих церковных сочинений (в том числе и мотетов), считавшийся одним из крупнейших европейских композиторов того времени. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)29
Кальдерон (Кальдерон де ла Барка), Педро (1600–1681) — испанский драматург эпохи позднего Возрождения и барокко. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)30
Палестрина, Джованни (1525–1594) — крупнейший итальянский композитор XVI в., автор более чем 350 церковных сочинений (месс и мотетов). (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)31
Моралес, Кристобаль де (1500–1553) — испанский композитор, чьи произведения (в частности мотеты) пользовались большой популярностью у современников. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)32
Тирсо де Молина (1583–1648); Руис де Аларкон, Хуан (1580–1639); Mopeтo-и-Кабанья, Агустин (1618–1669) — испанские драматурги эпохи Возрождения. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)33
Лопе де Вега, Феликс (1562–1635) — испанский драматург эпохи Возрождения, автор более чем 2000 пьес (известны 500), романов, стихов, отразивших идеи ренессансного гуманизма. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)34
…имел продолжительные беседы с принцессой Дез Юрсен… — Принцесса Дез Юрсен была подослана Людовиком XIV к жене испанского короля Филиппа V, француженке, чтобы влиять на нее в интересах французского престола. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)35
Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, изваявший из слоновой кости статую женщины и влюбившийся в нее. По его просьбе богиня Афродита оживила статую, и та — под именем Галатея — стала женой Пигмалиона. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)36
…преподал ей бойкий жаргон El Buen Retiro. — Буэн Ретиро — придворный театр в загородном дворце испанских королей.
(обратно)37
…во имя одиннадцати тысяч кёльнских дев… — Cогласно средневековой легенде, британская принцесса Урсула и 11000 девушек были умерщвлены гуннами в Кельне.
(обратно)38
Превосходительство (исп.).
(обратно)39
Эскуриал — летний дворец испанской королевской семьи.
(обратно)40
Комедией в испанской драматургии называлась любая трехактная пьеса в стихах.
(обратно)41
Праздник Тела Господня — отмечается 6 июня. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)42
Валтасаров пир. — Согласно преданию, последний царь Вавилона Валтасар в ночь перед взятием города персидскими войсками устроил в своем дворце пир. Во время пиршества невидимая рука написала на стене таинственные слова: «мене, мене, текел, упарсин» — предсказание о гибели Вавилона. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)43
Монреале — бенедиктинский монастырь в Сицилии.
(обратно)44
С точки зрения вечности (лат.).
(обратно)45
День гнева, (этот день!) — начальные слова католического песнопения, изображающего Страшный суд и обычно исполняющегося во время заупокойной мессы. (прим. О.А. Алякринского)
(обратно)46
Священные действа (исп.) — религиозные драмы, мистерии.
(обратно)47
Дрожь — лучший человеческий удел; // Пусть свет все чувства человека губит — // Великое он чувствует и любит, // Когда святой им трепет овладел. // Гете, «Фауст» (Перевод Н.Холодковского)
(обратно)48
Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей (пер. М.Гаспарова)
(обратно)49
А. Лесаж «Хромой бес»
(обратно)50
урожденной (нем.)
(обратно)51
храни тебя господь, сын мой (нем.)
(обратно)52
«Отверженные» (франц.)
(обратно)53
консоме с помидорами а-ля императрица Евгения, пюре из репы, соус бешамель (франц.)
(обратно)54
пирог с сюрпризами Шарбонвиль (Угольная гора) (франц.)
(обратно)55
розовое вино «Шато «Вязы» (франц.)
(обратно)56
жаркое (нем.)
(обратно)57
сосредоточенно (франц.)
(обратно)58
«У моряков» (франц.)
(обратно)59
добрый вечер (франц.)
(обратно)60
манилья (франц.)
(обратно)61
Клуб зеленого сукна (франц.)
(обратно)62
Пиковая дама (франц.)
(обратно)63
Букв.: Ты из барабанчиков? (франц.). Здесь: Ты из наших?
(обратно)64
дон Диего, канадец (исп.)
(обратно)65
кастильское наречие (исп.)
(обратно)66
добрый дон Хаимито (исп.)
(обратно)67
ворожея (исп.)
(обратно)68
сынок (исп.)
(обратно)69
ничто (исп.)
(обратно)70
добрый день (исп.)
(обратно)71
дочка (исп.)
(обратно)72
два плута (исп.)
(обратно)73
госпожа, хозяйка (исп.)
(обратно)74
Где этот окаянный мальчишка? (нем.)
(обратно)75
Нет денег… Мама… Помогите!.. Во…озду…ху…
(обратно)76
Все хорошо, господин Мецгер. Поспите немного! Да! (искаж. нем.)
(обратно)77
«Трубадур» (итал.)
(обратно)78
мятный ликер (франц.)
(обратно)79
жизнь, жизнь (итал.)
(обратно)80
искусство (итал.)
(обратно)81
красивый (итал.)
(обратно)82
Мама!
(обратно)83
Да, милый. Что ты хочешь?
(обратно)84
Мама, спой!
(обратно)85
хорошо, мое сокровище (итал.)
(обратно)86
«Гете и животные» (нем.)
(обратно)87
спортивного общества (нем.)
(обратно)88
масленичный карнавал (нем.)
(обратно)89
последний день карнавала (франц.)
(обратно)90
«Волшебный стрелок» (нем.)
(обратно)91
«Книга песен» (нем.)
(обратно)92
неограненный (франц.)
(обратно)93
певческого общества (нем.)
(обратно)94
тутовый шелкопряд (лат.)
(обратно)95
Скажи, кузен Жак, едешь ты с нами в Квебек — да или нет? (франц.)
(обратно)96
поселок (франц.)
(обратно)97
промахи (франц.)
(обратно)98
шоколадный ликер (франц.)
(обратно)99
Тут не без капли крови красавца-дьявола! (франц.)
(обратно)100
Мама, а мы тоже… мы тоже?.. (франц.)
(обратно)101
Что? Что мы тоже? (франц.)
(обратно)102
Мы тоже… ведем свой род от Него? (франц.)
(обратно)103
Замолчи, глупышка! Мы — потомки императрицы. Этого, надеюсь, достаточно (франц.)
(обратно)104
Но, мама, скажи мне… (франц.)
(обратно)105
Молчи, дуреха! И утри нос! (франц.)
(обратно)106
тот маленький из Борепера (франц.)
(обратно)107
скамеечка, на которую молящиеся становятся на колени (франц.)
(обратно)108
диалекте (франц.)
(обратно)109
за неимением лучшего (франц.)
(обратно)110
мои дорогие (франц.)
(обратно)111
Ангел! (франц.)
(обратно)112
дорогой мой мальчик (франц.)
(обратно)113
исполнительниц (франц.)
(обратно)114
иди спать, дорогая (франц.)
(обратно)115
Боже! Боже! Мы — несчастные создания твои. Помоги нам! (франц.)
(обратно)116
целую тебя тысячу раз (франц.)
(обратно)117
целую крепко (франц.)
(обратно)118
Так всегда будет с тиранами (лат.). — С этими словами актер Бут в 1865 г. убил президента Линкольна.
(обратно)119
У. Шекспир, «Венецианский купец», IV, 1
(обратно)120
У. Шекспир. Макбет, акт V, сцена 3
(обратно)121
Что с тобой? (франц.)
(обратно)122
Да, папа. Спасибо, папа Бене (итал.)
(обратно)123
кофе с молоком (нем.)
(обратно)
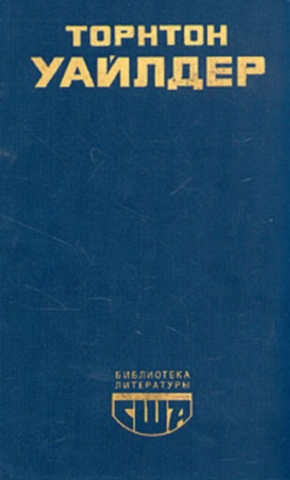
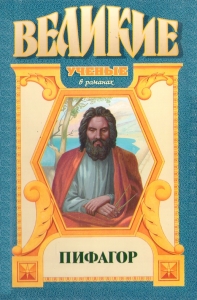





Комментарии к книге «Мост короля Людовика Святого. Мартовские иды. День восьмой», Торнтон Найвен Уайлдер
Всего 0 комментариев