Владислав Бахревский САМОЗВАНЕЦ
1
Сверкая панцирем, но еще более улыбкой, прискакал Жак Маржерет командир передового охранения.
— Путь безопасен, государь! Москва в ожидании вашего величества!
Что-то озорное, что-то дурашливое мелькнуло в лице Дмитрия. Чуть склонив голову, прикусил губу и, оглаживая крутую драконью шею коня, шепнул ему на ухо:
— А ведь доехали!
Конь задрожал, по тонкой коже, как по воде, побежала зыбь, да и сам Дмитрий покрылся мурашками с головы до пят — то нежданно ударили колокола надвратных башен. Звон перекинулся на окрестные колокольни. И шествие, оседлав эту тугую, нарастающую волну, потекло под рокочущими небесами в пучину ликующего града.
Испуг прошел, но дрожь не унялась.
Золотые кресты частных куполов обступали со всех сторон и смыкались за спиной в крестную стену. В сиянии крестов была такая русская, такая прямодушная серьезность, что знай он, как они могут стоять в небе, московские кресты — отступился бы от своего…
— Вернулось солнце правды! — взыгрывали басами заранее наученные дьяконы, друг перед дружкою похваляясь громогласием и громоподобием.
— Будь здрав, государюшко! — вопил с крыш и колоколен веселящийся народ.
— Дай тебе Бог здоровья! — приветствовали женщины с обочин дороги, все как одна лебедушки: крутогрудые, щеки пунцовые, глаза, с закрашенными ради великого праздника белками — черным-черны.
Дмитрий сначала пытался отвечать:
— Дай Бог и вам здоровья!
Но где же одолеть тысячегорлую радость и литое многопудье колоколов.
И он, чтобы не потерять голоса, только изображал, что отвечает, шевелил губами, не произнося ни единого слова.
Было 20-ое июня, жара еще не поспела, тепло стояло ровное, доброе. Облака, как разлетевшийся одуванчик, солнца не застили, а только указывали, какое оно высокое и синее, русское небо.
Государь Дмитрий Иоаннович миновал Живой мост перед Москворецкими воротами и уж на площадь вступил, как сорвалась с земли буря.
Вихрь взметнулся до неба и, пойдя на Дмитрия, на ею войско, толкал их прочь. Кони стали. Дмитрий Иоаннович, не перенеся пыли, отвернулся от русских святынь и, попятив коня, укрылся за железными спинами польской конницы.
— Помилуй нас Бог! — перепугались люди: знамение было недоброе. Помилуй нас Бог!
Но ветер дул какое-то мгновение, погода тотчас утихомирилась, порядок процессии восстановился, и к Лобному месту Дмитрий Иоаннович подъехал впереди шествия. Здесь его ожидало духовенство с иконами, с крестами. Раздались возгласы благословения, а он все еще не сходил с коня, конь же дергал узду, перебирал ногами и, пританцовывая, относил всадника в сторону — не нравился запах ладана.
Наконец Дмитрий Иоаннович соблаговолил спешиться, кинув поводья Маржерету, вернулся к Лобному месту, поднялся, стряхнул с одежды пыль, отер ожерелье, камешек за камешком, и только потом, сверкая, пуская слюни, чмокнул, не глядя куда, икону, с которой на него надвинулись иерархи. Тотчас отпрянул — кто их там знает? — торопливо вернулся к коню. Опамятовался, прошел мимо, ближе к собору Василия Блаженного, к толпе народа, теснимого строгой охраною. Скинул наконец шапку и принялся креститься, кланяясь храму, людям, Кремлю, плача и восклицая:
— Господи! Слава же тебе Господи, что сподобил зреть вечные стены, добрый мой народ, милую Родину!
Люди, смутившиеся бурей и уже подметившие — благословение неумеючи принял, икону не в край поцеловал, а в сам образ, — шапку не снял! теперь, радуясь слезам царя, простили его оплошности — от такой радости грех головы не потерять! — плакали навзрыд, соединясь сердцем с гонимым и вознесенным, кем же, как не Господом Богом!
Царь двинулся в Кремль. Двинулся и Крестный ход, с пением древних псалмов, но тотчас польские музыканты грянули в литавры, в трубы, в барабаны. И, хоть музыка была превеселая, зовущая шагать всех разом, священное пение было заглушено, священство посбивалось с напева и умолкло.
В Кремлевские соборы Дмитрий заходил, окруженный поляками. Поклонясь гробам Иоанна Васильевича и Федора Иоанновича, поспешил в Грановитую палату, сел на царское место.
На него смотрели, затая дыхание, а он был спокоен и распорядителен. Подозвал Маржерета и ему сказал первое свое царское слово:
— Смени всю охрану. Во дворце и во всем Кремле.
Пищали держать заряженными.
И обозрил стоящих толпою бояр, своих и здешних, телохранителей, казаков. Улыбнулся атаману Кореле.
— Приступим.
Это было так неожиданно, так просто.
— Где бы я ни был, я всегда думал о моем царстве и о моем народе, голос чистый, сильный. Все шопоты и шорохи прекратились, и он, указывая на лавки, попросил: — Садитесь. Никому не надо уходить. Сегодня день особый, праздничный, но не праздный. Наблюдая, как управляют государством в Польше, сносясь с монархами Франции, Англии, я подсчитал, что у нас должно быть не менее семидесяти сенаторов. Страна огромная, дел множество. Всякий просвещенный умный человек нам будет надобен, и всякое усердие нами будет замечено. Сегодняшний день посвятим, однако, радостному. Нет более утешительного занятия, чем восстановление попранной истины и справедливости. Ныне в сонм нашей Думы мы возвращаем достойнейших мужей моего царства. Первым кого я жалую — есть страдалец Михаила Нагой. Ему даруется сан великого конюшего. Все ли рады моему решению?
— Рады, государь! Нагой — твой дядя, ему и быть конюшим, — загудели нестройно, невнятно бояре, принимаясь обсуждать между собой услышанное.
Иезуит Лавицкий воспользовался шумом и, приблизившись к трону, сказал по-польски:
— Толпы на Красной площади не редеют, но возрастают.
Лицо Дмитрия вспыхнуло.
— Надо кого-то послать к ним… — и спросил Думу. — Почему на площади народ? Голицын, Шуйский! Идите и узнайте, что надобно нашим подданным?
— Государь, дозволь мне, укрывавшему тебя от лютости Годунова, свидетельствовать, что ты есть истинный сын царя Иоанна Васильевича.
Дмитрий чуть сощурил глаза: к нему обращался окольничий Бельский родственник царицы Марии и лютый враг царя Бориса.
— Ступай, Богдан Яковлевич! — разрешил Дмитрий и притих, затаился на троне, ожидая исхода дела.
Сиденье было жесткое, хотелось уйти с глаз, так и ловящих в лице всякую перемену, но с того стула, на который он сел смело и просто, восхитив даже Лавицкого — воистину природный самодержец! — не сходят, с него ссаживают. И Дмитрий, поерзав, вдруг сказал надменно и сердито:
— Не стыдно ли вам, боярам, что у вашего государя столь бедное место? Этот стул — величие святой Руси, и я не желаю срамиться перед иноземными государями. Подумайте и дайте мне денег на обзаведенье. Сие не для моего удовольствия — я в юности моей изведал лишения и нищету, но ради одной только славы русской.
Богдан Бельский в это самое время, когда Дума решала вопрос о новом троне, стоял на Лобном месте перед народом и, целуя образ Николая Угодника, сняв его с груди, кричал, срывая голос:
— Великий государь царь Иоанн Васильевич, умирая, завещал детей своих, коли помните, моему попечению.
На груди моей, как этот святой образ заступника Николая, лелеял я драгоценного младенца Димитрия.
Укрывал, как благоуханный цветок, от ирода Бориски Годунова. Вот на этой груди, в чем целую и образ и крест!
Крест поднес рязанский архиепископ Игнатий.
Истово совершил Бельский троекратное крестоцелование. И еще сказал народу.
— Клянусь служить прирожденному государю, пока пребывает душа в теле. Служите и вы ему верой и правдой. Земля наша русская истосковалась по истине. Ныне мы обрели ее, но коли опять потеряем, будет всем нам грех и геенна.
Добрыми кликами встретил народ клятву Вольского.
За ту услугу пожалован был Богдан Яковлевич — в бояре. И опять скоро. Ушел окольничим, а возвратился — вот уж и боярин.
А у Дмитрия новое дело для Думы, и очень дельное.
— Пусть иерархи церкви завтра же сойдутся на собор.
Негоже, коли овцы без пастыря, а церковь без патриарха.
— Успеем ли всех-то собрать? — усомнился архиепископ Архангельского собора грек Арсений.
— Кто хочет успеть, тот успевает, — легко сказал царь, сошел, наконец, со своего жестковатого места и отправился в покои, куда была доставлена царевна Ксения Борисовна.
2
Перед опочивальней его ждали братья Бучинские. Лица почтительнейшие, но глаза у обоих блестят, и он тоже не сдержался, расплылся в улыбке. Братья работнички усердные, доставляли ему в постель по его капризу: и пышных, расцветших, и тоненьких, где от всего девичества лишь набухающие почки. Но прежде не то чтоб царевен, княжен не сыскали.
— Цесарю цесарево, — прошептал, склоняя голову, старший из братьев Ян.
И во второй раз широкой своей, лягушечьей улыбкой просиял царь Дмитрий Иоаннович. Но когда в следующее мгновение дверь перед ним растворилась, сердце у него екнуло, упало в живот, и он, отирая взмокшие ладони о бедра, постоял, утишая дыхание, умеряя бесшабашную предательскую подлую свою радость.
Ксения, как приказано было, в одной нижней рубашке сидела на разобранной постели.
Сидела на краешке. Пальчики на ножках, как бирюльки детские, как матрешечки, розовые, ноготочки розовые.
Дмитрий стал на пороге, оробев. Тот, что был он, выбрался вдруг наружу со своим все еще не отмершим стыдом. Ксения подняла глаза, и Дмитрий, уже Дмитрий! — встретил ее взгляд. По вискам потекли дорожки пота, на взмокших рыжих косицах над ушами повисли мутные капли.
Она опустила голову, и волосы побежали с плеч, словно пробившийся источник, закрывая лицо, грудь, колени.
Только что придуманная роль вылетела у Дмитрия из головы, и он кинулся на пол, приполз, припал к розовым пальчикам, к бирюлечкам, к матрешечкам, целуя каждый. Взял на огромные ладони самим Господом Богом выточенные ступни и все поднимал их, поднимал к лицу своему, и совершенные девичьи ноги все обнажались, открывая его глазам свою нежную, свою тайную, хранимую для одного только суженого красоту.
А дальше — багровая страсть, море беззвучных слез и немота.
Ярость всколыхнула его бычью грудь: «Да я же тебя и молчью перемолчу!»
Лежал не шевелясь, теряя нить времени. И вдруг — дыхание, ровное, покойное. Поднял голову-спит.
Нагая царевна, белая, как первый снег, со рдяными ягодами на высоких грудях, спала, склонив голову себе на плечо. Шея, долгая, изумляющая взор, была как у лебеди. Под глазами голубые тени смерти, а на щеках жизнь. Он, владетель и этой драгоценности, удушая в себе новую волну смущения, побежал по царевне глазами к ее сокровенному и увидал алый цветок на простыне.
— И девичество мое! Я все у тебя взял, Борис Годунов.
Все.
Сказанное себе — сказано самой Вселенной. Для птицы есть силки, для слова — ни стрелы, ни стены. Слово — птица самого Господа Бога. Не напророчил ли? Взять счастье Годунова куда ни шло, но взять его несчастья?
Царевна спала. Дмитрий осторожно сошел с постели, прикрыл одеялом спящую. Оделся, положил поверх одеяла свое великолепное ожерелье, в котором вступал в Москву. Сто пятьдесят тысяч червонных стоили эти камешки.
— Вот тебе в утешенье, царевна!
Вышел из покоев, послал за Петром Басмановым.
Угощая вином, будто для того только и звал, спросил:
— А где сейчас Василий Шуйский?
— У себя во дворе.
— Был во дворе. Где он теперь, когда мы с тобой вино попиваем? — поглядел на Басманова со значением, но тотчас снова наполнил кубки. — Люблю тебя, как брата.
— Ваше величество! — Басманов от глубины чувств припал к руке государя.
— Полно-полно, — сказал Дмитрий. — Завтра у нас трудный день. Скажи, не станут ли попы за патриарха Иова?
— Не станут, государь! Он ведь еще у Годунова просился на покой. Я его в Успенском соборе принародно Иудой назвал, тебя, государь, предавшим. Народ ничего, помалкивал. Знать, ты, государь, дороже людям, чем немощный патриарх.
И похвастал.
— Мой дед Алексей при Иване Васильевиче Грозном Филиппа из Успенского выволакивал, митрополита, я же выволочил патриарха! Басмановы, государь, великие слуги.
— Дарю! — Дмитрий сгреб на середину стола позлащенные кубки и тарелки, набросил на все это концы скатерти. — Забирай ради дружбы нашей. И помни: все милости мои к тебе истинно царские впереди.
Собор иерархов русской православной церкви, ведомый архиепископом Арсением, должен был исполнить волю царя Дмитрия, который пожелал видеть на патриаршем престоле архиепископа Игнатия. Игнатий был уж тем хорош, что первым из иерархов явился к Дмитрию в Тулу, благословил на царство и привел к присяге всех, кто торопился прильнуть к новым властям, ухватить первыми. И ухватили. Семьдесят четыре семейства, причастные к кормушке Годуновых, были отправлены в ссылку, а их дома и вотчины перешли к слугам и ходатаям нового царя.
Прошлое архиепископа Игнатия было темно. Шел слух, что он с Кипра, бежал от турок в Рим, учился у католиков, принял унию. Сам он, пришедши в Москву, в царствие царя Федора Иоанновича, просителем милостыни для Александрийского патриарха, назвался епископом города Эриссо, что близ святого Афона.
По подсказке иезуитов Арсений предложил изумленному Собору возвратить на патриарший престол патриарха и господина Иова. Постановление приняли, держа в уме, что Дмитрий-то и впрямь Дмитрий, коли не боится возвратить Иова из Старицы. Иов Гришку Отрепьева в келий у себя держал. А главное, гордыню потешили: решено так, как они хотели, столпы православия. И все по совести. Назавтра же, поразмыслив, дружно согласились с тем, что патриарх слаб здоровьем, стар, слеп и что покой ему во благо. Тем более, что мудрый государь позвал сидеть в Думу не одного патриарха, как было прежде, но с ним четырех митрополитов, семерых архиепископов, трех епископов.
Вот тогда и пришел к царю архиепископ астраханский Феодосии, сказал ему при слугах его:
— Оставь Иова тем, кем он есть от Бога! Не оскорбляй церкви нашей самозванной волей своей, ибо благоверный царевич Дмитрий убит и прах его в могиле. Ты же есть Самозванец. Имя тебе — Тьма.
Дмитрий Иоаннович выслушал гневливое слово серьезно и печально.
— Мне горько, что иерарх и пастырь слеп душою и сердцем. Слепому нельзя пасти стадо. Возьмите его и отвезите в дальнюю пустынь, под начало доброго старца.
Может, прозреет еще.
Столь мягкое и великодушное наказание лишний раз убедило Собор в природной зрелости государя. А потому, радостно уступая монаршей воле, 24 июня патриархом единогласно был избран и поставлен по чину архиепископ Игнатий.
Теперь Дмитрию Иоанновичу можно было, не трепеща сердцем, совершить обряд венчания на царство.
— Я приду под своды Успенского собора чист, как агнец! — в порыве высокого хвастовства объявил он Ксении. — Я так жду мою матушку, драгоценную мою страдалицу.
Ксения, познав человеческие тайности, жила, как травинка на камне. Богу не молилась. Не смела. Трава и трава.
За матушкой Дмитрий Иоаннович послал юного князя Михаилу Скопина-Шуйского. Ради столь великой службы князю было пожаловано вновь учрежденное звание царского мечника- великого мечника.
Выбор пал на Скопина не случайно. Его дядя Василий Иванович Шуйский был взят под стражу еще 23 июня.
Когда Богдан Вольский, зарабатывая боярство, клялся перед всей Москвою, что царевич Дмитрий истинный, Шуйский на Лобное место не поднялся, дабы свидетельствовать в пользу сына Грозного. Уходя с площади, он еще и брякнул в сердцах Федору Коню и Костке Знахарю:
— Черт это, а не истинный царевич! Я Гришку-расстригу при патриархе Иове видел. Не царевич это — расстрига и вор!
Федор Конь был человек в Москве известный. Ставил стены и башни Белого Города, стены Смоленска, Борисову крепость под Можайском. Сказанное им все равно, что из передней государя. Костке Знахарю тоже как не поверить, хворь рвет напрочь, не хуже гнилых зубов. На пядь под землею видит.
Уже через день слухи достигли Петра Басманова.
Очутился Василий Иванович Шуйский с двумя братьями в Кремлевском застенке… Росточка боярин был небольшого, телом рыхл, головенка лысая, глазки линялые — бесцветный человечишка. Однако истинный Рюрикович! По прекращении линии Иоанна Грозного — первый претендент на престол.
Басманов с Шуйскими не церемонился. Пытал всех троих, требуя признать, что собирались поджечь польский двор и поднять мятеж.
Василий Иванович, жалея себя, признал все вины, какие только ему называли.
Суд Боярской Думы, радея царю, назначил изменнику и его сообщникам Петру Тургеневу и Федору Калачнику смертную казнь, братьям вечное заключение.
Шуйский, слушая приговор, градом роняя слезы, кланялся и твердил:
— Виноват, царь-государь! Смилуйся, прости глупость мою.
Тургенева и Калачника казнили без долгих слов, под злое улюлюканье толпы. Казнь боярина — иное дело. На Красную площадь к Лобному месту Василия Ивановича провожал Басманов. Сам зачитал приговор Думы и Собора и, вручая несчастного палачам, торопил:
— Не чухайтесь!
С Шуйского содрали одежду, повели к плахе. Топор был вонзен нижним концом, и лезвие его сияло.
— Прощайся с народом! — сказал палач.
Шуйский заплакал и, кланяясь на все четыре стороны, причитал тонко, ясно:
— Заслужил я казнь глупостью моей. Оговорил истинного пресветлейшего великого князя, прирожденного своего государя. Молите за меня пресветлого! Криком кричите, просите смилостивиться надо мною!
Толпа зарокотала. И Басманов, севши на коня, крутил головой, ожидая, видно, приказа кончать дело. Потеряв терпение, крикнул палачам:
— Приступайте!
Шуйского подхватили под руки, поволокли к плахе, пристроили голову, но тут прискакал телохранитель царя и остановил казнь. Дьяк Сутупов, прибывший следом, зачитал указ царя о помиловании.
Шуйского, под облегченные крики народа, повезли тотчас в ссылку. Долго смотрел ему вслед поверх голов Петр Басманов, и такое он словцо шибкое палачам кинул, что те осоловели.
3
Скопин-Шуйский прислал гонца: везет царицу-старицу с большим бережением, до Москвы осталось два дня пути.
Для встречи с матерью Дмитрий Иоаннович избрал село Тайнинское. В чистом поле поставили великолепный шатер, дорогу водой побрызгали, чтоб не пылила.
Прозевать этакое зрелище мог разве что увечный да очень уж ленивый вся Москва повалила в Тайнинское.
День 17-го июля выдался знойный. Дмитрий Иоаннович отирал белоснежным платком глазницы и шею.
Скашивал глаза на толпу. Живая изгородь польских жолнеров и казаков Корелы казалась надежной. За спиной бояре, но и сотня телохранителей Маржерета.
«Что ж так долго тащатся? О эта торжественная езда!»
Разговаривать с кем-то сил нет, да и не ко времени они, разговоры.
Смотрел под ноги на бордовые, липкие от нектара цветы, на синий мышиный горошек.
Вдруг пошел какой-то шум. Он тревожно глянул направо и сразу налево. Толпа пришла в движение, потянулась в сторону Тайнинского, и он наконец посмотрел прямо перед собой и увидел облачко пыли, конных, карету.
Торопливо завел под шапку платок, отирая в единый миг взмокшие волосы, и подумал: «Надо будет уронить шапку».
Подтолкнул ее к затылку, дрожащими руками принялся прятать платок и не находил ему места. Выронил, сделал шаг вперед, потом еще и побежал, раскачиваясь тяжелым бабьим задом. Откинул голову, шапка съехала назад и на ухо, упала, наконец. Он попробовал ее подхватить, но короткая рука промахнулась. Карету потерял из виду на мгновение, а она уже стоит, всадники вокруг кареты стоят и через отворившуюся дверцу на землю спускается по ступенькам высокая женщина в черном. Он все стоял, ожидая, чтоб она отошла от лошадей, от своей охраны — мало ли? — и, соразмерив расстояние, кинулся со всех ног, с колотящимся сердцем и шепча: «Мама!
Мама!»
Она вся потянулась к нему, потянула руки, но обессилела, обмякла, только он был уже рядом, прижался потною головою к ее тугому, тучному животу. Тотчас вскочил, обнял и целуя в голову, все шептал и шептал:
— Мама! Мама!
Она ловила его руками, пытаясь задержать, рассмотреть. И рыдала в голос.
«Хорошо, — думал он, — хорошо!» — уводя ее, тяжелую, навалившуюся на него, в шатер.
Народ рыдал от счастья и умиления.
В шатре было прохладно, на столе яства и напитки.
Он подал старице вишневого меда, сам хватил ковш квасу с хреном и сел на стул, закрывая на миг глаза и вытягивая ноги. Тотчас поднялся, посадил матушку в кресло и стоял подле, ожидая, что ему скажут.
Царица-старица молчала, нежность, назначенная зрителям, сменилась вялой усталостью.
— Для тебя, мама, отделывают палаты в Новодевичьем, — сказал он. — На первое время разместишься в Кремле, в Вознесенском.
Марфа не нашлась, что сказать, и говорить пришлось ему.
— Мы так давно не виделись. У нас еще будет время вспомнить прошлое. Память о безоблачном детстве прекрасна. Я охотно буду слушать тебя о тех далеких днях.
Краем скатерти вытер лицо и вдруг почувствовал нестерпимую тяжесть в мочевом пузыре.
— Прости меня, мама, Бога ради! — он скрылся за пологом, где была приготовлена для него постель, и оправился в угол, на ковер, изнемогая от блаженного облегчения.
Тугая струя мочи истончилась до струйки, но струйка эта никак не кончалась, и он, озабоченный приступом боязни, проткнул кинжалом отверстие в пологе и прильнул к нему глазом.
Толпа пребывала в умилении.
— Это все квасок, — сказал он, выходя из укрытия. — Скажи мне, ты всем довольна?
— Да, государь.
— Тогда идем на люди. Пора в дорогу.
Она проворно поднялась. Постояла… и пошла за полог.
Он слушал журчание, потирая длинной рукою загривок, откуда страх сыпал по его телу мурашки.
«Побывавшие в царях люди все умные, — сказал он себе, совершенно успокаиваясь и, поморщась, погнал прочь озорную мысль. — Коли не по крови, так по моче родственники».
Он шел рядом с каретой, глотая пыль из-под колес, почтительный, безмерно радующийся сын. Народ валил следом и по обеим сторонам дороги. Неверы были посрамлены и радостно каялись перед теми, кто опередил их верою, а поверившие сразу, со слуха, сияли, просветленные своею верой.
4
Через три дня после приезда в Москву царицы-матери Дмитрий Иоаннович короновался на царство. Да не единожды — дважды! В Успенском соборе по древнему обычаю, а в Архангельском по вновь заведенному. Над могилами царей Иоанна и Федора архиепископ Арсений возложил на голову царя шапку Мономаха, и была она ему впору. Шапка русская, а кафтан — польский. Подкрепляя себя русской силой, Дмитрий Иоаннович объявил боярство Михаиле Нагому, родному брату царицы Марфы, своему, стало быть, дяде.
Одному дашь — другие в рот смотрят.
Выход недовольству своему Дума сыскала в поляках.
Дмитрий тому недовольству втайне был рад. Сподвижников, приведших его к престолу, следовало приструнить: царство — не военный табор. Да ведь и как русскому человеку не обидеться?
Едет поляк по Москве — не зевай. Слепого столкнет, сомнет и не обернется, и не потому, что бессердечен, но потому, что сам слеп от безмерной своей гордости. Пограбить тоже непрочь.
Уступая Думе, царь решился наказать одного, но так, чтоб другим неповадно было. Взяли за разбой шляхтича Липского, судили по-московски. Приговорили к битью кнутом на торговой площади.
Москвичи обрадовались — есть-таки управа на царевых рукастых слуг! Поляки же рассвирепели: Как?!
Шляхтича?! Принародно?! Батогами?!
Кинулись отбивать товарища у приставов. Приставы за бердыши, поляки за сабли. Толпа приняла сторону своих. Мужики давай оглобли выворачивать, бабы в поляков — горшками. Но воин есть воин. Грохнули пистоли. Напор! Побежали москали, не устояв перед шляхетскою отвагою! Бежали покрикивая: «Наших бьют!», и уже не сотни — многие тысячи собрались и пошли на ненавистных пришельцев. Умирали, но и били до смерти.
Дмитрий Иоаннович, услышав о побоище, побелел, закусив нижнюю губу молчал, глядя в ладонь, будто на ней написано было что надобно делать.
— Недели после коронации не прошло! Подарочек! — крикнул по-мальчишески, сорвавшимся от обиды голосом, но приказ отдал ясно, рубя короткой рукою воздух. — Посольский двор, где укрылись обидчики народа, окружить пушками! Выслать глашатаев с указом моего царского величества: виновные в избиении народа будут наказаны. Если шляхта не подчинится указу, не выдаст зачинщиков, то вот мое первое и последнее слово — снести Посольский двор пушками до самой подошвы!
Разыграв огорчение, покинул тронную палату и, оставшись наедине с Яном Бучинским, попросил его дружески:
— Сам езжай к нашим людям на Посольский двор.
Скажи, пусть вышлют и выдадут страже троих. Обещаю: волоса с их голов не упадет. Скажи им всем также: ныне Москва — овечка, но если она станет бараном — никому из нашего брата несдобровать. Бойцовый баран яростью самого вепря превосходит. Я знаю это. Я видел.
На следующий день Дума, хоть и почтительнейше, но твердо приступила к государю, умоляя решить вопрос с иноземцами на Москве. И с казаками!
Бояре говорили друг за другом, по второму разу, по третьему, а государь сидел безучастный, и горькая складка просекла его лоб, чистый, совсем еще юный.
Остаться один на один с Московией — не смертный ли приговор себе подписать? Нагих не любят. Всей опоры Басманов для прибывший из Грузии Татищев. Но что делать? Против притчи не поспоришь и плетью обуха не перешибешь.
Засмеялся вдруг.
— Что вы так долго судите да рядите? Разве дело не ясное? Гусаров и жолнеров за то, что порадели мне, законному наследнику отцовского стола, за то, что искоренили измену Годунова — наградить и отпустить. То же и с казаками.
Воззрилось боярство с изумлением на государя, ишь как все у него легко! Да ведь и толково!
— У меня нынче есть еще одно дело к Думе, — сказал государь, становясь строгим и величавым. — Мы в последнее время все о казнях думали, а пора бы и миловать.
Где грозно, там и розно. Хоть и говорят, что ласковое слово пуще дубины, я за ласку. Посему вот мое слово, а от вас приговора жду: Ивану Никитичу Романову, гонимому злобой Годунова, вернуть все его имение и сказать боярство. Старшего его брата, смиренного старца Филарета — о том я молю тебя, святейший патриарх Игнатий, — следует почтить архиерейством.
Улыбающийся патриарх Игнатий тотчас поднялся с места и, показывая свою грамоту, объявил:
— О мудрый государь! А я тебя хотел просить о том же, вот моя грамота о возведении старца Филарета в сан ростовского митрополита.
— Рад я. такому совпадению, — просиял государь. — Федор Никитич был добрым боярином и в монастырской своей жизни заслужил похвалу от многих. Каков до Бога, таково и от Бога.
На радостях никто не вспомнил о митрополите Кирилле, которого сгоняли с ростовской митрополии ни за что ни про что. Может быть, и вспомнили бы, но царь Дмитрий сыпал милостями только рот разевай: двух Шереметевых в бояре, двух Голицыных в бояре, туда же Долгорукого, Татева, Куракина. Князя Лыкова в великие кравчие, Пушкина в великие сокольничье.
— Я прошу Думу вспомнить еще об одном несчастном, — продолжал Дмитрий Иоаннович, — о всеми забытом невинном страдальце, о царе, великом князе тверском Симеоне Бекбулатовиче. Его надо немедля вернуть из ссылки и водворить на житье в Кремлевском дворце.
Он выстрадал положенные ему царские почести.
Дума снова была изумлена широтою души государя и совсем уж изнемогла, когда было сказано:
— Шуйских тоже надо вернуть. Они сами себя наказали за непочтение к царскому имени. Надеюсь, раскаянье их шло от сердца. Мне незачем доказывать всякому усомнившемуся, что я тот, кто есть. Шапку Мономаха Бог дает. Он дал ее мне. А теперь обсудите сказанное, у меня же приспело дело зело государское — надо испытать новые пушки.
5
Пушки стояли на Кремлевском холме. Государь явился к пушкарям всего с двумя телохранителями.
— А ну-ка показывайте, чем разбогатели.
Две пушки были легкие, а третья могла палить ядрами в пуд весом.
Дмитрий Иванович велел поставить цели. Пушки зарядил сам, сам и наводил, слюнявя палец, определяя силу и направление ветра. Три выстрела три глиняных горшка разлетелись вдребезги.
— А теперь вы! — приказал государь. — Пушки отменные.
Когда все три пушкаря промазали, поскучнел, но тотчас окинул цепким взглядом всех; кто был при пушках.
Подозвал самого молодого.
— Видел, как я навожу?
— Видел, государь!
— Наводи.
Получился промах.
— Еще раз наводи!
Пушка тявкнула, горшок рассыпался.
— Молодец!
Вытащил кошелек.
— Всем, кто попадет с первого раза полтина, со второго — алтын.
Стрельба пошла азартная. На три рубля пушкари настреляли.
— Будьте мастерами своего дела, и я вас не оставлю моей милостью. Слава государей в их воинах. Без доброго, умелого воинства государства не только не расширить, но и своих границ не удержать. Вы — моя сила, а врагам моим — гроза.
Пахнущий порохом, веселый, счастливый вернулся во дворец обедать. После обеда, пренебрегая древним обычаем — полагалось поспать хорошенько отправился в город, в лавки ювелиров.
Ходить без денег по лавкам — все равно что на чужих невест глазеть. Поморщась, повздыхав, Дмитрий Иоаннович заглянул-таки к своему Великому секретарю и надворному подскарбию, к Афоньке Власьеву, а тот заперся, притворяясь, что его нет на месте. Дмитрий, распалясь, двинул в дверь ногою, задом бухнул.
— Афонька! Я тебя нюхом чую! Отведаешь у меня Сибири, наглая твоя рожа!
Заскрежетал запор, дверь отворилась, и благообразный муж, умнейший дьяк царей Федора и Бориса, предстал пред новым владыкою в поклоне, со взглядом смиренным, но твердым.
Гнев тотчас улетучился, и Дмитрий, заискивая, косноязычно принялся нести околесицу.
— В последний раз, друг мой Афоня! Господи, что же ты некрепкий такой? В другой раз приду — не пускай.
Сибирью буду грозить, а ты не бойся. «Тебе нужна Сибирь, ты и поезжай!» Скажи мне этак, я и опямятуюсь. А сегодня изволь, дай, как царю. Твоя, что ли, казна? Не твоя. Я, Афоня, обещал одному купцу. Он из-за моря ко мне ехал. Можно ли царю маленького человека обмануть? Ведь стыд! Стыд?
— Стыд, — вздохнул, соглашаясь, Власьев, покрестился на Спасов образ, отомкнул ларь с деньгами. — Казна, государь, едва донышко покрывает.
— Ничего. Сегодня нет, завтра будет.
— Да откуда же?
— Вы-то на что? Дьяки думные. Секретари великие!
Шевелить надо мозгами! Такая у вас служба — мозгами шевелить!
Власьев достал мешочек с монетами и призадумался.
Дмитрий взял мешочек одною рукою, короткой, а длинною залез в ларец и хапнул сколько хапнулось.
— Пощади, государь!
— Сказал тебе, думай! Думай! Дураки какие-то! Одни дураки кругом! — и не оглядываясь, опрометью выскочил к своим телохранителям. — Пошли, ребята!
6
Блестящие камешки завораживали.
— Не чудо ли? — спрашивал своих телохранителей Дмитрий. — На один этакий камешек большая деревня может сто лет прожить припеваючи.
Купцы-персы, прослышав о мании русского царя, привезли и то, что в небе сверкает, и то что в океане тешит морского царя. Из всего великолепия Дмитрий безошибочно избрал самое драгоценное. Не спрашивая цены, сгреб с прилавка три дюжины корундов, от кровяно-красных до бледно-розовых, от небесно голубых до глубинных сине-черных цветов морской пучины, от нежно-золотистых утренних до оранжево-закатных предночных.
Дмитрий выложил все деньги, которые были с ним, но камешки оказались куда как дороже!
— Я даю тебе вексель! — истовый покупатель не мог отступиться от такой красоты.
Подписал с царскою небрежностью огромную сумму, скинув четвертую часть цены. Купец сокрушенно покачал головой и отодвинул от себя деньги и вексель.
— Будь по-твоему! Вот тебе еще один! — Дмитрий подписал ровно на запрос, но прихватил с лавки прозрачно-зеленый кристалл аквамарина величиною с пирожок.
Купец был согласен с такою добавкой и от себя поднес государю топаз с гусиное яйцо.
В следующей лавке Дмитрия поразили голубые бериллы.
Потом он покупал жемчуг, раковины, кораллы, нефрит.
Векселя слетали из рук его, легкие, как птицы, и такие же беззаботные.
Напировавшись душою, с дрожащим от волнения сердцем — столько красоты уносит с собою, — Дмитрий устремился в недра базара, в люди.
Его телохранители едва поспевали за ним, теряя в толпе.
И стоп!
Два мужика: борода к бороде, кулачищи над головами, глаза злые.
— Чо?! — орал один.
— Чмокну по чмоканке, то и будет!
— Ачо?
— Да ничего! Врать — не колесо мазать!
— Чо! Чо! Чо! — чокающий северный мужик попер на обидчика, южного мужика, грудью да в грудь и уперся. — Ты между глаз нос унесешь, человек и не заметит.
— Ах ты злыдня!
— Ну, — сказал Дмитрий Иванович, и оба драчуна оказались на воздусях, в огромных ручищах царя. — Кто в моем царстве скандал скандалит?
Мужики, поставленные наземь, обмерли от страха, но царь нынче был весел.
— Чтоб зло забылось, пошли в кабак.
У кабатчика волосы дыбом стали — царь! А царь сел на пенек спиной к стене, придвинул к себе пустой стол и спросил согнувшегося до земли кабатчика, показывая на мужиков:
— Не попотчуешь ли меня и моих приятелей? Им чего позабористей, а мне квасу, — и шепнул своим телохранителям: — Ребята, нет ли у вас какой денежки? Что было, я в лавке оставил.
Всполошенная кабацкая прислуга уставила царев стол всем, что наварено было, напарено, нажарено.
Мужики почесывались, посапывали, а руки держали под столом, не смели ни пить ни есть. Тогда государь наполнил чарочки, выпил и закусил блинами, завертывая в них рыбьи молоки и хрен.
Разговор, однако, с места стронулся только после третьей, а полился, набирая крепости, когда одна посудинка опустела, а другая, радуя мужичьи глаза, была тотчас поставлена.
— Добрые крестьяне мои, — спросил наконец Дмитрий о заветном, — скажите мне всю правду про вашу жизнь. Бояре-то за мной ходят, как телки за коровой. Я туда, я сюда, а они меня под руки да за столы, да к иконам! К постели и то водят. — И пожаловался: — Про баню каждый Божий день талдычат. Попарься, государюшка. Словно важнее бани дела нет. Хотите, чтоб царь за вас стоял, так не молчите. Мне про ваши беды важнее знать, нежели веником задницу нахлестывать.
— А чо? — спросил северный мужик. — Цари матерны слова тоже, что ль, говорят?
— Какие матерны? — удивился Дмитрий.
— А про задницу?
— Мели Емеля! — осерчал южный мужик. — Жить, государь, можно. Да ведь служилые твои по деревням рыщут, беглых ищут. Вроде бы уж обжились, а тут хватают, тащат на пустоши, на голое место, на голодную жизнь.
— А за сколько ты верст от старого своего жилья осел? — спросил царь, покручивая нос-лапоток.
— Да верст, небось, за сто, а то и за все двести! — выпалил мужик. — Не все ли равно!
— А вот и не все! — сказал царь. — Коли ты ныне живешь за сто девяносто девять верст против прежнего, правда на стороне прежнего хозяина, а был умен за двести верст утечь, за триста, то — тебя уже не тронь. За тебя и новый хозяин постоит, и я за тебя постою.
— Неужто верста версте рознь?
— Версты те же! Да только на двухсотой версте закон — за тебя, а на сто девяносто девятой — за твоего прежнего хозяина. Таков мой указ, вам, мужикам, в защиту, во спасение.
— А Юрьев день-то чо? — спросил северный мужик.
— Что он тебе дался. Юрьев день?! — вытаращил озлившиеся глаза Дмитрий Иоаннович. — Юрьев день тебя, что ли, кормит? Вся бедность русская от него, от вольного дня. Где трудно, там вовсе руки опустят и ждут своего дня, когда можно перебежать на иное место. Тараканье это дело из избы в избу бегать.
— А чо сидеть? — вспылил северный. — Чо сидеть, коли господин хуже Верлиоки? Как ни работай — все он себе заберет и все по миру фукнет. Сам гол, и люди его босые. Тогда чо? Где правда?
— Я вчера в Сибирь послал людей моих ясак собирать, — сказал Дмитрий, глядя чокающему мужику в глаза. — Бедных людей приказал льготить. Все сыски с бедных запретил и заповедал. Разживутся люди, сами заплатят. Я пришел к вам, чтоб все вы жили без всякого сумнения, в тишине, в покое. Вы разживетесь, и я богат буду! Вы исхудаете, и я буду тощ, как все. Это и есть правда. Я в Путивле с войсками долго стоял. Путивльцы на меня поизрасходовались. Не скупые они люди! И я их доброту не забыл — десять лет им жить без оброку, добра наживать.
Пьяный человек, ничком лежавший на столе, разбуженный все возрастающим голосом государя, — кабак примолк и слушал, затая дух! — поднял голову, и Дмитрий Иоаннович замер на полуслове.
— Корела?! Ты?
Знаменитый атаман, гроза Годунова и всего стотысячного московского войска, до того опух, что ни глаз, ни лица.
— Госудааарь! — поднял Корела непослушные руки, вскакивая на неверные ноги и потому тотчас валясь, да мимо пенька.
Выполз из-под стола, с четверенек поднялся и стоял, опустив голову, обливаясь слезами.
— Виноват… Виноват.
Дмитрий подошел к нему, взял за руку, уложил на лавку, под окнами.
— Отдохни, Корела — верный слуга.
Достал из-за пазухи жемчужное заморское ожерелье, а на нем еще одно, запутавшись — положил Короле на грудь.
— На опохмелье.
Пошел из кабака прочь, взгрустнувший, всем тут близкий, свой человек.
И вдруг отпрянул от двери, стал за косяк.
В дверь просунулась голова стрелецкого полковника из царевой стражи.
— Государя не было?
— Не было! — дружно сбрехали кабацкие люди.
— Заскучали бояре без меня, — сказал Дмитрий и заговорщицки подмигнул, хитрый, рыжий. Лапоточком носом перешмыгнул и на волю!
Уходя подальше от своей же всполошенной охраны, юркнул мимо купеческих рядов, перебежал через Москворецкий мост и отправился в сторону Царицына луга.
Красной дичью, за которой бегают столько охотников, не долго себя воображал. Глянулась ему мимошедшая боярышня, и вот уж сам — охотник.
Боярышня в голубой ферязи, голубой заморской шали, а глаза у нее самого моря голубее.
Семенит, прибавляя шагу, а Дмитрий со своими двумя чучелами не отстает/. Ближе десяти шагов не подходит, но и не отстает. В отчаяньи остановилась дева, обернулась. Гнев звездами из глаз. Замер и Дмитрий. Не налюбуется. А дева заплакала, личико в ладошки и бегом!
Как лев, обернулся Дмитрий к одному из телохранителей:
— За ней, опрометью! Потеряешь — гелову снесу! И чтоб ночью у меня была.
7
А потом государь валялся на лужку, не хуже младенца, у которого ни думы, ни заботы.
Кузнечики вовсю стригли траву, да ни одна травинка не повалилась. Над кружевом Москвы стояли белые башни облаков. И под этими облаками мелькали стрижи — дерзкая милая птица. Государь вздремнул на мгновение и пробудился удивленный.
— Чижом себе приснился. Из клетки вылетел, а в клетку дверцу не найду.
С Царицыного луга отправились в сторону Конюшенного двора, и уж, конечно, Дмитрий не миновал лошадиного торга.
Поглядеть в тот день было на что. Выбрал глазами белолобую, черногубую, с блестящими черными копытами, мышастую, в серебряных снежинках, двухлетку.
Завороженный дивной живой красотою, подошел к хозяину, к рыжебородому казаку.
— Оседлай!
Казак узнал царя, поклонился.
— Великий государь, нельзя. Лошадь необъезженная.
— Седлай! — а сам рукою к морде уже тянется.
Щелк! — жемчужные зубы сомкнулись в вершке от ладони.
— Государь, совсем дикая кобыла! — струсил казак.
— Седлай! — тихонько, властно повторил Дмитрий и положил тяжелую руку лошади на спину.
Кобыла от гнева дрожала и шипела по-змеиному, когда дюжина конюхов водрузили на нее седло и затянули подпругу.
Казак умоляюще встал перед царем на колени, но тот вырвал у него из рук узду и с криком «Разбегайсь!» прыгнул лошади на спину, непостижимо попадая ногами в стремена.
Словно гордая дева, ненавидящая насильника, по-человечески кричала серая лошадь. Вскидывала задом так, что доставала копытами неба, кидалась в стороны, кружила, шла заячьими скачками и, вся в пене, с глазами тоскующей лебеди, замерла посреди двора, усмиренная мужскою, уверенной в своей правде, волей.
Дмитрий спрыгнул на землю, взял лошадь ладонями за морду и поцеловал в черную ее губу.
— Сколько, казак, хочешь за свое чудо?
— Пятьдесят злотых!
— Ого! — удивился Дмитрий, но тотчас достал вексель. — Вот тебе двадцать. Деньги получишь у моего казначея.
К государю подошел Маржерет.
— Ваше величество, мы с ног сбились. Вы совершенно потеряли чувство опасности.
— Француз, милый! Я же среди своих, русских людей.
Они все любят меня! — и садясь на поданную охраной лошадь, крикнул торговцам лошадьми. — Эй, ребята!
Слава вам, добрым моим подданным!
— И тебе слава! — весело откликнулась толпа. — Уж так, как ты, ни один в целой России на коне не сидит.
— Вот видишь! — смеясь, сказал Дмитрий Маржерету. — Все на меня смотрят! Все любят. Знаешь, сколько лет нагадала мне юродивая Авдотьица? Тридцать четыре года быть мне на царстве!
И, меняясь в лице, губы ниточками, в глазах мутно, шепнул:
— Ты корабль готовь! Чтоб все в нем было, и еда, и питье, и деньги мешками. На следующее лето поплывем с тобою во Францию, к французскому королю в гости.
Искала стража государя ради важного дела: прибыл из Польши гонец с похвальным письмом ко всему российскому рыцарству от сандомирского воеводы Юрия Мнишека, доброго гения Московского царя.
Бояре, как всегда обоспавшись после обеда, сидели, позевывая, подремывая. Но московская жизнь менялась.
Письмо только еще пришло, а ловкие умные секретари царя Дмитрия ответ уже составили. Ответ был предложен на подпись боярам Мстиславскому и Воротынскому, которые с написанным согласились и зачитали письмо царю и Думе. Ясновельможный пан выставлял боярству свои несомненные заслуги перед государем, он, Мнишек, — есть начало и причина восхождения на московский стол природного царя Дмитрия. Бояре были согласны. За то, что ты служил и промышлял нашему государю с великим радением «и впредь служить и во всем добра хотеть хочешь: и мы тебя за это хвалим и благодарим».
— Я рад, — сказал Дмитрий, — доброму слову великого боярства, сказанному безупречному рыцарю, пану Мнишеку. Дружество, возникшее между польскою шляхтою и русским дворянством — угодно Богу и замечательно для обоих государств, Польского и Московского.
Дмитрий взвинтил себя, встал с трона, и вот уже его глаза, такие непроницаемые, гасящие свет, блистали.
Лицо утончилось, нежный, девичий румянец тронул серовато-белую кожу.
— О знатные господа мои! Соединяясь, русские и поляки предстанут пред миром силой невиданной в веках.
Не уничтожающей и попирающей, но дающей живительные токи для всходов вечного мира. Чтобы торжествовал мир, надо уничтожить зло войны. Война это Турция. Я хочу, чтобы к королю Сигизмунду поехал человек мудрый и терпеливый, наш Великий секретарь Афанасий Власьев. Воевать в одиночку ввергнуть себя в бездну лишений и неизвестности. Воевать в союзе — значит добыть победу. Победа над турецким султаном избавит Россию от ее вечного страха перед крымцами, я уж не говорю о приобретении свободных земель и моря.
Дмитрий постоял, окидывая орлим взором заслушавшихся бояр: пронял тугодумов. Но только он сел на свое место, ему сказали:
— Великий государь, ваше царское величество, а ты ведь опять взялся за свое.
— Что такое? — удивился Дмитрий. — Ты о чем это, Татищев?
— Да о твоих векселях, великий государь.
— Каких таких векселях?
— Да о тех, что ты дал купцам-персам и казаку.
— Не давал я никаких векселей.
— Врешь!
— Ей-Богу не вру! На покупки я деньги у Власьева нынче взял. Скажи, Афанасий! Брал я у тебя нынче деньги?
— Брал.
— Ну, вот! Ты, Татищев, напраслину на меня возводишь.
— Совсем ты изоврался, великий государь. Вот они твои векселя. Их уже представили к оплате. А платить нечем. Всю казну ты порастряс, великий государь.
И тут выступил боярин Мстиславский.
— Векселя надо не принимать. Коли мы начинаем войну с турками, денег нужно вровень с Иваном Великим, а у нас в сундуках дно просвечивает.
— За деньгами я в Сибирь послал, — отмахнулся Дмитрий. — Не хорошо царя вруном величать. Приедут послы, а царь у вас — врун.
— А ты не ври! — посоветовал Татищев.
Дмитрий передернул плечами и, глядя поверх голов, сказал властно, четко:
— Ян Бучинский, ты повезешь ответное письмо наисветлейшему пану Мнишеку. Пусть поторопится с приездом. А ты, Афанасий, тоже проси короля Сигизмунда, чтоб король дал свое согласие на отъезд из его пределов невесты моей Марины Мнишек.
С Бучинским у Дмитрия все уже было обговорено: старик Мнишек должен был выхлопотать у католического легата соизволение для католички Марины во время венчания на царство принять причастие из рук православного патриарха, и чтоб ей позволено было соблюдать иные русские обычаи въявь, а католические втайне. Русские постятся в среду, католики не едят мяса по субботам. Русские женщины прячут волосы под убрус, польки же похваляются красотою причесок, баня для русских — вторая церковь.
Дмитрий сидел, опустив глаза, и почти не слушал бояр, которые, по своему обыкновению, принялись истолковывать услышанное от государя. Он снова почувствовал страх. Ему здесь было страшно, в Кремле, не на базаре. Здесь! Те, кто уличают его во лжи, солгали сами себе, своему народу, своему Богу, своему будущему и своему прошлому.
Он желал видеть около себя поляков, блистательных полек. Он желал снова быть в походе, в боях, лишь бы не в Тереме, где из каждого угла на него смотрят. В углу никого, но смотрят. Уж не стены ли здесь с глазами?
8
Посольства уехали. Быстро легла зима. Осенняя тьма растворилась в белых просторах, ночи стали серебрянными, дни алмазными.
Дмитрий снова ожил.
В подмосковном селе Вяземах по его скорому приказу выстроили огромную снежную крепость.
— А не поиграть ли нам в войну? — спросил своих бояр Дмитрий Иоаннович. — Чтобы брать настоящие крепости, нужно хотя бы уметь игрушечные одолевать. Поглядите на себя, мешки, а не люди. Жирные, вялые. А ведь все вы — воеводы. Завтра выезжаем в Вяземы, я с моими телохранителями сяду в снежной крепости, а вы будете ее воевать.
— Может, государь сначала покажет нам, неумелым, как это делается? спросил неробкий Михаил Татищев.
Годунов почитал Татищева за ум и деловитость. Посылал его к Сигизмунду объявить о своем воцарении.
Мудрецом и воином проявил себя Татищев в Грузии, Привел под царскую руку Караталинского князя Георгия, исполнив заодно тайное поручение найти для царевича Федора невесту, а для царевны Ксении жениха. Невесту Татищев углядел в дочери Георгия, в десятилетней Елене, а жениха в сыне Георгия, князе Хоздрое, которому было двадцать три года. Елену отец не отпустил, пусть в возраст войдет, а князь Хоздрой отправился в Россию, и быть бы свадьбе, когда б того Бог пожелал.
Живя в Грузии, Михаил Татищев сразился с турками.
Всего сорок стрельцов участвовало в битве под Загемой, но именно их дружный залп не только остановил турецкое войско, но обратил в бегство.
— Ты прав, Михаил, — согласился Дмитрий с Татищевым. — Бояре пусть будут в осаде, наступать буду я.
Дратья снежками.
С тремя ротами своей охраны, где командирами были француз Маржерет, шотландец Вандеман и ливонец Кнутсен, Дмитрий расположился у подножия сверкающей твердыни.
Снежный замкнутый вал, сложенный из огромных катанных глыб, взыгрывал высотою и был с кремлевскую стену. Хрустальные башни из пиленого голубого льда сверкали алмазными зубцами и жители Вязем толклись у изб, дивуясь на чудо, которое сами и сотворили по воле царя для его царского величества потехи.
Завороженный, как мальчишечка, сопли только и не достает до полного восторга, стоял перед сказочным замком царь Дмитрий.
Он стоял один, перед сверкающей белой горою, под взглядами тех, на кого вышел.
Вся Дума, все князья с княжичами, вся старая домовитая Русь взирала на него с потешной стены.
— А царевич-то в Угличе каждую зиму крепости на Волге ставил? — сказал боярину Василию Шуйскому, только-только привезенному из ссылки, боярин Михаил Татищев. Спросил и дышать перестал, ожидая ответа.
Промолчал Шуйский. Снежки ощупывал, лежащие перед ним горкою. Глазки кроличьи, красные, реснички поросячьи, как щетинка. Личико остренькое, ни ума в нем, ни осанки. Положи ничто — оно ничто, поставь ничто — оно ничто. Фу! — и весь сказ.
Человечек внизу поднял вдруг руку и что-то закричал веселым звонким голосом.
— Чего? — не расслышал князь Василий, встрепенувшись и обращая свою куриную головку к Татищеву.
— Говорит, что мы есть Азов!
— Азов?! — удивился Василий. — С чего бы-то?
— На Азов собираемся. Лета ждем. Придет лето, и айда!
Дмитрий и впрямь звал выскочившие из снежных окопов иноземные свои роты — на Азов.
— Возьмем нынче — возьмем и завтра. Нынче потеха — завтра дело. Азов! Азов!
Размахнувшись длинной рукою, пустил тугой снежок в глазевших со снежной стены бояр.
И точно в лоб! И кому? Бедный Василий Иванович затряс куриною головою, оглушенный расшибленный.
Сел. Заплакал.
Многоязычный радостный рев одобрил меткость вождя. Армия Дмитрия, осыпаемая снежками, упрямо полезла на вал, отвечая редко, да метко.
Дмитрий, прикрываясь локтем, озирал наступающих, их трудную медлительную поступь, ведь чтобы сделать шаг, нужно носком сапога пробить лунку для опоры.
Засвистал вдруг в два пальца, тонко, пронзительно. И когда все посмотрели на него, кинулся вверх, как огромный паук, опираясь на стену руками и ногами. И вот она вершина. Дмитрия пхнули валенком в самое лицо.
Опрокинулся, отпал от стены, но кошкой, кошкой перевернулся в воздухе и заскользил вниз, лицо держа к опасности.
— На Азов! — крикнул он снизу, сияя озорной улыбкой. — Бей брюхатых!
Блистающая туча прибереженных для решительного натиска, оледенелых снежков обрушилась на головы бояр.
Где же почтенному устоять перед грубой молодостью?
Бояре были сметены с вала, сшиблены вовнутрь крепости, в глубокий снег.
— Хорошо! — кричал Дмитрий, стоя под стягом на валу. — Всем по чаре и по девке!
И хохотал, глядя на разбитые в кровь рожи бояр.
— Давайте-ка еще раз! Трубач! Отбой! Приготовиться ко второму приступу.
Когда спустились с вала, к Дмитрию подбежал красный, потный Басманов.
— У бояр ножи! Озлились — страсть, хотят насмерть резаться.
Разгоряченное, счастливое лицо Дмитрия тотчас осунулось, стало серым. Повернулся и пошел к санкам.
— Домой! Всем домой!
Вечером новый деревянный дворец впервые принимал гостей. Золоченые паникадила, хрустальные фонари.
Стены сплошь обиты, то золотою парчой, то бархатом, то теснеными кожами или шкурами зверей.
В парадной зале от стены к стене вереница высоких узких окон, украшенных изнутри и снаружи деревянною резьбою. Стены и потолок в голубых шелках, с россыпью цветов, таких живых с виду — не хочешь, а потрогаешь.
Под великолепными стягами на возвышении новый трон, — весь в огне драгоценных каменьев, но легкий, — жар-птица, опустившаяся в стольном граде Москве.
Дмитрий, в розовых, шитых розовым жемчугом сапогах с высоченными каблуками, в розовом кафтане, сверкающем розовыми каменьями, в высокой собольей шапке.
В конце каждого танца весь зал низко кланялся государю, и он, принимая поклонение, приветствовал гостей поднятием обеих рук с раскрытыми ладонями.
Вдруг посреди новой мазурки Дмитрий вскочил и бросился в ряды танцующих.
— Шапку! Шапку! — он стоял перед огромным поляком, посмевшим явиться в залу в головном уборе. — Я снесу твою голову вместе с твоими дурацкими перьями.
Побледневший пан снял шапку, поклонился.
— Он только что прибыл из Варшавы, государь! — подсказали Дмитрию. — Он не знает твоих, государевых, установлении.
— Я сам знаю, что он знает! — рявкнул Дмитрий. — А ну-ка скажи, каков мой титул?
— Наияснейший, непобедимейший монарх Божьей милостью император, великий князь всея России, цесарь…
— Твои знания достаточны, — Дмитрий улыбнулся, улыбнулись и все кругом, засмеялся, и все засмеялись.
Легонько ударил по плечу провинившегося. — Служи мне, и будешь богат, знатен, счастлив.
Быстро вышел из залы. В боковой, совершенно еще пустой комнате зашел за изразцовую печь, повернул прибитые к стене лосиные рога, и перед ним отворилась потайная дверь. За этой дверью его ожидали только что доставленные из города для утешения и радости юные девы и зрелые красавицы. Они были уже приготовлены для встречи государя, всей одежды прозрачные покрывала на плечи.
— Сегодня в Вяземах я брал приступом снежную кре^ пость, — сказал Дмитрий сурово и властно. — Наемный сброд легко побил и скинул со стен лучших людей России. Я спрашиваю вас, разве это лучшие люди, если они не знают воинского искусства и не могут постоять за себя? Я один возьму сейчас вас всех! Вы нарожаете мне воистину сильных и мужественных людей. Пейте вину, веселитесь. А ты, черноокая, первая докажи государю, что любишь его.
9
Одна затея сменяла другую. На Москва-реке на льду поставили гуляй-город, тотчас прозванный «Адом». Ряды телег, соединенные цепями, превращались в подвижную крепость — излюбленное оборонительное сооружение поляков и казаков. Телеги закрыли высокими деревянными щитами, а на этих щитах живописцы Оружейной палаты намалевали рогатые рожи, зверины оскалы, лапы с когтями, кочережки, щипцы, ухваты — и все это в языках пламени. Воистину ад!
В щитах были проделаны амбразуры, из амбразур поглядывали серьезным оком пушки.
Пошла потеха для всей Москвы. Московские дворяне обороняли табор, польские роты дворцовой стражи брали его приступом.
Дмитрий, сидя возле окна своего нового дворца, высокого, поднятого над кремлевскими стенами, наблюдал за военной игрой.
— Сильны, как медведи, но ничего не умеют, — без досады сказал Дмитрий собеседнику патеру Савицкому. — Для того я и послан Богом к ним, чтобы научить умному.
Патер прибыл к Дмитрию тайно: католическая церковь ждала, когда же ее ставленник, исполняя тайный договор, приступит к обращению России в католичество.
— Вы сами можете видеть, — продолжал Дмитрии, — в подобных играх я и в войске начинаю с малого. Дворяне перенимают польское военное искусство, переймут дворяне — переймут и стрельцы. Так и с религией. Я согласен с вами: иезуитский коллегиум в Москве необходим. Я уже отдал распоряжение приглядывать способных к наукам детей, которых всех возьму ка свое царское содержание.
И вскочил, радостно хлопнув в ладоши.
— Отбросили! Отбросили и погнали! — и глянул на патера, да так, будто окатил из ушата ледяной водой. — Радуюсь, что русские бьют мою польскую стражу. Наука идет на лад. Ваша наука. Только хорошо ли это, что мои бьют сугубо моих.
Патер молча перекрестил Дмитрия. Он был молчун, этот Савицкий. Дмитрию приходилось самому заводить и вести разговоры, так оно его тревожило, умное иезуитское молчание.
— Я очень прошу прислать мне список государств и городов, которые изъявили бы желание принять наших юношей для обучения наукам и теологии. Я готов направить в Европу тысячи моих надежд. Робкий Годунов не посмел послать за науками более десяти человек, я пошлю тысячи. Тогда и можно будет говорить о преобразовании византийского православия в римское католичество.
Когда патер удалился, Дмитрий сказал Басманову, хотя тот и не был во время беседы. На всякий случай сказал:
— Спят и видят, чтоб мы папе римскому поклонились, Сигизмунду зад целовали. А мы у них еще всю Западную Русь отхватим. Помяни мое слово! Пойдем с победою с турецкой стороны да и завернем ненароком.
Басманов слушал царя вполуха, у царя что ни день, то новый прожект.
— Государь, я пришел к тебе об одном чудовском монашеке сказать.
— Так говори!
— Скачет, как заяц, по церквам и с папертей говорит, что видел тебя и ты есть Григорий Отрепьев. Что он де тебя хорошо знает, грамоте тебя обучал.
— Я учителей за морем ищу, а их дома хоть отбавляй.
Так давай отбавим. — И стал черным. — В прорубь негодяя! В черную, в ледяную, навеки!
Поднял лицо — смеется, а в глазах ужас зверя.
— Чудовских болтунов- в Соловки! Всех! Одного игумена Пафнутия не трогай. Он человек умный. Других монахов наберет, лучше прежних. Монахам молиться надо, а они болтают. Кыш сорок из Москвы! Кыш!
И засмеялся. Хрипло, нехорошо.
В белой епанче поверх белой шубы, в белой песцовой шапке, в белых сапогах он стоял со своими белыми телохранителями на белом снегу и глядел сверху, как на льду Москва-реки суетятся люди. Прорубь он приказал вырубить, чтоб бадью можно было опустить.
На утопление государева недруга чудовского монаха были приведены для вразумления еще четверо, все ретивые, памятливые.
С монаха сняли черную рясу, чтоб лишних разговоров не было, коли где, когда всплывет. Стали обряжать в саван. Монах корчился, не давался, тогда его толкнули в прорубь в чем мать родила.
И ни звука.
Дмитрий в струнку тянулся, словно ждал голоса, с того света, что ли?
Ни звука.
И тут запричитали, забубнили молитвы те, кого вразумляли. Проклятья зазвенели, круша ледяной воздух.
Казнью распоряжался Басманов. Его голоса не слышно было, но черные, портившие белый снег птицы стали убывать и убыли.
Вершившие суд тоже ушли. Остался лишь черный глаз на белом лике белой русской земли.
И ни звука.
10
А на следующую ночь во дворец Дмитрия за его жизнью пришли трое.
Дмитрий был в опочивальне с Ксенией. Его тянуло к этой юной женщине, как к райскому яблочку. Она и была таким яблочком, тем запретным плодом для смертных, о котором помыслить и грешно, и смешно. А он помыслил. Не о царевне, о царстве. И отведывает царские плоды. Власть она хоть и зрима, да осязать ее нельзя. Иное дело Ксения — образ попранного царства, образ взлета на небеси.
— Ты со мной, а думаешь не обо мне, — укоряла Ксения своего насильника, который был смел даровать ей, обреченной на вечное девичество, бабью радость. Она не могла не желать убийцу матери и брата, погубителя царства и сокровенной души. Ненавидела и ждала, молила смерти ему и себе и расцветала под его ласками, как дурман-трава.
— Ты ждешь — не дождешься свою пани Марину! — бросала она ему в лицо, пылая гневом, и тотчас внутренним оком видела себя гиеной, пожирающей падаль. Одну только падаль.
— Бог с тобою! — весело врал он. — Я познал тысячу женщин, и ни одна с тобой не сравнима. Маринка — хуже щепки. Видела цыплят без перьев, так это Маринка и есть.
— Но ей быть в этой постели, а мне в монастырской.
— Сама знаешь, царь себе не волен. А у меня есть мои долги. Я их плачу и плачу.
Он и впрямь принялся вдруг капать ей на грудь слезами, самыми настоящими, и она тоже расплакалась, и тут затопали перед дверьми, звякнуло оружие. Дмитрия сдуло с постели, как сквозняком. Натянул штаны, сапоги, схватил алебарду.
— Ко мне! — из потайных дверей вбежали стрелецкие головы Брянцев и Дуров. — Кто? Сколько?
— Неведомые. Трое.
— Где они?
— Побежали!
— Искать! — и сам кинулся к дверям.
И нашел. Возле домашней церкви на имя Дмитрия.
Окруженных стрельцами, исколотых, изрубленных, но еще живых.
— Пытать! Кто послал?
Покусившихся на жизнь царя поволокли, кровавя полы, в пыточную, но многого узнать не успели, перестаралась стража. Одного однако опознали: служил в доме дьяка Шерефединова.
11
Утром Басманов предстал перед государем с провалившимися глазами, потухший, потерявший голос.
— Всю ночь бился над Шерефединовым, изломал мерзавца, все жилы ему повытянул, гадит от боли и страха, но ни единого имени не назвал.
— Значит, заговора нет! — беспечно откликнулся Дмитрий.
— Есть заговор! Я его спиной чую. К Шуйским, хоть к Ваське, хоть к братцам его спиной поворочусь, — вся спина в мурашках.
Дмитрий сидел у подтопка, на огонь глядел. Нагнулся, взял кочергу да и закрутил ее винтом, как веревку.
— Шерефединова больше не трогай, отошли куда-нибудь. Васька Шуйский плюгав в цари лезть. Неводок он плетет, но такого плетения, как мое, ему не сплести. Дарю на память.
Дал Басманову кочергу.
— Ступай, отоспись.
Басманов поклонился, сделал шаг, другой, но не ушел.
— Не люблю, государь, огорчать тебя, но не сказать тоже нельзя.
— Скорее скажешь — скорее забота отлетит.
— На Волге объявился Самозванец. Величает себя Петром, сыном государя Федора Иоанновича. Когда сестрица Борискина, царица Ирина, разрешилась от бремени сыном, злодей подменил ребенка. Девочку хворую велел подложить. Ту, что Феодосией нарекли.
— Какие люди с Петром, сколько их? — спросил Дмитрий, щуря глаза.
— Тысячи три-четыре. Терские казаки, донские, всякие шиши. Сам он тоже из казаков, имя его Илейка.
Дмитрий закрыл подтопок, встал, потянулся, улыбнулся.
— Кто он мне, Петя? Родной племянничек? Я, Басманов, скучаю без родственников. Отоспишься, пошли ему моим именем милостивое приглашение. Ласково напиши, на золоте буду потчевать уберегшегося от козней Борискиных. Напиши, пусть к свадьбе моей поторопится.
Басманов моргал воспаленными глазами, но ушам своим верил. Как понять царя? Иной раз на сажень под землей видит, а иной раз слепее крота.
Не слеп был Дмитрий Иоаннович, но все для него сбылось, как в сказке. Верил — Бог стоит за его плечами.
«Господи!» — взмолился, и не произнеся ни слова более, пожелал принять смерть, коли дела его и жизнь его Всевышнему неугодны.
Шубу, шапку, рукавицы не надел, Сгреб. Одевался на бегу, никому не отвечая, куда, зачем. С увязавшейся стражей вышел на лед Москва-реки, поискал глазами прорубь и не сыскал. На льду шла старомосковская потеха: медвежатники выходили ломаться с медведями. И уже стояла на льду особая клетка для охочих людей схватиться с ярым зверем один на один. Всего оружия рогатина да нож за сапогом.
В душе Дмитрия кипела горестная ненависть, и он желал утолить ее сполна.
Подошел к той самой, к страшной клетке, а там уже зверь, ревущий от одного только запаха человека. Грива в проседь, каждая лапа с коровий окорок.
Дмитрий отодвинул от дверцы снаряженного к бою медвежатника. Взял из рук его рогатину и — стража ахнуть не успела, а царь уж был за железными прутьями.
Медведь замотал башкой, взревел, ужасом обнимая всех, кто был на реке, поднялся на дыбы. И тут-то и ударил его Дмитрий Иоаннович. В самую грудь, и держал, держал, пока билась в агонии эта лесная жуть. Вышел из клетки и, как ведьмак, принялся искать глазами кого ему нужно было. И нашел! Уж чего ради, но был на той потехе боярин Василий Иванович князь Шуйский.
Стал перед ним Дмитрий, волосенки от пота на голове слиплись, рот углами книзу, в глазах такая тоска окаянная, что боярин-князь принялся кланяться царю, да так истово, что бородою снег мел.
— Шкуру тебе дарю, — сказал Шуйскому государь и, взгромоздя на голову высоченную свою шапку, помчался во дворец, тихо хаживать не умея.
12
Как же это так? Написанное за тридевять земель, на чужом языке, для глаз немногих посвященных, соединившихся ради столь высокой, наитайнейшей мысли, что само божество становится ее заложником, когда все рассчитано на пять колен вперед, — как оно, неотвратимое и недоступное людской воле, вдруг производит беспокойство среди мужичков и баб, простых, как свечка, и подвигает их запалить ту свечку свою и сгореть.
Где дьяку Тимохе знать латинские промыслы римского пары? Трубами органными не соблазнялся, костелов не видывал. И уж слыхом не слыхал о письме Павла V царской невесте Марине Мнишек!
Папа прислал Марине письмо после ее обручения с царем Дмитрием, для католички драгоценное и святое:
«Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике господнем!.. Да родятся от тебя сыны благословенные, каковых желает святая матерь наша церковь».
Обручение происходило в Кракове, в присутствии короля Сигизмунда, его сына принца Владислава, его сестры Анны, шведской королевы. Место жениха пришлось занять царскому послу Афанасию Власьеву. Чувствовал он себя дураком и грешником, исполнял службу- не смог унять вздохов, когда дошло дело до жениховых подарков — все ведь от России отымалось, от казны ее худоватой. Подарки были один чудеснее другого: золотой корабль, золотые бык, павлин, пеликан, часы, возвещавшие время игрою флейты и труб. Три пуда жемчуга, чуть не тысяча соболей, самых превосходных, парча, бархаты, чаши, кубки, одно перо из рубинов чего стоило. Да ведь и корона на Марине была не из польских, не из Мнишековых тощих сундуков.
Ни о чем этом не ведал Тимоха. Но однажды, ложась в постелю, загляделся он на икону Спаса Нерукотворного, на огонек в лампаде.
Пробудясь же, к еде не притронулся и держал пост семь дней, и были ему те дни, как единый час.
Исповедался Тимоха в Казанской церкви, причастился Святых Тайн, попрощался с домашними и пошел в Думу, прихватя из Приказа грамоту, какая в руки взялась. И войдя в Грановитую палату, подождал, пока князь Мстиславский закончит рассуждать о похвальном желании государя идти вместе с польским королем на крымских татар, дабы избавить христиан от этого вековечного бедствия. Едва умолк, Тимоха вышел на середину палаты и, не поклонившись Дмитрию, указал на него рукою, в самую грудь.
— Воистину ты есть Гришка Отрепьев! Расстрига, но не цесарь. Не царевич ты Дмитрий, сын блаженной памяти царя Иоанна Васильевича, но еретик и греху раб!
И поворотился к царской страже.
— Чего глаза выпучили, слуги дьявола? Хватайте! На то вы тут и поставлены, чтоб правду хватать, а ложь хранить.
Дмитрий молчал, но и бояре молчали. И тогда он закричал, наливаясь бешеной злобой.
— Умертвите!
В тот же день Дмитрий приехал к инокине Марфе.
Инокиня держала строгий пост и была хороша, как в юности. В глазах искорки, лицо же напоено светом, будто не стены келий вокруг, а березовая роща. Впрочем, и в келий было много света, от монашеского разве что иконы на стенах, в шкафчиках столько драгоценностей, что жилище походило на ларец индийского раджи.
Дмитрий и теперь приехал не с пустыми руками, привез зеркало в перламутровой раме, амбру, шафран, заморское мыло.
Марфа благословила его, довольная подарками и уже зная, каким известием он собирается ее порадовать.
Дмитрий заговорил о часах с флейтами и трубами, копии тех, какие подарил он Марине. Ему хочется, чтоб и у матушки были такие же. Мастеру о том сказано, и он трудится самым прилежным образом.
— За наши тихие стены не всякая молва перелетает, — сказала нетерпеливая Марфа, — пошли слухи, что ты скинул запреты с князей Мстиславского и Шуйского, жениться им позволил.
— Мстиславские, Шуйские, Голицыны — безродному Годунову были страшны. Мне, в жилах которого царская кровь, о запретах на браки моих самых родовитых бояр даже слышать дико!
— Кого же они сватают? — быстрехонько спросила инокиня, хотя все ведала в подробностях.
— Для Федора Мстиславского я сам нашел невесту, твою двоюродную сестрицу. Старичок Шуйский тоже оказался не промах. Выглядел цветочек в садах Буйносова-Ростовского. Княжна Марья Петровна и нежна, и статью горделива. И голубка, и лебедь.
— Буйносовы в свойстве с Нагими, — инокиня подарила Дмитрия благодарным взглядом.
Он вдруг сел рядом и держа ее за обе руки, сказал быстро, глядя в глаза:
— В Угличе, в могилке, та, что в церкви — поповский сынишка лежит. Так я его выброшу прочь! Довольно с нас! То дурак взбрыкнет, то кликуша объявится! Довольно! Довольно!
— Не-е-ет! — Марфа, мягонькая, дебелая, застонала, и все-то ее белое мясцо пошло скручиваться в жгуты и окаменевать. — Не-е-ет!
Он бросил с брезгливостью ставшие жесткими ее руки:
— Вы всегда были умны! Так будьте же собой! Будьте умной.
— Прокляну! — сказала она шепотом.
— Принародно?
— В душе моей.
— Вы истинная царица.
Он поклонился ей и, хотя она отшатнулась, взял ее за голову, поцеловал в чистый, в светлый, в государственный лоб.
От уязвленной в самое сердце Марфы отправился к королю Сигизмунду доверенный человек с тайным словом: на Московском престоле Самозванец! Экая новость Сигизмунду!
А для Дмитрия жизнь стала вдруг одним ожиданием.
Выходка дьяка Тимохи всколыхнула в нем страх. Он желал вокруг себя и в Москве поляков, казаков и верил — венчание успокоит сомневающихся: венчание от Бога.
Гоня от себя тревоги, закатил пир боярам, застолье роднит людей. На пиру откровенно льстил сановитым своим гостям, не без яду, впрочем.
— Вы, вековечные российские роды — заповеданная моя дубовая роща! Будет ваше плечо крепко и надежно для государя вашего, и я, государь ваш, обнажа меч, приведу вам толпы покорных народов. Не на рабство, но к свету вашему. К истине истинных, к святому нашему православию.
— С поляками в обнимку? — спросил вдруг дерзкий Михаил Татищев.
— Без поляков нам Турции не одолеть.
— Сначала на войну вместе, а потом и в один храм на молитву. Латиняне спят и видят — заполучить наши души.
— Латиняне много чего хотят, да все на том же месте, куда их Господь поставил. А поляки хотят землю Северскую, хотят Псков, хотят, чтобы мы добывали Сигизмунду шведскую корону. И я на одно их хотение говорю — да, а на другое говорю — нет! Больше нет, чем да.
— И послал Сигизмунду сто тысяч! — выпалил Татищев.
— То был мой долг, и я его заплатил.
— А Мнишеку отправил двести тыщ за какие глаза?
— Мнишек стоял за поруганную честь моего царского рода! Не ты, Татищев — Мнишек! Те деньги пошли для твоей будущей царицы. У царя же с царицей казна общая.
И рассмеялся.
— Ешьте, пейте! Споры для Думы, застолье- для дружбы.
— Дмитрий ударил в ладоши, и слуги понесли на серебряных подносах новые кушанья.
— Телятина! — тихохонько ужаснулся Василий Шуйский. — Телятина православному, как Магомету свинина.
Вели убрать, государь. Бога ради!
Губы вытягивал хоботком, будто хоботок этот в ухо царя хотел просунуть.
— Что болтаешь пустое! — рассердился Дмитрий. — Что у царя на столе, то и свято.
— Телятина свята? — поднял и хватил куском мяса об стол Татищев. Телятина свята?! На шестой неделе великого поста?! В четверок?!
— Чем тебе телятина не угодна?! — изумился Дмитрий.
— Да православный ли ты? Да есть ли на тебе крест?
Латинянин ты гнусный! Оборотень!
— Защитите государя своего! — тише Шуйского сказал Дмитрий, отведывая одну за другой черные, как черной кровью налитые, клюквины.
Татищева выдернули из-за стола, поволокли из палаты прочь.
— В Вятку его, — сказал Дмитрий, не поднимая голоса, — от моего стола и в Вятку. Держать его там в колодках. Да чтоб имени не ведали. Отныне нет ему имени в земле Русской.
13
Был сон Дмитрию. Видел он, как заходящее за горизонт солнце закрыла черная луна и сделались сумерки. И пошла по земле, под черною луною бесконечная чреда спящих на ходу людей. И вгляделся он и увидел, что все их множество — один человек. Что это он. Кинулся прочь от своего сна, да чтоб скорее- на крыльях. Только те крылья были перепончатые, как у летучей мыши. Холодные.
Пытаясь избавиться от увиденного, он встал с постели, и хотя утро еще не наступило, вместе с охраною поехал выбрать место для потешной деревянной крепости, взятие которой должно было венчать будущие, скорые уже, свадебные пиры.
Место он уже облюбовал — пустырь за Сретенскими воротами, но надо было куда-то деть себя от сновиденьица. На пустом месте дела не сыскал, поворотил коня и поскакал смотреть, как готовят дорогу, по которой приедет к нему его весна — благоуханный сосуд красоты — наияснейшая панна Марина.
Его армия собиралась под Ельцом. Продовольствие уже свезено, и пушки, и порох. На днях пришла и стала под Москвою новгородская рать, восемнадцать тысяч молодцов. Сойдет половодье, дороги просохнут, и-в поход. Вот только куда? Одно ясно — Россию он оставит на попечение хозяйки. Потому и ждет ее-не дождется.
Вернулся Дмитрий в полдень. Пахнущий весенним солнцем, счастливый. Дорога для шествия Марины и гостей была исправна, мосты обновлены или построены заново, жалкие избушки и развалюхи, печалующие взоры, разобраны.
Он примчался, настроив себя, еще раз, напоследок, отведать горчайшей любви царевны Ксении. Ее нынче должны были увезти в монастырь. И струсил. Не мести или обличительного слова — глаз ее, слез ее, а то и молчания.
Устроился возле окошка, из которого ему будет видно, как пойдет она садиться в крытые санки. Ждал Ксению, а мыслями улетел по дороге, на которой уже в пределах Смоленщины ему суженая. Дальше, дальше, пока не уперся в Вавель. Хозяин польского Вавеля швед Сигизмунд Ваза чересчур яро и уже почти явно требует исполнения статей тайного договора. По этому договору Марине Мнишек отходили Великий Новгород и Псков со всеми землями, с правом продавать эти города и земли, дарит, строить католические храмы, католические монастыри, заводить латинские школы. Отец пани Марины пан Юрий Мнишек, сандомирский воевода, в потомственное владение получал княжества Смоленское и Новгород-Северское, но так как половина смоленских земель и городов даровалась в собственность Сигизмунду, то столько же земель и городов Мнишек получал в соседних княжествах, в Тверском, в Калужском. Отдать все эти земли было делом немыслимым, да и сам Сигизмунд был королем больше по имени. В шляхте ходили разговоры: корону надо отдать московскому Дмитрию, свой человек. Все, кто ему служили, получали от щедрой руки.
Дмитрий души не чаял в шляхте, а в России земли много, крестьян много. Послужишь — получишь. Был даже такой слух: у Московского царя для изгнания Сигизмунда уж и войско наготове. Поведет его великий мечник Скопин-Шуйский.
Перебирая нити всей этой паутины, смертно держащей его, Дмитрий решил вдруг, что надо оставить все как есть. Пусть себе висит клубком до поры до времени.
Взяться за веник никогда не поздно. Не натравить ли на Сигизмунда иезуитов, пообещав им все, что им хочется.
Сигизмунд, почитая себя владетелем Смоленского княжества, наверняка поглядывает на Мономахову шапчонку? Мечтает о наследственной, о шведской короне, для борьбы за нее лишняя хорошая шапка не помеха.
Пришел Басманов. На лице тоска.
— Ну, что у тебя? — спросил его Дмитрий, краем глаза увидав, что во дворе появилась серая лошадка и серые, крытые лубяным коробом, санки.
— Инокиня-государыня Марфа по всем боярам вчера ездила. Не трогай, государь, могилку. Бог с ней!
— Болтуны надоели.
— Не трогай, государь. У меня с утра вся Дума перебывала, поодиночке.
— Я человек сговорчивый. Не трогай, говоришь. Не трону. Что еще? — от нетерпения лицо у Дмитрия стало красным. — Что еще у тебя?
— Иван да Дмитрий Шуйские приезжали в дом купцов Мыльниковых. Братья Голицыны туда же ездили.
Боярин Татаев, окольничий Крюк Колычев.
— Им что, мыло нужно?
— Мыльниковы не мылом торгуют, государь. Мыльниковы — гости. У них торговля по всей земле.
Дмитрий глянул в окно. Лошадка стояла смирно. Людей не видно.
— Все?
— Нет, государь, не все. Стрельцы тебя хулят…
— Стрельцы? Ну-ка! Ну-ка! Да слово в слово!
— Говорят, что ты есть враг веры, тайный латинянин.
— Так говорят все московские стрельцы?
— Нет, государь, не все. Хулителей семеро.
— Семеро… Из одного полка?
— Из двух, государь.
— Из двух, — глаза Дмитрия, бегавшие во время разговора, остановились. — Собери мне, друг мой, Петр Федорович, всех московских стрельцов. В Кремле собери.
Завтра. Да не завтра! Сегодня же и собери. Ступай! — ласково подтолкнул Басманова в плечо. — Поторопись, товарищ мой верный.
— Татищева, государь, вернул бы. Многие просят за него, — сказал вдруг Басманов.
— И Шуйский?
— И Шуйский.
— А ты просишь?
— Прошу, государь.
— Не на свою ли голову, Басманов? Возвращай, коли соскучился! Тебе за ним смотреть.
Басманов радостно улыбнулся, поклонился, вышел.
— Дмитрий тотчас побежал к окошку, а возок уж поехал.
— Как же так? — застонал Дмитрий, уцепясь пальцами за решетчатое окно. — Как же так?
За лубяным возком след простыл, а Дмитрий все глядел и глядел… И перед глазами, как лаком покрытое, стояло его видение. Чреда людей под черною луною, и каждый из чреды — это он.
..Вечером того же дня царевну Ксению постригли.
Царевна умерла, родилась черница Ольга.
14
Стрельцам было велено прийти в Кремль без ружей.
Они и не взяли ружья. У иных совсем ничего не было, иные же прихватили бердыши, протазаны, сабли.
Место выбрано царем было странное, за садом, на огороде, у глухой стены.
Царь пришел с ротою Маржерета, а другая рота, конная, капитана Домарацкого, встала поодаль.
Привели семерых стрельцов, что оговаривали государя. Конвой тотчас отступил, и Дмитрий шел среди этой семерки без опасения. Они, думая, что Бог пронес, стали среди своих, в первом ряду. Дмитрий приятельски положил руку на плечо стрелецкого головы Григория Микулина и, высоко поднимая голос, чтоб слышали все, сказал:
— Я вырастал в палатах отца моего великого Грозного царя Иоанна Васильевича. Происками Годунова матушку мою, меня и всех Нагих, матушкиных кровных родственников, — выслали в Углич. Там я и жил, покуда верные люди не сообщили матушке, что Годунов замыслил злое дело. Тогда нашли ребенка, схожего со мною лицом и ростом, поповского сынишку, а меня укрыл в надежном месте Богдан Яковлевич Вольский… Остальное долго рассказывать. Многие из вас видели мою встречу с матушкой на лугу в Тайнинском. Не будь она мне матерью, слез бы благодарных, чистых не проливала. Я перед вами, как на духу, но и вы скажите мне всю правду: есть ли у кого из вас доказательства, что я не царевич Дмитрий?
Стрельцы молчали, опускали глаза. Государь глядел на них, посапывая носом-лапоточком. Высморкался посвойски, на снег. Закричал на стрельцов:
— Наушничать горазды! Говорите в лицо, коли вам есть что сказать, а нам послушать.
Стрельцы молчали. Дмитрий ждал. Не дождавшись, снова заговорил, подходя к переднему ряду, чуть не грудь в грудь, положа обе руки на свое сердце.
— В чем ваше недовольство мною? Скажите мою вину перед вами! Тому, кто служит мне по чести и совести, и я служу, как самый усердный слуга.
— Господи! Государь, избавь нас от таких горьких укоризн! — воскликнул Микулин.
— Я готов избавить! — откликнулся Дмитрий, и в глазах его заблистали слезы. — Но ведь порочат! Слухи разносят! Все о том же — расстрига на троне, Гришка Отрепьев! Да всех Отрепьевых я по ссылкам разогнал за то, что помогали расстриге своровать, слухи распускали. За то что все они враги святейшего патриарха Иова…
— Государь, освободи! Я за твои слезы у твоих изменников головы поскусаю!
— Ваши это товарищи, и поступайте с ними по вашей совести.
Махнул на семерку рукою и пошел прочь, ни разу не оглянувшись.
А на том, на царском огороде на осевший весенний снег хлестала кровь: рубили бедняг, кололи сообща, яростно.
Тотчас тела погрузили на телегу и телегу провезли по всей Москве.
Народ царя жалел, не изменщиков.
15
Жуткая телега еще кровавила московские улицы, а уж князь Василий Иванович Шуйский встретился с князьями Иваном Семеновичем Куракиным да с князем Василием Васильевичем Голицыным. Встретились в Торговых рядах, в махонькой церковке.
— Нынче царь показал свою силу, — начал Шуйский, — бедный обманутый народ верит ему, проклятому расстриге.
— Как народу не верить, когда правдолюбы на кресте клялись, что царевич истинный, — рассердился Куракин.
Шуйский обнял князя.
— Время ли о клятвах поминать? Потому и клялись, что Годунов сидел на наших шеях. Сидел, как татарин!
— Он и был татарин! — сказал Голицын. — Бог с ним с Годуновым. Православие надо спасать от царя-еретика.
— Как от него избавишься? — повздыхал Куракин. — Убить — вот и все избавление.
— Убить! — твердо сказал Шуйский. — Убить до свадьбы! Невеста явится с целым войском.
— Дадим же обет заодно стоять, — перекрестился Куракин, — Не мстить за обиды, за прежние козни, коли кто из нас в царях будет.
Шуйский наклонился над распятием, лежащим на крошечном алтаре, поцеловал.
— Даю обет не мстить, не обижать, коли Бог в мою сторону поглядит. Даю обет — править царством по общему совету, общим согласием…
Голицын и Куракин повторили клятву.
Троекратное истовое целование завершило тот странный сговор.
Глубокой ночью дом Василия Шуйского наполнился людьми. Были его братья Иван и Дмитрий, племяш Михаил Васильевич Стопин-Шуйский, был боярин Борис Петрович Татев и только что возвращенный из ссылки думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев, были дворяне Иван Безобразов, Валуев, Воейков, стрелецкие сотники, пятидесятники, игумны, протопопы.
Столы даже скатертями не застелили — не до еды, не до питья.
Князь Василий вышел к своим поздним гостям, держа в руках «Псалтырь», открыл, прочитал:
— «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе на придет. Не отврати лица Твоего от меня. В день скорби моей приклони ко мне ухо Твое. В день, когда призову Тебя, скоро услышь меня. Яко исчезли яко дым дни мои, и кости мои обожжены яко головня.»
Положил книгу на стол, положил на книгу руки и говорил тихим голосом. И не дышали сидевшие за столом, ибо жутко было слышать.
— Я прочитал вам молитву нищего. Кто же нынче не нищий в царстве нашем? Настал горький час: открываю вам тайну о царевиче как она есть.
Шуйский умолк, опустил голову, и все смотрели на его аккуратную лысину, на острый, как заточенное перо для письма, носик, и было непонятно, откуда в таком человеке твердость?
Шуйский поднял лицо и осмотрел всех, кто был за столом, никого не пропуская.
— Тот, кого мы называем государем, — Самозванец.
Признали его за истинного царевича, чтоб избавиться от Годунова. И не потому, что не был Годунов царем по крови, а потому, что был он неудачник. Лучшее становилось при нем худшим, доброе- злым, богатое- бедным.
Грех и на мою голову, но я, как и все, думал о ложном Дмитрии, что человек он молодой, воинской отвагой блещет, умен, учен. Он и вправду храбр, да ради польки Маринки, которая собирается сесть нам на голову. Он умен, но умом латинян, врагов нашей православной веры. Учен тоже не по-нашему.
Шуйский кидал слова, как саблей рубил. Бесцветные глазки его вспькнули, на щеках выступил румянец.
— Для спасения православия я хоть завтра положу голову на плаху. Я уже клал ее. Вы слушаете меня и страшитесь. Я освобождаю вас от страха. Пришло время всем быть воителями. Рассказывайте о самозванстве царя, о том, что он собирается предать нас полякам. Рассказывайте каждому встречному! Всем и каждому! И стойте сообща заодно, за правду, за веру, за Бога, за Русь! Сколько у расстриги поляков да немцев? Пяти тысяч не будет.
Где же пяти тысячам устоять против ста наших тысяч!
Кто-то из протопопов сказал:
— Многие, многие стоят за расстригу — соблазнителя душ наших.
— Скорее у Дмитрия будет сто тысяч, чем у нас, — подтвердил Татаев.
— Так что же делать? — спросил Шуйский. — Терпеть и ждать, покуда нас, русаков, в поляков переделают.
Поднялся совсем юный Скопин-Шуйский.
— Дядя! Надо ударить в набат и кликнуть: поляки государя бьют! Я с моими людьми мог бы явиться спасать расстригу. Окружил бы его своими людьми, и тогда он стал бы нашим пленником.
— Его следует тотчас убить! — чуть ли не прикрикнул на племянника князь Василий. — Отсечь от поляков, от охраны и — убить!
— И всех поляков тоже! — сыграл по столу костяшками пальцев Иван Безобразов. — А чтоб знать, где искать дома их следует пометить крестами.
— Очень прошу не трогать немцев, — строго сказал князь Василий. — Они люди честные. Годунову служили верой и правдой, пока жив был. И расстриге служить будут, пока жив.
— А как не будет жив — другому послужат! — вставил слово Дмитрий Шуйский и подался вперед, чтоб все его видели.
Старший брат рыхлый толстячок с тощей лисьей мордочкой, а этот как мерин. Голова породистая, глаза навыкате- всякому видно, высокого рода человек, но сколь высок в степенях, столько же недосягаем и в глупости.
Была у заговора голова о три башки, теперь сотворилось тело, правда, без ног, без рук.
Весна по небу гуляла, зима за землю держалась.
Под колокольнею Ивана Великого пророчица Алена упала и билась в корчах до розовой пены на губах. Многие, многие слышали ее жуткий утробный голос:
— Овцу золотую, Дмитрия-света на брачном пиру заколют!
Блаженную в ссылку не упечешь.
Другое дело царь Симеон. Этот на паперти Успенского собора, перед обедней вдруг принялся кричать на все четыре стороны:
— Совесть трубит во мне в серебряную трубу, в трубу слезную! Царь наш, не Богом нам данный, не Богом, тайно уклонился в латинскую ересь! Как придут поляки с Маринкою, так и погонит он православную Русь к папе римскому на закланье!
Старика взяли под руки, отвели в Чудов монастырь, постригли в монахи и отправили на Соловки.
Народу было сказано: за неблагодарность.
Дмитрий от Симеонова предательства стал чернее тучи. Все твердил, похаживая взад-вперед по личным своим комнатам:
— Татарва православная! Совесть ему дороже царского житья. При Грозном, чай, о совести помалкивал.
16
У зимы осталось последнее ее покрывало. Она бережно расстелила его ночью и, оберегая от неряхи весны, ударила на шалопутную собранным по закромам последним крепким морозом.
Леса вздыбились, как оборотни — седы, корявы, духом дышат ледяным, солнце от такого-то напора совсем махонькое стало, совсем белехонькое.
— Куда вы меня везете? Это же погреб! — ясновельможная пани Марина закрыла собольими рукавичками длинноватый свой носик и бросилась в санки, застланные песцовыми пологами, как в полынью.
Полынья была ласковая, а как сверху укутали, то и совсем стало покойно и даже прекрасно, потому что мороз всех нарумянил, все двигаются проворно, радостно.
Послышались команды, заскрипели седла, заухала под снегом земля от конского топа, и, наконец, полозья взвизгнули, как взвизгивают паненки в руках парней.
Огромное, яркое тело поезда тронулось и, набирая скорости, пошло, как с горы.
Пани Марина, хорошо выспавшись за ночь, тотчас оказалась на спине пушистого, голубого, с алмазной искрой по ости, зверя. Совершенно обнаженная, на жутком русском морозе, и однако же не чувствуя ни холода, ни какого другого неудобства. Песец мягко, плавно взмывал над землей, и от каждого его беззвучного маха душа замирала.
— Не ты ли это, Дмитрий? — пораженная догадкой, спросила Марина.
Песец, не прерывая бега, повернулся к ней мордой, и она увидела лицо мудрого, грустного иудея.
— Что за шутки?! — Марина гневно треснула скакуна по бокам и проснулась.
И зажмурилась! Но не оттого, что все сверкало и блистало — от радостного ужаса: солнце сошло на землю, и земля стала солнцем.
Марина чуть разлепила веки и, полная, как короб с земляникою, самого ласкового, самого сокровенного счастья, смотрела на Преображение земли.
Снежные поля полыхали золотым, и кожа принимала огонь и становилась позлащенной.
Смертная белизна лесов обернулась такой молодой, такой живою плотью, словно это было тело невесты, сбросившей покровы ради любимого. И небо переменилось. И небо стало плотью, плотью всемогущего солнца.
Марина чувствовала, как воздух припадает к ней, к ее щекам, губам, глазам, как хватает он горячими прикосновениями кончики ее запылавших ушей. Засмеялась.
— Нарзежона! Нарзежона круля! — и повторяла по-русски: — Невеста! Невеста короля!
Движение вдруг стало замирать, полет полей накренился на одно крыло, и все замерло.
— Что случилось? — крикнула Марина пану Тарло, своему советнику.
Пан Тарло подскакал к саням.
— Река Утра, государыня!
— Так и что же?
— Но это граница Литвы и России.
— Здесь граница Литвы?
— Прежняя граница, государыня. Давняя! Но всем это интересно.
— И мне тоже! — лицо Марины вспыхнуло гневом. — Да помогите же мне выйти из санок!
Красота пышущего солнцем белого поля погибла. Гусары, вольные шляхтичи, драгуны — рассыпались по полю, над черною Утрой, с которой бурные февральские ветры унесли снег, а тот, что выпал за ночь, подтаял на разбушевавшемся солнце.
— Все это было наше! — восторженно воскликнул седоусый Юрий Мнишек и распахнул руки. Алый кунтуш под собольей шубою пламенел, красное молодило воеводу. — Так было, Панове! Но так и будет!! Не сабля достанет нам славу и богатство, но любовь. Любовь моей дочери. Помните об этом, панове!
Поезд снова тронулся, но езда опять была недолгой.
На другой стороне реки, в селении ударили колокола, и на дорогу, с крестами, с иконами, с хлебом-солью, вышли к своей будущей царице крестьяне.
Ритуал этот был для Марины испытанием. Превозмогая отвращение к запаху овчинных шуб, к грубым, косматым от бород лицам, расплывавшимся перед ней в улыбках, к корявым рукам, подававшим ей этот их хлеб, эту их соль. Иной раз ведь совершенно черную! Для вкуса и пользы крестьяне перемешивали соль с березовым углем.
Марина отведывала хлеб- правду сказать, всегда вкусный, воздушно высокий, взирала на кланяющихся крестьян, слушала молитву попа и, подарив народ улыбкою, торопилась в сани. Торопливость ее люди одобряли.
— К жениху спешит! К свету Дмитрию Ивановичу!
Марина же, садясь в санки, выплевывала хлеб в ладошку, прополаскивала рот крепким вином и натирала руки розовым маслом.
Но иногда и забывалась. Съедала вкусную корочку. И если плевалась, то уж ради одной прислуги своей.
В середине апреля, сменив сани на карету, царская невеста въехала под колокольный звон в Вязьму, в окрестностях которой для нее был приготовлен дворец Бориса Годунова.
Юрий Мнишек тотчас отправился в Москву на последние перед свадьбой переговоры.
Встретила его Москва 25 апреля колоколами, пушечной пальбой, игрою польской музыки.
Вид зятя ошеломил сандомирского воеводу. На блистающем троне, низвергая при каждом движении водопады алмазного огня, восседал тот, кто пришел к нему в дом его с блудливыми глазами лжеца.
По правую руку самодержца патриарх, митрополиты, епископы, по левую бояре, цвет Российской пержавности.
Мнишек, распираемый восторгом, воскликнул:
— Давно ли с участием искренним и нежным я жал руку изгнанника, гостя моего печального? Эту державную руку, к которой я допущен для благоговейного лобызания! О счастье! Как ты играешь смертными! Но что лепечет язык мой неверный и невежественный! Не слепому счастию. Провидению дивимся в судьбе твоей, великий государь великого государства! Провидение спасло тебя и возвысило к утешению России и всего христианства!
Ты делишь свое величие с моею дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека!
Дмитрий слушал тестя, сияя влажными глазами, но не промолвил ни единого слова. Его царскими устами был Афанасий Власьев.
И за трапезою в честь дорогих гостей сидел за отдельным столом. Юрия Мнишека и Адама Вишневецкого побаловал Дмитрий лишь тем, что подавали им яства на золотых тарелях.
17
Дело предстояло утомительнейшее. Чтобы лишить упрямцев самого воздуха державных Грановитых палат, Дмитрий собрал совет церковных иерархов, ближних бояр, родственников своих и невестиных в новом деревянном дворце.
— Под шелковыми небесами, надеюсь, черные мои вороны тоже станут как шелковые, — подмигнул Дмитрий Басманову и приложился к потайному окошечку, чтобы по лицам советчиков угадать их настроение.
Адам Вишневецкий был мрачен, он уже успел объявить, что прибыл получить сполна тысяч сорок золотых, которые издержал, собирая людей для похода царя Дмитрия на Годунова. Вишневецкого слушал казначей Власьев и не сказал ему ни да ни нет, но так не сказал, что было ясно — это окончательное нет.
Юрий Мнишек прибавил в величавости. Он то и дело правил левою рукою левый ус, который у него лихо топырщился. Хотелось выглядеть орлом, но несерьезный ус придавал лицу что-то уж очень петушиное.
— Будет ли тесть за Адама просить? — подумал вслух Дмитрий. — Они как-никак родственники.
И улыбнулся, сообразив, что Адам скоро будет приходиться ему, царю русскому, свояком. Брат Адама женат на младшей сестрице Марины.
Думал о поляках, а глазами уперся в Гермогена, казанского митрополита. Красавец старик! Ему уж, говорят, семьдесят пять, но красавец! Глаза зеленющие, что тебе изумруды, огромные, брада шелковая, седина голубизною отливает… На лице — ни морщинки. Его преосвященство — из донских казаков. Донцов Дмитрий знал.
Если у них дурак, так дурак, а уж коли умный, так умный.
Впрочем, те и другие на правде спотыкаются, не умеют порожка сего невидимого переступить…
— А ведь что-нибудь ляпнет старикан, — предположил Дмитрий, и как в воду глядел.
Первым о свадебных делах сказал свое слово патриарх Игнатий. Говорил он ласково, обводя совет ласковыми глазами.
— Царица наша рождена в римской вере, в христианской вере. По сему будет ей добродетельно и негрешно посещать православные наши церкви. Я сам стану приобщать ее Святым Тайнам. Но царице не возбраняется иметь свою латинскую церковь, блюсти уставы, коим она обучена с детства.
— Окрестить ее надо! — сказал с места коломенский епископ Иосиф.
— Государь пожелал, чтобы супруга его была венчана на царство. Обряд венчания предполагает возложение животворящего креста и миропомазание. Это явится приобщением государыни к святоносному Духу православия. Дважды крестить христианина нельзя. Это еретичество.
— Что есть еретичество, мы не хуже твоего знаем, святейший, — вспылил, вскакивая на ноги, митрополит Гермоген.
— О! Я не желаю ссоры между моими возлюбленными пастырями! — тотчас вступил в разговор Дмитрий. — Будет ли праздник праздником, если он поставлен на дрожжах несогласия? Дело надо кончить к обоюдному согласию. Кстати, надо нам быстро решить одно небольшое и простое дело. Свадьба требует больших расходов, а впереди поход. Драгоценные мои, светоносные пчелы, собиратели нектара Божественной истины! Я прошу помочь казне. Мои запросы не так уж и велики.
Пусть Иосифо-Волоколамский монастырь даст мне три тысячи, а Кирилло-Белозерский — пять тысяч рублей.
— Государь, но ты уже взял с Троице-Сергиева монастыря не три и не пять, а все тридцать тысяч! — воскликнул коломенский епископ Иосиф.
— Не мне нужны деньги, я ем и пью не больше вашего. Деньги нужны отечеству. Я иду избавить Россию от вечного страха перед нашествием с юга. Мне бы хотелось, чтобы вы сами, подумав, дали бы часть церковных доходов на общее дело.
— На общее дело, ежели оно чистое и воистину общее, денег не жалко, сказал Гермоген. — Но вот ежели царская невеста не будет крещена, то такая свадьба станет нам всем в великую стыдобу, ибо такая свадьба есть беззаконие перед Богом и перед всем русским православным народом!
— Без крещенья нельзя! — согласились с Иосифом и Гермогеном архимандриты чудовский и Новоспасский.
Им возразил со стороны поляков Андрей Лавицкий.
— Нет закона ни у вашей церкви, ни у нашей, который бы воспрещал браки между христианами греческого и римского вероисповедания. Но нет и другого закона, который требовал бы жертвовать одному из супругов своею совестью. Предок царя Дмитрия Иоанновича, великий князь Московский Василий III, женившись на Елене Глинской, дал ей полную свободу в выборе веры.
Есть и другие примеры.
— Верно ли в царских делах угождать бессмысленному народному суеверию? — выставился со своим умом Юрий Мнишек.
— В словесах — мы герои! — пристукнул митрополичьим посохом Гермоген. Не перекрестите Марину — будет она народу русскому не матерью, но бесстыдной девкой!
— Что же это все так смелы у меня? — Дмитрий рассмеялся, да так весело, словно похвалить хотел упрямцев.
Долгим взглядом поглядел на патриарха. — Святейший, есть у тебя крепкие монастыри для смирения несмирных?
— Есть, государь, — ответил Игнатий с поклоном.
— Вот и пошли в сии монастыри Гермогена и всех с тобою несогласных. Пусть Богу молятся, приготовляют нам Царство Божие. С земными же делами мы сами управимся.
Четверых иерархов тотчас вывели из палаты.
Но дело еще было не улажено, требовалось назначить день свадьбы.
— Я хочу венчаться как можно скорее, в воскресенье, — сказал Дмитрий.
— Четвертого мая никак нельзя, — смутясь, развел руками Игнатий. Царевна должна хотя бы три дня попоститься, пожить в монастыре.
— Восьмое вас устраивает?! — сердито прикрикнул Дмитрий.
— Устраивает, государь! — пролепетал Игнатий, но остальные-то иерархи ахнули про себя. Восьмое — пятница, постный день, предпраздничный. Девятого — Никола Вешний.
— Платье ведь надо успеть пошить! — засомневался князь Мстиславский, недавно испытавший на себе все свадебные хлопоты.
— Успеют! — весело сказал Дмитрий. — Пока держава в моих руках, мы успеем столько, как никто до нас не успевал.
— Никола ему покажет! — погрозил посохом Гермоген, когда ему сказали о царевом выборе свадебного дня. — В мае женится, еретик! Помает его Никола! Еще как помает!
18
В бурю въезжала в Москву царская невеста.
Ветер раскачивал вершины деревьев, едва-едва зазеленевших, и казалось, это метлы метут небо.
Перед городскою заставою пани Марину встречало дворянство, стрельцы и казаки. Все в красных кафтанах, с белой свадебной перевязью через плечо.
Дмитрий был в толпе встречающих, одетый простолюдином. Ему хотелось видеть ликование Марины и москвичей. И он видел это ликование, он видел всеобщую радость. Лицо Марины светилось высшим небесным озарением, и он, благодарный судьбе, таясь от своей переодетой охраны, смахивал с ресниц слезы счастья: народ полюбил Марину, как его самого.
Над Москвою-рекою был поставлен великолепный шатровый чертог. В нем царскую невесту приветствовал князь Мстиславский и бояре.
Из шатра Марину вывели под руки, усадили в позлащенную карету с серебряными орлами на дверцах и над крышею. Десять ногайских лошадей, белых как снег, с черными глянцевыми пятнами по крупу, по груди и бокам, понесли драгоценный свой груз, как перышко райской птицы. Перед каретою скакало три сотни гайдуков и все высшие чины государства, за каретою катило еще тринадцать карет с боярынями и родней жениха и невесты, бахали пушки, гремела музыка, колокола трезвонили, как на Пасху.
За свадебным поездом следовало войско, с ружьями, с пиками, с саблями.
Едва одно шествие миновало, пошло новое, разодетое в пух и прах, и опять же с целым войском. То совершили торжественный въезд послы польского короля Госевский и Олесницкий.
— Что-то больно их много… — засомневались москвичи, и тотчас люди Василия Шуйского принялись разносить слушок:
— Послы-то приехали не так себе! За Маринкиным приданым. Дмитрий отдает Литве русскую землю по самый Можайск.
Марину поместили в Вознесенский Кремлевский монастырь под крыло матушки жениха, инокини Марфы.
Марина как вошла в отведенную для нее келию, так и села. И не подойди к ней, не заговори.
Оскорбленная убогостью комнаты, Марина воспылала местью к жениху, к инокине-свекрови, к русским, ко всему их непонятному, лживому существованию.
Коли тебя привезли в царицы, зачем же монастырь?
Коли все утопают в соболях и драгоценностях, к чему эти лазки, эти голые стены с черными страшными ликами икон? Почему не ей кланяются, а она должна выказывать смирение перед черными бабами?..
Понимала, идти к инокине Марфе хочешь-не хочешь — придется: царская матерь. Матерь, только вот кого?
Время шло, Марина сидела сиротиною на голой лавке- несчастный, забытый всеми истукан. Вот тогда и явилась в келию ее гофмейстерина от гофмейстера Стадницкого, который просил передать их величеству, что благополучие поляков в стране русских зависит от снисходительности их императорской милости.
Марина вспыхнула, но каприз прекратила.
— Такое великолепие! Столько лиц! Я до сих пор не пришла в себя! сообщила она инокине Марфе, поклонись ей с порога по-русски смиренно, до земли.
Инокиня Марфа смотрела на нее, не мигая. Марина тоже попробовала не мигать, но в глазах началась резь, она прослезилась и не замедлила пустить эти свои слезы упрямства в дело:
— Я плачу от счастья видеть вас, мама!
Марина говорила на смеси русского и польского и скрашивала свои ошибки беспомощною улыбкою. Но она видела, вся ее ласковая неумелость, доверчивая покорность, все впустую. Инокиня Марфа смотрит на нее будто кошка на мышь: «Играйся, играйся! Как наиграешься, я тебя съем!»
Марина поспешила вернуть лицу пристойный холод.
Глаза ее заблистали стеклянно, еще более стеклянно, чем у инокини. Гордость стянула губы в полоски, в лезвия.
Она вдруг сказала:
— Я понимаю, как трудно вам, живя в Кремле, быть молитвенницей. После нашей свадьбы переезжайте в Новодевичий монастырь. Вам ведь уже не надобно будет печься о сыне. Я сама позабочусь о его покое и счастье. С вашего благословения.
Инокиня Марфа не проронила ни слова в ответ. И, не зная, как поступить, чтобы достойно покинуть келию свекрови, Марина в панике опустилась на стул перед вышиванием. Это был почти законченный «воздух», запрестольная пелена с изображением Евхаристии.
Марфа, не отпуская невесту ни на мгновение своим остановившимся, жутким взором, молчала.
— Я привезла вам подарки! — встрепенулась Марина. — Чудесные вышивки. Я вам пришлю. — И совершенно расцвела: — Меня же портные ждут! Надо успеть пошить платье!
Вспорхнула, чтоб лететь и не возвращаться под эти взоры.
— Благодарю за прием! — губы совершенно исчезли с лица, хоть как-то ответила на унижение.
— Он не мой сын, — сказала вдруг Марфа.
Марина кинулась к дверям, будто не слышала. Нога в ступне подвихнулась, больно сделалось очень, по не вскрикнула, не остановилась, не повернулась.
В келий служанка осмотрела ногу: не опухла, боли не было, следов вывиха тоже.
— Она колдунья, — сказала Марина. — Пошли за обедом. Я не желаю умереть с голода.
Оказалось, обед уже давно кончился. Нужно было ждать ужина.
А на ужин принесли пироги с капустой и с репой. Марина надкусила тот, что был с капустой, и замерла от омерзения.
— Я не могу есть такую пищу! — прошептала она и залилась горючими слезами.
О бедственном положении несчастной невесты было доложено гофмейстеру Стадницкому. Стадницкий явился к царю, царь послал за поварами к тестю. Повара явились, для них открыли царские кладовые, и пошла стряпня!
Пока монашенки отстаивали вечерню, в монастырь чредой в черных монашеских рясах вошли многие люди.
Марина со служанкою сидели за занавескою на кровати. А в келий меж тем творилась безмолвная и почти беззвучная сказка. Люди в черном устилали пол коврами, лавки сукнами, на столе явилась белая скатерть, на скатерти напитки и яства, источающие запахи кухни Вавеля. Наконец, были внесены великолепные серебряные канделябры, комната наполнилась сиянием, и в этом сиянии, как пламенный ангел, возник император Дмитрий.
Он стал перед богинею своею, вознесшей его столь невероятно высоко, на колено и целовал ее руки так бережно, так нежно, как прикасаются губами к лепесткам цветов. Грудь Марины волновалась, она шептала что-то бессвязное, ласковое.
Не отпуская ее рук из своих, он сказал:
— Это первый миг за многие уже годы, когда я живу искренне. Вся остальная моя жизнь — скоморошье бесовство.
Он повел ее за стол. И она, наголодавшись, ела так вкусно, что и он, знавший меру в еде и питье, пил и ел, и не мог ни насытиться, ни наглядеться на любимую.
— Ты есть моя судьба! — воскликнул он в порыве откровения. — Клянусь, каждый твой день, прожитый на этой земле, на моей земле, которая уже через несколько дней станет нашей землею, землею детей наших, потомков наших будет для тебя прекраснее самых счастливых твоих сновидений.
Он ударил в ладоши, и в келию вошли музыканты.
Под музыку сколь тихую, столь и волнующую начались танцы дев. Они являлись с каждой новой мелодией в одеждах более смелых и вдруг вышли в кисее с подсвечниками в руках. Танец был мучительно сладострастен.
— Как это грешно! — прошептала Марина, бледнея и обмирая.
— Этому танцу моих танцовщиц обучил иезуит Лавицкий. Так развлекали папу римского Александра, кажется…
Девы поставили светильники на пол и, обратясь к пирующим спиною, склонялись над свечами и гасили по одной свече. Снова круг, наклон, и еще одна свеча меркнет.
— Остаток ночи я проведу у тебя, — прошептал Дмитрий Марине.
— Но это невозможно!
— Отчего же невозможно?
— Это монастырь, — и засмеялась, утопая в глазах соблазнителя, и чуть не застонала. — Но ведь надо будет показывать боярыням мою рубашку!
— Экая печаль. Курицу зарежем.
И смеялись, заражая друг друга, смеялись, пока не опустела келия.
Тогда снова стали они тихи и серьезны и посмотрели глаза в глаза, и было то мгновение в их жизни мгновением доверчивости и одного счастья на двоих.
Люди Шуйского разносили слухи о поругании Маринкой и расстригой святого места. Рассказывающий крестился, слушающий плевался. Вся Москва плевалась.
А слухов все прибывало, один пуще другого.
— Сретенский потешный городок, думаешь, для чего? — шептали шептуны. Для чего пушки туда свезли?
Соберут народ на потеху, да и перестреляют всех! Вот для чего! Все боярские дома — полякам, все монастыри — полякам. Монахинь замуж будут выдавать. Вот как у расстриги с Маринкою задумано!
Хоть верь, хоть не верь, но Мнишеку уже отдали дом Бориса Годунова. Все пригожие дворы в Китай-городе да в Белом городе отведены под постой полякам. Даже Нагих из домов повыгоняли. Дескать, на дни свадьбы. А коли дома понравятся? Москва понравится? Житье на русском горбу понравится? Ведь не уйдут!
Третьего мая в Золотой палате государь всея Руси принимал Юрия Мнишека, его родственников и великих послов короля Сигизмунда, которые должны были представлять его величество на свадебных торжествах.
Самую замечательную речь на этом приеме произнес гофмейстер Марины пан Станислав Стадницкий.
— Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, — сказал он, упирая глаза в бояр, — двумя могучими, гордыми народами, которые сходствуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доныне не знали искреннего мира и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть луну ненавистную…
То было прямое указание на Турцию, против которой у Дмитрия собраны полки и против которой готовы выступить вольные шляхтичи, хотя у короля были иные намерения и цели.
Интрига короля тотчас и явилась на свет перед боярами и поляками. Посол Олесницкий, произнеся приветствие, вручил Афанасию Власьеву королевскую грамоту.
Власьев чуть ли не на ухо прочитал ее Дмитрию и возвратил послу.
— К кому это писано? — сказал Власьев, пожимая плечами. — К какому-то князю Дмитрию. Монарх российский есть цесарь.
— Какое беспримерное оскорбление для короля! — крикнул Олесницкий. Для всех высокородных рыцарей Речи Посполитой, для всего отечества нашего!
Дмитрий сделал знак, и когда с головы его сняли царский венец — без венца он получал право на свой голос — сказал, не скрывая гнева:
— Слыханное ли дело, чтобы венценосец пускался в споры с послом? Я бы и смолчал, но дело касается величия великой России. Король диким своим упрямством вывел меня из терпения.
Дмитрия понесло, он кожей чувствовал, что слушают его, затая дыхание, и уж не мог остановиться.
— Королю Речи Посполитой изъяснено и доказано: я есть не только князь, не только господарь и царь, но император, ибо владения мои не имеют измерения и народы, подвластные мне, неисчислимы. Сей титул дан мне Богом, и он не есть пустое слово, как титулы иных королей, — понял, что стрела бьет точно в Сигизмунда, улыбнулся и увел в историю. — Ни ассирийские, ни мидийские, ни римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли я быть доволен титулами князя и господаря, когда мне служат князья, господари и даже цари? Не вижу равного себе в странах полунощных: надо мною один Бог! Многие монархи европейские называют меня цесарем. Не понимаю, какая выгода Сигизмунду убавлять то, что огромно, что видят все, кроме него одного? Пан Олесницкий! Мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы на нем не было означено твое шляхетское достоинство?
Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела Речь Посполитая, теперь же я вижу в нем своего зложелателя.
То была чудная отповедь! Дмитрий сиял: пусть только господа послы посмеют заикнуться о земельных притязаниях Сигизмунда. Шиш ему под нос!
Но Олеснийцкий тоже вскипел.
— Я не готов говорить складно без приготовления!..
Но нужна ли она, достойная складность, когда на глазах у нас всех творится неблагодарнейшее забвение королевских милостей? Не безрассудство ли требовать титулы, не предъявляя на них ни единого законного права? Нет в истории России ни единого самодержца, который именовал бы себя цесарем. Ты в одном прав, государь, — над тобою Бог, и он совершит свой Суд за все неправды.
Дмитрий слушал посла, склонив голову набок, как врач слушает дыхание больного, но глаза его были устремлены на Шуйского. Лицо Шуйского пылало от возбуждения — понравилось, как чистят его государя.
Дмитрий вздохнул, улыбнулся.
— Пан Олесницкий! Ты не совсем прав, уличая меня в забывчивости к тем, кто делал мне доброе. Я помню твое добро ко мне, гонимому. Я помню, что ты был мне ласковым знакомцем. Так подойди же ко мне, к руке моей, не как посол, а как друг.
Пан Олесницкий встрепенулся по-петушиному и по-петушиному же выкрикнул:
— Или я посол, или не могу целовать руки твоей!
Дмитрий был уже в шапке Мономаха и молчал. Ответил пану Олесницкому Афанасий Власьев:
— Государь, готовясь к брачному веселию, желает всем доброго. Он снисходителен ныне даже к противникам своим, для друзей же у него сердце открыто.
И принял королевскую грамоту. Послам указали место, где сесть, и, соблюдая правило, Дмитрий спросил их о здоровье короля.
Пан Олесницкий встал, и снова с протестом:
— Немыслимо спрашивать о здоровье короля Речи Посполитой сидя. Царь, если он не желает оскорбить его величество, должен сказать это стоя.
Глаза бояр блестели, как у мышат, им нравилась схватка, им нравилось, что их государь достоинство свое блюдет и стоит за него каменно.
Но Дмитрий вдруг усмехнулся, оторвал зад от трона и повторил вопрос о здравии не совсем сидя, но и не совсем стоя. Поляки расцвели, а на лица бояр хлынула досада.
— Король отступился от него, — шепнул Василий Шуйский Василию Голицыну, когда они рассаживались по каретам.
И окинул кремлевские Терема с победою.
Отсветы огня шарили по стенам, будто искали кого.
Марина приказала потушить в келий все свечи, келия снова была пуста и пугала мешком тьмы, который всякий раз вытрясала в этот огромный каменный склеп длинная ночь Московии.
— Пора на выход, наияснейшая моя панна млада! — тихонько сказала служанка.
— В этой жуткой комнате кончается моя прежняя, моя беспечная жизнь, откликнулась Марина. — Там, где факелы — величие, история, но здесь я, Марианна, мамина дочка, панночка из Самбора. Это не я, это ноги мои медлят. — И обняла свою верную панну. — Что бы ни случилось, никогда, никогда не оставляй меня!
Расцеловала, утерла платочком ее и свои слезы и принялась каменеть, и окаменев, двинулась, как статуя, из монашей келий в королевы.
Во дворе монастыря ее ожидала золотая колесница.
Двести факельщиков, подняв над головою факелы, озаряли путь во Дворец.
Посрамление вечных русских обычаев началось с самого утра. Сначала был совершен обряд обручения. Наряжали Марину боярыни. Платье тяжелого багряного бархата было унизано алмазами, узоры по подолу и рукавам персидский жемчуг.
— Матерь Божия! Тяжелее кольчуги! — охнула Марина.
А на ножки ей уже натягивали сафьяновые сапоги, в жемчужных цветах, с сапфирами и сердоликами.
Шапка — все два пуда!
— Да я же умру! — взмолилась Марина, но не умерла.
Поддерживаемая под руки отцом и княгиней Мстиславской, она приведена была в Столовую палату, где ее ожидал жених, одетый таким же сказочным королем. На помолвку пригласили самых близких родственников, свадебных бояр и боярынь. Благовещенский протопоп Федор обручил молодых. Дружки Василий Шуйский, брат его Дмитрий, Григорий Нагой резали караваи с сырами, разносили ширинки.
Как на пожар торопился Дмитрий! Хоть бы неделю подождал после обручения. Так нет! Все в один день втискивал: обручение, венчание Марины на царство и свое венчание с Мариной.
Из Столовой наспех обрученные явились в Грановитую палату, где жениха и невесту ожидала Дума, все высшие придворные чины, послы польские, командиры гусар, придворные будущего двора императрицы.
Два трона стояли на царском месте.
Василий Шуйский, поклонясь Марине, сказал необычайные для русского царства слова:
— Наияснейшая великая государыня! Цесаревна Мария Юрьевна! Волею Божиею и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою. Вступи же на свой цесарский маестат и властвуй вместе с государем над нами!
Обновила престол Марина серьезно. Не таращилась в пространство, распертая гордыней, не спешила одарить боярство улыбкою, сидела опустив ресницы и была так нежна и величава, что во многих сердцах шевельнулось примиряющее: «А может, и хорошо все это? Царей Бог дает!»
Посидели недолго. Уже поспело новое действо, небывалей небывалого. Все отправились в Успенский собор на венчание царской невесты, — пока еще невесты! — на царство!
Князь Василий Голицын нес царский скипетр, Петр Басманов — державу, невесту вела княгиня Мстиславская, жениха — невестин отец.
Посреди Успенского собора был водружен чертог, на котором поставлены три престола: государя, персидский, золотой, государыни — серебряный, и патриарший.
Началось священнодействие, с пением, с возгласами, молитвами. Святейший патриарх Игнатий возложил на Марину Животворящий Крест и бармы, а когда свахи сняли с ее головы венец невесты — диадему и царскую корону.
Началась долгая, полная литургия. Польские послы возроптали.
— За что нас наказывают?! — во весь голос, заглушая службу, воскликнул пан Госевский. — Можно ли столько стоять на ногах? Если царь сидит, то и мы должны сидеть! Мы представляем его королевское величество!
Дмитрий только головой покачал и послал князя Мстиславского сказать послам, что он, самодержец и цесарь, все службы слушает стоя, сегодня же сидит единственно ради коронования Марины.
Послы примолкли, во оба они, и Госевский, и Олесницкий, громко рассмеялись, указывая пальцами на братьев Шуйских, которые ставили под ноги царю и царице скамеечки.
— Слава Богу, что мы подданные Речи Посполитой, где такой низости во веки веков не было и не будет! — не умеряя голоса, выкрикнул Госевский.
На него не оглянулись, ибо в тот миг совершалось еще одно замечательное действо: патриарх возложил на Марину Мономахову цепь, помазал миром и поднес причастие. Марина вдруг отвела от себя руку патриарха с ложечкою, полной крови Христовой.
Кажется, сами стены собора не сдержали вздоха и стона. Русские обмерли, а поляки захлопали в ладоши.
— Виват, Марина! — негромко, но радостно воскликнул Олесиицкий.
Через малое время служба, наконец, закончилась, но из храма вышли одни только поляки. Двери храма заперли, и патриарх Игнатий обвенчал Дмитрия и Марию по всем правилам русской церкви. Вот теперь Марина приняла причастие и во всем была послушной, кроткой и даже робкой.
Таких пиров Москва не ведала. Весь Китай-город, Белый город, не говоря уже о Кремле, были пьяны и гоготали гоготом нерусским. Целую неделю шла гульба.
Не тем она была нехороша, что пушки палили, музыка гремела и пьяные паны занимали всю ширь московских улиц. Нехороша она была всяческим умалением русского государства, русского обычая и русского человека.
Русский человек хоть и помалкивал, не зная, как за себя заступиться, но обиду понимал и болел ею. И не той, что совершалась умышленно, намеренно эту можно растолковать и простить им, по природному своему великодушию, а вот обида нечаянная камнем в сердце падала. Нечаянная обида у обижающего в крови сидит.
Ладно! На обеде в Грановитой палате царь Дмитрий сидел к русским боярам спиной, к гостям польским — лицом. Ладно! Посадили польских гусар в Золотой палате, и царь, придя к ним, провозгласил тост во славу польского оружия, пил чашу до дна и объявил, что жалует каждому гусару по сто рублей! Ладно! На пир в царицыных комнатах Марина снизошла пригласить только двух русских: Власьева и Мосальского. Она и русским оказала милость, сделав пир для них, без поляков, и была в русском платье, ела русские блюда, пила русские меды. Ладно! То — двор! Вечная игра.
Но вот московские люди в первый день свадьбы пришли под окна дворца, чтобы порадоваться красоте и счастью новобрачной, звали ее выйти на крыльцо, а из дворца вышла стража и огласила великое царское слово.
— Довольно орать, прочь пошли!
Пьяные паны тискали на улицах женщин, тащили в свои дворы. До того распоясались, что выхватили из колымаги боярыню, и быть бы горчайшему бесчестью, если бы люди не отбили у наглецов несчастную. В набат ударили.
Гайдук Адама Вишневецкого пустил в ход оружие и ранил посадского человека. Пол-Москвы сбежалось ко двору царского родственничка. Грозились, но все же в дом не посмели ворваться. У Вишневецкого тоже было много людей, и все — солдаты.
Кремлевские обиды — потеха для злой памяти, из таких обид рождаются умыслы. Уличные обиды — обиды народу. Их не запоминают, за них бьют.
15 мая Дмитрий, устав от пиров, взялся дела разбирать. Принял польских послов, отдал новые распоряжения о походе. Выслушал тревожные сообщения Басманова о беспорядках в городе.
Снова объявился правдолюбец: обличал царя в еретичестве, называл расстригой. Дмитрий приказал пытать болтуна.
16 мая в субботу царь приехал на Конюшенный двор смотреть коней, отобрать себе для похода самых крепких и быстрых.
Солдат-умелец, улучив мгновение, вместе с поводом подал царю записку. Дмитрий прочитал ее только через несколько часов, в Кремле. Записка была короткой: «Государь, побереги себя! Изменники назначили переворот на завтра, на 17 мая*.
С тем же примчался Юрий Мнишек, он был так напуган, что не мог усидеть на одном месте и минуты.
— Вся Москва против нас! На базаре полякам не продают пороху и свинцу. Передо мной к тебе приезжал Стадницкий со своим братом, сказать о том же, но их не пустили к тебе! Гроза не минует, если ее не предотвратить.
— Поменьше надо безобразить и не развозить по Москве свои страхи. Дмитрий был спокоен, он улыбался. — Народ любит меня! Народ не даст меня в обиду.
— Народ и впрямь тебя любит! Но будь благоразумен, введи в город войско. — Мнишек подал зятю целую стопу челобитных. — Это все писано тебе. Твои доброжелатели называют изменниками — бояр.
— Я успокою всех захватывающим зрелищем взятия потешного города за Сретенскими воротами, — пообещал Дмитрий.
Как только Мнишек уехал, его спокойствие улетучилось, позвал Басманова.
— Охраны в Кремле — пятьдесят человек. Поставь на ночь еще одну роту. Но главное, надо выставить караулы перед казармами и домами поляков. Резни никак нельзя допустить. — И положил на плечи Басманова обе руки. — Кто? Кто из моих бояр самый опасный?
Басманов опустил глаза.
— Сегодня особо явно дерзил польским послам Татищев.
— Я же говорил тебе! Приставь к нему соглядатаев.
Будь тверд, Басманов. Пусть стража убивает на месте всякого, кто попытается проникнуть во дворец без зова.
На месте!
И приказ этот был исполнен. Ночью в Кремле убили троих неизвестных.
19
Майская румяная заря заливала небо и землю. Пламенели, как маков цвет, и маковки, и луковки, и купола.
Марина спала, сбросив одеяла, раскинув ноги и руки — так богатырски спят дети.
Нежность дотронулась до сердца Дмитрия и — тотчас все тревоги встали перед ним.
Через минуту-другую он был одет. Поспешил к Басманову. Басманов ночевал в ту ночь во Дворце.
— Все спокойно, государь, — сказал Басманов. — Забрело трое людей, но их убили.
Дмитрий вышел на Красное крыльцо. Здесь государя ожидал Власьев.
— Надо приготовиться и подготовить наших гостей к завтрашнему потешному взятию Сретенской крепости.
Да смотри, Афанасий, говори с послами твердо. Коли будут упрямиться, намекни, что войско собрано, а куда пойдет, то — один государь знает.
— Не круто ли?
— Понятливее будут, а то уж больно бестолковы.
Ушел довольный, мечтая пробудь Марину ласками.
В это время как раз менялась стража. Стрельцы, выставленные на ночь возле польских казарм, ушли домой.
Покинула дворец рота Маржерета, сам он то ли был болен, то ли сказался больным, но на службе его не оказалось.
Для своих думных дел поспешали в Кремль бояре.
Первыми через Фроловские ворота прошли Василий Голицын и трое Шуйских, Василий, Дмитрий, Иван. Дверь во Фроловские ворота так и не закрылась более в тот день.
Сразу за боярами — хлынула толпа вооруженных людей.
Ворота были заняты и отворены. Стража, побросав оружие, бежала в город.
— Вот уж одно дельце сделалось, — приговаривал Василий Шуйский, садясь в седло. — С Богом!
И поскакал через Красную площадь в Торговые ряды.
Набат ударил сначала у Ильи Пророка, потом на Новгородском дворе, и пошел рокот, покатил по всей Москве так рьяно, с таким рыком, будто медведь на задние лапы встал.
Народ высыпал на улицы и, еще не зная, что и почему, тянулся на Красную площадь. А там уж кричали:
— Кремль горит! Литва царя убивает!
Поляки, вышедшие из своих домов и казарм, принуждены были защищаться и отступали обратно в дома.
Немецкая пехота построилась в боевые порядки, развернула знамена, но народ, вооруженный чем попало, загородил дорогу. Пришлось и немцам свернуть знамена и уйти в казармы.
Василий Шуйский успел облачиться в доспехи и теперь в латах, в шлеме скакал со своим дворовым полком через Спасские ворота, и все взоры были устремлены на него. В одной руке у него сверкал обнаженный меч, в другой крест.
Спешился у паперти Успенского собора, приложился к иконе Владимирской Богоматери и, выйдя из храма, направил и крест и меч в сторону дворца.
— Идите и поразите злого еретика! Бог с нами! Бог оставил отступника!
И снова Дмитрий одевался, как на пожар.
За Басмановым посылать не пришлось, встретились в дверях.
— Что за колокола такие?
— Не верил мне. А ведь вся Москва на тебя собралась!
Кругом измена! Во дворце тридцать телохранителей — остальные все ушли. Спасайся, государь. Я задержу их.
Дмитрий выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, ударил бердышем в окно. И, замахнувшись на толпу, закричал:
— Прочь! Все прочь! Я вам не Годунов!
Грохнул выстрел, пуля ударилась в подоконник и завизжала, как ведьма.
— Ступай к ним! Скажи им! — взмолился Дмитрий Басманову.
И тут в комнату вбежал, растопыря руки, здоровенный детина. Басманов рубанул его саблею по голове сверху, во всю силу, и развалил. Телохранители тотчас подхватили тело, выбросили в окно.
— Иду, государь! Иду! — сказал Басманов и бросил на пол окровавленное оружие.
Дмитрий смотрел на эту саблю, на кровавый след, оставленный зарубленным человеком, и впервые ему пришла в голову простая мысль: „Да ведь и меня могут“.
Столько видел убитых, столько рисковал в жизни, и ни разу, ни разу не подумал, что могут… его.
Нагнулся, поднял саблю. Сабля была тяжелехонькая.
20
Басманов вышел на Красное крыльцо один. Увидел Михаилу Салтыкова.
— Зачем ты сюда пришел? — спросил он его. — И Голицыны здесь?» Здравствуй, Иван! Здравствуй, Василий!
Ба! Татев! Вот и хорошо, что вас много. Удержите народ от безумства. Бунт и вас погубит. Вас самих. Коли не в первую, так во вторую руку. Царь милостивый. Он умеет прощать… Без государя волки по Москве будут рыскать, как у себя в лесу. Вы только подумайте, что станется с Россией без власти?
Говорил со всею страстью, со всею верою в справедливость своих слов, и не видел, как за спину ему зашел Михаиле Татищев.
— Иди-ка ты в ад со своим царем! — крикнул Татицев, по рукоять всаживая в Басманова засапожный нож.
Грохот ног на лестнице вывел Дмитрия из оцепенения, кинулся к спальне. Крикнул:
— Сердце мое, измена!
Большего он не мог сделать для жены. Чтобы что-то сделать, надо вырваться за стены Кремля.
Не выпуская из рук сабли, метнулся по комнатам, забежал в баньку. Окинул взглядом печь, каменку. Здесь не отсидишься. Промедлишь — смерть.
Потайными ходами пробрался в «Каменные палаты».
Палаты выходили окнами на Житный двор, место малолюдное. Отворил окно, положил на пол саблю, перенес через подоконник ногу, подтянул другую. И, прыгая, задел чрезмерно высоким каблуком каменный подоконник. Упал неловко, на одну ногу. В глазах сделалось темно.
Тем временем несчастная Марина, едва приодевшись, кинулась из покоев прятаться. Но куда? Прибежала в подвал, а слуги смотрят. Множество глаз. Вроде бы и участливых. Но не очень.
— Шла бы ты к себе! — сказал ей один сердобольный человек.
Марина побежала обратно. К дамам своим, к охране. А по дворцу уже метались искатели царя и царицы. Поток диких грубиянов подхватил ее, понес по лестнице, выдавил на край, столкнул. Она упала, ушиблась. Но никто не обращал на нее никакого внимания — не знали своей царицы. Она снова влилась в поток, и на этот раз ее вынесло на Верх. Зная дворец лучше, чем погромщики, Марина опередила их, забежала в свои комнаты. А рев зверя уже в дверях.
— Прячтесь! Прячтесь! — крикнул Марине ее телохранитель Ян Осмульский.
Марина стала за ковер, выскочила, озирая такие огромные, такие предательские, ясные по убранству покои.
Ничего лишнего! И кинулась под огромную юбку своей величавой гофмейстерины.
Ян Осмульский один, с одною саблей, встретил толпу.
Он убил двух или трех осквернителей царского достоинства и даже обратил толпу в бегство, но никто ему не помог. Алебардщики покорно сложили алебарды у ног своих. И он был убит. И растоптан.
— Где царица? — кинулись убийцы к Маринйным статс-дамам.
— Она в доме своего отца! — был ответ.
И тут наконец-то появились бояре. Покои царицы были очищены от лишних любопытных глаз.
Марина вышла из своего удивительного укрытия. Ее отвели в другую комнату. Приставили сильную стражу.
Дмитрий очнулся от потока воды — на него опрокинули ведро — увидел склоненные лица стрельцов. Это были новгородсеверцы, те, что пошли за ним с самого начала.
— Защитите меня! — сказал он им. — Каждый из вас получит имение изменника-боярина, их жен и дочерей.
— Государь! Дмитрий Иванович! Да мы за тебя головы положим!
Стрельцы устроили из бердышей носилки и понесли государя во дворец.
А во дворе разор. Все грязно, повалено, брошено. Алебардщики без алебард, опускают головы перед государем.
«Господи! — взмолился про себя Дмитрий. — Пошли мне милость твою, я буду жить одною правдой! Я очищу душу мою перед тобою, господи. Только не оставь меня в сей жестокий час».
Боярам донесли о возвращении Самозванца во дворец. Заговорщики Валуев, Воейков, братья Мыльниковы кинулись с толпою — убить врага своего. Стрельцы пальнули в резвых из ружей, и двое уж не поднялись с полу.
Но толпа росла.
Дмитрий, сидя на кресле, сказал людям:
— Отнесите меня на Лобное место! Позовите матерь мою!
Все мешкали, не зная как быть.
— Несите меня! Несите! — приказал Дмитрий и опустился на бердыши.
И тут через толпу продрался князь Иван Голицын.
— Я был у инокини Марфы, — солгал он людям. — Она говорит: ее сын убит в Угличе, этот же — Самозванец.
— Бей его! — выскочил из толпы Валуев.
Стрельцы заколебались и стали отходить от царя.
— Я же всех люблю вас! Я же ради вас пришел! — сказал Дмитрий, глядя на толпу такими ясными глазами, каких у него никогда еще не бывало.
— Да что с ним толковать! Поганый еретик! Вот я его благословлю, польского свистуна!
Один из братьев Мыльниковых сунул дуло ружья в царево тело и пальнул.
И уж все тут кинулись: пинали, кололи и бросили, наконец, на Красное крыльцо на тело Басманова.
— Любил ты палача нашего живым, люби его и мертвым!
Толпа все возрастала, и уже спрашивали друг у друга:
— Кто же он был-то?
— Да кто?! — крикнул Валуев. — Расстрига. Сам признался перед смертью.
Никто дворянчику, у которого вся одежда была в крови, не поддакнул.
Кому-то явилась мысль показать тело инокине Марфе.
Поволокли труп к монастырю, вывели из покоев инокиню.
— Скажи, матушка! Твой ли это сын? — спросил кто-то из смелых.
— Что же вы не пришли спросить, когда он был жив? — черна была одежда монахини, и лицо ее было черно, под глазами вторые глаза, уголь и уголь. Повернулась, пошла, но обронила-таки через плечо: — Теперь-то он уж не мой.
— Чей же!
— Божий.
Смущенная толпа таяла. Но пришли другие, которые не слышали инокиню. Потащили труп к Лобному месту.
Озорники принесли стол. На стол водрузили тело Самозванца. На разбитой лицо напялили смеющуюся «харю», маску, найденную в покоях Дмитрия, Этого показалось мало, сунули в рот скоморошью дудку.
Тело Басманова уложили на скамью, в ногах хозяина.
Последнее
Три дня позорила Москва своего бывшего царя. Простые люди глядели на безобразие и плакали.
Тело Басманова выпросил у Думы Иван Голицын.
Басманов был ему двоюродным братом. Похоронили верного товарища Самозванца возле храма Николы Мокрого.
Тело же Самозванца по приказу Шуйского привязали к лошади и, унижая в последний раз, проволокли через Москву. Упокоили бедного на кладбище убогих, безродных людей за Серпуховскими воротами.
И в ту же ночь ударил мороз. Как ножницами срезал озимые. Скрутил и вычернил листья на деревьях.
— Та погибель на нас от чародейства расстриги! — будоражили Москву слухи. — На его могиле синие огни по ночам бродят.
А мороз не унимался. Целую неделю земля в Москве была седой.
Уж кто сообразил? Сообразительных людей в стольном граде всегда много. Могилу убиенного разрыли, гроб отнесли в Котлы. Сожгли вместе с телом, пепел перемешали с порохом и пальнули из пушки в ту сторону, откуда принесло безродного сего соблазнителя.
Тут бы и точку поставить. Но сколько еще детишек-то рождалось у боярышень, у купеческого звания дев, у баб простого звания, горожаночек, крестьяночек.
И ныне бывает. Поглядишь на человека — и узнаешь.
И вздрогнешь. А вздрогнув в себя поглядишь да и призадумаешься.



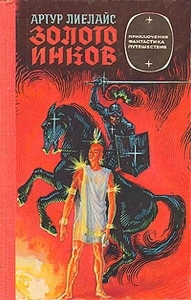



Комментарии к книге «Самозванец», Владислав Анатольевич Бахревский
Всего 0 комментариев